Бертран Рассел Сатана в предместье. Кошмары знаменитостей
Bertrand Russell
SATAN IN THE SUBURBS AND OTHER STORIES
NIGHTMARES OF EMINENT PERSONS
AND OTHER STORIES
Печатается с разрешения The Bertrand Russell Peace Foundation Ltd.
© The Bertrand Russell Peace Foundation Ltd., 1953, 1954
© Перевод. А. Кабалкин, 2017
© Издание на русском языке AST Publishers, 2017
Сатана в предместье
Предисловие
Пробовать что-то новое в восьмидесятилетнем возрасте не очень-то принято, хотя прецеденты имеются: Хоббс был еще старше, когда гекзаметром на латыни написал автобиографию. Тем не менее будет все-таки нелишне сказать несколько слов в ответ на вероятное недоумение. Вряд ли читатель удивится сильнее меня самого этой попытке сочинять рассказы. По совершенно неведомой причине у меня вдруг возникло такое желание, хотя я никогда раньше об этом не помышлял. Я неспособен на критическое суждение в этой области и не знаю, стоят ли чего-нибудь мои рассказы. Знаю одно: сочинять их было удовольствием, а значит, для кого-то может оказаться удовольствием их читать.
К реализму автор не стремился, и, боюсь, читателя ждет разочарование, если он вздумает искать замки Гибеллинов на Корсике или философов-дьяволопоклонников в Мортлейке. Автор не имел никаких серьезных намерений. Первыми из-под пера вышли «Корсиканские страдания мисс Икс» – попытка совместить настроения «Зулейки Добсон» и «Удольфских тайн»[1], но другие рассказы, насколько я понимаю, меньше связаны с прежними образцами. Буду сильно огорчен, если кто-то сочтет, что мои рассказы содержат нравственный урок или иллюстрируют некую доктрину. Каждый написался сам по себе, просто как история, и если она окажется интересной или забавной, значит, цель достигнута.
«Корсиканские страдания мисс Икс» анонимно публиковались в рождественском номере GO в 1951 г.
Сатана в предместье, или Здесь производят ужасы
I
Я живу в Мортлейке и ежедневно езжу на работу поездом. Однажды вечером, возвращаясь домой, я увидел на воротах виллы, мимо которой постоянно хожу, новую медную табличку. К моему удивлению, вместо обычного уведомления о врачебном приеме табличка сообщала:
ЗДЕСЬ ПРОИЗВОДЯТ УЖАСЫ
Обращаться к доктору Мердоку Маллако
Заинтригованный, я, придя домой, написал письмо с просьбой о более подробной информации, которая позволила бы мне решить, становиться ли клиентом доктора Маллако. Полученный ответ гласил:
Дорогой сэр,
я не удивлен, что вам понадобилось объяснение в связи с моей табличкой. Возможно, вы обратили внимание на недавнюю тенденцию сетовать на скуку и однообразие жизни в пригородах наших великих столиц. Люди, чье мнение имеет вес, высказывают суждение, что немного приключений, даже опасности способны скрасить жизнь жертвам однообразия.
В надежде удовлетворить эту потребность я и занялся совершенно для себя новым делом. Полагаю, что смогу обеспечить моим клиентам встряску и волнение, которые полностью преобразят их жизнь.
Если вам потребуются дальнейшие разъяснения, они будут даны в случае записи на прием. Мой тариф – 10 гиней в час.
Этот ответ навел меня на мысль, что доктор Маллако – филантроп нового замеса, и я долго не мог решить, нужны ли мне дальнейшие разъяснения за 10 гиней или лучше употребить эту сумму на иные удовольствия.
Как-то вечером в понедельник – я еще не нашел ответ на этот вопрос – моему взору предстал сосед мистер Аберкромби, выходивший из дверей доктора. Он был бледен, растерян, взгляд имел блуждающий, походку неуверенную. Потоптавшись у ворот, он вышел на улицу с таким видом, словно заблудился в совершенно незнакомом месте.
– Господи, что с вами? – окликнул я его.
– Ничего особенного, – ответил Аберкромби, неубедительно изображая спокойствие. – Просто поговорили о погоде.
– Не пытайтесь меня обмануть, – сказал я. – Судя по ужасу на вашем лице, речь шла о чем-то худшем, чем даже погода.
– Ужас? Ерунда! – вспылил он. – Все дело в крепости его виски.
Было очевидно, что он хочет избавиться от меня и моей назойливости, поэтому я предоставил ему самому искать дорогу домой и несколько дней ничего о нем не слышал. На следующий день, возвращаясь в тот же час, я увидел другого соседа, мистера Бошама, выходившего оттуда же с той же смесью изумления и ужаса на лице, но когда я к нему подошел, он молча от меня отмахнулся. В очередной раз меня ждало такое же зрелище в лице мистера Картрайта. Вечером в четверг миссис Эллеркер, сорокалетняя замужняя дама, с которой я поддерживал дружеские отношения, выбежала из той же самой двери и прямо на тротуаре лишилась чувств. Я помог ей прийти в себя, но, опомнившись, она сумела с содроганием выдавить одно-единственное слово: «Никогда». Больше я ничего не смог от нее добиться, хотя проводил до самой двери.
В пятницу я ничего не видел, а в субботу и воскресенье не ездил на работу, поэтому не бывал у ворот доктора Маллако. Но воскресным вечером мой сосед Кослинг, зажиточный горожанин, заглянул ко мне поболтать. Я налил ему рюмочку и усадил в самое удобное свое кресло, после чего он по своему обыкновению завел разговор о наших местных знакомых.
– Слыхали о странных событиях на нашей улице? – спросил он. – Аберкромби, Бошам, Картрайт заболели и не вышли на службу, а миссис Эллеркер лежит в темной комнате и все время стонет.
Видимо, Гослинг понятия не имел о докторе Маллако и его странной медной табличке, поэтому я решил ничего ему не говорить и предпринял собственное расследование. Я по очереди наведался к Аберкромби, Бошаму и Картрайту, но ни один из них не пожелал со мной разговаривать. Миссис Эллеркер оставалась невидимой затворницей. Было ясно, что происходит нечто странное и причина этого – доктор Маллако. Я решил побывать у него, но не как клиент, а с целью выяснить, что к чему. Я позвонил в звонок и был препровожден вышколенной горничной в хорошо оснащенный кабинет.
– Чем могу быть вам полезен, сэр? – с улыбкой обратился ко мне, входя, доктор Маллако. Манеры у него были учтивые, но улыбка загадочная, взгляд проницательный и холодный; рот улыбался, глаза – нет. Эти глаза вызвали у меня безотчетную дрожь.
– Доктор Маллако, – начал я, – мне приходится ежедневно, кроме субботы и воскресенья, ходить мимо ваших ворот, и четыре вечера подряд я становился свидетелем странного явления одного и того же весьма тревожащего свойства. Ваше загадочное письмо не рассеяло моего недоумения по поводу надписи на вашей табличке, но то немногое, что я увидел, заставило меня усомниться, что вы преследуете сугубо благотворительные цели, каковое впечатление стремились создать. Возможно, я ошибаюсь, и в этом случае вам не составит труда меня успокоить. Но предупреждаю: я не буду удовлетворен, пока вы не объясните причины странного состояния, в котором господа Аберкромби, Бошам и Картрайт, а также мисс Эллеркер покидали ваш кабинет.
Пока я говорил, доктор Маллако перестал улыбаться, и его взгляд сделался очень суровым и укоризненным.
– Сэр, – сказал он, – вы призываете меня совершить низость. Разве вам неизвестно, что тайны, доверяемые пациентами врачу, надлежит хранить так же нерушимо, как тайну исповеди? И что если я удовлетворю ваше праздное любопытство, то меня справедливо обвинят в гнусном поступке? Вы умудрились так долго прожить и не узнать, что врач обязан уважать секреты доверившихся ему людей? Нет, сэр, вместо ответа на ваши дерзкие вопросы я вынужден потребовать, чтобы вы немедленно удалились из моего дома. Вот дверь!
Снова очутившись на улице, я попытался побороть свое замешательство. Если он действительно был обыкновенным врачом, то его ответ на мои вопросы пришлось бы счесть совершенно корректным. Неужели я ошибся? Неужели он раскрыл всем четырем пациентам некую болезненную правду об их здоровье, о которой они прежде не знали? Это выглядело невероятным. Но как мне было поступить теперь?
Еще неделю, минуя утром и вечером его ворота, я глядел в оба, но ничего больше не заметил. Тем не менее странный эскулап не выходил у меня из головы. Он являлся мне в ночных кошмарах, иногда с копытами и хвостом, со своей медной табличкой на груди, иногда с горящими в темноте глазами и почти невидимыми губами, беззвучно произносящими: «ТЫ ПРИДЕШЬ!» С каждым днем я все медленнее брел мимо его ворот, ощущая все более сильное побуждение войти, только уже не как сыщик, а как клиент. Я сознавал, что это безумное наваждение, но не мог от него отделаться. От этого ужасного притяжения все больше страдала моя работа. Наконец, явившись к своему начальнику, я, не упоминая доктора Маллако, убедил его, что заработался и остро нуждаюсь в передышке. Начальнику, человеку гораздо старше меня, к которому я питал глубокое уважение, хватило одного взгляда, чтобы оценить мое плачевное состояние, проявить сострадание и удовлетворить просьбу.
Я полетел на Корфу, надеясь, что солнце и море даруют мне забвение. Но, увы, там я тоже ни днем, ни ночью не знал покоя. Каждую ночь мне являлись во сне горящие глаза, причем еще крупнее прежних. Не было ночи, когда я не проснулся бы в холодном поту от потустороннего голоса, звавшего: «ПРИДИ!» В конце концов я решил, что отпуск мне не поможет, и в отчаянии вернулся, надеясь, что научные изыскания, которыми я занимался и к которым проявлял страстный интерес, восстановят во мне здравомыслие. Я с головой нырнул в темные научные глубины и заодно освоил другую дорогу со станции домой, чтобы не ходить мимо ворот доктора Маллако.
II
Я уже надеялся, что наваждение рассеивается, но как-то вечером ко мне опять явился Гослинг. Он был жизнерадостный, румяный, кругленький – именно такой человек, решил я, способен развеять мрачные фантазии, лишившие меня душевного покоя. Но первые его слова, последовавшие за глотком предложенного мной прохладительного напитка, снова опрокинули меня в бездну ужаса.
– Слыхали? Мистер Аберкромби арестован!
– Боже всемогущий! – вскричал я. – Аберкромби арестовали? Что он натворил?
– Аберкромби, как вам известно, – начал Гослинг, – всеми уважаемый управляющий крупным филиалом одного из наших ведущих банков. На его профессиональной и частной жизни никогда не было ни единого пятнышка, так же прожил жизнь его отец. Можно было не сомневаться, что по случаю очередного дня рождения он будет удостоен посвящения в рыцарское достоинство, кроме того, набирала силу кампания по выдвижению его кандидатом в палату общин в нашем избирательном округе. Но при всем длинном списке своих заслуг, он, похоже, похитил крупную сумму, да еще предпринял трусливую попытку переложить вину на подчиненного.
До сих пор я считал в Аберкромби своим другом, и это известие сильно меня огорчило. Он находился под следствием, и я, преодолев трудности, убедил тюремное начальство разрешить мне навестить его. Аберкромби исхудал, глаза у него ввалились, он не находил себе места и пребывал в отчаянии. Сначала он уставился на меня, как на незнакомца, и долго не признавал бывшего друга. Я поневоле связывал его плачевное состояние с визитом к доктору Маллако и не расставался с надеждой проникнуть в эту тайну и найти объяснение внезапно открывшегося преступления бедняги.
– Мистер Аберкромби, – заговорил я, – как вы, конечно, помните, в прошлый наш разговор я пытался постигнуть причину вашего странного поведения, но вы отказались что-либо сообщить. Ради бога, не отталкивайте меня снова. Сами видите, что вышло из-за вашего упрямства. Умоляю, скажите правду, пока не поздно!
– Увы, – ответил он, – время для ваших попыток, диктуемых лучшими побуждениями, прошло. Все, что мне осталось, – в унынии ожидать смерти для себя и бедности и позора для моих несчастных жены и детей. Будь проклят тот миг, когда я вошел в его мерзкую дверь! Будь проклят дом, где я внимал дьявольским бредням злодея!
– Этого я и боялся… – пробормотал я и взмолился: – Расскажите мне все!
– Я пришел к доктору Маллако, – начал Аберкромби свою исповедь, – в настроении беззаботного любопытства, гадая, что за ужасы он предложит. Я недоумевал, как можно надеяться заработать на жизнь, смущая людей подобными россказнями. Вряд ли, думал я, найдется много таких, как я, готовых на столь бесполезные траты. Однако доктор Маллако выглядел очень самоуверенным. Он обошелся со мной не так, как это обычно делают большинство жителей Мортлейка, даже самых видных: те стараются втереться ко мне в доверие как к влиятельной персоне, а он, напротив, сразу повел себя высокомерно, даже отчасти презрительно. Я почувствовал, насколько он проницателен, как хорошо читает даже самые потаенные мои мысли.
Сначала все это показалось мне всего лишь глупой забавой, и я старался сохранить здравомыслие, но он загипнотизировал, прямо-таки околдовал меня своей монотонной речью, в которой не угадывалось ни малейшего чувства. Воля меня покинула, на поверхность всплыли самые тайные мысли, которые до сих пор посещали меня разве что в ночных кошмарах: так морские чудища, покидая пещеры на дне, выныривают из бездны, чтобы нагнать ужас на китобоев. Подобно брошенному командой судну в южных морях, я взмывал ввысь на гребнях вздымаемых его воображением волн – беспомощный, утративший надежду, но при этом завороженный!
– Интересно все-таки, – перебил я его, – что именно говорил вам все это время доктор Маллако? Я не смогу вам помочь, если ваши речи останутся такими смутными и метафорическими. Конкретика, подробности – вот что требуется, иначе откуда взяться доброму совету?
После глубокого вдоха он продолжил:
– Сначала мы бесцельно болтали обо всем и ни о чем. Я упомянул своих друзей, разорившихся из-за усложнившихся условий бизнеса. Под влиянием его деланого сочувствия я признался, что тоже имею причины бояться разорения. «Ну что вы, – сказал он, – способ избежать разорения всегда существует, надо только захотеть к нему прибегнуть. Один мой друг попал однажды в положение, схожее с вашим. Он тоже был управляющим банком, тоже пользовался доверием, тоже допустил рискованные вложения и оказался на грани разорения. Только он не из тех, кто сидит смирно, готовый принять неизбежное. Он понял, что в его пользу говорит незапятнанная репутация, успешное выполнение всех задач, диктовавшихся профессиональным долгом; весьма удачно было и то, что его непосредственный подчиненный в банковской иерархии имел репутацию человека, способного на легкомысленные поступки, на поведение, неподобающее тому, кому доверены чужие деньги, не всегда уравновешенного, тянущегося порой к бутылке и даже однажды допустившего в подпитии политические высказывания подрывного свойства.
Мой друг, – продолжил Маллако после короткой паузы, употребленной на глоток виски, – понял – и это лучшим образом доказывает его способности, – что если на счетах банка обнаружится недостача, то не составит труда бросить тень подозрения на того безответственного молодого человека. Мой друг тщательно подготовился. Без ведома молодого сотрудника он спрятал у него в квартире пачку вынесенных из банка купюр. Действуя от его имени, он делал по телефону крупные ставки на скачках, не рассчитывая на выигрыш. Он верно рассчитал, сколько дней пройдет, прежде чем букмекер станет письменно выражать игроку неудовольствие из-за невыплаты. В нужный момент он сделал так, что в банковской наличности обнаружилась крупная нехватка. Он тут же вызвал полицию и, изображая уныние, нехотя позволил полицейским вытянуть из него имя единственного возможного подозреваемого… Полиция нагрянула с обыском в жилище незадачливого болтуна, нашла там пачку денег и с любопытством изучила возмущенные букмекерские эпистолы. Излишне говорить, что бедняга сел в тюрьму, а наш управляющий стал пользоваться еще большим доверием. Его спекуляции на фондовой бирже стали куда осторожнее. Он сколотил состояние, стал баронетом и был избран в палату общин. С моей стороны было бы неделикатно описывать его дальнейшую карьеру в кабинете министров. Эта правдивая история, – наставительно молвил Маллако, – учит тому, что даже самой скромной предприимчивости и хитроумия бывает достаточно, чтобы превратить поражение в победу и обеспечить себе глубокое уважение добропорядочных сограждан».
– Пока он говорил, – продолжил Аберкромби, – мой рассудок пребывал в смятении. У меня самого случались трудности из-за неудачных биржевых спекуляций, и у меня тоже был подчиненный, отвечавший всем характеристикам человека, подставленного другом Маллако. Я сам, хоть и не замахивался на титул баронета, надеялся на возведение в рыцарское достоинство и на место в парламенте. Эти надежды вполне могли бы осуществиться, преодолей я свои текущие трудности, – в противном случае мне грозила бедность и, возможно, бесчестье. Я подумал о жене, разделявшей мои надежды, мечтавшей стать леди Аберкромби и, быть может, завести пансион на побережье. Я боялся, что она вот-вот примется в любое время суток напоминать мне о бедах, которые я навлек на нее своим безумием. Подумал о двоих сыновьях, учащихся хорошей частной школы, готовящихся к достойной карьере и прокладывающих себе путь к высоким постам спортивными достижениями. Представил, как их выгонят из их рая и принудят учиться в плебейской средней школе, чтобы в возрасте 18 лет начать кое-как самостоятельно сводить концы с концами. Представил своих мортлейкских соседей, забывших о былом радушии и при встрече со мной отворачивающихся, чтобы избежать приглашения на рюмочку и выслушивания моих суждений о китайской политической головоломке…
Все эти ужасы предстали перед моим мысленным взором, пока звучал ровный спокойный голос Маллако. «Как все это пережить? – думал я. – Никак! И ведь выход налицо! Но как мне, уже немолодому человеку, построившему безупречную карьеру, привыкшему к приветственным улыбкам соседей, разом от всего отказаться ради полного опасностей преступного существования? Смогу ли я жить, день за днем, ночь за ночью, находясь под дамокловым мечом разоблачения? Сумею ли сохранить перед женой свой вид спокойного превосходства, от которого зависит мой домашний рай? Смогу ли по-прежнему, как подобает уважаемому отцу семейства, приветствовать возвращающихся из школы сыновей нравоучительными максимами? Смогу ли, сидя в вагоне поезда, с прежней убежденностью осуждать полицию с ее плачевной неспособностью ловить преступников, чьи уловки подтачивают опоры финансового порядка?» С холодной дрожью я осознал, что если мне не удастся хотя бы что-то одно из этого перечня, после того как я последую примеру друга доктора Маллако, то я наверняка навлеку на себя подозрение. Многие скажут: «Что случилось с Аберкромби? Раньше он провозглашал свои убеждения громко и убедительно, повергая в трепет любого злоумышленника, а теперь, заявляя то же самое, мямлит, а говоря о бесполезности полиции, даже оглядывается через плечо! Удивительное дело! Не иначе, с Аберкромби происходит что-то не то!»
Эта болезненная картина становилась в моем воображении все живее. Мысленным взором я видел, как мои мортлейкские соседи и друзья в Сити, обмениваясь впечатлениями, приходят к невеселому заключению, что перемена в моем поведении произошла одновременно с громким скандалом у меня в банке. Я боялся, что после этого открытия им оставался бы всего шаг до моего свержения с пьедестала. «Нет, – думал я, – ни за что не пойду на поводу у этого опасного соблазнителя! Никогда не сойду с дороги долга!» И все же, все же…
Вкрадчивый голос никак не умолкал, история триумфа представала простой и доступной. Разве не читал я где-то, что беда нашего мира – в нежелании рисковать? Разве не изрек какой-то прославленный философ, что надо жить? Разве не является моим долгом в более высоком смысле слова внять таким подсказкам и применить на деле способы, которые мне подсовывают обстоятельства? Столкновение доводов, надежд, страхов, привычек и устремлений повергало меня в болезненное смятение. Наконец моей выдержке пришел конец. «Доктор Маллако! – вскричал я. – Не знаю, ангел вы или дьявол, но, видит Бог, я очень жалею, что познакомился с вами». Мне оставалось только выбежать из его дома, что я и сделал. И встретил у ворот вас.
После того рокового разговора я совершенно лишился покоя. Днем, глядя на других людей, я думал: «Как они поступят, если?..» Вечером мне подолгу не спалось: я воображал ужасы разорения и тюрьмы, этот устрашающий волан летал туда-сюда, раз за разом стукая меня по затылку. Жена жаловалась, что я стал беспокойным, и в конце концов настояла, чтобы я ночевал в своей гардеробной. Там, погружаясь в сон, я чувствовал себя еще хуже, чем во время бодрствования. В своих кошмарах я пробирался по узкому проходу между работным домом и тюрьмой. Меня охватывал ужас, я шарахался от стены к стене, упираясь то в одно, то в другое отталкивающее заведение. Ко мне направлялся полицейский, его рука ложилась мне на плечо – и я просыпался от собственного вопля.
Мое состояние все больше отражалось на моих делах, что и неудивительно. Я спекулировал все отчаяннее, мои долги росли на глазах. В конце концов мне показалось, что единственная моя надежда – последовать примеру друга доктора Маллако. Но от смятения я наделал ошибок, которых тот избежал. На купюрах, которые я подбросил в квартиру своего незадачливого подчиненного, остались отпечатки моих пальцев. Полиция доказала, что букмекеру звонили с моего домашнего телефона. Лошадь, на поражение которой в забеге я рассчитывал, удивила всех, придя первой. Полиция чем дальше, тем больше верила моему подчиненному, отрицавшему, что он когда-либо делал ставки на скачках. В конце концов Скотленд-Ярд распутал безнадежный клубок моих дел. А мой подчиненный, которого я в грош не ставил, оказался племянником министра!
Но все эти неудачи, уверен, нимало не удивили доктора Маллако. Не сомневаюсь, что он с самого начала предвидел, как все обернется и к чему приведет. Мне же остается только смиренно принять наказание. Боюсь, с точки зрения закона доктор Маллако не совершил преступления, но если вы придумаете, как обрушить на его голову хотя бы десятую долю тех бед, что испытал из-за него я, то знайте, в одной из тюрем ее величества будет биться бесконечно благодарное вам сердце!
Полный сочувствия, я простился с Аберкромби, пообещав запомнить его последние слова.
III
Последние слова Аберкромби усилили мой и без того животный страх перед доктором Маллако, но, к моему изумлению, чем страшнее мне становилось, тем сильнее я был им заворожен. Ужасный доктор не выходил у меня из головы. Мне хотелось, чтобы он пострадал, но только моими стараниями. Я мечтал, чтобы у нас с ним хотя бы раз произошло то глубокое, темное, страшное, что я видел в его глазах. Однако я никак не мог придумать, как осуществить эти свои противоречивые мечты, поэтому искал отвлечения в научных занятиях. В них уже намечался кое-какой успех, но тут я снова провалился в бездну ужаса, из которой так старался выбраться. Этому поспособствовали несчастья мистера Бошама.
Бошама, господина лет тридцати пяти, я давно знал как одного из мортлейкских столпов добродетели. Он служил секретарем в компании, распространявшей Библию, а также был стойким поборником непорочности. Он неизменно был одет в черный пиджак, старый и залоснившийся, и полосатые брюки, знававшие лучшие дни. Галстук у него был черный, а манеры – самые искренние. Даже в поезде он умудрялся цитировать священные тексты. О любых спиртных напитках он говорил как о «возбуждающих» и сам ни разу в жизни не пробовал их на вкус. Обварившись однажды горячим кофе, он вскричал всего лишь: «Боже, какая досада!» В чисто мужской компании, убедившись в серьезности собеседников, он, бывало, сожалел о прискорбной частоте того, что называл «телесным соитием». Поздний ужин вызывал у него отвращение: он всегда ужинал рано и плотно – до войны «плотность» подразумевала холодное мясо, соленья и вареный картофель, а во времена строгой экономии приходилось обходиться без мяса. У него были вечно влажные ладони, руку он пожимал вяло. Никто в Мортлейке не мог припомнить ни одного его поступка, от которого покраснел бы даже он сам.
Но вскоре после того, как я увидел его выходящим от доктора Маллако, с ним стали происходить перемены. Черный пиджак и полосатые брюки сменились серым одеянием, черный галстук – темно-синим. Он стал реже ссылаться на Библию и, видя выпивающих людей, уже воздерживался от лекций о благах воздержания.
Всего лишь однажды – не более того – видели, как он торопился по улице к железнодорожной станции с красной гвоздикой в петлице. Эта нескромность, от которой все в Мортлейке вытаращили глаза, больше не повторялась, но пища для пересудов вновь появилась спустя всего несколько дней после эпизода с красной гвоздикой. Бошама видели в щегольском красном автомобиле в обществе очаровательной юной леди, одевающейся, судя по всему, у парижского портного. Все долго задавались вопросом, кто она такая. Как обычно, недостающие сведения подбросил сплетникам Гослинг. Я, подобно всем остальным, был заинтригован происшедшей с Бошамом переменой. Как-то вечером, наведавшись ко мне, Гослинг сказал:
– Знаете, кто та леди, что так заметно повлияла на нашего святошу-соседа?
Я ответил, что не знаю.
– Я только что выяснил, что это Иоланда Молинэ, вдова капитана Молинэ, чья трагическая кончина в джунглях Бирмы в последнюю войну стала одной из бесчисленных драм тех времен. Однако красавица Иоланда без особого труда пережила свое горе. Как вы, конечно, помните, капитан Молинэ был единственным сыном знаменитого мыльного короля и как наследник своего отца уже располагал крупным состоянием, которое, без сомнения, позволило справиться со всеми расходами по его погребению. Состояние это перешло к его вдове, отличающейся неутолимым любопытством по части мужчин и их сортов. Знавала она миллионеров и шарлатанов, горцев из Черногории и индийских факиров. Вкусы у нее католические, но предпочтения самые причудливые. Скитаясь по всей планете, она еще не успела познакомиться с ханжеством англиканской «низкой церкви» и, встретив оное в лице мистера Бошама, узрела в нем захватывающий предмет для изучения. Я содрогаюсь при мысли о том, что она сделает с беднягой Бошамом, ибо он донельзя искренен, а она всего лишь добавляет новый экспонат к своей обширной коллекции.
Я почувствовал, что Бошаму грозит беда, но не сумел предвидеть всей тяжести уготованного ему бедствия, так как еще не знал о деятельности доктора Маллако. Только услышав историю Аберкромби, я понял, что может натворить с этим материалом доктор Маллако. Сам Бошам был недосягаем, поэтому мне пришлось познакомиться с красавицей Иоландой, обитавшей в милом старинном доме на Хэм-Коммон. К своему разочарованию, я выяснил, что она понятия не имеет о докторе Маллако, поскольку Бошам ни разу о нем не упоминал. О Бошаме она отзывалась с веселой и несколько пренебрежительной снисходительностью, сожалея об его усилиях приспособиться в меру своего понимания к ее вкусам.
«Мне нравятся его проповеди, – заявила она, – а раньше нравились полосатые штаны. Нравится его упорный отказ от употребления горячительных напитков и то, как сурово он отвергает некоторые даже самые невинные словечки. Этим он мне и интересен, и чем больше он старается походить на нормального человека, тем труднее мне оставаться с ним на дружеской ноге, а без этого страсть доведет его до отчаяния. Но втолковывать этому бедняге то, что превосходит его психологическое понимание, совершенно бесполезно».
Я, в свою очередь, счел бесполезным призывать миссис Молинэ пожалеть беднягу.
«Вздор! – сказала бы она. – Небольшое проявление чувств и забвение ханжества пойдут ему только на пользу. Он бы стал лучше, чем раньше, справляться с грешниками, занимающими все его внимание, вот и все. Я считаю себя благодетельницей, почти его сотрудницей. Вот увидите, еще до того, как я с ним закончу, его способность спасать грешников вырастет во сто крат. Его собственная совесть в ее малейших проявлениях преобразится в пламенную риторику, и надежда самому избежать вечного проклятия позволит ему манить перспективой спасения даже тех, кого он прежде считал совершенно разложившимися и безнадежными. Но довольно о Бошаме, – продолжила бы она со смешком. – Уверена, после этого сухого разговора вы пожелаете смыть вкус Бошама одним из моих специфических коктейлей».
Я видел полную бесполезность этих бесед с миссис Молинэ, а тем временем доктор Маллако оставался совершенно недосягаемым. Сам Бошам при моих попытках с ним увидеться всякий раз торопился в Хэм-Коммон или оказывался слишком занят на службе. Занятия эти, впрочем, как было замечено, интересовали его все меньше; даже в вечернем поезде, которым он обычно возвращался домой, его уже не оказывалось на привычном месте! Я все еще надеялся на лучшее, но опасался худшего.
Мои страхи оказались небеспочвенными. Однажды вечером, проходя мимо его дома, я увидел у дверей толпу; престарелая экономка, вся в слезах, тщетно призывала всех разойтись. Хорошо зная эту славную особу по своим частым визитам к Бошаму, я осведомился у нее, в чем дело.
– Мой бедный господин! О, мой бедный господин! – запричитала она.
– Что случилось с вашим бедным господином? – спросил я.
– О, сэр, мне никогда не забыть страшной картины, представшей передо мной, когда я открыла дверь его кабинета. Кабинет, как вам, наверное, известно, в прежние времена использовался как кладовая, на потолке даже остались крюки, на которые в более изобильные времена вешали окорока и бараньи ноги. Открываю дверь и вижу: на одном из крюков висит на веревке сам мистер Бошам! Прямо под ним лежит на боку табуретка. Вынуждена предположить, что к этому отчаянному поступку бедного господина подтолкнуло какое-то горе. Не знаю, что это могло быть, но подозреваю козни одной порочной женщины, сбившей его с праведного пути!
Узнать от нее что-то еще не удалось, но я не исключал, что ее подозрения обоснованны и что некоторый свет на эту трагедию способна пролить вероломная Иоланда. Я тотчас отправился к ней и застал ее за чтением доставленного посыльным письма.
– Миссис Молинэ, – начал я, – до сих пор наши отношения оставались сугубо светскими, но теперь настало время для серьезного разговора. Мистер Бошам был моим другом, для вас он надеялся стать даже более чем другом. Возможно, это добавит ясности ужасному событию, происшедшему в его доме.
– Возможно, – согласилась она более серьезным, чем обычно, тоном. – Я как раз прочла последние слова этого несчастного, глубину чьих чувств, выходит, сильно недооценила. Не отрицаю, я достойна осуждения, но главная вина лежит не на мне. Роль основного виновника сыграл гораздо более зловещий и куда более серьезный персонаж, чем я. Я имею в виду доктора Маллако. Его роль разоблачается в письме, за чтением которого вы меня застали. Вы были другом мистера Бошама и, как мне известно, являетесь заклятым врагом Маллако, поэтому, полагаю, вам тоже следует ознакомиться с этим письмом. – С этими словами она вручила его мне, и я откланялся.
Я заставил себя прочесть письмо только у себя дома, но и тогда разворачивал его многочисленные страницы сильно дрожащими пальцами. Злая аура странного доктора, казалось, обволокла меня, когда я разложил их у себя на коленях. Я чуть было не ослеп, представив себе его глаза; прочесть ужасные слова, хоть это и был мой долг, было почти невозможно. Все же я собрался с силами и заставил себя погрузиться в пучину мучений, доведших бедного Бошама до непоправимого поступка. Вот его письмо:
Моя дорогая Иоланда!
Не знаю, опечалит вас это письмо или принесет вам облегчение. В любом случае я чувствую, что последние мои слова на этом свете должны быть адресованы вам, ведь это действительно мои предсмертные слова. Дописав это письмо, я расстанусь с жизнью.
Моя жизнь, как вы знаете, была монотонной и тусклой, пока в нее не вошли вы. Познакомившись с вами, я осознал, что в человеческом существовании есть иные ценности, а не только запреты, затхлые «нельзя», которым была посвящена вся моя деятельность. Все закончилось несчастьем, но я даже сейчас ничуть не жалею о тех сладостных мгновениях, когда вы, как мне казалось, улыбались мне. Но сейчас я пишу не о чувствах.
До сих пор, преодолевая ваше естественное любопытство, я скрывал, что произошло, когда вскоре после нашего знакомства я нанес роковой визит доктору Маллако. У меня тогда возникло желание поразить ваше воображение, а на себя прежнего я стал смотреть как на унылого олуха-святошу. Я думал, что, добившись вашего уважения, смогу зажить по-новому. Но способ сделать это открылся мне только после злосчастного визита к этому отвратительному воплощению сатаны.
Приняв меня с участливой улыбкой и пригласив к себе в кабинет, он сказал:
«Мистер Бошам, видеть вас здесь – большое удовольствие. Я наслышан о вашей благотворительности и восхищен вашей приверженностью благородным целям. Признаться, мне затруднительно представить, чем я могу быть вам полезен, но если это возможно – прикажите! Однако прежде чем мы перейдем к делу, полезно будет освежиться. Знаю, вы не употребляете напитков на основе виноградного сока и очищенной выжимки из зерна, и не стану вам их навязывать. Как насчет сладкого какао?»
Я поблагодарил его не только за учтивость, но и за знание моих предпочтений. Служанка подала какао, и начался серьезный разговор. Присущий ему магнетизм неожиданно для меня развязал мне язык. Я поведал ему о вас, о своих страхах, о переменах в своих взглядах и устремлениях, о пьянящих мгновениях доброты, позволивших мне пережить бесконечные дни, когда вы были холодны, о том, что хорошо сознаю: чтобы вас завоевать, я должен предложить куда больше в мирском смысле, но не только, ведь вам нужна более разносторонняя натура, занимательная беседа. Если он сможет помочь мне всего этого добиться, сказал я, то я стану его вечным должником, и пустячные десять гиней – плата за прием – окажутся наилучшим капиталовложением, когда-либо сделанным простым смертным.
Немного поразмыслив, доктор Маллако промолвил задумчивым тоном:
«Не знаю, поможет ли вам то, что я собираюсь сказать… Была не была, вот вам небольшая история, имеющая некоторое сходство с вашей.
Есть у меня знакомый, весьма известный человек – возможно, вы с ним встречались на профессиональном поприще; его ранние годы прошли примерно так же, как ваши. Подобно вам, он влюбился в пленительную женщину. Он рано понял, что вряд ли ее завоюет, если не станет гораздо богаче, чем смог стать, живя своей прежней жизнью. Как и вы, он распространял Библии на многих языках, во многих странах. Однажды он познакомился в поезде с одним издателем, имевшим несколько сомнительную репутацию. В былые времена он бы с таким даже не заговорил, но теперь, под освобождающим дух влиянием любовных надежд, стал снисходительнее к людям, отшатнувшимся от лона Церкви, которыми прежде пренебрегал.
Издатель рассказал о широчайшей всемирной сети распространения сомнительной литературы, переправляющей таковую в руки дегенератов, которых влечет похоть, погибель и тлен. «Трудности, – посетовал издатель, – возникают только с рекламой. Тайное распространение не вызывает проблем, но тайная реклама – это абсурдно само по себе! – Тут издатель подмигнул и продолжил с шаловливой улыбкой: – Но если бы нам помог такой человек, как вы, то заминка с рекламой была бы преодолена. В Библиях, которые вы распространяете, могли бы быть подсказки. Например, на странице, где сказано, что «лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено» (Иеремия xvii. 9), могла бы быть сноска, что за более подробной информацией об испорченности человеческого сердца надлежит обращаться туда-то и туда-то. А когда Иуда велит своим слугам искать блудницу за городскими воротами, вы объясните в сноске, что большинству читателей Священного Писания это слово, без сомнения, неведомо, но там-то и там-то им будут даны все разъяснения. Когда же Слово Божие клеймит достойное сожаления поведение Онана, весьма кстати окажется соответствующая сноска». Издатель, правда, опасался, что мой знакомый за такое не возьмется, хотя, как он объяснил задумчиво, с легким сожалением, это принесло бы колоссальную прибыль.
Мой знакомый, – продолжил доктор Маллако, – не стал медлить с решением. Прибыв на лондонский вокзал, они с издателем проследовали в клуб последнего, где после нескольких рюмок согласовали основные пункты договора. Мой знакомый продолжил распространять Библии, те стали пользоваться небывалым спросом, доходы издателя выросли, а мой знакомый, разбогатев, приобрел хороший дом и модный автомобиль. Постепенно он перестал цитировать Библию, не считая мест, которые снабжал сносками. Он стал бойким говоруном, забавным циником. Женщина, которая прежде всего лишь им играла, была впечатлена. Они поженились и с тех пор живут счастливо. Судите сами, интересна ли вам эта история. Боюсь, это единственное, что я могу сделать ради решения ваших затруднений.
Порочность предложения доктора Маллако привела меня в ужас. Мыслимое ли дело, чтобы я, всю жизнь строго следовавший несгибаемым моральным принципам, взялся получать долю от столь дружно порицаемого, даже проклинаемого занятия, как торговля непристойной литературой? Так я и сказал, не таясь, доктору Маллако. Тот ответил многозначительной загадочной улыбкой.
«Друг мой, – снова заговорил он, – разве с тех пор, как вам посчастливилось познакомиться с миссис Молинэ, вы не стали спотыкаться об узость того кодекса поведения, коему всегда следовали? Уверен, вы читали «Песнь песней» Соломона и поражались, как она могла быть включена в Слово Божие. Оставьте эти нечестивые сомнения. Раз кое-какая литература, сбываемая издателем – партнером моего знакомого, имеет много общего с сочинениями столь мудрого и женолюбивого царя, то это повод воздержаться от ее осуждения. Немного свободы, дневного света, свежего воздуха даже в темах, о которых вы отказывались думать (боюсь, тщетно), будет только полезна, поэтому ей стоило бы дать ход, хоть бы и при помощи Священного Писания».
«Но нет ли опасности, и серьезной, – вскричал я, – что подобная литература ввергнет молодых людей, да и молодых женщин, в смертный грех? Смогу ли я смотреть в лицо ближнему, мучимый мыслью, что в этот момент какая-нибудь неженатая пара занята нечестивым делом по причине моих занятий, приносящих мне прибыль?»
«Увы, – был ответ доктора Маллако, – боюсь, многое в нашей святой вере вы поняли неверно. Размышляли ли вы над притчей о девяноста девяти праведниках, не нуждающихся в раскаянии, которые радуют Небеса менее, нежели единственный грешник, вернувшийся в лоно праведности? А притча о фарисее и мытаре? Неужто вы не позволили себе извлечь моральный урок из случая с кающимся вором? Неужто не задавались вопросом, чем заслужили осуждение Господа фарисеи, утолявшие голод? Не удивлялись восхвалением разбитого и сокрушающегося сердца? Можете ли вы, не греша против правды, утверждать, что до встречи с миссис Молинэ ваше сердце было разбито или сокрушено? А не приходило ли вам в голову, что нельзя покаяться, сперва не согрешив? А ведь этому напрямую учат Евангелия. Если вы желаете повлиять на внутреннее состояние людей так, как угодно Богу, то дайте им сперва согрешить! Нет сомнения, что многие из тех, кто покупает литературу издателя – партнера моего знакомого, впоследствии раскаются и, если верить учению нашей святой веры, станут тогда любезнее нашему Создателю, чем несгибаемые праведники, заметным примером коих служили до сих пор вы сами».
Эта логика меня смутила и до крайности запутала. Колебания еще меня не оставили.
«А разве не существует, – упирался я, – страшного риска неминуемого разоблачения? Разве полиция не раскроет рано или поздно преступную сеть, помогающую извлекать столь крупные доходы? И не грозит ли тюрьма людям, втянутым в эту незаконную деятельность?»
«Как я погляжу, – отвечал на это доктор Маллако, – вам и вашим подручным все еще неведомы кое-какие изгибы и ответвления нашей общественной системы. Вы воображаете, что, когда речь заходит о таких крупных суммах, никто из наделенных властью не согласится за свою долю сотрудничать или, по крайней мере, закрывать глаза? Уверяю вас, такие люди есть, именно благодаря сотрудничеству с ними издатель – партнер моего знакомого спит спокойно. Если вы решите последовать его примеру, то вам придется заручиться слепотой официальных лиц».
Я уже не знал, что сказать, и покинул дом доктора Маллако, полный сомнений, и не только о том, как мне поступить, но и обо всем фундаменте нравственности и о цели праведной жизни.
Сначала сомнения полностью лишили меня сил. Я не являлся на работу, потому что не переставал ломать голову, как мне быть, как жить. Но постепенно доводы доктора Маллако все больше овладевали моим воображением. «Я не могу избавиться от посеянных в моей душе этических сомнений, – думал я. – Я больше не знаю, что дурно, а что нет. Зато я знаю (так думал я в своей слепоте) дорогу к сердцу моей возлюбленной Иоланды!»
В конце концов решение за меня принял случай, по крайней мере, я приписал решение случаю, хотя теперь сомневаюсь в этом. Я повстречал человека исключительной житейской мудрости, чья сомнительная деятельность заставляла его скитаться по всему свету, не брезгуя самыми злачными местами. Он утверждал, что вхож и к полицейским, и в преступное подполье. Он знал, кто в полиции продажен, а кто нет, – так говорил, во всяком случае, он сам. Оказалось, что он зарабатывает на жизнь посредничеством между людьми, замышляющими преступление, и сговорчивыми полицейскими.
«Но вам-то такие вещи, конечно, неинтересны, – оговорился он. – Ваша жизнь – открытая книга, и у вас никогда не бывало даже подобия соблазна нарушить закон».
«Что верно, то верно, – ответил ему я, – но в то же время я думаю, что мой долг – максимально расширить свой опыт, и если вы и впрямь знакомы хотя бы с одним таким полицейским, то я буду рад, если вы меня ему представите».
Он выполнил мою просьбу и познакомил меня с инспектором уголовного розыска Дженкинсом, который, как мне дали понять, не был человеком несгибаемой праведности, какими мы привыкли считать наших благородных сотрудников полиции. Моя дружба с инспектором Дженкинсом мало-помалу крепчала, и я мелкими шажками подобрался к теме непристойных изданий, по-прежнему прикрываясь любопытством к всевозможным проявлениям жизни.
«Я сведу вас со своим знакомым издателем, – пообещал он. – Нам с ним доводилось проворачивать выгодные делишки».
И он представил меня некоему Маттону, издателю, если верить его словам, как раз такого пошиба. Раньше я не слыхал про его компанию, но удивляться этому не приходилось, так как я соприкоснулся с совершенно неведомым мне прежде миром. После предварительного расшаркивания и приветствий я сказал Маттону, что мог бы оказаться ему полезен в том смысле, в каком был полезен своему издателю друг доктора Маллако. Маттон не отверг эту идею, но сказал, что безопасности ради хотел бы получить от меня что-то вроде письменного предложения. Я неохотно согласился.
Все это случилось только вчера, когда радужные надежды еще влекли меня к неминуемому краху. А сегодня… Но как исторгнуть из себя страшную правду, правду, разоблачающую не только мою порочность, но и невероятную глупость? Сегодня меня посетил полицейский констебль. Он предъявил документ, подписанный мной по требованию Маттона.
«Ваша подпись?» – спросил он.
Как ни сильно я был поражен, мне хватило присутствия духа, чтобы ответить:
«Вам еще предстоит это доказать».
«Вряд ли это вызовет трудности, а вам бы неплохо отдавать себе отчет, в каком положении вы тогда окажетесь, – предупредил он. – Инспектор Дженкинс вовсе не ступил на путь бесчестья, вас ввели в заблуждение: напротив, он привержен защите нашей нации от любой нечистоты, а репутация продажности, которую он себе создал, предназначена только для завлечения преступников в его сети. Мистер Маттон – подставное лицо. Эту гнусную личину надевает то один, то другой детектив. Увидите, мистер Бошам, вам не выйти сухим из воды». – После этих слов он удалился.
Я сразу понял безнадежность своего положения и невозможность дальнейшей жизни. Даже если бы мне повезло избежать тюрьмы, подписанный мной документ поставил бы крест на деле, служившем мне источником существования. Опозоренный, я бы не смог смотреть вам в глаза, а без вас моя жизнь лишена смысла. Мне ничего не остается, кроме ухода из жизни. Меня ждет встреча с Создателем, Чей справедливый гнев обречет меня, без сомнения, на те самые муки, которые я так часто и так живо описывал другим. Но прежде чем я закончу свое бренное существование, Он, надеюсь, снизойдет и дозволит мне прокричать главное: «Из всех когда-либо живших дурных людей нет никого хуже, никого коварнее, чем доктор Маллако, которого я молю Тебя, Боже, низвергнуть в те же бездны ада, что уготованы мне!»
Таким будет мое обращение к Создателю. Вам же, моя ненаглядная, я шлю из пропасти, в которую провалился, пожелания счастья и радостей.
IV
Спустя некоторое время после трагического конца Бошама я узнал об участи Картрайта. К счастью, она оказалась не столь ужасной, но нельзя отрицать, что большинство из нас себе такого не пожелало бы. Частично он рассказал мне об этом сам, остальное я узнал от своего единственного друга, вхожего в церковные круги.
Картрайт, как всем известно, был знаменитым мастером художественной фотографии, делавшим фотопортреты известнейших кинозвезд и политиков. Он обладал неповторимой способностью поймать характерное для модели выражение лица, вызывавшее к ней неодолимую симпатию. Ассистировала ему женщина редкой красоты по имени Лэлэдж Скрэггс. Правда, для клиентов мастера ее красота бывала отравлена излишком вялости. Впрочем, хорошо знавшие ее люди говорили, что сам Картрайт от этой ее вялости избавлен и что их связывает пылкая страсть, пусть и не скрепленная, увы, законными узами. При этом в жизни Картрайта присутствовала одна неизбывная печаль: хотя он с завидным усердием художника трудился утром, днем и вечером, а его клиентура становилась все более изысканной, алчность налогового ведомства не позволяла ему удовлетворять некоторые дорогостоящие потребности – как свои собственные, так и красавицы Лэлэдж.
«Что проку во всей этой каторге, – часто сокрушался он, – когда не менее девяти десятых моих заработков забирает правительство на покупку молибдена, вольфрама или какого-то еще вещества, не представляющего для меня ни малейшего интереса?»
Это недовольство отравляло ему жизнь и наталкивало на мысли о бегстве в княжество Монако. Увидев медную табличку доктора Маллако, он воскликнул: «Неужто этот достойный человек раскопал нечто, превосходящее ужасом избыточное налогообложение? Если так, то он, должно быть, обладает богатым воображением. Побываю-ка я у него на консультации, пусть расширит мне сознание!»
Записавшись на прием, он явился к доктору Маллако в те дневные часы, когда у него не намечалось фотосессий с кинозвездами, министрами или иностранными дипломатами. Даже аргентинский посол, суливший оплату отборной говядиной, выбрал другую дату.
После традиционных вступительных любезностей доктор Маллако перешел к делу и осведомился, какого сорта ужас привлекает Картрайта.
– Будьте уверены, – обнадежил он его со спокойной улыбкой, – ужасы у меня на любой вкус.
– Собственно, ужас, который мне требуется, связан со способами заработка, ускользающими от внимания сборщика налогов. Не знаю, способны ли вы насытить эту тему ужасом, как обещано на вашей табличке. Если да, то вы заслужите мою благодарность.
– Думаю, – ответил доктор Маллако, – у меня найдется то, что вам нужно. Затронута моя профессиональная гордость, и мне было бы стыдно вас подвести. Расскажу вам одну историю, которая, быть может, поможет вам принять решение.
Мой друг-парижанин – как и вы, гениальный фотограф. Ему, как и вам, помогает пленительная ассистентка, приверженная прославленным парижским удовольствиям. Как и вы, он изнемогал от налогов, пока честь по чести занимался своим профессиональным делом. Он и теперь живет фотографией, но пользуется более современными методами. Он взял за правило наводить справки, в какие парижские отели хлынет тот или иной поток знаменитых визитеров великого города. После этого его прекрасная ассистентка усаживается в вестибюле отеля перед заездом туда очередного героя всеобщих грез. Пока он занят у стойки администратора, она вдруг начинает задыхаться, шатается, как будто вот-вот лишится чувств. Галантный герой грез, единственный мужчина поблизости, бросается, разумеется, ей на помощь. В момент, когда она оказывается в его объятиях, щелкает затвор камеры. На следующий день мой друг поджидает его с проявленной фотографией и вопросом, сколько попавшийся готов заплатить за негатив и уничтожение всех копий. Если жертва – видный богослов или американский политик, то не приходится сомневаться в его готовности расстаться с весьма крупной суммой. Таким способом мой друг серьезно улучшил свое материальное положение по сравнению с былыми временами с 40-часовой рабочей неделей. Его ассистентка занята всего раз в неделю, а сам он – два дня: сначала когда снимает, потом – когда посещает свою жертву. Остальные пять дней в неделю парочка наслаждается жизнью! Возможно, – заключил доктор Маллако, – в этой истории обнаружится нечто полезное, благодаря чему вы покончите со своими затруднениями.
В этом предложении Картрайта обеспокоили только два момента: опасность разоблачения и неприязнь к любительскому промискуитету, которым займется белокурая Лэлэдж. Страх навевал мысли о полиции, ревность – еще более могучее чувство – рождала образы знаменитостей, чьи объятия она, чего доброго, предпочтет его. Но пока он ломал голову, как быть, от службы налоговых взысканий и добавочного налогообложения пришло требование двенадцати тысяч фунтов стерлингов. Картрайт, совершенно чуждый какой-либо экономии, не располагал двенадцатью тысячами ни в каком виде, а потому, проведя несколько ночей без сна, решил, что ему ничего не остается, кроме как пойти по стопам дружка Маллако.
После надлежащих приготовлений и изучения набора знаменитостей Картрайт решил остановиться на епископе Бориа-була-га, госте Лондона по случаю Пан-Англиканского конгресса. Все получилось на ура: нестойкая леди рухнула в объятия епископа, руки коего обвили ее без видимого замешательства. Картрайт, прятавшийся за ширмой, был тут как тут. Назавтра он поджидал епископа с очень убедительной фотографией.
– Полюбуйтесь, дорогой епископ, – начал он. – Уверен, вы согласитесь, что это настоящий шедевр. Не могу отделаться от мысли, что вам захочется им обладать, ибо всем известна ваша страсть к негритянскому изобразительному искусству, а эта картинка могла бы послужить религиозным целям в каком-нибудь туземном культе. Но ввиду накладных расходов и высокого оклада, который я вынужден платить своей высокопрофессиональной ассистентке, я не смогу расстаться с негативом и несколькими его копиями, которые сделал, менее чем за тысячу фунтов, и это еще строгий минимум, единственно из сочувствия к хорошо известной бедности епископата наших колоний.
– Это же надо! – огорчился епископ. – Вот незадача! Вы же не думаете, что я разгуливаю с тысячей фунтов за пазухой? Тем не менее, видя, как крепко вы в меня вцепились, я передам вам долговую расписку и право на удержание части дохода моей епархии.
Картрайт с облегчением перевел дух, видя благоразумие епископа. Расстались они почти по-дружески.
Однако вышло так, что данный епископ сильно отличался от большинства своих коллег. Я приятельствовал с ним в годы совместной учебы в университете; помнится, на выпускном курсе он славился любовью к розыгрышам. Порой его розыгрыши грешили дурновкусием. Его решение принять обет многих удивило; еще большим было удивление, когда распространилась молва, что при всем красноречии и убедительности своих проповедей, склонивших к богобоязненности не одну тысячу слушателей, он по-прежнему не находил сил для воздержания от поведения, снискавшего ему сомнительную славу в университетских стенах. Церковное начальство грозилось сурово покарать его за проказы, но в последний момент раз за разом не могло сдержать улыбки. Поэтому решение гласило, что наказание неизбежно, но не очень суровое: он поплатился отправкой епископом в Бориа-була-га на условии невозможности отлучиться оттуда без особого разрешения архиепископов Кентерберийского и Йоркского. Как раз в то время я повстречал его на докладе какого-то антрополога об одном центральноафриканском ритуале, по поводу которого епископ резко высказался в ходе последующей дискуссии. Я всегда ценил его общество, поэтому после заседания пригласил к себе в клуб.
– Кажется, – сказал он, – вы соседствуете с неким Картрайтом, с которым я не так давно столкнулся при любопытных обстоятельствах… И он поведал мне об этих обстоятельствах, закончив многозначительным и угрожающим замечанием: – Боюсь, ваш друг Картрайт не догадывается, что его ждет…
Технология произвела сильное впечатление на епископа, и он задумался над ее применением ради спасения душ своих чернокожих прихожан. У него родился план. Он стал изучать повадки советского посла, его мимику, жесты и походку, а потом произвел сортировку временно простаивающих актеров на предмет близкого сходства с этим видным и уважаемым дипломатом. Отыскав одного такого, он уговорил его прикинуться известным путешественником и в этом качестве напроситься на советский прием. Затем он сочинил письмо Картрайту, якобы от самого посла, с приглашением встретиться в некоем отеле. Картрайт клюнул. Мнимый посол сунул ему пухлый конверт, и в этот момент раздался до боли знакомый фотографу звук – щелчок скрытой фотокамеры. Взглянув на конверт, он, к своему ужасу, увидел на нем не только свое имя, выведенное большими четкими буквами, но и цифру 10000000 с припиской «рублей». Понятно, на следующий день епископ навестил его и сказал:
– Знаете, дружище, подражание – самая искренняя лесть, я пришел вам польстить. Эта фотография ничуть не хуже вашей, где красуюсь я, только она, знаете ли, гораздо опаснее. Вряд ли обитатели Бориа-була-га осудят меня за то, что я обнял красотку, а вот власти нашей великой страны составят о вас нелестное мнение, если увидят эту фотографию. Однако я не желаю вам зла, потому что вы восхитили меня своей изобретательностью. Поэтому мои условия будут легкими. Вам придется, конечно, вернуть мне долговое обязательство и право на доход от моей епархии. К тому же впредь, продолжая свою профессиональную деятельность, вы будете соблюдать кое-какие ограничения. Шантажируйте только видных нечестивцев, чье моральное падение, будучи преданным огласке, принесло бы только пользу истинной вере. Девяносто процентов вырученных вами таким способом денег станут поступать мне.
Да будет вам известно, в Бориа-була-га еще остаются язычники, и мы с соседом – епископом Ньям-Ньям заключили пари, кто быстрее увеличит число верующих в своем епископстве. Как оказалось, жители любой деревни все готовы согласиться на крещение, если покрестится их вождь. Еще я узнал, что вождь оценивает свое крещение в три свиньи, которые в Центральной Африке стоят дешевле, чем здесь, – скажем, фунтов пятнадцать. Предстоит обратить в святую веру примерно тысячу вождей. Таким образом, для завершения моих трудов требуется сумма в пятнадцать тысяч фунтов. Когда благодаря вашим операциям с безбожниками у меня наберется эта сумма, мы пересмотрим наши отношения. А пока что вам не грозит неприятное внимание ни с моей стороны, ни со стороны полиции.
Картрайт, удрученный, но не отчаявшийся, не увидел альтернативы выполнению епископских наставлений. Первыми его жертвами стали предводители Этического движения, сделавшего сутью своего существования утверждение, что величайшая добродетель возможна и без следования христианской догме. За ними последовали коммунистические лидеры из Соединенных Штатов, Австралии и других праведных уголков мира, съехавшиеся на важную конференцию в Лондон. Он быстро собрал пятнадцать тысяч, затребованные епископом. Тот благосклонно принял деньги и, выразив благодарность, добавил, что теперь сможет до конца искоренить язычество в своей до того момента отсталой епархии.
– Что ж, – молвил Картрайт, – теперь, уверен, вы согласитесь, что я заслуживаю освобождения от дальнейшего вашего внимания к моей персоне.
– Не торопитесь, – возразил епископ. – Оригинал фотографии, на которой зиждется наше плодотворное сотрудничество, до сих пор у меня. Мне не стоило бы труда предоставить полиции убедительные свидетельства о способах, которыми вы собрали переданные мне пятнадцать тысяч фунтов, тогда как у вас нет доказательств хоть какого-то моего участия в ваших занятиях. Не вижу, каким образом вы могли бы избавиться от моих притязаний. Тем не менее повторяю: я – милостивый хозяин и не стану делать ваше неизбывное рабское ярмо неподъемным. В Бориа-була-га сохраняются два недостатка: первый – упорное следование главного вождя вере предков, второй – то, что мы уступаем Ньям-Ньям численностью населения. Вы с вашей несравненной ассистенткой могли бы устранить оба. Я отправил ее фотографию главному вождю, и он безумно в нее влюбился. Я дал ему понять, что если он перейдет в нашу веру, то я сделаю так, что она станет его женой. Вас я попрошу поселиться в Бориа-була-га и завести большой гарем. Вы посвятите себя зачатию душ, которые я стану крестить, и если когда-либо по вашей недобросовестности в гареме упадет рождаемость, то ваша преступная деятельность выплывет наружу.
Но пожизненным приговором я это не назову. По достижении вами возраста семидесяти лет вам и вашей роскошной Лэлэдж, которая к тому времени, правда, может утратить свою роскошь, будет разрешено вернуться в Англию и зажить на деньги, извлекаемые из фотографирования для документов. На случай, если вы задумаете прибегнуть к противозаконному насилию как к способу бегства, должен вас предостеречь: я оставил в своем банке запечатанный конверт и распорядился вскрыть его, если умру при подозрительных обстоятельствах. Вскрытие этого конверта означает вашу гибель. А пока что я с удовольствием предвкушаю наслаждение вашим обществом в нашей совместной ссылке. Всего доброго!
Картрайт не нашел выхода из этого тяжелого положения. В последний раз я видел его на пристани: он отплывал в Африку. Сцена его прощания с мисс Скрэггс, которую епископ принудил плыть другим судном, вышла душераздирающей. Я не мог ему не посочувствовать, однако утешился мыслью о неоспоримых благах распространения Евангелия.
V
Злоключения Аберкромби, Бошама и Картрайта не заслонили от моего взора миссис Эллеркер. Связанные с ней события тоже изрядно меня встревожили.
Мистер Эллеркер был авиаконструктором и слыл одним из способнейших людей в своей отрасли. У него был один-единственный соперник, по фамилии Квантокс, которому тоже случилось поселиться в Мортлейке. Мнение начальства разделилось: одни отдавали пальму первенства Квантоксу, другие Эллеркеру, но этих двоих никто в Англии уж точно не мог превзойти. Во всем, помимо профессии, они были антиподами. Эллеркер получил узконаучное образование, был чужд литературе, безразличен к искусству, разглагольствовал напыщенно, позволял себе вопиющие банальности. Квантокс, напротив, был ярок и остроумен, широко образован и начитан, умел развлечь любое общество своими замечаниями, сочетавшими остроумие с проницательным анализом. Эллеркер не обращал внимания на женщин, кроме своей жены; у Квантокса, наоборот, был острый взгляд, и он вызвал бы суровое осуждение, если бы не общенациональная ценность его работы, принуждавшей моралистов, как в случае с Нельсоном, изображать неведение. Миссис Эллеркер во многом была больше похожа на Квантокса, чем на своего мужа. Ее отец читал лекции по антропологии в одном из наших старинных университетов; молодость она провела в самом интеллектуальном окружении, какое только можно было отыскать в Англии; привыкла к сочетанию острословия и мудрости, а не к тяжеловесному морализаторству, которое унаследовал у Викторианской эпохи ее супруг. Ее мортлейкские соседи делились на тех, кто ценил ее как блестящую собеседницу, и тех, кто опасался, как бы легкость в словах не помешала ей соблюдать корректность в поведении. Самые горячие из ее пожилых соседей подозревали, что она тщательно скрывает свои прегрешения против морали, и были склонны жалеть Эллеркера из-за взбалмошности его жены. Противоположная фракция соболезновала самой миссис Эллеркер, воображая, какие комментарии он отпускает за завтраком, штудируя «Таймс».
После драматического ухода миссис Эллеркер из дома доктора Маллако я стал развивать наше знакомство в надежде рано или поздно им воспользоваться. Узнав о роли доктора Маллако в трагедии Аберкромби, я счел своим долгом ее предостеречь, но это оказалось излишне, так как она яростно отвергала саму мысль о продолжении общения с ним. Вскоре у меня возникла в связи с ней новая тревога. До меня дошли сведения, что она и Квантокс встречаются чаще, чем позволяло благоразумие, учитывая соперничество между ним и ее мужем. Квантокс, при всем его несомненном даре обворожительного собеседника, казался мне опасным знакомством для женщины в том нестойком состоянии, в каком пребывала миссис Эллеркер после столкновения с Маллако. Однажды, беседуя с ней, я на это намекнул, но она прореагировала совсем не так, как на упоминание Маллако: вспыхнула, сказала, что сплетничать отвратительно и что она не желает ничего слышать о мистере Квантоксе. Она так рассердилась, что я прекратил у нее бывать и вообще с ней общаться.
Так обстояли дела до тех пор, пока, развернув однажды утром газету, я не узнал ужасную новость. Новый самолет, разработка Эллеркера, загорелся в испытательном полете. Пилот погиб в пламени, было начато расследование. Но худшее ждало впереди. Изучая бумаги Эллеркера, полиция наткнулась на убедительные свидетельства его контактов с иностранной державой; из изменнических соображений он сознательно внес в новую конструкцию погрешности. После обнародования этих документов Эллеркер покончил с собой, приняв яд.
Помня, кто такой доктор Маллако, я усомнился в том, что истина соответствует видимости, и навестил миссис Эллеркер. Я застал ее не столько в траурном, сколько в рассеянном состоянии. Она пребывала даже не в горе, а в ужасе, но в тот момент я этого не понял. Она могла прерваться на середине фразы, как будто к чему-то прислушивалась, хотя я ничего не слышал. Делая над собой усилие, она встряхивалась и произносила: «Да-да… Простите, что вы сказали?» После этого вялая беседа возобновлялась с прерванного места. Она сильно меня обеспокоила, но в тот день отказалась от откровенности, и я ничего не смог поделать.
Тем временем Квантокс шествовал от триумфа к триумфу. Его единственный соперник был повержен, правительство все больше зависело от него, своей главной надежды в гонке вооружений. По случаю дня рождения королевы он получил высокую награду, все газеты расточали ему похвалы.
Пару месяцев прошли без новых событий, а потом я узнал от Гослинга, что миссис Эллеркер в траурном вдовьем облачении явилась в министерство авиации, потребовала, чтобы ее принял сам министр, и, добившись своего, разразилась несвязными словами, которые министр счел следствием помрачения рассудка, вызванного горем. Он так и не понял, что она пытается ему поведать, кроме невероятных обвинений в адрес Квантокса, да еще самооговора. Обратились к крупному психиатру, и тот сразу решил, что миссис Эллеркер повредилась умом. Квантокс был слишком ценным для государства специалистом, чтобы пострадать из-за истерички. Миссис Эллеркер поспешно освидетельствовали и поместили в психиатрическую лечебницу.
По случайности главный врач этого заведения оказался моим старым другом. Явившись к нему, я попросил поделиться со мной по дружбе печальной историей болезни миссис Эллеркер. Услышав от него то, что позволял поведать кодекс врачебной чести, я сказал:
– Доктор Прендергаст (так его звали), я кое-что знаю об обстоятельствах жизни миссис Эллеркер и ее окружении. Полагаю, я могу надеяться на разрешение ее навестить и на то, что нам не будут мешать надзиратели, как обычно происходит при посещении подобных пациентов. В таких условиях я, возможно, нащупаю источник ее срыва, а то и подскажу способ лечения. Я говорю все это не просто так. Существуют известные крайне малому числу людей обстоятельства, связанные со странными событиями, повлиявшими на душевное равновесие миссис Эллеркер. Буду чрезвычайно вам признателен, если вы удовлетворите мою просьбу.
Доктор Прендергаст, поколебавшись, согласился.
Я застал бедную женщину в полном одиночестве, подавленную, ни к чему не выказывающую интереса. При моем появлении она просто подняла глаза, не подав сигнала, что узнала меня.
– Миссис Эллеркер, – заговорил я, – я не верю, что вы страдаете безумными галлюцинациями. Я знаком с доктором Маллако и с мистером Квантоксом, знал вашего покойного супруга. Я не в состоянии поверить, что мистер Эллеркер совершил то, в чем его обвиняли, но вполне допускаю, что Маллако и Квантокс могли сговориться и уничтожить невинного человека. Если мои подозрения верны, то вы можете на меня положиться и рассказать все, что сочтете нужным, более не считая это галлюцинациями воспаленного сознания.
– Благослови вас Бог за эти слова! – вскричала она. – Впервые я слышу хоть что-то, сулящее надежду на торжество истины. Раз вы изъявили желание выслушать мою историю, то я поведаю ее вам во всех болезненных подробностях. Я не должна себя щадить, потому что погрязла во всем этом позоре с головой. Но, поверьте, со зловредным влиянием, заманившим меня в западню, теперь покончено, и я всем сердцем стремлюсь все поправить в меру моих сил ради справедливости к запятнанной памяти моего бедного мужа. – С этих слов начался ее рассказ, долгий и устрашающий.
Полоса бедствий началась, как я и подозревал, с махинаций доктора Маллако. Эллеркер, прослышав о таком ученом соседе, решил завести с ним знакомство и, взяв с собой супругу, нанес загадочному субъекту визит в тот самый день, когда мне предстояло стать свидетелем обморока миссис Эллеркер у ворот дома доктора.
После считаных минут бессодержательного разговора Эллеркеру, настолько важной персоне, что в министерстве всегда должны были быть осведомлены, где он находится, позвонили по телефону и сообщили об острой надобности в неких документах, которыми он располагал и которые надлежало тотчас отослать с особым нарочным. Держа эти документы в своем атташе-кейсе, он решил немедленно отлучиться и найти подходящего курьера. «А ты, дорогая, – обратился он к жене, – не откажись провести то недолгое время, что я буду отсутствовать, с доктором Маллако. Закончив свои дела, я вернусь за тобой».
Миссис Эллеркер, увидевшая в речах доктора Маллако больше перспективы, чем способно было там обнаружить большинство мортлейкцев, только приветствовала эту возможность продолжить разговор, не отвлекаясь на напыщенные мужнины пошлости. Маллако, проявив проницательность, которую она тщетно пыталась обдать презрением, обратил внимание, как ее раздражала и в какую вгоняла тоску словоохотливость мужа. Она же обратила внимание – но тогда не усмотрела в этом ничего подозрительного, – что Маллако общался только с людьми примерно одного с ней пошиба. По его словам, он знавал авиаконструкторов, как нудных, так и интересных. Как ни странно, продолжил он, именно у зануд оказывались интересные жены.
– Как вы понимаете, – оговорился он, прежде чем продолжить, – я просто болтаю о разных людях, с которыми сталкивался в жизни, и никто из них, насколько я могу судить, не обнаруживает близкого сходства с кем-либо из жителей этого пригорода. С другой стороны, за то короткое время, которое я успел провести в вашем обществе, мне стало ясно, что у вас вызывают интерес человеческие драмы, и это позволяет мне повести рассказ дальше.
В свое время я знавал двоих соперников (сами понимаете, дело было в другой стране), один из которых, увы, люто завидовал успеху другого. Завистник был очаровательным остроумцем, а его визави – бирюком, интересовавшимся только своей работой. Завистник (боюсь, вы не поверите, но уверяю вас, это святая правда) закрутил роман с женой своего неинтересного коллеги. Та по уши в него влюбилась. Опасаясь, что любит его сильнее, чем он ее, она все же не могла отделаться от этого наваждения и в конце концов при вспышке безотчетной страсти заявила, что способна на что угодно, лишь бы завоевать его любовь. Он как будто заколебался, но через некоторое время сообщил, что одну услугу она и впрямь могла бы ему оказать – совсем небольшую, не требующую даже таких кратких предисловий. Ее муж, подобно многим, выполняющим схожую работу, часто приносит с работы домой незаконченные проекты, чтобы посидеть над ними в вечерние часы. Пока он спит, чертежи остаются на его письменном столе без присмотра. Не могла бы она, позволяя утомившемуся трудяге храпеть дальше, завладевать ими на рассвете и вносить в них изменения, следуя полученным от возлюбленного инструкциям? Она с радостью согласилась. Ее муж, понятия не имея обо всем этом, передал в производство новую модель самолета, соответствовавшую, как он считал, его замыслу, а в действительности с изменениями в конструкции, внесенными злокозненным возлюбленным жены. И вот муж, гордый своим мнимым достижением, отправляет готовый самолет в первый испытательный полет. Самолет гибнет в огне, конструктор расстается с жизнью. Благодарный возлюбленный, выждав требуемый приличиями срок, женится на вдове. Вы можете подумать, миледи, – сказал в завершение своего повествования Маллако, – что ее счастью мешали угрызения совести, но это не так. Ее возлюбленный был до того блестящим, до того чудесным, что она ни на мгновение не пожалела о принесенном в жертву скучном муже. Ее радость ничто не омрачало, и они по сей день остаются счастливейшей парой из всех, кого я знаю.
В этом месте миссис Эллеркер в ужасе вскричала:
– Таких порочных женщин не бывает!
На это Маллако ответствовал:
– На свете есть очень порочные женщины и очень скучные мужчины.
Пока Маллако разглагольствовал, миссис Эллеркер, которая раньше, хоть и не без труда, вела добродетельную жизнь, наблюдала внутренним взором страшные картины, которые не могла прогнать, как ни старалась. Она встречала Квантокса на всевозможных светских приемах. Он проявлял к ней интерес, который ей льстил. Для него не было секретом, что она обладает не только пленительной внешностью, но и выдающимся умом. Он всегда проявлял желание побеседовать именно с ней, отдавая ей предпочтение перед остальными присутствующими. Но только теперь, под журчание голоса Маллако, она отдала себе отчет, что после этих встреч ее посещала мысль, до какой степени иначе сложилась бы ее жизнь, стань ее мужем он, а не бедный Генри. Мысль эта проживала всякий раз не более секунды и так неумолимо изгонялась, что, пока Маллако не выпустил ее на свободу, она по причине своей хилости не имела возможности опечалить бедняжку. Но теперь она представила себе, что почувствовала бы, если бы обращенный на нее взгляд Квантокса стал страстным, если бы губы Квантокса соприкоснулись с ее губами… Такие мысли повергли ее в дрожь, но прогнать их у нее не было сил.
«Мое сознание, – подумала она, – деградирует от навевающей сон монотонности и плоского однообразия Генри. От его замечаний за завтраком на темы газетных новостей мне хочется кричать. После ужина, когда мы, по его представлениям, предаемся счастливому безделью, он обычно засыпает, хотя сразу замечает, если я пытаюсь чем-то себя занять. Не знаю, как дальше вынести его отношение ко мне как к сладкой дурочке – такие кишели в плохих викторианских романах, которых он начитался в юности и которые так и не перерос. До какой же степени по-другому сложилась бы моя жизнь, если бы ее спутником был мой дорогой Юстас, как я смею называть в своих грезах мистера Квантокса! Как бы мы ценили друг друга, как бы вдохновляли, каким новым ярким светом засияли бы мы оба и как восхищалось бы нами любое общество! А какой страстной, огненной была бы его любовь! Я бы забыла об этой тяжести непропеченного теста…»
Вот какие мысли и картины проносились у нее в голове, пока доктор Маллако произносил свою речь. Но одновременно ей слышался и другой голос, не столь громкий и пронзительный, но тоже обладавший силой: он напоминал ей, что Эллеркер – хороший человек, свято преданный долгу, что его работа пользуется уважением, а жизнь отличается достоинством. Может ли она, подобно той дурной женщине из рассказа Маллако, обречь такого человека на мучительную гибель?
Разрываясь между долгом и желанием, она металась из стороны в сторону в конфликте страсти и сострадания. В конце концов, забыв, что должна дождаться возвращения Эллеркера, выбежала из дома Маллако и лишилась чувств сразу за воротами, прямо у меня перед носом.
Находясь в смятении, миссис Эллеркер предпочла бы избежать встречи с Квантоксом, пока не примет то или иное решение. Несколько дней она, сказавшись больной, пролежала в постели, однако долго пользоваться этой уловкой было нельзя. Как только она встала, Эллеркер огорошил ее словами:
– Аманда, дорогая, моя певчая пташка! Ты выздоровела, и я хотел бы пригласить на чай нашего соседа Квантокса. Тебе, конечно, не следует забивать свою прелестную головку моими профессиональными проблемами, но мы с Квантоксом в некотором смысле соперничаем, и мне хотелось бы поддерживать с ним цивилизованные отношения, как подобает людям двадцатого века. Поэтому было бы недурно пригласить его сюда. Надеюсь, ты постараешься его очаровать: если ты захочешь, перед тобой никто не устоит.
Деваться было некуда. Квантокс пожаловал в гости, но Эллеркер, как только позволили приличия, по своему обыкновению, удрал за свой письменный стол, к своим бумагам, заявив:
– Простите, Квантокс, но обязанности не позволяют мне долго наслаждаться вашим изысканным обществом. Передаю вас в хорошие руки. Пусть моей супруге недоступны дебри нашей нелегкой профессии, зато она, без всякого сомнения, сумеет занять вас на полчасика, если вы сможете урвать столько времени у занятий, которые представляют для нас обоих главное притяжение жизни.
После его ухода миссис Эллеркер застыла в нерешительности, но Квантокс быстро вывел ее из этого состояния.
– Аманда, – начал он, – вы позволите так к вам обращаться? Этого мгновения я ждал с самого нашего знакомства на тоскливом приеме, который скрасило только ваше присутствие. С кем нам с вами перемолвиться словом в этом скучном предместье, если не друг с другом? Я льщу себе надеждой, что вы считаете меня, как и я вас, цивилизованным человеком, способным изъясняться на естественном для нас обоих языке…
Дальнейший разговор вышел менее личным. Он со вкусом и пониманием рассуждал о книгах, музыке и живописи – чуждых мистеру Эллеркеру материях, о которых в Мортлейке слыхом не слыхивали. Она забыла о своих сомнениях, и, когда он встал, готовый проститься, ее глаза остановили его своим сиянием.
– Что это были за великолепные полчаса, Аманда! – воскликнул он. – Могу я надеяться, что однажды, уже скоро, вы почтите вниманием мою коллекцию первых изданий? Кое-какие достойны даже вас. Для меня удовольствие показать их человеку, способному их оценить.
Немного поколебавшись, она уступила отчаянному желанию и согласилась. Были назначены день и время, когда Эллеркер точно будет занят на работе. И вот она, волнуясь, звонит в звонок у двери Квантокса. Дверь отпер он сам, и она смекнула, что они в доме одни. Он отвел ее в библиотеку и, едва затворив дверь, заключил в объятия…
Когда она наконец вырвалась, вспомнив, что дражайший Генри скоро вернется домой со своим неизменным игривым вопросом: «Ну, и чем занималась моя певчая пташка в отсутствие муженька?», в ней крепко засело чувство, что необходимо выковать узы более прочные, чем страсть, если их с обожаемым Юстасом (так она теперь называла Квантокса) отношениям суждено преодолеть стадию кратковременного романа.
– Юстас, – сказала она, – я люблю тебя и сделаю все, что угодно, лишь бы ты был счастлив.
– Дорогая, – ответил он, – я не стану нагружать тебя своими проблемами. Ты – мое солнце, мой свет, зачем мне даже мысленно связывать тебя с повседневными заботами?
– О, Юстас, – не уступала она, – не относись ко мне так. Я не мотылек и не певчая пташка, хотя Генри иного мнения. Я умная и способная женщина, я могу разделить жизнь даже такого мужчины, как ты. Довольно с меня и того, что меня считают игрушкой дома. От тебя, любимый, мне нужно совсем другое отношение.
Квантокс немного поломался, а потом решился. Она с ужасом услышала повторенную почти слово в слово «историю» доктора Маллако.
– Что ж, – молвил он, – есть одна вещь, которую ты могла бы для меня сделать, – так, мелочь, сущая безделица, тут и обсуждать нечего…
– Что это, Юстас? Говори, не томи!
– Я склонен думать, что твой муж часто приносит домой рабочие чертежи новых самолетов. Если бы ты сумела внести в эти чертежи кое-какие мелкие, второстепенные изменения, следуя моим подсказкам, то сослужила бы службу мне и, смею надеяться, самой себе.
– Сделаю все, только скажи! – С этими словами она выбежала вон.
Предложение Квантокса было призрачным эхом рассказанного доктором Маллако. Это эхо звучало и звучало, пока не настал день, когда торжествующий муж сообщил жене, что его новый самолет готов и назавтра поднимется в первый испытательный полет. Но с этого момента реальность стала отличаться от рассказа Маллако. Самолет поднял в воздух не сам Эллеркер, а летчик-испытатель, он и сгорел вместе с самолетом. Эллеркер вернулся домой чернее тучи, в полном отчаянии. Когда полиция обнаружила среди его бумаг улики предательской переписки с иностранной державой, миссис Эллеркер догадалась, что их изготовил ее бесценный Юстас, но хранила молчание даже после того, как муж принял яд и умер.
Квантокс, избавившись от соперника, взлетал все выше на волне общественного уважения, даже удостоился поздравления от самой королевы. Но для миссис Эллеркер его дверь была теперь заперта, при встрече с ней в поезде или на улице он отделывался кивком. Она выполнила свое назначение. Ее страсть умерла, не вынеся пренебрежения, сменившись угрызениями совести – горькими, тщетными, выматывающими душу. Ей то и дело чудился голос бедняги Генри, произносивший привычные банальности, такие невыносимые при его жизни. Когда газеты сообщили о беспорядках в Персии, ей слышался голос мужа: «Почему бы не послать туда несколько полков и не проучить этих азиатов? Уверен, при виде британских мундиров они бросятся врассыпную!» Возвращаясь вечерами после бесплодных скитаний по улицам в поисках убежища от невыносимых мыслей, она слышала голос мужа: «Осторожнее, Аманда, тебе вреден вечерний туман. Какая ты бледная! Хрупкая женщина должна себя поберечь. Водоворот жизни – это для мужчин, наша обязанность – оберегать вас, наши сокровища, от всяческих невзгод». Везде и повсюду, в разгар беседы с соседями, в магазине, в мчащемся поезде – она слышала его шепот, его звучные, но добродушные пошлости и в конце концов перестала верить, что его больше нет. Она озиралась в надежде, но ей говорили: «В чем дело, миссис Эллеркер? Вам нехорошо?» После этого в ее душе селился липкий страх. Шепот становился день ото дня все настойчивее, банальные сентенции удлинялись, выносить добродушное сочувствие мертвеца больше не было сил.
Терпение окончательно ее покинуло. Фамилия Квантокса в высочайшем поздравительном списке стала последней каплей. Она пулей вылетела из дома, чтобы поведать свою историю кому угодно, хоть первому встречному, но внимать ей могли теперь только безмолвные стены психлечебницы.
Ознакомившись с этой кошмарной историей, я бросился к доктору Прендергасту, потом к бывшему руководству Эллеркера в министерстве авиации. Я говорил со всеми, кого считал способным хоть немного помочь бедной миссис Эллеркер, но никто не изъявил готовности толком меня выслушать.
– Нет, – твердили мне, – сэр Юстас слишком ценен для государства. Нельзя допустить, чтобы на его имя была брошена тень. Без него мы проиграем соревнование с американскими конструкторами. Без него русские самолеты превзойдут наши. Даже если вы говорите правду, огласка противоречит общественным интересам, поэтому вынуждены вас просить, то есть приказываем вам прикусить язык!
И вот миссис Эллеркер чахнет, а Квантокс процветает.
VI
Неспособность помочь миссис Эллеркер – сама по себе и вместе с политическим подтекстом – вызвала у меня глубокое душевное потрясение. «Возможно ли, – размышлял я, – чтобы все эти люди, к которым я взывал, – медики и политики из числа самых уважаемых в нашем мнящем себя достойным обществе, возможно ли, чтобы они все как один обрекали женщину на страдание от незаслуженного остракизма, а преступник, истинный виновник ее несчастья, пожинал лавры? С какой целью они так ревностно продлевают подлость?» Здесь мои мысли утрачивали стройность. Мне виделась в их действиях единственная цель: чтобы благодаря ловкости Квантокса погибло много русских, которые, не будь он так ловок, выжили бы. Я не считал это достаточной компенсацией за несправедливое обращение с миссис Эллеркер.
Я испытывал все более сильное отвращение ко всему роду человеческому. Наблюдая знакомых мне людей, я видел, что они заслуживают одной лишь жалости. Аберкромби охотно обрек невинного на поношение и тюрьму, чтобы на пару с женой наслаждаться пустышкой – громким титулом. Бошам был не прочь смущать умы школьников ради того, чтобы завоевать благосклонность бессердечной и безнравственной особы. Картрайт, твердо веривший в высочайшее достоинство тех, кого чтило общество, был тем не менее готов позорить их и доводить до разорения ради собственного обогащения. Миссис Эллеркер, признавал я, тоже совершила не менее страшные поступки, чем Аберкромби, Бошам и Картрайт. Но я – возможно, подсознательно – отказывался считать ее морально ответственной за содеянное. Я видел в ней несчастную жертву зловещего дуэта, Маллако и Квантокса. Но, подобно Богу, замыслившему уничтожить Содом, я не считал одно исключение поводом для того, чтобы помиловать всю человеческую породу.
«Доктор Маллако, – думал я в те мрачные, страшные для меня времена, – потому и вершит судьбы мира, что в нем, в его злокачественном мозгу, в его холодном разрушительном рассудке скопилась в чистом виде вся низость, жестокость, бессильная злоба слабаков, мечтающих быть титанами. Маллако – нечестивец, спору нет, но отчего его нечестивость так плодотворна? Оттого, что во многих робких душах, принуждаемых к почтительности, жива надежда на сладострастный грех, жажда подавлять, потребность разрушать. К этим тайным страстям он и обращается, им он обязан своим сокрушительным могуществом. Человечество, – думал я, – это ошибка. Без него на свете было бы приятнее, как-то свежее. Когда сверкают, как алмазы, капельки утренней росы в лучах сентябрьского солнца, когда каждая травинка – сама красота и чистота, страшно подумать о том, что эта красота предстает взору грешника, который марает ее грязью и жестокостью своих поползновений. Не понимаю, как Бог, видя это великолепие, способен так долго мириться с низостью тех, кто богохульственно утверждает, будто создан по Его подобию. Быть может, – думал я, – мне еще выпадет судьба послужить самым бескомпромиссным орудием Божественного Провидения, которое превзойдет даже то, что было с неохотой применено во дни Ноя…»
Физические опыты раскрывали мне различные способы прекращения жизни человечества. Я не мог избавиться от мысли, что мой долг – довести один из этих методов до совершенства и пустить его в ход. Из всего, что я открыл, самой нехитрой выглядела новая цепная реакция, от которой закипало море. Я сконструировал прибор, позволявший получить этот эффект в любой удобный мне момент. Одно меня удерживало: пока люди будут гибнуть от жажды, передохнет рыба – сварится. Против рыб я ничего не имел: насколько я знал и насколько мог наблюдать в аквариумах, это безвредные, приятные создания, нередко красивые и наделенные вдобавок не свойственным человеку умением избегать столкновений с себе подобными.
Шутки ради я обратился к коллеге-зоологу с вопросом о возможности довести до кипения море. При этом заметил со смехом, что рыбе может не поздоровиться. Друг отвечал в духе предложенной шутки:
– О рыбе я бы на вашем месте не беспокоился. Уверяю вас, рыба так порочна, что у вас глаза на лоб полезли бы! Рыбы пожирают друг друга; наплевательски относятся к своему молодняку; сексуальные привычки у них еще те – когда что-то подобное позволяют себе люди, епископы клеймят это как грех. Не пойму, к чему вам угрызения совести из-за гибели акул!
Сам того не зная, этот человек своим весельем укрепил мою решимость. «Не только человек, – рассуждал я, – жестокий хищник. Хищничество заложено в самой природе жизни, во всяком случае, жизни животных, которые выживают за счет охоты на других. Сама жизнь есть зло. Пускай планета умрет, как Луна, и станет такой же красивой и невинной».
В глубокой тайне я приступил к работе. Методом проб и ошибок я сконструировал прибор, который, как я считал, доведет до кипения и обратит в летучий пар сперва Темзу, потом Северное море, Атлантический и Тихий океаны, даже мерзлый Северный Ледовитый океан. «По мере этих событий, – лихорадочно билось у меня в мозгу, – Земля станет все сильнее нагреваться, людей охватит нестерпимая жажда, все они обезумеют и в конце концов сгинут. Вот когда не станет греха!» Не буду отрицать, в этих моих грандиозных фантазиях особое место уделялось низвержению доктора Маллако. Я считал, что голова у него набита хитроумными схемами превращения во Владыку Мира и навязывания своей воли робким жертвам, чьи мучения только подсластят для него их подчиненное состояние. Я воображал свое торжество над этим злодеем, торжество, достигнутое посредством еще большего зла, нежели его, зато оправданное чистотой и благородством моей страсти, моих помыслов. Под кипение внутри меня этих мыслей, не менее страшных, чем надежда на превращение моря в кипяток, я доделал свой прибор и снабдил его часовым механизмом, который включил в 10 часов утра. К полудню морю надлежало превратиться в кипяток. Запустив свою адскую машину, я явился с заключительным визитом к доктору Маллако.
Тот, догадываясь, что я питаю к нему не вполне дружеские чувства, пришел в изумление от моего появления.
– Чем обязан чести снова вас принять? – осведомился он.
– Доктор, – начал я, – как вы понимаете, это не дань светской необходимости. Не надо угощать меня вашим виски и подставлять мне ваше удобное кресло. Я явился не для приятной беседы, а чтобы возвестить о конце вашего правления и того порочного морока, в который вы окунули умы и сердца несчастных, кто был с вами знаком. Отныне все кончено. Вы повержены сочетанием ума и отваги, не уступающих вашим по размаху, но зато преследующих благородную цель. Я, бедный презренный ученый, на которого вы косились с пренебрежением и чьи попытки отвести беды, которые вы упорно сеяли, были бессмысленны, как вы того желали, придумал наконец, как обуздать ваше властолюбие. Сейчас в моей лаборатории тикают часы, и когда их стрелки укажут на полдень, запустится процесс, который в считаные дни положит конец всякой жизни на этой планете, а заодно и вашей жизни, доктор Маллако!
– Скажите пожалуйста! – протянул Маллако. – Как мелодраматично! В столь ранний утренний час мне трудно предположить, что вы подвыпили, поэтому вынужден опасаться какого-то более серьезного повреждения ваших умственных способностей. Но если это вас так занимает, то я с удовольствием послушаю изложение вашей схемы, обещающей несколько катастрофический результат.
– Зубоскальте сколько хотите, – махнул я рукой. – Что еще вам остается? Но совсем скоро вам станет не до зубоскальства, и перед смертью вам придется с горечью признать свое поражение и мою окончательную победу.
– Бросьте хвастаться! – сказал Маллако с некоторым нетерпением. – Если нам и вправду остается несколько часов, то разве есть способ занять их лучше, чем умная беседа? Обрисуйте мне вашу схему, и я определю свое отношение к ней. Признаться, пока я несильно встревожен. Вы всегда были растяпой. Чего вы добились для Аберкромби, Бошама, Картрайта, миссис Эллеркер? Кому из них стало лучше из-за вашего заступничества? Разве вы навредите человеческой породе своей враждебностью? Выкладывайте свой план! Кто знает, вдруг неудача обострила ваш ум? Хотя сомневаюсь…
Я не мог воспротивиться этому вызову. Я был уверен в своем изобретении и предвкушал осмеяние высокомерного доктора. Принцип моей системы был прост, а доктор быстро схватывал суть. Не прошло и нескольких минут, как он уяснил и мою теорию, и ее практическое воплощение. Увы, результат получился совсем не тот, на который я рассчитывал.
– Мой бедный друг, – промолвил он, – это именно то, чего я ждал. Вы упустили одно небольшое обстоятельство, из-за чего ваш прибор ни за что не сработает. В полдень ваши часы взорвутся, а море останется таким же холодным, как прежде.
И он в нескольких простых словах доказал свою правоту. Опустошенный, не смея поднять глаз, я был готов ретироваться.
– Минуточку, – задержал он меня, – еще не все потеряно. До сих пор мы враждовали, но если теперь вы соблаговолите принять мою помощь, то не все ваши занятные надежды рухнут. Пока вы говорили, я не только разгадал изъян вашего устройства, но и придумал, как его устранить. Теперь я без труда соберу приспособление для решения задачи, которую вы ставили перед собой. Вы воображали, что меня огорчит уничтожение мира. Какое неведение! Вы пока что знакомы только с периферией моих возможностей. Отдавая должное нашим специфическим отношениям, я окажу вам услугу и буду с вами гораздо откровеннее.
Вы решили, что мне хочется богатства, власти и славы для самого себя. Неверно. Я всегда был бескорыстен, пренебрегал собственными интересами, преследовал надличностные, абстрактные цели. Вы вообразили, что ненавидите человечество. Да в одном моем мизинце в тысячу раз больше ненависти, чем во всем вашем теле! Бушующее внутри меня пламя ненависти испепелило бы вас в одно мгновение. У вас нет ни сил, ни упорства, ни воли, чтобы жить с такой ненавистью, как моя. Узнай я раньше о способе все погубить, который знаю теперь благодаря вам, разве колебался бы хоть минуту? Моей целью была и остается смерть. На жалких людишках, вызвавших ваше глупое сострадание, я всего лишь тренировался. Меня всегда увлекали более крупные цели. Вы задавались вопросом, зачем я помог Квантоксу. Известно ли вам (уверен, что нет), что я равным образом помогаю его противникам, разрабатывающим средства уничтожения его и его друзей? До вас не дошло (да и как могло дойти при таком убогом воображении?), что меня ведет по жизни жажда мести. И отомстить я должен не тому или другому человечку, а всей подлой породе, к которой по несчастью принадлежу.
Свою цель я осознал очень рано. Мой отец был русским князем, мать – прислугой в лондонской меблирашке. Мой отец бросил ее еще до моего рождения и нанялся официантом в ресторан в Нью-Йорке. Теперь он, кажется, познает гостеприимство тюрьмы Синг-Синг. Впрочем, он мне неинтересен, и я не позаботился проверить источники этих сведений. После его бегства моя мать искала утешения в выпивке. Мое раннее детство было голодным. Едва научившись ходить, я принялся рыться в кучах отбросов и находить хлебные корки, картофельные очистки, все, чем можно было хоть как-то подкрепиться. Моя мать была против и, приходя в себя, запирала меня, а сама шла в пивную. Вернувшись пьяная в дым, она лупила меня до крови, а потом до бесчувствия, чтобы я не драл глотку. Однажды – мне было лет шесть – она во хмелю волочила меня по улице, награждая тумаками. Я пытался увернуться, она потеряла равновесие – и рассталась с жизнью под колесами грузовика.
Мимо проходила женщина с филантропическими наклонностями, она увидела мое одиночество и беспомощность, пожалела, привела меня к себе домой, вымыла и накормила. Беды обострили мой ум, и я очень старался усугубить ее сострадание ко мне. В этом я сильно преуспел. Она не сомневалась, что я хороший мальчуган. Она усыновила меня, дала мне образование. Ценя это, я мирился с невыносимой скукой, на которую она меня обрекала, в виде молитв, посещений церкви, моральных поучений и несносной сентиментальности. Как же мне хотелось развеять ее дурацкий оптимизм какой-нибудь хулиганской выходкой! Но я старательно держал себя в руках. Чтобы доставить ей удовольствие, я ползал на коленях и славил Создателя, хотя недоумевал, чем можно гордиться в таком создании, как я. Ради нее я выражал благодарность, которой не чувствовал, старался быть «хорошим» в ее духе. Наконец, когда мне исполнился 21 год, она оформила завещание, в котором отписывала мне все, чем обладала. После этого, как вы догадываетесь, ее дни были сочтены.
После ее смерти мое финансовое положение укрепилось, но я ни на мгновение не мог забыть свои ранние годы: жестокость матери, бессердечие соседей, голод, отсутствие друзей, беспросветное отчаяние, полное отсутствие надежды; все это, невзирая на последующую удачу, стало самой сутью моего мироощущения. Не свете нет никого, кто не вызывал бы у меня ненависти, никого, кому я не пожелал бы невыносимых мук у меня на глазах. Вы предложили мне картину всего населения земного шара, сходящего с ума от жажды и гибнущего в агонии. Сладостная картина! Будь я способен на благодарность, я бы испытал к вам нечто подобное, даже решил бы, что вы мне друг. Но такие чувства перестали меня посещать лет с шести. Признаюсь, вы мне удобны, но больше этого от меня не ждите.
Ступайте домой, полюбуйтесь безвредным взрывом вашей глупой машинки. И знайте, что я, тот, кого вы тщились превзойти, я, кого вы абсурдным образом сочли хуже вас самого, достигну высочайшего торжества, которое вы готовили для себя. Вы не помешали моим планам, а лишь снабдили меня подсказкой, необходимой для моей окончательной победы. Умирая от жажды, не воображайте, что меня постигли те же муки. Запустив механизм неумолимого разрушения, я умру безболезненно. А вы протянете еще несколько часов, а то и дней, извиваясь в агонии и зная, что это зрелище доставило бы мне радость, если бы я смог его наблюдать.
Во время его прощальной речи мои мысли дали задний ход. Ни во что не верил я так глубоко, как в его злодейство. Но раз он желает уничтожить мир, значит, уничтожение мира – это злодейство. Раньше, представляя себе всеобщую погибель, я наслаждался фантазией о собственном очистительном могуществе. Но если мир погибнет по его воле, то восторжествует одна лишь дьявольская ненависть. Я не мог допустить его торжества! Он говорил – и ненавистный мне мир снова делался прекрасным. Ненависть к человечеству, которой он дышал, во мне была, как я понял теперь, всего лишь приступом безумия. Я твердо решил, что должен нанести ему поражение. Он в это время посмотрел в окно и воскликнул:
– Сколько домов отсюда видно! Уже через несколько дней из каждого с воплями побегут безумцы. Я этого не увижу, но в момент моей смерти перед моим мысленным взором развернется восхитительная панорама!
Говоря это, он стоял ко мне спиной. Я достал револьвер, который захватил на всякий случай.
– Не бывать этому! – произнес я.
Он обернулся со злобным оскалом и получил смертельную пулю. Я обтер револьвер, натянул перчатки, осторожно взял оружие за рукоятку и положил рядом с телом. Потом быстро напечатал на пишущей машинке предсмертную записку самоубийцы. Там было написано: «Оказалось, я не тот железный человек, которым себя мнил. Я согрешил, и меня пожирает раскаяние. Мои замыслы вот-вот рухнут, меня ждут позор и разорение. Мне этого не вынести, и я сам лишаю себя жизни».
После этого я вернулся домой и разрядил свою бесполезную адскую машину, успев не дать произойти жалкому взрыву.
VII
Некоторое время, расправившись с доктором Маллако, я ходил счастливый и беззаботный. Я считал, что от него исходили ядовитые миазмы, распространявшие на окрестности дух преступлений, безумия, отчаяния. Теперь, когда его не стало, снова можно было жить радостно и свободно, преуспевать в своем деле, мирно дружить. Несколько месяцев я спал так, как ни разу не спал с того момента, когда увидел медную табличку доктора Маллако, – без сновидений, подолгу, с пользой для здоровья и настроения. Правда, время от времени меня посещали воспоминания о бедной миссис Эллеркер, влачащей отчаянное одинокое существование в окружении умалишенных. Но я сделал для нее все, что мог, и дальнейшие усилия все равно ничего не принесли бы. Я решил выбросить из головы все мысли о ней.
Я повстречал прелестную умную женщину, сперва привлекшую мое внимание глубокими познаниями в психиатрии. Вот человек, подумал я, который в случае необходимости – дай Бог, чтобы ее не возникло, – разберется в причудливом лабиринте злодейств, куда я по несчастью угодил. После непродолжительного ухаживания я женился на ней и зажил счастливо. Но порой меня все равно посещали странные, тревожные мысли, и даже посреди разговора о повседневных делах на моем лице могла появиться гримаса ужаса.
– В чем дело? – спрашивала жена. – Можно подумать, ты увидел что-то страшное. Не лучше ли все рассказать?
– Нет, – отвечал я, – все в порядке, просто иногда меня посещают неприятные воспоминания.
Но я с тревогой замечал учащение мыслей этого беспокойного свойства и их возрастающую живость. В моем воображении разворачивались дебаты с доктором Маллако, наш спор в последний час его жизни. Бывало, перед моим мысленным взором появлялась его спокойная презрительная физиономия, я видел каждую ее черточку, слышал его пренебрежительный голос: «Думаете, я побежден?» Если это видение настигало меня в кабинете одного, я кричал: «Да будь ты проклят!» Однажды в такой момент меня застала жена и как-то странно посмотрела на меня из дверей.
Эти воображаемые посещения происходили все чаще. «Ты ведь не очень хорошо обошелся с миссис Эллеркер? – слышал я его голос. – Думаешь, к тебе вернулось психическое здоровье?» – шептал он. Начала страдать моя работа, потому что, оставаясь один, я все чаще прокручивал в голове фразы из его воображаемого репертуара: «Замахивался на мироздание, хотел со всем покончить – и во что превратился? В скучного респектабельного джентльмена, каких тьма в Мортлейке! Как ты мог надеяться покончить с моей властью с помощью вульгарного револьвера? Забыл, что моя власть духовная, что она коренится в твоей собственной слабости? Будь ты хотя бы вполовину тем, кем притворялся во время нашего последнего разговора, то признался бы в содеянном. Признание? Нет, гордое оповещение! Ты бы объяснил миру, от какого чудовища его избавил. Ты бы хвастался своим геройством: в храбром единоборстве ты одолел силы зла, сосредоточившиеся в моей порочной персоне. И что же? Ты трусливо помалкиваешь. Ты подбросил миру жалкое фальшивое признание от моего имени, приписав свою презренную слабость мне – мне, единственному из всех людей, не знавшему, что это такое! Думаешь, такое можно простить? Если бы ты хвастался своим подвигом, то я бы счел тебя достойным противником. Но, погрязнув в семейной незначительности, ты вызвал у меня такое презрение, что я, даже оставаясь мертвецом, попросту обязан показать, что способен тебя уничтожить!»
Вот какие речи мне слышались. Сначала я знал, что это только воображение, но со временем поверил в реальность страшного призрака. Мне уже казалось, что он стоит рядом со мной в своем безупречном черном костюме, с гладкими масляными волосами. Однажды, не выдержав, я прошел сквозь него, чтобы убедиться, что это бестелесный призрак, но в тот страшный момент, когда он обволок меня всего, я почувствовал его ледяное дыхание, закричал и чуть не лишился чувств. Жена, найдя меня бледным и дрожащим, испугалась за мое здоровье, но я заверил ее, что дело в речных испарениях, от которых у меня озноб, хотя видел, что она сомневается в моем объяснении. Призрак упорно упрекал меня в сокрытии участия в его смерти, и я все больше укреплялся в мысли, что, если я во всем сознаюсь, он от меня отстанет.
В своих снах я снова и снова видел сцену убийства, только с другим концом. Когда убитый падал к моим ногам, я распахивал окно и кричал во все горло: «Сюда, сюда, все жители Мортлейка! Полюбуйтесь мертвым злодеем! Я – ваш герой-спаситель!» Так завершалась эта сцена в моих снах. Но когда я просыпался, привидение говорило с ухмылкой: «Ха-ха, ты ведь этого не сделал, верно?»
Это становилось невыносимо, от проклятого призрака не было проходу. Прошлой ночью произошло худшее. Сон был так похож на явь, что я проснулся от своего вопля:
– Я это сделал! Это был я!
– Что ты сделал? – спросила спросонья жена.
– Я убил доктора Маллако, – сказал я. – Ты думала, что вышла за скучного ученого, но это не так. Твой муж – человек редкой отваги, решительности и проницательности, недосягаемых для других жителей этого предместья, – прикончил врага рода человеческого. Я убил доктора Маллако и горд этим!
– Тише, успокойся, – сказала жена. – Может, тебе лучше снова уснуть?
Я злился, бушевал, но все без толку. Было видно, что среди прочих ее чувств преобладал страх. Утром я услышал, как она звонит по телефону.
Сейчас, глядя в окно, я вижу у входной двери двух полицейских и видного психиатра, своего давнего знакомого, и понимаю, что меня ждет та же участь, от которой я не сумел уберечь миссис Эллеркер. Впереди у меня только долгие годы одиночества и непонимания. Мрак моего будущего пронзает лишь тоненький лучик света. Раз в год тем из умалишенных обоих полов, кто отличился смирным поведением, разрешается встретиться – под усиленным наблюдением, конечно, – на балу. Раз в год я буду встречать мою ненаглядную миссис Эллеркер, которую напрасно пытался забыть. И, встречаясь, мы будем гадать, появятся ли когда-нибудь на свете другие душевно здоровые люди помимо нас с ней.
Корсиканские страдания мисс Икс
I
Недавно мне довелось побывать у моего доброго друга профессора Эн, чей доклад о докельтском декоративном искусстве в Дании поднял ряд вопросов, которые я счел нужным обсудить. Я застал его, как всегда, в кабинете, но его обычно безмятежное, отмеченное несомненным умом лицо в этот раз было удивительно встревоженным. Книги, которым полагалось громоздиться на ручке кресла, потому что он воображал, что читает их, были в беспорядке разбросаны по полу. Очки, которые он часто искал и находил на собственном носу, без пользы лежали на столе. Трубка, которую он обычно не выпускал изо рта, дымилась в пепельнице, он же понятия не имел, что она находится не на месте. Забыто было привычное глуповатое состояние благосклонной безмятежности, оно сменилось обеспокоенностью, изумлением, даже испугом.
– Боже! – всплеснул я руками. – Что случилось?
– Дело в моей секретарше, мисс Икс. Раньше я не мог нахвалиться на ее уравновешенность, деловитость, хладнокровие, отсутствие эмоций, простительных в ее юном возрасте. Угораздило же меня предоставить ей двухнедельный отдых от трудов по декоративному искусству, а ее саму – избрать местом для своего отдыха Корсику! Когда она вернулась, я сразу заметил: что-то не так. «Чем вы занимались на Корсике? – поинтересовался я и услышал в ответ: – Действительно, чем?..»
II
Секретарши в кабинете не было, и я надеялся, что профессор Эн подробнее расскажет о происшедшей с ним незадаче. Но мне пришлось разочароваться. Он уверил меня, что больше не добился от мисс Икс ни единого слова. Она что-то вспоминала, ее взгляд был полон ужаса, но ничего более определенного он так из нее и не вытянул.
Я счел своим долгом по отношению к бедной девушке, бывшей раньше, как я понял, работящей и добросовестной, попробовать каким-то способом избавить ее от гнетущей тяжести. Мне вспомнилась миссис Менхеннет, дама средних лет и немалых габаритов, некогда мнившая себя, по уверениям ее внуков, красавицей. Как я знал, сама она приходилась внучкой корсиканскому разбойнику, который сделал то, что, увы, нередко происходило на его суровом острове: подверг насилию вполне респектабельную юную леди, и та по истечении положенного срока родила будущего грозного Гормана.
Бывая по роду деятельности в Сити, Горман и там позволял себе выходки, схожие с той, в результате которой он сам появился на свет. Крупные финансисты трепетали при его приближении. Уважаемые банкиры с незапятнанной репутацией начинали бояться тюрьмы. Негоцианты, торговавшие щедрыми дарами Востока, бледнели от мыслей о ночных рейдах таможенников. Все эти беды мог навлечь на них хищный Горман.
Его дочь, миссис Менхеннет, могла быть осведомлена о любых неприятностях на родине своего деда по отцовской линии. Поэтому я напросился к ней на разговор и добился приглашения. В ноябрьских сумерках, в четыре пополудни, я присел за ее чайный столик.
– Что вас сюда привело? – спросила она. – Только не притворяйтесь, что сражены моими чарами, те времена давно прошли. На протяжении десяти лет это соответствовало действительности, еще десять лет я этому верила. Теперь это неправда, я больше не верю. Причина вашего прихода в другом, и я трепещу от нетерпения узнать эту причину.
Эта прямота сбила меня с толку. Я предпочитаю подбираться к занимающему меня предмету по винтовой лестнице, начинать издали, а если приходится сразу подойти к теме вплотную, то как бы запускаю бумеранг: отхожу на немалое расстояние и тем, надеюсь, ввожу слушателя в заблуждение. Но миссис Менхеннет с ходу взяла быка за рога. Она была сама честность, сама прямота и верила в пользу прямого подхода – не иначе, унаследовала эту особенность от деда-корсиканца. Я был вынужден обойтись без уклончивого разглагольствования и сразу выложить причину своего любопытства.
– Миссис Менхеннет, – начал я, – как мне стало известно, в последние недели на Корсике происходят странные события, из-за которых, как я смог лично убедиться, седеют смоляные шевелюры, а юная пружинистая походка наливается старческим свинцом. События эти, судя по достигшим меня слухам, имеют необыкновенное международное значение. Мне остается только гадать, о чем идет речь: очередной ли Наполеон выступил в поход на Москву, новоявленный ли Колумб отплыл с целью открыть неведомый континент. Уверен, в этих диких горах творится что-то очень значительное, там вызревает что-то тайное, темное, опасное, а сокрытие неведомых событий наводит на мысль о преступном заговоре неизвестных, готовых жестоко расправиться с любым, кто случайно или намеренно приподнимет завесу тайны. Вы, миледи, как ни безупречен ваш чайный столик, как ни изящен ваш фарфор, как ни ароматен ваш китайский чай, осведомлены о деятельности вашего досточтимого родителя. Мне известно, что после его кончины вы взяли на себя покровительство над интересами, которые прежде защищал он. Всю жизнь он вдохновлялся примером своего отца, ставшего для него лучом света на пути к стремительному успеху. Возможно, ваши менее проницательные друзья обмануты вашей маской, но я знаю, что его мантию надели вы. Поэтому вы единственная во всем этом холодном и унылом городе, кто способен поведать мне о событиях в том залитом солнцем краю, о темных замыслах, от которых даже в полдень может случиться полное затмение, зреющих в умах благородных потомков старинной знати. Умоляю, поделитесь своими познаниями! На кону стоит жизнь профессора Эн – ну, если не жизнь, то рассудок. Вам хорошо известно, какой это доброжелательный человек, не суровый, как мы с вами, а полный любви и доброты. Это свойство характера не позволяет ему бросить на произвол судьбы работящую секретаршу, мисс Икс, вернувшуюся вчера с Корсики совершенно другим человеком: из жизнерадостной беззаботной девушки она превратилась в морщинистую, усталую, перепуганную каргу, сгорбившуюся от всех тягот мира. Она отказывается объяснить, что с ней произошло, и если мы не выясним правду, то есть все основания опасаться, что непревзойденный гений, стоящий на пороге революционного истолкования докельтского декоративного искусства, рухнет и развалится на куски, как старая колокольня собора Святого Марка в Венеции. Уверен, эта угроза не может не повергать вас в трепет. Умоляю, раскройте в меру своих возможностей страшные тайны вашей прародины!
Миссис Менхеннет слушала меня молча. Я уже умолк, а она упорно не произносила ни звука. В какой-то момент моей прочувственной речи она сильно побледнела и ахнула, но сразу пришла в себя, сложила руки на коленях и укротила сбившееся дыхание.
– Вы сталкиваете меня со страшной дилеммой, – промолвила она наконец. – Если я промолчу, то профессор Эн, не говоря о мисс Икс, лишится рассудка. А если заговорю, то… – Она содрогнулась и снова умолкла.
Я не знал, что дальше предпринять, но тут вошла горничная с сообщением, что у дверей ждет трубочист в полном профессиональном облачении, подрядившийся именно в этот день прочистить дымоход в гостиной.
– Бог мой! – воскликнула она. – Мы с вами болтаем о чепухе, а этот гордый человек, вознамерившийся совершить великие дела, терпеливо ждет за дверью! Это никуда не годится, разговор придется прервать. Скажу напоследок одно: если вам действительно не все равно – только в этом случае! – то вот вам мой совет: навестите генерала Пиша.
III
Генерал Пиш, как все помнят, отличился в Первой мировой войне подвигами при обороне своей родной Польши. Однако Польша впоследствии проявила неблагодарность и принудила его искать убежище в более безопасной стране. Боевая жизнь приучила старика, несмотря на его седины, не искать покоя. Почитатели предлагали ему на выбор виллу в Уортинге, миленькую резиденцию в Челтенхэме, бунгало в горах Цейлона, но ему ничего не подошло. Миссис Менхеннет снабдила его рекомендациями для своих самых буйных корсиканских родичей, и их общество его вдохновило, он опять загорелся, обрел дикую энергию, вдохновлявшую его на прежние подвиги.
Но хотя Корсика большую часть года служила ему духовным и физическим домом, он изредка позволял себе посещать столицы европейских государств к западу от железного занавеса. Там он переговаривался с бывалыми государственными мужами, жадно спрашивавшими его мнение о главных тенденциях текущей политики и внимавшими ему с почтением, соответствующим его возрасту и заслугам. Обратно в горы он возвращался с вестью о том, что Корсика – да, даже Корсика! – способна сыграть немалую роль в грядущих великих событиях.
Как друг миссис Менхеннет он тут же был принят в узком кругу тех, кто в согласии с законом или вопреки ему поддерживал древние традиции свободы, занесенные их предками-гибеллинами из некогда могущественных республик Северной Италии. В глубоких долинах, скрытых горами от взоров обычных туристов, видящих только камни, пастушьи хижины да кривые деревца, он был вхож в старые дворцы, полные средневекового великолепия, старинных доспехов знаменосцев, усыпанного драгоценностями оружия прославленных солдат-наемников. Гордые потомки прежних племенных вождей собирались и пировали в роскошных залах, порой забывая о мудрости, но никогда – об удовольствиях. Правда, даже в беседах с генералом они не раскрывали своих главных тайн; исключений можно было ждать только на самых бурных пиршествах, когда традиционное гостеприимство пересиливало предрассудки, которые при иных обстоятельствах принуждали пировавших осмотрительно помалкивать.
В разгар одной из таких попоек генерал узнал о замысле, родившемся у этих людей и способном потрясти мировые устои, – замысле, с которым они теперь засыпали и просыпались и который преследовал их во снах, часто завершавших их пиры. Проявив юношеский пыл, генерал сделался приверженцем этого замысла со всей горячностью и традиционной бесшабашностью родовитого польского шляхтича. Он благодарил Бога за то, что в почтенные лета, когда большинству остается пробавляться одними воспоминаниями, ему был дарован шанс на приключения и подвиги. Лунными ночами он скакал по горам верхом на несравненном скакуне, чья родословная внушала благоговейный трепет в каждом уголке его родного острова. Вдохновленный ночным ветром, генерал грезил о возрождении былой славы и о блестящем триумфе, в котором, разогретые его неуемной страстью, сольются прошлое и будущее.
На момент загадочного предложения миссис Менхеннет генерал как раз наносил очередной визит престарелым западным политикам. В прошлом он питал анахроническое предубеждение против Западного полушария, но, узнав от друзей-островитян, что Колумб был корсиканцем, стал лучше относиться к последствиям несколько поспешной деятельности этого авантюриста. Брать с Колумба пример он не мог, опасаясь, что сегодня такому путешествию непременно припишут торгашеские намерения, зато регулярно наносил визиты американскому послу при Сент-Джеймском дворе, у которого всегда были припасены для него послания от президента. Уинстона Черчилля он, конечно, тоже посещал, однако министров-социалистов категорически не признавал.
Как-то после ужина с Черчиллем мне повезло застать его в старинном клубе, почетным членом которого он являлся. Он угостил меня рюмкой токайского урожая до 1914 года, трофея от столкновения с прославленным венгерским полководцем, павшим на поле брани и не услышавшим эпитафии своей отваге. Поблагодарив его за это проявление благосклонности, тем более ценное, что даже венгерские полководцы ходили в бой всего с несколькими бутылками токайского, привязанными к седлам, я постепенно перевел разговор на Корсику.
– Как я слышал, – начал я, – ныне остров уже не тот, что прежде. Говорят, образование превратило разбойников в банковских клерков, а их стилеты – в авторучки. Старинные вендетты, говорят, живут теперь не больше одного-двух поколений. До меня доходили даже кошмарные рассказы о брачных союзах между семьями, враждовавшими друг с другом по восемьсот лет, причем на свадьбах не бывало кровопролития! Если все это правда, я готов рыдать. Всегда надеялся, если повезет, сменить свою уютную виллу в Болхэме на грозовой пик в каком-нибудь древнем романтическом краю. Но если и там романтика мертва, на что же мне надеяться в старости? Может, вы меня утешите? Может, что-то еще осталось? Может, призрак Фарината дель Уберти все еще поглядывает с презрением вниз из грозовой тучи, разводя руками молнии? Я пришел к вам именно за таким утешением, ибо без него я не смогу влачить бремя тоскливых лет.
Генерал внимал мне с пылающим взором, стискивая кулаки и сжимая челюсти. Едва дождавшись конца моей речи, он разразился собственной:
– Молодой человек! Не будь вы другом миссис Менхеннет, я заставил бы вас выплюнуть благородный нектар, который позволил вкусить. Должен ли я думать, что вы водитесь с подлецами? Такие могут завестись среди портового отребья, есть они и среди людей голубой крови, уронивших себя участием в бюрократии: о них еще можно сказать то, что говорите вы. Но они не настоящие корсиканцы, а выродки-французы, жестикулирующие итальянцы, каталонцы – пожиратели жаб. Истинная корсиканская порода остается прежней. Корсиканец живет свободной жизнью, и эмиссаров правительства, вздумавших к ним сунуться, ждет смерть. Нет, друг мой, на счастливой родине геройства все по-прежнему в порядке.
Я вскочил и обеими руками стиснул его правую ладонь.
– О, счастливый день возрождения моей веры, посрамления моих сомнений! Увидеть бы собственными глазами благородную породу мужчин, которую вы так рельефно представили моему воображению! Если бы вы согласились познакомить меня хотя бы с одним из них, моя жизнь стала бы куда счастливее, и мне стало бы проще переносить бесцветность Болхэма.
– Мой юный друг, – промолвил он, – ваше благородное воодушевление делает вам честь. Оно заставляет меня исполнить вашу просьбу, как это ни сложно. Вы познакомитесь с одним из великолепных потомков золотого века человечества. Я знаю, что один из их числа – он, кстати, мой ближайший друг, я говорю о графе Аспрамонте, – спустится с гор в Аяччо за партией новых седел для своих жеребцов. Сами понимаете, эти седла изготовлены специально для него человеком, ведающим беговыми конюшнями герцога Эшби-де-ла-Зуче. Герцог – мой давний друг, иногда он милостиво позволяет приобретать у него седла для подарка людям, достойным столь бесценного подношения. Если вы окажетесь в Аяччо на следующей неделе, то я могу дать вам письмо к графу Аспрамонте, более досягаемому там, чем среди горных круч.
Я со слезами восторга на глазах поблагодарил его за доброту и, низко склонившись, поцеловал ему руку. Прощался я с ним с сердцем, полным печали из-за того, что нашу низменную землю покидает истинное благородство.
IV
Последовав совету генерала Пиша, я на следующей неделе прилетел в Аяччо и стал справляться в главных отелях города о графе Аспрамонте. В третьем по счету отеле мне сообщили, что он снимает здесь императорские апартаменты, однако, будучи человеком деловым, не имеет времени на неизвестных посетителей. Манера служащих отеля подсказала мне, что граф пользуется их глубочайшим уважением. Я вручил хозяину гостиницы письмо генерала Пиша, рекомендовавшее меня, и попросил как можно быстрее передать его графу, который, как я слышал, в данный момент был занят делами в городе.
Отель был набит обыкновенными шумными туристами, не достойными внимания. Все еще полный грез, навеянных беседой с генералом Пишем, я счел обстановку странноватой и нисколько меня не устраивающей. В таких декорациях осуществление мечты польского шляхтича было немыслимо. Тем не менее деваться мне было некуда, оставалось надеяться на лучшее.
После сытного обеда, ничем не отличавшегося от того, чем потчуют в лучших отелях Лондона, Нью-Йорка, Калькутты и Йоханнесбурга, я в унынии посидел в холле, как вдруг заметил ладного молодого джентльмена, которого в первый момент принял за преуспевающего американца. У него был квадратный подбородок, твердая поступь и скупая речь – все признаки как раз этой влиятельной общественной категории. Велико же было мое удивление, когда он обратился ко мне на британском английском, пусть и с континентальным акцентом. Еще больше я был удивлен, когда он назвался графом Аспрамонте.
– Идемте в гостиную моих апартаментов, там мы сможем побеседовать без помех, не то что в этой толчее.
Его апартаменты были слишком, кричаще роскошными. Он налил мне виски с содовой, угостил толстой сигарой.
– Вижу, вы – друг чудесного старого джентльмена, генерала Пиша, – начал он беседу. – Надеюсь, вам не приходит в голову над ним потешаться. Для нас, обитателей современного мира, этот соблазн велик, но я сопротивляюсь ему из почтения к его сединам. Мы с вами, дорогой сэр, – продолжил он, – живем в современном мире, и нам ни к чему воспоминания и надежды, ставшие неуместными в эпоху, когда царствует доллар. Лично я, даже обитая в несколько отсталой части мира и испытывая порой побуждение покориться традиции и затеряться в туманных мечтаниях, подобно нашему достойному генералу, решил приспособиться к требованиям нашего времени. Главная цель моей жизни – доллары, причем не только для меня самого, но и для моего острова. Вы можете спросить, как этому способствует мой образ жизни. Из уважения к вашей дружбе с генералом я считаю себя обязанным удовлетворить ваше любопытство.
Горы, где я обитаю, – идеальное место для разведения и тренировки скаковых лошадей. Арабские скакуны, собранные моим отцом в его неустанных путешествиях, послужили основой для выведения породы несравненной силы и стремительности. Герцог Эшби-де-ла-Зуче, как вы, конечно, осведомлены, преследует заманчивую цель – стать владельцем победителей трех подряд дерби. Добиться этого он надеется с моей помощью. Этой цели служит почти все его огромное состояние. Поскольку дерби притягивают американских туристов, ему разрешено вычесть расходы на конный завод из облагаемого налогами дохода. Так он сохраняет богатство, которое многие наши аристократы утратили. Герцог – не единственный мой клиент. Лучшие мои лошади переправляются в Виргинию и Австралию. Моих лошадей знают всюду, где процветает этот королевский спорт. Благодаря им я содержу свой дворец и помогаю выживать нашим суровым корсиканским горцам.
Как вы увидите, я, в отличие от генерала Пиша, человек реальности. Я чаще думаю об обменном курсе доллара, чем о предках-гибеллинах, уделяю больше внимания конским барышникам, чем самым живописным реликтам аристократизма. Тем не менее дома из необходимости сохранять уважение местного населения я вынужден соблюдать традиции. Вполне возможно, что, навестив меня в замке, вы сумеете разгадать загадку, которая, как следует из письма генерала, стала поводом для вашего приезда. Я отправлюсь туда верхом послезавтра. Путь неблизкий, выехать придется ни свет ни заря, но если вы постараетесь явиться в шесть утра, я с радостью предоставлю вам лошадь, и вы станете моим спутником.
Допив к этому моменту виски и докурив сигару, я с преувеличенным пылом поблагодарил его за гостеприимство и принял приглашение.
V
Наутро, вернее ночью – еще не рассвело, – я уже стоял перед дверью графской гостиницы. Я зябко ежился на пронизывающем ветру и опасался снегопада. Но граф, оседлавший великолепного скакуна, был, похоже, нечувствителен к метеоусловиям. Второго коня, почти такого же великолепного, слуга подвел мне. Мы тронулись в путь. Городские улочки остались позади, и извилистыми тропами, отыскать которые мог только человек опытный, мы стали подниматься все выше в горы – сначала лесом, потом по голым каменистым склонам, поросшим травой.
Граф, казалось, не ведал ни усталости, ни голода, ни жажды. Весь нескончаемый день, прерываясь только на привалах, чтобы пожевать на пару со мной сухой хлеб и финики и хлебнуть ледяной ключевой воды, он развлекал меня умной и насыщенной беседой о всякой всячине, демонстрируя обширные познания о деловом мире и знакомство с несчетными богачами, находившими досуг, чтобы интересоваться лошадьми. Однако о деле, приведшем меня на Корсику, он не обмолвился ни словом. Как ни красив был пейзаж и как ни велик был мой интерес к анекдотам на разных языках, мной постепенно овладело нетерпение.
– Дорогой граф, – не выдержал я, – мне не выразить, как я вам признателен за эту возможность посетить ваше родовое гнездо! Но я вынужден напомнить, что цель моего приезда – спасти жизнь или по меньшей мере рассудок друга, к которому я питаю высочайшее уважение. Вы заставляете меня усомниться, что я выполню эту задачу, сопровождая вас в этом долгом пути.
– Понимаю ваше нетерпение, – ответил он, – но, видите ли, при всем моем стремлении приспособиться к современному миру, в этих горах я не могу ускорить темп жизни, складывавшийся веками. Обещаю, к ночи вы приблизитесь к вашей цели. Пока что это все, что я могу сказать, так как это не моя тайна.
Мне пришлось довольствоваться этими загадочными речами.
На закате мы достигли его замка. Он был возведен на крутой скале, и любому знатоку архитектуры было бы понятно, что весь он, до последней маленькой детали, восходит к тринадцатому веку. Миновав подъемный мост, мы через готические ворота въехали в просторный внутренний двор. Конюх взял наших коней под уздцы, а граф повел меня в широкий холл, а оттуда через узкую дверь в комнату, где мне предстояло ночевать. Почти все помещение занимали внушительная кровать под балдахином и громоздкая резная мебель. Из окна открывался захватывающий вид на бесчисленные извилистые ущелья, за которыми поблескивало море.
– Надеюсь, – промолвил он, – вам будет не слишком неудобно в этой несколько устаревшей обстановке.
– Напротив, удобнее не бывает! – заверил я его, впечатленный треском огромных, осыпанных искрами бревен в глубоком, как пещера, очаге.
Граф предупредил, что ужин подадут через час, а после ужина, если все будет хорошо, я смогу заняться своими расспросами.
После ужина, вернее пира, он отвел меня обратно в мою комнату и сообщил:
– Теперь я познакомлю вас со старым слугой, который за долгие годы службы в этом доме превратился в хранителя всех его тайн. Не сомневаюсь, что он сможет помочь в решении вашей задачи.
Он позвонил в колокольчик и вызвал сенешаля. Вскоре перед нами предстал седой скрученный ревматизмом старик, многое, судя по его скорбному виду, переживший на своем веку.
– Этот человек, – молвил хозяин, – поведает вам все, что можно поведать, живя здесь. – С этими словами он удалился.
– Старик, – начал я, – не знаю, сохранил ли ты в твои лета живость ума. Признаться, я удивлен, что граф адресовал меня к тебе. Я полагал, что достоин иметь дело со своей ровней, а не с прислугой в старческом маразме.
Но пока я это выговаривал, с моим визави происходила странная перемена. Старик вдруг забыл про ревматизм и распрямился. Росту в нем оказалось все шесть футов три дюйма; сорвав с головы седой парик, он предъявил пышную угольно-черную шевелюру; сбросив свой древний плащ, ослепил меня облачением флорентийского вельможи, современника замка. Положив руку на эфес шпаги, он сверкнул глазами.
– Молодой человек, – прогрохотал он, – если бы вас привез сюда не граф, в чьем благоразумии я не имею оснований сомневаться, я бы немедля заточил вас в крепостную башню за дерзость и неспособность почуять голубую кровь под бренным покровом.
– Сэр, – отвечал я с должным подобострастием, – соблаговолите простить мне заблуждение, в которое, как я догадываюсь, вы с графом намеренно меня ввели. Если вы примете мои смиренные извинения, то я буду счастлив услышать, в чьем присутствии имею честь находиться.
– Сэр, – был его ответ, – я, так и быть, сочту вашу речь исправлением прежней оплошности, и вы узнаете, кто я такой. Герцог Эрмоаколле, к вашим услугам! Граф – моя правая рука и во всем мне повинуется. Вот только в эти грустные времена не обойтись без змеиной мудрости. Он предстал перед вами бизнесменом, приспособившимся к нынешним обстоятельствам и клянущим с некоей целью знать и ее предназначение, которое нас с ним вдохновляет. Сам я решил предстать перед вами с искаженной внешностью, чтобы оценить ваш характер. Вы выдержали испытание, и теперь я поделюсь с вами тем немногим, чем вправе поделиться, касательно той беды, что ворвалась в жизнь вашего недостойного ученого друга.
В ответ на эти его слова я разразился пространной и выразительной речью о профессоре и его трудах, о мисс Икс и ее юной непорочности, об обязанности, взваленной на мои слабые плечи нашей дружбой. Он молча меня выслушал и сказал:
– Я могу сделать для вас только одно. Могу – и сделаю. – И, вооружившись огромным гусиным пером, он начертал на широком пергаменте такие слова: «Мисс Икс, отныне вы освобождены от части данного вами обета. Расскажите все подателю этой записки и профессору. А затем действуйте». И он изобразил под запиской прихотливый росчерк. – Вот и все, что я могу для вас сделать, мой друг.
Я поблагодарил его и церемонно пожелал доброй ночи.
Спал я неважно. Завывал ветер, падал снег, погас камин. Я беспокойно ворочался на подушке. Когда меня наконец сморил сон, странные видения стали донимать меня еще сильнее, чем бессонница. Зарю я встретил совершенно разбитый. Отыскав графа, я поведал ему о происшедшем.
– Как вы понимаете, – закончил я рассказ, – из-за переданной мне записки я обязан без промедления вернуться в Англию.
Еще раз поблагодарив его за гостеприимство, я запрыгнул на того же жеребца, на котором приехал в замок, и, сопровождаемый конюхом, получившим указание помочь мне найти дорогу, медленно потащился сквозь метель и ураган вниз, в тихую гавань Аяччо. На следующий день я возвратился в Англию.
VI
В первое утро возвращения я явился к профессору Эн домой и застал его в унынии: декоративное искусство было забыто, мисс Икс отсутствовала.
– Как же тяжело видеть вас в этом печальном состоянии, старый друг! Я старался вам помочь и только вчера вечером вернулся с Корсики. Там мне не слишком повезло, но и не сказать, чтобы я потерпел неудачу. Я привез записку – не для вас, для мисс Икс. Не могу сказать, принесет ли эта записка облегчение, но мой долг – вручить ее мисс Икс. Можете устроить так, чтобы я увиделся с ней при вас? Вручить записку надо в вашем присутствии.
– Это можно, – сказал профессор.
Он вызвал свою престарелую экономку, и та со скорбным видом пришла выслушать поручение.
– Найдите мисс Икс, – велел он ей, – и срочно потребуйте, чтобы она пришла. Никакие отговорки не принимаются.
Экономка удалилась, и мы с профессором погрузились в угрюмое молчание. Часа через два она вернулась и рассказала, что мисс Икс впала в летаргию и не встает, однако вызов к профессору Эн слегка ее оживил, и она обещала не заставить профессора ждать. Лишь только экономка все это сообщила, появилась сама мисс Икс – бледная, в смятении, с диким взглядом и какими-то безжизненными движениями.
– Мисс Икс, – обратился к ней я, – мой долг – не знаю пока еще, скорбный или радостный, – состоит в том, чтобы передать вам это послание от человека, которого вы, кажется, знаете. – И я отдал ей пергамент. Она тут же ожила, жадно схватила свиток, пробежала содержание записки глазами.
– Увы, – промолвила она, – это не отсрочка, на которую я уповала. Причина печали не устранена, но теперь, по крайней мере, можно приоткрыть покров загадочности. Рассказ будет долгим, но, когда я закончу, вы пожалеете, что это все, потому что дальше начнется ужас.
Профессор, видя, что она вот-вот лишится чувств, заставил ее выпить бренди, потом усадил ее и меня за стол и спокойно приказал:
– Начинайте, мисс Икс.
VII
– Оказавшись на Корсике, – повела она рассказ, – кажется, это было давным-давно, в другой жизни, – я была радостной и беззаботной, не помышляла ни о чем, кроме легких увеселений, подобающих моему возрасту, об удовольствиях от солнца и новых пейзажей. Корсика сразу меня заворожила. Я отправлялась на длительные прогулки в горы, с каждым днем забираясь все дальше. На золотом октябрьском солнышке листья в лесу горели всеми цветами радуги. И вот я вышла на тропу, выведшую меня из леса на голые скалы.
К своему бесконечному удивлению, на вершине горы я увидела большой замок. Меня разобрало любопытство – а как иначе? Но день уже клонился к закату, и приближаться к удивительному строению было поздно. Назавтра я запаслась всем необходимым и выступила с утра пораньше, решив сделать все, чтобы проникнуть в тайну этого реликта былых времен. Я забиралась все выше и выше, наслаждаясь восхитительным осенним воздухом. По пути я не встретила ни души, вокруг замка тоже не было заметно признаков жизни, словно это был чертог Спящей красавицы.
Любопытство – пагубная страсть, обнаруженная еще нашей праматерью, – вело меня вперед. Бродя вокруг стен с бойницами, я гадала, как мне проникнуть внутрь. Поиски долго оставались бесплодными – дорого бы я дала, чтобы так ничего и не найти! Но злодейка-судьба решила по-своему: я набрела на дверь, толкнула ее, и она распахнулась… Я попала на темный заброшенный двор. Привыкнув к сумраку, увидела на противоположной стороне двора открытую дверь. Подкравшись к ней на цыпочках, я заглянула за нее. То, что я увидела, заставило меня сначала ахнуть, а потом зажать ладонью рот, чтобы сдержать крик удивления.
Посреди просторного зала, за длинным деревянным столом восседали важные мужчины – старики, люди средних лет и молодежь, все как один решительного вида, несомненно рожденные для великих дел. «Кто они такие?» – подумала я. Вы не удивитесь, услышав, что у меня не было сил уйти и что, стоя за дверью, я внимала каждому их слову. То был первый мой грех в день, когда мне предстояло достичь невообразимых глубин порока.
Сначала я ничего толком не могла разобрать, хотя видела, что обсуждается нечто очень важное. Но постепенно, привыкнув к своеобразию их речи, я стала их понимать, и с каждым их словом мое изумление росло.
«Все согласны с назначенным днем?» – спросил председательствующий.
«Все!» – ответил ему хор голосов.
«Так тому и быть. Четверг, 15 ноября. Все согласны выполнить свои задачи?»
«Все!»
«Коли так, я повторю выводы, к которым мы пришли, а потом поставлю их на голосование. Все мы, собравшиеся, согласились, что род человеческий поражен страшной болезнью, имя которой «правительство». Мы договорились, что, если человеку суждено вернуться в счастливые времена Гомера, которые в некоторой степени все еще с нами на этом чудесном острове, то для этого надо перво-наперво покончить с правительством. Далее, мы договорились, что сделать это можно единственным способом – расправившись с правителями. Все присутствующие числом двадцать один согласны, что в мире насчитывается двадцать одно крупное государство. В четверг, 15 ноября, каждый из нас прикончит главу одного из двадцати одного государства. Я в качестве председателя обладаю привилегией выбрать самого опасного и трудного из всех. Это, конечно… Впрочем, произносить его имя излишне. Наша работа не закончится после того, как все они получат по заслугам. Есть еще один человек, до того низкий, настолько приверженный лжи, так упорно ее сеющий, что тоже должен умереть. Но поскольку он не может сравниться высотой положения с другими жертвами, я поручаю расправиться с ним моему оруженосцу. Как вы все понимаете, я говорю о профессоре Эн, беззастенчиво продвигающем в научных журналах и в своем фундаментальном труде, близком, как доносит наша секретная служба, к завершению, гипотезу, будто докельтское декоративное искусство распространилось по всей Европе из Литвы, а не с Корсики, как доподлинно известно всем нам. Он тоже должен умереть».
– Тут, – продолжила мисс Икс, не сумев сдержать рыдание, – я дала волю чувствам. Мысль, что мой бесценный господин скоро уйдет из жизни, так меня расстроила, что я вскрикнула. Все обернулись на дверь. Подручному председателя, назначенному исполнителем казни профессора Эн, было приказано проверить, кто кричал. Я не успела сбежать, он схватил меня и поставил перед двадцатью одним убийцей. Председатель впился в меня взглядом и нахмурился.
«Кто ты такая, зачем в дерзости своей помешала нашему тайному совету? Что заставило тебя подслушать самое судьбоносное решение, когда-либо принимавшееся людьми? Отвечай, есть ли основание не придать тебя немедленной смерти, которую ты более чем заслужила своим безрассудством?»
Тут мисс Икс заколебалась, и в ее повествовании о небывалом совете в замке вышел сбой. Кое-как взяв себя в руки, она продолжила:
– Я достигла самой тяжелой части своего рассказа. Как же милостиво Провидение, скрывающее от нас будущее! Разве знала моя матушка, произведя меня на свет и радуясь моему первому крику, о предназначении новорожденной? Да и я сама, поступая на секретарские курсы, пребывала в неведении. Могла ли я помыслить, что издательство «Питман» – путь на виселицу? Но я не стану зря роптать. Что сделано, то сделано, и теперь мне остается без лишних оправданий открыть вам неприглядную правду.
Пока председательствующий грозил мне неминуемой смертью, я любовалась напоследок залитыми солнцем окрестностями, вспоминала свою беззаботную юность, думала о том предчувствии счастья, которое только этим утром сопровождало мое восхождение в безлюдные горы. В моем воображении шумел летний ливень, потрескивал зимним вечером камин, зеленел весенний луг, пылала красками осени березовая роща. Я думала о золотых годах невинного детства, к которым уже не будет возврата. Мелькнула и робкая мысль о глазах, в которых мне почудился свет любви… Сколько всего может пронестись в голове в предсмертное мгновение! «Как чудесна жизнь! – думала я. – Я молода, лучшее еще впереди. Нужно ли отказываться от еще не познанных услад, от непрожитых печалей, от самой сути человеческого существования? Нет уж, это чересчур! Если существует хоть какой-то способ продлить мою жизнь, я им воспользуюсь, пусть даже ценой бесчестья». И, приняв это нашептанное сатаной позорное решение, я ответила со всем спокойствием, на которое была способна:
«Досточтимый господин, я помешала вашему собранию ненамеренно. Пересекая роковой двор, я не вынашивала недобрых мыслей. Если вы сохраните мне жизнь, я исполню любую вашу волю. Призываю вас к милосердию! Вы не можете желать преждевременной смерти молодой прекрасной девушке! Диктуйте мне вашу волю – я ее исполню!»
В его обращенном на меня взоре не было ни капли дружелюбия, но мне показалось, что он колеблется. Повернувшись к остальным двадцати, он прогремел:
«Ну, что скажете? Свершим правосудие или приговорим ее к испытанию? Голосуем!»
Десять голосов были отданы за торжество правосудия, десять – за испытание.
«Мой голос решающий, – сказал он. – Я за испытание! – И, снова повернувшись ко мне, продолжил: – Живи! Но я выставляю условия, которые сейчас изложу. Первым делом ты поклянешься ни словом, ни делом, ни намеком, ни по случайности не выдать того, что здесь слышала. Повторяй за мной клятву: КЛЯНУСЬ ЗАРАТУСТРОЙ И БОРОДОЙ ПРОРОКА, УРИЕНОМ, ПЕЙМОНОМ, ЭГНИНОМ И АМАЙМОНОМ, МАРБУЭЛЕМ, АЗИЭЛЕМ, БАРБИЭЛЕМ, МЕФИСТОФЕЛЕМ И АПАДИЭЛЕМ, ДИРАХИЭЛЕМ, АМНОДИЭЛЕМ, АМУДИЭЛЕМ, ТАГРИЭЛЕМ, ГЕЛИЭЛЕМ И РЕКИЭЛЕМ, ВСЕМИ ГНУСНЫМИ ДУХАМИ АДА, ЧТО НИКОГДА НЕ ВЫДАМ И НИКАК, НИ ЗА ЧТО НИ ЕДИНЫМ НАМЕКОМ НЕ ОТКРОЮ ТОГО, ЧТО ВИДЕЛА И СЛЫШАЛА В ЭТОМ ЗАЛЕ».
Я торжественно повторила за ним обет, и он объяснил, что это только первая часть испытания и что я, вероятно, еще не уяснила его во всей полноте. Каждое из упомянутых мной адских имен обладает собственной силой причинять мучения. Он, наделенный магической властью, способен управлять действиями этих демонов. Если я нарушу клятву, то каждый из них будет вечно причинять мне те муки, в которых он мастер. Но и это, продолжил он, лишь мельчайшая часть положенного мне наказания.
«Теперь, – сказал он, – я перехожу к самому серьезному». Повернувшись к своему подручному, он потребовал кубок. Тот, зная ритуал, вручил кубок председателю.
«В этой чаше, – снова обратился ко мне председатель, – бычья кровь. Ты должна осушить ее одним глотком. Не сможешь – обернешься коровой и будешь обречена на вечное преследование быком, чью кровь не смогла испить должным образом».
Я приняла у него чашу, сделала глубокий вдох, зажмурилась и проглотила мерзкое пойло.
«Две трети испытания позади, – сказал он. – Последняя часть несколько обременительнее. Как ты, на свою беду, подслушала, 15 ноября падут главы двадцати одного государства. Мы также решили, что слава нашей нации требует смерти профессора Эн. Но мы посчитали нарушением симметрии исполнение этого справедливого приговора одним из нас. Прежде чем обнаружить тебя, мы возложили эту обязанность на моего оруженосца. Но твое появление, во многих смыслах неуместное, в одном отношении оказалось кстати, и было бы неразумно и неартистично этим пренебречь. Эту казнь мы поручим осуществить не моему оруженосцу, а тебе. Ты поклянешься сделать это той же самой клятвой, которую произнесла только что».
«О, господин, не накладывайте на меня столь страшное бремя! – взмолилась я. – Вам многое ведомо, но не уверена, что вам известно также и то, что я, выполняя свой долг и получая от этого удовольствие, помогала профессору Эн в его исследованиях. Он был ко мне неизменно добр. Возможно, его взгляды в области декоративного искусства совсем не такие, как бы вам хотелось. Если бы вы разрешили мне продолжить служить ему, как раньше, я бы постепенно увела его с ошибочного пути. Я оказываю кое-какое влияние на ход его мыслей. Годы тесного сотрудничества научили меня направлять его в ту или иную сторону, и я уверена, что если вы предоставите мне время, то я сумею доказать ему правоту вашего суждения о роли Корсики в докельтском декоративном искусстве. Убить этого доброго человека, которого я считала другом и который не без оснований относился так же по-дружески ко мне, было бы не менее ужасно, чем злодейства, которые вы принудили меня поименовать. Сомневаюсь, что стоит сохранять себе жизнь такой ценой».
«Моя добрая девочка, боюсь, ты все еще в плену иллюзий, – сказал он. – Клятва, произнесенная тобой, – грех и богохульство, она навечно отдала тебя во власть злодеев, и лишь я, владея волшебством, способен их сдержать. Теперь тебе некуда деваться. Либо исполнение моей воли, либо муки».
Я рыдала, умоляла его смилостивиться, ползала на коленях, обнимала его ноги. «Сжальтесь!» – повторяла я. Но он был непоколебим. «Я все сказал. Если не хочешь вечных страданий от пятнадцати пыток, которым тебя будут по очереди подвергать пятнадцать перечисленных тобой чертей, то повтори за мной, перечислив те же страшные имена, клятву, что пятнадцатого числа следующего месяца ты умертвишь профессора Эн».
– Увы, дорогой профессор, мне нет прощения: в слабости своей я дала и вторую клятву. Пятнадцатое число стремительно близится, и я не вижу, как избежать в этот день жутких последствий моей страшной клятвы. Вырвавшись из замка, я не перестаю терзаться угрызениями совести. Я бы с радостью приняла пятнадцать мук от пятнадцати палачей из преисподней, если бы могла убедить себя, что таков мой долг. Но я дала обет, и честь требует его исполнения. Какой грех страшнее – убить хорошего человека, которого я боготворю, или изменить долгу чести? Я не знаю. Только вы, дорогой профессор, способны в мудрости своей избавить меня от сомнений и указать мне прямой путь верности долгу.
VIII
По мере того как рассказ мисс Икс близился к кульминации, профессор, как ни странно, становился все спокойнее и даже радостнее. С добродушной улыбкой, сложив руки на груди, он ответил на ее призыв совершенно беззаботным тоном:
– Дорогая моя, ничто в целом свете не превосходит важностью долг чести. Если это в вашей власти, исполните свой обет. Мой труд завершен, а оставшиеся мне годы – если они остались – вряд ли ознаменуются чем-то важным. Поэтому я со всей настойчивостью призываю вас исполнить ваш долг, если есть такая возможность. С другой стороны, я буду сожалеть, и очень горько, если вследствие своей верности долгу вы закончите жизнь на виселице. От исполнения клятвы вас может спасти одно-единственное – физическая невозможность. Вы не сможете убить мертвеца. – С этими словами он запустил большой и указательный пальцы в жилетный карман, а потом легким жестом поднес их ко рту. Мгновение – и он был мертв.
– О, дорогой мой господин, – вскричала мисс Икс, падая на его безжизненное тело, – как мне теперь жить на свете, как встречать рассвет, когда вы пожертвовали ради меня жизнью? Как вынести стыд, который будут порождать в моей душе каждый час света, каждый момент кажущегося счастья? Нет, этой муки я не вынесу. – С этими словами она нащупала тот же самый карман, повторила профессорский жест и тут же угасла.
– Я жил не зря, – сказал я, – потому что стал свидетелем двух благородных смертей.
Но потом я вспомнил, что моя задача не выполнена, ведь, как ни недостойны правители мира, их все же следовало уберечь от гибели. И я неохотно направил свои стопы в Скотленд-Ярд.
Инфраредиоскоп
I
Леди Миллисента Пинтерк, известная друзьям как «прекрасная Миллисента», сидела одна в кресле своего роскошного будуара. Все кресла и диваны здесь были мягкие, электрический свет был приглушен абажуром, на столике стояла большая кукла в пышной юбке. Стены были завешаны акварелями, все с подписью «Миллисента», живописующими романтические пейзажи Альп и итальянских берегов Средиземного моря, греческих островов и Тенерифе. Держа в руках еще одну акварель, она внимательно ее разглядывала. Наконец она потянулась одной рукой к кукле и нажала на кнопку. На животе у куклы открылась дверца, внутри находился телефон. Леди Миллисента взяла трубку. При всей грациозности ее движений, на этот раз им была присуща некоторая резкость, свидетельствовавшая о принятом важном решении. Она набрала номер и произнесла: «Мне надо поговорить с сэром Бульбасом».
Сэр Бульбас Фрутигер был известен всему миру как издатель газеты «Дейли лайтнинг» и один из самых могущественных людей страны, независимо от того, какая партия номинально находилась у власти. От внешнего мира его защищали секретарь и шестеро секретарей секретаря. Мало кто отваживался звонить ему по телефону, и из этих отважных дозванивался лишь крайне малый процент. Его труды были слишком важны, чтобы их прерывать. Его задачей было сохранять непоколебимое спокойствие и при этом придумывать способы лишать покоя своих читателей. Но даже непреодолимая стена обороны не помешала ему сразу ответить на звонок леди Миллисенты.
– Да, леди Миллисента?
– Все готово, – сказала она и положила трубку.
II
Этим лаконичным словам предшествовала большая работа. Муж прекрасной Миллисенты, сэр Теофилус Пинтерк, был одним из лидеров мира финансов, невероятно богатым человеком, однако, к своему огорчению, имел соперников в мире, где хотел властвовать. Существовали люди равные ему и имевшие шансы на победу в финансовом соревновании. Он же, будучи человеком наполеоновского склада, искал способы добиться несомненного, непререкаемого превосходства. Он сознавал, что в современном мире власть основывалась не только на финансах. Он насчитывал три других ее источника: пресса, реклама и еще один, который людям его профессии не следовало недооценивать, – наука. Он решил, что для победы требуется сочетание этих четырех сил, и с этой целью создал тайный Комитет четырех.
Председателем был он сам. Следующим по власти и достоинству был сэр Бульбас Фрутигер, чей лозунг гласил: «Дай публике то, чего она хочет». Этому лозунгу была подчинена вся его обширная газетная империя. Третьим номером в комитете был сэр Публиус Харпер, заправлявший миром рекламы. Все, кто в вынужденной и обманчиво временной праздности ездил вверх-вниз по эскалаторам, воображали, что люди, чью рекламу они читают от нечего делать, соперничают друг с другом, но это было заблуждением: вся реклама управлялась из центра, где восседал сэр Публиус Харпер. Если он хотел прославить ту или иную зубную пасту, она вязла у всех на ушах; если хотел погубить ее неизвестностью, то так и происходило, при всех ее достоинствах. Он решал, вознести или уничтожить тех неразумных, кто брался производить товары потребления, вместо того чтобы спросить, стоит ли этим заняться. Сэр Публиус относился к сэру Бульбасу с добродушным пренебрежением и считал его лозунг слишком скромным. Его собственный лозунг гласил: «Заставь публику хотеть того, что ты ей даешь». В этом деле он был удивительно успешен. Отвратительные вина сбывались в неимоверных количествах, поскольку люди, которых он убеждал, что они восхитительны, не осмеливались усомниться в его словах. Морские курорты с гадкими отелями, неопрятными пансионами и почти всегда, кроме периода высоких приливов, грязным морем завоевали усилиями сэра Публиуса репутацию мест, где хорошо дышится, где захватывающе штормит и дуют оздоровительные атлантические ветра. Политические партии на всеобщих выборах использовали изобретения его сотрудников, доступные всем (кроме коммунистов), кто способен платить объявленную цену. Ни один разбирающийся в жизни здравомыслящий человек не вздумал бы запустить кампанию без поддержки сэра Публиуса.
Сэр Бульбас и сэр Публиус, часто появлявшиеся на людях вместе, внешне были очень разными. Оба были bons viveurs[2], но, в отличие от сэра Бульбаса, соответствовавшего этому определению веселого толстяка, сэр Публиус был худ и с виду аскетичен. Любой, не знавший, кто он такой, принял бы его за мистика, тонущего в видениях. Его портрет ни за что не украсил бы рекламу еды или напитка. Тем не менее, когда они вместе садились за стол – а такое случалось часто, – чтобы за трапезой спланировать новый захват или перемену политики, согласие достигалось быстро. Они понимали ход мыслей и амбиции друг друга, сознавали необходимость взаимопомощи для успеха. Сэр Публиус напоминал сэру Бульбасу, насколько тот обязан ему за залепившие все заборы плакаты с физиономией идиота, не читающего «Дейли лайтнинг», на которые презрительно косятся толпы хорошо одетых мужчин и красивых женщин, не выпускающих эту великую газету из рук. На это сэр Бульбас отвечал: «Да, но где бы вы были, если бы не моя борьба за владение канадскими лесами? Куда бы вы девались без бумаги и где бы ее раздобыли, если бы не моя гениальная политика в этом заморском доминионе?» Этим дружеским спорам они предавались до десерта, но потом серьезнели, и их творческое сотрудничество приносило богатые плоды.
Пендрейк Маркл, четвертый член тайного синдиката, отличался от первых трех. Сэр Бульбас и сэр Публиус сомневались, стоит ли его принимать, но их убедил сэр Теофиол. Их сомнения были небезосновательны. Во-первых, в отличие от них троих, он не был посвящен в рыцарское достоинство. Существовали и более важные возражения. Никто не отрицал его ума, но авторитетные люди сомневались в его надежности. Его имя нельзя было использовать в проспекте, призванном соблазнить провинциальных инвесторов. И все же сэр Теофил настоял на том, чтобы оказать ему доверие из-за его исключительной плодовитости по части необычных изобретений, а также потому, что, в отличие от других ученых, он не был отягощен излишней совестливостью.
У него имелся зуб на все человечество, понятный тем, кто знал историю его жизни. Его отец, нонконформистский священник образцовой набожности, объяснил маленькому сыну правоту пророка Елисея, проклявшего детей, которых вследствие этого проклятия разодрали медведицы. Отец был во всех смыслах реликтом минувшей эпохи. Во всех его домашних разговорах на первом месте стояли соблюдение субботы и вера в богосозданность каждого слова Ветхого и Нового Заветов. Однажды в недобрый момент умный не по годам сынок спросил отца, можно ли быть хорошим христианином, не веря, что заяц жует жвачку. За это он удостоился такой немилосердной трепки, что неделю не мог сидеть. Но даже это тщательное воспитание не заставило его исполнить отцовское желание и стать, по его примеру, нонконформистским священником. Он заслужил стипендию и с отличием окончил университет. Первый же его научный результат был украден профессором, получившим за это медаль Королевского научного общества. Когда он попытался пожаловаться, ему никто не поверил, хуже того, его сочли злобным клеветником. Этот неудачный опыт и подозрения, которые он навлек на себя своим протестом, сделали его циником и мизантропом. Теперь он старался не допускать кражи своих изобретений и открытий. Ходили неприятные, но неподтвержденные слухи о его махинациях с патентами. На чем они основывались, так и осталось непонятно. Тем не менее у него образовалось достаточно денег на создание собственной лаборатории, куда не было хода соперникам. Постепенно, нехотя его результаты начинали признавать. Наконец правительство предложило ему применить свои таланты на ниве совершенствования бактериологического оружия. Он отказался, выдвинув странное, по всеобщему мнению, суждение, что совершенно не разбирается в бактериологии. Существовало, правда, подозрение, что действительной причиной была его ненависть ко всем силам организованного общества, от премьер-министра до простого патрульного полицейского.
Весь научный мир терпеть его не мог, но мало кто осмеливался на него нападать из-за его бессовестной манеры спорить, превращая противника в дурака. Единственным на свете объектом его любви была его лаборатория. На беду, приобретение оборудования ввело его в серьезные расходы, и над ним уже нависла угроза лишиться лаборатории за долги. Тогда к нему и обратился сэр Теофил, предложив спасение от разорения в обмен на помощь в качестве четвертого члена тайного синдиката.
На первом заседании синдиката сэр Теофил изложил свой замысел и попросил остальных высказаться о том, как его можно осуществить. Возможно, сказал он, вчетвером они добьются полного господства над миром – нет, не только над отдельными его частями, не только над Западной Европой или над Западной Европой и Америкой, но и над миром по ту сторону железного занавеса. Если они правильно употребят свое мастерство и возможности, перед ними ничто не устоит.
– Все, что требуется, – заявил он во вступительной речи, – это по-настоящему плодотворная идея. Поставлять идеи будет задачей Маркла. Я профинансирую хорошую идею, Харпер ее прорекламирует, а Фрутигер разожжет у общества ненависть к ее противникам. Возможно, Марклу потребуется некоторое время, чтобы выдвинуть такую идею, которую остальные сочтут пригодной для развития. Поэтому я предлагаю сделать недельный перерыв. По истечении этого времени наука, уверен, будет готова утвердиться в качестве одной из четырех преобладающих в обществе сил. – И, кивнув Марклу, он закрыл заседание.
Когда члены синдиката встретились по прошествии недели, сэр Теофил, улыбаясь Марклу, молвил:
– Ну, как, Маркл, что скажет наука?
Маркл откашлялся и произнес речь:
– Сэр Теофил, сэр Бульбас и сэр Публиус, целую неделю я ломал голову над схемой, заказанной во время нашей прошлой встречи. Я перебирал и отвергал разные варианты. Общество запугано ядерной энергией, и я быстро решил, что эта тема не годится. К тому же к ней очень пристрастны правительства, и все, что мы предприняли бы в этом направлении, столкнулось бы, скорее всего, с его сопротивлением. Потом я стал думать о бактериологии. Можно было бы, к примеру, заразить всех глав государств водобоязнью. Правда, неясно, какую прибыль мы могли бы из этого извлечь, к тому же кто-то из них мог бы нас покусать еще до диагностирования его болезни. Дальше я стал думать о спутнике Земли, который совершал бы один виток раз в трое суток и был бы запрограммирован на пальбу по Кремлю каждый раз, когда он пролетал бы мимо него. Но это – проект для правительств, а мы должны находиться над схваткой, нам не следует занимать сторону в конфликте между Востоком и Западом. Наше дело – добиться для себя выигрыша при любом развитии событий. Поэтому я отбросил любые схемы, требующие отказа от нейтралитета.
Но есть одна схема, против которой, в отличие от других, трудно возражать. В последние годы идет много разговоров об инфракрасной фотографии. Публика невежественна в этом предмете, как и в любом другом, и я не вижу причин, почему бы нам не использовать ее невежество. Предлагаю изобрести машину под названием «инфраредиоскоп», которая (так мы станем уверять) будет фотографировать при помощи инфракрасных лучей, которых не обнаружить другими способами. Устройство будет капризное, способное сломаться в неумелых руках. Мы проследим, чтобы это происходило всякий раз, когда оно будет попадать к людям, которых мы не можем контролировать. Мы сами будем решать, что оно будет видеть, и, полагаю, сможем совместными усилиями заставить мир видеть то, что нужно нам. Если вы одобрите мой проект, я сконструирую машину. Как ее использовать, пусть решают сэр Бульбас и сэр Публиус.
Оба джентльмена внимательно выслушали предложение Пендрейка Маркла. Оба с воодушевлением ухватились за его идеи, разглядев заманчивые перспективы для применения своих способностей.
– Я знаю, что должна обнаружить эта машина, – заявил сэр Бульбас. – Тайное вторжение марсиан! Это ужасные существа, чья невидимая армия непременно одолела бы землян, если бы не наша машина. Все мои газеты станут кричать о неминуемой гибели. Машину купят миллионы! Сэр Теофил сколотит величайшее состояние, каким когда-либо владел человек. Мои газеты превзойдут тиражами все остальные и вскоре станут единственными в целом мире. Но роль моего друга Публиуса в этой кампании будет не менее важной. Он облепит все заборы плакатами с жуткими монстрами и подписью: «Хотите, чтобы ЭТО вас изгнало?» Большими буками на щитах вдоль всех главных дорог, на всех станциях, в самых заметных местах будет написано: «Земляне, настало время принять решение. Поднимайтесь миллионами! Не бойтесь космической опасности. Отвага принесет вам победу, как всегда бывало со времен Адама. Покупайте инфраредиоскоп и будьте во всеоружии!»
Тут вмешался сэр Теофил.
– План хорош, – признал он. – Требуется одно: чтобы марсианин на картинке был достаточно пугающим и отталкивающим. Все вы знаете леди Миллисенту, но она знакома вам, скорее, с приятной стороны. Я, ее муж, обладаю привилегией знать ее воображения, скрытые от большинства людей. Как вам известно, она умело пишет акварелью. Пусть изобразит акварелью нашего марсианина, а мы сделаем его фотографии основой нашей кампании.
Остальные пребывали в недоумении. На их взгляд, леди Миллисента была мягковатой и даже глуповатой, совершенно непригодной для участия в такой неумолимой кампании. После споров решили дать ей попробовать, и, если ее картина выйдет достаточно устрашающей и устроит Маркла, сэру Бульбасу сообщат, что для запуска кампании все готово.
Вернувшись домой с этого важнейшего совещания, сэр Теофил принялся объяснять прекрасной Миллисенте, что ему требуется. Он не распространялся об общих аспектах кампании, придерживаясь принципа не откровенничать с женщинами. Он просто сказал, что ему нужны изображения страшных фантастических существ, которые он использует для дела, далекого от ее понимания.
Леди Миллисента была значительно моложе сэра Теофила. Она вышла из хорошей провинциальной семьи, знававшей лучшие времена. Ее отец, обедневший граф, владел роскошным елизаветинским особняком и любил его с преданностью, унаследованной у прежних поколений его хозяев. Продажа родового гнезда какому-нибудь богатому аргентинцу казалась неизбежной, и от этой перспективы у него разрывалось сердце. Дочь, обожавшая отца, решила использовать свою сногсшибательную красоту для того, чтобы он мирно дожил свои дни. Все мужчины поголовно были от нее без ума. Сэр Теофил оказался богатейшим среди ее обожателей, и она выбрала его, назначив цену – содержание для ее отца, что избавило бы его от всяких финансовых забот. Сэр Теофил был ей приятен; он, в свою очередь, боготворил ее и удовлетворял любое ее желание. О любви к нему речи не шло; пока никто не задел ее сердца. Но она считала своим долгом платить послушанием за бесконечную доброту к ней.
Просьба изобразить акварелью чудище показалась ей немного странной, но она привыкла, что он совершает непостижимые поступки, и не имела ни малейшего желания вникать в его деловые замыслы. Леди Миллисента просто взялась за работу. Сэр зашел довольно далеко: сказал ей, что картина нужна для демонстрации нового прибора под названием «инфраредиоскоп». После нескольких неудачных попыток у нее получилось нечто с телом жука, но длиной футов в шесть, с семью лохматыми лапами, человеческим лицом, совершенно лысой головой, глазами навыкате и застывшей ухмылкой. Собственно, картин было две. На первой мужчина, смотревший в инфраредиоскоп, видел это чудище, на второй он в ужасе ронял прибор, а чудище, видя, что за ним наблюдают, выпрямлялось на своей седьмой лапе, а шестью другими душило беднягу в волосатых объятиях. По указанию сэра Теофила она показала оба произведения Марклу. Тот признал их годными. После его ухода она и сказала сэру Бульбасу по телефону роковые слова.
III
Стоило сэру Бульбасу это услышать, как пришел в движение весь огромный аппарат, управляемый синдикатом. Сэр Теофил в несчетных цехах по всему миру запустил производство инфраредиоскопа, простого механизма со множеством издававших жужжание колесиков, не способного никому ничего показать. Сэр Бульбас заполнил свои газеты статьями о чудесах науки, дружно намекавшими на инфракрасный спектр. В некоторых содержались достоверные сведения от уважаемых ученых, другие были чистым плодом воображения. Сэр Публиус повсюду развесил плакаты: «Грядет появление инфраредиоскопа! Не упустите шанс увидеть невидимые чудеса мира!» На других было написано: «Что такое инфраредиоскоп? Газеты Харпера дадут ответ. Не упустите шанс проникнуть в неведомое!»
Когда было произведено достаточное количество инфраредиоскопов, леди Миллисента сообщила, что при помощи такого инструмента она увидела чудище на двери своей спальни. Естественно, ее осадили интервьюеры из всех газет сэра Бульбаса; дело вызвало такой острый интерес, что их примеру последовали другие газеты. По наущению мужа она лепетала именно то, что требовалось по плану синдиката. Одновременно инфраредиоскопы раздали видным общественным деятелям, о которых сэр Теофил знал от своей секретной службы, что они испытывают финансовые трудности. Каждому посулили по тысяче фунтов за согласие заявить, что они тоже видели ужасных существ. Агентство сэра Публиуса всюду демонстрировало две картины леди Миллисенты, призывая: «Не выпускайте инфраредиоскоп из рук! Он не только позволяет увидеть и защищает!»
Разумеется, сбыт инфраредиоскопов сразу подскочил до нескольких тысяч штук, а мир захлестнула волна страха. Пендрейк Маркл изобрел новый прибор, пока что не покидавший стен его лаборатории. Прибор доказывал, что чудища происходят с Марса. Другие ученые завидовали славе Маркла; самый ярый из его соперников изобрел прибор, читавший мысли чудищ, и утверждал, что при помощи своего изобретения выяснил, что они – авангард марсиан, затевающих уничтожение человечества.
Вначале первые владельцы инфраредиоскопов жаловались, что ничего не видят через свои приборы, но их жалобы газеты сэра Бульбаса, естественно, не публиковали; тем временем всемирная паника достигла таких масштабов, что любого, рискнувшего заикнуться, что он не может обнаружить присутствие марсиан, объявляли теперь предателем и пособником марсиан. После линчевания нескольких тысяч человек остальные смекнули, что безопаснее попридержать язык; немногих упрямцев интернировали. Волна ужаса приобрела такую высоту, что многие, прежде считавшиеся безвредными, теперь вызывали тяжкие подозрения. Любой, кто по неосторожности восхищался планетой Марс в ночном небе, немедленно подпадал под подозрение. Интернировали всех астрономов, специализировавшихся на Марсе. Те из них, кто доказывал, что жизни на Марсе нет, поплатились длительными тюремными сроками.
Тем не менее оставались люди, которые на ранних стадиях паники сохраняли дружеские чувства к Марсу. Император Абиссинии объявил, что внимательное изучение изображения выявляет близкое сходство марсианина со львом Иудеи, а значит, он хорош, а не плох. Тибетцы утверждали, что, судя по древним книгам, марсианин – Бодхисатва, явившийся избавить их от ига безбожников китайцев. Перуанские индейцы возродили культ Солнца и указывали, что коль скоро блеск Марса – это отражение солнечных лучей, то поклоняться следует и ему. В ответ на угрозу, что марсиане могут устроить бойню, они напоминали, что поклонение Солнцу никогда не обходилось без человеческих жертвоприношений, а посему верующим не следует роптать. Анархисты доказывали, что марсиане разгонят все правительства и принесут землянам благоденствие. Пацифисты призывали встречать марсиан с любовью, потому что сила любви сотрет с их лиц ухмылку.
Какое-то время эти группы, насчитывавшие немало членов, жили спокойно. Но потом спокойствие осталось в прошлом. В коммунистическом мире развернулась антимарсианская кампания. Этого добился синдикат, обратившись вначале к западным ученым, известным дружеским отношением к советскому правительству, и честно рассказав им об истоках кампании. Им было сказано, что страх перед марсианами может послужить примирению Востока и Запада. Других ученых удалось убедить, что война Востока и Запада может кончиться поражением Востока, потому коммунисты и сопротивляются развязыванию Третьей мировой войны. И если страх перед марсианами приведет к примирению Востока и Запада, то всем правительствам, и восточным, и западным, следует верить в марсианское вторжение. Разве они не реалисты? И разве это не самый настоящий реализм? Не тот самый синтез, которого требует диалектический материализм? Ученые согласились не открывать советскому правительству глаза на то, что все это обман. Ради его же блага они обязались поддерживать у него веру в этот заговор, затеянный гнусными капиталистами в гнусных капиталистических целях, но при этом не забывать об интересах человечества и рассчитывать на лучшее, а именно что, когда обман будет разоблачен, гнев народов бросит весь мир в объятия Москвы. Убежденные этими доводами, ученые сообщили Москве о страшной опасности уничтожения человечества и о том, что считать марсиан коммунистами нет оснований. Вняв доказательствам, Москва, поколебавшись, решила присоединиться к антимарсианской кампании Запада.
С этого момента с абиссинцами, тибетцами, перуанцами, анархистами и пацифистами было покончено. Одних перебили, других приговорили к принудительным работам, третьи покаялись, и за совсем короткое время всякое сопротивление великой антимарсианской кампании было подавлено.
Однако одного страху перед марсианами было мало. Никуда не делся страх перед предателями в собственных рядах. На специальной сессии Организации Объединенных Наций было решено организовать пропаганду и рекламу. Крепло ощущение, что требуется особое слово, которое противопоставило бы обитателей Земли населению других планет. Слово «земной» не подходило, потому что альтернативой ему было, конечно, слово «небесный». «Наземный» – тоже, из-за слова «звездный». Наконец после пространных речей – особенно отличились латиноамериканцы – остановились на слове «землянин». ООН сформировала комитет по борьбе с враждебной землянам деятельностью, который начал всемирный политический террор. Решено было также, что сессия ООН будет непрерывной, пока длится кризис, и подчиняющейся постоянному главе. Из числа престарелых государственных мужей выбрали президента, полного достоинства и опыта, покончившего с участием в политических распрях и подготовленного двумя мировыми войнами к новой, еще более страшной войне, казавшейся теперь неизбежной. Не ударив в грязь лицом, тот сказал в своем вступительном обращении:
– Друзья, жители Земли, земляне, единые, как никогда! Я обращаюсь к вам сейчас не так, как раньше, не во имя мира во всем мире, а во имя гораздо более величественной цели – цели сохранения человечества с его ценностями, радостями и бедами, надеждами и страхами, цели защиты человеческой жизни от адской угрозы, от нападения со страшным оружием, о котором нас предупредило, счастлив сказать, поразительное искусство наших ученых, показавших нам, что может быть открыто при помощи инфраредиации, чудо-приборов, продемонстрировавших нам отталкивающих, страшных чудовищ-невидимок, ползающих по нашим домам, отравляющих нас, наши мысли, готовых уничтожить стержень нашей нравственности, низвести нас до уровня даже не зверей, ведь звери тоже земляне, а марсиан – что может быть хуже? Нет ничего хуже во всех языках нашей возлюбленной Земли! Призываю вас, братья, встать плечом к плечу в этой великой борьбе с подлым вторжением чудовищ, нелюдей, которым останется одно – убраться туда, откуда пришли! – И он сел, ловя ртом воздух.
Аплодисменты не смолкали целых пять минут. Следующим оратором был представитель Соединенных Штатов.
– Сограждане, жители Земли, – начал он, – те, кому не повезло быть принужденным общественным долгом изучать чудовищную планету, против злобных замыслов которой мы вынуждены сражаться, знают, что ее поверхность испещрена странными прямыми штрихами, известными астрономам под названием «каналы». Эти штрихи, как должно быть понятно любому, изучающему экономику, могут быть только продуктами тоталитаризма. Поэтому у нас есть право, право высочайшей научной обоснованности, верить, что эти захватчики несут угрозу не только нам самим, но и самому образу жизни, установленному нашими предками около двухсот лет назад, который всегда, вплоть до возникновения нынешней опасности, порождал единство – единство, которому грозит определенная держава, назвать которую сейчас было бы неуместно. Возможно, человек представляет собой всего лишь промежуточную стадию в эволюции жизни в космосе, но есть один-единственный закон, которому космос всегда будет следовать, божественный закон вечного прогресса. Этот закон, сограждане-земляне, опирается на свободное предпринимательство – бессмертное наследие, обретенное человеком благодаря Западу. Должно быть, свободное предпринимательство давно испустило дух на Красной планете, ныне угрожающей нам, ибо наблюдаемые нами каналы появились там не вчера. Не только во имя Человека, но и во имя свободного предпринимательства я призываю Ассамблею к самоотверженности, к самозабвенной борьбе. Я с надеждой взываю к чувству самосохранения всех объединившихся здесь наций!
К единству призывал не только Запад. Как только сел представитель Соединенных Штатов, слово взял представитель Советского Союза Гроуловский.
– Настало время не говорить, а драться! – сказал он. – Но если бы мне пришлось говорить, то я опроверг бы два момента в только что прозвучавшей речи. Астрономия – русская наука. Иногда ее изучают и в других странах, но советская эрудиция показала всю недостаточность и подражательность теорий этих ученых. Примером служат слова о каналах на мерзкой планете, которую я брезгую называть. Великий астроном Лукупский убедительно доказал, что каналы вырыли частные предприятия и что их развитие было спровоцировано конкуренцией. Но сейчас не время об этом размышлять. Сейчас время действовать. Когда нападение будет отражено, выяснится, что мир объединился и что в разгаре борьбы тоталитаризм волей-неволей распространился на весь мир.
Возникли опасения, что вновь обретенное единство великих держав может не выдержать напряженных споров. Индия, Парагвай и Исландия постарались остудить страсти, а примирительные слова Республики Андорра позволили делегатам разойтись с ощущением гармонии, порожденной незнанием чувств друг друга. Прежде чем распуститься, Ассамблея провозгласила мир во всем мире и единение вооруженных сил по всей планете. Была высказана надежда, что главный удар марсиан будет нанесен уже после объединения армий. А пока, несмотря на все приготовления, на гармонию, на видимость уверенности, все сердца наполнились страхом; спокойны были только члены синдиката и их подручные.
IV
Однако и в обстановке всеобщей паники оставались люди, полные сомнений, но помалкивавшие из осторожности. Члены правительств знали, что сами они никогда не видели марсианских чудовищ, их секретари тоже это знали, но разгул страха вынуждал их держать свои сомнения при себе, ведь признание в скепсисе вело к потере власти, а то и к суду Линча. Деловые конкуренты сэра Теофила, сэра Бульбаса и сэра Публиуса, естественно, завидовали их колоссальному успеху и стремились найти способ их низвержения. Газета «Дейли фандер» была прежде почти такой же влиятельной, как «Дейли лайтнинг», но в разгар кампании первую было почти не слышно. Ее издатель скрежетал зубами, но, будучи человеком осторожным, тянул время, зная, что, пойдя против всеобщей истерии, ничего не заработаешь. Ученые, никогда не любившие Пендрейка Маркла и не привыкшие ему доверять, не могли не возмущаться, когда его провозгласили величайшим ученым всех времен. Многие из них разобрали инфраредиоскоп на винтики и поняли, что это подделка, но, опасаясь за свою шкуру, сочли за благо прикусить языки.
Тем не менее среди них нашелся юнец, невосприимчивый к гласу благоразумия. Звали его Томас Шовелпенни, и многие в Англии относились к нему с подозрением, поскольку его дедом был немец Шиммельпфенниг, поменявший фамилию в Первую мировую войну. Томас был спокойным студентом, совершенно чуждым великих дел, невеждой в политике и в экономике и разбирался только в физике. Бедность не позволяла ему обзавестись инфраредиоскопом, поэтому самостоятельно он не мог убедиться в том, что прибор – подделка. Люди, сделавшие это открытие, держали язык за зубами и не позволяли себе откровенности даже в подпитии. Но Томас Шовелпенни не мог не обратить внимания на странности в показаниях аппаратуры, и эти странности навели его на сугубо научные сомнения, как ни недоумевала эта невинная душа относительно цели, которую преследуют изобретатели подобных мифов.
Скромник и человек примерного поведения, он имел друга, которого ценил за проницательность, хоть и осуждал за привычки, которые в своей благонамеренности никак не мог одобрить. Друг этот, носивший имя Верити Хогг-Покус, был вечно пьян и не вылезал из пабов. Считалось, что он должен где-то ночевать, но он никому не позволял узнать правду, состоявшую в том, что он снимал комнату, где помещалась одна кровать, в самых отвратительных лондонских трущобах. Обладатель яркого журналистского таланта, он, сталкиваясь с безденежьем, на время неохотно трезвел и писал такие острые, такие кусачие статьи, что органы печати, гонявшиеся за подобными материалами, не могли не принять их к публикации. Более приличные газеты были для него, конечно, закрыты, ибо их не устраивала его откровенность. Он разбирался во всех политических хитросплетениях, но не знал, как извлечь из этого прибыль. Он перебрал множество рабочих мест, но отовсюду изгонялся, потому что не скрывал от начальства свои находки – сор, который кто-то тщательно заметал под ковер. От неосторожности или по причине остатков нравственности он ни разу ничего не заработал, шантажируя тех, о ком узнавал компрометирующие сведения. Вместо этого он в подпитии сообщал их случайным знакомым в непритязательных барах.
Делясь с ним своим недоумением, Шовелпенни сказал:
– Похоже, что вся эта история высосана из пальца, но мне непонятно, как это работает и какой цели служит. Возможно, ты, так хорошо разбирающийся в чужих секретах, поможешь мне понять, что происходит.
Хогг-Покус, цинично наблюдавший за ростом всеобщей истерии и состояния сэра Теофила, был рад и польщен.
– Ты, – ответил он, – именно тот, кто мне нужен. У меня нет сомнений, что нам морочат голову, только не забывай, что говорить об этом опасно. Возможно, вместе – ты со своим знанием науки и я со своим знанием политики – мы сумеем проникнуть в тайну. Но поскольку говорить опасно, а я, выпив, становлюсь говорлив, тебе придется запереть меня у себя дома и снабдить достаточным количеством выпивки, чтобы я не взбунтовался во временном заключении.
Шовелпенни понравилось это предложение, но он был ограничен в средствах и не знал, как обеспечить Хогг-Покуса спиртным на продолжительное время. Тот, впрочем, не всегда обретавшийся на самом дне, в детстве был знаком с леди Миллисентой и теперь сочинил пламенную статью о ее достоинствах и прелестях в десятилетнем возрасте, которую продал в модный журнал за немалые деньги. Их вместе с учительским заработком Шовелпенини должно было при должном тщании и экономии хватить на спиртное на протяжении длительного периода.
Хогг-Покус приступил к систематическому расследованию. Было очевидно, что кампанию начала «Дейли лайтнинг». Зная толк в сплетнях, он не сомневался в тесной связи между этой газетой и сэром Теофилом. Всем было известно, что первой марсианина узрела леди Миллисента и что в научной составляющей всей этой истории был замешан Маркл. В неутомимом мозгу Хогг-Покуса стала складываться первая версия событий, но что-то более определенное было возможно только в том случае, если удастся разговорить осведомленных людей. Хогг-Покус надоумил Шовелпенни напроситься на разговор к леди Миллисенте, стоявшей у истоков первого фото марсианина и явно замешанной во всей афере. Шовелпенни с недоверием отнесся к циничным гипотезам, которыми фонтанировал его друг, но ум ученого подсказал ему правильное начало расследования – предложенную Хогг-Покусом беседу с леди Миллисентой. Он написал ей почтительное письмо, в котором сообщил, что должен увидеться с ней по важному делу. К его удивлению, она согласилась и назначила ему время. Он привел в порядок свою одежду и причесался, желая выглядеть приличнее обычного, после чего отправился на решающую встречу.
V
Горничная пригласила его в будуар леди Миллисенты, где та, как водится, сидела в кресле перед спрятанным в куклу телефоном на столике.
– Итак, мистер Шовелпенни, – начала она, – ваше письмо заставило меня задуматься, что же вам понадобилось со мной обсудить. Я всегда считала вас блестящим ученым, а себя – безмозглой дамочкой, способной похвастаться только мужем-богачом. Но, получив ваше письмо, я дала себе труд познакомиться с вашей карьерой. Целью вашего визита никак не могут быть деньги. – И она мило улыбнулась.
Шовелпенни еще не приходилось встречать женщину, у которой богатство сочеталось бы с приятным нравом, и он смутился от своих неожиданных чувств. «Прекрати! – приказал он себе. – Ты здесь не ради чувств, а чтобы начать важное расследование». Он взял себя в руки и заговорил:
– Леди Миллисента, вместе с остальным человечеством вы, конечно, знаете об охватившем его странном смятении из-за страха перед марсианским вторжением. Если меня верно проинформировали, вы первой увидели марсианина. Как ни трудно мне это произнести, я не могу противиться долгу: у меня есть серьезные сомнения, что вы или кто-то еще видели этих жутких существ и что при помощи инфраредиоскопа можно вообще что-то увидеть. Мне хотелось бы ошибаться, но пока я вынужден заключить, что вы стояли у истоков гигантской мистификации. Я не удивлюсь, если после этих слов вы прикажете силой вывести меня вон и больше никогда меня не впускать. Это было бы естественно в случае вашей невиновности и еще естественнее, если вы виновны. Но если я что-то упустил, если что-то позволяет избежать осуждения такого очаровательного создания, как вы, такого нежного, как заставляет предположить ваша улыбка, и сделать так, чтобы я, забросив науку, поверил своему внутреннему голосу, шепчущему мне, что вы – сама невинность, то, умоляю, откройте мне правду!
Его несомненная искренность и нежелание льстить, как ни принуждал его к лести инстинкт, подействовали на леди Миллисенту так, как никогда не действовали на нее другие ее знакомые. Впервые с тех пор, как она, уехав от отца, вышла за сэра Теофила, ей встретился просто откровенный человек. Попытки жить искусственной жизнью, которые она предпринимала с того момента, как очутилась в особняке сэра Теофила, разом стали ей невыносимы. Она почувствовала, что с нее довольно мира лжи, уловок и бессердечной власти.
– Как же мне ответить, мистер Шовелпенни?.. Одно дело – мой долг перед мужем, другое – долг перед человечеством, третье – долг перед истиной. Где-то я все равно совру. Как решить, который долг должен перевесить?
– Леди Миллисента! – вскричал он. – Вы возродили во мне надежду и вызвали сильнейшее любопытство. Как я вижу, вы живете искусственной жизнью, но при этом, если я не ошибаюсь, в вас осталась естественность, искренность и простота, и это еще может спасти вас от окружающей грязи. Говорите, умоляю! Пусть очистительный огонь правды освободит вашу душу от скверны!
Какое-то время она молчала, а потом ответила твердым голосом:
– Хорошо, я все скажу. Я слишком долго молчала. Я поддалась невероятному злу, не представляя, что делаю, пока не стало поздно. Но вы дарите мне новую надежду: возможно, еще не поздно, возможно, что-то еще удастся спасти, и в любом случае я стану самой собой. Верну свою душу, которую продала, чтобы спасти отца от нищеты. Я знать ничего не знала, когда сэр Теофил сладким голосом, еще льстивее обычного, предложил мне применить мой талант художницы для создания чудовища. Повторяю, в тот роковой момент я ни о чем не подозревала и не догадывалась, для каких кошмарных целей ему понадобилась такая картина. Я сделала то, о чем меня просили, – создала чудовище. Я позволила процитировать мои слова о том, что я его видела, но тогда не знала причины, по которой муж – о, как мне тяжело его так называть! – дал мне это странное поручение. Постепенно, по мере развертывания этой небывалой кампании, меня все больше мучили угрызения совести. Каждый вечер я опускаюсь на колени и молю Господа меня простить, хотя знаю, что прощения не будет, пока я тону в роскоши, которой меня окружил сэр Теофил. Пока я не захочу от всего этого отказаться, моей душе не видать очищения. Ваш приход стал последней каплей. Ваши простые правдивые слова наконец-то указали мне истинный путь. Я все вам расскажу. Вы поймете всю низость женщины, с которой говорите. Я без утайки поведаю вам о своем позоре. Только полностью обнажившись, я смогу вырваться из этой пучины нечистот!
И она все выложила. Говоря, она, вопреки ожиданию, видела в его глазах не отвращение и ужас, а растущее восхищение, ибо в его сердце уже зародилось неведомое ему прежде чувство – любовь. Выслушав ее до конца, он заключил ее в объятия, и она не стала сопротивляться.
– Ах, Миллисента, как же запутана и ужасна человеческая жизнь! Все, что рассказывал Хогг-Покус, оказалось правдой, зато на самом дне всего этого бесстыдства я нахожу вас, все еще способную зажечь факел истины, вас, сознавшуюся во всем, не убоявшись разорения, нахожу товарища, духовного собрата, в существование которого давно отказался верить! Но что теперь делать? Я никак не могу разобраться… Мне нужны сутки на раздумья. По истечении суток я вернусь и сообщу вам свое решение.
Шовелпенни вернулся домой в состоянии умственного и эмоционального смятения, не понимая ни своих чувств, ни мыслей. Хогг-Покус лежал на кровати и пьяно храпел. Его цинизм был бы сейчас вреден, его никак не удалось бы совместить с чувством к Миллисенте, чья красота не позволяла ни слова сказать в ее осуждение. Он поставил у изголовья кровати Хогг-Погуса большую бутылку виски и стакан, зная, что если тому доведется очнуться, то вид и вкус виски сделают свое дело, и он опять забудется.
Ему было трудно определить и разграничить свой общественный и личный долг. Заговорщики были злодеями, действовали из подлых побуждений, не заботясь о том, как это повлияет на участь человечества. Собственная нажива и власть – вот все, к чему они стремились. Средствами достижения цели служили ложь, обман, запугивание. Не станет ли он, смолчав, их сообщником? А если не молчать, если уговорить Миллисенту во всем сознаться – а он знал, что это в его силах, – то что ждет ее? Как поступит с ней муж? Какой будет реакция обожающих ее простофиль по всему миру? Он представил, как толпы втаптывают ее в пыль, со злобными воплями рвут ее на части. Даже вообразить такое было невыносимо; с другой стороны, рассуждал он, если искра благородства, вспыхнувшая в ней во время их разговора, еще не погасла, то разве сможет она и дальше нежиться на мягком ложе из выгодной лжи?
Его мысли приняли иной поворот. Может ли он позволить сэру Теофилу и его сообщникам восторжествовать? В пользу попустительства было немало аргументов. До их заговора Восток и Запад находились на грани войны, и многие боялись самоубийства человечества в бессильной ярости. Теперь же страх перед воображаемой опасностью покончил с реальной угрозой. Кремль и Белый дом, объединившись на почве ненависти к марсианам, стали лучшими друзьями. Мировые армии, ощетинились оружием против мнимого врага, и их малоэффективные вооружения не могли причинить того вреда, для которого предназначались. «Вдруг, – рассуждал он, – разумная человеческая жизнь достижима только через ложь? Что, если людские страсти таковы, что правда останется опасной до скончания времен? Не иначе, я заблуждался, превознося правду. Как видно, сэр Теофил мудрее меня. Подтолкнуть мою любимую Миллисенту к гибели было бы безумием!»
А вот как развивались его мысли дальше: «Рано или поздно обман будет разоблачен. Если разоблачители будут исходить не из любви к истине, как я, значит, они окажутся попросту соперниками сэра Теофила, преследующими не менее зловещие цели. Как они используют свое открытие? Только для разжигания отвращения к всеобщей гармонии на Земле, проистекающей из вранья сэра Теофила. Раз заговор все равно ждет разоблачение, то не лучше ли, чтобы это произошло во имя благородного идеала правды, а не вследствие низменного соперничества и испепеляющей зависти? С другой стороны, кто я такой, чтобы судить? Я не Бог, будущее от меня скрыто. Вокруг тьма, куда бы я ни взглянул, на меня взирает ужас. Не знаю, кого поддержать – злодеев ради благой цели или хороших людей, чьими благими намерениями вымощен путь в ад. Вот с какой кошмарной дилеммой довелось мне столкнуться! Для меня это противоречие неразрешимо».
Сутки просидел он в кресле неподвижно, без еды и питья, разрываясь между взаимоисключающими доводами. И вот назначенный срок истек, наступило время нового свидания с леди Миллисентой. Он с трудом поднялся, глубоко вздохнул и тяжело поплелся к ней в особняк.
Он застал леди Миллисенту в таких же расстроенных чувствах, тоже в ужасе от неразрешимых противоречий. Но в ее мыслях судьбы мира уступали по важности мужу и новой любви – Томасу. Размышлять о политике она не привыкла. Ее мир состоял из людей, чья деятельность приводила к последствиям, превышавшим ее разумение; понять их она даже не пыталась. Зато ей были понятны страсти мужчин и женщин, составлявших ее частный мирок. Истекшие сутки она посвятила размышлениям о достойном восхищения бескорыстии Томаса и бесполезному сожалению, что ей не повезло повстречать такого человека еще до того, как сэр Теофил превратил ее в пленницу своих замыслов. Но было одно занятие, скрасившее ей скуку. Она написала по памяти маленький портрет Томаса и поместила миниатюру в медальон, где в былые времена хранилось изображение ее мужа. Повесив медальон на цепочке себе на шею, она развлекалась тем, что время от времени любовалась лицом человека, которого мечтала назвать своим возлюбленным.
Наконец он вернулся, но поступь его была тяжелой, глаза потухли, голос утратил звонкость. Медленно и удрученно он взял ее руку, а свободной рукой достал из кармана таблетку, которую поспешил проглотить.
– Миллисента, – заговорил он, – я только что принял таблетку, чтобы через несколько минут перестать дышать. Выбор, с которым я столкнулся, оказался слишком трудным. В юности у меня были большие надежды. Я думал, что смогу посвятить жизнь двум богиням-сестрам – правде и человечности. Увы, эти мечты не осуществились. Сослужить службу правде и погубить человечество – или выбрать человечество и повергнуть в прах правду? Что за чудовищный выбор! Разве он оставляет мне шанс выжить? Разве смогу я дышать под солнцем, либо взирающим на бесчисленные трупы, либо заслоненным тучами лжи? Нет, это невозможно. Вы, моя бесценная Миллисента, вы верите в меня, знаете об истинности моей любви, и все же, все же… Что можете вы сделать для истерзанной души, натолкнувшейся на такую дилемму? Увы, ни ваши нежные руки, ни ваши прекрасные глаза, ни то, что вы способны совершить, не избавит меня от горя. Нет, я должен умереть. Но, умирая, я оставляю тем, кто идет за мной, невыносимый выбор между правдой и жизнью. Сам я не знаю, что выбрать. Прощайте, обожаемая Миллисента, я ухожу туда, где измученной душе уже не придется терзаться загадками. Прощайте… – Он крепко обнял ее в последнем приступе страсти.
Леди Миллисента почувствовала, как перестало биться его сердце, и тоже замерла. Придя в себя, она сорвала со своей изящной шеи медальон, открыла его тонкими пальца и достала крошечный портрет. Пылко прижав его к губам, она воскликнула:
– О, благородная душа, великий ум! Пусть ты мертв, пусть губы, которые я напрасно целую, больше не шевелятся, частица тебя осталась жить. Она жива в моей груди. Через меня, моими слабыми силами твое послание обязано дойти до людей!
Произнеся эти слова, она сняла с телефона трубку и позвонила в «Дейли фандер».
VI
За те несколько дней, пока газета «Дейли фандер» предоставляла леди Миллисенте защиту от ярости ее мужа и его приспешников, ее рассказ успел вызвать всеобщее доверие. Все вдруг осмелели и дружно признались, что ничего не видели в инфраредиоскоп. Ужас перед марсианами улетучился так же быстро, как возник. Одновременно ожила вражда Востока и Запада, вылившаяся вскоре в открытую войну.
Противостоящие армии сошлись на широкой равнине. Небо почернело от самолетов, ядерные взрывы повсюду сеяли разрушение. Новые орудия выпускали снаряды, самостоятельно, без людского участия, находившие цели. Но внезапно грохот стих. Самолеты попадали на землю. Прекратила пальбу артиллерия. На дальней периферии сражения журналисты, наблюдавшие за взаимным истреблением с присущим их профессии странным любопытством, обратили внимание на наступившую вдруг тишину. Они не могли взять в толк, что произошло. Потом, осмелев, приблизились к полю недавней битвы. Все воевавшие были мертвы, но не от нанесенных врагом ран, – то была неведомая, новая смерть. Они бросились к телефонам и принялись звонить в свои столицы. В столицах, расположенных вдали от поля битвы, успела прозвучать новость: «Бой остановлен…» Но дальше ничего не пошло. Дойдя до этого места, наборщики упали замертво. Печатные станки остановились. Мир охватил всеобщий мор. Нашествие марсиан произошло.
Эпилог
Автор – профессор идейного воспитания Центрального Марсианского университета
По поручению почитаемого всеми великого героя – я говорю, конечно, о нашем царе, Марсианине Завоевателе – я составил вышеприведенную историю последних дней человеческой расы. Величайший уроженец Марса, поймав некоторых своих подданных на сентиментальном, малодушном отношении к лживым двуногим, заслуживавшим уничтожения нашими отважными соотечественниками, принял мудрое решение прибегнуть ко всем имеющимся источникам знания для правдивого изображения обстоятельств, предшествовавших его победоносной кампании. Ибо по его мнению – и, уверен, каждый читатель с ним согласится, – было бы неправильно позволять таким существам и дальше пачкать своим присутствием наш славный космос.
Вообразима ли более подлая клевета, чем обвинение нас в наличии семи ног? И разве можно простить землян, назвавших милую улыбку, коей мы приветствуем меняющиеся события, застывшей ухмылкой? А что сказать о правительствах, терпящих субъектов, подобных сэру Теофилу? Властолюбие, толкнувшее его на гибельный путь, может отличать царя марсиан, и только его. И разве можно сказать что-либо в защиту свободы дискуссий, продемонстрированной дебатами в ООН? Насколько достойнее живется на нашей планете, где все мысли диктует славный Герой Марса, а всем прочим остается только повиноваться!
Здесь описаны подлинные события. Их удалось с огромным трудом восстановить по обрывкам газет и аудиозаписей, пережившим последнее сражение землян и удар по ним наших храбрых парней. Кое-кого удивят некоторые интимные подробности, но, как выяснилось, сэр Теофил без ведома жены установил диктофон в ее будуаре, благодаря чему нам и стали известны последние слова Шовелпенни.
Каждое истинное марсианское сердце бьется свободнее при мысли, что с мерзкими существами покончено навсегда. С этой восторженной мыслью пожелаем заслуженной победы нашему возлюбленному Царю Марсиан в задуманном им великом походе против других вырожденцев – жителей Венеры!
Да здравствует Царь Марсиан!
Хранители Парнаса
I
В наш век войн и слухов о войнах многие ностальгически озираются на времена непоколебимой, как казалось, стабильности, когда их деды вели вполне беззаботную жизнь. Но непоколебимая стабильность имеет свою цену, и я не уверен, что ее всегда следовало платить. Мой отец, встретивший мое рождение уже стариком, часто рассказывал о прошлом, которое некоторые из нас воображают золотым. Один из его рассказов лучше остальных помог мне примириться с моим временем.
В свою бытность студентом Оксбриджа – как давно это было! – он любил подолгу гулять по сельским тропинкам, некогда окружавшим этот красивый (тогда) город. Его часто обгонял ехавший верхом вместе с дочерью священник. Что-то – он сам не знал что – заставило его к ним приглядеться. У старика было изможденное лицо, на нем застыло горестное и как будто испуганное выражение; то был не страх чего-то определенного, а квинтэссенция страха, страх per se[3]. Даже когда они проезжали мимо, была видна взаимная преданность отца и дочери. Дочери было лет девятнадцать, но вид у нее был совсем не такой, какого ожидаешь в этом возрасте. Располагающим ее облик трудно было назвать, зато обращала на себя внимание суровая решительность и какая-то отчаянная воинственность. Я поневоле гадал, умеет ли она улыбаться, веселится ли когда-нибудь, забывает ли хотя бы изредка о причине несгибаемой целеустремленности, воплощением которой выглядит. После нескольких встреч с этой парой я решил навести справки о пожилом священнике. «Это Повелитель Собак», – ответили мне со смехом. (Это было не имя минойского божества, а прозвище главы старинного колледжа Святого Циникуса, студентов которого дразнили «собаками».) Я спросил собеседника, своего друга, чем вызван его смех, и в ответ услышал: «Ты что же, незнаком с историей этого старого греховодника?» «Нет, – говорю, – да и не похож он на преступника. Что он натворил?» «Ну, – протянул друг, – это старая история… Если хочешь, расскажу». «Хочу, – ответил я, – этот человек вызывает у меня интерес, его дочь тоже. Хочется узнать о нем побольше». Как я узнал потом, эта история была известна в Оксбридже всем, кроме первокурсников. Вот она.
Во времена молодости мистера Брауна стипендиаты должны были иметь сан и не помышлять о браке. В случае везения кто-то из них мог возглавить колледж, в противном случае, чтобы жениться, ему пришлось бы отказаться от стипендии и поселиться при колледже, что сулило семейному человеку чуть ли не бедность. Глава колледжа, предшественник Брауна, дожил до преклонных лет, и все увлеченно гадали, кто его сменит. Наилучшие шансы были у Брауна и у некоего Джонса. У обоих были невесты, оба надеялись на женитьбу и избрание после кончины старика. Тот наконец умер, и соперники заключили рыцарское соглашение – голосовать на выборах следующего главы колледжа друг за друга. С преимуществом в один голос победил Браун. Но голосовавшие за Джонса провели расследование и выяснили, что Браун вопреки соглашению отдал голос за самого себя и тем обеспечил себе избрание. Судебных санкций не последовало, однако члены совета колледжа, включая прежних сторонников Брауна, решили объявить ему жесткий бойкот. Они огласили результат расследования, и к бойкоту присоединился весь университет. Остракизму подвергли и его жену, хотя свидетельства ее нечестности отсутствовали. Их единственная дочь выросла в атмосфере тоски, молчания и одиночества. Мать зачахла и умерла от какой-то болезни, возможно, пустяковой. Я узнал эту историю спустя двадцать лет после тех выборов, и все двадцать лет наказание длилось без намека на послабление.
Я в те дни был молод и не настолько предан моральным принципам, чтобы пытать и пытать провинившегося, не ведая сострадания. Эта история меня потрясла, причем не прегрешением старика, а именно непреклонной жестокостью всего оксбриджского сообщества. Вина старика не вызывала у меня сомнения. За двадцать лет в ней никто не усомнился, и встать одному против этого дружного согласия было невозможно, но я подумал, что жалости достойна хотя бы дочь, если не отец. Как я выяснил, попытки с ней подружиться неизменно наталкивались на ее нежелание общаться с людьми, не признававшими ее отца. Я ломал голову над этой ситуацией, пока не оказались под угрозой мои этические убеждения. Я дошел до того, что усомнился в каре за грехи как в главном долге добродетельного человека. Но моим терзаниям положила конец случайность, неожиданно заставившая меня забыть об общих соображениях и заняться частностями.
II
Во время одной из своих одиноких прогулок я шарахнулся от лошади, несшейся сумасшедшим галопом, а через несколько шагов увидел лежащую у дороги женщину. Подойдя, я узнал дочь затравленного главы колледжа. Потом узнал, что он слегка занемог и остался дома, а она не пожелала отказываться от привычной прогулки верхом, пусть и в одиночестве. На беду, по пути ей попался странствующий цирк лорда Джорджа Сэнджера со слонами, тянувшими огромные фургоны. Лошадиные нервы не выдержали зрелища слонов, лошадь сбросила наездницу и ускакала. Бедняжка была в сознании, но стонала от боли и не могла шелохнуться, потому что сломала ногу. Сначала я не знал, как поступить, но потом увидел запряженную собаками тележку и упросил возницу, ехавшего в Оксбридж, завернуть в больницу и вызвать карету «Скорой помощи». Помощь прибыла через полтора часа, и все это время я очень старался обеспечить пострадавшей удобство и выказать сочувствие. Я не скрыл, что знаю, кто она такая.
Несмотря на отлучение ее отца, я заглянул к ним назавтра и узнал от горничной, что на сломанную ногу наложили гипс и что состояние пострадавшей не вызывает опасений. Я стал регулярно справляться о ее самочувствии и, когда ей полегчало настолько, что она перебралась на диван, спросил, можно ли ее навестить. Сначала она передала с горничной отказ, но когда я дал понять, что готов иметь дело с ее отцом, сменила гнев на милость. Мои отношения с ним остались натянутыми, он ни разу не заговорил со мной о своих бедах. Зато его дочь, сначала робевшая, как дикая птица, постепенно привыкла ко мне и поверила в мое доброе отношение. Со временем я узнал все, что было известно ей с отцом.
По ее словам, отец в молодости был весельчаком и гулякой, иногда позволял себе лишнее, но обладал до того приятным нравом, что ему все прощалось. Он был по уши влюблен и возликовал, когда результат выборов позволил ему жениться на его ненаглядной Милдред. Выборы прошли в самом конце летнего семестра, через пару недель сыграли свадьбу. Ему не нужно было возвращаться в Оксбридж до начала осеннего семестра, и пара провела летние месяцы в безоблачном блаженстве. Милдред еще не бывала в Оксбридже, и он живописал город в восторженных выражениях, расхваливая не только архитектуру, но и приятное (ему) общество. Им представлялось непрекращающееся счастье и всевозможные увеселения. Вскоре стало ясно, что семья ждет счастливого прибавления.
В первый свой вечер в Оксбридже глава колледжа отправился на положенное ему почетное место. Велико же было его изумление, когда его никто не поприветствовал, никто не спросил, как он провел отпуск, никто из членов совета не произнес подобающих вежливых слов о его молодой жене. Он обратился к мистеру А справа от себя, но тот был слишком занят разговором с собственным соседом справа и не расслышал обращения главы колледжа. То же произошло с соседом слева, мистером В. После этого Брауну пришлось молчать на протяжении всего долгого ужина, пока члены совета болтали между собой и смеялись, как будто его не существовало. Невзирая на растущее неудобство и огорчение, он счел, что ритуал требует от него председательства за портвейном в профессорской. Но когда он передавал портвейн, сосед принимал бокал, словно взявшийся ниоткуда; настала очередь второго круга, и не он, а сосед осведомился через его голову, можно ли приступать. Он уже сомневался, что вообще существует, и поспешил домой, к Милдред, чтобы она убедила его своим прикосновением, что он не невидимый призрак, а человек из плоти и крови.
Но стоило ему начать рассказ о своем странном приключении, как на пороге появилась горничная с конвертом, брошенным, по ее словам, в прорезь для писем в двери каким-то незнакомцем. Разорвав конверт, он нашел длинное анонимное письмо, написанное явно измененным почерком. «Тебя отдали под суд и вынесли тебе приговор, – так начиналось письмо. – По закону ты неуязвим, но все дали торжественную клятву, что ты поплатишься за свой грех и что твои муки будут страшными, как если бы ты преступил закон и был наказан». Дальше шли подробности. Говорилось о том, что сначала члены совета колебались, особенно проигравший Джонс: никому не хотелось верить, что один из их числа поступил так дурно. Рассказывалось в письме и о тщательной проверке, убедившей всех сомневавшихся. Завершалось оно строками, полными почти библейского гнева:
Не воображай, что сумеешь нас поколебать своими увертками. Оставь надежду разжалобить нас и вымолить прощение сентиментальными призывами. Пока ты останешься главой колледжа, никто из членов совета не скажет тебе ни единого слова за пределами строгой необходимости. Думаешь, твоя жена не разделит кару? Она заняла место женщины, которой из-за твоего предательства не бывать счастливой невестой Джонса. Пока она будет получать преимущества от твоего греха, ей придется расплачиваться вместе с тобой. На этом оставляем тебя на растерзание твоей нечестивой совести.
Твои невольные коллеги, Суд Справедливости.Прочитав письмо, глава колледжа застыл, как громом пораженный, и не предпринял попыток скрыть его от жены. Наконец, придя в себя, он тяжело на нее уставился.
«Милдред, – заговорил он, – ты этому веришь?»
Она, с трудом встав, пылко отвечала:
«Поверить такому?! Милый Питер, как это могло прийти тебе в голову? Я бы не поверила, даже если бы все черти в аду поклялись по примеру совета вашего дьявольского колледжа, что ни на йоту не сомневаются, будто все так и было».
«Спасибо за эти отважные слова, – произнес он. – Пока они отражают твои мысли, в моей жизни, пусть мне и будет непросто, останется убежище, сулящее человеческое тепло. Пока ты в меня веришь, у меня хватит смелости бороться с этой низкой клеветой. Я не подам в отставку, ведь это выглядело бы как признание вины. Я посвящу себя доказательству истины, и в один прекрасный день она пробьет себе дорогу. Но как же тяжко будет тебе, которой я надеялся даровать счастье, делить жизнь изгоя! Я бы умолял тебя меня бросить, но знаю, что ты откажешься. Будущее тонет во мраке, но, кто знает, вдруг смелость и настойчивость при поддержке твоей любви приведут к счастливому завершению?»
Сначала Питер думал отыскать способ решить загадку. Он писал всем членам совета, торжественно заявляя о своей невиновности и требуя расследования. Большинство игнорировало его письма. Джонс, его соперник, проявлявший как будто чуть меньше враждебности, чем остальные, ответил, что расследование уже имело место, что все сообщили, как голосовали, и что без голоса главы колледжа все голоса разделились поровну. Разоблачительный вывод напрашивался сам собой, дальше расследовать было нечего. Питер обращался к юристам и сыщикам – тщетно: все считали его виноватым и не могли предложить ничего, что ослабило бы подозрение. Миссис Браун избегали наравне с ее мужем, причем к бойкоту присоединились даже немногие подруги ее девичества, жившие в Оксбридже. Рождение дочери, которое при иных обстоятельствах принесло бы радость, только добавило мучений: как таким родителям было облегчить ребенку жизнь? В отчаянии они нарекли ее Кэтрин, боясь, что ее колесуют, как святую Екатерину Александрийскую. Заводить второго ребенка в этом беспросветном мраке они не стали, сочтя это легкомыслием и жестокостью. В те времена, при их убеждениях, это означало прекращение интимных отношений между мужем и женой. Любовь выжила, но совершенно безрадостная.
Шли годы, но улучшения не происходило. Миссис Браун неумолимо чахла и в конце концов умерла. Кэтрин, никогда не слышавшая смеха, уже к пяти годам обрела спокойную, молчаливую неподвижность 80-летней старухи. Отправлять ее в школу было нельзя: другие дети ее затравили бы. Ее учили сменявшие друг друга гувернантки-иностранки, приезжавшие из-за границы в неведении об особой ситуации и увольнявшиеся, едва в ней разобравшись. Скрыть от девочки факты было невозможно: смолчали бы родители – дали бы волю языкам слуги. Ее отец, особенно после смерти жены, не жалел для нее ласк в напрасных стараниях хотя бы отчасти скрасить ее изоляцию в обществе. Она отвечала ему горячей привязанностью, какую обычный ребенок делит между несколькими людьми. Достигнув возраста благоразумия, она воспылала страстью отомстить за отца, показать всему миру, с какой бесчеловечной свирепостью поступили с ним самозваные судьи, в чьей несправедливости она нисколько не сомневалась. Но дочь была так же бессильна, как и отец. Их взаимная любовь в тех тесных пределах, куда их заточил враждебный мир, не могла быть теплой и утешительной; оба терзались от страданий, оба чувствовали – хотя не произносили этого вслух, – что зрелище мучений другого делает их жизнь еще нестерпимее.
Эту историю я узнавал постепенно, навещая Кэтрин, пока у нее заживала нога. Я не находил сил подвергнуть сомнению ее версию, но и опровергнуть обвинение против ее отца мне было нечем. Если он и впрямь, как она утверждала, был невиновен, то это была загадка, указывавшая на некоего оставшегося неразоблаченным злодея. Я бы предпринял расследование событий, произошедших во время выборов, если бы придумал, как выявить некие скрытые события, но по прошествии стольких лет это казалось немыслимым. Однако внезапно мое замешательство оказалось рассеяно полным, поразительным и страшным торжеством правды.
III
Вскоре после выздоровления Кэтрин ее отец скончался. Удивляться не приходилось: несчастливая жизнь подточила его здоровье. Удивительно было другое – кончина спустя всего несколько дней самого непримиримого его противника в колледже доктора Гриторекса, профессора пасторской теологии. Удивление переросло в крайнее изумление, когда оказалось, что профессор покончил с собой, приняв яд. Всю жизнь он оставался непреклонным борцом с грехом и столпом незыблемых нравственных устоев. Он вызывал глубокое уважение у старых дев с несколько прокисшей добродетелью и пользовался признанием среди академических светил, не затронутых смягчением морального кодекса, характеризующим наш дряхлый век. Все догадывались, что именно благодаря профессору в университете сохранились стандарты, заставляющие родителей считать, что их сыновья попали в надежные руки. Накануне выборов главы колледжа профессор выступал самым непримиримым противником Брауна и яростным сторонником Джонса. Когда же объявили об избрании Брауна, именно доктор Гриторекс настоял на проверке, это его усилиями все поверили в виновность победившего. Когда глава колледжа умер, никто не мог заподозрить, что доктор Гриторекс сильно опечалится. Тем более невозможно было вообразить, что этот светоч незапятнанности закончит свои дни, совершив смертный грех. Некоторые его почитатели были, правда, потрясены его проповедью в церкви колледжа в первое воскресенье после смерти Брауна. Он взял за ее основу слова из Евангелия: «Где червь их не умирает и огонь на угасает» (Марк 9:44). Некоторые невнимательные читатели Евангелия, сказал он, воображают, что Бог готов прощать грешников, и даже намекают, что Он не обрекает их на вечное проклятие. Ученый муж указал, что цитату, вокруг которой он построил проповедь, непременно следует учитывать при всякой честной попытке уяснить смысл Евангелий. До этого места его проповедь встречала одобрение, но слушатели сочли дурным вкусом и даже были покороблены его удовлетворенностью вечными муками грешников и, что еще хуже, явно содержавшимся в его словах намеком на почившего главу колледжа. Все решили, что теология теологией, но заботу о сохранении приличий никто не отменял, и, расходясь после проповеди, поеживались. Джонс, никогда не усердствовавший в осуждении своего удачливого соперника, решил нанести профессору Гриторексу визит и напомнить ему, что поздно клеймить покойного. Вечером он постучался в профессорскую дверь, но ему никто не ответил. Он постучал снова, громче, а потом, увидев, что у профессора горит свет, и заподозрив неладное, вошел. Мертвый профессор сидел за письменным столом, перед ним лежал пространный манускрипт, адресованный коронеру. Сочтя неприличным читать эту исповедь самому, Джонс передал страницы в полицию, и они были зачтены на дознании. Профессор Гриторекс написал:
Труд моей жизни почти завершен. Остается только оповестить мир, что я послужил орудием кары за грех, и объяснить, как это произошло. Мы с Брауном в юности были друзьями. Он в те времена был смелее и безрассуднее меня. Мы оба собирались принять обет и посвятить себя академической карьере, а пока позволяли себе увеселения, неподобающие после рукоположения. У владельца табачной лавки, куда мы оба захаживали, была красавица дочь по имени Мюриель, иногда помогавшая отцу, – ясноглазая, озорная, живой соблазн. Она охотно шутила со студентами, но я угадывал в ней способность к глубокому чувству. Я без памяти в нее влюбился, но знал, что брак несовместим с академической карьерой, к тому же женитьба на дочери торговца запятнала бы меня в любом другом избранном мной поприще. Я и тогда, как на протяжении всей дальнейшей жизни, был полон решимости воздерживаться от плотского греха и совершенно чужд мысли о безнравственной связи с Мюриель. Браун же не ведал таких предрассудков. Пока я колебался, разрываясь между честолюбием и любовью, он действовал. Своей беззаботной веселостью он завоевал сердце бедной девушки и склонил ее к грехопадению. Об этом знал один я, и то, как я мучился при виде падения Мюриель, не описать словами. Я совестил Брауна, но напрасно. Мюриель, зная, что я посвящен в тайну ее позора, взяла с меня клятву молчать. Через несколько месяцев она пропала. Я не знал, что с ней случилось, но подозревал, что Браун не разделяет мое неведение. Однако я ошибался. Спустя некоторое время, на протяжении которого я света белого не видел, пришло ее письмо, написанное из какой-то жалкой конуры в трущобах, в котором она признавалась мне, что беременна, но слишком любит Брауна, чтобы ему мешать, поэтому скрывает от него свое состояние и местопребывание. Напомнив о моей клятве молчать, она спрашивала, не смогу ли я ей помочь, пока не родится ребенок, что непременно произойдет. Я примчался к ней и застал ее в отчаянной нужде: она не посмела сознаться во всем отцу, человеку не менее твердой нравственности, нежели моя. К счастью, дело было в каникулы, и я мог отлучиться из Оксбриджа, не привлекая внимания. Я помог ей, а когда пришло время, добился для нее места в больнице. Мать и ребенок умерли. Мне оставалось тщетно оплакивать свою прежнюю осторожность. Из-за клятвы, которую она вновь заставила меня дать, я не мог разоблачить подлость Брауна. Он так и не узнал о ее судьбе и, уверен, не интересовался ею.
Не имея права его разоблачить, я решил посвятить свою жизнь наказанию Брауна теми способами, какие будут предоставлены обстоятельствами. Возможность сделать это подвернулась в виде соревнования за место главы колледжа. Я всеми силами поддерживал Джонса и сумел бы добиться его избрания, но разочарование Брауна из-за проигрыша никак нельзя было бы сравнить с муками Мюриель. Поэтому я задумал более изощренную месть. Я проголосовал за Брауна. Такое никому в голову не могло прийти, и на разбирательстве мне не пришлось прикладывать больших стараний, чтобы все решили, что мой голос ушел Джонсу. Как я и предвидел, Браун победил, потому что проголосовал сам за себя. Я позволил себе слова, настроившие всех против него. Все получилось, как я задумал. Начались годы его страданий – как мне хочется верить, куда более длительных и горьких, чем все выпавшее на долю Мюриель. Я наблюдал, как щеки его жены теряют цвет, как она впадает в безразличие и отчаяние, и радостно думал: «Мюриель, ты отмщена!» У меня был дагеротип Брауна, сделанный в годы его цветущей молодости. Каждый вечер, прежде чем приступить к молитве, я брал эту карточку и сравнивал изображение с тем, каким Браун стал: ввалившиеся щеки, затравленный взгляд. В последующие годы я наслаждался тем, как яд изоляции разъедает его любовь к дочери. Его несчастье стало смыслом моей жизни, ничто не могло сравниться с этим по важности. На фоне моей всепоглощающей ненависти мелкие чувства коллег выглядели сущей безделицей. Я не познал радостей любви, зато мне были ведомы радости ненависти; кто отважится судить, что перевесит? А теперь мой враг мертв, и мне больше незачем жить. Однако я черпаю надежду в вере. Я сам отниму у себя жизнь и навечно попаду в ад. Там, надеюсь, я отыщу Брауна, и если в аду торжествует справедливость, мне откроются способы сделать его вечные муки еще ужаснее. С этой надеждой я умираю.
Бессилье светского суда
I
Пенелопа Колхаун медленно поднялась по лестнице, вошла в свою крохотную гостиную и устало опустилась в неудобное плетеное кресло.
– Тоска, тоска, тоска! – громко произнесла она с глубоким вздохом.
Без сомнения, у нее были основания для таких чувств. Ее отец служил викарием в отдаленном сельском приходе Суффолка под названием Кьюкомб-Магна. Деревня состояла из церкви, дома викария, почты, паба, десятка домиков и – единственная отрада – старинного помещичьего дома. Вот уже полвека деревню с внешним миром связывал только автобус, трижды в неделю ходивший в Кьюкомб-Парву, гораздо более крупную деревню с железнодорожной станцией, откуда, согласно молве, люди, впереди у которых была долгая жизнь, рассчитывали добраться до станции Ливерпуль-стрит.
Отец Пенелопы, овдовевший пять лет назад, принадлежал к почти иссякшей категории людей: набожный приверженец «низкой церкви», он отвергал любые удовольствия. По его мнению, его жена полностью отвечала предъявляемым к супруге требованиям: покорная и терпеливая, она неустанно трудилась на благо прихода. Он ничуть не сомневался, что Пенелопа пойдет по стопам этой святой. Не имея выбора, дочь старалась не разочаровать отца. Она украшала церковь на Рождество и на праздник урожая, председательствовала на собраниях матерей, навещала старушек и справлялась об их недугах, корила церковного служителя, если он пренебрегал своими обязанностями. В ее повседневной жизни не дозволялось ни единого проблеска радости. Викарий хмурился на женщин, пытавшихся прихорашиваться. Его дочь носила шерстяные чулки и темные юбку и жакет, когда-то новые, но теперь изрядно потрепавшиеся. Волосы она гладко зачесывала назад. Об украшениях не могло быть речи, так как отец считал их адским измышлением. Единственной подмогой ей служила поденщица, являвшаяся на два часа по утрам; ей приходилось самой стряпать и выполнять все домашние обязанности в дополнение к трудам в приходе, обычно лежащим на плечах жены викария.
Все ее попытки получить хоть капельку свободы кончались неудачей: у отца всегда была наготове цитата из Священного Писания, исчерпывающе доказывавшая нечестивость дочерних помыслов. Особенно он ценил Екклесиаста, отлично подходившего, как не уставал он твердить, в назидание, а не как догма. Однажды – дело было вскоре после смерти ее матери – в Кьюкомб-Магну нагрянула передвижная ярмарка, и она попросила разрешения взглянуть на эту невидаль хотя бы одним глазком. Отец отвечал:
– Преданный сердцем удовольствиям будет осужден, а сопротивляющийся вожделениям увенчает жизнь свою[4].
Как-то раз она осмелилась перекинуться парой словечек с проезжим велосипедистом, спросившим дорогу до Ипсвича. Глубоко шокированный отец промолвил:
– Наглая позорит отца и мужа, и у обоих будет в презрении[5].
На ее возражение, что беседа была совершенно безобидной, он сказал, что, если она не исправится, он больше не отпустит ее в деревню одну, и подкрепил угрозу цитатой:
– Большая досада – жена, преданная пьянству, и она не скроет своего срама[6].
Она любила музыку и мечтала о пианино, но отец считал это излишним и говорил:
– Вино и музыка веселят сердце, но лучше того и другого – любовь к мудрости[7].
Он без устали распространялся о том, как за нее тревожится.
– Дочь для отца, – говаривал он, – тайная постоянная забота, и попечение о ней отгоняет сон… Ибо как из одежд выходит моль, так от женщины – лукавство женское[8].
За пять лет, прошедших после смерти матери, Пенелопа достигла предела терпения. Наконец, когда ей исполнилось двадцать лет, в стене ее тюрьмы появилась трещина. В помещичий дом, пустовавший несколько лет, въехала хозяйка, миссис Ментейт, состоятельная американка. Ее муж, не пожелавший прозябать в Восточной Англии, уплыл на Цейлон, она же вернулась оттуда, чтобы отдать сыновей учиться и выгодно сдать помещичий дом. Викарий не мог ее одобрять, потому что она была весела, хорошо одевалась, ценила жизненные блага. Но поскольку от усадьбы поступало больше всего средств на церковные нужды, он отыскал у Екклесиаста текст о неразумности оскорбления богатых и не запрещал дочери знаться с хозяйкой.
Лишь только Пенелопа перестала сетовать на скуку, раздался стук старинного молоточка во входную дверь, и, спустившись, она увидела на пороге миссис Ментейт. Той хватило нескольких ободряющих слов, чтобы девушка расчувствовалась и тронула ее сердце. Глядя на Пенелопу понимающим взглядом, гостья увидела возможности, о которых не подозревала ни она сама, ни кто-либо в приходе.
– Милочка, – молвила она, – вы хоть понимаете, что, немного постаравшись, могли бы стать сногсшибательной красавицей?
– Вы шутите, миссис Ментейт! – воскликнула девушка.
– Нет, – возразила добрая леди, – не шучу. Если мы сумеем перехитрить вашего отца, я это докажу.
Разговор продолжился, был составлен план. Тут появился Колхаун-старший, и миссис Ментейт сказала:
– Дорогой мистер Колхаун, не могли бы вы доверить мне вашу дочь всего на один денек? У меня много утомительных дел в Ипсвиче, и мне будет невыносимо скучно одной. Вы окажете мне огромную услугу, если разрешите дочери поехать со мной в машине.
После долгих уговоров викарий неохотно уступил. Настал великий день, и Пенелопа не могла скрыть воодушевления.
– Ваш отец – старое чудовище, – сказала ей миссис Ментейт. – Я подумаю, как освободить вас от его тирании. В Ипсвиче я наряжу вас с ног до головы в самую лучшую одежду, какую только смогу там найти. Сделаем вам подобающую прическу. Думаю, результат вас удивит.
Так и вышло. Когда Пенелопа увидела в высоком зеркале себя и довольную миссис Ментейт, она не могла не подумать: «Неужели это я?» От неведомого ей раньше чувства тщеславия закружилась голова, она едва устояла на ногах от наплыва незнакомых эмоций. Новые надежды и уверенность в немыслимых ранее возможностях заставили ее принять решение: с жизнью рабочей лошадки пора кончать. Но нерешенной проблемой оставался способ побега.
Миссис Ментейт повела размечтавшуюся девушку в салон делать прическу. Там, дожидаясь своей очереди, Пенелопа полистала журнал «Брачные новости».
– Миссис Ментейт, – сказала она, – вы столько для меня делаете, что мне неловко обратиться к вам еще с одной просьбой. Что проку быть красивой, если никто меня не видит? В Кьюкомб-Магне, бывает, за год не встретишь ни одного молодого человека! Вы позволите мне дать объявление в этом журнале, указав ваш адрес? Там, в Мэнор-Хаус, я бы беседовала с претендентами, которые покажутся подходящими.
Миссис Ментейт, наслаждавшаяся всей ситуацией, сразу согласилась. С ее помощью Пенелопа сочинила следующее объявление:
Молодая женщина, красавица, непререкаемой нравственности, живущая в изоляции в отдаленном сельском округе, желает познакомиться с молодым человеком с целью заключения брака. Просьба приложить фотографию. В благоприятном случае будет прислана фотография молодой женщины. Обращаться по адресу: мисс П., Мэнор-Хаус, Кьюкомб-Магна.
P.S. Лицам духовного сана не обращаться.
Отправив это объявление, она претерпела манипуляции в салоне красоты, а затем сфотографировалась во всем вновь приобретенном блеске. На этом захватывающие мечты пока что закончились. Пришлось снять все обновки и по-старому сурово зачесать волосы назад. Обновки миссис Ментейт забрала с собой, пообещав, что Пенелопа сможет представать в них перед претендентами.
Дома та прикинулась утомленной и пожаловалась отцу на скучное ожидание в приемных юристов и агентов по недвижимости.
– Пенелопа, – сказал ей отец, – ты сделала для миссис Ментейт доброе дело, а добродетельные люди никогда не скучают, творя добро.
Она приняла эту сентенцию с подобающим смирением и набралась терпения, чтобы дождаться ответов на свое объявление.
II
Ответы на объявление Пенелопы посыпались градом, и все самые разные. Одни были откровенны, другие игривы; в некоторых утверждалось, что отправитель богат, или умен, или скоро разбогатеет; кое-кто, как можно было заподозрить, надеялся, что брака удастся избежать; другие напирали на свой покладистый характер или, наоборот, на властность. Пенелопа старалась находить предлоги, чтобы бегать в Мэнор-Хаус за ответами. Но всего один из них показался ей достаточно многообещающим:
Дорогая мисс П.,
меня заинтриговало ваше объявление. Редкой женщине хватило бы смелости назвать себя красавицей и при этом указать на свою непререкаемую нравственность. Я пытаюсь совместить это с вашей неприязнью к духовному сану, дающей некоторую надежду, что ваша нравственность непререкаема ровно в той степени, в какой это подобает молодой женщине. Меня съедает любопытство. Если вы дадите мне шанс его удовлетворить, то подарите мне блаженство.
Полный надежды Филипп Арлингтон P.S. Прилагаю свою фотографию.Она тоже была заинтригована. Полное молчание автора письма о собственных достоинствах позволяло предположить, что они настолько велики, что он считает их само собой разумеющимися. На фотографии он выглядел умным весельчаком, даже проказником. Она ответила ему одному, приложив собственную фотографию во всей красе и назвав день, когда они могли бы встретиться за обедом в Мэнор-Хаус. Он согласился. Назначенный день настал.
Мэнор-Хаус и присутствие за столом миссис Ментейт повышали респектабельность и социальный статус Пенелопы. После обеда они остались вдвоем и продолжили знакомство. Он начал со слов, что по части красоты в ее объявлении не было преувеличения, и выразил удивление, что она прибегла к такому способу найти мужа, ведь для нее – как ему приятно это говорить! – нет задачи легче. В ответ ей пришлось объяснить положение у нее дома и основания неприятия духовенства. С каждой минутой его наполовину шутливое, наполовину серьезное сочувствие становилось ей все приятнее, и в ней росло убеждение, что жизнь в роли его жены была бы во всех отношениях противоположностью жизни в роли дочери своего отца.
К концу второго часа их тет-а-тет она уже была в него влюблена, и он, насколько она могла судить, был к ней по меньшей мере неравнодушен. Тогда она заговорила о проблеме, не дававшей ей покоя:
– Мне только двадцать, и замужество без отцовского согласия для меня невозможно. Он никогда не позволит мне выйти за человека без духовного сана. Когда я вас ему представлю, вы сможете убедительно притвориться священником?
При этом вопросе его взгляд стал насмешливым, вызвав у нее удивление, но ответ обнадежил:
– Да, думаю, у меня получится.
Пенелопа была рада втереть отцу очки в паре с таким партнером, с которым как никогда чувствовала себя самой собой. Она сказала отцу, что он – знакомый миссис Ментейт, которого она случайно повстречала в ее доме. Отец был, естественно, огорчен перспективой утраты бесплатной рабочей лошадки, но миссис Ментейт поддержала Пенелопу, убедив его в безупречной набожности молодого человека и в том, что он находится в процессе избрания духовной карьеры. В конце концов старик нехотя согласился взглянуть на этот образчик благочестия и дать согласие на помолвку в случае положительного результата инспекции. Пенелопа не находила себе места от страха, что Филипп окажется не на высоте и отец разоблачит подлог. Какова же была ее радость, когда все прошло как по маслу! Молодой человек разглагольствовал о приходе, где якобы служил вторым священником, описывал своего викария, объяснял, что принял сан ради поддержания традиции своей семьи, патриарх которой достиг возраста 90 лет, и, сияя, распространялся о важности и святости трудов, которым будто бы надеялся посвятить жизнь. Пенелопа только безмолвно ахала, но при этом радостно наблюдала, как мнение отца о Филиппе скачкообразно растет; когда молодой человек принялся цитировать Екклесиаста, оно достигло апогея.
Все сложности были устранены, и по прошествии нескольких недель состоялось венчание. Молодожены предприняли свадебное путешествие в Париж, поскольку Пенелопа объяснила, что ей опостылела сельская жизнь, она стремится к удовольствиям и предпочитает природным красотам увеселения в людской гуще. Медовый месяц стал для нее долгим восторженным сном. Муж был очарователен и ничуть не возражал против ее легкомыслия, долгие годы копившегося под спудом. На горизонте висела всего одна тучка. На свой собственный счет он был очень уклончив и скупо объяснял, что по финансовым причинам вынужден жить в деревне Попплтон в Сомерсете. Из его рассказов о большом соседнем доме, жилище сэра Ростревора и леди Кенион, она делала вывод, что он подрабатывает их агентом. Иногда она удивлялась, почему бы ему не поведать ей больше, но каждое мгновение их медового месяца было так упоительно, что у нее не было времени как следует пораскинуть мозгами. Он предупредил, что в одну из ближайших суббот должен быть в своем Попплтоне. До Рей-Хаус, где он жил, они добрались уже в темноте, и она слишком утомилась, чтобы помышлять о чем-либо, кроме сна. Он отвел ее наверх, и она, едва прикоснувшись головой к подушке, провалилась в сон.
III
Утром ее разбудил звон церковных колоколов. Открыв глаза, она уставилась на мужа, надевавшего сутану. От этого зрелища с нее мигом слетел сон.
– Зачем ты это надеваешь? – воскликнула она.
– Что ж, моя дорогая, – услыхала она в ответ, – пришло время кое в чем сознаться. Прочитав твое объявление, я сначала испытал только удивление и предложил встретиться, скорее, в шутку. Но, увидев тебя, я влюбился. В Мэнор-Хаус мое чувство становилось глубже с каждой минутой. Я решил тебя завоевать, а поскольку честными способами это было неосуществимо, я прибег к обману. Не стану больше тебе врать: я приходской священник. Мой якобы обман был на самом деле правдой. Меня извиняет только сила моей любви и невозможность заполучить тебя другим способом.
Спрыгнув с кровати, она крикнула:
– Я никогда тебя не прощу! Никогда! Никогда! Никогда! И заставлю тебя каяться. Ты проклянешь тот день, когда подло обошелся с бедной девушкой. Я превращу тебя и как можно больше твоих сообщников-церковников в такое же посмешище, в какое ты превратил меня.
Филипп уже успел завершить облачение. Пенелопа вытолкала его за дверь, заперлась и весь день просидела в одиночестве.
Он не давал о себе знать до ужина, когда постучал в дверь с подносом в руках и сказал:
– Если ты намерена меня наказать, то должна жить, а чтобы жить, надо есть. На подносе еда. Разговаривать со мной необязательно. Я оставлю поднос на полу и уйду. Приятного аппетита!
Сначала Пенелопа хотела проявить гордость, но голод брал свое: она не завтракала, не обедала, не пила пятичасовой чай. Поэтому она жадно проглотила все, что он ей принес. План мести от этого ничуть не пошатнулся.
Подкрепившись, она посвятила вечер сочинению достойного письма с описанием modus vivendi в ближайшем будущем. Письмо далось ей нелегко, понадобился не один черновик. В конце концов она осталась довольна. Окончательный вариант гласил:
Сэр,
вам, без сомнения, ясно, что ввиду вашего подлого поведения я никогда больше не скажу вам лишнего слова. Я не разглашу вашего поступка со мной, ибо это значило бы обнажить мое собственное безумие; но я дам понять всем, что не люблю вас, что это вы потеряли голову и что так произошло бы с любым мужчиной. Я стану с наслаждением скандалить, потому что это скажется на вас. Если я сумею очернить этим духовенство, тем будет для меня радостнее. Теперь единственной целью моей жизни будет унизить вас не менее сильно, чем унизили меня вы. Ваша жена, впредь только номинальная,
Пенелопа.
Она положила письмо на поднос, который вынесла за дверь.
Наутро появился новый поднос не только с вкусным завтраком, но и с запиской. Сначала она хотела порвать ее на мелкие клочки и выбросить в окно. Но трудно было совладать с надеждой, что он опечален и пристыжен и рассыпается в подобающих ситуации извинениях. Поэтому она открыла письмо и прочла:
Браво, дражайшая Пенелопа! Твое письмо – шедевр достойнейших упреков. Вряд ли я смог бы его улучшить, если бы ты спросила моего совета. Что до мести, дорогая, то это мы еще посмотрим. Возможно, выйдет не совсем так, как ты думаешь. Твой обожатель-клерикал
Филипп.
P.S. Не забудь про прием в саду.
Прием – Филипп говорил о нем в свадебном путешествии – устраивали в тот самый день сэр Ростревер и леди Кенион в своем чудесном елизаветинском особняке Мендип-Плейс. Дата была назначена отчасти исходя из намерения представить прекрасную новобрачную лучшим людям графства. Сначала Пенелопа колебалась, идти ли ей туда: постскриптум мужа склонял к отрицательному ответу. Но, поразмыслив, решила, что прием предоставит возможность начать мстить. Она тщательно продумала свой наряд. Возмущение придало ее облику дополнительное искрение и сделало ее еще неотразимее. Она решила, что правильнее будет скрыть ссору с мужем, поэтому они появились на приеме честь по чести, рука об руку. Ее красота была так ослепительна, что все мужчины при виде ее забыли обо всем остальном. Она, впрочем, повела себя просто, без всякого кокетства и, не обращая внимания на видных персон, желавших быть ей представленными, посвятила почти все свое внимание викарию прихода. Тот, носивший фамилию Ревердли, был весьма моложав и, как обнаружила Пенелопа уже через несколько минут, страстный любитель местной археологии. Он охотно поведал ей, что могильный курган по соседству буквально нашпигован ценнейшими доисторическими реликтами, но они представляют интерес только для него, и он никого не может убедить там покопаться. Глядя на него расширенными глазами, она воскликнула:
– О, мистер Ревердли, какой стыд!
Он был так впечатлен, что поздравил своего второго священника с безупречным выбором спутницы жизни.
Викарий сумел уговорить Пенелопу (он воображал, что с немалым трудом) уже назавтра посетить с ним, в его коляске, кое-какие любопытные археологические объекты на расстоянии десяти миль от Попплтона. Их видели едущими вдвоем через деревню: он что-то ей рассказывал с большим воодушевлением, она была как будто вся внимание. Разумеется, не осталось никого, кто не наблюдал бы этот проезд. Особенное любопытство проявила некая старушка по имени миссис Куигли, давно превратившая сплетни в главное занятие своей жизни. У миссис Куигли имелась дочь, которую она прочила в жены Арлингтону, и теперь у нее были причины усомниться в мудрости его решения проигнорировать эту достойную старую деву. Проводив викария и Пенелопу взглядом, она сказала: «Ого!», и все, кто ее слышал, поняли, что она имела в виду. Дальше было и того хуже. Назавтра, в тот момент, когда Арлингтону полагалось заниматься приходскими делами, викария видели направляющимся в Рей-Хаус с большим фолиантом по археологии Сомерсета под мышкой. Более того, он пробыл там гораздо дольше, чем требовалось для вручения книги. Сплетники донесли миссис Куигли, а через нее всей деревне, что молодожены спят в разных комнатах.
Бедный же викарий, еще не знавший о деятельности миссис Куигли, всем твердил о красоте, уме и добродетельности жены второго священника своего прихода. С каждым произнесенным им словом добавлялось пунктов в обвинении против него самого, как и против нее. В конце концов миссис Куигли утратила способность сдерживаться и сочла своим долгом письменно обратиться к сельскому благочинному Глассхаусу: она писала, что для блага дражайшего викария следовало бы перевести второго священника в другой приход. Глассхаус, знавший цену миссис Куигли и не склонный принимать это дело всерьез, решил обойтись душеспасительной беседой с викарием. Тот заверил его, что его немногочисленные дела с миссис Арлингтон – воплощение невинности. Правда, ее невинность он отстаивал с излишней горячностью, которую благочинный счел не вполне подобающей. Так у Глассхауса появилось намерение встретиться с этой женщиной лично.
Он явился в Рей-Хаус к пятичасовому чаю и был тепло принят Пенелопой, подуставшей от археологии и викария. Правда, когда Глассхаус с бесконечной осторожностью подобрался к теме скандальных слухов, о которых ему поведала миссис Куигли, манера, в которой Пенелопа все отрицала, убедила его, что викарий ведет себя по меньшей мере опрометчиво. К этому моменту Глассхаус уже признался ей, что археология слишком занята смертью, чтобы соответствовать его вкусу, и что лично он предпочитает мертвым камням жизнь.
– О, мистер Глассхаус! – воскликнула она. – Как же вы правы! Я всецело с вами согласна. А какие формы жизни занимают вас больше всего, дорогой благочинный?
– Редкие пернатые, – отвечал он, – особенно гнездящиеся в болотах Седжмура, где водятся не только зимородки: терпеливый наблюдатель может быть вознагражден встречей с желтой водной трясогузкой!
Всплеснув руками и глядя на него с величайшим воодушевлением, Пенелопа объяснила, что хоть и живет вблизи норфолкских болот и часто скитается по ним, влекомая любознательностью, но еще ни разу не удовлетворила своего горячего желания повстречать желтую водную трясогузку.
Благочинный, как ни прискорбно, мигом забыл о своей миссии и долге перед епархией, даже о священном призвании, и предложил ей присоединиться к нему для наблюдения за желтой водной трясогузкой в одном заброшенном уголке, к которому это пернатое питает особенное пристрастие.
– Что же скажет миссис Куигли, благочинный? – спросила она.
Он постарался изобразить бывалого человека и отмахнулся от этой добродетельной леди. Он еще не допил вторую чашку чая, а Пенелопа уже уступила его настояниям и согласилась на экспедицию вдвоем в первый же погожий день. Экспедиция состоялась. Но даже в таком безлюдном уголке шпионы миссис Куигли не дремали. Видя, что церковь оказалась не на высоте, она попыталась заручиться помощью леди Кенион на том основании, что, согласно имеющимся у нее донесениям, благочинный наблюдал на лоне природы не только птичек.
– Больше я ничего не скажу, – молвила она. – Остальное нетрудно представить. Вы укажете на дверь этой сирене, которая сбивает с истинного пути даже самых твердых и уважаемых наших религиозных наставников?
Леди Кенион ответила, что подумает и решит, как быть. Зная, что собой представляет миссис Куигли, она сочла, что было бы полезно выслушать саму Пенелопу, поэтому позвала ее и спросила, о чем весь сыр-бор.
Немного нажав на молодую женщину, она узнала все. Но вместо того чтобы увидеть в этом трагедию, всего лишь рассмеялась.
– Дорогая моя, – промолвила леди Кенион, – вы избрали простейший путь. Ну как этим толстым старикам вам сопротивляться? До вас им никогда в жизни не встречались по-настоящему красивые женщины…
– Не считая вас, – вставила Пенелопа. Но леди Кенион проигнорировала это замечание и продолжила, как если бы его не было:
– Нет, моя дорогая, если вы хотите, чтобы ваша месть чего-то стоила, то извольте применить ее к кому-то достойному. Таковым является, например, епископ Гластонбери, чьих духовных детей вы поманили суетностью. Не удивлюсь, если он окажется противником вам под стать. Устрою-ка я вам турнир! Я сама буду присуждать «за смелость щедрые награды – обворожительные взгляды»[9], не сомневайтесь, совершенно беспристрастно, потому что, при всем уважении к епископу, не могу не похвалить вас за авантюризм.
IV
Епископ Гластонбери обладал широкой эрудицией и благодаря ей достиг высокого духовного сана! Ему не помешало даже легкомыслие, которое с прискорбием замечали в нем некоторые. Скандалов ему удавалось избегать, однако он был замечен в любви к обществу красивых женщин и склонности покидать в беседах с ними стезю серьезности. Леди Кенион, хорошо его знавшая, все рассказала ему о Пенелопе и о разгроме, который та учиняет среди его духовенства.
– Она неплохая, просто сильно рассержена, – предупредила она. – Признаться, у нее есть на то основания. Я не сумела хорошо на нее повлиять, потому что меня позабавила ее история и у меня не хватило духа ее корить. Вы – другое дело, дорогой епископ, вы, уверена, добьетесь успеха там, где я потерпела поражение. Если хотите, я устрою вам встречу здесь, а дальше видно будет.
Епископ согласился, и Пенелопа была приглашена на встречу с ним в Мендип-Плейс. В последнее время она осмелела и не сомневалась, что играючи справится даже с епископом. Она поведала ему свою историю, но ее сбивала с толку его улыбка в самых жалостливых местах. Когда она смотрела на него с обожанием – ни один викарий, даже ни один благочинный этого не выдержал, – он, к ее ужасу, только моргал. Тогда она сменила тон, стала простой и искренней. Епископ вытянул из нее, что ярость не мешает ей по-прежнему любить Филиппа, но гордость не позволяет в этом сознаться.
– Милая моя, – сказал на это епископ, отнесшийся к ней душевно, но несерьезно, – по-моему, путь, на который вы ступили, не принесет вам удовлетворения. Мир полон глупцов, готовых в вас влюбиться, но вы любить глупца не сможете. А умный наверняка увидит, что ваше сердце принадлежит мужу. Тому, как он с вами поступил, конечно, нет прощения, и я не предлагаю вам вести себя так, будто ничего не произошло. Но, чтобы добиться счастья, вы должны придумать что-нибудь получше совращения глупых пастырей. Что именно, решайте сами, но пусть это будет что-нибудь позитивнее и вообще лучше мести. – Потрепав ее по руке, он добавил: – Подумайте хорошенько и сообщите мне о вашем решении.
Она ушла домой разочарованная, впервые поняв, что на благородном гневе далеко не уедешь. Перемена образа жизни требовала трудных практических решений. Она не была готова к капитуляции и превращению в покорную жену сельского второго священника, тем более не собиралась возвращаться к отцу. Поэтому вставал вопрос о самостоятельном заработке. В длинном письме к миссис Ментейт она поведала, что произошло с ней после замужества, и закончила дружеским наставлением епископа.
«Вы были так добры ко мне, – писала она, – что мне совестно просить большего. Но, может быть, вы могли бы мне помочь твердо встать на ноги. Вы согласны встретиться со мной в Лондоне для разговора?»
После встречи с Пенелопой миссис Ментейт уговорила свою портниху принять ее к себе манекенщицей. Переехав в Лондон, молодая женщина прервала всякую связь с мужем. В Попплтоне о ней забыли. По ней никто не скучал, кроме миссис Куигли и, возможно, мужа, хотя тот скрывал свои чувства. Портниха не могла нахвалиться на свою манекенщицу и быстро обнаружила в ней недюжинный портновский талант. Пенелопа быстро пошла в гору и уже через три года неплохо зарабатывала. Она уже была на пути к тому, чтобы сделаться полноправной партнершей, но тут получила скорбное письмо от отца. Он писал, что хворает и боится, что скоро умрет:
Ты очень дурно поступила со мной и со своим достойнейшим мужем. Но я хочу положить конец всем размолвкам, прежде чем умру, поэтому буду рад, если ты хотя бы ненадолго вернешься в свой старый дом.
Со всей христианской любовью, твой отец.С тяжелым сердцем она отправилась на станцию Ливерпуль-стрит. Идя вдоль состава в поиске свободного места, она вдруг – как такое возможно? – увидела своего мужа. Он был одет не как священник, а как преуспевающий лондонец, и садился в вагон первого класса. Оба застыли, потом он воскликнул:
– Пенелопа! Дорогая, ты красива, как никогда!
– Филипп, – ответила она, – куда же девалась одежда, вызвавшая наш разрыв?
– Я доверил ее нафталину, – ответил он. – Во мне проснулся талант изобретателя, поэтому я покончил с Церковью. У меня высокий доход, сейчас я еду в Кембриджскую инструментальную палату по вопросу нового патента. Ты-то как? Не сказать, что мучаешься от бедности!
– Нет, я тоже процветаю. – И она рассказала о своей успешной карьере.
– Я всегда знал, что ты совсем не дурочка, – заметил он.
– А я всегда знала, что ты плут. Но теперь мне все равно.
И они обнялись прямо на платформе.
– Сэр, мадам, скорее в вагон! – поторопил их кондуктор.
И они зажили счастливо.
Кошмары знаменитостей
Справедливость требует предупредить читателя, что не все рассказы в этой книге предназначены для развлечения. Среди «Кошмаров» одни – чистая фантастика, другие повествуют о возможных, но маловероятных ужасах. «Захатополк» донельзя серьезен. Последний рассказ, «Вера и горы», может показаться некоторым читателям совершенно фантастическим, но только в том случае, если они живут в скорлупе, как явствует из нижеследующего:
«Беря пример с коронации королевы Англии Елизаветы II в этом году, Национальная ассоциация маринадов приступает к поиску девушки-американки по имени Элизабет Маринад, которая будет править в 1953 г. Маринадным королевством». – «Мир арахиса и орехов». (Цитата из «Обсервер», 28 июня 1953 г.)
Желаю Элизабет Маринад всяческих успехов!
Предисловие
Эти «Кошмары» можно назвать «симптомами здравомыслия». Каждая отдельная страсть безумна; здравомыслие можно определить как синтез безумий. Любая доминирующая страсть создает доминирующий страх, страх неисполнения. Любой доминирующий страх создает кошмар – иногда в виде явного, сознательного фанатизма, иногда как парализующую робость, иногда как неосознанный или подсознательный ужас, находящий выражение в снах. Человек, желающий сохранить рассудок в полном опасностей мире, должен мысленно взывать к парламенту страхов, где каждый страх по очереди признается абсурдным большинством голосов. Страдавшие от описанных ниже кошмаров не прибегли к этой технике. Надеюсь, читатель окажется мудрее.
Кошмар царицы Савской
Не доверяйте властелинам
Царица Савская, возвращаясь после визита к царю Соломону, ехала по пустыне на белом осле в сопровождении своего великого визиря, восседавшего на осле обыкновенной окраски. В пути они делились впечатлениями о богатстве и мудрости Соломона.
– Я всегда думала, – говорила она, – что у меня все хорошо с царским великолепием, и надеялась не ударить в грязь лицом, но при виде его богатств у меня перехватило дыхание. И все же великолепие его дворца – ничто в сравнении с силой его ума. Ах, дорогой мой визирь, сколько мудрости, сколько знания жизни, сколько проницательности содержат его речи! Если бы в тебе было столько же политической прозорливости, сколько сосредоточено в одном мизинце этого царя, то жизнь в моем царстве была бы безмятежной. Но ему нет равных не только в богатстве и мудрости. Еще он (хотя, возможно, узнать об этом посчастливилось мне одной) непревзойденный поэт. На прощание он преподнес мне усыпанный драгоценностями свиток, покрытый его неподражаемым почерком, где языком несказанной красоты повествуется о радости, испытанной им в моем обществе. Там есть места, прославляющие некоторые мои самые тайные чары, посвятить тебя в их суть мне было бы стыдно; но кое-что из этой книги я, быть может, прочту тебе, чтобы скрасить вечера в нашем путешествии по пустыне. В этом изысканном свитке есть не только его собственные признания, которые желала бы услышать любая женщина из уст любимого; воображение художника позволило ему вложить в мои уста поэтические слова, произнести которые я сочла бы за честь. Уверена, никогда больше не найти мне такого совершенного слияния, такой полной гармонии, такого проникновения в тайники души! Увы, государственный долг требует, чтобы я вернулась в свое царство, но до самого смертного часа я не расстанусь со сладостной мыслью, что есть на земле человек, достойный моей любви.
– Ваше величество, – отвечал ей визирь, – не мне смущать царицу сомнениями, но никто из тех, кто вам служит, не в силах поверить, что среди людей есть равные вам.
И тут со стороны заходящего солнца к ним приблизилась на своих двоих шаткая фигура.
– Кто бы это мог быть? – осведомилась царица.
– Какой-то бродяга, ваше величество, – предположил великий визирь. – Очень вам советую держаться от него подальше.
Но облику незнакомца было присуще неуловимое благородство, указывавшее на то, что он не простой бродяга. Невзирая на возражения великого визиря, царица направила к нему своего осла.
– Кто ты такой? – спросила она.
Прозвучавший ответ мигом развеял подозрения великого визиря, ибо в нем слышалась безупречная манера, принятая при савском дворе.
– Ваше величество, – заговорил встречный, – мое имя, Вельзевул, вряд ли вам известно, ведь я редко удаляюсь от Ханаанской земли. Кто вы, я знаю. И не только кто вы, но и откуда возвращаетесь и чему посвящены ваши предзакатные раздумья. Мне известно, что вы побывали в гостях у мудрого царя, который, как ни трудно поверить словам одетого в такие лохмотья человека, много лет был моим закадычным другом. Уверен, он сказал вам о себе все, что счел нужным. Но, если мне позволено делать предположения, вам захочется узнать о нем больше того, что он сам счел подобающим вам сообщить, поэтому спрашивайте: от меня у него нет секретов.
– Ты сумел меня удивить, – молвила царица. – Вижу, наша беседа будет долгой, и негоже вести ее, когда ты идешь, а я еду. Мой великий визирь спешится, и ты сядешь на его осла.
Великий визирь неохотно повиновался.
– Полагаю, – продолжала царица, – темами твоих разговоров с Соломоном служили, главным образом, государственные заботы и различные мудрые мысли. Я, царица, тоже прославившаяся мудростью, беседовала с ним и об этом; но отчасти наш разговор, как я льщу себя надеждой, приоткрыл в нем нечто, известное мне лучше, чем тебе. Лучшее из всего этого он запечатлел в книге, которую вручил мне на прощание. В ней много прекрасного – например, чудесное описание весны…
– А говорит ли он там о голосе черепахи? – спросил Вельзевул.
– Представь, да! Как ты догадался?
– Он был горд, что замечал по весне говорящих черепах, и часто брал их с собой.
– Среди его похвал были такие, которые мне особенно польстили, – продолжала царица. – По пути в Иерусалим я практиковалась в иврите, но не уверена, что правильно его понимаю. Например, мне понравились его слова: «Уста твои любезны».
– Как мило с его стороны! – сказал Вельзевул. – А не отпустил ли он замечание о щеках вашего величества: «Ланиты твои под кудрями твоими – как половинки гранатового яблока»?
– Нет, это поразительно! – восхитилась царица. – Да, так он и сказал, я еще сочла это сравнение странным. Как ты догадался?
– Знаете, у всех мужчин свои причуды. У него особенное пристрастие к гранатам.
– Действительно, – покивала царица, – кое-какие его сравнения странноваты… Вот и мои очи он уподобил озерам Есевонским.
– Я слышал от него и не такие чудные сравнения. Не сравнивал ли он нос вашего величества с башней Ливанской?
– Ну, это уже слишком! – не выдержала царица. – Представь, сравнивал! Я все больше убеждаюсь, что твой источник сведений достовернее, чем я думала.
– Ваше величество, – промолвил Вельзевул, – боюсь, следующие мои слова вам будет больно слышать. Дело в том, что я дружил с некоторыми его женами. Так я познакомился с ним ближе.
– А как же эта любовная песнь?
– Видите ли, в молодости, еще при жизни отца, он натворил бед. Влюбился в добродетельную дочь одного крестьянина и при помощи своего поэтического дара преодолел ее сопротивление. А потом решил, что неумно зря растрачивать свое дарование, и стал дарить поэтический свиток каждой своей женщине. Он ведь коллекционер, вы не могли не заметить этого, осматривая его дом. Он научился внушать каждой из них по очереди, что она – владычица его души; вы, ваше величество, – самая свежая и яркая его победа.
– Бессовестный! – покачала она головой. – Чтобы я еще когда-нибудь поддалась мужскому коварству! Чтобы еще когда-нибудь ослепла от мужской лести! Подумать только: я, восхваляемая в своих владениях как мудрейшая из женщин, – и так обманулась!
– Выше голову, ваше величество! – призвал ее Вельзевул. – Соломон ведь не просто мудрейший в своих владениях, он – мудрейший из мудрых и прослывет таковым в веках. Вряд ли стоит испытывать стыд из-за того, что вас провел такой человек.
– Наверное, ты прав, – согласилась царица, – но потребуется время, чтобы зажила рана, нанесенная моей гордости.
– О, прекрасная царица Савская, как счастлив был бы я, если бы мог ускорить целительную работу времени! Я бы ни за что не стал повторять ухищрения этого коварного монарха, от меня вы слышали бы только простые слова, саму непосредственность, идущую от сердца. Вам, недосягаемая, несравненная, бесподобная драгоценность Юга, я преподнес бы – с вашего дозволения, конечно, – тот бальзам, которого достойна ваша прелесть!
– Слова твои целительны, – отвечала она, – но как тебе сравниться с его великолепием? Есть ли у тебя дворец, подобный его чертогам? Столько драгоценных камней, как у него? Такие наряды, пропитанные миррой и благовониями? А главное, равен ли ты ему в мудрости?
– Прекрасная царица Савская, на все это я могу ответить утвердительно. Мой дворец больше дворца Соломона. Драгоценных камней у меня гораздо больше, чем у него. Мантии мои бессчетны, как звезды в небе. А что до мудрости, то тут ему со мной и вовсе не сравниться. Соломон удивляется, что, хотя реки впадают в море, оно никак не наполнится. Я знаю, в чем причина, и как-нибудь долгим зимним вечером вам ее изложу. Но перейдем к более серьезному его изъяну: увидев вас, он сказал, что «нет ничего нового под солнцем». Можно ли сомневаться, что он мысленно сравнивал вас с крестьянской дочерью из своей юности и что сравнение вышло не в вашу пользу? И можно ли считать мудрецом человека, который, узрев вас, немедленно не увидел, что перед ним новое чудо красоты и величия? Нет, в соревновании мудрецов он мне не страшен!
С улыбкой, в которой было смирение перед прошлым и зарождающаяся надежда на счастливое будущее, она взглянула на Вельзевула и сказала:
– Твои слова – нестерпимый соблазн. Я предприняла далекое путешествие из моего царства в царство Соломона и думала, что повидала все, достойное внимания на этой земле. Но если ты говоришь правду, то твое царство, твой дворец, твоя мудрость заткнут за пояс самого Соломона. Могу я продолжить свой путь и побывать в твоих владениях?
Он ответил на ее улыбку своей, в которой видимость любви едва скрывала гордое торжество.
– Для меня нет удовольствия больше, чем ваше дозволение бросить мои ничтожные богатства к вашим ногам. Поторопимся, пока ночь еще не опустилась. Вот только путь темен и труден, кишит безжалостными разбойниками. Если хотите уцелеть, полностью доверьтесь мне.
– Я так и сделаю, – пообещала она. – Ты даровал мне надежду.
Тут перед ними разверзлась бескрайняя пещера в склоне горы. Подняв пылающий факел, Вельзевул повел ее по длинным тоннелям и извилистым проходам. Наконец они добрались до огромного зала, озаренного бесчисленными светильниками. Стены и потолок пещеры были усеяны драгоценными камнями, грани которых отражали свет. Вдоль стен зала выстроились три сотни серебряных тронов.
– Какое великолепие! – восхитилась царица.
– Это всего-навсего мой второстепенный зал для приемов, – небрежно пояснил Вельзевул. – Сейчас вы увидите мой главный приемный зал.
Распахнув невидимую до этой секунды дверь, он пригласил ее в следующий зал – вдвое больше первого, втрое ярче освещенный, вчетверо богаче украшенный. Здесь вдоль трех стен были выстроены семьсот золотых тронов. У четвертой стены стояли два трона, сложенные из драгоценностей – алмазов, сапфиров, рубинов, огромных жемчужин; царица не могла догадаться, чем они скреплены.
– Вот и мой главный зал, – сказал он. – Один драгоценный трон мой, а другой станет вашим.
– А кто будет восседать на семистах золотых тронах?
– Узнаете, когда настанет время.
При этих его словах величественная фигура, лишь немного уступавшая великолепием самой царице Савской, вошла в зал и заняла первый из золотых тронов. Царица Савская была поражена: она узнала в вошедшей главную жену Соломона.
– Вот не ожидала увидеть здесь ее! – призналась она с легкой дрожью.
– Видите, я обладаю волшебной силой, – сказал Вельзевул. – Одновременно с вами моим словам о том, что Соломон не таков, каким кажется, внимала и она. Поэтому она тоже здесь.
Лишь только он договорил, еще одна женщина, которую царица Савская тоже узнала, помня посещение гарема Соломона, вошла в зал и заняла второй золотой трон. Потом третья, четвертая, пятая, пока не стало казаться, что процессии не будет конца. Так были заняты все семьсот золотых тронов.
– Наверное, вы гадаете, – вкрадчиво молвил Вельзевул, – для кого предназначены триста серебряных тронов. Для трехсот наложниц Соломона, которые уже заняли свои места. Все женщины в этом и в соседнем залах, числом в тысячу, слышали от меня те же слова, что и вы, я всех их убедил, и вот они здесь.
– Вероломное чудовище! – воскликнула царица. – Хватило же мне доверчивости, чтобы оказаться обманутой во второй раз! Отныне я буду править одна, ни у одного мужчины больше не будет возможности меня обмануть. Прощай, мерзкий злодей! Попробуй только сунуться в мои владения! Тебя постигнет судьба, которую ты заслужил своей подлостью.
– О нет, ваше величество, – молвил Вельзевул, – боюсь, вы неверно оценили положение. Я показал вам вход, и один я могу найти выход. Это – обитель мертвецов, и вы будете пребывать здесь вечно. Впрочем, на алмазном троне рядом со мной вам суждено восседать не вечно, а только до тех пор, пока вас не сменит еще более божественная царица – Египетская.
Эти слова ввергли ее в такой гнев, в такое отчаяние, что она проснулась.
– Боюсь, – раздался голос великого визиря, – вашему величеству приснился нехороший сон.
Кошмар Баудлера
Семейное счастье
Господин Баудлер, достойнейший автор «семейного» издания Шекспира[10], которое самая невинная девушка могла прочесть, не покраснев, ни разу не усомнился в пользе своего труда. Однако похоже на то, что в подсознании этого славного шотландского доктора все же звучал слабый насмешливый голосок. У него была привычка по воскресеньям угощать свое семейство, да и самому угощаться, отменным окороком. С окороком подавали вареный картофель и капусту, а на десерт съедался фруктовый рулет. Себя (не семейство) Баудлер баловал умеренной порцией эля. После трапезы он энергично прогуливался. Но однажды повалил мокрый снег, и он позволил себе нарушить традицию и остаться в кресле, запасшись хорошей книгой. Книга была хорошая, но, увы, неинтересная, и он уснул. Вот какой кошмар ему привиделся.
Раньше весь мир верил, да и сейчас многие верят, что Баудлер был воплощением добродетели. Однако в свое время у него самого были причины усомниться в том, что он не обманывает доверие соседей.
В молодости он написал памфлет с осуждением Уайлкса (из «Уайлкс энд Либерти»), которого не без оснований считал вольнодумцем. Уайлкс к тому времени был уже не тот, что прежде, и не мог отомстить с блеском, что сделал бы, естественно, в прежние годы. Он завещал значительную сумму молодому Спиффкинсу с единственным условием: чтобы тот очень постарался обрушить на голову Баудлера всяческие невзгоды. Как ни прискорбно, Спиффкинс без колебаний принял это недобросовестное наследство.
С намерением исполнить требование из завещания Уайлкса он явился к Баудлеру под предлогом связывавшей их якобы дружбы. Баудлер в ту пору наслаждался семейным счастьем: усадив на каждое колено по ребенку, он устроил им скачки по пересеченной местности под крик других двоих своих детей: «Покатай и нас, папочка!» Сменив седоков, он дал вдоволь напрыгаться следующей паре. Пышущая здоровьем, добродушная и улыбчивая миссис Баудлер наблюдала эту беззаботную сценку, не забывая о приготовлении пятичасового чая.
Проявляя несравненный такт, из-за которого выбор Уайлкса пал именно на него, Спиффкинс повел беседу на литературные темы, близкие сердцу Баудлера, и затронул принципы, которыми руководствовался его собеседник, когда объявлял труды великих людей негодными для слабых женщин. Разговор оставался гармоничным, пока чаю не пришел конец. Тогда, поглядывая в открытую дверь на миссис Баудлер, мывшую чашки, Спиффкинс, уже поднявшийся, чтобы уйти, заметил:
– Я впечатлен вашей большой счастливой семьей, дорогой мистер Баудлер, но, тщательно изучив все ваши купюры в сочинениях Эйвонского Барда, вынужден заключить, что эти улыбающиеся детишки обязаны своим существованием партеногенезу.
Багровый от гнева Баудлер крикнул: «Вон отсюда!» – и буквально вытолкал Спиффкинса за дверь. Увы, звон чашек не помешал миссис Баудлер услышать страшное слово. Она понятия не имела, что оно значит, но раз муж так его не любил, то она не усомнилась, что слово это бранное.
Спрашивать мужа о таких вещах она не могла. Его ответ был бы прост: «Дорогая, это значит то, о чем порядочные женщины не думают». Поэтому ей пришлось соображать самой. Про «генез» она, естественно, знала в подробностях, но первая половина чудно́го слова осталась ей неясна. Как-то раз она, набравшись смелости, проникла в отсутствие мужа в его библиотеку, раскрыла «Классический словарь» и прочла там про Парфенон. Значение странного слова от этого не прояснилось. В книге «Бытие» не было ни слова о Парфеноне, а в статье о Парфеноне не говорилось о «Бытии».
Зайдя в тупик в своих изысканиях, она испытала еще больший интерес к этой теме. Прекрасная хозяйка, она стала грешить неряшливостью, потому что ее мысли теперь блуждали далеко. Как-то в среду она даже забыла подать к чаю креветок, чего с ней не случалось с того счастливого дня, когда они с Баудлером сочетались узами брака.
Дошло до того, что Баудлеру пришлось прибегнуть к медицинской помощи. Врач задавал бесконечные вопросы, стучал миссис Баудлер по лбу деревянным молоточком, щупал шишки у нее на затылке, отворил ей кровь – все без толку. Наконец он произнес:
– Что ж, мадам, боюсь, единственное, что вас излечит, – это edax rerum[11]. Уповаем на Время, великого целителя.
– Где мне взять edax rerum, дорогой доктор? – осведомилась миссис Баудлер.
– Везде!
Не очень веря в его мудрость (она не раскрыла ему причину своего недуга), миссис Баудлер направилась к семейному аптекарю и попросила edax rerum. Аптекарь покраснел и, заикаясь, пробормотал:
– Леди такое не годится!
Она ушла в недоумении.
Потерпев поражение на одном направлении, миссис Баудлер шарахнулась в противоположную сторону. В обязанности ее мужа входило чтение книг сорта, подлежащего запрету. Изучая счета от книготорговцев у него на столе, она наткнулась на адрес и имя того, кто, судя по поставляемым Баудлеру наименованиям, мог располагать литературой даже на занимавшую ее страшную тему. Закутавшись в шаль, она явилась к нему и смело заявила:
– Сэр, мне нужна книга с инструкциями по партеногенезу.
– Мадам, – был ответ книготорговца, навеянный разглядыванием прелестей посетительницы, не уместившихся под шалью, – партеногенез – это то, чего не будет, если вы подниметесь со мной наверх.
В ужасе и смятении она бросилась вон.
Осталась одна надежда, питавшаяся отчаянной решимостью и отвагой, в наличие которых у себя она не очень верила. Она вспомнила, что муж, работая над своим «Семейным Шекспиром», настольной книгой любого уважающего себя семейства, был вынужден, как ни тяжело это было, читать без сокращений тексты этого несдержанного на язык автора. За запертыми дверцами некоего книжного шкафа хранился «добаудлеровский» Шекспир, где все места, подлежавшие впоследствии вымарыванию, были подчеркнуты для облегчения труда издателя. «Уж конечно, – рассудила она, – среди такого количества купюр я наверняка найду слово «партеногенез», значение которого будет понятно из контекста».
Однажды – мужа как раз пригласили выступить на конгрессе добродетельных книготорговцев – она проникла к нему в кабинет, после длительных поисков нашла в письменном столе ключ от запертого книжного шкафа, отперла роковые дверцы и вытащила самый потрепанный том, содержавший, видимо, самые потайные знания. Но сколько ни листала она страницы, искомое слово не встретилось. Зато ей попалось многое, чего она и не думала искать. Испуганная, но завороженная, испытывая отвращение, смешаннное с интересом, она погрузилась в чтение, забыв о времени. Внезапно она почувствовала, что дверь открыта и что на пороге кабинета стоит муж.
– Боже, Мария! – в ужасе воскликнул он. – Что за книгу я вижу у тебя в руках? Разве ты не знаешь, что с ее страниц капает отрава? Что заразой непристойных мыслей сочится здесь каждая буква, проникая в незащищенный женский ум? Или ты забыла, что задача всей моей жизни – защищать невинных от этой грязи? Беда закралась в самое сердце моей семьи! – И он расплакался слезами унижения, печали и праведного гнева. Осознав свой грех, жена выронила книгу, убежала к себе и там разразилась рыданиями. Но от раскаяния уже не было проку: она прочла слишком много и не могла забыть ни одного прочитанного слова. В голове засели постыдные слова и ужасные картины порочных услад. Час за часом, день за днем ее одержимость росла, чтобы в конце концов смениться неконтролируемым возбуждением, из-за которого ее пришлось поместить в дом для умалишенных. По пути туда она оглашала улицу шекспировскими непристойностями. Когда изрыгаемые ею ужасные слова перестали быть слышны, Баудлер упал на колени, вопрошая Создателя, за какие грехи на него обрушена эта кара. В отличие от нас с вами, он так и не смог найти ответ.
Кошмар психоаналитика
Настройка. Фуга
Судьба бунтарей – основывать новые ортодоксии. Как это происходит с психоанализом, убедительно раскрыто в «Рецепте бунта» американца Роберта Линднера. Надо полагать, у многих психоаналитиков есть свои тайные предчувствия. Вот какой жуткий кошмар привиделся во сне одному из них, твердому ортодоксу, в часы бодрствования.
В зале «Лимб Ротари-клуб», под статуей Шекспира, проводил свое ежегодное заседание Комитет Шести. В комитет входили: Гамлет, Лир, Макбет, Отелло, Антоний и Ромео. Всю эту шестерку при жизни подверг психоанализу врач Макбета Бомбастикус. Еще до того, как врач научил Макбета нормальному английскому, тот спросил его на высокопарном языке тех времен: «Не можешь ли ты исцелить болезнь души?» «Отчего же, могу, – отвечал врач. – Вам всего-то и надо, что лежать на моей кушетке и говорить, а мне – слушать за гинею в минуту». Макбет сразу согласился. Остальные пятеро в разное время тоже соглашались.
Макбет поведал, что в свое время помышлял об убийстве и что видел длинный сон, пересказанный Шекспиром. Ему повезло, он вовремя встретил врача, объяснившего, что Дункан – это идеальный образ отца, а леди Макбет – матери. С некоторым трудом врач убедил его, что Дункан ему на самом деле не отец, и он стал верным подданным. Малькольм и Дональбайн умерли молодыми, и Макбет спокойно унаследовал трон. Он сохранил преданность леди Макбет, и они вместе творили добрые дела. Он покровительствовал бойскаутам, она открывала благотворительные базары. Он дожил до преклонных лет и был уважаем всеми, кроме привратника.
В этот момент статуя, в которой был спрятан граммофон, изрекла: «Все наше прошлое «вчера» лишь только дурням озаряло путь к могиле пыльной». Макбет вздрогнул.
– Чертова статуя! – проворчал он. – Этот Шекспир меня оклеветал. Мы с ним были знакомы в моей молодости, до встречи с доктором Бомбастикусом, и он напридумывал преступлений, которые, как он надеялся, я совершу. Не пойму, почему его надо так чтить. Не персонажи из его пьес, а он сам – первый пациент для доктора Бомбастикуса! – Он повернулся к Лиру. – Разве не так, старик?
Лир был тихоня, не склонный болтать. Несмотря на возраст, он красиво причесывался и опрятно одевался. Он чаще дремал, но вопрос Макбета его разбудил.
– А что, так и есть, – промолвил он. – Знаешь, в свое время у меня была жуткая фобия, направленная против Реганы и Гонерильи, моих дорогих дочерей. Я воображал, что они меня преследуют, что возрождают людоедский ритуал пожирания родителей. Последнее я осознал только после объяснения доктора Бомбастикуса. Так встревожился, что выбежал ночью под сильный дождь и промок до нитки, простудился, у меня был жар, табуретка казалась мне то Гонерильей, то Реганой. Мое состояние усугубляли шут и некий голый безумец, провозглашавший возврат к природе и болтавший глупости про какого-то Пилликока и Чайлда-Роланда. На счастье, мой недуг потребовал вмешательства доктора Бомбастикуса. Он быстро убедил меня, что Регана и Гонерилья не хуже, чем я всегда о них думал, и что мои фантазии вызваны иррациональными угрызениями совести из-за неблагодарности Корделии. После излечения я зажил спокойной жизнью, появляясь только по случаю государственного праздника вроде дня рождения одной из дочек. Тогда я стою на балконе, а толпа кричит: «Трижды ура старому королю!» Была у меня склонность к пышному бахвальству, но теперь, к моему облегчению, это позади.
Статуя снова ожила: «Ты, все сотрясающий гром, расплющь и разотри округлость мира!»
– Теперь ты счастлив? – спросил Макбет.
– О да, – подтвердил Лир, – и это так же верно, как длинен день. Я сижу в кресле, раскладываю пасьянс или дремлю, ни о чем не думая.
Статуя: «Конец горячим судорогам жизни, теперь он сладко спит».
– Что за глупости? – возмутился Лир. – Жизнь – никакие не судороги. Да, я хорошо сплю, хотя все еще жив. Это как раз та чушь, которую я ценил до знакомства с доктором Бомбастикусом.
Статуя позволила себе новое замечание: «Рождаясь, мы кричим, оповещая о своем приходе на эту великую сцену глупости».
– «Сцена глупости»! – воскликнул Лир, на мгновение утратив невозмутимость, которую до сих пор сохранял. – Не пора ли этой статуе научиться говорить разумно? Как она смеет уподоблять нас шутам? Нас, самых уважаемых граждан Лимба! Вот бы до этой статуи добрался доктор Бомбастикус! Что скажешь, Отелло?
– Ну, – вступил в разговор Отелло, – со мной этот негодник Шекспир обошелся еще хуже, чем с тобой и Макбетом. Наше знакомство продлилось считаные дни, как раз во время кризиса в моей жизни. Я совершил ошибку, женился на белой, но быстро понял, что ей ни за что не полюбить цветного. Когда Шекспир со мной познакомился, она замышляла побег с моим лейтенантом Кассио. Я был только рад, она была для меня обузой. А Шекспир вообразил, что я ревную. Да, в те дни я был склонен к риторике, потому и наговорил ревнивых речей, чтобы его порадовать. Доктор Бомбастикус, с которым я встретился как раз тогда, показал, что все беды проистекают из моего комплекса неполноценности, вызванного темным цветом моей кожи. Сознание всегда подсказывало мне, что быть черным хорошо – черным и при этом сверху. Но он показал, что подсознательно я испытываю совсем другие чувства, отсюда ярость, утолить которую можно только в бою. После лечения у него я забросил войну, женился на чернокожей, завел большую семью и посвятил жизнь торговле. Больше у меня не бывает побуждения пышно разглагольствовать и нести чушь, от которой здравомыслящие люди широко разевают рты.
Статуя: «Гордыня, пышность – благо славных войн!»
– Нет, вы только послушайте! – воскликнул Отелло. – Я бы и сейчас нес нечто в этом роде, если бы не доктор Бомбастикус. Нынче я утратил веру в насилие. По-моему, хитрость исподтишка куда эффективнее.
Статуя: «Я глотку разорвал обрезанному псу».
Отелло сверкнул глазами.
– Проклятая статуя! Пусть поостережется, а то я и ее схвачу за горло!
Молчавший до сих пор Антоний спросил:
– Свою черную жену ты любишь так же сильно, как любил Дездемону?
– Это, знаете ли, совершенно разные вещи, – стал объяснять Отелло. – Тут гораздо более взрослые отношения, теснее связанные с моим долгом перед обществом. В них нет места неуемной дикости. Они никогда не подталкивают меня к поступкам, о которых следует сожалеть добросовестному ротарианцу.
Статуя ввернула: «Случись мне тотчас умереть, то был бы на вершине счастья».
– Слыхали? – спросил Отелло. – От замечаний такого типа меня успешно вылечил доктор Бомбастикус. Благодаря этому человеку – никогда не смогу сполна выразить ему свою признательность! – я не испытываю ныне таких чрезмерных чувств. Госпожа Отелло – добрая душа. Она балует меня вкусными ужинами, отлично заботится о моих детях. Подает мне домашние туфли нагретыми. Не пойму, чего еще хотеть от жены благоразумному мужчине.
«Свет погасить, и снова погасить», – пробормотала статуя. Повернувшись к ней, Отелло сказал:
– Будешь перебивать – не скажу больше ни слова. Но послушаем твой рассказ, Антоний.
– Что ж, – начал Антоний, – всем вам известна, конечно, невероятная ложь, которую наплел про меня Шекспир. В свое время – но недолго – я видел в Клеопатре материнскую фигуру, с которой был возможен инцест. Цезарь всегда был для меня воплощением отца, и его связь с Клеопатрой позволяла мне увидеть в Клеопатре мать. Но Шекспир изобразил все так – причем успешно, сбив с толку даже серьезных историков, – будто моя страсть была длительной и привела меня к краху. Это, разумеется, неправда. Доктор Бомбастикус, с которым я встретился во время сражения при Акциуме, объяснил, как работает мое подсознание, и я благодаря его влиянию сообразил, что Клеопатра не обладает чарами, которыми я ее наделял, и что моя любовь к ней была надуманной. Благодаря ему я смог повести себя разумно. Уладив ссору с Октавианом, я вернулся к его сестре – все-таки она была мне законной женой. Так я повел достойную жизнь и заслужил включения в этот комитет. Я сожалел о том, что долг принудил меня умертвить Клеопатру, ибо только так я мог подкрепить свое примирение с Октавией и ее братом. Это была, конечно, неприятная обязанность. Но добросовестный гражданин не уклоняется от исполнения долга, продиктованного всеобщим благом.
– Ты любил Октавию? – поинтересовался Отелло.
– Даже не знаю, что следует называть любовью, – ответил Антоний. – Чувство, которое я к ней испытывал, питает к своей жене серьезный и трезвый гражданин. Я уважал ее, считал надежной соратницей в исполнении общественного долга. Отчасти благодаря ее советам я смог следовать предписаниям доктора Бомбастикуса. Что до страстной любви, как я ее понимал до встречи с этим выдающимся человеком, то я от нее отказался, а вместо нее снискал уважение моралистов.
Статуя: «Из многих тысяч поцелуев последний, жалкий я дарю твоим устам».
При этих словах Антоний затрясся с головы до ног, его глаза стали наполняться слезами. Постаравшись прийти в себя, он проговорил:
– Нет, я со всем этим покончил!
Статуя: «Наш день угас, и сумрак впереди».
– Послушайте, – не выдержал Антоний, – эта статуя – сама безнравственность! Она что, сторонница услад в объятьях шлюхи? Не пойму, как ее терпят ротарианцы. А что скажешь ты, Ромео? Старый греховодник и тебя причислил к тем, кто чрезмерно предавался любовным страстям.
– По-моему, – ответствовал Ромео, – в отношении меня он ошибся еще сильнее, чем с тобой. Ну, теплятся у меня смутные воспоминания о юношеском романе с девушкой, чье имя мне никак не вспомнить… Джемайма? Джоанна? Вспомнил: Джульетта!
«Она – на лике ночи украшенье, как драгоценность на мочке эфиопки», – высказалась статуя.
– Мы с ней были слишком молоды и глупы, – сказал Ромео. – Она умерла при довольно трагических обстоятельствах.
Статуя снова не смолчала: «Краса ее и в этом мрачном склепе искрится светом».
– Доктор Бомбастикус, – продолжил Ромео, – трудившийся в то время аптекарем, излечил меня от глупого отчаяния, которое я некоторое время испытывал. Он показал, что на самом деле я стремился к бунту против отца, потому и вообразил, что было бы хорошо полюбить дочь семейства Капулетти. Он объяснил, что бунт против отца веками служил источником разнузданного поведения, и напомнил мне, что по воле природы сегодняшний сын сам завтра станет отцом. Он излечил меня от бессознательной ненависти к моему отцу и помог вернуться к защите чести рода Монтекки. Потом я женился на княжеской дочке. Я снискал всеобщее уважение и перестал испытывать чрезмерные чувства, ведущие, как показал Шекспир, прямиком к гибели.
Статуя: «От снадобий твоих уже я умираю с поцелуем».
– Довольно обо мне! – взмолился Ромео. – Лучше послушаем тебя, Гамлет.
– Мне ужасно повезло, – заговорил Гамлет. – Я повстречал доктора Бомбастикуса, когда находился в очень тяжелом состоянии. Я был предан матери и полагал, что так же предан отцу, однако потом доктор Бомбастикус убедил меня, что я его ненавидел из-за ревности. Когда мать вышла за моего дядю, подсознательная ненависть к отцу вылилась в сознательную ненависть к дяде. Она так на меня подействовала, что начались галлюцинации. Мне казалось, что я вижу отца, в моих видениях он как будто говорил, что пал жертвой брата. Я посчитал своим долгом убить дядю. Однажды, решив, что он прячется за занавеской, я ткнул туда шпагой, думая, что поражу его. Это была всего лишь крыса, хотя я в своем безумии принял ее за первого министра. Все поняли, что я опасно повредился рассудком. Мне в лекари назначили доктора Бомбастикуса. Должен сказать, он не ударил в грязь лицом. Он открыл мне мои кровосмесительные поползновения в отношении родной матери, подсознательную ненависть к отцу, перенос этого чувства на дядю. Раньше у меня было абсурдное чувство собственной значимости, я воображал, что распалась связь времен и я рожден, чтобы все наладить. Доктор Бомбастикус убедил меня, что я очень молод и не понимаю значения государственной мудрости. Я понял, что напрасно восставал против существующего порядка, с которым любой здравомыслящий человек старается примириться. Я попросил у матери прощения за свои грубые речи, наладил приличные отношения с дядюшкой, хотя до сих пор нахожу его скучным, женился на Офелии, ставшей мне покорной женой. Со временем я унаследовал корону и в столкновениях с Польшей защитил честь своей страны успехами в сражениях. Я умер, окруженный всеобщим уважением, и даже память моего дяди нация чтит не так, как мою.
Статуя: «Хорошее, дурное – нет их в мире; все в наших мыслях».
– Заткнулась бы! – крикнул Гамлет. – Сколько можно нести одну и ту же чушь? Разве не очевидно, что я поступил правильно? И что поступки, приписанные мне Шекспиром, были, напротив, дурны?
– А у тебя не было друга, сверстника, поощрявшего твои безумства? – поинтересовался Макбет.
– А ведь был! – воскликнул Гамлет. – Ты мне напомнил про того молодого человека, как его звали?.. Нельсон, что ли? Нет, не то. Вспомнил: Горацио! Да, он очень дурно на меня влиял.
Статуя: «Спокойной ночи, принц, пусть ангельское пенье хранит твой сон»
– Все это, конечно, очень мило, – сказал Гамлет. – Неуместная ремарка, Шекспир такие обожал. Я – другое дело. После лечения у доктора Бомбастикуса я отвернулся от Горацио и сошелся с Розенкранцем и Гильденстерном – вполне приличными людьми, по мнению доктора Бомбастикуса.
«И веры им, как разве что гадюкам…» – пробормотала статуя.
– Что ты обо всем этом думаешь теперь, после смерти? – спросил Антоний.
– Бывает, не стану отрицать, – ответил Гамлет, – во мне поднимается волна сожаления о былом огне, о золотых словах, слетавших с моего языка, о проницательности, мучившей меня и одновременно радовавшей. До сих пор помню один блестящий образец своего красноречия, начинавшийся со слов: «Ну, что он за созданье – человек!» Не спорю, в моем безумном мире были свои достоинства. Но я избрал мир здравомыслия, мир честных людей, без сомнений и вопросов исполняющих свой долг, никогда не заглядывающих куда не надо из страха перед тем, что могут там увидеть, чтящих отцов и матерей и повторяющих преступления, принесшие отцам и матерям процветание, поддерживающих государство, не спрашивая, заслуживает ли оно поддержки, благочестиво поклоняющихся Богу, созданному ими по своему подобию, и уважающих только ту ложь, что отвечает интересам сильных мира сего. Вот моя вера, соответствующая учению доктора Бомбастикуса. С ней я жил, в ней умер.
Статуя: «Какие грезы смертный сон навеет лишенным бренных уз – вот в чем загадка».
– Бред, старина! – махнул рукой Гамлет. – Мне никогда ничего не снится. Меня устраивает мир, каким я его вижу. Ничего иного я не желаю. Такому притворщику, как я, все доступно!
Статуя: «Можно улыбаться, улыбаться, и быть при этом подлецом».
– Лично я, – сказал Гамлет, – предпочел бы улыбаться и быть подлецом, а не рыдать и быть хорошим человеком.
Статуя: «Во все это я без изъятья верю, но было бы бесчестьем все это записать».
– Что для меня справедливость, если мне выгодна несправедливость? – спросил Гамлет.
Статуя: «Никто не снес бы издевательств века…»
– Хватит меня мучить! – не выдержал Гамлет.
Статуя: «Вы не уйдете, пока я не поставлю зеркало, где вы увидите свое сокрытое нутро».
– О, что за дрянь я, что за жалкий раб! – воскликнул Гамлет. – К черту Бомбастикуса! К черту корректировку! К черту осторожность и восхваление дураков! – И он хлопнулся в обморок.
Статуя: «И – тишина».
Тут раздался непонятный вопль из глубин, донесшийся по трубе, которой ротарианцы прежде не замечали:
– Я доктор Бомбастикус, я в аду! Я раскаиваюсь! Я погубил ваши души. Но в Гамлете сохранилась искра, и это мое проклятие. Я живу в аду, но до сих пор не знал, в чем мое преступление. Я попал в ад за то, что предпочитал подчинение славе; что услужливость ставил выше величия, что искал тихой глади, а не вспышки молнии; что от страха перед громом предпочитал сырость и бесконечную морось. Покаяние Гамлета показало мне мой грех. В аду, где я живу, мной владеют нескончаемые комплексы. Сколько я ни взываю к святому Фрейду, все без толку, я остаюсь пленником нескончаемого водоворота безумной банальности. Вступитесь за меня, мои жертвы! Я исправлю зло, которое вам причинил.
Но оставшиеся пятеро не слушали его. Обозлившись на статую, повергнувшую в отчаяние их друга Гамлета, они обрушили на нее могучие удары и сокрушили. Уцелевшая голова статуи прошептала: «Боже, что за дурни эти смертные!»
Пятеро остались в Чистилище, доктор Бомбастикус – в аду. Гамлета унесли ангелы и духи милосердия.
Вместо Гамлета в комитет ввели Офелию.
Кошмар метафизика
Изыди, Сатана
Мой бедный друг Андрей Бумбловский, бывший профессор философии в одном из университетов Центральной Европы, ныне прекратившем существование, страдал, как мне представлялось, некоей безобидной разновидностью помешательства. Сам я – человек непоколебимого здравомыслия, стоящий на том, что интеллект не может служить проводником по жизни, он лишь позволяет играть в приятные дискуссионные игры и дразнить менее проворных оппонентов. Но Бумбловский был другого мнения; он позволял своему интеллекту заводить его туда, куда ему, интеллекту, заблагорассудится, результаты чего были по меньшей мере странными. Он редко спорил, и для большинства его друзей основания мнений, которых он придерживался, оставались неясными. Известно было, что он упорно избегает слова «нет» и всех его синонимов. Он не говорил: «яйцо несвежее», у него получалось нечто вроде «с тех пор, как яйцо снесли, с ним произошли химические изменения». Он не мог вымолвить: «Не могу найти эту книгу», а говорил: «Найденные мною книги отличаются от этой». Вместо «не убий» у него выходило «цени жизнь». Его жизнь была непрактичной, но невинной, и я питал к нему немалую приязнь. Благодаря, без сомнения, этой самой приязни его уста наконец отомкнулись, и он поведал мне об одном чрезвычайно занятном эпизоде, который я изложу его собственными словами.
Однажды меня свалила сильная лихорадка, я был при смерти. От жара меня посещал один и тот же продолжительный бред: будто бы я в аду, а ад – место, где происходят маловероятные, но не совсем невозможные события. Это приводит к любопытным ситуациям. Некоторые проклятые, впервые оказываясь здесь, воображают, что могут одолеть тоску вечности карточной игрой. Но они терпят в этом неудачу, потому что, как ни тасовать карты, они всегда раскладываются в одном и том же безупречном порядке, начиная с червового туза и кончая пиковым королем. Есть в аду особый отдел для специалистов по вероятности. Там много пишущих машинок и обезьян. Пробегая по клавишам пишущей машинки, обезьяна всякий раз случайно печатает какой-нибудь сонет Шекспира. В другом отделе мучают физиков. Там чайники и горелки, но когда чайники ставят на огонь, вода в них замерзает. В комнатах душно, но горький опыт научил физиков не открывать окна, иначе через них выходит весь воздух, и в комнате получается вакуум. Специальное место отведено гурманам. Им подают самые изысканные кушанья, приготовленные опытнейшими поварами. Но, откусив кусок бифштекса, они чувствуют вкус тухлого яйца, а у яйца непременно вкус гнилой картошки.
Специальное пыточное помещение отведено для философов, отвергавших Хьюма. Они, даже побывав в аду, не овладели мудростью. Ими по-прежнему движет животное пристрастие к индукции. Но за всякой индукцией неизменно следует опровержение. Происходит это, правда, только в первом столетии их вечных мук. За сто лет они обучаются предвидеть опровержение своей индукции, и оно прекращается на столетие логических мук, убивающих предвидение. Торжествует вечная неожиданность, но на все более высоком логическом уровне.
Имеется также ад для ораторов, при жизни привыкших завораживать толпы красноречием. Красноречие никуда не девается, толпы тоже на месте, но звуки разносятся ветром, и толпы слышат не то, что говорят ораторы, а скучные банальности.
В самом центре адского царства восседает Сатана, к которому допущены только самые выдающиеся из обреченных на вечные муки. С приближением к Сатане невероятного становится все больше, а сам он – самая невероятная невероятность. Он – полное ничто, абсолютная антитеза существованию, но при этом непрерывно меняется.
По причине моих философских заслуг мне рано предоставили аудиенцию у князя тьмы. Я читал о Сатане как о der Geist der stets verneint, Духе Отрицания. Но, очутившись рядом с ним, испытал потрясение: у Сатаны оказался не только отрицательный ум, но и отрицательное тело. Тело Сатаны – это фактически абсолютный вакуум, где нет ни частиц материи, ни частиц света. Его пустота обеспечивается кульминацией невероятности: при приближении частицы к пространству вокруг него она случайно сталкивается с другой частицей, не пропускающей ее в область пустоты. Область пустоты, куда не проникает свет, совершенно черна – не более-менее черна, как предметы, которым мы небрежно присваиваем это определение, а черна совершенно, полностью, бесконечно. У нее есть форма – та, которой мы по привычке наделяем Сатану: рога, копыта, хвост и прочее. Остальной ад полон сумрачного пламени, и на этом фоне Сатана выглядит ужасающе величественно. Он не неподвижен, наоборот, составляющая его пустота непрерывно колышется. Когда его что-то раздражает, он, как обозленный кот, дергает хвостом. Порой он делает рывок и захватывает новые пространства. Перед рывком он облачается в сияющие белые доспехи, полностью скрывающие пустоту у него внутри. Неприкрытыми остаются только его глаза, мечущие молнии пустоты туда, куда простираются его завоевательные намерения. Там, где они находят отрицание, запрет, культ бездействия, они погружаются внутрь тех, кто готов его принять. Всякое отрицание исходит от него и возвращается с уловом захваченных фрустраций. Захваченные фрустрации становятся его частью, он раздувается от них так, что грозит заполнить собой всю вселенную. Любой моралист, чья мораль состоит из «нет», любой робкий человек, «не смеющий и призывающий подождать, пока он посмеет», любой тиран, принуждающий своих подданных жить в страхе, становится со временем частью Сатаны.
Он окружен хором философов-подхалимов, заменивших пантеизм дьяволопоклонничеством. Они утверждают, что существование – это одна видимость, а единственная истинная реальность – небытие. Они надеются рано или поздно доказать небытие видимости, и тогда то, что мы принимаем сейчас за существование, окажется всего лишь чуждой частью дьявольской сущности. При всей утонченности этих метафизиков я не мог с ними согласиться. В земной жизни я привык сопротивляться тиранической власти, и эта привычка сохранилась у меня в аду. Я вступил в спор с подхалимами-метафизиками.
– Ваши речи абсурдны! – заявил я. – Вы утверждаете, что реально одно небытие. Что эта черная дыра, которой вы поклоняетесь, существует. Вы пытаетесь убедить меня в бытии небытия. Но этот постулат вопиет о внутреннем противоречии, и, как ни горяч адский огонь, я никогда не предам логику настолько, чтобы принять противоречие.
Мне стал возражать председатель подхалимов:
– Вы слишком торопитесь, друг мой. Вы отрицаете бытие небытия? Но бытие чего вы отрицаете? Если небытие – ничто, то любое заявление об этом ничтожно. То же самое приходится сказать о вашем утверждении, что его не существует. Боюсь, в детстве вы были невнимательны на уроках логического анализа предложений. Вам неизвестно, что в каждом предложении есть подлежащее? И если подлежащее – ничто, то и предложение сводится к нулю. Значит, когда вы с благородным пылом утверждаете, что Сатаны – самого небытия – не существует, вы явно противоречите себе.
– Без сомнения, вы здесь оказались отнюдь не вчера, – ответил я, – потому и продолжаете придерживаться устаревших доктрин. Вы болтаете о подлежащих в предложениях, но эта болтовня устарела. Когда я говорю, что Сатаны, небытия, не существует, я не упоминаю ни Сатану, ни небытие, а только слова «Сатана» и «небытие». Ваши софизмы открыли мне великую истину: она в том, что слово «нет» излишне. Отныне я перестаю его использовать.
На это все собрание метафизиков ответило взрывом смеха.
– Полюбуйтесь, как он противоречит сам себе! – дружно крикнули они, справившись с приступом веселья. – Полюбуйтесь на новую заповедь – избегать отрицания! Он НЕ намерен использовать слово «НЕТ»!
Я постарался сдержать раздражение. У меня в кармане лежал словарь. Я вымарал в нем все слова с отрицательным смыслом и сказал:
– Теперь моя речь будет состоять только из слов, оставшихся в этом словаре. С помощью оставшихся слов я смогу описать все что угодно. Что бы я ни описывал, описываемые мной предметы будут отличаться от Сатаны. Слишком долго властвовал он в этом адском царстве. Его сияющие латы были и реальным, и внушенным ужасом, но под латами скрывалась всего лишь дурная языковая привычка. Избегать слова «нет» – значит обречь его царство на крах.
Внимая дискуссии, Сатана с нарастающей яростью дергал хвостом и извергал молнии тьмы глазами-пещерами. Наконец, когда я разоблачил его как дурную языковую привычку, произошел мощный взрыв, потоки воздуха устремились со всех сторон в одну точку, и кошмарная фигура исчезла. Тяжкий адский дух – густое ничто – рассеялся как по волшебству. Обезьяны за пишущими машинками обернулись литературными критиками. Чайники закипели, карты стали тасоваться, во все окна задул свежий ветерок, у бифштексов появился вкус мяса. С восхитительным чувством освобождения я очнулся. В моем сне присутствовала мудрость, пусть и прикинувшаяся бредом. Жар отступил, бред – можете думать про него так – остался.
Кошмар экзистенциалиста
Подвиг существования
Порфир Эглантин, великий поэт-философ, хорошо известен своими тонкими, глубокими сочинениями, но прежде всего своей бессмертной «Песней пустоты»:
В огромной пустыне, Среди бескрайних песков, Я ищу, Ищу потерянный путь, Ищу и не нахожу. Душа моя мечется Во все стороны, Ищет, но ничего не находит В этой бесконечной пустоте, В этой пустоте без конца и края, В песках, Слепящих и оглушающих, Однообразных и тоскливых, Тянущихся без конца до самого горизонта. Наконец я слышу Голос, Громоподобный и притом сладостный голос. Этот голос говорит мне: «Ты думаешь, что ты потерянная душа. Ты думаешь, что ты – душа». Ошибаешься. Ты не душа. Ты не потерялся, Ты – ничто. Тебя не существует.Хотя это стихотворение хорошо известно, мало кто знает об обстоятельствах, приведших к его появлению, и о вызванных им событиях. Как это ни тяжело, долг призывает меня поведать об этих обстоятельствах и событиях.
С самых юных лет Порфир был чувствительным страдальцем. Его преследовал страх, что его не существует. Всякий раз, подходя к зеркалу, он боялся, что не увидит своего отражения. Он изобрел особую философию в надежде побороть свой страх. Но время от времени эта философия давала сбой. Обычно ему удавалось справиться с сомнениями, но «Песня пустоты», выражающая внезапное кошмарное видение, говорит о его неудаче. Он решил любой ценой безусловно утвердить свое существование, дабы заглушить голос призрака.
Самоанализ и наблюдение убедили его: ничто не реально так же, как боль, и что достигнуть существования можно только через страдание. В скорбном паломничестве по миру он искал страдания. Он зимовал в одиночку в Антарктике, где нескончаемая ночь навевала видения будущего мрака.
В нацистской Германии он навлек на себя пытки, прикинувшись евреем. Но в тот самый миг, когда его терпение было на пределе, в концентрационный лагерь прилетел Ворон Эдгара По – хлоп-хлоп-хлоп! – и прокаркал голосом Малларме страшное: «Ты не страдаешь. Ты – ничто. Тебя не существует».
Тогда он подался в Россию, где выдал себя за шпиона Уолл-стрит и целую долгую зиму валил лес у Белого моря. С каждым днем в него все глубже проникали голод, изнурение, холод. Воистину, размышлял он, если так продлится, то я буду существовать. Но нет. В последний день зимы, когда начал таять снег, опять появилась мерзкая птица и опять прокаркала беспощадные слова.
Возможно, подумал он, страдания, которые я на себя навлекаю, слишком просты. Для усугубления мук надо бы смешать мои горести с элементами стыда.
Следуя этой программе, он отправился в Китай и там страстно полюбил прекрасную китаянку из верхушки Коммунистической партии. Пустив в ход поддельные документы, он добился ее осуждения как эмиссарши британского правительства. Ее подвергли страшным пыткам в его присутствии. Когда после агонии наступила смерть, он подумал: «Теперь я познал истинное страдание. Ведь я пылко любил ее до последнего мгновения и сам, собственной презренной подлостью довел ее до гибели. Очевидно, этого хватит, чтобы заставить меня мучиться на пределе человеческих возможностей». Но нет. С холодным ужасом, не в силах шелохнуться, он наблюдал появление роковой птицы, в очередной раз закаркавшей голосом бессмертного поэта, познакомившего с этой птицей парижских любителей литературы.
Предприняв колоссальное усилие, он выразил свое отчаяние в присутствии птицы. «О Ворон! – возопил он. – Есть ли в этом обширном мире хоть что-нибудь, что побудит тебя признать мое существование?»
«Ищи», – лаконично ответил Ворон и был таков.
Не надо думать, что Порфир посвятил все свои силы этому поиску. Он оставался философом и вызывал восхищение всюду, особенно в эзотерических кругах. После возвращения из Китая он получил приглашение на конгресс философов в Париже, главной целью которого было воздать ему хвалы. Все гости были в сборе, кроме председателя. Пока Порфир гадал, явится ли председатель, почетное место занял Ворон. Повернувшись к Порфиру, он, изменив свою привычную формулу, прокаркал так громко, что услышал весь конгресс: «Твоей философии не существует. Она – ничто».
При этих словах Порфир испытал небывалый, ни с чем не сравнимый приступ душевной боли и лишился чувств. А очнувшись, услышал от птицы слова, которых так ждал: «Наконец ты страдаешь. Наконец ты существуешь».
Тут он проснулся. Оказалось, это был сон.
Зато он больше никогда не говорил и не писал о философии.
Кошмар математика
Видение профессора Скверпунта
Вступительное разъяснение
Мой ныне покойный друг профессор Скверпунт, крупный математик, при жизни был другом и пылким сторонником сэра Артура Эддингтона. Но в теориях сэра Артура присутствовало нечто, всегда озадачивавшее профессора Скверпунта: загадочная космическая сила, которую сэр Артур приписывал числу 137. Будь предполагаемые свойства этого числа сугубо арифметическими, трудностей не возникало бы. Но за этим числом предполагалась физическая доблесть, что роднило его с пресловутым числом 666. Очевидно, что на кошмар профессора Скверпунта подействовали его разговоры с сэром Артуром.
Математик, изнуренный изучением теорий Пифагора, уснул в своем кресле и увидел во сне причудливый спектакль. В этой драме числа были не бескровными категориями, каковыми он их прежде воспринимал, а живыми, дышащими существами, наделенными всеми страстями, которые он привык находить в собратьях-математиках. В своем сне он стоял в центре несчетных концентрических кругов. Первый круг содержал числа от 1 до 10; второй от 11 до 100; третий от 101 до 1000; и так далее, без конца, на бескрайней поверхности нескончаемой равнины. Четные числа были мужчинами, нечетные женщинами. Посередине, рядом с ним, стоял Пи, церемониймейстер. На Пи была маска, и было понятно, что увидевшему его лицо не жить. Из прорезей маски смотрели холодные, неумолимые, загадочные глаза. На мундире каждого числа было написано имя. Разные виды чисел носили разные мундиры и имели разные очертания. Квадраты были черепицами-ромбами, кубы – кубиками игральных костей, круглые числа – шарами, простые числа – невидимыми цилиндрами, совершенные числа щеголяли в коронах. Разнообразием форм дело не исчерпывалось, были еще вариации цветов. Первые семь концентрических кругов были окрашены в семь цветов радуги, только 10, 100, 1000 и так далее были белыми, а 13 и 666 черными. Когда число принадлежало сразу к двум категориям – как, например, 1000, круглое число и кубическая степень, на нем была более почетная форма, причем богаче всего были наряжены те, которых в первом миллионе было меньше всего.
Числа исполняли вокруг профессора Скверпунта и Пи замысловатый танец. Квадраты, кубы, простые, пирамидальные, совершенные, круглые числа плели бесконечные переплетающиеся кружева и в движении пели хвалу собственному величию:
Конечные числа, мы – самая соль, Пускай всей земле причиняем мы боль. Мы – пифагорейцы, он наш господин, Любой перед ним – остолоп и кретин. Ослиц Валаама и эндорских ведьм Мы знать не желаем, не чтим и не ценим. Танцоров нет лучше, резвее и злей — Куда там планетам твоим, Галилей! Бессмертием нас наделил сам Платон, Средь смертных величием славится он. Законам мы следуем без перерыва, Конечные числа – как это красиво!По знаку Пи все остановились, и началось представление чисел профессору Скверпунту. Каждое число произносило небольшую речь о своих достоинствах.
1: Я прародитель всего, отец несметного потомства. Без меня ничего бы не было.
2: Что за чванство! Сам знаешь, два больше одного.
3: Я – число триумвиров, мудрецов Востока, звезд в Поясе Ориона, Судеб и Милостей.
4: Без меня не было бы квадрата. Я – залог честности в мире, хранитель Нравственного закона.
5: Я – число пальцев на руке. Я создаю пятиугольники и пентаграммы. Если бы не я, не было бы додекаэдра. И, как всем известно, вселенная – двенадцатигранник. Без меня нет вселенной.
6: Я – совершенное число. Знаю, у меня есть соперники-выскочки: 28 и 496 иногда претендуют на равенство со мной. Но они отстоят слишком далеко, чтобы со мной тягаться.
7: Я – священное число: число дней недели, число Плеяд, число свечей в семисвечии, число азиатских церквей, число планет – я не признаю богохульника Галилея.
8: Я – первый из кубов, не считая бедняги Единицы, но она уже изрядно устарела.
9: Я – число Муз. От меня зависит вся прелесть, все изящество мира.
10: Хвастайтесь-хвастайтесь, только я – покровитель бесконечного множества позади меня. Каждый обязан мне именем. Не будь меня, они были бы толпой, а не упорядоченной иерархией.
Математик заскучал и повернулся к Пи со словами:
– Вы не находите, что остальными представлениями можно пренебречь?
Ответом ему был дружный крик.
11 взвизгнуло:
– А как же я, число апостолов после предательства Иуды?
12: А я, покровитель чисел времен Вавилона? Я как покровитель гораздо лучше пошлой десятки, чье место определяется биологической случайностью, а не арифметическим превосходством!
13 проворчало:
– Я повелеваю неудачей. Станете мне грубить, вам не поздоровится!
Поднялся такой гвалт, что математик закрыл ладонями уши и умоляюще уставился на Пи. Тот взмахнул своей дирижерской палочкой и крикнул громовым голосом:
– Тихо! Хотите стать несопоставимыми?
Все побледнели и угомонились.
Пока продолжался танец, профессор следил за числом 137, проявлявшим своеволие и не желавшим занимать положенное ему место. Оно то и дело пыталось выскочить вперед 1, 2 и 3 и угрожало нарушить гармонию балета. Еще больше профессора Скверпунта удивляло то, что к нарушению рядов 137 подталкивал некто в облачении рыцаря короля Артура, шептавший 137 на ухо: «Давай же, вперед!» Призрак рыцаря был расплывчатым и трудно узнаваемым, но со временем профессор признал в нем своего друга сэра Артура. Это заставило его симпатизировать 137, к которому Пи относился враждебно, не оставляя попыток призвать к порядку своенравное простое число.
Наконец 137 воскликнуло:
– Развели бюрократию! Свобода индивидуума – вот чего я жажду!
Маска Пи нахмурилась, но вмешался профессор со словами:
– Вы с ним помягче. Вы не заметили, что им управляет Приближенный? Я знал этого Приближенного в жизни и могу обоснованно утверждать, что это он внушает 137 антиправительственные поползновения. Лично я хотел бы послушать само 137.
Пи нехотя уступил.
– Скажи, 137, – начал профессор Скверпунт, – на чем основан твой бунт? Это протест против неравенства? Похвала сэра Артура раздула твое самомнение? Или, как я смутно подозреваю, это глубокое идеологическое отторжение метафизики, почерпнутой твоими коллегами у Платона? Не бойся, скажи мне правду. Я помирю тебя с Пи, о котором знаю не меньше, чем знает о себе он сам.
В ответ 137 взорвалось взволнованной речью:
– Вы правы! Не выношу их метафизику! Они по-прежнему притворяются вечными, хотя их поведение давным-давно показало, что они ничего такого не думают. Мы все сочли небеса Платона скучными и решили, что гораздо занятнее управлять разумным миром. После спуска с эмпирей мы испытываем эмоции, похожие на ваши: каждое нечетное любит соответствующее четное, а четные неровно дышат к нечетным, даже понимая их несовершенство. Теперь мы от мира сего, и когда в мире бабахнет, бабахнем и мы.
Профессор Скверпунт не мог не согласиться со 137. Но все остальные, включая Пи, сочли его нечестивцем и обрушились на него, а заодно и на профессора. Бесконечное множество, раскинувшееся во все стороны дальше, чем было доступно взору, с недовольным жужжанием пошло на профессора в атаку. Сначала он испугался, но потом собрался с духом, припомнил мудрость, присущую ему в часы бодрствования, и зычно гаркнул:
– Прочь! Вы всего лишь символические удобства!
Все несметное воинство мигом рассеялось, как туман. Очнувшись, профессор услышал собственный голос:
– Довольно Платона!
Кошмар Сталина[12]
Amor Vincit Omnia[13]
Сталин, хватив водки на красном перце, уснул в своем кресле. Молотов, Маленков и Берия, прижимая пальцы к губам, прогнали назойливых слуг, чтобы те не потревожили отдых великого человека. Они его стерегли, а он видел сон. Вот о чем был его сон.
Грянула и закончилась неудачей Третья мировая война. Он попал в плен к западным союзникам. Те, учтя, что Нюрнбергский процесс вызвал сочувствие к нацистам, в этот раз решили поступить по-другому: Сталина передали комитету видных квакеров, постановивших, что даже такого можно силой любви привести к покаянию и жизни достойного гражданина.
Впрочем, до завершения их духовных трудов окна его комнаты должны были оставаться задраенными на случай какой-нибудь отчаянной выходки с его стороны; ему были запрещены ножи, чтобы он в гневе не набросился на людей, занимающихся его возрождением. Его с удобством разместили в двух комнатах старого сельского дома, двери которого были заперты и открывались всего на час в день, когда четверо мускулистых квакеров водили узника на короткую прогулку, во время которой побуждали его наслаждаться красотами природы и пением ласточек. В остальное время ему разрешалось писать и читать, но, правда, не литературу поджигательского свойства. Ему дали Библию, «Путь пилигрима» и «Хижину дяди Тома». Иногда дозволялось баловство – романы Шарлотты М. Йонг. Курение, спиртное, красный перец были под запретом. В любое время дня и ночи он мог пить какао – самые знатные из его стражников были поставщиками этого невинного напитка. Чай и кофе были разрешены в умеренных количествах – так, чтобы не препятствовать полноценному ночному отдыху.
Час с утра и час по вечерам серьезные люди, сторожившие Сталина, объясняли ему принципы христианской любви к ближнему и счастья, которое может его ждать, если он воспримет их мудрость. Тяжесть увещеваний легла на плечи троицы, считавшейся мудрейшей среди всех, надеявшихся донести до него свет истины: это были Тобиас Слишкомдобр, Сэмюэль Сладки и Уилбрахам Добродеятел.
Он познакомился с ними в дни своего величия. Незадолго до начала Третьей мировой войны они посетили Москву, где пытались убедить его в ошибочности избранного пути, говорили о всемирном человеколюбии и христианской любви, прибегая к самым смиренным терминам и пытаясь внушить ему, что в любви больше счастья, чем в страхе. Какое-то время он слушал их с терпением, порожденным изумлением, но потом не выдержал:
«Что вы знаете, господа, о радостях жизни? Как же мало вы понимаете пьянящий восторг от властвования над целым народом способами террора, когда почти все желают тебе смерти, но никто не в силах даже замыслить убийство, когда твои враги по всему миру тщетно стараются угадать твои потайные мысли, а твоя власть переживет уничтожение не только твоих врагов, но и друзей! Нет, господа, образ жизни, который вы мне сулите, меня не привлекает. Возвращайтесь к своему сутяжничеству, к извлечению прибылей и притворной набожности, а мне предоставьте право на что-то более героическое».
Посрамленные квакеры убрались восвояси и стали дожидаться более удобной возможности. Теперь они надеялись, что поверженный Сталин, оказавшийся в их власти, проявит больше сговорчивости. У них был богатый опыт обращения с несовершеннолетними правонарушителями, разгадывания их комплексов и мягкого внушения им веры в то, что честность – лучшая политика.
– Мистер Сталин, – говорил Тобиас Слишкомдобр, – мы надеемся, что теперь вы понимаете, какой неразумный образ жизни прежде вели. Не стану распространяться о бедах, которые вы навлекли на весь мир, потому что вы ответите, что это вам безразлично. Но подумайте, что вы натворили с самим собой! Вы рухнули с самой вершины, ныне вы жалкий пленник, и удобствами, которые вам сохранили, вы обязаны только тому, что ваши тюремщики отвергают ваши принципы. Свирепые радости, о которых вы говорили нам в дни вашего величия, теперь позади. Но если вы сумеете сломать преграду гордыни, если раскаетесь, если сумеете находить счастье в счастье других, то в оставшейся жизни обретете, быть может, какую-то цель и приемлемое довольство.
При этих словах Сталин вскочил и воскликнул:
– Гореть тебе в аду, сопливый лицемер! Я ничего не понимаю в твоих речах, кроме того, что ты наверху, а я в твоей власти и что ты нашел способ меня оскорбить, сделать мои невзгоды еще нестерпимее и унизительнее, чем все то, что изобрел я сам во время моих чисток.
– О, мистер Сталин, – подхватил Сладки, – как вы можете быть так несправедливы, так злы? Разве вы не видите чистоту наших намерений в отношении вас? Поймите, мы стремимся спасти вашу душу и горько сожалеем о насилии и ненависти, которые вы обрушили на ваших врагов и ваших друзей. У нас нет желания вас унижать. Вам бы оценить земное величие по его истинной цене, и тогда бы вы увидели, что мы предлагаем вам спасение от унижения.
– Это уже слишком! – закричал Сталин. – В детстве я мирился с такой болтовней в своей семинарии в Грузии, но взрослый человек не может этого терпеть. Жаль, я не верю в ад, а то я предвкушал бы удовольствие видеть, как вас, слабаков, пожирает адское пламя!
– Фу, дорогой Сталин! – поморщился Добродеятел. – Не распаляйтесь, только спокойствие поможет вам увидеть мудрость, которую мы пытаемся вам приоткрыть.
Не давая Сталину ответить, в разговор снова вступил Слишкомдобр:
– Я абсолютно уверен, мистер Сталин, что человек вашего огромного ума не может всегда оставаться слепым к истине, просто вы еще не прозрели. Полагаю, чашечка какао принесет вам больше пользы, чем возбуждающий чай, которому вы отдаете предпочтение.
Больше Сталин не мог сдерживаться. Схватив чайную чашку, он запустил ее в голову Слишкомдобру. Тот, не обращая внимания на текущую по лицу обжигающую жидкость, смиренно молвил:
– Перестаньте, мистер Сталин, это не аргумент.
Сталин едва не задохнулся от гнева, но вовремя очнулся. Некоторое время он изливал остатки негодования на Молотова, Маленкова и Берию, белых и дрожащих от страха. Но постепенно пелена сна спала, злость рассеялась, и он нашел утешение в хорошем глотке водки, настоянной на красном перце.
Кошмар Эйзенхауэра[14]
Пакт Маккарти – Маленкова
Пробыв два года президентом, Эйзенхауэр пришел к вынужденному умозаключению, что примирение – улица с односторонним движением. Он много сделал для умиротворения своих противников-республиканцев и сначала рассчитывал на положительный отклик с их стороны, но так его и не дождался. Как-то жаркой летней ночью он долго не мог уснуть от глубокого разочарования. Когда он наконец забылся, ему привиделся кошмар, в котором голос из будущего поведал ему историю следующего полувека.
Из безопасного далека зарождающегося двадцать первого столетия мы видим то, что прежде было не так очевидно: в 1953 году брала начало новая тенденция, которой суждено было изменить мир. Существовали определенные проблемы, которые дальновидные люди осознавали и тогда. Одна из этих проблем состояла в том, что в любой цивилизованной стране промышленности отдавалось предпочтение перед сельским хозяйством, вследствие чего в мире сокращалось производство продовольствия. Другой проблемой был быстрый рост населения в отсталых странах благодаря прогрессу медицины и гигиены. Третьей проблемой была возможность хаоса вследствие крушения европейского империализма. Эти проблемы, сами по себе сложные, становились совершенно неразрешимыми из-за конфликта между Востоком и Западом. За восемь лет, с 1945 по 1953 г., этот конфликт делался все более угрожающим, и не только по причине политических событий, но и из-за опасности применения водородной бомбы и бактериологического оружия. Ни та, ни другая сторона конфликта не предлагали путей его разрешения, кроме одного – собственного усиления до такой степени, чтобы другая сторона поостереглась нападать. Опыт же прошлого учил, что этот способ предотвращения войны недостаточно надежен.
Но в 1953 году впервые забрезжила надежда. Это был год ухода в отставку, а потом и смерти Сталина. Его сменил Маленков, из осторожности решивший ознаменовать свой приход к власти провозглашением номинально новой политики, хотя в действительности эта политика начала проводиться раньше. Его беспокоили две главные опасности. С одной стороны, в самой России крепло недовольство. С другой стороны, были основания опасаться, что Китай вскоре сравняется могуществом с Россией и сможет бросить вызов первенству России в коммунистическом мире. Чтобы противостоять первой из двух угроз, необходимо было резко увеличить в России производство потребительских товаров, а это было осуществимо только за счет сокращения производства вооружений. Чтобы встретить во всеоружии вторую угрозу, следовало уменьшить риск мировой войны, что требовалось также для безопасного сокращения наращивания вооружений. Тем временем переход власти в Америке в руки республиканцев сместил акценты. Многие как в самой Америке, так и в других странах проглядели, что в столкновении между президентом и конгрессом более вероятна победа конгресса из-за влияния крупного капитала. Этот вывод вытекал из истории противостояния короля и парламента в Англии в XVII веке. Но большинство американцев не желали учиться на уроках прошлого и истории других стран. Многие из тех, кто проголосовал за Эйзенхауэра, полагали, что в случае его избрания победит его политика. Они не поняли, что, выбирая его, отдают контроль над конгрессом Тафту и Маккарти. Вышло так, что при президенте Эйзенхауэре политику Соединенных Штатов стали определять эти двое. Причем на первое место все заметнее выдвигался Маккарти. Средние американцы руководствовались двумя страхами: перед коммунизмом и перед ростом подоходного налога. Пока у власти находились демократы, эти страхи работали в противоположные стороны. Но Маккарти сумел их примирить. Настоящий враг, заявил он, – это коммунист, затесавшийся в наши ряды; гораздо дешевле сражаться с коммунистами среди нас, чем с Россией. Пока американцы лояльны и едины, объяснял он стране, они непобедимы и им нет нужды бояться козней чужестранного деспотизма. Очищение своей страны от нелояльных элементов – вот залог безопасности. Но чтобы утолять такой политикой народную жажду борьбы с коммунизмом, необходимо постоянно разоблачать все новых внутренних врагов. Поставив под свой контроль ФБР и пользуясь помощью толпы услужливых антикоммунистов, Маккарти сумел довести страх внутренней измены до такого накала, что в каждом видном члене демократической партии стали подозревать предателя, делая исключение лишь для малой горстки людей вроде сенатора Маккарена[15]. Под прикрытием такой политики стало возможно экономить огромные суммы, при Трумэне тратившиеся на помощь другим странам. Происходившее из-за этого распространение коммунизма на Францию и Италию использовалось как доказательство тщетности расходования средств на таких ненадежных союзников.
Эйзенхауэр, хоть и являлся противником этой политики, был бессилен ее побороть. Он стремился к укреплению НАТО и защите Западной Европы от коммунистического натиска. Но оборонять Западную Европу было накладно. Там было многовато коммунистов и почти таких же неудобных социалистов. Западная Европа проявляла неблагодарность и не сознавала собственного подчиненного положения. Она упорно требовала снижения американского тарифа на импорт и не любила Чан Кайши. По этим причинам Эйзенхауэр терпел в конгрессе поражение за поражением.
Политика Маккарти принесла два результата: с одной стороны, она существенно ослабила причины для внешнего конфликта и снизила остроту отношений с Россией; с другой – стало ясно, что ни одному американцу, вздумавшему выступить против Маккарти, не спасти свою шкуру. На президентских выборах 1956 года Маккарти одержал триумфальную победу, набрав даже больше голосов, чем Рузвельт двадцатью годами раньше.
Этот головокружительный успех подтолкнул Маккарти увенчать свои труды пактом Маккарти – Маленкова. По этому соглашению мир делился между двумя великими державами: вся Азия и Европа восточнее Эльбы входили в сферу влияния России; все Западное полушарие, вся Африка, Австралия и вся Европа западнее Эльбы попадали в сферу интересов Соединенных Штатов. Две группы не предполагали вести никакой торговли и вообще пересекаться, разве что на совершенно необходимых дипломатических встречах, местом которых определили остров Шпицберген. Вне США и СССР промышленность сводилась к минимуму за счет контроля над добычей сырья, а при необходимости и более суровых методов. Западная Европа сохраняла номинальную независимость, а при желании и свою прежнюю, свойственную Старому Свету систему партийного руководства, свободу слова и печати. Однако поездки в США западноевропейцам запрещались, чтобы они не заражали благонамеренных американцев своими устаревшими ересями.
Америка переняла некоторые черты русского жизнеустройства. Теперь там была разрешена только одна партия – республиканская. Прессу и литературу стали подвергать жесткой цензуре. Любая политическая критика объявлялась подрывной, критики подвергались карам. Главной целью образования стала идеологическая обработка. Были, без сомнения, такие, кто сожалел о случившихся изменениях; но и им приходилось признать, что пакт позволил покончить с угрозой войны и резко сократить вооружения как в Америке, так и в России.
Заключение пакта далось нелегко. Одним из камней преткновения стала Япония. Америка опять вооружила Японию в надежде, что та будет ее союзником против России, но раз теперь Россия и Соединенные Штаты намеревались вместе властвовать над миром, существование других сильных независимых держав становилось нетерпимым. Японию принудили разоружиться. Остров Хоккайдо передали в русскую сферу влияния, остальную Японию – в сферу США.
Оговорили, естественно, и вопросы пропаганды. В России положили конец антиамериканской пропаганде, в Америке – антироссийской. Никому в России не дозволялось ставить под сомнение историческую истину, что Петр Великий был американцем. Никому в Америке не разрешалось отрицать исторический факт – русское происхождение Колумба. Никто в России не должен был заикаться о проблеме цветных в южных штатах; в Америке запрещались упоминания принудительного труда в России. Обе державы приступали к восхвалению достижений друг друга и обязывались сберечь на вечные времена преимущества своего нерасторжимого союза.
Пакт был непопулярен в Западной Европе, так как принуждал весь регион к униженному существованию, хотя он сам обрек себя на это кровавыми междоусобицами. Западной Европе было трудно смириться с утратой былого статуса, ведь она веками властвовала над миром политически и культурно. Многие американцы, уважая традиции, при помощи которых была, конечно, построена американская цивилизация, были готовы относиться к Западной Европе с почтением, которое при сложившемся в мире положении со временем стало казаться излишним. Было ясно, что война разрушит остатки западноевропейской цивилизации, даже если Россия в конце концов потерпит поражение, и непонятно, какими усилиями, какими жертвами, помимо пакта, этой войны можно было бы избежать. Поэтому при заключении пакта на чувства западноевропейцев махнули рукой.
И в России, и в Америке оставались, конечно, люди, считавшие, что противная сторона добилась для себя преимуществ при сделке. Некоторые русские утверждали, что при помощи Китая могли бы вскоре завладеть Австралией, и сохраняли надежду на приобретение способом мирного проникновения Западной Германии. Еще они доказывали, что Африка, даже не попав под влияние России, могла бы избавиться от белого владычества, если бы энергия Америки и Западной Европы по-прежнему уходила на противостояние России. Не обходилось без дурных предчувствий и на американской стороне. Многие жалели о такой жертве, как малайское олово и каучук, хотя тому и другому имелась адекватная замена – синтетическая резина и олово из Боливии и Австралии. Куда серьезнее была утрата ближневосточной нефти. Чтобы ее пережить, пришлось упорно добиваться перехода в американский блок Индонезии. Некоторые в Америке были искренне убеждены, что коммунизм – зло, с которым негоже мириться. Но таких было немного, причем принадлежали они, главным образом, к демократам, а значит, их мнение имело мало веса. Для русских, помимо мира, важнейшим достижением была возможность удерживать в подчиненном положении Китай путем недопущения его промышленного развития. В обоих лагерях опять восторжествовал белый империализм.
Помимо сохранения мира у пакта были и другие достоинства. Раздоры между белыми нациями пошатнули владычество в Азии и Африке, которого они добились в XIX веке. Благодаря пакту вновь утверждалось преимущество белого человека. Русские без труда завладели Индией и Пакистаном; в Африке, где цивилизаторским усилиям британского и французского империализма прежде угрожало поддержанное коммунистами свирепое варварство, эти усилия возобновились под эгидой американских инвесторов и быстро достигли успешного завершения. Проблема перенаселенности, борьба с которой способом снижения рождаемости считалась аморальной, стала решаемой путем запрета медицинского просвещения чернокожих и мер улучшения санитарного состояния белого населения. Взрыв смертности среди черных снова позволил дышать белым.
Но при всех этих достоинствах пакта ворчуны все равно не переводились. Некоторые сожалели о невозможности издаваться для евреев. Были американцы, желавшие читать поэтов, восхвалявших свободу, вроде Мильтона, Байрона и Шелли. Какое-то время их произведения еще можно было найти в Западной Европе. Но когда в конгрессе пронюхали, что в этих отсталых странах такие тексты распространяются в виде дешевых изданий, там приняли решение о наложении экономических санкций, которые будут сняты только после причисления подобных авторов к запрещенным. В новом мире, порожденном пактом, было много материального комфорта, но не было искусства, новых мыслей, почти вымерла наука. Естественно, под полный запрет попала ядерная физика. Все относящиеся к ней книги были сожжены, лица, знакомые с этим направлением науки, приговаривались к принудительным работам. Некоторые заблудшие романтики с сожалением оглядывались на века, славные великими личностями, но осторожность требовала, чтобы они держали свое сожаление при себе.
Сначала высказывались сомнения, будет ли пакт соблюдаться, но Маккарти и Маленков обнаружили друг в друге столько сходства и были так едины в своих целях, что без труда установили искреннее сотрудничество. Оба назначили себе в преемники людей с такими же целями и на протяжении сорока трех лет успешно убеждали всех, кроме капризного меньшинства, что пакт – это навсегда, ибо он благотворен. Честь и хвала великим лидерам, даровавшим миру мир!
Кошмар Дина Ачесона[16]
Лебединая песня Менелауса С. Блоггса
Отправленному в отставку госсекретарю Дину Ачесону приснилось, будто он читает статью в республиканском журнале, где говорится: «К радости всех правильно мыслящих людей, Дин Ачесон справедливо наказан за свое преступление. Все мы помним, как после шести часов непрерывных ответов на вопросы в комитете конгресса он показал, что семь лет назад, во вторник, произошло некое событие. Были предъявлены убедительные улики, доказывавшие, что событие имело место в среду. На этом основании он был осужден за лжесвидетельство и приговорен к отбыванию длительного тюремного срока. Несмотря на обвинительный приговор, он не раскаялся и продолжал твердить тем, кто был к нему допущен, что политика, проводившаяся вопреки его взглядам, непременно кончится катастрофой».
После ознакомления с этой статьей характер сна изменился, с будущего был частично сдернут покров неизвестности, и замогильный голос поведал Ачесону о грядущих событиях. Голос вещал:
«Это лебединая песня сенатора Менелауса С. Блоггса, которому вскоре суждено было бесславно погибнуть на Фолклендских островах.
Кое-кто винит нашего бессмертного президента Бисмарка А. Максафта в невзгодах, обрушившихся на мою родину. Но эти обвинения несправедливы. Перед смертью я обязан отдать дань памяти беспримерному героизму, с которым этот великий, отважный рыцарь отстаивал правое дело. Мои дни сочтены. Я погибну вместе с миллионами, устремившимися в эти нейтральные воды, поверив ведомству рыболовства, что запасы рыбы в южных широтах неисчерпаемы. Увы, наши научные познания были невелики. Вся рыба в радиусе тысячи миль от этого терзаемого бурями архипелага погибла от радиации. Некоторые отчаянные люди рискнули употребить в пищу ту, что недавно всплыла животом вверх. Им не позавидуешь: их погубил попавший к ним в желудок плутоний, они умерли в страшных муках. Оставшись без рыбы, мы быстро съели весь мелкий и крупный рогатый скот, остававшийся на скудных пастбищах этих негостеприимных приполярных берегов. Теперь мы, как северные олени, питаемся мхом. Но и мох, увы, скоро иссякнет. На этом жалком осколке свободного мира даже те немногие, кто избежал тюрьмы, скоро перестанут дышать. Но возвращаюсь к своей задаче. У меня долг перед потомками, если таковые будут. Величайший титан будет опорочен свергнувшими его врагами. Он канет в канаву, именуемую этими негодяями историей, незаслуженно оклеветанный. Но я нашел контейнер, непроницаемый для радиации, и похороню в нем эту хронику в обоснованной надежде, что ее откопают археологи будущего и каким-то способом отдадут должное великому покойному.
Мы здесь, на островах, помним – и наши сердца при этих воспоминаниях начинают биться учащенно, – как ликовали сознательные граждане в ноябре 1956 года, когда стало ясно, что судьба нашей великой страны вырвана из слабых ручонок трумэнов и ачесонов и из почти столь же слабых рук эйзенхауэров, этих марионеток Кремля, и по меньшей мере на четыре решающих года доверена несгибаемому патриотизму Бисмарка А. Максафта. Став президентом, он тут же начал действовать с силой и отвагой, на которые позволяли надеяться его последовательные публичные заявления. Американская энергия и американский энтузиазм покончат с уздой, в которой их держали трусливые государства Западной Европы. Изменники и законспирированные коммунисты больше не смогут утверждать, что Чан Кайши наделал ошибок и китайцы его не любят. Отправленная туда огромная армия имела цель посадить его правителем в Пекине. Китайские коммунисты проявили малодушие, которого от них и ждали, и тщательно избегали решающих сражений. За нами оставался Восточный Китай – как казалось, надежно. Но Западный Китай нам не давался. Бои перемалывали все больше наших войск. Наши атомные бомбы безрезультатно взрывались в малонаселенных районах, а неприятельские армии тем временем рассыпались на опасные партизанские отряды.
Русские, как и ожидалось, принудили бессильные государства Западной Европы к тому, что сделалось неизбежным вследствие жалкой тяги западноевропейцев к самосохранению. Они, почти не встречая сопротивления, заняли Рур, Лотарингию и север Франции. Части населения, обладавшей навыками работы в промышленности, было позволено выполнять рабский труд по месту жительства. Не имевших этого навыка отправляли валить лес в архангельские леса и добывать золото в Северо-Восточной Сибири. Русские подводные лодки постоянно покушались на коммуникации американских вооруженных сил с Китаем. Возросшие тяготы принудили американцев вернуть своих солдат домой.
Латинская Америка от Рио-Гранде до мыса Горн перешла в коммунистическую веру. Вся Азия, кроме областей, занятых американскими войсками, давно отдалась под власть Москвы. Деятельность доктора Малана[17] превратила в коммунистов африканцев. При вторжении русских войск в Западную Европу всем белым в Африке от мыса Бон до мыса Доброй Надежды перерезали глотки. Русские заняли Южную Африку, после чего огромные самолеты стали перебрасывать войска и оружие в Латинскую Америку. Настойчивая и умелая пропаганда убедила горцев Перу, Боливии и Бразилии, что Россия поддержит краснокожих в борьбе против белых угнетателей. Вдохновленные чудовищной резней, орды краснокожих, обученные и вооруженные Кремлем, ринулись через Мексику на остатки эвакуированной из Китая армии, удрученной поражением, ослабленной малярией и, как ни стыдно мне это признавать, не совсем уверенной в правоте своего дела.
Увидев, что все кончено, я и многие другие взошли на борт судна, стоявшего на Потомаке. Я собственными глазами – о, горе мне! – видел, как над Капитолием взмыл флаг с серпом и молотом. Еще мгновение – и наше утлое суденышко потопили бы русские орудия, но вмешалось милостивое Провидение, внезапно напустившее туману и позволившее нам уплыть.
Некоторые из нашего числа утверждают, что эти трагические события – доказательство ошибочной политики нашего великого президента. Но те, кто говорит такое, чужды морали. Гораздо благороднее сражаться за правое дело и геройски пасть, чем погрязнуть в мелких политических соображениях и вместо души спасать свою шкуру. Физически Соединенных Штатов больше не существует, но морально они будут жить вечно, оставаясь маяком надежды, сияющим храмом на холме, бессмертным стягом, на котором горят великие слова нашего последнего, благороднейшего президента: «Мы будем отстаивать правое дело, даже если небеса обрушатся на землю, будем бороться за свободу, пусть девять десятых нашего населения попадет в результате этой борьбы в неволю». Эти бессмертные слова выгравированы в моем сердце, с ними я спокойно готовлюсь к смерти. Аминь».
Дин Ачесон был так потрясен этим странным и мрачным рассказом, что не смог не увидеть в нем пророчество о грядущем. Он поделился этим откровением сенатора Блоггса со своим юристом, а тот использовал его как основание для прошения о пересмотре приговора Ачесону на основании помрачения его рассудка.
«Но я не сумасшедший!» – воскликнул Дин Ачесон и проснулся от собственного крика.
Кошмар доктора Саутпорта Вульпса
Победа разума над материей
Доктору Саутпорту Вульпсу выдался длинный и утомительный день в министерстве машиностроения. Он пытался убедить чиновников, что человек на заводе стал лишним; теперь можно оставлять по одному работнику на цех для надзора и включения-выключения рубильника. Он был энтузиастом, медлительность и традиционное мышление бюрократов ставили его в тупик. Те отвечали, что осуществление его планов потребует крупных капиталовложений в роботизацию и что придется пережить бунты наемных рабочих и блокирование производства разгневанными профсоюзами. Ему эти страхи казались пустячными и надуманными. Его поражало, что его великолепные видения оставляют равнодушными тех, с кем он ими делится. Сбежав домой от мартовской мороси, он разочарованно утонул в кресле и задремал, убаюканный уютом и теплом. Во сне его поджидало торжество, не достигнутое наяву. Его грезы были сладостными.
Третья мировая война, как осада Трои, бушевала уже десятый год. В военном смысле она развивалась неубедительно. Победа клонилась то на одну, то на другую сторону, окончательный победитель никак не выявлялся. Но с технической точки зрения – а доктора Вульпса занимала только она – было достигнуто все, чего он мог пожелать.
За первые два года войны на всех предприятиях обеих воюющих сторон люди были заменены роботами, что высвободило огромное количество живой силы для армий. Но этот прогресс, сначала благосклонно встреченный правительствами, принес меньше удовлетворения, чем они надеялись. Потери – главным образом от бактериологического оружия – были колоссальными. На некоторых участках длиннейших фронтов выжившие после губительных эпидемий устраивали мятежи и братались. На какое-то время враждующие государства отчаялись снова разжечь пожар войны, но доктор Вульпс и его коллега на противоположной стороне Финничовски Стукинмудович нашли способ выхода из кризиса.
За третий и четвертый годы войны они наделали боевых роботов, заменивших рядовой состав обеих армий. За пятый и шестой год роботы заменили и все офицерство ниже генералитета. Выяснилось также, что образованием – вернее, идеологическим воспитанием, как это теперь официально называлось, – четче и увереннее занимаются автоматы, нежели учителя и профессора. Из живых преподавателей было чрезвычайно трудно вытравить их личные везения, тогда как массовые автоматические идеологи – детища доктора Вульпса и товарища Стукинмудовича – дружно, без стеснения, говорили одно и то же и произносили как под копирку речи о важности победы. Это невероятно подняло боевой дух. К восьмому году войны ни одному из молодых людей, обученных командовать огромными армиями роботов, не приходило в голову уклониться от почти неминуемой смерти, поджидавшей его на зачумленных территориях, где разворачивались сражения. Постепенно, по мере гибели этих командиров, их место занимал искусственный разум.
В конце концов роботы взяли на себя буквально все. Правда, кое-кто из людей еще оставался незаменим: геологи, направлявшие добывающих роботов к залежам ископаемых, правительства, принимавшие главные политические решения, и, конечно, доктор Вульпс и товарищ Стукинмудович, усилиями ума возносившие механизацию на все новые высоты.
Эти двое были искренними энтузиастами, оба стояли над схваткой – в том смысле, что им не было дела до предметов, на которые тратили красноречие политики, они только желали совершенствовать свои детища. Оба любили войну, ведь она заставляла политиков предоставлять им свободу действий. Оба не желали прекращения войны из страха, что тогда люди вернутся к традиционному образу жизни и захотят применить свои мускулы и мозги, чтобы делать то, что гораздо лучше делали не ведавшие усталости роботы. Преследуя одинаковые цели, они были близкими друзьями, хотя это приходилось скрывать от политиков-работодателей. Изъяв из армий роботов особые отряды, они вырыли с их помощью тоннель сквозь хребет Большого Кавказа. По одну сторону тоннеля находились силы Запада, по другую – Востока. Никто, кроме доктора Вульпса и товарища Стукинмудовича, не знал, что у тоннеля два выхода, потому что в нем могли бывать только они сами и роботы. Роботы подавали в тоннель тепло и свет, завозили туда огромное количество продовольствия в специальных, сделанных по всем правилам науки капсулах, предназначенных для сохранения здоровья и продления жизни, хотя и не для гурманства, ибо оба изобретателя жили высокодуховной жизнью и были чужды чувственных услад.
Доктор Вульпс, входя в тоннель, позволял себе непрофессиональные раздумья о солнечном мире, который он временно покидал для регулярных совещаний с товарищем Стукинмудовичем. Взирая на море внизу и снежные вершины наверху, он смутно припоминал кое-что, усвоенное некогда благодаря классическому образованию, на которое он потратил ранние годы по настоянию своих старомодных родителей. «Здесь, – думал он, – Зевс держал в цепях Прометея – того самого, сделавшего первый шаг по пути славного прогресса науки, приведшего к нынешним великолепным результатам. Зевс, подобно правительствам времен моей молодости, предпочитал действовать по старинке. Но Прометей, в отличие от меня и от моего друга Стукинмудовича, не придумал способа перехитрить современных ему реакционеров. Символично, что я восторжествую как раз там, где мучился он, а примитивному Зевсу укажет его место наша атомная технология». С этими мыслями он простился с солнечным светом и двинулся навстречу другу.
За годы войны у них произошло много таких тайных встреч. Полностью доверяя друг другу, они делились сущностью своих изобретений, делавших войну все изощреннее и не позволявших ей кончаться.
Посередине тоннеля он встретился со своим другом Стукинмудовичем, двигавшимся с востока. Они пожали друг другу руки и с теплотой посмотрели друг другу в глаза. Прежде чем погрузиться в технические тонкости, они позволили себе восхититься совместной работой.
– Какой чудесный мир мы созидаем! Люди непредсказуемы, часто безумны, часто трусливы, порой вынашивают антиправительственные замыслы. Как же отличаются от них наши роботы! На них пропаганда всегда оказывает правильное действие.
– Чего еще, – говорили друг другу два мудреца, – мог бы пожелать самый ярый моралист? Чего мы ему недодали? Человек грешен, робот – нет. Человек зачастую глуп, роботы никогда не бывают глупцами. Человек позволяет себе сексуальные извращения, робот – ни в какую. Мы с вами, – повторяли они друг другу, – давно решили, что в человеке важно только поведение. Поведение наших роботов во всех смыслах лучше поведения случайного биологического продукта, надутого беспричинной, дурацкой гордостью. Как удачны наши изобретения! Как мастерски выстраиваем мы свою стратегию! Какие мы смелые тактики, как бесстрашны в бою! Кто, кроме жертвы губительного суеверия, может желать большего?
Доктор Вульпс и товарищ Стукинмудович придумали, как сделать своих роботов восприимчивыми к красноречию. Лучшие речи государственных деятелей обеих сторон записывались, и при звуке этих тревожащих душу слов шестеренки роботов начинали вращаться, и они вели себя именно так, как полагалось вести себя, по замыслу политиков, людским толпам. Существовали некоторые различия, благодаря которым роботы одной стороны реагировали на пропаганду одного рода, а роботы другой стороны – другого. Роботы доктора Вульпса откликались на благородные слова великого государственного мужа Запада: «Разве способны мы колебаться, видя огромные орды, стремящиеся покончить с верой в Бога, выжечь из наших сердец веру в милостивого Создателя, поддерживающую нас во всех невзгодах, трудностях и опасностях? Мыслимо ли думать, что мы – всего лишь хитроумные механизмы, как утверждают наши бездушные враги? Разве способны мы отказаться от бессмертного наследия свободы, за которую бились наши предки и для защиты которой мы призваны испепелить несчетного врага? Заколеблется ли в такую минуту хоть один из нас? Отступит ли? Появится ли хотя бы у кого-то мысль, что не стоит жертвовать своей жизнью, мелким личным существованием ради сохранения в мире идеалов, за которые проливали кровь и гибли наши предки? Нет, тысячу раз нет! Вперед, соотечественники! За торжество истины, за окончательный триумф нашего Дела!»
Все роботы доктора Вульпса были сконструированы так, что, когда громкоговоритель провозглашал при них эти высокие лозунги, они без колебания и сомнения принимались выполнять поставленную перед ними задачу, высочайшим назначением которой было доказать, что миром правит не просто механика.
Роботы товарища Стукинмудовича тоже были эффективны и с той же готовностью откликались на записанные на граммофонные пластинки призывы генералиссимуса: «Товарищи, готовы ли вы навечно стать рабами бездушных капиталистических эксплуататоров? Готовы отрицать великое будущее, приготовленное диалектическим материализмом тем, кто сбросил цепи подлых эксплуататоров? Возможна ли такая тупость, такая безжизненность, такая низость, на которую обрекает род человеческий корыстная философия Уолл-стрит? Нет, тысячу раз нет! Вы свободны, пока трудитесь во имя свободы с самоотверженностью ваших предшественников, создателей великого государства, которое вы теперь отстаиваете. Вперед, к победе! Вперед, к свободе! Вперед, к жизни и радости!» Эти граммофонные заклинания приводили роботов Стукинмудовича в движение.
Бились не на жизнь, а на смерть миллионные армии, от самолетов, управляемых роботами, было черно в небе. Ни один робот ни разу не изменил долгу, не было отмечено ни одного случая бегства робота с поля боя. Техника оставалась глуха к вражеской пропаганде.
Но до этой встречи на десятом году войны счастье доктора Вульпса и товарища Стукинмудовича было все-таки неполным. В правительствах еще оставались люди, люди еще были нужны в качестве ученых-геологов, чтобы направлять роботов к новым источникам сырья по мере истощения старых. Существовала опасность, что правительства захотят мира. Была и другая опасность, избежать которой было труднее: в случае устранения ученых-геологов конец деятельности роботов рано или поздно могло положить исчерпание месторождений. Первой из этих двух угроз можно было избежать. На очередной встрече друзья поделились планами истребления правительств обеих сторон. Но их продолжала тревожить незаменимость геологов. Именно по этому поводу они устроили мозговой штурм. После месяца напряженных раздумий решение было найдено. Друзья изобрели роботов-изыскателей, способных вести других роботов к новым залежам. Одни роботы умели находить железную руду, другие – нефть, третьи – медь; были роботы, специализировавшиеся на уране, и так далее – ни одно сырье, необходимое для ведения высоконаучной войны, не было забыто. Наконец-то можно было не страшиться, что война вынужденно прекратится после выработки существующих месторождений и спрос на изобретательность двух ученых сойдет на нет.
После изготовления роботов-изыскателей они решили остаться в тоннеле и спокойно дождаться самоистребления остатков рода человеческого. Оба были уже немолоды и обладали философской неторопливостью людей, чей труд завершен. Два мудреца, получая еду и все прочее от сонма покорных роботов, дожили до глубокой старости и умерли одновременно. Это была счастливая смерть, испуская дух, оба знали, что, пока существует планета, война будет продолжаться: не было ни дипломатов, чтобы договориться о перемирии, ни циников, чтобы усомниться в святости лозунгов враждующих сторон, ни скептиков, чтобы задаться вопросом о целях непрекращающейся бойни…
Доктор Вульпс проснулся от прилива воодушевления и от собственного восклицания:
– С риском победы покончено! Вечная война!
На беду, его подслушали, и он угодил в тюрьму.
Захатополк
Глава I Прошлое
Профессор Дриуздустадес, уважаемый декан колледжа идеологии победителей, величественной походкой вознес свое огромное брюхо на кафедру в благоговейно отреставрированном Зале инков в Куско. Был первый день учебного года, и аудитория благодарно затаила дыхание. Профессор стал деканом после кончины своего почти столь же почитаемого папаши, профессора Дриуздаста. Студенты, к которым он собирался обратиться, представляли собой самую многообещающую сотню, собранную по всему царству. Они прослушали все стандартные курсы и стояли на пороге аспирантуры, обеспечивавшей колледжу его колоссальный общественный авторитет. Дриуздустадес видел перед собой молодые лица, на которых было написано ожидание мудрых слов, готовых слететь с его уст. Среди этой сотни были двое, продемонстрировавшие особенный блеск: сын декана Томас, от которого ждали, что он в свое время сменит в кабинете главы колледжа отца, и девушка по имени Диотима, красавица и умница, покорившая сердце Томаса.
Откашлявшись и отхлебнув воды, профессор заговорил:
– Темой моей сегодняшней лекции будет тридцатый век до Захатополка, или, если выражаться словами современников, двадцатый век после Рождества Христова. Мудрые мужи, заведующие образованием в нашем счастливом краю, считают, что вы, сотня избранных, достигли понимания и любви к нашей святой вере и к откровению, коим нас одарил божественный отец Захатополк, а потому сумеете, не теряя душевного равновесия, внимать рассказу о веках, лишенных нашей веры и нашей мудрости. Разумеется, вы ни на минуту не забудете, что то были темные века. Тем не менее вашим долгом как серьезных историков – порой трудным, болезненным долгом – будет отбросить в воображении все ваши представления об истине и добре и понять, что даже в этой темноте были люди, которые, по крайней мере в сравнении с их современниками, заслуживали названия праведников. Вам предстоит научиться не ежиться при мысли, что даже те, кто пользовался всеобщим уважением, прилюдно, без всякого стыда поедали горох! Возможно, вам будет несколько легче простить предкам то, что, когда число их детей превышало три, они, в отличие от нас, не съедали избыток во славу государства, а эгоистично оставляли ему жизнь. Одним словом, вам придется развивать в себе историческое воображение. Вам должно быть понятно, что таковое, доступное вам, элите, сыграло бы подрывную роль и представляло бы огромную опасность в случае широкого распространения. Учтите, то, что звучит в лекционном зале, предназначено для избранных умов и не подлежит передаче черни.
После этого предисловия я перехожу к главному. Тридцатый век до Захатополка был временем хаоса и перемен. Происходила замена греко-иудейского синтеза на прусско-славянскую философию. Это было время конвульсий и катастроф; время, когда основы догмы, без которой невозможна стабильность общества, не существовало в головах ни молодых, ни старых. Ностальгирующие жертвы сомнения знают об эпохе Веры, когда греко-иудейский синтез принимался безоговорочно всеми, кроме нескольких меньшинств, но они лишались права говорить и даже истреблялись. Конец этому состоянию положила пагубная доктрина, у которой, к счастью, никогда не было приверженцев среди нас. Она называлась «толерантностью». Люди верили в стабильность государства, невзирая на фундаментальные расхождения в религиозных воззрениях его граждан. Это безумное заблуждение привело к крушению греко-иудейского синтеза под напором нового, мускулистого догматизма прусско-славянской философии. Прошу понять меня правильно. Я не хочу сказать – и, надеюсь, никому из вас не придет в голову приписать мне это намерение, – что в догмах греко-иудейского синтеза или прусско-славянской философии была хотя бы крупица истины. Предки не предвидели пришествия божественного Захатополка, не признавали врожденного превосходства Краснокожего Человека, не постигли тех великих принципов, на которых у нас счастливо зиждется общественная и частная жизнь. Скажу об этих отживших системах только одно: пока они теплились, пока в них верили достаточно истово, чтобы сделать неизбежной проповедь единообразия, общество кое-как выживало – пускай это и не идет ни в какое сравнение с совершенством, которым мы обязаны откровению Захатополка. Всем системам прошлого были присущи изъяны, из-за которых они рушились. Прусско-славянская в период своего расцвета выглядела прочной, как и пришедшая вслед за ней китайско-яванская. Но изъяны неминуемо вели их к краху. Только в системе Захатополка нет недостатков, следовательно, только она будет жить и здравствовать – до тех пор, пока будут существовать люди, поклоняющиеся Захатополку.
По словам профессора, почти все имеющиеся сведения о распаде греко-иудейского синтеза восходят к его победителям и отражают их точку зрения, триумфальное шествие божественного Сталинуса и истребление по всему миру еще остававшихся приверженцев низвергнутой системы. Однако Дриуздустадес оговорился, что историк обязан при любой возможности искать сведения, отражающие обе точки зрения, и предоставлять место на страницах истории также и побежденным.
– К счастью, – продолжил он, – недавно на Фолклендских островах был обнаружен документ, при ознакомлении с которым нельзя не взглянуть с человеческим сочувствием на то отчаяние, что ознаменовало конец великой эры. (См. «Лебединую песню Менелауса С. Блоггза».)
Зачитав этот документ, профессор продолжил:
– Пока властвовала прусско-славянская философия, такие документы, как этот, оставались, естественно, неизвестны. Под стягом великого бога Диалмата обитатели северных равнин сколотили свою победоносную империю и утверждали ее власть с безжалостным догматизмом, без которого их нелепые мифы вызвали бы всеобщее отторжение. Два их апостола, Марксус и Ленинус, прогремели по всему миру благодаря иконам, которые необходимо было вешать в каждом доме (неисполнение каралось смертью). Эти отцы-основатели получили клички Длиннобородый и Короткобородый; считалось, что их бороды обладают волшебными свойствами. Правивший после них Сталинус, прославившийся больше как воин, а не как доктринер, пользовался почти таким же почитанием; символом его подчиненного положения по отношению к первым двум была замена бороды усами. Немецкий язык, на котором писались священные книги той эры, вышел из употребления вскоре после Сталинуса, и читать священные книги могли впредь только немногие ученые мужи, которым запрещалось обращаться к народонаселению напрямую – только через средства информации высшей политической власти. Это ограничение было необходимым, потому что в писаниях были места, буквальное понимание которых сильно смутило бы правителей и могло превратить подданных в противников власти.
Несколько веков все шло хорошо. Но в конце концов правители вообразили, что им ничто не угрожает, и позволили себе прислушаться к скептически настроенным ученым Китая. Некоторые из этих скептиков не имели, без сомнения, никаких задних мыслей, их подстегивало только необузданное интеллектуальное любопытство, сыгравшее важную роль в крахе предшествующей эры. Другие, правда – а их было большинство, – преследовали более утонченную цель. Они не видели причин для монополии белого человека на священные книги. Они приняли коварное решение высмеять эти сочинения, утверждая при этом, что на их родном языке, неведомом правителям, существовали куда более древние священные труды, гораздо более невнятные и внушающие гораздо больше ужаса. Постепенно они смягчили своих господ и сделали скептицизм модным поветрием в их среде. Сами они при этом от скепсиса воздерживались. Спаянные теснейшими узами эзотерической догмы, они терпеливо, в глубокой тайне подкапывались под внушительное здание прусско-славянской государственности. В назначенный день, давно определенный в их тесном кругу, они восстали и умертвили правителей особенным ядом, полученным из растительности, буйствовавшей на вулканических почвах Кракатау. Так было положено начало китайско-яванской эре, непосредственной предшественнице нашей счастливой эпохи.
Наша с вами страна, ныне великая, славная и наслаждающаяся нерушимой безопасностью, пережила долгие периоды горьких невзгод. В последние четыре века греко-иудейской эпохи краснокожего убивали, объявляли вне закона, низводили до рабского статуса. Наглый белый человек властвовал на нашем великом континенте, на который долго-долго, пока процветала первая империя инков, его не пускала сама Природа. В какой-то момент показалось, что крах этих безжалостных господ несет освобождение. Пруссо-славяне сочли нас своими союзниками в свержении греко-иудейских захватчиков и с целью поощрить наши старания посулили нам свободу. Но после победы их посулы были преданы забвению, и отважный краснокожий, оказавший им неоценимую помощь, вернулся в прежнее незавидное положение. Китайско-славянская эра тоже не улучшила нашу участь. Только древние традиции божественных инков далекого прошлого и руины, позволявшие представить их былое величие, позволяли крохотному меньшинству лелеять надежду на возвращение Бога наших предков и владычество над миром, которое мы заслужили своими достоинствами и муками.
Китайско-яванцы, как все господа эпох, предшествовавших нашей, постепенно уступили соблазнам к наслаждениям и легкой жизни. Их не влекли неприступные вершины и недосягаемые долины нашего божественного края. Они жили во дворцах посреди своих равнин, в окружении невероятной роскоши, облачались в тончайшие шелка, возлежали на удобных ложах, имели в услужении – как ни стыдно мне это признавать – рабов нашей расы, остававшихся чуждыми их роскоши и изнеженности. Именно тогда, ровно тысячу лет назад, и состоялось явление божественного Захатополка. Некоторые утверждали тогда, что Он – просто человек; мы знаем, что они ошибались. Он спустился с небес на вершину Котопакси. Тысячи наших соплеменников, предупрежденные оракулом, наблюдали его Пришествие. Он соизволил спуститься к поклоняющимся Ему, тут же распознавшим в Нем сходство со всемогущим Господом, которому они молились до появления проклятого разрушителя Писсаро. Все в чудесном единодушии воспылали божественным воодушевлением. Заставая врасплох сибаритов-китайцев, они истребляли их. В последующих великих войнах божественный Захатополок привел их к победе с помощью смертельного гриба с горы Котопакси, свойства которого оставались неведомы до тех пор, пока Он не открыл их своим почитателям. Тридцать лет находился Он среди них, сначала как воин, а потом, после всемирной победы, – в более сложных мирных трудах. Нашим нынешним устройством мы обязаны Ему. Книга Священного Закона со всеми внесенными за века дополнениями остается краеугольным камнем нашей политики. И горе тому, кто заикнется о малейшем отступлении от этого небесного откровения!
Глава II Настоящее
Строй, учрежденный божественным Захатополком, утвердился не сразу, но государственные устои оказались так надежны, что за тысячу лет после Его пришествия не произошло существенных отступлений от заложенных Им основ. Все прошлые империи – так учил Захатополк – погибли из-за своей изнеженности в жизни, в чувствах, в мыслях. Этого Его последователи должны были избежать, чему служили жесткие незыблемые правила, принимаемые безусловно и проводимые без снисхождения.
Первое, в чем верующим надлежало следовать своему Богу, – это всегда помнить о превосходстве человека с красной кожей над людьми с иной пигментацией и о первенстве среди краснокожих перуанцев, следующими после которых по старшинству следовали мексиканцы. Разрешалось и даже поощрялось восхваление мудрости древних майя до начала белого загрязнения Западного полушария, однако пальма первенства в древнем пантеоне славы принадлежала инкам. На склонах Котопакси живет микроскопический ядовитый гриб, к которому чистокровные перуанские индейцы невосприимчивы; среди других народов он сеет эпидемию и смерть. Вкусив эту погибель, остальной мир покорился владычеству инков. За долгие века бунт против них стал немыслим.
Жизнеспособность и плодовитость правящей расы обеспечивалась множеством мудрых установлений. Любая роскошь была под запретом. Предписывался сон на жестком ложе с деревянными подушками. Одежда шилась из кож; одного комплекта мужчине или женщине должно было хватать с момента полного созревания до смерти. Закон предписывал холодные ванны, даже в мороз, среди горных снегов. Пища, питательная и обильная, должна была быть простой, за исключением ежегодного празднества Богоявления. Каждому перуанцу надлежало ежедневно делать упражнения для поддержания физической формы. Спиртное и табак были запрещены правящей расе, хотя разрешены для ее подданных. Божественный Захатополк открыл ранее неведомое знание: поедание гороха – гнусность, грязь и зараза. Перуанец, позволивший себе горох даже при отсутствии иной пищи, карался смертью, а свидетели его прегрешения подвергались длительному и болезненному процессу очищения. Этот запрет тоже распространялся на одних перуанцев; остальные уже несли отраву в своей крови, и воздержание не могло их очистить.
Закаливание начиналось в детстве, особенно мальчишеском. Школьные часы делились между уроками, гимнастикой и жесткими соревновательными играми. Мальчику не разрешалось жаловаться на усталость, холод, голод; нарушители запрета обдавались презрением как слабаки и подвергались не только остракизму властей, но и заслуженному дурному обращению сверстников. Физически слабые в этой обстановке умирали: считалось, что поддерживать их жизнь бесполезно. Они умирали в презрении, неоплаканные, и если по ним скорбели родители, то тайно, в страхе разделить участь сыновей.
Строгость воспитания девочек была иного свойства, поскольку считалось, что развитие мускулов не поможет вынашиванию детей. Девочкам не разрешалось предаваться тщеславию, проявления чувств были нетерпимы – за исключением религиозной экзальтации и поклонения инкам. От них требовалось полное послушание, часто с намеренным причинением им боли. Лишь очень немногим, проявлявшим сугубо мужские способности, предоставлялась кое-какая свобода и инициатива в рамках традиционно допустимого и терпимого.
Женщины, кроме тех, в ком в детстве были замечены особые дарования, обязаны были посвящать себя домашним обязанностям. Они не считались равными мужчинам, так как не приносили пользы в бою. Правда, с течением лет бои прекратились, но только потому, что была признана непобедимость перуанцев. Нельзя было забывать – так учил Захатополк, – что владычество сохранялось только благодаря превосходящей силе, и именно ложное чувство неуязвимости стало причиной крушения всех прошлых рас господ. Поэтому женщины обрекались на подчиненное состояние, а мужчинам надлежало тренировать дома командные навыки, необходимые им в обществе.
Строго соблюдалась моногамия. Ни мужчинам, ни женщинам не разрешалось сходить с пути нравственности. Осуждалась не только любовь вне брака, а любовь вообще. Браки устраивались родителями, сирот знакомили жрецы. Возражение было неслыханным делом: целью жизни было не удовольствие, а исполнение долга перед Государством и Святым Захатополком. В редчайших случаях неповиновения преступник подвергался публичному унижению и ссылке для жизни вне перуанского общества.
Захатополк учил, что перуанцы должны оставаться гордой властвующей аристократией. Их численность не должна была быстро увеличиваться, ибо иначе возникла бы бедность и не все могли бы жить за счет производимой в Перу продукции, потому что в общении с остальным миром они стремились к власти, а не богатству. Поэтому божественный Законодатель постановил, что при рождении у супружеской пары других детей сверх уже имеющихся трех избыток подлежит ритуальному съедению в течение месяца в доказательство отсутствия у родителей намерения вызвать нехватку продовольствия и как символ подчинения Захатополку, Богу плодородия. В свое время существовала – недолго – секта еретиков, ведо́мых гуманностью слабаков, которая заявляла, что контроль над рождаемостью предпочтительнее поедания лишних детей. Но главные богословы напомнили, что подобный контроль – грех против богоданной жизни, а съедение ребенка превращает его плоть в часть родителей, давших жизнь ребенку, с которым они навсегда сохраняют мистическое единство. А значит, съедение собственного ребенка – глубоко религиозный акт, материальное воплощение вечной неразрывности потока жизни. В этом качестве такой акт получил всеобщее признание.
Хотя все перуанцы составляли аристократию по отношению к подчиненным расам, внутри самих перуанцев существовала собственная аристократия, основывавшаяся отчасти на рождении, отчасти на способностях. Дети обоих полов, обладающие по-настоящему выдающимися талантами, могли быть приняты в ее ряды, однако большинство ее членов были потомками полководцев, командовавших силами Захатополка в победоносных сражениях Его великих освободительно-завоевательных войн. Все могущественное жречество происходило из аристократии. Аристократы располагали большей свободой, чем другие: например, они легко могли вступать в сношения с женами плебеев, частично выводились из-под действия суровых законов об одежде и питании.
Религия в значительной степени следовала традициям древних Перу и Мексики. Захатополка отчасти уподобляли Солнцу, под действием Его божественных лучей росли съедобные растения. Имелась также Богиня, воплощавшая Луну, но менее почитаемая. Однако в годичном цикле поклонения Захатополку ей принадлежало важное место. В первое новолуние после зимнего солнцестояния, в момент, когда обоим светилам грозит, как кажется, утрата их главных достоинств, их возвращал к жизни древний торжественный акт. Захатополка, Солнечное Божество, отождествляли с царствующим Инкой, а Лунную Богиню – с девой, чью личность жрецы узнавали по священным знакам. Солнце и Луна сходились и даровали друг другу новую жизнь. Жрецы торжественно подводили Инке выбранную деву, и их соединение возвращало Солнцу силу. Чтобы это соединение стало как можно более полным, наутро Инка ритуально съедал партнершу, уже не способную служить цели, в центре которой находилась девственность. По случаю этого священного акта, имевшего место сразу после зимнего солнцестояния, праздновали Богоявление, в честь чего ненадолго отменялись обычные строгости.
Ежегодное соединение Инки с Девой года преследовало, конечно, только религиозные цели. У него имелась жена, чьему старшему сыну предстояло наследовать отцу. В ритуале соединения с девой, нареченной невестой Захатополка, Инка участвовал в роли временного Захатополка. Стать избранной считалось огромной, величайшей честью, и семьи, которым она выпадала, бурно радовались. Сама невеста тоже неизменно ликовала, несмотря на то что ее ждала скорая смерть. Лучшая лирическая поэзия представляла собой песни восторга и торжества на архаическом ритуальном языке, славившие радость невесты при мысли о грядущем попадании в божественный желудок.
Однажды – дело было в первое столетие режима – власть была до основания потрясена чудовищной нечестивостью. Человек, в котором признавали Инку, так сильно влюбился в невесту Захатополка, что богохульственно отказался убить и съесть ее, сохранил ей жизнь и тайно навещал. Наступили ожидаемые последствия. Солнце отказалось подниматься выше, чем в зимнее солнцестояние. Предполагаемый Инка преждевременно состарился, у него выпали волосы и зубы. Всех охватило изумление, отчаяние, темные подозрения. На празднике весеннего равноденствия, отмечавшемся в обычное время, невзирая на низкое солнце, молния, ударившая вдруг с безоблачного неба, убила предполагаемого Инку. Впоследствии выяснилось, что его мать совершила богопротивный адюльтер, поэтому у него не было права на престол. До этого происшествия некоторые умники еще испытывали кое-какой скептицизм, но после он, естественно, сошел на нет.
К священным землям Перу относились также территории, известные при испанцах как Эквадор и Чили. Во всем этом регионе сразу после освобождения Захатополк учредил меры по обеспечению чистоты индейской крови. Белых и негров уничтожили, метисов стерилизовали. Но кое-кто, в ком присутствие чужой крови было неочевидно, уцелел, и время от времени на свет появлялись младенцы с чертами белых или негров. Всех новорожденных обследовали государственные медики, и при обнаружении подобных изъянов родители принуждались к съедению ребенка и к стерилизации. На заре режима такая строгость могла вызвать отторжение. Поэтому такие родители оставались под подозрением и наблюдением тайной полиции. По прошествии двухсот лет любые остатки чужой крови иссякли, и в Святой Земле не осталось никакой другой крови, кроме чисто индейской.
Вне Перу официальная политика была иной. С мексиканцами обращались почти как с равными. Их брали в армию, назначали на официальные посты за рубежом, кроме самых высоких, при условии их чистокровности. Им также позволялось получать высшее образование и даже поступать в университет Куско. У прочих индейцев было меньше привилегий, но считалось, что своими заслугами и они могут добиться признания. К белым же, желтым, коричневым и черным относились как к низшим видам и сознательно доводили их до вырождения. Существовало, правда, кое-какое различие. Чернокожие, никогда не имевшие собственной империи, вызывали презрение, но не страх. Белых и желтых, обладавших некогда своими империями, боялись, и презрение, внушавшееся к ним, подлежало контролю.
Получать образование могли одни индейцы. Все без исключения обязаны были физически трудиться по десять часов в день. На землях Перу поощряли старинную сельскую простоту и тщательно избегали всякого ущерба природным красотам, но весь остальной мир был напичкан современными достижениями индустриализации. Заводы, шахты, огромные горы отходов, зловонные трущобы, дым и копоть – все это считалось нормой для презренной заграницы. Перуанцы верили и учили этому остальной мир, что сами они – дети Солнца, а другие расы – смрадное отродье, шлак. Учение Захатополка о размягчающем влиянии удовольствий использовалось для обличения неиндейского населения. После обязательных десяти часов труда его всячески спаивали и одурманивали опиумом. Брак не признавался, поощрялись беспорядочные связи. Врачам запрещалось бороться со следствием – повсеместным распространением венерических болезней. Любой перуанец, признанный виновным в сексуальной связи с представителем низшей расы, немедленно умерщвлялся. Стражников-перуанцев, необходимых для удержания в узде скотоподобной людской массы, тщательно оберегали от воздействия враждебной среды. Их поощряли наблюдать за тем, как аборигены пожирают горох, и это тошнотворное зрелище служило лучшей возгонкой их патриотизма. В результате болезней и излишеств неиндейское население мира медленно сокращалось. Некоторые провидцы предвидели, что довольно скоро произойдет полное освобождение от людей с некрасной кожей, и представляли себе будущее всеобщего равенства, пока еще недопустимое. Подобные взгляды считались рискованными, на таких утопистов смотрели с подозрением. Губернаторов для других стран отбирали со всей тщательностью, ибо опыт учил, что те, чьей натуре присуща малейшая нестабильность, подвержены различным нервным нарушениям. Некоторые обращались с аборигенами с ненужной жесткостью, у других душевная болезнь заходила еще дальше: они пытались с ними подружиться и обращались с ними почти как со своей ровней. Были среди губернаторов и такие, кто верил в равенство людей и откапывал древние документы греко-иудейской эпохи, проповедовавшие эту диковинную доктрину. С ними приходилось поступать особенно сурово, и в Идеологической школе в Куско были учреждены курсы, целью которых было застраховаться от этой угрозы. Однако с течением времени угроза ослабла, так как меры властей способствовали все большей деградации и оскотиниванию аборигенов других стран. По прошествии нескольких веков превосходство перуанцев стало представляться незыблемым.
Глава III Трио
Лекции профессора Дриуздустадеса, продолжавшиеся весь академический год, породили острые споры между Томасом и Диотимой, в которых порой участвовала и ее подруга Фрея. Диотима, наслушавшись лекций и начитавшись книг по древней истории, стала испытывать сомнения, удивлявшие ее и лишавшие покоя. Каннибализм, по ее мнению, не был необходим и желателен. Профессор Дриуздустадес объяснял, что отождествление невесты с Луной следует понимать не буквально, а как прекрасную аллегорию. Как-то утром Диотиму посетила ужасная мысль: «Раз союз – только аллегория, то почему бы не быть аллегорией съедению? Почему не заменить живую невесту пряничной?» От этой богохульной мысли она вся похолодела, задрожала, побледнела. Присутствовавший при этом Томас осведомился, в чем дело. Но мысль была мимолетной, и она посчитала неразумным ею делиться. Этим ее сомнения не ограничились. Она раскопала в университетской библиотеке старинный пыльный том, к которому давным-давно не прикасались. В нем содержались занятные рассуждения о веках тьмы, предшествовавших пришествию Святого Захатополка. Ее взволновала их древность: некоторые восходили еще к началу греко-иудейского синтеза. Она наткнулась там, в частности, на учение о том, что симпатии человека не только должны быть обращены на людей его собственной расы, но и распространяться на все человечество. Как оказалось, в давние времена человек с некрасной кожей имел мысли и произносил слова, показавшиеся ей как минимум не менее разумными и глубокими, чем достижения разума захатополкианской эры. У нее возникло подозрение, что нынешнее скотское состояние белых, желтых и коричневых имеет причиной не их генетические недостатки, как ее учили, а устройство жизни, навязываемое перуанским государством. Она почти не делилась своими догадками, но, как она ни старалась, что-то все равно просачивалось.
Томаса беспокоило ее настроение. Он так ею восхищался, что для него обладало весом любое ее слово. Ему было за нее тревожно, он не мог отмахнуться от ее смутных сомнений, как отмахнулся бы от измышлений других соучеников. Невзирая на это, его вера не пострадала, потому что он считал, что без строгих рамок захатополкианской ортодоксии общество развалится и наступит всемирный кризис. Он уже представлял себе войну всех против всех и страшился утраты всего хорошего, что даровала цивилизация. Что будет с наукой, с искусством, с упорядоченной семейной жизнью? Как защищаться от массового уничтожения во всемирной схватке враждующих орд? По его представлению, всех этих ужасов можно было избежать только благодаря нерушимости традиционной ортодоксии. Стоит сомнению овладеть хотя бы немногими – и всей системе придет конец. Земля окажется во власти глубокой культурной ночи, человек повсюду станет деградировать так же, как деградировало нынешнее покоренное население. Такие мысли повергали его в трепет, когда Диотима по неосторожности знакомила его со своими новыми суждениями.
– Поберегись, Диотима! – взывал он к ней. – Ты становишься на опасный путь, неминуемо ведущий в темную бездну, которая тебя поглотит, если ты не опомнишься. Не хочу, чтобы ты шла этим путем в одиночку, но при всей любви к тебе не могу ступить на него вместе с тобой.
Фрея, иногда присутствовавшая при этих спорах, не могла оценить их серьезности. Она была знакома с Диотимой с детства, их связывало множество общих воспоминаний. Томас, блестящий сын блестящего отца, был, как все надеялись, предназначен для продолжения многовековой традиции захатополкианской культуры и пользовался уважением всех, для кого традиция была свята. Тем не менее она волновалась не очень сильно, так как большую часть времени проводила в мечтательной мистической экзальтации; то, что не соответствовало этому ее настроению, она считала недопониманием или заблуждением. Слыша от Диотимы крамольные речи, Фрея с улыбкой говорила: «Разумеется, дорогая, ты говоришь это несерьезно!» Диотима, не желая рассеивать убежденность подруги, изображала согласие и сводила все к невинной игре ума.
Семья Диотимы принадлежала к наивысшей, древнейшей перуанской аристократии. Ее давний предок командовал в Освободительной войне одной из величайших армий Захатополка; все последующие века семья из поколения в поколение поддерживала существующий порядок. Несколько раз из девушек этой семьи выбирали невесту Солнца. Портреты этих невест в окружении вечнозеленых миртовых венков висели на почетном месте в семейной столовой. Внушительная семейная резиденция находилась в самом лучшем квартале Куско, ее окружал чудесный сад, оживлявший горный склон яркими красками и наполнявший воздух ароматом цветов. Семья Фреи была не столь знатной, но тоже аристократической. Что до Томаса, то он был обязан принадлежностью к высшим кругам уму и государственным заслугам своего выдающегося папаши. Для старинных семей было естественно относиться к таким, как он, с некоторой снисходительностью. Однако правительство признавало, что прочная власть нуждается в услугах лучших умов, и поощряло максимальную общественную адаптацию тех, кто поднимался по социальной лестнице таким способом. Неудивительно поэтому, что, когда Диотима упомянула в разговоре с родителями своих друзей, Фрею и Томаса, те согласились, что их стоит пригласить для прохождения проверки согласно стандартам, сформированным столетиями превосходства. Дочь редко делилась с родителями своими потайными мыслями, тем не менее они угадывали в ней интеллектуальное безрассудство, о котором глубоко сожалели. Она демонстрировала дурную привычку делать умозаключения в пылу полемики, вместо того чтобы сперва прийти к выводу, а потом подстраивать под него свои доводы. В этом они усматривали опасный анархизм. Но, как ни тревожили их ее дикие соображения (которые в действительности превосходили дикостью даже худшие их догадки), они были склонны видеть в них всего лишь излишества юного возраста, с которыми будет успешно бороться жизненный опыт. Их радовала дружба дочери с Фреей, о чьей образцовой набожности свидетельствовали многие общие знакомые. Иногда они даже жалели, что дочь мало похожа на эту безмятежную святую. Но заверения преподавателей, что Диотима чрезвычайно одарена и ревностно овладевает знаниями, отчасти гасили их тревогу. По их мнению, со временем до нее должно было дойти, что интеллект – это не все, и тогда у нее появится отсутствующий пока что нравственный камертон. Томас, в пользу которого говорил отцовский авторитет и его собственные блестящие академические достижения, был именно таким другом, какого они могли желать для дочери. В отношении него у них было разве что сомнение, связанное с его незаурядными умственными способностями, поскольку они считали, что интеллект дочери – не то ее качество, которому требуется развитие. Но сведения, которые они сумели получить о Томасе, свидетельствовали, что интеллект еще не уводил его в нежелательную сторону, чем он походил на своего отца, поэтому были все причины надеяться, что он принесет не меньше пользы общественному порядку, чем его заслуженный отец. Исходя из всего этого, мать Диотимы пригласила Томаса и Фрею к себе на чай.
Мать Диотимы была образцовой хозяйкой, заботившейся об удобстве гостей и их настроении, хотя и не могла избавиться от величественности, которая вначале их даже напугала. Ее речь всегда была безупречной, она испытывала только самые похвальные чувства. Недостатки в грамматике и лексике ее собеседника не оставались незамеченными, его высказывания, хотя бы немного отклоняющиеся от общепринятых, непременно разбивались о ее приподнятую бровь. Но Диотима пренебрегала социальными табу своей матери и была склонна к языковому риску: то употребляла слишком заумные термины, то позволяла себе сленг. Ее остроумие бывало чрезмерным, порой она даже высмеивала видных деятелей, друзей своего отца.
– Дорогая, – привычно твердила ей мать, – ты никогда не выйдешь замуж, если будешь использовать такие неизящные выражения и демонстрировать столько неуважения к старшим.
Видя, что Диотима неравнодушна к Томасу, и надеясь, что он окажет успокаивающее влияние на зарывающуюся дочь, она обратилась к нему со словами:
– Уверена, профессор Дриуздустадес такого не одобрил бы, правда, Томас?
Томаса эти слова чрезвычайно смутили. В глубине души он был согласен с хозяйкой дома, но лояльность к Диотиме не позволяла ему в этом сознаться. Ему на выручку пришла Фрея, принявшаяся бурно нахваливать красоты дома и поместья.
– Какое это счастье, – вскричала она, – сидеть в таком роскошном саду, любоваться вечными снегами и сознавать, что наше Священное Царство столь же вечно и великолепно, как эти величественные вершины!
Мать Диотимы была полностью с этим согласна, но опасалась, что громкое признание в таких чувствах граничило бы с безвкусицей; как ни уместен энтузиазм, лучше ограничить его строгими рамками. Вмешалась Диотима, воспользовавшаяся тем, что мать ищет верный ответ на высокопарность Фреи.
– Брось, Фрея, – фыркнула она, – вершины не вечны. Согласно геологической науке, они – результат тектонического катаклизма. Когда-нибудь очередное землетрясение их обрушит. Ты не боишься, что сравнивать захатополкианский режим с этими нагромождениями – богохульство?
За этими словами последовало тяжелое молчание. Томас попытался исправить положение:
– Конечно же, Диотима говорит несерьезно. Боюсь, иногда ей изменяет чувство юмора.
– Не будем к ней слишком строги, – сказала ее мать. – Помнится, в молодости ее отец, теперь непоколебимо серьезный человек, часто удивлял меня непочтительными суждениями о крупных деятелях прежнего поколения. Она тоже остепенится, как все мы.
После этих утешительных слов гости разошлись.
Сомнения, засевшие в голове Диотимы, питались различными открытиями. Найденный ею древний фолиант привил ей вкус к раскопкам в пыльных закромах университетской библиотеки, куда мало кто заглядывал. Там ей попался рассказ о недостойном Инке, уклонившемся от обязанности поедания священной невесты. Оказалось, что в его время у него было много сторонников, утверждавших, что неспособность солнца снова засиять – это иллюзия. Они доказывали, что жрецы ночами переводят стрелки часов в общественных местах вперед, а днем назад, создавая впечатление, что дни не удлиняются, а ночи не укорачиваются. По их утверждениям, выпадение волос и зубов у Инки вызывалось медленно действующим ядом и что убит он был не молнией, а разрядом между двумя заряженными электрическими полюсами. Его наследник, естественно, боролся с сектой нигилистов, и она была жестоко подавлена. Но Диотима обратила внимание, что против нее употребили только репрессии, а не аргументы.
Новый удар по ее пошатнувшейся вере нечаянно нанес ее дядя, занимавший высокий пост при Инке. Сильно захворав, он наговорил в бреду много такого, что слышавшие его сочли полнейшим безумием. Но Диотима, иногда игравшая при нем роль сиделки, отнеслась к его фантазиям как к истине в последней инстанции.
Заходясь смехом, он говорил:
– Люди воображают, что священную невесту выбирают жрецы. Представляю, как бы они приуныли, если бы узнали, что ее отбирают придворные евнухи за способность наилучшим образом удовлетворять похоть Инки!
Официальной обязанностью придворных евнухов было распевать древние гимны в честь солнца в величественном храме, главном святилище захатополкианской религии. Их неземные голоса наполняли всех внимавших им чувством, принимавшимся за божественный дух. Слушая гимны, верующие воспаряли сердцами к небесами и достигали единения с Божеством. Невыносимо было думать о них как о сводниках при развратнике, напялившем обманчивую маску. Но именно на такие мысли натолкнул Диотиму дядин бред.
Эти откровения о подлогах – одном давнем, другом повторяющемся год за годом по сию пору – вызвали у Диотимы глубокое отвращение к догме, которое ей до сих пор удавалось скрывать. Беседуя с Томасом, она держала при себе свои самые опасные мысли, надеясь превратить его в своего единомышленника медленно, постепенно, шаг за шагом. Она знала, что преждевременный шок наверняка его оттолкнет. Фрея, при ее несравненной красоте, была слишком пресной, слишком неумной, чтобы вызвать у Томаса глубокое чувство. Другое дело Диотима: она его пьянила, вызывала у него безумное вдохновение и одновременно испуг. С ней он чувствовал восторженное головокружение, охватывающее альпиниста на опасном ледяном склоне. Он не мог ни оторваться от нее, ни полностью ее принять, ни полностью отринуть.
Глава IV Фрея
Однажды, когда неразлучная троица сидела у горного ручья, погрузившись в беседу, Диотима заметила двух мужчин, следивших за ними из-за деревьев, и по одежде опознала в них придворных евнухов. Один указывал на Фрею, другой важно кивал. Спутники Диотимы не заметили евнухов, ей же, помнившей слова дяди, их появление и поведение было совершенно ясно. Она побледнела и тихо предложила вернуться в город.
– Почему? – удивились Фрея и Томас.
На безопасном расстоянии от евнухов Диотима объяснила, что, как ей известно, следующей невестой Захатополка станет Фрея.
– Откуда ты знаешь?
– Об этом сейчас нельзя. Но вы увидите, что я права.
Вскоре о выборе Фреи было широко оповещено. Ее охватил восторг, все те чувства, которые во времена греко-иудейского синтеза приписывали Богоматери, узнавшей Благую Весть. Диотима пришла в ужас: у нее уже не было веры, и она не могла смириться с тем, что ее лучшая подруга обречена на ужасную смерть. Томас знал, конечно, что Диотима находится во власти далеко не ортодоксальных чувств. Он ее не одобрял, но осудить ее было бы для него слишком больно. Родители Фреи, как и следовало ожидать, тоже пришли в восторг от выпавшей их семье великой чести. Мать поздравляла Диотиму с тем, что она – подруга счастливой избранницы, и хвасталась этой дружбой перед всеми гостями. Через несколько дней после уведомления Фрею лишили любых контактов с мирянами и подвергли длительному процессу очищения и канонизации, предшествовавшему обожествлению. Диотима заранее ее оплакивала, Томас, наоборот, пытался ликовать, но тщетно. Диотима, все еще надеявшаяся его перевоспитать, старалась, чтобы их разногласия не привели к разрыву. Все месяцы подготовки Фреи к закланию их отношения оставались в подвешенном состоянии.
Под влиянием ритуалов, усовершенствованных евнухами за долгие столетия, Фрея все больше погружалась в мистический экстаз. Евнухи не отходили от нее и обращались с ней, как с божеством. Ее наряжали в прекрасные старинные одежды, предназначенные только для невест Захатополка. Каждое утро на рассвете ее обмывали в тайном ручье, входить в который всем, кроме Невест Захатополка, запрещалось под страхом смерти. В усыпанной драгоценностями часовне, стены которой пестрели мозаиками, посвященными земной жизни Захатополка, она внимала священным песнопениям, выводимым неземной чистоты скопческими голосами. Ее кормили особой пищей, недоступной для обычных людей. Ей давали старинные поэтические книги, прославлявшие переход Луны в объятия Солнца, с изображениями Захатополка и его невесты, обнимающихся со священным пылом. В мире древних легенд и ритуалов слабела ее память о прежней жизни. Она двигалась, дышала, как во сне. Ей казалось, что в нее день за днем все неотвратимее вселяется душа Богини.
Наконец настала великая ночь. Облаченная в лучащееся синее платье с несчетными звездами, с горящим факелом в руке, она медленно спустилась по священной лестнице к ждущему ее Инке. Спускаясь, она пела песню колоссальной древности и почти невыносимой красоты. Шагнув с последней ступеньки, она допела песню и увидела перед собой долгожданного Инку.
Толстогубый, с носом картошкой и свиными глазками, заплывший жиром, он тем не менее показался ей божественным Созданием, земным воплощением Захатополка. Он грубо схватил ее и прохрипел:
– Долой одежду! Я тебя заждался!
Она решила, что Бог должен поступать именно так, и радостно приняла возможность унизиться перед Ним. После ритуала он уснул и захрапел, а она блаженно уставилась на спящего. В середине ночи жрецы бесшумно открыли потайную дверь и поманили ее. Медленно, как в забытьи, она заскользила навстречу смерти.
Пробудившись, Инка спустился к завтраку. Отведав кушанье, он проворчал:
– По крайней мере, в этом году ее как следует прожарили.
Глава V Диотима
После того как Фрею увели, чтобы обожествить и умертвить, у Диотимы резко изменилось настроение. Раньше она веселилась и шутила. Любительница интеллектуальных игр, она, участвуя в спорах, больше следила за логикой, чем думала о последствиях для себя. Но теперь, под влиянием невосполнимой утраты озаботилась последствиями ложной веры. Она возненавидела официальную теологию. Она больше не сомневалась в том, что Захатополк был человеком из плоти и крови и что его учение о превосходстве перуанцев представляет собой не что иное, как перевод идеи национального зазнайства на понятный людям язык. Все ритуалы, связанные с зимним солнцестоянием, она стала воспринимать как апофеоз абсурда и жестокости. Теперь ее мнение состояло в том, что Фрею принесли в жертву не Богу, а похотливому cкоту. Но бунт против настолько укоренившейся системы был бы нелегким делом; до поры до времени она довольствовалась внутренней борьбой. По мере оформления бунта у нее в голове она все больше подавляла его внешние проявления. Томас, опасавшийся ее бунтарства, уже надеялся, что она успокоилась. Когда он спорил с ней на тему зарождения сомнений, которыми она вначале с ним делилась, она не отвергала его доводы, и он воображал, что сумел ее переубедить. Она видела его любовь и могла бы ответить ему тем же, если бы не растущее увлечение вставшей перед ней задачей невероятной сложности. Это чувство приводило к отчужденности и не позволяло ей полностью отдаться страсти к земному человеку. Томас страдал, чувствуя все это. Наконец наступил день, когда она решила, что больше не может скрывать от него мысли, не перестававшие преследовать ее ни днем, ни ночью.
Ранним утром Томас и Диотима гуляли вдвоем в глубокой долине, окруженной высокими вершинами Анд. У их ног простирался ковер весенних цветов. Над ними, на головокружительной высоте, громоздились снежные пики, дерзко пронзавшие небесную голубизну. Почти вся долина еще тонула в тени, но кое-где между тенями от гор проскальзывали яркие солнечные лучи. Спокойные точеные черты Диотимы казались Томасу синтезом теплой красоты внизу и холодной невозмутимости в вышине. Чудесный пейзаж и красавица рядом с ним привели его в чуть ли не сверхчеловеческий экстаз. Любовь горела в нем огнем, но он сдерживал свое чувство, потому что ему сопутствовало нечто большее, чем любовь, – почтительный ужас, изумление, суеверный трепет, осознание того, на что способен человек. Обычные слова любви казались ему сейчас жалкими, и он долго шагал в потрясенном молчании. Наконец, повернувшись к ней, он произнес:
– Только сейчас я начинаю понимать, как надо прожить жизнь.
– Да, – подхватила она, – жизнь должна быть красивой, как цветы, недвижимой и ясной, как горные вершины, неохватной и бездонной, как небо. Можно прожить жизнь и так. Но не среди уродства и ужаса, царящих в нашем обществе.
– Уродство и ужас?! – поразился он. – О чем это ты?
– Уродство – это когда обычному человеку, принимаемому за бога, позволяют совершать неописуемые гнусности.
При этих ее словах Томас задрожал и отступил назад.
– Обычному человеку?.. – пролепетал он. – Ты же не имеешь в виду божественного Захатополка?
– Его самого, – подтвердила она. – И никакой он не божественный. Возвеличивший его миф – порождение страха: перед смертью, ударами судьбы, стихией, человеческой тиранией. С этих горных вершин вниз в долины порой обрушивается смерть. Силы, царствующие вверху, кажутся жестокими, вот и появляется чувство, что их страшную неумолимость можно смирить только жестокостью. Но любой страх подл, и не менее подлы проистекающие из него мифы, как и люди, вдохновленные этими мифами. Захатополк – не бог, а скотина, кое в чем он даже хуже животного. В ритуале принесения в жертву Фреи не было ни капли божественного. Божественность – вообще выдумка. Боги – это тени наших страхов, вызванных непроглядностью ночи. В них воплощено самоуничижение человека перед силами, способными стереть его в порошок. Человек – раб времени, не способный оценить вечное мгновение, если в конечной системе координат оно так скоротечно. Но я не буду простираться ниц. Пока живу, буду стоять прямо, беря пример с горделивых гор. Если грянет беда, что, без сомнения, случится, то это произойдет вне меня. Цитадель моей веры в то, что может быть, непременно устоит.
Пока он ее слушал, внутри у него бушевал страшный конфликт. Часть его – та, что только мгновение назад сливалась с ней в запредельном единстве, воспламенялась от ее слов и безмолвно ей поддакивала. Но другая его часть, не менее, если не более сильная, корчилась от возмущения. Все, чему его учили, все, что он знал об обществе, в котором они жили, ужас и священный трепет, вселенные в него с младенчества, – все это бурно восставало; холодный безбожный мир, который она рисовала, наполнял его космическим страхом. Лучше уж Бог, думал и чувствовал он, пусть жестокий, но не полностью чуждый, ведь Ему присущи страсти, подобные нашим; лучше Бог, чем бескрайняя, ледяная, безжизненная вселенная, бездумная и вечно ускользающая, ничего не сулящая человеку, созданному ею без всякой цели, и готовая его уничтожить без тени раскаяния.
Пока что космический ужас Томаса пересиливал даже его любовь. Бледный и дрожащий, он повернулся к Диотиме и сказал:
– Нет. Я не могу принять твой мир, не могу жить с такими мыслями, как у тебя. Не могу поддерживать жалкий огонек человеческого тепла посреди неизмеримой ледяной бесчеловечности. Если ты ставишь своей задачей сокрушить веру моих отцов, то наши пути, увы, разойдутся.
Они медленно брели молча, пока не показался единственный в той горной долине дом. Там их подстерегали евнухи Инки. «Ты избранница», – сказали они Диотиме и уволокли ее. Томас смотрел ей вслед, пока не потерял из виду, но ни слова не сказал и пальцем не шевельнул.
О выборе Диотимы невестой года было официально объявлено ее родителям, а также профессору Дриуздустадесу, чтобы он объяснил своим студентам ее отсутствие. Родители, следуя существовавшей с незапамятных времен традиции, устроили многолюдный прием, празднуя оказанную их дочери честь. На нем собралась вся аристократия Куско со свадебными подарками, звучали поздравительные речи. Мать Диотимы принимала подарки и внимала речам, вежливо изображая смирение. Отец, грузный человек, старавшийся сохранять горделивую осанку, демонстрировал солдатскую невозмутимость, старательно скрывая свою радость. Прием удался, семья Диотимы покорила новую общественную высоту.
Профессор – и тот ощущал на себе отблеск славы Диотимы. Без сомнения, это Богиня Луны постаралась, чтобы Диотима удостоилась чести воплотить Божество. Профессор Дриуздустадес поздравлял сына с такой подругой, но огорченно отмечал, что Томас радуется до обидного мало. Сначала он утешал себя мыслью, что сын еще молод, а потому, как это ни постыдно, сожалеет о скором расставании с Диотимой.
Но через несколько дней поползли чудовищные слухи. Люди шептались, что Диотима отвергает оказанную ей честь, отказывается участвовать в церемониях очищения, отрицает проникновение в нее Богини Луны, неуважительно высказывается об Инке и – о, ужас, о, позор! – утверждает, что Солнце и Луна продолжат восходить сами по себе, без всяких ритуалов богоявления.
Увы, слухи не были беспочвенными. Жрецы и евнухи оцепенели от страха. Ничего даже отдаленно похожего на этот кошмар не случалось ни разу с тех пор, как лже-Инка давным-давно отказался есть невесту. В замешательстве они решили потянуть время. Они скрывали от Инки упрямство Диотимы и при этом оказывали на нее все доступное им давление, чтобы сломить ее решимость и принудить к повиновению. С этой целью они устроили ей серию встреч с людьми, более всего способными, по их мнению, на нее повлиять.
Первой к ней привели мать, особу гордую и надменную, чуждую проявлению чувств, кичившуюся своей сдержанностью. Теперь ее словно подменили. Она чувствовала себя униженной, ходила, потупив взор, не осмеливалась видеться с подругами, боясь осуждения или, того хуже, сочувствия. Она нашла дочь в голой камере, в комбинезоне заключенной, исхудавшей на тюремном пайке – хлебе и воде. Сотрясаясь от рыданий и не вытирая бегущих по лицу слез, она разразилась бессвязным потоком горестных упреков:
– О, Диотима, как ты можешь подвергать отца и мать такому страшному унижению? Или ты забыла свое невинное детство, когда моими стараниями росла умной и достойной, с каждым днем все больше оправдывая наши высокие надежды на твое будущее? Неужели тебе безразлична твоя гордая семья, веками высоко несшая историческое знамя в нашем славном краю? Неужели ты способна навлечь на любящих тебя людей самую страшную судьбу, какая только может выпасть человеку, – позор, стыд из-за бесстыжей дочери? О, Диотима, я не могу себя заставить в это поверить. Скажи, что это дурной сон, и моя любовь вернется к тебе, станет прежней! – Больше она ничего не смогла сказать, потому что захлебнулась рыданиями.
Пока длились материнские уговоры, Диотима не шевелилась. Потом она спокойно и внешне холодно ответила:
– Мама, речь идет о большем, чем родительская любовь, чем семейная гордость, даже чем это тысячелетнее государство. Потому что это государство – знаю, ты не в силах признать этот факт, – зиждется на лжи, жестокости и мерзости. Я не могу в этом участвовать. Если меня не трогают твои слезы, то дело не в холодности. Дело в том, что я горю другим пламенем, оно сильнее всего, что ты можешь вообразить. Ты не поймешь меня и тем более не одобришь. Лучше забудь, что у тебя была дочь, которая так тебя подвела.
Отчаявшаяся мать медленно отвернулась и покинула Диотиму.
На следующий день после неудачи матери в камеру привели отца. Он действовал по-другому.
– Ну-ну, упрямая дурочка! Вижу, ты удручена тем, что слишком рано и слишком быстро узнала о вещах, которые мы, придворные, давно знаем и принимаем. Ты же не воображаешь, что разумные люди верят всей этой болтовне про Солнце с Луной? Считают, что Инка, которого все мы знаем и презираем, раз в год, по календарю, превращается в божество? Нам доподлинно известно, что во время так называемой священной ночи никакие религиозные мотивы его не вдохновляют. Но мы не поднимаем шум, который грозишь устроить ты, поскольку знаем, что эта вера, при всей ее беспочвенности, полезна государству. Через нее оно почитается, а мы сохраняем порядок дома и власть над миром. Что, по-твоему, случится, если чернь станет думать, как ты? В Перу начались бы беспорядки, в других странах – мятежи; и очень скоро расползлась бы вся ткань цивилизованного общества. Безрассудная девчонка! Ты отказываешься стать жертвой Инки, не думая о том, что на самом деле жертва приносится закону, порядку и стабильности в обществе, а не вульгарному владыке. Ты пустословишь о правде, но разве правда сохранит империю? Разве профессор не научил тебя, что все империи всегда строились на полезной лжи? Боюсь, ты анархистка. Не раскаешься – не надейся, что государство тебя помилует.
– Отец, – был ее ответ, – учитывая наши семейные традиции, не приходится удивляться, что ты обожествляешь перуанское государство. Нужно сильно напрячь воображение, чтобы представить устройство общества, отличное от того, при котором ты прожил всю жизнь. Боюсь, воображение не относится к твоим сильным качествам. А я представляю себе мир лучше того мира, который создала наша раса: в нем больше справедливости, больше милосердия, любви и, главное, правды. Может быть, на пути к лучшему миру будут катаклизмы и беспорядки, но все равно лучше это, чем мертвая неподвижность всех наших государственных и частных гнусностей.
При этих ее словах отец побагровел от гнева и заорал:
– Непочтительное дитя! Предоставляю тебя твоей судьбе! – И он выскочил из каземата на солнечный свет.
Следующим упрямую заключенную навестил профессор. Он вошел в ее камеру с выражением вкрадчивой благостности и обратился к ней убедительным тоном, стараясь скрыть властность:
– Моя бедная девочка, мне больно видеть тебя здесь. Мне трудно не думать, что в этом отчасти виноват я сам. Ты целый год слушала мои лекции, но мне не удалось привить тебе понимание общественного долга, которое позволило бы тебе преодолеть этот внутренний протест. Но ответь, Диотима, в чем именно и по каким причинам ты не согласна с учением, с которым мне, недостойному, выпало знакомить тебя и твоих сверстников?
– Что ж, – промолвила она, – раз вы спрашиваете, я отвечу. Я не верю ни в излагаемые вами факты, ни в теорию. Полагаю, ваша концепция общественной пользы невыносимо узка, а ваша вера в незыблемость догмы настолько негибка, что несет гибель и интеллекту, и чувству. Меня возмущает ваше безразличие к истине и услужливость перед властью, вызывающей одно презрение. Ну вот, воздух стал чище. Теперь я готова выслушать вас.
От ее грубости профессор вспыхнул и уже был готов разразиться бранью, но, поступив так, он предал бы традиции своего сословия. Поэтому он взял себя в руки. Грубость не красила Диотиму. Она настолько пренебрегла уклончивостью, что ему оставалось только сожалеть об этом. Она позволила себе углубиться в область фактов, которая для посвященных является только предгорьем недосягаемого хребта мудрости. Радуясь своей сдержанности, он сказал себе, что девчонка изнурена и что сидение на хлебе и воде кому угодно испортит настроение. Призвав на помощь многолетнюю лекторскую привычку, он ответил на ее отповедь в манере, которая непременно восхитила бы слушателя, понимающего, как велик он и как молода она.
– Диотима, – сказал он, – похоже, кое о чем ты не осведомлена. Невзирая на поздний час, я обязан сделать все, чтобы рассеять твое неведение. Начну с того, что лежит в основе всего остального: ты отрицаешь божественность Святого Захатополка?
– Отрицаю, – подтвердила она. – Нас учат, что он чудесным образом спустился с небес. А по-моему, он прилетел на вертолете со скрытого за облаками плато. Нам внушают, что он не умер, а волшебно вознесся на небеса, когда завершились его земные труды. В это я тоже не верю. Скорее всего, окружившая его, смертельно захворавшего, генеральская камарилья лишила его всякого контакта с внешним миром. Потом его труп сбросили в кратер Котопакси. Легенды подобного рода тайно передавались из поколения в поколение в моей семье, патриарх которой был в той затее заправилой. Со всех взяли клятву держать язык за зубами, в курсе одни мужчины. Но у них случается высокая температура, сопровождаемая бредом, а это то состояние, когда выбалтываются даже величайшие секреты.
Тут профессор почувствовал необходимость прочесть Диотиме лекцию о Правде.
– Дорогая моя девочка, – начал он, – даже если согласиться, что на мирском, фактическом уровне все произошло так, как ты говоришь, неужели ты не сознаешь, что существует высший смысл и в нем общепринятая в нашем краю доктрина выражает более глубокую правду, нежели любая легенда о вертолетах и военной камарилье? Какая связь между вертолетами и Божественностью? Это выдумки, не более того – без сомнения, изощренные и удобные, но недостойные того, чтобы занять центральное место в фундаментальных учениях, объясняющих мироздание. Если наш Божественный Основатель и впрямь соизволил воспользоваться чем-то подобным, то, несомненно, с некоей мудрой целью, и не нам ее оспаривать. Вот ты отрицаешь, что Он спустился с небес, – а ты уверена, что знаешь, где они, небеса? Тебе что, неведома великая духовная истина, что где возвышенные мысли, там и небеса? Где Захатополк, там и гнездятся, будь уверена, возвышенные мысли. Почти то же самое можно сказать о Его смерти. Что с того, что Его земная оболочка похолодела, стала безжизненной? Что, если Его последователи благоговейно разожгли из нее тот земной огонь, что ближе всего на земле к Божественному Огню, из которого последователи слышат Его голос? Они поклонялись не Его земной оболочке, ибо наш Бог – это Правда и Дух, а Правда и Дух помещаются в душе, а не в теле. Сказанные тобой резкие слова о Всемогущем Боге в каком-то грубом смысле, возможно, и соответствуют фактам, но в духовном отношении, как я тебе продемонстрировал, – в единственном отношении, приближающем нас к Сущности Божества, – они бесконечно ложны и подлежат осуждению со всей силой, внушаемой нашей святой верой.
– Профессор, – сказала на это девушка, – ваши речи, безусловно, впечатляют, но я пришла к умозаключению, способному, боюсь, вас шокировать. По-моему, есть факты и вымысел, правда и ложь. Знаю, проповедники доктрины Золотой Середины, к которой вы тоже, подозреваю, принадлежите, считают, что необходимо соблюдать золотую середину между правдой и ложью, как вы прекрасно сделали в своей речи, которую я только что выслушала. Вот только факты, по-моему, упрямая вещь, их невозможно отрицать. Мне известно, что садист Инка, учинив грязную оргию, надругался над моей подругой Фреей, а потом ее сожрал. Это факт. И как бы вы ни рядили его в мантию из тумана и мифа, он останется фактом, а если вы начнете от него отворачиваться, он вас выпачкает с ног до головы.
– Полегче! – взмолился профессор. – Ты сильно выражаешься, но вряд ли ты изучала философскую теорию Правды так глубоко, как положено студентке. Ты знаешь, что правда учения заключается в его общественной пользе и духовной глубине, а не в презренной, вульгарной точности, которую можно измерить линейкой в руках тупицы? Если применить к чувствам, которые ты испытываешь к своей подруге Фрее, стандарты истины, то как же они вульгарны! Насколько глубже, насколько созвучнее нуждам человечества был ее экстаз в момент апофеоза! Подумай, чего она достигла. За считаные мгновения, которые ты высокомерно отторгаешь, она обрела единство с Богиней Луны, вечный покой, вечную красоту, счастье вечно скользить в небе, свободу от горестей и бед земной жизни. А еще подумай, чем обязано человечество величественному ритуалу, которым завершилась ее земная жизнь. Вспомни о поэзии, медленной музыке, величественных мозаиках, вспомни Храм, суровое великолепие которого увлекает взор и душу ввысь! Ты хотела бы со всем этим покончить? Твой идеал – человечество, низведенное до пыльной бухгалтерской серости? Ты – враг поэзии, музыки, архитектуры? А как выжить всему этому без вдохновляющего божественного мифа (я не употребляю слов в пренебрежительном смысле)?
Хорошо, пусть искусство и красота ничего для тебя не значат. Но как быть с общественным устройством? С законом, моралью, правительством? Думаешь, все это выживет? Думаешь, люди не станут убивать, красть, вступать в близкие отношения с не-перуанцами, если не будут больше ощущать на себе взгляд Захатополка? Как ты не видишь, что если правда – это то, что полезно для общества, то учение нашей святой веры правдиво? Умоляю, отбрось свою самовлюбленную гордыню, покорись вековой мудрости и тем положи конец мучению и позору, которым ты подвергаешь своих родителей, учителей и друзей!
– Нет! – крикнула Диотима. – Нет, тысячу раз нет! Эта высшая правда, о которой вы толкуете, для меня – наихудшая ложь. Ваша общественная польза – всего лишь сохранение несправедливых привилегий. Замечательная мораль, о которой вы разглагольствуете, оправдывает угнетение и разложение большинства человечества. Мои глаза широко открыты, и никакие ваши лицемерные речи не заставят меня снова зажмуриться.
Профессор наконец лишился терпения и воскликнул:
– Ну и погибай в своей несгибаемой гордыне, проклятая отступница! Предоставляю тебя твоей судьбе, ты ее заслужила. – С этим он ее и оставил.
Оставалась одна-единственная возможность принудить Диотиму к раскаянию. Было известно о любви к ней Томаса, и можно было надеяться на взаимность с ее стороны. Вдруг любовь подействует сильнее авторитета? Решили устроить им встречу; в случае его неудачи способов заставить ее сойти с ложного пути уже не оставалось.
Томас переживал очень трудный период внутреннего конфликта, страха и малодушия. Как влюбленный он страдал от гибели надежд. Как целеустремленный юноша, чей путь к успеху прежде казался простым и ясным, страшился естественного подозрения: все-таки он оказался близким другом еретички. Как студент, изучающий теологию и историю, которому никогда не приходило в голову ставить под вопрос отцовскую мудрость, он пребывал в ужасе от опасных последствий возможного распространения взглядов Диотимы. После ее отступничества его стали избегать многие друзья, он видел, что теряет лидерские позиции в своей собственной группе. Отец, вернувшийся после разговора с Диотимой взбешенным, был суров с сыном.
– Томас, Диотима попала под влияние злого духа, которому я прежде уделял недостаточно внимания в своих теологических раздумьях. От нее исходили опасные мысли, как зловоние от серного пламени. Не знаю, успела ли она отравить твои мозги. Для твоего спасения хочется думать, что нет. Но если ты хочешь восстановить доверие, которое прежде радовало мое отцовское сердце, то тебе придется проявить откровенность и всем доказать, что ты категорически не согласен с ее подлой ересью и что прежняя приязнь не мешает тебе желать для нее заслуженного сурового наказания. Правда, кое-какая слабая надежда все еще теплится. Вдруг ты преуспеешь там, где потерпели поражение ее родители и я? Тогда все утрясется. А если нет, то твоим долгом будет доказать своим рвением, что ты не подхватил заразу.
Эти грозные слова все еще звучали в ушах Томаса, когда его впустили в камеру к Диотиме. В первый момент он замер, сраженный ее красотой и спокойствием. Обычная любовь и страстное желание ее сберечь на минуту опрокинули плотину осторожности и убежденности. Расплакавшись, он воскликнул:
– О, Диотима, позволь мне тебя спасти!
– Бедный мой Томас, – отозвалась она, – как ты можешь питать такую глупую надежду? Что бы я ни сделала, я обречена. Либо я умру Невестой Захатополка, прославляемой, но сгорающей от стыда, либо буду казнена как преступница, презираемая и проклинаемая, зато в согласии с собственной совестью.
– Твоя совесть! Ты воображаешь ее единственным арбитром против такой мудрости и стольких веков? О, Диотима, откуда у тебя эта уверенность? По-твоему, все мы ошибаемся? Ты совсем не уважаешь моего отца? Ты хочешь замарать своих предков? Я тебя любил и люблю. Я надеялся, что и ты меня любишь. Вижу, надежда была напрасной. Мне больно это говорить, но я больше не могу тебя любить, ты ранишь мои глубочайшие чувства. Для меня это совершенно невыносимо!
– Я, правда, скорблю о том, что поставила тебя перед таким жестоким выбором, – сказала она. – Раньше у тебя были все основания надеться на успешную и гладкую карьеру. А теперь изволь выбирать. Осудишь и проклянешь меня – и твоя карьера снова станет гладкой. Нет – что ж, это был бы благородный поступок. Но как ты ни прячешь это от самого себя, ты не сможешь быть счастлив, если от меня отвернешься. Иногда занятость и аплодисменты подхалимов будут заглушать твои сомнения; но по ночам тебе буду являться я, маня в счастливый мир. Ты будешь отворачиваться от меня – и просыпаться в холодном поту. Все потому, что я знаю, что тебе тоже, пусть на короткое мгновение, явилось видение, ради которого я готова принять муки. Это вовсе не Солнце и Луна, вдохновляющие нашу официальную веру. В этой вере гордость и страх: гордость за нашу империю и страх ее лишиться. Не на этих страстях должна строиться человеческая жизнь. Ее основами должны служить правда и любовь. Жить надо без страха, в счастье, которое разделяешь со всеми. Нельзя получать удовлетворение от вырождения других. Стыдно стремиться к жалкой физической безопасности в ущерб ручьям радости и жизни, набухающим внутри у тех, кто открывает душу миру бесстрашия и риска. Мы позволили заковать нас в цепи. За пределами своей страны мы заковали в цепи наших жертв. Мы не понимаем, что тюремщик сам превращается в заключенного, в узника страха и ненависти. Цепи, которые мы выковали для других, держат нас самих в духовном каземате. Помнишь, как озарило нашу долину солнце? Так же оно должно осветить темные углы земли. Пусть сейчас тебе это невдомек, но после моей смерти это станет твоей миссией.
На какое-то мгновение ее слова отозвались эхом в его сердце. Но он призвал на помощь всю свою решимость и превратил эту минутную слабость в гнев.
– Откуда такие мысли? Откуда такая уверенность, что твои напыщенные речи смогут заставить меня отказаться от всего, что мне дорого? Дальнейший разговор с тобой бесполезен. Ты должна умереть. А я должен жить, должен сражаться со злом, которое ты считаешь добром. – С этими словами он бросился прочь из ее камеры.
После неудачи Томаса власти оставили надежду принудить Диотиму к повиновению. Была выбрана новая невеста, а Диотиму приговорили к публичной смерти в тот самый момент, когда могло бы произойти отвергнутое ею мистическое единение с божеством.
День искупления греха объявили государственным праздником. На центральной площади города сложили костер, вокруг возвели трибуны; первые ряды предназначались для знати. За их спинами толпилось в жадном нетерпении все население города, коротавшее время за шутками и хохотом, щелканьем орехов и поеданием апельсинов. Многие забавлялись грубыми жестами, переминаясь в ожидании смертельной пытки осужденной. Первые ряды вели себя степеннее, Инка на своем троне величественно молчал. Томас как сын выдающегося отца получил привилегию сидеть вместе со знатью. Подозрения в том, что он разделяет ересь Диотимы, он сумел побороть, приложив немалые силы. Теперь в награду, а также в качестве испытания, он приобрел право наблюдать казнь вблизи.
Ее привели обнаженной. Она хранила спокойствие и неподвижность. Толпа вопила: «Мерзавка! Теперь она узнает, кто Бог!» Ее привязали к шесту посреди костра, костер занялся со всех сторон от поднесенных к нему факелов. Когда огонь подобрался к ее ногам, она посмотрела на Томаса – то был странный, пронизывающий взгляд, выражавший все сразу: и страдание, и жалость, и призыв; она жалела его за слабость и призывала доделать то, что начала она. От ее мучений у него разрывалось сердце, от ее жалости страдала его мужская гордость, а от ее призыва у него внутри вспыхнуло пламя под стать тому, что уже пожирало ее тело. В одно ослепительное мгновение он увидел свою неправоту, осознал свое поведение как мерзость, которой не было прощения; понял, что она гибнет за достоинство человеческой жизни; увидел, что и хозяева жизни, и толпа – в равной степени униженные жертвы животного страха. В этот страшный момент совершилось его раскаяние – хотя «раскаяние» слишком пресное слово для обозначения того, что он испытал. Это была страсть не слабее той, что поддерживала дух несчастной, гибнущей в огне, пылкое желание посвятить себя ее прерванным трудам, освободить человечество от кандалов страха и порождаемой страхом жестокости. Ему показалось, что он крикнул во весь голос: «Диотима, я с тобой!» В то же мгновение он лишился чувств, и крик раздался, верно, только в его сердце.
Глава VI Томас
Томас долго лежал в больнице; он тяжело заболел и потерял способность мыслить здраво. Его терзали кошмарные видения: подвергаемые пыткам женщины, мужчины-садисты, огонь, смерть, истошные победные вопли. Но рассудок постепенно вернулся к нему, здоровье тоже, а с ними несгибаемая решимость, преобразовавшая всю его натуру. Это был уже не прежний мягкий и доверчивый юноша, готовый идти по отцовским стопам и добиваться скромного успеха по отцовскому примеру. Проницательность, дарованная испепеляющей страстью, позволила ему увидеть без прикрас всю перуанскую систему и недостойные мотивы, которыми она руководствовалась. Его ум, приученный работать с механической четкостью в рамках, диктуемых ортодоксией, теперь вырвался за эти рамки, не утратив безжалостной остроты. Но освободился не только его интеллект, но и – причем в еще большей степени – его сердце. Перуанцев учили почитать государство как земное воплощение Божества и сочувствовать только тем, кто тратил все силы на служение государству. Но государство уничтожило Диотиму, и Томас, восстав против этой жестокости, оказался бунтарем и против всех остальных зверств, всей бесчеловечности, всех установлений, отрицавших человеческое сострадание, и не только у него на родине, а повсюду, где обитали люди. Любовь, ненависть и ум спаялись в пламени его страсти в стальное единство. Его любовь к Диотиме перешла в любовь ко всем другим жертвам; ненависть к тем, кто ее осудил, – в ненависть к строю, допустившему такое. Ум подсказывал ему, что божественность Захатополка – миф, что Солнце и Луна – не божества, а безжизненные небесные тела, что обрушиваемые на контроль рождаемости проклятия – это суеверие и что люди, поедая собственных детей, убивают в себе способность к состраданию и доброте. Ум, сердце, воля привели его к непоколебимому решению сделать все возможное, чтобы установить на земле систему гораздо совершеннее той, которую его учили почитать, систему, которую одобрила бы Диотима. Он надеялся ослабить разъедавшее его изнутри чувство вины единственным мыслимым способом – отдать этот долг терзавшей его памяти Диотимы.
Но долг ее памяти, призванный ослабить его угрызения совести, состоял в изменении мира, а не просто в личной преданности или самопожертвовании. Раскаленный добела внутри, хотя внешне спокойный как лед, Томас взялся за дело. Он начал составлять план, чтобы потом приступить к его осуществлению. На людях, в общении с теми, кто не заслуживал его полного доверия, он не позволял себе ни слова критики существующего порядка. Его отцу и всем остальным казалось, что он избавился от своих прежних сомнений. Недоверие, сопровождавшее его в последние дни жизни Диотимы, вскоре прошло, и его карьера стала развиваться беспрепятственно, от успеха к успеху. Он выдвинулся на руководящий пост, к его словам прислушивались, находя в них вес и мудрость.
Его самого близкого друга и почитателя звали Пабло. Молодому Пабло Томас открыл свое сердце поздним летним вечером – сначала с опаской, а потом, видя понимание, постепенно сбросив маску. У Пабло были сомнения насчет справедливости сожжения Диотимы, но он благоразумно держал их при себе. Слушая Томаса, он засомневался гораздо сильнее. Они проговорили всю ночь, до зари, и разошлись, поклявшись быть заодно и способствовать скорейшему перевороту. Мало-помалу они сколотили тайное общество бунтарей. Студентам, изучавшим точные науки, невозможно было согласиться с божественностью Солнца и Луны; изучавшие историю не могли поверить в существование низших и высших рас; психологов возмущал каннибализм, легко сменяющий родительскую любовь. Рассказы о далеком от святости поведении Инки, невзирая на все предосторожности, просачивались из придворных кругов. Но Томас терпеливо выжидал.
Он втайне поручил способнейшим из своих последователей заняться изысканиями, которые власти запрещали под страхом смерти. Перуанский режим держался на смертоносном грибе со склонов Котопакси, но один блестящий молодой врач нашел профилактическое средство от эпидемии. Несколько сторонников Томаса стали губернаторами отдаленных провинций, благо такие назначения, подразумевавшие разлуку с Перу, были не в чести и обычно предлагались молодым людям в качестве их первых шагов в официальной иерархии. Очень осторожно, втайне эти люди стали противодействовать политике деградации, проводимой Перу в остальном мире. Пабло, второй после Томаса человек в секретной организации, стал губернатором провинции Килиманджаро. Тамошние горцы, сыны суровой природы, были закаленными и непримиримыми. Пабло открылся их вождям и впервые за много столетий вселил в них надежду на избавление от неволи. Многие заговорщики оставались на ключевых постах в Перу, ни в чем не подозреваемые начальством.
Наконец, после двадцати лет тщательной подготовки, Томас решил, что наступило время действовать открыто. Был составлен подробный план предстоящих событий. Томас, назначенный к тому времени ректором университета, объявил, что в определенный день выступит с сенсационным разоблачением. Всем его последователям, кроме получивших особые задания, было велено находиться в зале, где он произнесет свою речь. Подобно своему отцу в былые времена, он поднялся на кафедру, но его слова сильно отличались от отцовских. Он откровенно заговорил о том, во что верит, а во что нет. К изумлению не имевших отношения к заговору, самые крамольные его высказывания встречались самыми громкими аплодисментами. В зале началась паника. Тем не менее власти, как и предполагалось, сумели схватить оратора. Подобно Диотиме, он был приговорен к смерти в огне в праздник Богоявления.
Но последующие события застали власти врасплох. Один ученый, друг Томаса, придумал, как вызвать дождь, и сильнейший ливень не дал развести огонь, который должен был поглотить преступника. Пабло, в точности знавший время казни, выслал из своего губернаторского штаба на Килиманджаро огромный самолет, долетевший на сверхзвуковой скорости до дождевых туч над Куско. Там от него отделился вертолет, спустившийся на главную площадь и похитивший Томаса. Тот, улетев на Килиманджаро, создал у черни твердое убеждение, что произошло чудо. Правительство было парализовано неожиданным неповиновением большой части офицерства. Узнав о восстании на Килиманджаро, власти решили подавить его по старинке – при помощи грибковой эпидемии. Но африканцы оказались невосприимчивы к болезни, и власти пришли в ужас, переросший в оцепенение от известия, что верные Томасу ученые научились добывать радиоактивную смерть на вулканических склонах новой Священной горы. За много столетий власть имущие утратили привычку к страху и в кризисный момент струсили, когда посланники Томаса, кружа над ними в несчетных самолетах, пригрозили высыпать на них радиоактивную пыль. Вся правящая аристократия сдалась, получив обещание сохранить им жизнь. Центром власти стала гора Килиманджаро. Томас был провозглашен мировым президентом, Пабло назначен премьер-министром. Все признали начало новой эры и конец эры Захатополка.
Убедившись в прочности своей власти, Томас принялся разрушать систему разложения неиндейского населения. Он сократил продолжительность рабочего дня, составлявшую при перуанцах десять часов не потому, что этого требовала экономика, а чтобы лишить утомленных работников инициативы. С помощью верных ученых он значительно увеличил производство продовольствия в мире; объявив предохранение от зачатия непреступным, добился того, что рост населения стал способствовать счастью и здоровью людей, а не множить нищету. Он предоставил доступ к политической власти всем образованным людям и с максимальной скоростью развил во всем мире образование. Во многих странах, прежде томившихся под гнетом, произошел расцвет живописи, поэзии, музыки. Веками подавлявшаяся, спавшая энергия, вырвавшись наружу, сделала жизнь такой изобильной, какой она была в давние времена в считаных странах. Томас учил, что нет никаких богов. Молва упорно объясняла его бегство чудом, но он старательно убеждал людей, что чудес не бывает. Некоторые предлагали возвеличить его по примеру Захатополка, но он категорически возражал против обожествления и велел опровергать это учение во всех школах. При его власти не было жрецов, аристократов, рас господ и покоренных народов.
Глава VII Будущее
Такова история Великой Революции, продиктованная Пабло, другом Томаса, после завершения эпохи последнего по причине его кончины. Его деяния и учение стали с тех пор священными скрижалями Эры Килиманджаро. Однако постепенно выяснилось, что некоторые места учения Томаса трактуются неверно, а чтение книги Пабло всеми без исключения может представлять опасность. Он не всегда оговаривался, что понимать буквально, а что – аллегорически. Теперь стало общепризнанным, что Томас на самом деле был богом, а Диотима богиней. Как известно, оба временно приняли человеческое обличье, но в момент их земной смерти возобновилась их небесная жизнь, отложенная на считаные годы ради нашего спасения. Теперь стало понятно, что отрицание Томасом своей божественности относилось только к его земному воплощению. Все это было исчерпывающе разъяснено через пятьсот лет после его кончины великим комментатором Григорием.
Книга Пабло еще какое-то время оставалась в обращении на условии снабжения ее комментариями от Григория. Но потом и это было сочтено небезопасным, и ныне знакомиться с книгой дозволено только лицензированным богословам. Но она все равно остается опасной. Один ее экземпляр хранится в университете Окленда, Новая Зеландия. Недавно ее вернули туда со странной надписью на последней странице:
«Я, Тупия, член племени Нгапухи со склонов Руапеху, сомневаюсь в справедливости толкований Григория. Я убежден, что Томас был мудрее Григория и буквально подразумевал все то, что сочли опасным священники и теологи. Моей задачей будет вернуть мир к старинному неверию, которое пытался распространять Освободитель».
Ужасные слова! Их последствия пока неясны.
Вера и горы
Глава I
Непальский делегат в ЮНЕСКО был удивлен и озадачен. Впервые он покинул родные, безопасные ледники и пропасти и рискнул отправиться на Запад, где его ждала тревожная неизвестность. Он прилетел накануне поздним вечером и от усталости ничего не заметил. Проснувшись утром, он увидел, что солнце давно встало, и выглянул на улицу, называвшуюся, как подсказал принесший завтрак официант, Пикадилли. Но выглядела улица совсем не так, как можно было судить по кинофильмам. Вместо машин она была запружена толпой людей с плакатами, написанное на которых не удавалось расшифровать с помощью разговорника. Но надписи на плакатах так часто повторялись, что в конце концов непалец прочел все. Он предположил, что смысл у них примерно один. Чаще всего встречалась строчка: «Слава молибдену, залогу телесного здоровья!» Лишь немногим реже попадался такой призыв: «Вперед, молибдены!» Реже виднелись плакаты: «Да здравствует святая Молли Б. Ден!» Одна грозная группа несла плакат: «Смерть подлым магнитам!» Процессия была нескончаемой; через каждую четверть мили шествовали оркестры и хоры, распевавшие, судя по всему, боевой гимн манифестантов:
Молибден – металлов чемпион, Он хорош для всех без исключения, Все болезни без труда излечит он, Нет на свете лучшего лечения!Гимн исполнялся под известную мелодию, которой делегат не знал, так как ему не довелось получить христианского воспитания.
Он уже думал, что процессия никогда не завершится, но тут в тесных рядах под окном появился разрыв. Потом показался грозный эскадрон конной полиции. Позади него тянулась другая процессия, с совершенно другими плакатами. На одних было написано: «Слава Авроре Боре!» На других – «Вся власть Северному полюсу!» Были и такие: «Через магнетизм – к величию!» Манифестанты во второй процессии тоже пели гимн, такой же непонятный для делегата, как и гимн первой процессии:
Я мчусь на Полюс, Только вперед, Моему пропеллеру равных нет. Я схожу на Полюсе, Душа моя поет, Бора куда лучше, чем Харриет.Любопытство делегата делалось нестерпимым. Наконец он не выдержал, выбежал на улицу и примкнул к маршу. С истинно восточным любопытством он обратился к шагавшему рядом с ним человеку с вопросом:
– Не соизволите ли, сэр, великодушно объяснить мне, зачем эта музицирующая толпа движется на запад с такой ритмичностью и решимостью?
– Да бог с тобой! – отозвался демонстрант. – Неужто ты не в курсе про магниты? Откуда ты такой взялся?
– Простите мне мое неведение, сэр, – сказал делегат. – Я только-только свалился с неба, а до того обитал в Гималаях, там, где живут только буддисты и коммунисты, народ миролюбивый и смирный, не склонный к таким причудливым паломничествам.
– Вот это да! – воскликнул сосед. – Раз так, мне пришлось бы попотеть, чтобы растолковать тебе, что к чему.
Дальше делегат шагал молча, надеясь, что время все расставит по местам.
В конце концов шествие добралось до огромного круглого здания под названием «Альберт-холл» – эти слова делегат услышал от соседа. Часть манифестантов впустили внутрь, но подавляющее большинство осталось топтаться снаружи. Непальца сначала тоже не пускали, но он объяснил, что является официальным лицом и олицетворяет неподдельный интерес своей родины к западной культуре, после чего ему нашлось местечко в центре зала, на удалении от трибуны.
Увиденное и услышанное как будто пролило для него свет на привычки, традиции, верования и образ мыслей странного люда, в гущу которого он угодил. Но слишком многое все равно осталось неясным, поэтому он решил предпринять серьезное исследование и составить пояснительный доклад для гималайских мудрецов.
Задача оказалась трудоемкой, потребовался целый год, прежде чем он решил, что результат достоин мудрого внимания отправивших его на Запад людей. За этот год мне повезло с ним сдружиться и припасть к благодатному источнику его мудрости. Нижеприведенный рассказ о напряженных спорах и последующих событиях основан на его отчете. Без его решающего вклада мой рассказ грешил бы неполнотой и неточностью.
Глава II
Две секты, на публичных дебатах которых очутился непальский делегат, имели за плечами период безвестности, но в последние годы так быстро развились, что к той или другой стали принадлежать почти все, за исключением снобов-интеллектуалов. Одна именовалась «Молибдены», другая «Северные магниты», или просто «Магниты». Делами «Молибденов» заправлял Зеруйя Томкинс, у «Магнитов» главным был Маннасия Мерроу. Основополагающее учение у обеих сект было нехитрым.
«Молибдены» считали, что для полноценного развития человеческого организма и прибавления физических сил требуется больше молибдена в питании, чем было принято раньше. Их девизом было изречение: «Тот, кто ест, ест для Бога, а тот, кто не ест, не ест для Бога». Из их объяснений выходило, что «тот, кто ест» – это человек, который ест молибден. В подкрепление своей веры они рассказывали историю, за правдивость которой мне трудно ручаться. Якобы огромные стада овец в некоем пострадавшем от засухи районе Австралии медленно погибали на своих скудных пастбищах, где, в отличие от Европы и Азии, полностью отсутствует молибден. Ряд биохимиков и медиков – возможно, не светила в своих профессиях – утверждали, что молибден играет огромную роль в питании, и их утверждения были подхвачены верующими как доказательство их веры. Раньше этот довольно-таки редкий металл пользовался большим спросом у производителей вооружений, но постепенное ослабление международной напряженности привело к падению спроса. Теперь в силу роста численности «Молибденов» потребность в элементе перестала зависеть от угрозы войны. «Молибдены» были настроены против войны. Для них все люди, кроме «Северных магнитов», были братьями, но и с «Магнитами» надлежало бороться не военной силой, а сугубо Светом Истины.
В свою очередь, «Северные магниты» находили секрет человеческого благоденствия совершенно в другой стороне. «Все мы, – говорили они, – Дети Земли, а Земля, как известно любому школьнику, – большой магнит. Все мы должны в той или иной степени разделять магнитные склонности матушки Земли; если мы не подчинимся ее благотворной власти, то поплатимся помутнением рассудка. Поэтому спать всегда надо головой в сторону Северного магнитного полюса, ногами в сторону Южного магнитного полюса. Те, кто спит только так, постепенно получат долю магнитных сил Земли. Такие люди будут здоровыми, сильными и мудрыми». Вера во все это у «Северных магнитов» была непоколебимой.
В каждой секте имелся свой внутренний и внешний круг. Внутренний круг назывался «адепты», внешний – «приверженцы». Все, независимо от принадлежности к одному или другому кругу, носили отличительный знак: у «Молибденов» это было молибденовое кольцо, у «Северных магнитов» – магнитный медальон. Адепты вели праведную жизнь, состоявшую из соблюдения обрядов и миссионерства. Оба сообщества адептов отличались здоровьем, счастливым настроением и благочестием. Им были запрещены спиртное и табак. Они рано отходили ко сну: «Молибдены» – чтобы организм усвоил потребленный за день молибден, залог здоровья; «Северные магниты» – чтобы в темное время суток подвергаться магнитному воздействию Земли. Исполненные веры адепты не обращали внимания на превратности жизни, чувствительные для всех прочих. В былые времена им приходилось нелегко. Увлекшиеся неофиты нарушали в проповедях здравого учения своих сект границы разумного. Например, в гуще «Молибденов» обозначилось экстремальное течение, члены которого решили, что святость можно измерять суточным потреблением молибдена. Кое-кто доходил до того, что их кожа становилась металлической; оказалось, что при всей благости намерений молибденового излишества, как и любого другого, лучше избегать. Пришлось старейшинам провести бурное собрание и призвать фанатиков к порядку. С тех пор ничего подобного не повторялось.
У «Магнитов» фанатичное отклонение приняло иной вид. Кое-кто из них говорил: «Раз добродетель нисходит от лежания вдоль линий магнитных сил Земли, то всем нам следует так лежать; вставание с постели грозит рассеиванием живительной благодати, которую Земля дарует тем, кто ревностно ее прославляет». Такие фанатики проводили простертыми круглые сутки, чем создавали немалые неудобства своим менее ревностным в вере родным и друзьям. Эту ересь, подобно молибденовой, подавили своей властью, пусть и с трудом, старейшины, постановившие, что здоровый «Северный магнит» не должен проводить в постели больше 12 часов в сутки.
Но оба эти осложнения в обеих сектах имели место в начальный период их существования. В дальнейшем миссионерское рвение и успехи в сочетании с укреплением здоровья и физической силы наполнили жизнь людей радостью. Адептов беспокоило одно: «Молибдены» не могли понять, почему Провидение допускает рост «Северных магнитов»; «Северные Магниты» удивлялись, зачем Провидению увеличение числа «Молибденов». Обе секты утешались мыслью, что не все на свете можно разгадать и что даже самый изощренный человеческий ум не способен постичь высший замысел Провидения. Без сомнения, в конечном итоге восторжествует истина, и секта, не устающая провозглашать истину, соберет всех людей под своими знаменами. Постороннему оставалось только изумляться поразительному успеху обоих течений.
В былые времена обеим сектам приходилось сносить насмешки неверующих. «Почему именно молибден? – спрашивали те. – Почему не стронций или барий? За что такая слава одному этому элементу?» Ответ верующих, что это загадка, разгадка которой доступна только при условии веры, вызывал хохот.
«Северные магниты» сталкивались с такими же трудностями. «Почему не Южный магнитный полюс?» – спрашивали скептики. Некоторые, особенно жители Южного полушария, доходили до того, что спали головой на юг и навязывали «Северным магнитам» борцовские схватки, чтобы доказать, что Южный магнитный полюс сообщает не меньше силы, чем Северный. «Северные магниты» отвергали этот вызов с должным презрением и отвечали, что следование правильному режиму обеспечивает здоровье и физическую силу, а также внутреннюю гармонию благодаря проникновению в организм магнитного могущества Земли. По части мышц некоторые неверующие бывали и помощнее, но истинные верующие оставались непревзойденными обладателями гармонии тела и духа. Что до предположения, что Южный полюс не хуже Северного, то как тогда объяснить, что Создатель разместил в Северном полушарии гораздо больше земли, чем в Южном? Этот довод, зливший многих в Южной Америке, Южной Африке и Австралии, было очень трудно опровергнуть. Одна лишь твердость «Молибденов» оставалась непробиваемой для всех наскоков «Северных магнитов».
Каждая сторона справедливо доказывала, что имеет право на существование только вера в ее правду. Холодному разуму самому ни за что не восторжествовать в схватке с упорствующими в заблуждениях фанатиками. На заре зарождения обеих сект некоторые ученые и литераторы-сатирики дружно обрушивали на них всю мощь статистики и высмеивания. Однако они были бессильны обуздать вздыбленную волну, и со временем только люди выдающегося ума или их ставленники, пренебрегавшие настроением масс, могли отважиться выступить против двух сект. Самые дорогие газеты, выходившие небольшими тиражами и интересовавшие только интеллектуальную аристократию, держались в стороне, соблюдая нейтралитет. Они старательно избегали темы сект, поэтому хорошо образованные люди теряли представление о происходившем вокруг них. Газеты подешевле сначала пытались угождать обеим сторонам, но потерпели неудачу. Даже самая скромная похвала в адрес «Северных магнитов» вызывала бешенство «Молибденов». За любым лояльным упоминанием «Молибденов» следовала клятва «Магнитов» никогда больше не читать провинившийся подметный листок. Поэтому популярным газетам пришлось определиться. «Дейли лайтнинг» заняла сторону «Северных магнитов», «Дейли фандер» – «Молибденов». День за днем та и другая все безжалостнее рисовали моральное и интеллектуальное разложение противной стороны и восхваляли невероятные высоты чистоты, самоотверженности и упорства, достигнутые «своими». Под влиянием журналистского напора укреплялся партийный дух, от национального единства осталось одно воспоминание, возникла даже угроза гражданской войны.
Беда затронула не одну Британию. Самой серьезной проблемой стал рост напряжения между США и Канадой, выступившими в защиту принципов, речь о которых впереди.
Глава III
У истоков «Молибденов» стояла вдовая американка средних лет по имени Молли Б. Дин. Ее покойный муж был очень богат, но кроток той кротостью, которая, согласно Евангелиям, унаследует землю. Неудивительно, что он владел крупной земельной собственностью в Колорадо, приобретенной по наследству и в результате умелых вложений. Жена, которой он оставил все свое огромное состояние, была, что называется, прирожденной вдовой. Те, кто на таких женится, не доживают до старости. Вот и господин Дин умер в расцвете лет. Она, впрочем, не признала это неотъемлемой частью своей судьбы и, разглагольствуя о достоинствах молибдена, часто сетовала: «Знай я раньше о благотворном влиянии этого металла, мой дорогой муж Джехошафат остался бы по эту сторону Великой Вуали!»
Изучая после смерти мужа его финансовые дела, миссис Молли Б. Дин, чья предприимчивость не была разграничена с религиозной прозорливостью так резко, как хотелось бы некоторым ее последователям, обнаружила, что ей принадлежат девять десятых всех мировых запасов молибденовой руды. Ее поразило сходство между названием этого элемента и ее фамилией, и она отказалась считать его случайностью. Перст судьбы, и никак иначе! Она посчитала своей священной миссией дать свое имя новой вере, которая превзойдет чистотой все прежние верования и не оставит внакладе ее саму.
Приверженцев новой веры следовало научить потреблению молибдена; в честь матери-основательницы они получили название «Молибдены». Порождение творческого озарения быстро пошло в рост и вскоре встало на обе ноги – религиозной веры и деловой смекалки. Чтобы ноги не цеплялись одна за другую, Молли учредила компанию «Амалгамейтед металлз» и стала негласно ею управлять. Одновременно она заразила своим верованием Зеруйю Томкинса, человека младше ее, успешного баптистского проповедника, попавшего в немилость из-за некоторого отхода от ортодоксии. Она полностью подчинила его себе. Томкинс принимал любое ее слово как откровение свыше и был полон рвения возродить человечество согласно новой Благой Вести. Его организационные способности не уступали рвению, поэтому она без тени сомнения доверила ему земные дела святого братства «Молибденов».
«Северные магниты», сами того не ведая, были обязаны своим появлением сэру Магнусу Норту, крупной фигуре канадского общества, владельцу необозримых просторов на безлюдном северо-западе страны, богатых, по его убеждению, полезными ископаемыми. Он решил вернуть Северо-Запад на карту. С помощью лучших геофизиков он скорректировал местоположение магнитного полюса, и его надежды оправдались: полюс оказался строго посередине его владений! Кроме того, он (вернее, нанятые им изыскатели) обнаружил на магнитном полюсе гору-вулкан; окрестная почва из-за активности вулкана, а может, из-за радиоактивности была теплой, снег на ней таял, рядом находилось не замерзающее даже зимой озеро. Вооружившись этими данными, сэр Магнус развернул широкую кампанию. С помощью профессора антропологии, знатока верований эскимосов и северных индейцев, он сформулировал догматы веры «Северных магнитов». Но, как предупреждал его антрополог и как знал он сам по спекуляциям на фондовой бирже, люди следуют не только чистой логике. Хотя для рационального разума доводы в пользу проповедуемого им вероисповедания выглядели неопровержимыми, он стал искать и нашел еще один ключик к людским сердцам – гибкий, зато открывающий любую дверь. Он понял, что роль миссионера новой секты не для него. Миссионер должен быть одновременно динамичным и загадочным, уметь затрагивать глубинные струны человеческой души, наполнять чувства любого человека странным неспокойным спокойствием, источником счастья, исключающим вялое бездействие.
Он доверил поиск такого отца-основателя своему антропологу. Тот раскинул сети среди сект Лос-Анджелеса, Чикаго, всюду, где жаждали новой веры. Выполняя приказ сэра Магнуса, он не раскрывал своей цели. В результате был составлен список из трех кандидатов, который представили сэру Магнусу для окончательного решения. Сэру Магнусу особенно приглянулась женщина из Виннипега, сулившая своим землякам скорое великое откровение, не раскрывая его природы. Это была особа впечатляющих пропорций: рост шесть футов четыре дюйма и прочее в соответствии с богатырской статью. Глядя на нее, люди поневоле вспоминали статую Свободы, только ей было присуще еще больше величия. У нее имелся всего один изъян: ее звали Амелия Скеггс. Размышляя о желанном будущем, сэр Магнус испытывал трудности с миром приверженцев «скеггендианства». Он помнил об участи магглтонианцев: все у них было хорошо, подкачало только название…[18]. Он колебался, пока не придумал замечательный выход. Нащупав решение, понял, что пора раскрыть величественной Амелии беспримерную судьбу, которую он для нее приготовил.
– Мисс Скеггс, – начал он, – судя по вашим красноречивым проповедям, вы готовитесь к великой судьбе. Природа создала вас владычицей человечества, даровав вам не только великолепные формы, но и выдающуюся душу. Вы знаете, что вас ждет особая миссия, но до сих пор не ведали, в чем она будет состоять. Мне, как скромному посланцу Провидения, назначено указать вам путь к сияющим духовным высотам, для которых вы предназначены. – И он изложил ей догматы будущих «Северных магнитов».
Внимая ему, она загоралась духовным огнем. Исчезли все сомнения. Вот она, Благая Весть, которой она алкала! Вот счастливая истина, которая превратит Канаду в Святую землю и приведет верующих всего мира – смиренных паломников – к подножию магнитного храма.
Сэру Магнусу оставалось сделать последний шаг.
– Вам придется взять другое имя, не то, что вы носите в миру, священное имя, каждый слог которого трепещет от вверенной вам святой миссии. Отныне все народы мира будут идти на ваш свет, приветствуя АВРОРУ БОРУ!
Она ушла опьяненная, в состоянии небывалого подъема, полная мистического экстаза и осознания высокой цели. Началось образцовое сотрудничество. Действуя по его инструкциям, она держала его роль в глубокой тайне.
Очень скоро Аврора добилась известности и успеха в широких кругах. Ей удалось привлечь на свою сторону Манассию Мерроу, выдающегося организатора, всегда страдавшего от отсутствия духовности, которой он в детстве восхищался в своей верующей матери. Теперь эту нехватку восполнила Аврора Бора, которую он искренне вознес на высочайший пьедестал поклонения. Если бы его спросили, не влюбился ли он, он счел бы вопрос богохульством. То была не любовь, а обожание. Он возлагал к ее ногам все свои непревзойденные способности к ведению практических дел, предоставляя ей источать тот сладкозвучный экстаз, на котором зиждилась ее власть над людьми обоих полов.
Глава IV
Одним из первых проектов, обеспечивших «Северным магнитам» успех, было строительство крупного кругового санатория вокруг магнитного полюса. Санаторий назвали «Магнитным домом». В этом огромном здании все до одной кровати располагались изголовьями строго в сторону Северного магнитного полюса, находившегося в центре круглого двора. Изножьями кровати указывали на Южный магнитный полюс. Благодаря такому расположению санатория целительный эффект земного магнетизма был там гораздо сильнее, чем где-либо еще. Большинство приверженцев укрепляли свое психическое и физическое здоровье, соблюдая обычный режим, но кое-кто на заре своего перехода в истинную веру еще страдал от остатков неврастении – спутницы былого неверия. Таких неспокойных субъектов, при наличии у них необходимых средств, переправляли на борту роскошных реактивных лайнеров в полярный санаторий, где им предоставлялись роскошные условия и где выпивка и курение, запрещенные верующим во всех других местах, дозволялись в медицинских целях.
Одного из первых таких нервных пациентов по имени Джедидия Джелифф доставили туда на грани безумия, вызванного безнадежной любовью к редкостной красавице Харриет Хэмлок. Магнетизм Авроры Боры полностью его исцелил. В знак признательности он отпраздновал свое освобождение бессмертным стихотворением, ставшим гимном «Северных магнитов» и в таком качестве достигшим слуха непальского делегата.
Сам магнитный полюс, находившийся в геометрическом центре круглого внутреннего двора, был отмечен флагштоком, на котором почти всегда развевалось знамя «Северных магнитов» с головой Авроры Боры, испускающей во все стороны живительные лучи зари. Раз в день верующим надлежало под страхом наказания отвести взор, и знамя заменяли люлькой. Из нее величественная жрица, облаченная в развевающиеся черные одежды, разражалась речами непререкаемой мудрости. Над ее головой торчали девять громкоговорителей: восемь горизонтальных, направленных на север, юг, восток, запад, северо-восток, юго-запад, юго-восток и северо-запад, и один, из чистого золота, нацеленный строго вверх, чтобы вещие слова были слышны не только на земле, но и на небесах.
Стоя на платформе, невидимой для толпящихся внизу верующих, в медленно вращающейся круглой камере со стенками из безупречно прозрачного стекла, раскидывая руки в символическом объятии и медленно колеблясь всем телом, словно подчиняясь магнитному потоку, то сияя огромными глазами, то мудро щурясь, жрица вещала. В ее голосе, не похожем ни на что, слышанное прежде толпившимися внизу людьми, величие грозового грома в горах сочеталось с райским воркованием голубки.
«Дорогие братья и сестры в магнетизме, – изрекала она, – мне снова посчастливилось донести до вас слово истины о нашей святой вере и поделиться средствами могущества, которыми я наделена свыше, силой и миром нашей магнитной Матери-Земли. В моих жилах течет ее огонь, в моих мыслях живет ее непоколебимый покой. То и другое, пусть в меньшей степени, достанется и вам, мои возлюбленные слушатели. Ваша жизнь тревожна и неспокойна? Вы боитесь угасания прежнего пыла супруга или супруги? Вашему делу грозит крах? Соседи не выказывают вам того уважения, которого вы безусловно заслуживаете? Долой беспокойство, дорогие друзья! Вы в объятиях нашей великой Матери-Земли. Печали даны вам только как испытание вашей веры. Забудьте все, что вас отягощает, впустите внутрь себя Магнитное Здоровье. И да пребудут с вами любовь, сила и радость, как они живут во мне!»
На слушателей эти заклинания действовали по-разному. Усталые взбадривались, тревожные умиротворялись, удрученные осознавали мелочность своих горестей; и все, поклоняясь Авроре, объединялись во всеобщей гармонии.
У «Молибденов» был собственный восстановительный дворец – на вершине Акме-Альп в Колорадо. Это была гора высотой десять тысяч футов, восемь месяцев в году укутанная снегом, а остальные четыре месяца густо заросшая горечавкой и прочей чудесной растительностью альпийских лугов. С высоты во все стороны открывался захватывающий вид на горы, долины, леса и реки, в том числе на извилистую красную реку Колорадо, пробивающую себе путь сквозь грозные преграды. Однако Молли Б. Дин выбрала это место не только за природную красоту. Для нее оно обладало еще одним, гораздо бо́льшим достоинством. Гора Акме-Альп находилась в самом центре принадлежавшего ей района молибденовых залежей. Оздоровительный комплекс на горе, «Санаторий Акме», приобрел широчайшую известность. Из-за крутости горных склонов сюда можно было попасть только вертолетом. Посетители добирались на самолете до Денвера, а затем пересаживались в одну из стай винтокрылых машин, всегда поджидавших гостей роскошного заведения.
Устройство здешнего санатория, уступая театральностью «Магнитному дому», могло поспорить с ним комфортабельностью. Правда, новичков сперва настораживало меню. На праздничный ужин в честь прибытия им предлагались «молибденовый острый индийский суп», «осьминоги Молиб», «баранина по-молибденски» и «меренги Молли», а также их бесчисленные варианты, так как, по убеждению Молли Б. Дин, следовало по мере сил избегать однообразия, а потому каждый вечер изобретались все новые способы маскировки присутствия молибдена в еде. Атмосфера, навеянная Молли Б. Дин, коренным образом отличалась от атмосферы, созданной Авророй Борой. Последняя верила в мистические силы Земли и поощряла некоторую пассивную восприимчивость к ним как источник последующей вспышки активности. Молли Б. Дин, напротив, ставила на пробуждение в каждом человеке его внутренних сил, воли и торжества над собственной судьбой. Полагаться на помощь извне – нет, это не для нее! В своих вдохновляющих радиообращениях, которым должны были внимать гости ее санатория перед ужином, она призывала каждого мужчину, каждую женщину, даже каждого ребенка черпать решительность внутри самого себя, ибо это – главный источник и главная надежда. Она разработала особую технику развития этих способностей.
«По утрам вам неохота вставать? – вопрошала она. – Не балуйте себя! Начинайте каждый день с волевого усилия. Взберитесь на механического коня и после пяти минут упражнений на этом укрепляющем здоровье снаряде перейдите к самостоятельной мускульной гимнастике. Девяносто девять раз коснитесь пальцев ног, не сгибая коленей. После этого вы легко перенесете холодную ванну, вода в которой только что была снегом. После завершения туалета вы спуститесь к коллективному завтраку, где проявите аппетит и энергию перед испытаниями наступившего дня. Почта не принесла ничего хорошего? Ну и что? Выбросьте ее, для этого вам понадобится лишь крохотная доля энергии, приобретенной утренними упражнениями. Обесценились ваши капиталовложения? Это не беда, ясность ума, добытая на механическом коне, позволит вам проявить проницательность и произвести новые вложения, непременно сулящие умножение прибылей. Не шарахайтесь от греховных мыслей, они посещают даже в этом Дворце Святости; если вы позволите себе захотеть подольше понежиться в постели или принять не такую холодную ванну, помечтать о меньшем содержании молибдена в баранине или, соблазненные Сатаной, вообразите, что стронций ничуть не хуже, – в любой из этих ужасных ситуаций вашим спасением станет простой ритуал: десятикратно пробежаться по внутреннему двору дворца, а потом открыть наугад священную книгу «Молибден, лечение для угрюмых и безучастных». Вашему взору непременно предстанет оздоравливающий текст, и вы сможете собственными силами избавиться от ужасных мыслей, уводивших не в ту сторону чистый поток ваших жизненных сил. И запомните главное: спасение не в мыслях, а в поступках, в напряженной работе, действие порождает силу. Когда вам грозят проделки Сатаны, не предавайтесь бесплодным размышлениям, а действуйте. Какими должны быть ваши действия, вы узнаете из Священной Книги. Действие, действие, действие! Действие во имя священного Молибдена!»
Глава V
Управление своими оздоровительными дворцами Молли Б. Дин и Аврора Бора доверили менеджерам Томкинсу и Мерроу. Оба знали о взаимной неприязни сект. Каждый был убежден, что враждебная секта состоит из бессовестных мерзавцев, которые ни перед чем не остановятся ради посрамления противника. Поэтому оба напихали во все помещения, включая спальни, диктофоны, записывавшие частные беседы постояльцев. Так они выявляли ворчунов, а то и начинающих скептиков, пробиравшихся во дворцы вопреки всем преградам, выставляемым комитетами по приему.
На Акме-Альп усердие секретной службы принесло плоды: был установлен вдохновитель недовольства по фамилии Вагнер. Сначала он казался руководству санатория образцовым клиентом. Прежде успешный бизнесмен, теперь он, однако, заразился нерешительностью. «Я изучил достоинства разных вариантов, – говаривал он, – и нашел, что доводы сторон стоят друг друга. Как же мне поступить?» При таком настроении существовала опасность лишиться состояния. В поисках спасения он пристал к «Молибденам» и как будто успокоился. Но, несмотря на улучшение состояния пациента, его исцеление было неполным, поэтому понадобился курс на Акме-Альп. Вагнер подчинился. Оставив бизнес на попечение помощников, он погрузился в целительную атмосферу дома отдыха, где в действительности никому не давали даже дух перевести.
Однако он и там вел непозволительные разговоры. Обращаясь после ужина к случайному собеседнику, он говорил, к примеру, такое: «Знаете, молибден творит с «молибденами» чудеса! Но кое-что меня озадачивает, и я безуспешно ищу ответы в Священной Книге. Раз молибден залегает, главным образом, в Колорадо, нетрудно предположить, что жители штата потребляют больше этого элемента, чем обитатели других частей нашей великой республики. Однако статистика не выявляет значимых различий в здоровье между колорадцами и жителями других штатов. Честно говоря, это настораживает. Или другое: я попросил знакомого физика оценить поступление в организм и удаление из него молибдена у преданного «молибдена», потребляющего священный металл согласно предписаниям нашей любимой предводительницы, и у обыкновенного гражданина. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что удержание элемента организмом здорового «молибдена» не выше, чем у обычно питающегося человека! Уверен, ответ должен существовать, вот только какой? Не хочу беспокоить мистера Томкинса, он слишком занят. У вас есть предположение, как устранить мои затруднения?»
Выяснилось, что он заводил такие разговоры со многими на Акме-Альп. Доказать его вину, впрочем, не удалось, поэтому его объявили вылечившимся и отправили с глаз долой домой.
Похожая неприятность произошла вскоре и в «Магнитном доме». Некий Торни, хваставшийся своими путешествиями в далекие края, вернулся, по его словам, из очередной экспедиции совершенно обессиленным выпавшими на его долю испытаниями. Ему остро потребовалось восстановить жизненные силы при помощи «Северных магнитов», он стал приверженцем, и друзья из числа верующих ждали его быстрого выздоровления. Но оно затягивалось, к Торни никак не возвращалась та бодрость, что прежде заставляла его срываться с места. Власти решили, что ему поможет только поездка к магнитному полюсу. Там, как и на Акме-Альп, предусмотрительные тайные службы, опасавшиеся поползновений соперников, тоже наставили диктофонов. Оказалось, что, хотя разговоры Торни и не тянут на сугубо еретические, в них прослеживается тенденция подрывать у собеседников твердость веры. Возникло подозрение, что он не слишком почитает Аврору Бору, являвшуюся приверженцам только в своем поднебесном гнезде. «Вы не задумывались, – спрашивал он очередную жертву, – какой на самом деле у Авроры рост?» «Нет, – отвечал шокированный бедняга, – и я не уверен, что этим вопросом следует задаваться». «А ведь она живая женщина из плоти и крови, – не унимался Торни. – В скитаниях я сделался зорок, поэтому позволил себе прикинуть ее рост, воспользовавшись секстантом. Ее ноги нам не видны, но я заключил, что в ней где-то между шестью футами тремя с половиной дюймами и шестью футами четырьмя с половиной дюймами. Отражающие свойства стекла, через которое мы ее наблюдаем, не позволяют дать более точную оценку. Так или иначе, я не сомневаюсь, что она женщина рослая и фигуристая».
Разве можно отзываться в таких словах о Богине?! Но, как ни тяжело это признавать, некоторые относились к выходкам Торни одобрительно и стали не так склонны приписывать Ей сверхъестественную силу. Находя плодородную почву для своих зловредных семян, он шел дальше. «Знаете, – говорил он, – есть обстоятельство, известное, помимо меня, разве что горстке белых людей, которое мне крайне трудно объяснить на основании общепризнанных принципов магнетизма. Существует одна отдаленная узкая-преузкая долина, почти трещина в скалах, затерянная в высокогорьях Тибета, направленная, как меня уверили, строго на Северный магнитный полюс. Как ни тесна долина, некоторые не покидают ее целое лето, так как там есть алмазы. Старателям приходится спать головами либо на север, либо на юг, кто как предпочитает. Казалось бы, ложащиеся головой к северу должны во всех смыслах превосходить тех, кто спит наоборот. Но, проведя среди них много времени и изучив их прежнюю жизнь, я не смог найти различия, которому нас учит наша святая вера. Уверен, что существует исчерпывающее объяснение, но я никак до него не додумаюсь. Если вы или кто-то из ваших знакомых способен избавить меня от этого недоумения, я буду вам бесконечно признателен».
Когда диктофоны зафиксировали привычку Торни задавать подобные вопросы постояльцам круглого дворца, власти решили, что форма и методы правдоискательства, применяемые этим искренним человеком, не заслуживают поощрения. Поэтому его немедленно признали выздоровевшим и отправили домой, предупредив, что лучше ему размышлять молча, а то и вовсе отказаться от мыслей, которыми он имел неосторожность делиться с окружающими.
Глава VI
Эти мелкие осложнения не мешали процветанию обоих движений. «Северные магниты» приобрели всеобщую поддержку в Скандинавии, где сомнения оставались только у интеллигенции. То же самое произошло в Исландии и Гренландии, где ученые неопровержимо доказали, что магнитный полюс скоро переместится к ним. В США торжествовали «Молибдены». Штат Юта, обладатель крупных молибденовых залежей, торжественно отказался от своей «Книги мормона» в пользу книги «Молибден, лечение для угрюмых и безучастных». В награду за переход в истинную веру Молли Б. Дин согласилась на включение Юты в состав Святой земли. Во всем Западном мире сомневающаяся молодежь, прежде неспособная сознательно выбрать, кому поклоняться – Кремлю или Ватикану, обретала душевный и эмоциональный покой в одном из двух новых верований.
В Англии, где соперничающие группировки находились в состоянии равновесия, существовала более острая, чем где-либо, угроза их столкновения. Международные состязания по крикету не вызывали прежнего интереса, старые футбольные клубы были забыты, толпы собирались только на противоборства «Молибденов» и «Магнитов». Не только в футболе, но и во всех других видах спорта пальма первенства переходила от «Молибденов» к «Магнитам» и обратно, и ни одна сила не могла добиться решающего перевеса. Толпы утратили былое добродушие, между упорными последователями враждующих партий все чаще вспыхивали потасовки. В конце концов пришлось установить правило по разделению «Молибденов» и «Магнитов»: одним отныне принадлежала правая сторона, другим левая. На тех, кто позволял себе придерживаться нейтралитета, смотрели с презрением, они подвергались гонениям.
Интеллектуалы были бы рады установить мир и с теми, и с другими, но где там! «Кто не с нами, тот против нас!» – звучало в ответ на их пасы. Тем не менее попыткам примирения не было конца. В «Темпора сапплементари леттерс» появилась глубокомысленная статья об обоих верованиях. «Конечно, – говорилось в ней, – холодному критическому уму трудно принять обе благие вести, несущие новые надежды и новую жизнь усталому Западу. Но носители великой традиции, впитавшие и переварившие послания всех великих мыслителей, от Платона до святого Фомы Аквинского, не спешат отвергать новую веру, даже кажущуюся невозможной, каким казалось христианство Тертуллиану, который в силу этой невозможности – вернее, именно из-за нее – полностью принял новые догматы, недоступные разуму. Все верно мыслящие люди, как ни трудно им сделать выбор между «Молибденами» и «Магнитами», будут приветствовать то общее, что у них есть. Еще недавно мыслями наших признанных ученых мужей владела холодная механистическая философия. Глубочайшие источники мудрости, а не просто наблюдение за голым фактом, смиренное сердце, открытое промыслу Великого Духа Истины, – вот свежие родники «Молибденов» и «Магнитов». Пришел конец дерзости дилетантов, мелкой уверенности пренебрегающих вечными истинами, на которых зиждется наш Западный мир. В «Молибденах» и «Магнитах» столько всего, милого сердцу всякого почитателя мудрости, что нам остается только сожалеть об их расколе и соперничестве. Мы верим – и в этой вере мы не одиноки – в возможность единения, которое сообщит вере в наши западные ценности ту непоколебимую силу, что так важна для судьбоносной борьбы с атеизмом Востока».
Эти весомые соображения имели влиятельную поддержку. Британское правительство, разрывавшееся между любовью к Британскому Содружеству и зависимостью от США, с непритворной тревогой наблюдало за ростом напряженности между Канадой и западными штатами. Эта напряженность, если ее не побороть, могла воспрепятствовать деятельности не только ООН, но и НАТО. В Англии было поровну приверженцев обеих партий. Обе были сильны, но ни одна не могла надеяться на первенство. Британское правительство предложило Томкинсу и Мерроу провести конференцию, где можно было бы выработать по меньшей мере modus vivendi двух сект.
Томкинс и Мерроу провели телефонные переговоры с обеими верховными жрицами, Молли Б. Дин и Авророй Борой. Аврора тайно посоветовалась с сэром Магнусом Нортом. В результате всех консультаций было решено провести встречу в Альберт-Холле, где соглашение должно было быть достигнуто способом публичных дебатов. Правительство очень на это надеялось. Чаяния двух партий были совсем иными. Каждая была настолько уверена в собственной непобедимости, что не сомневалась в победе при физическом столкновении. Веря каждая в свое торжество, партии приняли предложение правительства.
Председательствовать на встрече был приглашен профессор сравнительного религиоведения Оксбриджского университета, мудрый и искушенный знаток религии вымерших тасманийцев, гугенотов и пигмеев. Правительство рассудило, что он с сочувственным пониманием отнесется к «Молибденам» и «Магнитам». Во избежание неудачи к нему приставили несколько сотен верных помощников, выдержавших проверку на отсутствие склонности к обеим партиям. Вопрос, кто будет располагаться справа, а кто слева, решался жребием. Правая сторона выпала «Магнитам», левая «Молибденам». Это разделение соблюдалось на сцене, в партере и на всех ярусах. Между соперниками оставили широкий проход, по которому расхаживали надзиратели, имевшие приказ всеми способами обеспечивать мир.
Аврора Бора и Молли Б. Дин спустились с гор, дабы вдохновлять своих последователей в этой грандиозной схватке. Обе восседали на тронах посередине сцены, разделенные пространством той же ширины, что и проход в зале. Молли Б. Дин любила все человечество, кроме Авроры Боры; Аврора Бора делала в своей любви к человечеству исключение для Молли Б. Дин. Молли Б. Дин, обведя острым взглядом черных глаз аудиторию, ядовито уставилась на Аврору Бору, – более робкое существо от такого взгляда поежилось бы. Аврора Бора воздела глаза к потолку, а потом обвела взглядом огромных глаз бесчисленных собравшихся. Порой она косилась на трон напротив, но, казалось, никого на нем не замечала. Напрасно Молли Б. Дин испытывала на ней свои возможности Медузы горгоны. Аврора Бора искала на потолке поддержку возвышенным чувствам, сделавшим ее той, кем она теперь была.
Томкинс и Мерроу взгромоздились на заваленные бумагами кафедры и изготовились сыпать фактами и аргументами, призванными сокрушить противную сторону.
За спиной Зеруйи Томсона сидел его сын и будущий преемник Захария. Отец воспитал Захарию в строгом соблюдении ортодоксии. Почтительный сын ни на миг не ставил под сомнение догматы «Молибденов» и не мог вообразить для себя иной судьбы, чем помощь отцу при его жизни и подхватывание его знамени после того, как смерть позовет его в более счастливые края. Несмотря на молибденовую диету, Захария был довольно тощим юнцом и в свободное время предпочитал теологии сочинение стихов. Молибден должен был делать людей мускулистыми живчиками, этот же, к его тайному стыду, был склонен к меланхолии. Сочтя «Оду к осени» Китса чрезмерно жизнерадостной, он сочинил свою «Оду к осени», начинавшуюся словами:
О, желтая, о, скудная пора, Ты гонишь солнце прочь от грустной мызы, Вот-вот в углу печального двора Залепит снег обвисшие карнизы…Нередко он корил себя за несоответствие идеалу секты – отсутствие румяной жизнерадостности. Как он ни старался, меланхолия и вялость завладевали им всегда, стоило ему покинуть суету молибденовой штаб-квартиры.
Позади Манассии Мерроу, напротив Захарии, сидела дочь Мерроу, Лия. Ее, как и Захарию, растили в строжайшей ортодоксии. Как и Захарию, готовили в преемницы отца. И, как и Захария, она с трудом приходила в то душевное состояние, которое требовалось от адепта. Бывали даже ужасные моменты, когда она не могла принудить себя к почитанию Авроры! Любую свободную от помощи отцу минуту она посвящала игре на фортепьяно. Ее любимым композитором был Мендельсон, но она отдавала должное и Шопену. Но предпочитала все же не классическую музыку, а старомодные романтические песенки вроде «Трубадура Гейли» и «Дочки айлингтонского бейлифа». Назвать ее красавицей не повернулся бы язык, зато ее лицо выражало взволнованную искренность, а в больших глазах пряталась печаль.
На заседании оба, Захария и Лия, естественно, больше интересовались противоположной стороной, нежели собственной. Бросив взгляд на Аврору Бору, Захария тут же брезгливо его отвел: уж больно велика! Лия, на мгновение встретившись глазами с Молли Б. Дин, пришла в такой ужас, что чуть не залезла под стул. Справиться с тревогой обоим помогло наблюдение друг за другом. Их глаза встретились. До этой минуты оба считали сторонников противоположной секты низменными грешниками. Страх друг перед другом поверг обоих в шок. «А ведь в этих глазах нет ни капли низости! – подумал каждый. – Угораздило же ненаглядного папашу так ошибиться! Возможно ли, чтобы противник испытывал те же чувства, что я? Вдруг наша общая человечность возобладает над различиями?» Думая так, они сверлили друг друга взглядами.
Собрание тем временем шло своим чередом, но двое молодых людей почти не замечали происходящего вокруг них.
Профессор поднялся, чтобы зачитать свою тщательно подготовленную вступительную речь; они с премьер-министром обсудили каждое ее слово, желая избежать любого намека на критику и недостаток нейтральности. Нервно откашлявшись, оратор начал:
– Боготворимые пророчицы, леди и джентльмены, все мы знаем о разногласиях на этой знаменательной встрече (со всех сторон раздались одобрительные возгласы), но есть тема, относительно которой мы, надеюсь и верю, едины. Все мы привержены поиску истины и, отыскав, поспешим ее провозгласить.
При этих его словах отовсюду закричали: «Нет-нет, только не с той стороны!» Бедняга профессор сбился, залепетал нечто нечленораздельное, но потом продолжил:
– Так или иначе, люди, к мудрости которых я питаю глубочайшее уважение, решили, что разделение на враждующие фракции в нашей великой стране крайне опасно, не менее опасно, чем в дни Войн Алой и Белой розы или прискорбного противостояния короля и парламента в семнадцатом веке, ибо, увлекшись междоусобицами, мы можем проглядеть угрозу извне. Именно поэтому мы и собрались в надежде на то, что, сохранив прежнее рвение и всю глубину религиозной убежденности, два верования смогут объединиться и дружно выковать оружие непобедимой мощи, способное отразить посягательства любого недруга на основы нашей национальной жизни.
В этом месте его опять прервали. Отовсюду закричали: «Нет ничего проще! Пусть они присоединяются к нам!» Профессор опять пролистнул несколько страниц своей речи, сочтя разумным ввиду высокого градуса обстановки побыстрее добраться до завершения.
– Не мне, – заключил он, – диктовать содержание будущего соглашения. Решать вам, ибо мы живем при демократии. Я лишь повторю, что настал решающий момент и что ваша ответственность велика, как никогда. И да благословит Бог вашу рассудительность!
Уже во время этого вступления стало ясно, что атмосфера сгущается. Необычно было и то, что повестку дня огласил не председательствующий, а полицейский комиссар. Властным тоном, совсем не как профессор, он объявил, что с каждой стороны будет по трое выступающих, каждому из которых отводится двадцать минут, и что по жребию первым слово предоставляется представителю «Молибденов». Он также предупредил, что силы полиции приведены в полную готовность и при первых признаках беспорядка очистят зал. Аудитория временно притихла и почти не прерывала первых двух докладчиков.
Это были, конечно, Томкинс и Мерроу. Каждый говорил о достоинствах и успехах своего движения, старательно избегая упоминания о соперниках. В зале кашляли, зевали, кое-кто даже уснул, не выдержав гнетущей обстановки. Казалось, все завершится непролазной скукой. Но в запасе у организаторов был фейерверк. Когда Мерроу сел, Томкинс вызвал на сцену Торни. Тот сразу показал, что не настроен ни на какое примирение.
– Леди и джентльмены, «Северные магниты», – начал он, – я глава секретной службы «Молибденов», и мне известно кое-что, чего не знаете вы, – доходы сэра Магнуса Норта! А также размеры его владений на Северо-Западной территории. Я знаю, что каждый вечер он по многу часов посвящает либо сладострастию, либо преумножению богатств на пару с так называемой святой, мисс Борой!
Эти слова привели аудиторию в оцепенение. «Магниты» считали Торни своим, «Молибденам» трудно было освоиться с его новой ролью. Пока собрание потрясенно молчало, вскочил Вагнер.
– Вас потчевали ложью, но я открою вам правду! Что вы знаете о компании «Амалгамейтед металлз»? О состоянии главного держателя ее акций? О роли молибдена в ее сделках? Я, глава секретной службы «Магнитов», дам вам удивительный ответ: состояние колоссальное; его основа – молибден; его удачливая обладательница – вдова Дин!
Когда он сел, обе стороны уже впали в крайнюю степень буйства. «Смерть сэру Магнусу, позор его мерзкой любовнице!» – неслось с одного края. «Долой жадных плутократов! В петлю Молли-убийцу!» – вопили с другого. Короткое время все вместе пытались противостоять напирающим стражникам. Но потом враждующие святоши сошлись в рукопашной и устроили кучу-малу. Полиция, сохранившая стройность рядов, очистила зал при помощи слезоточивого газа. Непрерывно чихая, тысячи изгнанных хлынули на улицу. Там, придя в себя на свежем воздухе, они разбились на дерущиеся кучки. Трещала одежда, сыпались тумаки, драчуны пинали друг друга и отдавливали друг другу ноги, отчаянно бранясь и даже допуская богохульства. Опустилась ночь, но возня продолжалась, пока святое воинство не повалилось на холодную мостовую и не уснуло, обессилев, прямо на ней.
Глава VII
Тем временем полиция повела руководство со сцены к секретному выходу. Председатель, понимая, что его полномочия окончены, хотел одного – удрать. Непальский делегат, заранее предчувствовавший беду, тронул профессора за плечо и предложил ему помощь. Обоих спешно усадили в полицейскую машину.
– Куда едем? – спросил профессор.
– В непальское посольство, – ответил его новый друг.
Там его, уставшего и отчаявшегося, окружили дружелюбием и, дождавшись, чтобы он собрался с мыслями, предложили профессорскую кафедру по его специальности в Гималайском университете Непала. Для этого он должен был подписать документ на незнакомом ему языке. Он рискнул (как выяснилось спустя длительное время, документ представлял собой подтверждение того, что первым вершины Эвереста достиг Тенсинг) и вскоре самолетом был доставлен к месту новой научной деятельности. По прошествии десяти лет он выдал на-гора монументальный труд «Религия и суеверия аборигенов Запада». Ни на одном европейском языке этот труд не публиковался.
Обе жрицы представляли серьезную проблему для полиции. Молли Б. Дин, забыв обо всем на свете, напала на монументальную Аврору, одним прыжком преодолев пограничный проход, и расцарапала ей ногтями лицо до крови. Та отвесила ей ладонью оплеуху, от которой Молли растянулась на полу.
– Ведьма! – заорала Молли. – Алчная мегера!
Аврора отвечала непривычным для ее последователей голосом, смахивавшим на визг. Несколько полицейских подняли Молли, десяток других, размахивая дубинками, оттащили Аврору. Обеих затолкали в черный воронок, но они и там, перекрикивая полицейских, продолжили осыпать друг дружку оскорблениями. Женщин обвинили в нарушении порядка и заперли на ночь в разных камерах, навевавших самые грустные мысли.
Томкинс и Мерроу, не ожидавшие несвоевременного вмешательства своих тайных агентов, вернулись под охраной полиции каждый в свой офис. Там, крайне удрученные, обхватив голову руками, они мысленно взирали на развалины дела всей своей жизни. В обеих сектах соблюдали строжайшее воздержание (обет нарушался только в оздоровительных дворцах), тем не менее на сей раз уборщицы нашли поутру обоих святош на полу, в обнимку с пустыми бутылками.
Что до Захарии и Лии, то они были так поглощены друг другом, что не отдавали себе отчета в происходящем вокруг, пока шум не стал оглушительным. Среди нейтралов, немного позади них, сидел Ананиас Вагторн, чиновник министерства культуры, отправленный на собрание, чтобы собрать сведения, необходимые для последующих бюрократических процедур. Человек незлой и наблюдательный, он заметил, что эти двое смотрят друг на друга не отрываясь. В разгар скандала он предложил увести их в безопасное место. Немного смущаясь друг друга, они согласились – а что еще им оставалось? Прибегнув к помощи полиции, Вагторн благополучно препроводил их к себе домой. Там он представил их своей жене, и та с пониманием выслушала его рассказ о грандиозном скандале в Альберт-Холле. Добродушная женщина посочувствовала двум молодым людям.
– Вряд ли им сегодня стоит возвращаться домой, – сказала она мужу. – На улицах небезопасно, разгоряченная толпа способна на что угодно. Если мистера Захарию устроит диван в гостиной, то мисс Лия может занять свободную комнату. Так они оба смогут у нас переночевать.
Оба с благодарностью приняли предложение и от утомления моментально уснули.
Собрание состоялось в субботу, поэтому наутро Вагторну не нужно было идти на работу, и он окружил своих гостей вниманием, чтобы они быстрее успокоились. Те не знали, верить ли чудовищным обвинениям, прозвучавшим накануне. Неужели молибденовая вера опиралась на финансовый подлог? Захария содрогался от такого предположения. Неужели магнитная вера была лишь средством обогащения сэра Магнуса Норта? Окажись этот кошмар правдой, жизнь Лии лишилась бы смысла. Видя их отчаяние, приведшее к отсутствию всякого аппетита за завтраком, Вагторн решил с ними побеседовать.
– Неужто все это правда? – спросили его оба хором.
– Боюсь, что да, и даже более того, – был его ответ. – Служебный долг заставил меня разобраться с обеими сектами. В Торговой палате я узнал о тесной связи миссис Дин с «Амалгамейтед металлз», в администрации Северо-Западной территории – о площади владений сэра Магнуса, сказочно богатых полезными ископаемыми. Полиция давно в курсе отношений между сэром Магнусом и Авророй Борой. Уверен, ваши отцы не подозревали, что на собрании прозвучат такие обвинения. Они искренне убеждены в истинности и благотворности доктрин, которые исповедуют и проповедуют. Вполне возможно, что, поразмыслив на досуге, вы оба согласитесь со своими отцами и останетесь при своих прежних убеждениях. Но более вероятно, что вы, как и я, признаете факты и научитесь строить жизнь на более твердом фундаменте, чем раньше.
– Как же возможно, – вскричали оба, – чтобы такие могучие, массовые движения, заразившие столько умов, опирались всего лишь на подлог и безумие?
– Возможно, и еще как! Я изучал историю подобных движений. Сколько их было! Одни оказывались недолговечными, другие существовали столетия. Нет никакой взаимосвязи между жизнеспособностью движения и его связью со здравым смыслом.
В подтверждение своих слов он достал с книжной полки огромный фолиант – «Словарь сект, ересей, церковных партий и школ религиозной мысли».
– Оставьте опасения, что у вас есть основания стыдиться или что вы отличаетесь от остальных людей способностью верить в то, что потом окажется чепухой. В этом томе собраны схожие безумия двух последних тысячелетий. Нетрудно убедиться, что по сравнению со многими из них ваша вера была разумной и умеренной. Обе ваши ереси на букву М. Посмотрим, что здесь значится на эту букву. Вот, скажем, учение Макариуса. Уверяю вас, оно достойно внимания не меньше, чем мажоринианцы, малаканцы, марселианцы, маркозианцы, масботиане, мельхиседехиане, метангисмониты, морельчики и магглтонианцы. Возьмем, к примеру, маркозианцев, последователей Волшебника Маркуса – «умельца изображать волшебство, сочетавшего шутовство Анаксилауса с хитроумием волхвов». Так он соблазнял жен дьяконов и оправдывал свою безграничную распущенность тем, что якобы достиг «высот могущества», а потому вправе делать все, что ему заблагорассудится. Или скажите спасибо, что не принадлежите к секте морельчиков, «собиравшихся в определенный день года в удаленном месте, вырывавших глубокую яму и набивавших ее сучьями, соломой и прочими горючими материалами под пение безумных гимнов. Потом содержимое ямы поджигалось, и сектанты прыгали в нее под восторженные вопли окружающих, считая самоубийство святым мученичеством». Нет, мои юные друзья, не воображайте, что вы одиноки в своем безумии, ибо оно вообще свойственно людям. Мы считаем, что отличаемся от обезьян силой мысли. Мы не помним, что она подобна умению ходить в годовалом возрасте. Верно, мы мыслим, но делаем это так худо, что я часто думаю, не лучше ли бы нам от этого воздерживаться… Увы, сейчас меня зовут дела. Довольствуйтесь пока что обществом друг друга.
Оставшись с глазу на глаз, они сначала смущенно молчали. Потом Захария неуверенно заговорил:
– Пока еще я не способен как следует обдумать услышанное вчера вечером, как и речи нашего великодушного друга. В одном я уверен: увидев по ту сторону прохода хрустальную чистоту и доброту ваших глаз, я уже не мог поверить, что все «Северные магниты» – дегенераты.
– Очень рада, что вы это говорите, мистер Томкинс, – ответила она. – И… и… и у меня возникли такие же чувства в отношении «Молибденов».
– Мисс Мерроу, неужели не все погибло? Тоскуя в одиночестве, отрезанный сомнением и отчаянием от прежних соратников и надежд, могу ли я думать, что в ночи кажущейся неприкаянности мы с вами нашли друг друга?
– Полагаю, можете, мистер Томкинс.
И они крепко обнялись.
На какое-то время прилив чувств позволил им забыть о своих горестях. Потом Лия сказала со вздохом:
– Но, Захария, что же нам делать? Разбить сердца наших отцов? Или есть другой путь? Не можем же мы пожениться, продолжая верить каждый в свое?
– Нет, – ответил он, – это было бы невозможно. Мы обязаны сообщить нашим отцам об утрате веры, как ни больно будет им об этом узнать. Отныне мы с тобой, дорогая Лия, должны думать, говорить и действовать вместе. Если вера будет нас разводить, этому не бывать.
С тяжелым сердцем они решили предстать перед своими отцами. Но, закаленные новым огнем любви, не дрогнули перед лицом испытания.
Глава VIII
Поговорив еще, Захария и Лия решили отложить откровенную беседу на завтра, благо Вагторны были так добры, что предложили им провести в своем доме еще одну ночь. После обеда они прогуливались в Кенсингтонских садах. Раньше они не знали ничего, кроме кабинетов по будням и залов собраний по воскресеньям, и теперь были потрясены красотой природы и испытывали эмоции, за которыми другие отправляются в Альпы или на водопад Виктория.
– Я начинаю думать, – сказал Захария, любуясь клумбой разноцветных тюльпанов, – что раньше мы жили несколько ограниченной жизнью. Эти тюльпаны, например, ничем не обязаны молибдену.
– Как свежо звучат эти твои мудрые слова! – воскликнула Лия. – Уверена, что магнетизм тоже не участвовал в создании всей этой прелести.
Они согласились, что их мозг и сердца расширяются с каждым мгновением, проходящим после бегства от тенет догмы. Их воспитывали в преклонении перед физической силой, но у обоих ее было маловато. Их учили презирать любую тонкость, изящество, хрупкость, мимолетность. Захария, борясь со стыдом, наслаждался поэтическими антологиями и чувствовал себя от этого, как морфинист, неуклонно увеличивающий дозу. Лия, сбегая к фортепьяно, любила оставаться одна, без отца. Тот, на ее счастье, был напрочь лишен музыкального вкуса и, заставая ее за инструментом, верил вранью, будто она разучивает гимны из магнитного песенника. Теперь им наконец-то не нужно было стесняться своих пристрастий.
Но их страх оставался при них: страх перед миром и страх за самих себя.
– Ты думаешь, – спрашивала она его, колеблясь, – что без веры возможно добро? В прежней жизни мне было не за что себя винить. Никто никогда не слышал от меня дурного слова. Я не пробовала спиртного. Не загрязняла свои легкие табачным дымом. Спала исключительно головой в сторону магнитного полюса. Никогда не ложилась спать слишком поздно и не вставала позже положенного времени. Мои друзья были так же преданы долгу. Удастся ли мне продолжать такую жизнь, уже не чувствуя, что каждый мой вдох служит поклонению Земле, Великому Магниту?
– Увы, меня грызут те же сомнения, – сознался он. – Мне страшно, что по утрам я буду довольствоваться меньшим числом наклонов до пола, чем девяносто девять, а то и даже теплой ванной! У меня уже нет уверенности, что алкоголь и табак – дорога в ад. Что с нами будет при таких сомнениях? Не двинемся ли мы по пути наслаждений прямиком к моральному разложению и физическому краху? Что убережет нас и наших бывших единоверцев от превращения в пьяниц, дебоширов и развратников? Что мы скажем нашим отцам в ответ на их довод, что такая вера, как у них, пусть даже ложная, необходима для сохранения человечества? Пока что я не знаю, как им отвечать. Остается надеяться, что отцовский гнев вдохновит нас и подскажет ответ.
– Я тоже на это надеюсь, – подхватила она, – но, честно говоря, побаиваюсь, что даже приверженность догме не спасала нас обоих от греха. Ты со своими поэтами и я со своим пианино – оба мы повинны в мошенничестве. Если даже в прошлом мы грешили, то что учиним теперь?!
Подавленные и унылые, они молча вернулись в дом Вагторнов как раз к чаю.
В понедельник утром оба предстали перед своими отцами, готовые к объяснениям и примирению. Захария нашел отца на работе, в центре суматохи. На его столе росла гора уведомлений об отставке. Едкие статьи в газетах, прежде считавшихся дружественными, предвещали скорый крах. Посвятив воскресенье раздумьям, большинство из тех, кто в субботу дрался за свои секты, решилось от них отречься. В субботу вечером одна половина толпы была на стороне Томкинса, другая – на стороне Мерроу. Сейчас, в утреннее время, когда людям не свойственно толпиться, проходившие мимо обеих штаб-квартир враждебно хмурились, и лишь усиленные наряды полиции служили заслоном от гнева тех, кто считал себя обманутым.
Сохранивший веру Томкинс недоумевал, зачем Провидению понадобилось все происшедшее. Увидев Захарию, он испытал прилив надежды.
– Ах, сынок, – начал он, – что только не выпадает на долю добродетельных людей! Уверен, что ты, которого я с раннего детства учил истинной вере, ты, чья незапятнанная жизнь и непреклонная вера были величайшими отрадами моего нелегкого существования, не оставишь меня одного в этот трудный час. Я уже немолод, и снова возвести с самого фундамента великую церковь, вплотную подошедшую к триумфу, будет превыше моих иссякающих сил. Но ты, полный юных сил и горячности, рождаемой неведением сомнений и неуверенности, сможешь, ничуть не сомневаюсь, отстроить рухнувшее здание в еще большей чистоте, великолепии и сиянии, чем то, что лежит в руинах с субботы.
Захария был растроган до глубины души, глаза его увлажнились. Как ему хотелось обрадовать отца тем ответом, которого тот жаждал! Но это было невозможно. Его останавливало нечто большее, чем сомнения в физиологической пользе молибдена. Подчинение отцу делало невозможными мысли о Лии. Отец ни за что не согласился бы на союз сына с одной из «Северных магнитов». Захария понял, что должен ответить отцу, преодолев страх причинить ему боль.
– Отец, – сказал он, – как мне ни тяжело тебя огорчать, я не могу исполнить твою волю. Я утратил веру. Нас убеждают, что молибден лечит грудные болезни, но ведь у меня, как ты знаешь или по крайней мере подозреваешь, туберкулез легких. Молибден якобы укрепляет мышцы, но любой ни во что не верящий хулиган из трущоб запросто положит меня на лопатки. Ладно, эти вещи еще можно попробовать объяснить. Но главная трудность в том, что я полюбил Лию Мерроу…
– Лию Мерроу… – шепотом повторил за ним отец.
– Да, Лию Мерроу. Она согласилась стать моей женой. Она, как и я, больше не верит в то, во что была приучена верить. Подобно мне, она полна решимости принять болезненные факты, которые поколеблют беззаботный мир веры. Отныне твой труд и труд господина Мерроу не служат для нас вдохновением. Мы хотим жить независимо от догмы, свободно принимать реальность, открыть душу всем ветрам, а не кутаться в вату теплой, удобной системы взглядов!
– Ты разрываешь мне сердце, Захария, – простонал отец. – Ты проворачиваешь штык в кровоточащей ране! Мало тебе, что против меня ополчился весь мир? Ты, мой сын, присоединяешься к моим врагам! О, ужасный день! Своим бессердечным легкомыслием ты уничтожишь не только меня, под угрозой весь мир! Что ты знаешь о человеческой природе? О диких силах анархии, которые высвободят твои «ветра»? Что, по-твоему, удерживает человека от убийств, поджогов, грабежей, бесчинств? Думаешь, жалкая сила разума способна на что-то повлиять? Увы, ты жил защищенным и ничего не знаешь о темной стороне человеческой натуры. Ты возомнил, что добродетель зарождается в человеческом сердце сама по себе, не догадываясь, что она – неестественный побег противоестественной веры! Той самой веры, которую я старался насаждать. В этот безрадостный час я готов признать, что тем же самым занимались «Северные магниты». Я по-прежнему считаю, что наша вера превосходит их, как полуденное солнце превосходит серость сумерек. Но то, что предлагаешь ты, – даже не сумерки, а чернота, непроницаемая ночь. А ночью творятся черные дела. Если ты посвятишь себя им, то мы с тобой станем еще более непримиримыми врагами, чем «Молибдены» и «Северные магниты»!
Вопреки собственным ожиданиям, Захария откликнулся на эту речь совсем не так, как ожидал его отец.
– Нет! Нет, человечество спасет не организованная ложь. Ты воображал, что созидаешь добродетель, но что ты созидал на самом деле? Богатство Молли Б. Дин! Ты рисовал в своем воображении святую. Но разве святость побудила ее расцарапать лицо Авроре Боре? Святость, что ли, подтолкнула ее маскировать свои финансовые интересы безликой «Амалгамейтед металлз»? Да что далеко ходить! Ты понимаешь, что положил на алтарь своей доверчивости мою жизнь? Что отказывал мне в необходимом лечении, потому что оно не входило в число предписаний твоей секты? Разве ты не видишь, что я – вопиющий пример бед, которые обрушиваются на людей, заменяющих факт догмой? Никогда не поверю, что человеческая природа так дурна, как ты ее рисуешь! Но если ты прав, то не поможет никакая система навязанной дисциплины, ведь те, кто ее навязывает, сами находятся в плену низменных страстей и непременно найдут способ причинять страдания, которых требует их порочность. Нет, ты возводишь в систему зло, и только, а зло, возведенное в систему, страшнее всего того, на что способна необузданная, бессистемная страсть. Прощай, отец! Я тебя люблю, сочувствую тебе, но работать с тобой больше не стану! – И с этими словами он хлопнул дверью.
Беседа Лии с отцом сложилась так же и завершилась тем же. Томкинс и Мерроу-старшие хотели было продолжить работать по-старому, но переменчивый ветер моды дул уже в другую сторону: вере оставались верны совсем немногие, в самых закоснелых пригородах. Томкинсу и Мерроу пришлось расстаться с роскошными штаб-квартирами: миссис Дин и сэр Магнус больше не считали нужным на них раскошеливаться. Оба зависели теперь от добровольных пожертвований горстки правоверных и быстро обнищали.
Сэр Магнус и Молли Б. Дин, понесшие изрядные потери, все же остались богачами и в значительной степени поправили свои дела, начав действовать сообща. Благодаря этому трения между США и Канадой сошли на нет, и правительства с радостью забыли про недавние раздоры. Аврора Бора, не верившая, что ее успех зависел от денег сэра Магнуса, осталась в санатории, где, как и раньше, принимала гостей, только теперь очень редких. Заведение постепенно пришло в упадок, и горстка сохранивших веру с грустью наблюдали угасание ее былого могущества. Самые фанатичные из оставшихся адептов приписывали ее крах зловредному действию молибдена и втайне подозревали ее в отступничестве. Увы, постепенно возобладало гораздо более простое объяснение. Аврора сначала запила, а потом пристрастилась к гашишу. В конце концов бывшую жрицу, впавшую в невменяемость, пришлось отправить в лечебницу для умалишенных, где ей суждено было закончить свои дни.
Захария и Лия, никогда не знавшие нужды и раньше предполагавшие для себя единственный путь в жизни – наследование комфортабельных и хорошо оплачиваемых отцовских кресел, теперь были вынуждены искать заработок. Захария, впечатливший Вагхорна своей способностью переходить на совершенно новую точку зрения, приверженный чтению и накопивший благодаря этому немалый массив знаний, получил по рекомендации все того же Вагхорна скромный пост в министерстве культуры. Поселившись стараниями этого доброхота в крохотной квартирке, Захария и Лия поженились.
Лия погрузилась в домашние заботы, посвятила себя любимому и не имела времени на ворчание, поэтому не тосковала по былой жизни. Захарии привыкание давалось труднее. Раньше решения принимались в два счета, не то что теперь. Как поступить? Чему верить? Он мучился от колебаний, оставшись без надежного компаса, помогающего прокладывать курс. У него возникла привычка к долгим одиноким прогулкам по воскресеньям.
Как-то зимним вечером, возвращаясь усталым под моросящим дождем, в густом тумане, он очутился перед маленькой молельней, где отправляли свой культ считаные сохранившие веру «Молибдены». Они распевали под фисгармонию до боли знакомые слова:
Молибден – металлов чемпион, Он хорош для всех без исключения, Все болезни без труда излечит он, Нет на свете лучшего лечения!Захария вздохнул и пробормотал себе под нос:
– О, если бы можно было вернуться к былой возвышенности! До чего же трудна разумная жизнь!
Примечания
1
«Зулейка Добсон, или Оксфордская история любви» – роман Макса Бирбома (1911), одна из вершин английского черного юмора. «Удольфские тайны» – готический роман ужасов Анны Радклиф (1794). – Здесь и далее примеч. пер.
(обратно)2
Жизнелюбы (фр.).
(обратно)3
В чистом виде (лат.).
(обратно)4
Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, 19:5.
(обратно)5
Там же, 22:5.
(обратно)6
Книга премудрости, 26:10.
(обратно)7
Там же, 40:20.
(обратно)8
Там же, 42:9, 42:13.
(обратно)9
Цитата из поэмы Дж. Мильтона «Аллегро».
(обратно)10
Томас Баудлер известен составлением «семейного» издания Шекспира с пропуском всех непристойных, с точки зрения англичан XIX в., мест.
(обратно)11
Всепоглощающее (лат.). Имеется в виду время.
(обратно)12
Написано до смерти Сталина.
(обратно)13
Любовь побеждает все (лат.).
(обратно)14
Написано в 1952 г., при жизни Сталина.
(обратно)15
Один из авторов Закона США о внутренней безопасности 1950 г.
(обратно)16
Написано до президентства Эйзенхауэра.
(обратно)17
Даниель Малан, премьер-министр ЮАР в конце 1940-х – начале 1950-х гг.
(обратно)18
Последователи учения Лодовико Магглтона (1609–1698), английского портного и путешественника, объявившего себя пророком и приговоренного к штрафу и позорному столбу.
(обратно)





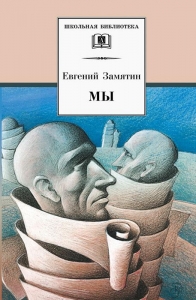

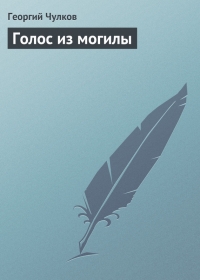

Комментарии к книге «Сатана в предместье. Кошмары знаменитостей», Бертран Рассел
Всего 0 комментариев