Авраам Иегошуа Поздний развод
Издание выпущено при финансовой поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга Перевод с иврита Валентина Тублина и Инны Федоровой
Copyright © 1982 by A. В. Yehoshua
Gerushim me'uharim, Hakibbutz Hameukhad, Tel Aviv 1982
© В. Тублин, перевод, 2016
© OOO «Издательство К. Тублина», макет, 2016
* * *
Воскресенье
Бенци узнал это, когда умерла бабушка. И он заплакал. Смерть пахла. И он снова почувствовал этот запах. И узнал его. Этот смрад…
Уильям ФолкнерДедушка в самом деле приехал, за окном шел дождь, мне это не снилось, я помнил, как они разбудили меня и показали меня ему, как они и обещали, что разбудят меня и покажут ему, как только самолет прилетит, разбудят, даже если я буду крепко спать, и только тогда я лег в постель. Поначалу я слышал, как они спорили в темноте, потому что папа не хотел зажигать свет, но мама сказала: я ему обещала, а папа сказал – у него будет еще куча времени, чтобы увидеть его, но мама настаивала, он уже три дня ждет и все спрашивает, иди, папа, взгляни на него, хотя дело обстояло не совсем так и свет включили, но я не мог открыть глаза, потому что мне было больно, но голос, новый и хриплый голос моего дедушки, который произнес: не могу поверить, что это вправду Гадди, я-то все время думал о нем как о младенце, а вы тут вырастили богатыря, великана. И он повторил это слово – «великан», на что мой папа рассмеялся и сказал: да, время не стоит на месте, он весь в нашу породу, здоровяк хоть куда, подумаешь, что он толстый, но когда увидишь получше, он не толстый, жира на нем нет. Сейчас я подниму одеяло и сам убедишься, ребята в классе зовут его кабаном, такой славный паренек, и от этих слов сладкая боль сжала мне сердце – как? почему? что это он?
Ш-ш-ш, Кедми, прошептала мама, ты разбудил уже ребенка, и она погладила меня по голове, чтобы я снова уснул, но было уже поздно, она опоздала, дедушка все услышал, что сказал ему папа, он ведь знает все. Вот если бы мама хоть сейчас рассказала бы дедушке про мои гланды, объяснила бы все… Но она только попробовала усадить меня в кровати, придерживая за спину, чтобы я не упал во сне, говоря при этом: нет, не спи, Гадди, сладкий мой, проснись, открой глаза, посмотри, кто приехал, посмотри на дедушку, и я открыл глаза и увидел дядю Цви, только сейчас он был весь в морщинах и на голове у него была шляпа, он показался мне ужасно высоким и морщинистым, и он плакал, и мама, подняв меня, протянула ему, а он подхватил меня и, пошатнувшись, чуть не уронил, но удержал, и его слезы падали мне на лицо, а он все повторял – он не помнит, он не помнит меня, ты помнишь меня, Гадди? А мама, тоже вся в слезах, говорила мне: ну вот видишь, он и приехал, мы же говорили тебе, а ты все не верил. Ты же сам хотел, чтобы мы тебя разбудили, и тогда я прижался к его колючей щеке и поцеловал его. Ну, хватит, сказал папа, забрал меня у дедушки и вернул в кровать, а сами они уже были у кроватки, где спала малышка, чтобы дедушка мог посмотреть и на нее тоже, но будить ее они не стали, потому что после этого ее уже было бы не уложить, а дедушка все поворачивался в мою сторону, пока папа не сказал ему: да хватит тебе, успеешь еще на него наглядеться, будешь смотреть, пока не надоест, всё… И погасил свет, и я уже почти уснул снова, когда он вдруг вернулся, откинул с меня одеяло – раз уж ты не спишь еще, услышал я, может, хочешь пописать… Давай, чтобы потом не опозориться. Я совсем не хотел, но он сказал – давай попробуй, всегда немножко есть, и он, подняв меня, помог мне всунуть ноги в тапки, отвел меня в туалет и спустил с меня штаны, а я увидел, что повсюду в доме горит свет, увидел разбросанные по полу сумки и чемоданы, и спину дедушки, который, не снимая шляпы, сидел и пил чай. Но выдавить из себя мне ничего не удалось, я с трудом удерживал голову, глядя на маленькое озерко чистой воды, пока папа, посвистывая, стоял у двери, и я соврал, сказал, что уже пописал, и спустил воду. Всё, сказал я, а папа сказал: всё? я ничего не слышал, но я снова сказал, что всё и подтянул штаны пижамы и отправился обратно в постель, чего он хочет от меня, проверяет все время, как полицейский, и я еще не успел улечься, как он уже укрывал меня одеялом, говоря – поцелуй меня, и я поцеловал его, и он меня тоже крепко поцеловал и удалился, и я почувствовал, что если бы не поторопился и подождал чуть подольше, то, пожалуй, сейчас и смог бы, потому что я не смог из-за того, что он свистел, и тут я провалился в сон…
И вот теперь это и произошло, подо мною было мокро и тепло, и я ощущал сладковатый запах позора, и слышал шум дождя, который непрерывно выбивает дробь. А ведь вот-вот через несколько дней будет настоящий пасхальный седер[1], а сегодня – седер в классе. И в доме тихо, ни звука, даже радио молчало до тех пор, пока папа не возник в проеме двери и не сказал: уже семь часов, не хочешь подняться? И, подойдя ближе, хотел откинуть одеяло, но я изо всех сил вцепился в него. Встаю, сказал я, лишь бы он не почуял запаха. Я встаю, встаю. И он ушел, а я встал, прикрыл дверь, быстро снял мокрые штаны, засунул их в ранец и прикрыл книжками, а через минуту схватил старое шерстяное одеяло и прикрыл им мокрое пятно, чтоб оно впиталось, и в это мгновение малышка проснулась и открыла глаза. А я отправился в ванную, чтобы умыться, сполоснуть лицо. Дедушкины чемоданы уже исчезли, осталась только его шляпа на кухонном столе. Из кухни разносился запах кофе. Папа сидел и читал газету.
– А где мама?
– Она спит. Они не спали почти всю ночь, улеглись под утро. Ну, давай шевелись. Дождь еще не кончился, в школу я тебя отвезу. Хочешь яйцо?
– Хочу. – И я сел за стол, на котором было полно еды, в то время как он поднялся, чтобы поджарить мне яйцо.
– Дедушка будет жить у нас?
Папа засмеялся:
– С чего ты взял? Конечно нет.
– Он будет жить у бабушки?
Папа рассмеялся еще раз:
– У бабушки? А где это?
– Там, где она живет.
Но я сам никогда там не был, ни в самой деревне, ни даже поблизости.
– Он будет жить или в Тель-Авиве у Цви, или у Аси в Иерусалиме. Он приехал по делам всего на несколько дней.
– А потом?
– А потом он вернется в Америку.
– Надолго?
– Навсегда.
И он дал мне яйцо и налил какао, и еще крекеры из воздушного риса и два куска хлеба. Он всегда так закармливал меня, требуя, чтобы я съедал всё до крошки.
– А почему дедушка плакал? – спросил я.
– Он плакал? Когда?
– Этой ночью.
– Правда? Я ничего не заметил… может, тебе это примерещилось… Ну, давай заканчивай и не приставай ко мне с вопросами. Поторопись, мы и так уж засиделись. Работай…
Я снова принялся за еду, прислушиваясь к тишине в доме и глядя на дождь, хлеставший в окно. Потом я сказал:
– Только однажды кто-то назвал меня кабаном… Больше такого не было. Один раз.
Он отложил свою газету, посмотрел на меня и засмеялся:
– Ладно, ладно. Все в порядке. Я знаю. Я сказал просто так. Ничего не имел в виду. Да если они и вправду называют тебя кабаном – что тут такого? Если тебя это волнует – пошли их к черту. Ты просто здоровяк. Вроде меня. Посмотри на меня. Разве я толстый? Человек может казаться толстым, но в этом ничего удивительного нет, особенно если он высокий. Ничего страшного в этом нет. Смотри…
Он поднялся, выпятил живот и ударил по нему кулаком.
– Не волнуйся. Вырастешь – будешь таким же большим и сильным, как я…
Я подумал, что не хочу быть таким, как он, но не сказал ничего. Была уже половина восьмого. Я закончил есть и отправился в свою комнату, чтобы собрать свой ранец, а заодно посмотреть, высохло ли пятно, но оно не высохло, и я просто прибрал постель под взглядом малышки, глядевшей на меня не отрываясь. Благо она еще не говорила, а значит, и рассказать ничего не могла. Я сунул ей в рот пустышку и пошел мимо закрытой двери, за которой спал дедушка. В то же время поглядывая по сторонам в надежде, что он привез что-то для меня. Но ничего похожего на подарок не увидел и прошел в родительскую спальню, где спала мама. И едва я дотронулся до ее плеча, как она открыла глаза и улыбнулась, но не успела ничего сказать, потому что в то же мгновение папин голос за моей спиной произнес:
– Не трогай ее, Гадди, дай ей поспать. Что тебе нужно?
– Мне нужна маца, салатные листья и вино, – сказал я. – Этим утром мы договорились устраивать в классе пасхальный седер.
– Почему ты не сказал об этом вчера?
– Я говорил, маме.
– Может, обойдешься как-нибудь без мацы и салата? Или возьмешь у кого-нибудь из приятелей взаймы?..
– Я сейчас встану, – сказала мама.
– Этого не требуется. Я позабочусь обо всем. Пошли, только поторапливайся.
И мы отправились на кухню, где он взял две облатки мацы, завернул их в газету, после чего нырнул в чулан и вынырнул оттуда с запыленной бутылкой вина, попробовал глоток, скорчил рожу и сказал, посмотрев на меня: «Н-да-а…» И тут же добавил: «Ладно, не имеет значения, ты не обязан это пить, и никто не обязан, это всего лишь символ»… И перелил часть этой жидкости в другую бутылку, в которой когда-то были оливки. «И забудь про салат. Возьмешь у кого-нибудь листок хасы[2]», но я повернулся и снова пошел к маме, а за спиной у меня повис в воздухе его голос: «Не будь упрямым ослом, уже много времени…» Но я ответил, что я еще вчера сказал маме и мне нужна хаса, и он, порыскав в ящике для овощей, вытащил несколько листьев салата, протянул мне и сердито добавил: «Когда это ты успел стать таким религиозным?» Я молча засунул все это в ранец, обнаружив внезапно, что на моих часах уже без десяти восемь.
– Чего тебе нужно еще?
– Что-нибудь, чтобы перекусить в школе.
– А маца для этого не подойдет?
– Маца… Она же для седера…
– Ну хорошо… не хочу, чтобы ты умер с голоду…
И он отрезал два огромных ломтя булки, намазал их шоколадной пастой; а затем он стал звенеть своими ключами. Но сказать он ничего не успел, потому что в этот момент появилась мама и сказала, чтобы я, не мешкая, надел сапоги и уже отправлялся, но не успел я тронуться с места, как она принялась меня причесывать, после чего папа уже вышел из себя и закричал, что считает до трех, и к счету «три» я был готов, а папа продолжал кричать, и к нему присоединилась малышка, так что я влез в сапоги, схватил ранец и покатился по лестнице вниз. Но на полдороге вспомнил… и рванул обратно; мама открыла мне дверь, малышка была уже у нее на руках.
– Что случилось?
– Ничего.
Я добежал до ванной, открыл свой ранец и вытащил из него мокрые пижамные штаны, которые засунул поглубже в корзину с грязным бельем. На пути обратно – опять дедушкина дверь, тут я остановился и бесшумно приоткрыл ее, у него темно, а большой чемодан открыт, и в нем полным-полно всякой одежды, но для меня, похоже, там ничего не было. Кто-то дотронулся до меня. Мама.
– Ты увидишься с ним позднее, после школы.
Я снова помчался вниз через ступеньки. Папина машина уже фырчала, «дворники» вовсю работали, а из выхлопной трубы шел белый дым.
– Что за муха тебя укусила? Что ты забыл на этот раз?
– Ничего.
– От тебя можно свихнуться.
Перед нами тащилось несколько машин, и ни одна из них не подумала взять влево, чтобы отец смог выехать на главную дорогу. Они непрерывно гудели и каждую минуту притормаживали, отец ругался, но сумел все-таки выбраться на шоссе и вскоре высадил меня возле школы.
Дождь припустил еще сильнее, ребята вокруг неслись как угорелые. Кто-то, обгоняя меня, закричал: «Смотрите, смотрите, кабан в сапогах!» И он умчался раньше, чем я успел его схватить, но я был уверен, что это был тот тип из третьего «а», который и в прошлый раз назвал меня так. В коридоре не было никакого построения, так что мы вбежали прямо в класс секунда в секунду со звонком и началом урока. Наша учительница Галлия заговорила прежде всего о дожде и сказала, что, может быть, это последний дождь в этом году, а потом взяла мел и написала на доске это слово – «последний», а потом мы открыли Тору и она что-то сказала, но не успела договорить, как несколько ребят тут же подняли руки – каждый знает таких ребят, в любом классе их достаточно. Мы стали читать о праотце Иакове, как он думал, что его любимца Иосифа растерзали хищные звери, он так думал потому, что остальные братья врали ему, и я стал думать о дедушке и гадать, проснулся ли он уже, а учительница, Галлия, тут же сказала, чтобы я продолжал читать вслух, на что я заметил, что предыдущая глава закончилась, на что она сказала – эта закончилась, а ты начни следующую, и я стал читать: «И наступил голод в земле египетской, и людям пришлось питаться мякиной…» Тут учительница остановила меня и спросила, знаю ли я, что означает слово «мякина», конечно, я не знал и отвечал, что это такая еда, но что за еда – не знал… и тут наша всезнайка Сигаль тотчас потянула вверх руку и сказала, что это – пшеница, на что учительница заметила, что нет, не пшеница, мякина – это нечто совсем другое, совсем другое. И тут разговор перешел на пшеницу, из которой делают муку, а из муки выпекают хлеб, а я под эти разговоры открыл свой ранец, чтобы убедиться, на месте ли мой хлеб, и увидел, что он на месте. В это время прозвенел звонок, и я достал хлеб, потому что почувствовал, что очень проголодался, но учительница сказала: положи обратно, потому что нам запрещалось перекусывать на первой перемене. Только после второй…
На этой перемене мы все столпились в коридорах, потому что на школьном дворе было грязно и дежурный сторож не выпускал нас, а принялся размахивать шваброй, разгребая опилки прямо под ноги всем нам, и ребята просто взбесились – они бегали, перепрыгивая через кучи грязных опилок, носились как сумасшедшие и орали изо всех сил. А я стоял у стенки и вертел головой, стараясь разглядеть того, кто называл меня кабаном, – мне очень хотелось посмотреть, как он сделает это еще раз. В конце концов я увидел его, он гонялся за каким-то тощим малышом. Я двинулся к нему, твердо зная, что если он просто раскроет рот, я всыплю ему по первое число и мало не будет, но он увидел меня, оставил малыша в покое, остановился и улыбнулся, глядя на меня огромными черными глазами, и не произнес ни слова. Тут прозвенел звонок, и он отправился к себе в класс. Я не ошибся – он и на самом деле был из третьего «а».
Следующим уроком было рисование, и я сразу же нарисовал солнце, изгородь и дом, похожий на тот, в котором жила бабушка; возле изгороди стоял мужчина, держа за руку мальчика, но мальчик получился слишком большим, просто огромным, он был даже больше, чем державший его мужчина, поэтому я пририсовал ему бороду, а мужчине пришлось превратиться в женщину с длинными косами, и произвел на свет маленького ребенка. Ребенок сидел прямо на земле, а вокруг него были цветы, цветы и цветы, и, закончив все это, я показал свой рисунок учительнице, и ей он понравился, только почему солнце так низко, заметила она, прямо опустилось на спину людям, так что мне пришлось вернуться к столу пририсовать еще огромную черную тучу, из которой хлестал дождь, а раз так, пришлось и мужчине и женщине подарить по зонтику, но малышу ничего не оставалось, как сидеть и мокнуть, потому что зонтик ему было не удержать. Можно было бы нарисовать еще что-нибудь, но мне вдруг все надоело, и я написал внизу название: «Последний дождь. Рисовал Гадди», после чего достал из ранца свою еду и принялся за работу, не боясь замечания, потому что учительнице рисования было наплевать, ешь ты во время урока или нет, а я тем временем дожевал хлеб и дождался перемены и стащил с себя куртку, оставшись в спортивном костюме, потому что после этой перемены у нас была физкультура. Дождя уже не было, и я вышел в наш школьный двор, где мы всегда играли в «гули» – твердые каменные шары, и снова я увидел этого, из третьего «а», – он никогда не играл с мальчишками своего возраста, предпочитая малышню, но с ними он играл классно, бросая шары сильно и метко. При виде меня он притворился, будто ничего не говорил мне.
Игра выглядела очень странно, потому что шары катились по грязи, становясь все больше и больше, в конце концов превращаясь в тяжелые, медленные и коричневые мячи. Нельзя было не рассмеяться, глядя, как они ползут через грязные лужи… Впрочем, и сами мы были по уши в грязи, и это было просто здорово, как мы веселились. Но когда прозвенел звонок и мы стали разбирать свои шары, распихивая их по карманам, Идо из моего класса вдруг решил, что один из моих шаров на самом деле был его и я его присвоил, и начал жаловаться всем вокруг, что кабан так поступил, и повторял это снова и снова, пользуясь тем, что мимо проходила учительница и она защитила бы его в случае чего. Я сделал вид, что речь не обо мне и меня не касается, но на самом деле это задело меня, даже что-то сжалось внутри, и я решил найти палку и отходить ею этого Идо, потому что иначе это войдет в привычку и все кому не лень начнут повторять это.
Следующим был урок физкультуры, который я ненавижу больше всего, потому что учитель непрерывно занимается именно мной: я не могу, согнувшись, коснуться пола, равно как и поднять руки вверх, не говоря уже о прыжках через коня… Я честно пытался это сделать, разбегался не хуже других, но в последнее мгновение вместо прыжка пробегал мимо, не делая даже попытки вскочить на него, ограничиваясь тем, что касался ладонью его кожаного бока. По-настоящему я не прыгнул ни разу, шел незаметно в конец очереди, уступая свою попытку любому, кто хотел прыгнуть еще раз. Наш физкультурник, отозвав меня в сторонку, сказал – попробуй, Гадди, и еще сказал – я тебе помогу, не бойся, но я сказал ему, что не могу. Если ты немного похудеешь, сказал он, тогда сможешь, надо только поменьше есть, но это не из-за еды, попробовал я объяснить ему, это все мои гланды, что-то не так у меня с ними, но он только отмахнулся от моих слов – что ты несешь, при чем тут это, и мне пришлось объяснять ему, что я такой толстый из-за гланд и еще каких-то желез, но я видел, что физкультурник мне не верит, и сказал ему, что это не я придумал, это доктор сказал мне, и он, если нужно, обещал дать мне справку в начале года, что я освобожден от прыжков. Учитель физкультуры ничего больше не говорил, только посмотрел на меня таким безнадежным взглядом, что я сам удивился, почему я не заплакал, это уже случалось со мною в прошлом, когда он начинал на меня кричать, но сегодня он, похоже, уже накричался, похоже, он просто устал от таких, как я, а может быть, потому, что вот-вот должны были начаться весенние каникулы. Все, что он сказал, это: «Вот попадешь в армию, там получишь свое по полной форме». И дунул в свой свисток. «А теперь иди и собери себе команду, за которую будешь гонять мяч». Я стоял ближе всех к двери, а потому выскочил во двор первым, и стал искать какую-нибудь палку, нашел короткий железный прут, и спрятал его возле ограды. Больше всего мне хотелось, чтобы снова начался дождь и прекратил бы весь этот футбол как можно быстрее.
Наконец прозвенел звонок и мы вернулись обратно к своим партам и стали готовиться к седеру, привели все в порядок, столы накрыли бумажными скатертями и стали доставать из ранцев мацу, вино и салатные листья хасы; в это время в классе появилась наша учительница пения с аккордеоном и заиграла на нем, чтобы мы начали петь пасхальные песни, и мы запели, а потом она перешла в другой класс, чтобы и там могли попеть, а мы стали говорить то, что всегда говорим за праздничным столом, когда нам полагается отвечать на всегдашние четыре «чем отличается»… А потом возносить благодарение за то, что было нам ниспослано, и читать молитвы, «кидуш», после чего следовало взять мацу, завернуть в хасу и воздеть руки вверх, после чего можно было наконец поесть, вино было в конце. Все пили то, что принесли, и я пил тоже сладкое пасхальное вино, которое мне дал с собой мой папа, который, когда попробовал его, наливая, скорчил рожу, так что и я скорчил ее поначалу, чуть ли не через силу, пока в какой-то момент не понял, что мне это нравится, и я выпил все до капли и внезапно понял и другое, что я опьянел, но и другое еще – что я ужасно хочу есть, а так как Идо никак не мог докончить своей порции салата и мацы, я в минуту доел все. Осталось только убрать за собой. И после этого начались наши пасхальные каникулы, но табели нам должны были выдать только на следующий день. Я был настолько пьян, что едва не свалился с лестницы, и я пошел к своему тайнику, куда я спрятал железный прут, и решил, что унесу его домой, и медленно отправился туда через тот детский сад, в который ходил когда-то, остановился у окна и стал смотреть сквозь оконное стекло на так хорошо знакомую мне комнату и на игрушки, которыми я когда-то играл, и на няню, мою няню, которая, бывало, садилась на низенький стул и, собрав вокруг себя всех малышей, читала всем нам какие-нибудь истории, простенькие и глупые, как я понимаю сейчас, но я вместе со всеми, раскрыв рот, слушал и запомнил многое, особенно один рассказ, только вот чем закончилась вся та история, я вспомнить не мог, зато отлично помнил, как вокруг толпились родители, держа в руках детские плащи, и давили друг на друга и на меня, который сидел к няне ближе всех, а им тоже хотелось послушать этот рассказ, так что я не выдержал и ушел. А потом я прошел сквозь площадку детского сада и вышел на улицу и присел у ограды, ожидая того момента, когда тот парень из третьего «а» пройдет по дорожке, ведущей от школы мимо меня. И дождался: он шел, на ходу здороваясь со старшими мальчишками, приближаясь ко мне с каждым шагом, пока не увидел меня, сидящего у забора. Тут он остановился на минутку, задумался, а затем резво перебежал на противоположный тротуар и снова пошел к своему дому, поглядывая на меня с ухмылкой, а я сидел и ждал терпеливо, пока он поравняется со мной, и тогда вытащил из-под куртки железный прут и одним прыжком оказался с ним рядом, замахнулся прутом, чтобы врезать ему, но из этого ничего не вышло – малый во всю прыть кинулся наутек, и мне бы его не догнать, если бы он, споткнувшись, не упал. Вскочив, он тут же завопил во всю глотку: «Ты, жирный засранец кабан!» Но меня уже было не остановить. Я налетел на него с разгона, схватил за ремень от ранца, и оба мы покатились на землю, причем он оказался сверху, но я уже по его весу понял, что он слабее меня, и через мгновение он валялся снизу, и я всем своим весом придавил его, не обращая внимания на то, что он махал руками и дрыгался, пытаясь меня сбросить. Я так рассвирепел, что готов был в эту минуту просто прикончить его, и прут мой был уже наготове, но какой-то проходивший мимо взрослый перехватил мою руку с прутом, будет, будет, сказал он, достаточно, отпусти малыша, потом самому будет стыдно, что напал на младшего. А у меня от злости потекли слезы, и я стал вырываться, крича, что маленький не он, а я, отпустите мою руку, он старше меня и он гад, а тот, пользуясь моментом, выбрался из-под меня и, размазывая по лицу кровь, облаял меня последними словами, ты, кричал он, ты, вонючий кабан, вот погоди, и он нагнулся и поднял с земли здоровенный камень, а взрослый, который держал меня, выпустил мою руку и сказал: ну это уж слишком, после чего он выдернул из моей руки прут и отшвырнул его прочь, а тому, из третьего «а», дал пинка под зад. Ты, большой герой, отправляйся к маме, да и ты тоже, сказал он мне и отпустил. Тот, из третьего «а», потащился по улице плача и что-то выкрикивая, похоже, что у него все сильнее текла из носа кровь. Я опустился на землю, вытер лицо и стал дожидаться, пока из детского сада малыши в сопровождении родителей не начнут расходиться по домам, и так дождался нашей соседки, забиравшей из садика дочку, и до самого дома шел рядом с ней.
Дверь мне открыла мама. Ш-ш-ш, сказала она, дедушка все еще спит, где тебя так долго носило? Ты нужен мне, сказала она, ты, похоже, совсем забыл про дедушку. При этом, кажется, она не замечала, что я весь в крови и грязи, по которым текли мои слезы. Она очень нервничала и была сама на себя не похожа, малышка лежала в своем манеже, выдвинутом на середину салона, и плакала, но при виде меня плакать перестала и забормотала «ди-ди-ди», потому что так она меня называла, и я подошел к ней и дал ей пустышку и хотел погладить ее, но мама закричала – нет, не трогай ее, посмотри на себя, какой ты грязный, марш в ванную и быстро за стол, поешь, а потом я скажу тебе, зачем ты мне сегодня нужен, и я отправился в ванную, чтобы умыться, а потом в зеркале увидел, что у меня красные глаза, и все думал о мальчишке из третьего «а», как он плакал и извивался подо мной в грязи, после чего я вытер лицо и руки и отправился за стол, чтобы поесть.
– Ты что, плакал сегодня? – спросила мама.
– С чего ты взяла? – спросил я.
– Что-нибудь случилось?
– Нет, ничего.
В этот момент я решил про себя ничего ей не рассказывать, потому что она тут же передала бы все отцу.
– Не ешь так быстро.
В доме была тишина. Только малышка что-то рассказывала своей кукле.
– А дедушка, – спросил я, – он что, так и спал все это время?
– Да. Он очень устал из-за перелета, а тут еще разница во времени. Что сегодня было в школе?
– Ничего.
– Не торопись. Не ешь так быстро. Как прошел ваш классный седер?
– Нормально.
– Чем вы там занимались?
– Ничем.
– Что ты имеешь в виду, когда говоришь – ничем? Вы пели? Вы читали молитвы?
– Да.
– Тогда почему же ты говоришь, что вы ничем не занимались? И куда ты сейчас собрался пойти?
– Мне надо покормить червей.
– Оставь их, никуда они не денутся. Сначала поешь…
– Я только на минуту…
И я отправился взглянуть на своих шелковичных червей, ночью еще одна гусеница превратилась в куколку, я сдвинул ее в сторону. А остальным подложил свежих листьев шелковицы. После того как я перешел во второй класс, мамина власть надо мною заметно ослабла, в принципе я мог делать все что хотел и она никогда не давила на меня так, как это делал отец. Я вернулся к столу, за окном разыгралась настоящая буря, зазвонил телефон, это мог быть только папа, который всегда в это время проверял, дома ли я. Малышка начала плакать, и мама сказала – ты что, не слышишь, подойди к ней. Иду, сказал я, но она все заходилась в плаче, и вот что я сделал: надул щеки, наклонился над ней и зафурчал – ее это всегда смешило. Она тотчас замолкла, а потом рассмеялась и уставилась на меня своими синими глазами, которые еще были полны слез, но в следующее же мгновение передумала, снова заплакала, а я снова надул щеки и зафурчал.
Мама тем временем спорила с папой по телефону, вообще в последнее время они ругались непрерывно, и сейчас она прервала разговор, просто бросив трубку. Подняла из манежа малышку и понесла ее в ванную, чтобы сменить подгузники. Я потащился туда за ней. На подгузнике было небольшое пятно желтого цвета.
– И это все, что ты можешь нам предъявить? – спросила явно разочарованная мама.
Но малышка не удостоила ее ответом. Мама подняла в воздух две маленькие полные ножки.
Я сказал:
– Бэби тоже будет толстушкой.
– Она вовсе не толстая. Все малыши такие. И пожалуйста, называй ее по имени. У нее ведь есть имя…
– Папа тоже называет ее «бэби».
– Ты это одно, твой папа – другое. И то, что он делает, не обязательно верно. Перестань называть ее «бэби». У нее ведь такое славное имя.
Здесь я ничего не ответил.
– Почему ты все время прижимаешь руку к груди?
– В сердце что-то болит.
– В сердце? Покажи мне, где именно у тебя болит.
Я расстегнул рубашку и показал.
– Вот здесь.
– Но твое сердце вовсе не здесь.
– Тогда где же?
Она показала мне. Я передвинул свою руку туда.
– Да, верно, вот здесь и болит.
– Глупости говоришь.
– Нет, правда…
– С каких пор это у тебя?
– Давно. По-моему, всегда болело.
– Ничего страшного. Физкультура у вас сегодня была?
– Это не от физкультуры. Точно.
– Хочешь, чтобы я пригласила врача?
– Давай…
– Что ты собираешься сегодня делать?
– Ничего особенного.
– Мне надо кое-куда сходить.
– Куда это?
– Неважно. Купить кое-что. А ты присмотришь за Ракефет.
– Но у меня тоже есть кое-какие дела.
– Дела? Какие дела? Что ты имеешь в виду?
– Мне надо набрать листьев шелковицы.
– Соберешь их позднее. Смотри, дождь хлещет вовсю. Малышка скоро заснет, я специально подняла ее сегодня пораньше… смотри, она уже зевает. Так что не беспокойся.
– А если она начнет плакать?
– С чего бы ей плакать? А даже если заплачет, дашь ей соску, и она тут же замолчит. Или скорчи для нее одну из своих смешных рож, которые ей так нравятся. Будь хорошим мальчиком, Гадди. Я ведь знаю, ты можешь.
Я вышел из ванной.
Она перепеленала малышку необыкновенно быстро, как всегда делала, уложила в кроватку, стремительно переоделась и поставила чашку с чистыми сосками на обеденный стол, несколько салфеток, бутылочку с водой и связку старых ключей, с которыми Ракефет любила играть, и три чистые пеленки, напомнив под конец, чтобы я не вздумал поднимать девочку. В крайнем случае я должен был разбудить дедушку.
– А он знает, как обращаться с такими малышками?
– Не волнуйся. Скоро у него будет такая же.
– Где?
– Это не твое дело.
(Видно было, что она проговорилась.)
– И все-таки – где?
– В Америке.
– Как это случилось?
– Вот так и случилось. Как всегда.
– И все-таки… с чего вдруг?
– Да успокойся ты. Какая тебе разница? – И она обняла меня. – Ну все, Гадди, я пошла. Он скоро проснется, но ты к нему не приставай. Ракефет будет спать. Если она заплачет, дашь ей соску, и она уснет снова. Только не хватай ее грязными руками.
Она жутко нервничала.
– Купишь мне что-нибудь?
– А чего бы ты хотел?
– Самолет.
– Договорились.
– Только не спутай: самолет. А не вертолет. Потому что вертолет у меня уже есть. Ты разницу между ними знаешь?
– А то…
– Почему он ночью плакал?
– Дедушка? Потому что он не виделся с нами много лет. Не видел тебя.
– Но почему он плакал?
– От волнения. От избытка чувств. От радости. Ты сам ведь тоже можешь расплакаться от радости.
Как обычно, выглядела она грустно, может быть, в этот раз больше, чем всегда. Она выключила обогреватель. «Здесь достаточно тепло», – сказала она, поцеловала меня и ушла, сказав под конец, что вернется через два, самое большее три часа. Я отправился на кухню и открыл холодильник, чтобы посмотреть, что там, – не потому, что проголодался, а так, на всякий случай. И увидел там упаковку орехов в шоколаде, которые отец любил грызть, сидя перед телевизором, после того как поужинает. Я положил эту упаковку на обеденный стол и закрыл холодильник. В доме стояла полная тишина, и я включил телевизор, но на экране не было ничего, кроме полосок, и я выключил его. Из кладовки я достал все свои машины и выстроил их в ряд, но внезапно остановился и пошел посмотреть на дедушку, приоткрыл чуть-чуть дверь в его комнату и сквозь узенькую щель ничего не увидел. Сделал щель чуть шире и прислушался, но не услышал ничего. И не увидел. Разве что сквозь полумрак можно было разглядеть все тот же чемодан, который я уже видел поутру; сам дедушка лежал в постели скрючившись так, что казалось, будто его голова лежит отдельно от тела. На тумбочке была, я знал это, открытка, на которой были цветы и надпись: «Добро пожаловать» – я сам ее сделал. И я прикрыл дверь и пошел к себе в комнату, где спала малышка, лежала тихо, а потом вдруг повернулась на бок и вздохнула, и не просто, а как это сделала бы старая женщина, прожившая долгую и тяжелую жизнь. Я взял коробку с шелковичными червями и вышел.
Достал одного шелкопряда, посадил в пожарную машину, положил туда же листик шелковицы и стал возить туда и обратно, стараясь понять, что он чувствует. Неожиданно зазвонил телефон, звонил дядя Аси из Иерусалима, ему нужен был дедушка, и он не мог поверить, что дедушка еще спит, – он что, уснул снова? Он и не просыпался, сказал я и добавил, что мамы нет дома. Хочешь, чтобы я его разбудил? Он задумался на минутку, нет, сказал он, не надо, пусть спит, я позвоню позднее, ближе к вечеру. Я написал имя Аси на блокноте возле телефона и вернулся к своей гусенице, которая к тому времени сама выбралась из пожарной машины, и я сунул ее обратно в коробку, взял другую, посадил ее в вертолет, снабдил половинкой листа и отправил в полет до кухни.
На кухне я выпил немного сока и заел его папиными орехами; за окном лил дождь и было пасмурно, точь-в-точь настоящий зимний день, каким он и должен быть накануне седера. Хорошо, если не будет хуже, подумал я, но тут заметил, что червяк пытается выбраться из вертолета, и я подумал, что его следует покормить еще чем-то, и предложил ему кусочек ореха, но не угадал, орех он есть отказался, а раз так, я засунул его обратно в кабину и мы полетели в родительскую спальню, где я опустил жалюзи, достал одеяло и улегся на кровать вместе с вертолетом. На вертолете, как и полагается, была маленькая белая лестница, и когда я откинул ее, этот жирный белый червяк, которого я назвал Сигаль, и в самом деле соскользнул по лестнице вниз прямо на шерстяное одеяло и пополз среди складок, будто оказался на Луне. Снова раздался звонок телефона, папа поставил их везде, где только мог, и на этот раз звонил именно он, и он, как и дядя Аси, не мог поверить, что дедушка все еще спит. Должно быть, он накурился травки, сказал папа, а я предположил, что он заболел. Внезапно он спросил, где я нахожусь и с какого телефона разговариваю, хотя я знал, что он всегда это чувствует, где я и что со мной, где бы он сам ни находился. Поэтому я честно сказал, что разговариваю по телефону из их с мамой спальни, что ты там делаешь, спросил он тут же, ничего не делаю, ты только не переверни там все вверх дном, сказал он, может, тебе лучше все же прилечь и поспать, и я сказал, что может быть. И я на самом деле попытался задремать – в доме была полная тишина, за окном стояла мгла, и под шум дождя действительно закрывались глаза и накатывал сон, но, может быть, причиной было то странное вино, которое я попробовал. Или всё вместе. Я не разобрался в этом до конца, потому что малышка начала плакать. Сначала чуть-чуть, это папин звонок разбудил ее, без всякого сомнения, звонок и его раздраженный голос из трубки, и я решил подождать, пока она замолчит, может быть, ей просто приснился плохой сон: например, что кто-то украл ее бутылку с водой или что-то в этом роде. И в самом деле, плач стал стихать, но потом возобновился с еще большей силой, и я понял, что пришло время мне что-то с этим делать, так что я слез с родительской кровати и вышел из комнаты, чтобы засунуть малышке ее соску в рот.
Но она не хотела ее, она хотела плакать, а потому она ее выплюнула, а я взял и засунул ей соску в рот снова. А она снова сделала попытку избавиться от нее, и мне показалось, что при этом она покачала головой; мне ничего не оставалось, как бережно попридержать ее голову одной рукой, а другой возвратить соску на место и твердо держать, пока она не уразумела, что соска – это теперь надолго и лучше смириться, как если бы вместо меня была мама, на мгновение она застыла, словно решая, что делать дальше, причем все это время вопросительно глядя на меня. А потом начала сосать, сначала понемногу, потом все сильнее и сильнее, как бы признавая, что другого выхода у нее нет, и я уже с облегчением убрал с ее головы руку, но в ту же минуту все началось сначала, соска была выплюнута, а плач возобновился, и все мои попытки вернуться к прежней ситуации кончились ничем – она отчаянно боролась со мной, наливаясь краской от злости. Ну, ну, говорил я, я здесь, перестань реветь, но она заходилась в плаче все сильнее и сильнее. А потому я вышел из комнаты и плотно прикрыл за собой дверь, чтобы она могла накричаться вволю, не забыв при этом посмотреть на часы, чтобы не получилось, что она плачет слишком долго, потому что папа как-то объяснил маме – если тебе кажется, что ребенок плачет немыслимо долго, на самом деле он плачет всего пять минут, и если вы найдете в себе силы эти пять минут выдержать, то через пять минут плач прекратится сам собой. Чтобы ничего не слышать, я отправился на кухню, по дороге включил радио, а кухонную дверь закрыл как можно плотнее я едва успел все это проделать, как зазвонил телефон, звонил дядя Цви из Тель-Авива, он был не таким серьезным, как иерусалимский дядя Аси, он никогда не упускает случая поболтать со мной. Вот и сейчас он спросил меня, как дела, спросил, как я себя чувствую, как идут дела в школе и есть ли у меня какие-нибудь планы на время каникул, и я подробно отвечал на все его вопросы, потому что знал – ему действительно интересно все, что со мной происходит, и он долго помнит обо всем, я думал обо всем этом, но вдруг понял, что слышу отчаянный детский крик, и он, дядя Цви, услышал его и тут же спросил, что это, кто это у вас там кричит, и я вынужден был сказать, что это малышка Ракефет. А мама где… наверное, она рядом? Нет, мама не рядом, никого, кроме меня и дедушки, в доме нет. На какое-то время он замолчал, как если бы задумался, а сейчас я хотел бы поговорить с пожилым джентльменом… как?.. он спит?.. хорошо, хорошо, не буди его, иди и займись с Ракефет, ее плач разбивает мне сердце, когда я у себя в Тель-Авиве должен слышать ее плач из Хайфы, ты классный парень, сказал он и добавил, что постарается позвонить снова ближе к вечеру.
И я вернулся к малышке, она была красная от напряжения, она просто билась в своей кроватке, словно это была клетка, она сбросила одеяло и, воздев руки вверх, кричала так, словно ее резали, на мои попытки разговорить ее она не обращала никакого внимания, бутылочку с водой, которую я принес ей, она выбила у меня из рук с такой силой, что она оказалась на полу, тогда я подвинул к кроватке стул и, перегнувшись, перевернул ее на живот. И она замолкла. Молчание длилось несколько секунд, а потом она застонала и попыталась уползти, как если бы она знала, куда хочет попасть. Я подумал, что все эти ее усилия рано или поздно утомят ее, но тут она запуталась в простыне и стала задыхаться, так что мне ничего не оставалось, как снова перевернуть ее на спину, и она лежала так, непрерывно всхлипывая, а я скрипел зубами от злости, что мама оставила меня с ней, запретив брать ее на руки.
Так что я снова вышел из нашей с Ракефет комнаты и очень медленно потянул на себя дверь, за которой все еще спал дедушка, может быть, подумал я, от шума в доме он проснется и захочет мне помочь.
Он лежал не шевелясь и, видимо, не слышал ни звука, он был похож на кучу тряпья, лежа вплотную к стене под белым шерстяным одеялом, из-под которого торчали только голые и тощие ступни. Дедушка, прошептал я, обращаясь к этим ступням, принадлежавшим человеку, которого я совсем не знал, дедушка, позвал я его едва не плача и почти уже в полный голос, но все было напрасно, он спал, погрузившись в свой необъяснимый и устрашающий сон.
Малышка продолжала кричать, – кажется, она вовсе не собиралась умолкать. Я принес ей кусок печенья, но она отвергла его, я разломал кусок на маленькие кусочки, почти что крошки, и запихал их в ее широко раскрытый рот, но она, похоже, даже не почувствовала, что у нее во рту что-то есть, при этом она ни разу даже не взглянула на меня – только заливалась плачем и тянула руки к потолку. Я попытался опустить боковые решетки на ее кроватке, которая когда-то была моей, но мне это не удавалось, потому что раньше мне ни разу не приходилось их опускать, а потому я сам доел печенье, снял башмаки, взобрался на стул и перегнулся через ограждающую решетку внутри кроватки. Что с тобой, Ракефет? Я здесь, здесь, вот он я, хватит уже реветь, перестань, но она, похоже, кричала так сильно, что не слышала меня, а потому я приподнял ее, но очень бережно, чтобы не задеть то место у нее на темечке, о котором много раз при мне говорили папа и мама, они называли его «родничок», и, как я понял, этот самый родничок находился на самой макушке у малышей и после появления их на свет еще какое-то время не зарастал, чтобы мозгам было куда деваться, когда их станет больше. Плач начал понемногу стихать, а затем и вовсе прекратился. Я уселся в кроватке, ощущая под собою клеенку, малышка приткнулась к моим коленям, я немного приподнял ей голову и наугад положил ей в рот ее соску. Она зачмокала, а потом посмотрела на меня взглядом полным сочувствия и тревоги, словно именно я был тем, о ком надо было позаботиться. Слезы в ее глазах полностью исчезли, и я вспомнил мамины слова о том, что у таких детишек плач является формой разговора, это их язык, а потому, когда она закрыла глаза и стала кряхтеть и наливаться краской, я подумал только о том, что же она хочет этим сказать, и поначалу ничего не мог придумать, и только потом, почувствовав запах, понял, что именно. А она продолжала кряхтеть все сильнее и сильнее, причем лицо у нее сморщилось, как у старушки. А потому я бережно убрал колени из-под ее головы и аккуратно уложил ее спинкой на ее кровати. Сразу было видно, как ей полегчало, потому что она без звука засунула в рот свой кулачок и стала его обсасывать. Я перелез через боковые решетки обратно и вышел из комнаты. В течение ближайших пяти минут дом снова погрузился в тишину, она даже что-то тихонько ворковала, а затем я услышал, что она начала всхлипывать и звать меня, но я закрыл дверь к ней, надеясь, что она займется собой и снова задремлет, ведь мама сказала, что она проснулась и не смыкала больше глаз с раннего утра. И я отправился в родительскую спальню взглянуть на своих шелковичных червей и застал их расползшимися в полной темноте по всей кровати. Пришлось всех их собрать и посадить в вертолет, на котором им предстояло вернуться на землю. Еще один телефонный звонок. Это была бабушка Рахиль, которая почти никогда не звонила, потому что была больна.
Гадди, дорогой, сказала она, знаешь ли ты, кто с тобой говорит? Знаю, сказал я. Это с тобой говорит по телефону бабушка, сказала она, а я ответил – да. А потом она сказала: я уже много лет не видела тебя, Гадди, почему ты ни разу не навестил меня, разве ты не знаешь, что я не могу прийти к вам, потому что я старая, а у вас такая крутая лестница. И я снова сказал «да», а она спросила: почему же ты не попросил папу и маму привести тебя ко мне на время каникул, разве тебе не хотелось бы побыть со мной все это время, и я опять сказал ей: «да». Тогда, сказала она, ты знаешь, что этой ночью твой дедушка прилетел из Америки, и скажи мне, ведь ты на самом деле рад, что дедушка здесь, скажи мне; и я сказал: «да». И что за подарок он привез тебе, ты ведь скажешь бабушке, верно? И я сказал: «да». Это, должно быть, что-то особенное, какая-нибудь необыкновенная новая игрушка или какая-то красивая одежда, ты ведь мне ее покажешь, верно? И я сказал: «да». А теперь, дорогой, расскажи, как там поживает Ракефет? С ней все в порядке, сказал я. Ты ведь любишь ее, правда, а помогаешь ли ты маме заботиться о ней? И я сказал: «да». Я ничуть не сомневаюсь, что ты ее любишь… А теперь позови к телефону маму. Тогда я сказал, что мамы нет дома. Ну тогда позови к телефону дедушку, я хочу с ним поздороваться, и я честно ответил, что дедушка еще не проснулся. Он спит? Он спит. В такое время?! Да, сказал я, в такое время, потому что для него сейчас полночь. Какая полночь, Гадди, что ты несешь? Тогда я вынужден был пуститься в объяснения и рассказать ей то, что я знал о Земле и о Солнце и что такое разница во времени и откуда она берется. Я был совсем не уверен, что она поняла. Она мне просто не поверила. Все, что она сказала, это что я полностью похож на своего папу, ты такой же всезнайка, Гадди, как твой папа, у которого, что ни спроси, на все есть ответ. Шелковичный червь под эти разговоры снова выбрался из вертолета и на полной скорости мчался через комнату. Одну минутку, прошептал я в телефонную трубку… одну секунду, бабушка… червяк нырнул под шкафчик, и я понял, что мне его оттуда не достать, и я плотнее закрыл дверь, потому что малышка снова принялась за свое, да так пронзительно, что я бросился к телефону, чтобы хоть как-то пригасить этот вопль. Я даже подумал, что должен сейчас рассказать бабушке о сбежавшем червяке. Алло… алло… Куда ты исчез, кричала в свою очередь бабушка очень сердитым голосом, и я понял, что мои огорчения по поводу червяка она сейчас не поймет, и я сказал ей: мне показалось, что Ракефет плачет, но на самом деле она не плакала. Нет. Это, конечно, было вранье, но я всегда врал ей. В разговоре с ней это выходило всегда легко, словно само собой, как если бы она сама только этого и хотела.
– Значит, Ракефет дома? Твоя мама не взяла ее собой? Объясни, почему?
– Ракефет спала.
– И ты совсем один остался с ней? Родители оставили тебя с ней одного?
– Ну и что тут такого? И дедушка ведь тут.
– Но ты сказал, что он спит.
– Если я его разбужу, он проснется.
– Гадди, дорогой! Будь очень осторожен. Где она сейчас?
– В своей кроватке.
– Что бы ни случилось, не вздумай поднимать ее.
– Я и не собираюсь.
– Когда твои родители вернутся, не забудь сказать им, что я звонила, просто хотела пожелать им хорошего дня, а еще скажи, что они не должны оставлять тебя одного с ребенком.
– Я им скажу.
– И я хочу быть уверена, что ты меня понял. И ни за что не попытаешься поднимать Ракефет. Ты можешь повредить… сломать… раздавить ей что-нибудь, после чего наступит паралич… Ты ведь не хочешь, чтобы из-за тебя твою сестренку парализовало до конца ее жизни?
– Нет.
– Тогда будь осторожен, дорогой. Это не она сейчас так плачет?
Я положил руку на слуховую трубку, надеясь, что перекрою истошный крик.
– Нет.
После этого я подождал, не скажет ли она чего-нибудь еще, но она молчала, и тогда я медленно положил трубку.
На самом деле малышка продолжала плакать, это был уже не обычный плач, а один сплошной нарастающий вопль. Я не знал, что делать, вернулся к ней с соской, бутылочкой и набором ключей. Но она попросту отшвырнула их прочь, и что мне оставалось делать – я вышел из комнаты и включил телевизор, чтобы не слышать ее; по телевизору шел урок английского, и диктор говорил очень громко, но Ракефет была громче, а кончилось тем, что я услышал, как она зовет меня, непрерывно повторяя вперемежку с плачем мое имя «ди-ди-ди»… и я понял, что ей плохо, и я вернулся обратно, не в силах все это слышать. Я застал ее всю в слезах, она была багровая, и пахло от нее так, что я чуть не задохнулся. Мне было ее ужасно жалко, честное слово, тут я не вру. А потому я стал соображать, что я могу сделать. Раскрыл одежный шкаф и откопал в нем старый дождевик, мой собственный, который я давно уже не носил, и натянул его на себя, так же как и войлочную шляпу, надел папины кожаные перчатки, а маминой косынкой замотал рот. Затем отправился в кухню, взял щипцы для колки сахара и снова придвинул стул вплотную к детской кроватке, но на этот раз обувь снимать не стал, а перелез внутрь прямо в ботинках, развернул ее пеленку, не дотрагиваясь до нее руками, и стащил ее прочь при помощи щипцов, стараясь не дышать и не смотреть, но не мог не заметить, что она оказалась полуголой. Мокрую вонючую пеленку все теми же щипцами я отбросил в угол кроватки. На малышку, всю в том, что из нее вышло, я по-прежнему старался не глядеть, но когда в который раз протянул ей бутылочку с водой, она с жадностью схватила ее и не могла оторваться, пока не выпила все до последней капли. После чего стала радостно болтать в воздухе ногами. Похоже было, что ей настолько полегчало, что она не только перестала плакать, но даже загукала что-то похожее на пение. Тут я понял, что все самое плохое позади, и швырнул щипцы в угол комнаты, а малышке сказал: вот видишь, я же говорил тебе, что все будет хорошо, а она не только слушала то, что я говорил ей, а даже испустила какой-то звук, который можно было считать одобрением. Более того – она заулыбалась и, продолжая улыбаться, повернула голову в ту сторону, где лежала ее обмаранная и мокрая пеленка. Я взял одеяльце и прикрыл ее, чтобы она не простудилась, а сам только что не бегом бросился из комнаты, а ужасный запах гнался за мной до самой двери. Было уже пять часов, и все еще шел дождь. Я взглянул на себя в зеркало, выглядел я ужасно забавно в этой шляпе и кожаных перчатках, не говоря уже о дождевике, хотя все это, вместе взятое, не испугало Ракефет, а я подумал, что единственное, чего мне еще не хватает к этому наряду, это ружье, а потому я достал свою винтовку и залег в засаде за большим креслом, выпуская пулю за пулей, – это была моя любимая игра. Дом был тих. Малышка не издавала ни звука. Внезапно мне пришло в голову, что она могла откинуть одеяльце и тогда была бы почти что голой. А вдруг она простудится… и я поспешил к ней и увидел то, чего и боялся увидеть: одеяльце и в самом деле свалилось, а малышка переползла в ту часть кроватки, где валялась пеленка со всем ее содержимым, какашки были разбросаны по всей кроватке, и Ракефет зажала одну в кулаке, что-то ей рассказывая, и тут я испугался уже не на шутку, потому что следующим шагом могло быть то, что она захочет этого добра отведать.
А потому я бросился в дедушкину комнату, чтобы разбудить его, и дотронулся до него и сказал: дедушка, вставай быстрее, с малышкой что-то случилось. Мне самому непривычно было говорить с ним так – словно я знал его, в то время как я никогда в жизни вообще не разговаривал с ним. Он повернулся ко мне, открыл глаза, и ясно было, что он не может понять, где это он, и кто это я, и откуда я взялся, он смотрел на меня с удивлением, потом приложил ладонь ко лбу и думал, похоже, что все это ему еще снится. Я Гадди, подсказал я, и он как-то неуверенно улыбнулся. Гадди? Протянув руку, он подтащил меня к своей теплой постели и спросил, представляю ли я, который сейчас час. Ровно пять вечера, сказал я. Пять вечера? Но какого дня, вот в чем вопрос, это воскресенье или оно уже кончилось? Еще нет. Он посмотрел на свои часы и сказал: а на моих ровно десять, да… Десять… Значит, если здесь пять, то все правильно и всю эту чертову уйму времени я проспал… Ты что-то сказал про малышку?..
– Она обмаралась. С головы до ног. Надо ее вымыть… А мамы нет дома, а тут такая беда… Ты должен мне помочь, мама велела тебя разбудить, если что, потому что мне не разрешается поднимать ее.
Он быстро встал и прямо в красной своей пижаме последовал за мной, чтобы посмотреть, как обстоят дела. То, что он увидел, вызвало на его лице улыбку. Ты посмотри только, как она ухитрилась стащить с себя все, сказал он, боюсь, как бы она не простыла. Впрочем, не беда, сейчас мы ее быстро выкупаем, и будет она белее снега. Как ты собираешься купать ее, сказал я, тебе не справиться, это надо делать в ванночке, а это едва удается одному только папе, ты оботри ее лосьоном, и я показал ему на белую бутыль. Нет проблем, сказал он, не беспокойся, ты только покажи мне, где эта ее ванночка и где мыло… Ты мне немного поможешь, дашь чистое полотенце – и можешь быть свободен. Иди и отдыхай. Куда идти? – спросил я. Туда, куда ты, судя по своей одежде, собирался. На улицу, разве нет? Это все для одной игры, сказал я и снял с головы шляпу, стащил перчатки и высвободился из дождевика. Он посмотрел на меня, улыбнулся и взъерошил мне волосы.
И я удивился, как быстро все вдруг изменилось. Вот несколько минут назад он неподвижно лежал в своей постели. А теперь носится по всему дому в своей красной пижаме, высокий и поджарый, с буйной копной седых волос на большой голове, зорко замечая все вокруг своими яркими глазами, и ничего старческого в нем нет и в помине. Более того, даже малышка, которая на удивление быстро притихла, быть может, потому, что отведала все-таки своих какашек, с изумлением поглядывала на своего нового дедушку, перестав совершенно рыдать и блаженно пуская пузыри. Дедушка завернул ее в простыню, поднял из кровати, а она вопросительно смотрела на меня, словно хотела понять, все ли идет так, как надо.
«Всё в порядке, – сказал я малышке. – Это твой новый дедушка из Америки». На что дедушка сказал, что сейчас в самый раз было бы выпить чашку горячего кофе, чтобы он мог окончательно проснуться, иначе он за себя не ручается и тут уж быть беде, я надеюсь, ты знаешь, где что в вашей кухне? Его манера быстро произносить слова очень напомнила мне дядю Цви. Я достал сахарницу и чашки, прибавил к этому молоко и растворимый кофе и даже поставил чайник на плиту и попросил его приглядывать за ним, хотя действовать он мог только одной рукой, я же тем временем достал из хлебницы пирог, и дедушка улыбнулся мне – вижу, ты отлично знаешь, что здесь к чему, на что я ничего не ответил, хотя и понял, на что он намекает, а он тем временем ловко отрезал два толстых куска пирога для нас обоих и протянул один мне с таким видом, словно не он к нам приехал, а, наоборот, это я был у него в гостях. Тем временем вода закипела, и он, держа малышку одной рукой, другой снял чайник и уселся за стол. Дождь за окном шумел чуть-чуть потише, но струи воды все еще стекали по окну, ну вот и все с этим дождем, сказал он, а я подхватил, добавив про последний дождь, я так и сказал, да, конечно, ведь это последний дождь. На что он откликнулся – ну, что до меня, мне он не кажется последним, мне кажется, что это обычный дождь, каких будет еще много, и мне показалось, что этот дождь чем-то его раздражает, а потому я спросил, прошел ли последний дождь в Америке и когда он обычно бывает, а он ответил, что «последний дождь» – это выдумка Израиля, и снова мне показалось, что он обижен, но теперь уже на весь Израиль. Малышка лежала у него на коленях, провожая взглядом каждый кусок пирога, который он отправлял в рот, и каждый глоток кофе. У нее слипались глаза от недосыпа, но челюсти ее двигались так, словно она ела пирог и пила кофе вместе с ним, и вдруг, захныкав, села рывком, на что дедушка, отложив кусочек пирога, проткнул его вилкой и сунул ей в раскрытый рот. В первое мгновение появление вилки озадачило малышку, но тут же она обратила внимание на пирог и начала его облизывать и сосать, поскольку зубов у нее еще не было, при виде этого он дал ей еще кусочек и еще, которые так же быстро последовали за первым. Что до меня, я не был так уж уверен, что мама одобрила бы это, но в эту минуту всем распоряжался дедушка – он отвечал за нас с того первого мгновения, как поднялся с постели.
Она все жевала и жевала, а он, улыбаясь, все кормил ее и, не переставая кормить, заметил, что она провоняла и надо не откладывая отмыть ее. И с этими словами он отодвинул от себя тарелку.
– Этот пирог – чьих рук дело? Мама пекла? Твоя бабушка в свое время пекла отличные пироги.
– Моя бабушка, которая в больнице?
– Да.
Мы посидели немного молча. Он не сводил с меня глаз. Потом спросил:
– И никто ни разу не взял тебя к ней?
– Нет. Они боятся, чтобы я не подхватил у нее этого.
– Подхватил?! – Это он уже выкрикнул. – Подхватил что?
– Ну… того, что у нее.
– Невероятно. И кто это сказал?
– Мой папа.
– Что он, твой папа, понимает в подобных вещах?
Я промолчал. Он все глядел на меня.
– Я скажу твоей матери, чтобы в следующий раз, когда она отправится повидаться с бабушкой, взяла тебя с собой. Она так любила тебя, когда ты был малышом.
Мне опять было нечего сказать.
А Ракефет совершенно неожиданно уснула, открытый рот ее был весь вымазан шоколадом.
– Она уже крепко спит, – сказал я, – может, ты не станешь ее купать?
– А что, она это не любит?
– Когда как. Ей нравится, если мама при этом напевает ей что-нибудь.
Было ужасно странно говорить подобным образом с моим новым дедушкой, такого я даже представить себе не мог. Малышка все еще спала у дедушки на коленях, похоже было, что знакомство с пирогом и шоколадом на самом деле утомило ее. Дедушка сидел в задумчивости. Я был уверен, что он тоже боится связываться с купанием малышки, но когда он в очередной раз принюхался к ней, его сомнения кончились.
– Мы должны это сделать, – сказал он, – а ты поможешь мне.
– Ладно, – сказал я, – ты только учти, что она проснется и снова начнет орать.
– Как-нибудь переживем. Когда тебе было столько же, твой отец и твоя мама однажды оставили нам тебя в Тель-Авиве и ты кричал всю ночь напролет, твоя бабушка ни на минуту не сомкнула тогда глаз.
– Она беспокоилась обо мне?
– Можешь не сомневаться.
– Тогда она тоже была больна?
– Конечно нет.
– А почему папа и мама привезли меня к вам в Тель-Авив?
– Просто хотели чуть-чуть от тебя отдохнуть.
Он снова нагнулся и принюхался к спящей малышке. Выглядело это так, словно запах должен был подсказать ему, что следует делать дальше. А мне вдруг пришло в голову, что я и в самом деле подхватил от бабушки какую-то заразу, ведь она болела уже тогда. И тут же что-то защемило у меня в груди возле сердца… Нет, даже не возле, а в самом сердце. Почему папа с мамой решили вдруг оставить меня у них? Здесь дедушка поднялся и положил Ракефет в ее кроватку, а я стал показывать ему, где что лежит и как мама наполняет ванночку, после чего он раскрыл все дверцы шкафа и начал доставать оттуда детскую одежду и соски, мыло и полотенца, и странно было видеть, как умело и быстро он разбирается во всем, не задавая лишних вопросов; доставая каждый раз какую-нибудь вещь, он ее обязательно нюхал, расстегивал и снова застегивал пуговицы и проверял, как ходят молнии. И когда я протянул ему кусок мыла, он, конечно, тоже обнюхал его, а потом я помогал ему наполнять ванночку, а он тем временем, отыскав электронагреватель, включил его на полную мощность. В конце концов мы разыскали термометр и опустили его в воду, но как определить нужную температуру, не знали, похоже, ни он ни я. Тогда он отправился за очками, нацепил их на нос и уставился на термометр, но мне показалось, что дальнейшие наши действия он представляет слабо. Так или иначе, он велел опустить мне в ванночку с водой руку и сказать ему, что я чувствую, а сам понемногу подливал кипяток, посматривая на меня. Хватит, сказал я ему, уже вполне горячо, и он вслед за мной сунул в ванночку руку. Вполне горячо? Да вода просто ледяная, с ума ты сошел, что ли? И он велел принести мне из кухни чайную ложечку и ею в дальнейшем все время пробовал воду в ванночке на вкус. В конце концов он получил то, что хотел, и отправился за малышкой, которая крепко спала, завернувшись в свою пеленку, звонил телефон, я уже собрался снять трубку, не надо, не бросай меня сейчас, сказал он, ты мне очень нужен. И он велел мне прикрыть дверь, ведущую в ванную.
Он развернул пеленку, что была на малышке, которая и вправду обмаралась с головы до ног, и начал обтирать ее куском гигиенической ваты, которую он облил маминым лосьоном, а я держал перед ним пластиковое ведро для мусора, куда он мог бросать грязные куски ваты. Малышка спала, свесив голову набок, и снова зазвонил телефон. Он все звонил и звонил. Он снял с нее верхнюю рубашечку и попытался сделать то же с распашонкой, но не мог развязать узлы на лямках, и тут он занервничал, кто затягивал эти чертовы узлы, а ну принеси мне ножницы, да побыстрей, пока она не проснулась. И я побежал за ножницами, но никак не мог их найти, и снова зазвонил телефон, словно он охотился за мной, должно быть, это звонила мама или папа, но кто бы это ни был, он должен был прийти в ярость из-за того, что никто не подходит к трубке, так что я снял ее и просто положил возле рычага, пусть в конце концов тот, кто звонит, лучше думает, что линия занята. И я вернулся к дедушке, который сбросил свою красную куртку от пижамы, чтобы ее не забрызгать, голая грудь его вся заросла густыми седыми волосами, а я все не мог сообразить, куда же делись эти ножницы, я не могу их найти, крикнул я, тогда сбегай и принеси ножик, да поострей, давай, Гадди, поторапливайся. И я понесся на кухню, с ножами не было проблем, я схватил самый острый и принес ему, он снова нацепил свои очки на нос и попытался разрезать узел, кончилось тем, что он просто разрезал распашонку сверху донизу, в то время как девочка продолжала спать. И теперь ему надо было освободить ее от распашонки, но малышка лежала у него на одной руке, а в другой был нож, и он просто заорал на меня, ну что же ты, Гадди, что ты застыл, давай ко мне, пока не случилось несчастье, и, разумеется, в эту самую минуту Ракефет проснулась и принялась кричать, и дедушка тоже кричал, чтобы я зажег свет, что я и сделал, и увидел, что он, подняв малышку в воздух, сам перегнулся и лизнул воду в ванночке, чтобы убедиться, не слишком ли она горяча, а потом ловко стащил с Ракефет остатки ее распашонки и отшвырнул подальше, и тут же начал опускать малышку в воду. Но он не знал ее как следует. Она вовсе не собиралась купаться и вступила с ним в схватку с ошеломляющей яростью и силой. Наверное, ее напугала эта неожиданная перемена – переход от сна к погружению в воду. Я ее понимал. Она билась, она вертелась, она пыталась вырваться, она вела себя как настоящий боец. Дедушке понадобилась вся его сила, чтобы не выпустить ее, и еще ему была нужна моя помощь, ну, Гадди, не стой как столб, начинай петь ей то, что ей поет, когда купает, твоя мама, и я запел эту песню. В ней говорилось о том, какая синяя вода в теплом море, и как ласково плещут волны, и что не надо бояться… Я не помнил ни мелодии, ни точных маминых слов, держи ее за ноги, скомандовал дедушка, опуская в воду мыло, это просто было сказать – «держи ее за ноги», она била ими по воде как сумасшедшая, она сражалась с нами обоими, как настоящий лев, а потом она, все-таки вырвав одну ногу, закричала, и я увидел, как на поверхности стала растекаться кровь, и я закричал: дедушка, смотри, из нее течет кровь, он побледнел как полотно и быстро схватил полотенце, сейчас я тебе ее передам, но мне нельзя ее брать на руки, напомнил ему я, давай я положу полотенце на сундук, а ты положишь на него малышку, и так мы и сделали и только после этого увидели, что кровь эта никакого отношения к Ракефет не имела, кровь текла из глубокого пореза у него на руке, он порезал себе палец и даже не заметил, как и когда это случилось. Ракефет тем временем перестала плакать и только терла глаза, а дедушка сосал свой порезанный палец, приговаривая время от времени «слава богу», и, кажется, молился, потому что закрывал при этом глаза, а когда открыл, начал бережно вытирать ее насухо, после чего начал одевать, надо сначала присыпать ее тальком, сказал я, мама всегда так делает. Надо так надо, сказал он, давай подсказывай мне, что еще нужно сделать, что бы я без тебя делал. Я протянул ему коробку с тальковой присыпкой, и он стал присыпать все ее нежные места, легкими движениями втирая порошок в ее жировые складочки. Как ты думаешь, она навсегда останется такой толстушкой, спросил я, а он только рассмеялся – и это ты называешь толстушкой? Да все малыши такие. И твой, там, в Америке, – тоже, вертелось у меня на языке, но не вырвалось наружу, малышка же во все глаза разглядывала дедушку, молча перенося все его попытки одеть ее, искоса поглядывая на него, словно изумляясь тому, что старый джентльмен по неведомой причине вздумал выкупать ее в самой середине дня. А дедушка пришел в хорошее настроение: время от времени он делал попытки даже спеть что-то, более того, он перестал сосать свой кровоточащий палец, смеялся, рассказывая малышке что-то забавное, и время от времени склонялся над ней, чтобы поцеловать в живот.
– Она похожа на бабушку.
Я не спрашивал, я просто сказал это. Более того, я был уверен, что он это знает. Но он перестал целовать ее и резко выпрямился:
– Что?!
– Как-то раз, когда Цви был у нас, он сказал маме, что она ужасно похожа на бабушку. Наверное, он имел в виду их маму…
Я произнес это скороговоркой. Так чтобы он понял, что я просто передаю слова, сказанные Цви. И больше ничего.
Он улыбнулся какой-то смутной улыбкой и бросил на малышку оценивающий взгляд.
– Значит, так сказал Цви?
– Да.
– А что сказала на это твоя мама?
– Мама не сказала ничего, но папа сказал, что это просто ерунда.
Теперь он снова стоял выпрямившись, время от времени посасывая свой порез, и улыбка на его лице делала его похожим на глупого мальчишку, который услышал вдруг от кого-то, ну от меня, что-то чудное. Я протянул ему распашонку, и он взял ее дрожащими руками, натянул на малышку шиворот-навыворот, снял и снова надел, на этот раз уже правильно, и спросил, а сколько девочке лет, на что я ответил, что ей уже шесть месяцев. Вслед за распашонкой он натянул на нее легкий свитер, после чего стал копаться в ящике со всякими лекарствами и перерыл все, пока не нашел широкий бинт – для себя самого, подумал я было, но он обернул этим бинтом живот у малышки, хотя на животе у нее не было даже царапины. Я никогда не видел, чтобы мама делала нечто подобное, но он проделал все так ловко, что оставалось только думать – это ему делать не впервой.
– Зачем ты обмотал ее? – спросил я. – Мама так не делает.
– Это для того, чтобы укрепить ей живот, – ответил он.
– Для того, чтобы живот не был жирным?
– Ничего подобного. И вообще, с чего это ты вдруг вообразил, что она жирная? Она нормальная. Так же, как и ты.
– У меня это из-за гланд, – прошептал я, но он меня не слушал.
Похоже было, что малышке нравился бандаж на ее животе, она радостно бормотала что-то, изредка вскрикивая в полный голос. Дедушке все это страшно нравилось.
– Ты делаешь все это и своему малышу в Америке?
Он выронил из рук пеленку.
– Существует ли что-нибудь, чего бы ты не знал? Или они рассказывают тебе обо всем?
– Нет… не обо всем.
– А кто тебе рассказал об этом? Твой отец? Твой замечательный папочка? Он, похоже, не может держать язык за зубами.
Он был просто вне себя из-за того, что я упомянул о его ребенке. Может быть, он этого стыдился?
– Нет, – прошептал я. – Это сказала мне мама.
Мне не хотелось больше говорить на эту тему. Он тем временем закончил возиться с Ракефет, завершив одевание тем, что натянул на нее маленькую курточку, завернул в одеяло и положил в кроватку, в которой царил полный беспорядок, а потому он велел взять малышку на руки и сидеть так, пока он все не приберет и не перестелет. И тут все началось сначала, после пробуждения и ванны у Ракефет резко изменилось настроение, снова она закричала, обливаясь слезами, может быть, ей показалось, что самое время проявить характер, то есть плакать не переставая, а я знал только одно средство заставить ее замолчать, и я начал смешить ее, корчить рожи и кривляться, щелкать пальцами и все такое подобное, так что дедушка в конце концов обернулся и уставился на меня с интересом. Когда она была еще меньше, объяснил я ему, это помогало.
Он рассмеялся. Будь я на ее месте, сказал он, я бы нервничал еще больше.
А малышка взяла и уснула – как-то внезапно, враз, безо всякого перехода – посредине одной из моих самых смешных выходок. Просто закрыла глаза и уснула, дыша спокойно и ровно; дедушка не мешкая переложил ее из моих рук в кроватку и прикрыл тонким одеялом. А я сказал тихонько – ну, слава богу, и мы на цыпочкахубрались из комнаты, плотно закрыв за собою дверь. Он прошел в свою комнату и сел на кровать отдохнуть, в то время как я отправился бродить вокруг дома, после чего вернулся и, миновав ванную, прошел в кухню, где на столе, выстроившись в линию, меня ждали мои машинки. Я перенес все в гостиную, вытащил наружу шелкопрядов и распихал их снова по их коробкам, заметив при этом, что одного не хватает – того, который сбежал. Я заново проверил все машины и перебрал все игрушки, но он как сквозь землю провалился, так что я его не нашел. Но зато я нашел маленькую старую лодочку, о которой уже давно забыл, так что я пустил ее поплавать в детскую ванночку и посмотреть, потонет она или нет. Она не утонула. Дедушка все еще был в своей комнате, оттуда не доносилось ни звука, и я заглянул тихонько в щель – чем он там занимается, но он ничем не занимался, лежал на спине, глядя в потолок, думая о чем-то своем и время от времени облизывая свой палец.
– Хочешь что-нибудь спросить, Гадди?
– Нет.
– Девочка уснула?
– Да.
– Смотри не разбуди ее.
– Хорошо.
– Я скоро поднимусь, надо еще немного отдохнуть. Такое ощущение, словно внутри сгорели предохранители, – понимаешь, о чем я?
– Все будет хорошо.
Я чувствовал, что он еще сердится на меня за то, что я заговорил о его ребенке. А потому отправился на кухню, где доел остатки пирога, а затем включил телевизор, почти совсем убрав звук, немного пощелкал, переключая программы, а потом пошел обратно посмотреть, что там с дедушкой, – тот спал, свернувшись, как и прежде, в клубок, было темно, и снова я поплелся в ванную, чтобы узнать судьбу лодочки – плавает она еще или уже утонула. Она утонула. Я хотел уже выудить ее наверх, но на поверхности воды увидел дедушкину кровь. И тогда я покинул ванную и пошел попить в кухню, после чего продолжал бродить по дому, стараясь не шуметь, и так продолжалось, пока я не обратил внимания на то, что телефонная трубка так и не вернулась на свое место, на рычаг. Вот почему в доме стояла тишина, которая тут же была нарушена, как только я положил трубку на место, словно кто-то все время только этого и дожидался. Это был папа. Что у вас случилось? Он начал прямо с крика.
– Вы что там, с ума посходили? Кто это болтал так долго? Дедушка? Я не мог дозвониться до вас в течение целого часа.
– Никто не занимал телефона, – начал я было объяснять, но он оборвал меня:
– Что за ерунду ты несешь, наверняка плохо положил трубку, не отключайся и быстро позови маму.
– Мама еще не вернулась.
– Не вернулась? А где дедушка?
– Он спит.
– До сих пор еще не проснулся?
– Проснулся, но уснул снова.
Мне не хотелось рассказывать папе о купании и всем прочем, потому что это вывело бы его из себя. Пусть лучше, подумал я, узнает обо всем от мамы.
– Он что, окончательно спятил?
Я не стал отвечать.
– А что сам ты сейчас делаешь?
– Ничего.
– Тогда зачем ты отключил телефон?
– Я только на минутку снял трубку, малышка стала хныкать, а я не хотел, чтобы она проснулась совсем.
– Но почему, черт побери, она должна была проснуться? Не советую тебе снова проделывать подобные штуки. Хочешь, чтобы и я спятил? Ты слышал, что я сказал?
– Да.
– Смотри же у меня…
И он бросил трубку. Но не успел я сделать то же самое, как снова раздался гудок, как если бы некто на другом конце провода давно уже терпеливо дожидался своей очереди; на этот раз звонила мама, и голос ее звучал так, словно она говорила из-под земли, далеко-далеко от меня, таким слабым и едва слышным он был, и она сказала, что совсем меня не слышит и что она уже на пути к дому, после чего она тоже бросила трубку.
В доме было совсем уже темно, но я даже не попробовал хоть где-нибудь включить свет, так приятно было бродить в потемках, проходя мимо комнаты, где спала Ракефет, я заглянул туда и увидел, что малышка спит беспробудным сном, таким глубоким и мирным, что разбудить ее, я думаю, не смог бы даже взрыв бомбы. Следующей дверью была дедушкина, и, проходя мимо, я увидел, что он лежит на кровати, на спине, руки за голову, думая о чем-то, попыхивая сигаретой.
– Гадди! – окликнул он меня. – Я слышал, как звонил телефон. Кто это был?
– Сначала папа, потом мама.
– Чего хотела мама?
– Сообщить, что она скоро будет дома.
– Куда она отправилась?
– Она не сказала мне.
Я остановился в дверном проеме, может, ему захочется, подумал я, спросить меня еще о чем-нибудь.
– Подойди ко мне.
Я переступил порог и подошел к его кровати. Я подумал, что он, может быть, хочет сейчас вручить мне мой подарок. Он цепко ухватил меня за руку и посмотрел так, словно видел впервые в жизни.
– Почему ты все время такой невеселый? Тебя что, кто-то обидел?
– Я всегда такой.
– Всегда такой угрюмый?
Я догадывался, о чем он, но не знал, что бы я мог на это ответить. Однажды мама тоже называла меня так, но не смогла объяснить мне, что именно она имела в виду.
– Тебя что-то беспокоит? Огорчает?
Нет, не знал я, что ему сказать. Может быть, о том парне, который называл меня кабаном и с которым я сцепился, может, он ждет завтрашнего дня, чтобы разобраться со мной, потому что сразу после вручения табелей начинались каникулы, – нет, я не хотел ему рассказывать. А то он еще подумает, что меня все в школе дразнят. Я вовсе не переживаю из-за того, что я толстый, может, это и так, но я не виноват в том, это все мои гланды, и я надеялся, что мне их когда-нибудь удалят. Поэтому я сказал:
– Это из-за мамы, что она оставила меня с малышкой. Она говорила, что Ракефет, после того как поест, будет спать, а она не уснула. А это нечестно, потому что мне не позволено поднимать ее, и что я должен делать, если она раскроется? Как я смогу ее успокоить? Никто бы не смог.
Он слушал меня и вовсе не выглядел старым, на нем была все та же пижама, одним движением он поднялся, нагнулся над своим чемоданом, запустил в него руки, явно что-то желая найти, наконец-то, подумал я, наконец-то он хочет достать мой подарок, а что же еще это может быть – ведь даже подумать нельзя, чтобы он приехал без подарка, сказал папа, разумеется, он привез его, но то, что он вытащил из чемодана, оказалось пачкой сигарет, с которой он сорвал обертку и вытащил одну, закурил и снова лег на кровать, руки за головой, с сигаретой во рту. Он все еще смотрел на меня, но думал о чем-то другом.
А затем он начал меня расспрашивать – о маме и папе, что они делают и как живут, чем занимаются и часто ли ссорятся друг с другом. Я сказал ему, что иногда это случается, начинает всегда папа, но это потому, что мама виновата, потому что часто забывает о вещах, о которых он ее просит, я все говорил и говорил, рассказывая обо всем, что нужно и не нужно, говорил и не мог остановиться, он словно вытягивал из меня все эти слова, уже не лежал, а сидел в кровати, наклоняясь ко мне и время от времени переспрашивая то, что было ему непонятно, так что я должен был повторить то, что я сказал, или объяснить поточнее, и все это время он держал мою руку, не выпуская, и несколько раз попросил не торопиться и говорить помедленнее и произносить слова более четко, ему, мне казалось, то, что я рассказывал, было почему-то очень важно, например, что мама толстеет, а папу это выводит из себя, притом что он сам толстый, за что мама его никогда не упрекает, а ему это все равно. Мне казалось, что я все уже рассказал дедушке, но он так не думал, и он снова и снова уточнял то и это, задавая все новые и новые вопросы, и возвращался к тому, о чем он спрашивал раньше, только немного иначе, – выглядело это так, словно он хотел вернуться в то время, когда его не было с нами, и вот теперь он хотел его с нами заново прожить, день за днем и вместе со мной, так что мне пришлось вспомнить о том, что произошло год назад, – например, об автомобильной аварии или о той ночи, когда мама плакала, и о событиях, о которых мне, может, лучше было бы помолчать, тем более что я не любил о них вспоминать, я имею в виду случай, когда мама потеряла свою сумочку, в которой было более двух тысяч лир[3], после чего папа с неделю даже не разговаривал с ней и перестал сердиться только после рождения малышки. Дедушка сидел и слушал все это, он был похож на сжатую пружину, он не пропускал ни единой мелочи и продолжал вытягивать их, не давая ни мне ни себе передышки, уже было совсем темно за окном, да и в квартире тоже ничего не было видно, кроме огонька его сигареты, он стряхивал пепел в ладонь, как если бы это была пепельница, разве тебе не больно, спросил я, нет, сказал он, старики в моем возрасте уже не чувствуют жара, потому что внутри у них уже все вымерзло. Но ты-то, сказал я, ты-то не старик, потому что у тебя родился малыш, и тут он рассмеялся и сказал: ты так думаешь… что ж, значит, я буду стариком, у которого есть малыш… А раз так, то принеси мне пепельницу на всякий случай, и я принес ему, и он раздавил в ней окурок, после чего включил свет, поднялся и снова стал рыться в своем чемодане, может быть, сейчас, подумал я, но он вытащил из чемодана трусы и стал раздеваться, сначала сняв куртку, а потом штаны, и оказался совершенно голым передо мной раньше, чем я успел отвернуться, так что я увидел всего его, его худое тело, поросшее седым волосом, и сморщенный член посредине, – все это я видел, сам того не желая, и одного не мог понять, как ему-то было не стыдно выставить себя всего передо мной, как если бы я был ничего не понимающим младенцем, и от всего этого мне стало так тошно, что я повернулся и вышел из комнаты. Включил повсюду свет, включил даже телевизор, хотя и не собирался ничего смотреть, не знаю, чего я ожидал от моего дедушки, я не обиделся бы на него, если бы он привез мне в подарок что-нибудь дешевое, телевизор я включил, чтобы забыть про седые волосы внизу живота, а вскоре и сам он появился в гостиной, умытый, одетый и чисто выбритый, в клетчатой рубашке и зеленых брюках, и от него пахло одеколоном, и он уселся в кресло и стал смотреть передачу с Микки-Маусом, а я сидел рядом и молчал. Потом я встал на колени и начал собирать свои машины, а он спросил, почему я не смотрю эту интересную передачу по телевизору, а я сказал ему, что эта передача для малышей, на что он рассмеялся и сказал, что это, значит, правда, когда говорят, что новое поколение не интересуется такими вещами, как телевидение, и что я и есть это новое поколение, и я, сказал он, рад, что ты из таких. А я внезапно понял, что он и в самом деле ничего мне не привез и что все это время он просто болтал, ничего не имея в виду, потому что был уверен, что наше поколение не нуждается в подарках. Он сидел, не спуская глаз с телевизора, словно маленький ребенок. С экрана доносились крики, там кто-то что-то разбивал, и мне стало любопытно, что там происходит, но вспомнил, как я говорил, что это передача для малышей. В конце концов все стихло и началась передача на арабском языке, и я спросил его, знает ли он арабский. После чего выключил телевизор. И замер, ожидая, что он захочет расспросить меня о чем-нибудь еще.
Тут дверь отворилась и вошла мама, держа в руках груду пакетов с покупками, похоже было, что от дождя она промокла насквозь. Она взглянула на нас обоих и улыбнулась.
– Я вижу, папа, вы уже проснулись, – сказала она.
Я подошел к ней и по форме пакетов понял, что она не купила мне самолета, пакеты были совсем плоскими, в таких могли быть только какие-нибудь тряпки. Дедушка подошел к ней и поцеловал, а она сняла пальто и наклонилась, чтобы поцеловать меня.
– Ну, как Ракефет?
– Она не заснула. Ты мне сказала неправду. У нас тут с нею были проблемы – и у меня, и у дедушки, и это ты во всем виновата. Куда ты подевалась? Нам пришлось ее выкупать, а дедушка порезал себе руку.
Дедушка рассмеялся.
– Все это ерунда, – сказал он. – Все в порядке.
Мама была потрясена.
– Вы ее выкупали?
И тут уже рассмеялась она. Я махнул на них рукой, отправился на кухню, взял нож, набросил пальто и открыл наружную дверь.
– Куда ты собрался?
– Мне надо нарвать шелковичных листьев, – сказал я. – Ты ведь не хочешь, чтобы все мои червяки умерли?
– Ты собрался на улицу в такое время? Да еще в дождь?
Она попыталась задержать меня, но я прошмыгнул мимо, рванул по ступенькам вниз и оказался на улице. Дождя уже не было. Я перебежал на другую сторону и двинулся к автобусной остановке, возле которой росла шелковица, на которую я обычно мог взобраться, но теперь, после дождя, ее ствол был совсем скользким.
На автобусной остановке переминался с ноги на ногу человек в шляпе, он несколько раз взглянул на меня, как я хожу, задрав голову, вокруг шелковицы, а потом подошел и, зацепив нижнюю ветку, согнул ее и так держал, старик, от него шел какой-то странный запах, по-моему, он давно не мылся, но ветку он мне согнул, и я, достав свой нож, быстро срезал множество свежих и мокрых листьев. Их как раз хватило, чтобы плотно набить оба кармана.
– Ты будешь кормить этим шелковичных червей?
– Ага.
Он подошел ко мне поближе – несчастный, запущенный, грязный старик. Я поплелся домой, а он захромал рядом, пахло от него одинокой бездомностью, и внезапно я ощутил исходящую от него непонятную и опасную тревогу.
– У тебя уже есть коконы?
– Да. Пять штук.
– Скоро они превратятся в бабочек.
– Думаю, что да.
Я не мог понять, чего ему от меня надо.
– Ты знаешь, как это происходит?
– Знаю.
– Ну и как же?
Но я не знал. Тогда он сам начал объяснять мне, что происходит внутри совершенно закрытого белого кокона. Он тащился рядом со мной, не отставая. Он даже протянул мне конфету. В эту минуту свет фар папиного автомобиля осветил нас – папа, как всегда, несся как сумасшедший, и автомобиль его остановился вплотную к нам. Дверь машины открылась, и папа, прижимая к себе портфель, выскочил наружу.
– Гадди, что ты тут делаешь?
Старик, шагавший бок о бок со мной, вдруг оказался в стороне. Отец обратился сразу к нему:
– Я могу вам помочь?
Старик начал мямлить что-то невнятное.
– Гадди, чего он от тебя хотел?
– Ничего.
– Где ты живешь?
Отец произнес это очень жестко. Старик, не отвечая, повернулся и потащился обратно.
– Давай, давай, – кричал ему вслед папа. – И не появляйся здесь больше, тут тебе не место… Так чего же все-таки он хотел от тебя? И как ты мог позволить ему…
– Я ничего ему не позволял. Он и не просил о помощи. Он помог мне набрать листьев для моих червей…
– Что ты несешь, Гадди? Какие черви? И при чем здесь черви? Ты что, не понимаешь, о чем я тебе толкую? Тебе следовало бы быть уже более разборчивым. Понимать, с кем имеешь дело. Что между вами происходило?
– Он помог мне нарезать листьев шелковицы, я ж говорил тебе. Он дотянулся до ветки и согнул ее.
– И все?
– Да.
– Ну, хорошо. А теперь пошли домой. Как там дедушка? Он встал наконец?
– Да.
– Самое время…
Вслед за ним я поднимался по ступеням, а сам думал о том, сколько всего я нарассказывал дедушке о них с мамой. В открывшейся двери я увидел ее лицо, она смотрела на меня как-то странно. Я подумал, что дедушка пересказал ей все о наших беседах. И я постарался побыстрее оказаться в своей комнате.
В комнате было темно, малышка спала, но так тихо, что трудно было бы догадаться, что она вообще здесь, я вытащил из коробки старые листья и положил туда новых и тут вспомнил ни с того ни с сего о том червяке, которого я так и не смог разыскать, и снова попробовал найти его, папа разговаривал с дедушкой возле двери дедушкиной комнаты, какие-то бумаги он передавал ему из рук в руки, радио работало на полную мощь, в кухне мама накрывала стол для ужина. Я попробовал отыскать своего червяка в кухне.
– Что происходит, Гадди? – Мамин голос был совсем мягким, даже нежным. – Дедушка говорит, что из тебя получился прекрасный помощник.
Я не мог ничего ответить, потому что червяк, думал я, мог ведь уже превратиться в кокон. В конце концов я сказал:
– Ты уверяла меня, что малышка будет спать. А она ревела все это время и даже обмарала всю кроватку.
– Я надеялась, что она уснет – и будет спать. Она ведь проснулась рано утром. Откуда мне было знать?..
– Но ты обещала…
– Что ты имеешь в виду, говоря, что я обещала? Не будь идиотом. Как я могла обещать тебе то, что она будет делать?
– Да. Не могла. Но обещала. Верно?
Она выглядела усталой. Почему я рассказал дедушке о ней то, что рассказал? Я подошел к корзине, где были малышкины игрушки, и перевернул ее вверх дном, но червяка там не было. Я проверил все мои машинки и вернулся в кухню, выдвинул мусорный бак и стал бросать туда одну машину за другой, пока не выбросил все.
– Может быть, ты мне все-таки скажешь, что происходит?
– Я выбрасываю старые свои игрушки. Мне они больше не нужны.
– Обязательно делать это прямо сейчас?
– Да.
Появился папа, готовый, как всегда, проверить, вмешаться и навести порядок.
– Что это ты выбрасываешь? Свои любимые машины? Ты что, спятил?
– Мне они не нужны.
– Не нужны? А что тебе нужно?
– Ничего. Мне больше не нужно ничего.
Он вгляделся в гору мусора, наполнившего бак.
– Забирай все это, спустись и выброси.
Я спустился вниз, неся с собой огромный пластиковый мешок. Вдоль улицы на мокром асфальте вытянулась вереница машин, но дождя уже не было, и небо было чистым. Я откинул крышку мусоросборника, и оттуда выпрыгнула кошка. Она молча наблюдала за тем, как я освобождаю свой мешок, а когда я закончил, мяукнув, нырнула обратно. Я захлопнул за нею крышку и стоял, не двигаясь с места. Внезапно я понял, что вовсе не хочу идти домой. Что дернуло меня за язык, когда я начал рассказывать дедушке про нашу семью, а он не привез мне ничего, совсем-совсем ничего, даже какой-нибудь мелочи. Какой-то старик заметил, что я стою, вышел из своей калитки, ограждавшей соседний участок и дом, подошел к выброшенной мною горе мусора и стал рыться в ней. Поднимаясь по ступенькам нашего дома, я вдруг пожалел свои старые игрушки, по крайней мере некоторые.
Папа сидел за столом и ел, дедушка сидел рядом, тарелка перед ним была уже пустой. Я было тоже сел, чтобы поужинать, но они послали меня вымыть руки, а когда я вернулся, папа отпустил несколько шуток о правительстве, рассмешив этим дедушку, который в свою очередь начал рассказывать об Америке. Я не прислушивался к их разговору, а набросился на свой ужин и прикончил его почти мгновенно.
Затем меня отправили под душ. Когда я вернулся уже в пижаме, они перебрались в гостиную. Папа что-то суровым голосом выговаривал дедушке, они говорили о бабушке, дедушка, съежившись, сидел в кресле и глядел в пол, мне очень хотелось услышать, о чем идет речь, но мама сказала железным голосом:
– Отправляйся в кровать. Быстро.
– А можно мне посмотреть телевизор?
– Во всяком случае, не сегодня.
И я пошел в постель. Ракефет спала мертвецким сном, не шевелясь и не издавая ни звука, она спала таким же беспробудным сном, каким спал дедушка, так, словно и она тоже прилетела из Америки. Мама сняла с кровати покрывало, достала из комода подушку и натянула простыню. Я мгновенно улегся на нее, надеясь, что она все-таки не обратила внимания на следы утреннего происшествия. Она укрыла меня и внезапно наклонилась, коснувшись моего лба губами.
– Кажется, у тебя жар? Мне показалось, что когда ты вернулся с улицы…
– Мне не жарко. Завтра, – напомнил я ей, – выдают табели.
Но она меня не слышала, она выглядела огорченной, как будто что-то давило на нее. Передал ли ей дедушка то, что я ему рассказал?
– Дедушка превозносил тебя до неба. Он сказал, что ты знаешь так много, так много. И способен все понять…
Я не сказал ничего. Она выключила свет и вышла. А я остался лежать в темноте. Потом поднялся и босиком пошлепал в туалет пописать. В коридоре был свет, папа стоял напротив дедушки и по очереди передавал ему какие-то бумаги, которые дедушка подолгу рассматривал. Мама стояла в стороне, но неподалеку. И снова я понял с первого взгляда, что разговор идет о бабушке. И еще понял, что находится она вовсе не в больнице, а в тюрьме, и еще я понял, что знал это все время. Дедушка прилетел, таким образом, чтобы забрать ее оттуда. Внезапно папа догадался, что я стою, прикрываясь темнотой.
– Это еще что! – крикнул он. – А ну-ка в постель! И живо!
Я рванул в свою комнату. Мне было очень жаль дедушку. Я посмотрел на червяков, они вовсю грызли свежие листья. Одна гусеница непрерывно вертелась – еще немного, и она превратится в кокон, а потом станет бабочкой – если, конечно, папа, случайно или нарочно, всех их не передавит.
Я натянул на себя одеяло. Малышка вздохнула. А потом ее дыхание стало немного хриплым. Похоже, что она собиралась проснуться и снова пуститься в плач. И я подумал, что если я постараюсь, то сумею заснуть раньше, чем это произойдет…
Понедельник
Все рухнуло. Опору потеряв, мир впал в анархию, болотом смрадным став.
Уильям Батлер ЙейтсЧто меня тревожит? Мы должны теперь по утрам разговаривать шепотом, не включать радио и малышку все время держать на руках, чтобы она не заплакала; когда вчера днем я позвонил и она сказала, что он еще спит, я предупредил ее, что лучше будет, если она разбудит его, не то, проснувшись поздно вечером, он уже больше не уснет, это не просто сдвиг по фазе из-за перелета, это депрессия, но она сказала: не трогай его, пусть себе спит, что тебя тревожит? Ничего меня не тревожит, но в голове у меня то, что всю прошлую ночь он бродил по дому, как это уже было накануне, и снова не давал нам уснуть. И теперь день перепутал с ночью, и так будет продолжаться, пока его биологические часы внутри него не совпадут с астрономическими, что случится как раз тогда, когда ему придет пора возвращаться в Америку, а потом настанет время разбираться с тем же самым всем нам. Мне тоже, но не в первую очередь, а в первую очередь это коснется Яэли, потому что я еще не спятил, чтобы поддаться этому идиотизму и стать лунатиком, – ничто в мире не в силах лишить меня сна, если я хочу спать, и во время армейской службы однажды я ухитрился захрапеть даже под огнем. Кто-то должен всегда оставаться в своем уме в этом балагане, у меня адвокатский бизнес, своя юридическая контора, и мы готовимся к суду по делу об убийстве – вот что ожидает меня и что тревожит, и не позволяет, подобно ей, стать собственной тенью, в которую она превратилась, проспав за эти последних три дня самое большее часов пять. И где уж тут думать о сексе. Но этому всему приходит конец. Завтра мы отправляем старика в Иерусалим – дадим возможность молодому доктору философии и его глубоко религиозной жене проявить заботу об отце, пока я буду разбираться со своими биологическими часами и прочими удовольствиями, которые остались в этой проклятой жизни после его визита, забыть о котором, я боюсь, не смогу еще долго. А скорее всего, до конца своих дней. Удовольствия хороши, пока мы еще живы, – вот почему надо их не упускать, то что мы упустили сегодня, того уже не будет завтра, и тогда ты – лузер. Каким оказался Гадди, ведь он битую неделю только одно и слышал от нас – «дедушка, дедушка, дедушка» и ожидал появления доброго ангела, который спустится с небес, я ведь говорил ей сколько раз: зачем ты забиваешь ему голову тем, сколько всего ее папаша везет ему в подарок, и сколько великолепная ваша семейка пришлет нам, а ведь за все эти последние семь лет дня не было, когда бы мы могли его им оставить, чтобы во время отпуска хоть на несколько дней съездить отдохнуть за границу. В некоторых семьях рады помочь своим детям, бабушки, вышедшие на пенсию, готовы бесплатно сидеть и воспитывать своих внуков, даже если их родители отправляются в кругосветное путешествие. Но что, к примеру, сделала для нас твоя мать хоть когда-нибудь, кроме того, что обосновалась в тридцати километрах отсюда, так что нам нужно спалить десять литров бензина для того только, чтобы дважды в месяц навестить ее. А уж до того, чтобы привезти мальчишке какой-нибудь подарок… куда там, нечего и надеяться. Он говорит: «Виноват. Я забыл». Ты слышишь? Он забыл. Он забыл потому, что он хотел забыть. О самом себе и о том, что нужно ему, он никогда не забывает, не говоря уже о том, что он просидел в самолете двенадцать часов, в течение которых каждую минуту все стараются продавать тебе виски или сигареты, и у него было достаточно времени, чтобы вспомнить обо мне – обо мне, который тратит свое время и силы, чтобы он мог обрести свою свободу, что поможет ему организовать свою новую жизнь, – разве все эти усилия не стоили того, чтобы привезти мне небольшую бутылочку настоящего французского коньяка, раз уж он живет в стране доллара, и живет гораздо приятнее, чем мы здесь. Но это я так… На самом деле я хочу только одного – чтобы он оставил нас в покое, забыл навсегда, и я плевать хотел и на него, и на этот ликер. Мне хотелось задать ему только один вопрос: дедушка, а сколько у тебя внуков? Давай посчитаем. Малышку ты можешь забыть. Она никогда в жизни не узнает, что ты был здесь и видел ее. Что остается? Один мальчик, Гадди. И он сейчас в полной растерянности. Он так ждал твоего приезда. Так какого же черта ты забыл о нем? А он-то всю неделю и так и этак вертел глобус, чтобы получше разглядеть, откуда ты летишь. И, высунув от усердия язык, трудился над поздравлением, чтобы доставить тебе удовольствие, – надеюсь, ты заметил, что на рисунке тебя встречали с цветами, размером выше деревьев. Он был в таком возбуждении… а ты забыл привезти ему хоть какую-нибудь мелочь, хоть что-то просто символическое, не потому, что он в чем-то нуждается, нет, – загляни в его комнату и своими глазами увидишь, что у него есть все, что нужно, но ты, живя в стране, полной игрушек, неужели не мог найти что-нибудь такое, что доставило бы радость и ему, и всем нам, – автомобиль, к примеру, с дистанционным управлением или игрушечный танк, стреляющий снарядами? Ведь все, что у тебя есть, это двое внуков здесь, в Хайфе, а большего у тебя уже не будет, можешь мне поверить, Кедми никогда не врет, и моя интуиция подсказывает мне, что для рождения внука от парочки в Иерусалиме понадобится как минимум вмешательство Святого Духа или новой трактовки «происхождения видов» для тех, кто в Тель-Авиве. Может, именно поэтому, в одиннадцать вечера после того, как мальчик оберегал твой покой в течение всего дня, ты вдруг вспомнил, что ничего ему не привез, и пустился в объяснения, извиняя себя тем, что путешествие твое не было запланировано, возникло стихийно настолько, что у тебя не было времени заглянуть в магазин, так не могу ли я быть столь любезным, чтобы купить ему подарок от твоего имени, не думая о том, что это для меня уже последнее дело – покупать моему сыну подарки, о которых ты забыл, как ты забыл заплатить мне за эту покупку, просто дать мне десять долларов, как обещал минутой раньше, когда потянулся, чтобы достать свой бумажник, но стоило мне из простого уважения сказать – да ладно, не надо, как ты забыл про бумажник и с утомленным стоном снова рухнул в кресло, словно этот жест отнял у тебя последние силы.
Ладно, ладно, пусть будет так, мы купим ему что-нибудь, чтобы было ему что вспоминать, когда тебя не станет. Я надеюсь, что вспомнит. У бедного парня ведь ты единственный дедушка, я – хочу этого или нет – просто обязан держать высоко твой светлый образ, твой авторитет, и можешь мне поверить, подарки очень важная часть жизни ребенка, любого. Они вспоминают прожитые ими годы, соотнося их с теми подарками, которые получали. Я знаю, что происходит у него в голове, знаю, потому что мы с ним похожи, мы составляем одно целое, а потому знаю о нем все до последней черточки как самого себя. Парень понимает чертовски много для своих лет – и это потому, что у него хорошая голова на плечах. Все он подмечает, все помнит, четко соображает, что к чему. Я сам такой. Ты уже, наверное, слышал про то, как арифметичка, объясняя классу задачу, ошиблась. Никто этого не заметил, кроме него, и он не побоялся встать и сказать – учитель, здесь у вас ошибка. Она сама мне в этом призналась. Вот так. Вот такой это парень. Моей породы, не вашей. Моя кровь. Вот почему я схожу с ума, когда дело касается его. И я боюсь только одного – только бы он, становясь старше, не воспринимал слишком серьезно весь идиотизм этого мира.
– Ну так что это за парень, который прозвал тебя кабаном?
– Он из третьего «а».
– Как его зовут? Кто его родители?
– Я не знаю.
– Тогда скажи, как он выглядит?
– Такой тощий. И маленький.
– Тогда чего же ты испугался? Если это тебя задевает, вздуй его как следует.
– Я уже…
– Когда?
– Вчера. Я повалил его и… У него потом потекла кровь.
– Ну, ну, Гадди… Ты полегче. Полегче. Никогда не надо оставлять за собою следов. Не забудь, что ты уже не в детском саду.
Но у меня чуть отлегло от сердца. Он в порядке, может сам за себя постоять. Именно в эту минуту я заметил расплывающуюся темно-синюю отметину у него на лбу. Спокойные темно-коричневые глаза его доверчиво глядят на меня, в то время как рот решительно и энергично пережевывает пищу. Может быть, немного быстрее, чем нужно. Он любит этот процесс. Эта энергия, с которой он очищает тарелку, вовсе не значит, что он голоден. Это знак того, что он возбужден. И нервничает. Если это и голод, я бы назвал его энергетическим. Этот же самый феномен я ощутил в себе, когда рос, и именно ему я обязан своим метром восемьюдесятью одним роста. И даже если у меня когда-нибудь появится десять детей, этот славный толстяк, сидящий напротив, всегда будет занимать в моем сердце особое место.
– Хорошо, Гадди, достаточно. Мне надо идти. Меня ждет сегодня сумасшедший день.
Сумасшедший день среди совершенных психов. Одни помешанные.
Но я обещал все эти заботы взять на себя, и я это сделаю, и заниматься этим намерен до самого конца, если только мне дадут такую возможность. Пусть только эта семейка держится от всего подальше, и я вручу им бумагу о разводе стариков со всеми печатями, штампами, подписями, все как положено. Та еще работенка, высший класс. Только не лезьте в это дело, стойте в сторонке и радуйтесь, что кто-то другой разгребает за вас эту кучу дерьма. Предоставьте мне завершить как можно менее болезненно эту патологическую историю, стаж которой уже четыре десятка лет. Вы просто не понимаете еще, как повезло вам в тот момент, когда некий адвокат, женившись, стал членом вашей семьи. Но уж если так вышло, то доверяйте хотя бы ему, тем более что это не стоит вам ни пенса, и расслабьтесь – я и в мыслях не рассчитываю на это хоть когда-нибудь.
– Стоп, Гадди. С тебя достаточно. Опоздаешь в школу. Оставь в желудке хоть немного места для завтрака на первой перемене в десять.
Парнишка и в самом деле взял в привычку съедать больше, чем нужно, особенно когда никто на него не смотрит. Яэль возникает в кухне, полусонная, серая от недосыпания этих последних нескольких дней, для нее это подобно смерти, я встаю с места, обнимаю и целую ее – не потому, что именно этого мне хочется в данную минуту, а чтобы показать – глава семьи на месте.
– Ты на самом деле не хочешь, чтобы я пошла с тобой?
– Абсолютно. Ты только все усложнишь. Как только она тебя увидит, она придумает для себя какую-нибудь новую форму безумия. Со мною она объясняется внятной прозой, с тобой в ней проснется вдохновенный поэт. Ради всего святого, дай мне довершить это дело так, как я это вижу. Почему бы тебе не провести это время со своим отцом? Вы не виделись с ним больше трех лет. Для чего же тогда ты отпросилась с работы? И не забывай, что впереди нас ждет еще пасхальный седер, – так есть ли тебе смысл тратить целый день, таскаясь за мной?
Ну, ладно, я пошел. Если секретарша позвонит, скажи ей, что я уже еду, а она чтобы не отрывала задницы от стула. Да… сначала я встречусь с врачом. Потому что проблема эта не только медицинская, но и правовая тоже. А это что? Что это? В сумке. Витаминная добавка для собаки? Клянусь Господом!.. Хорошо, хорошо, эта псина получит свою добавку. Если бы нашелся такой гений, об этой собаке мог бы быть написан эпос. Если ты в состоянии этого гения отыскать. А ты могла бы пока что найти собачке интересный роман для чтения в свободное время.
…Хорошо, хорошо, хорошо. В течение дня я буду тебе звонить. Будем на проводе. Не беспокойся, все будет хорошо… и, кстати, раз уж мы об этом заговорили, пожалуйста, не забудь сказать секретарше, чтобы она меня дождалась. Гадди, я уже ушел!
Вчера лил дождь не переставая, сейчас солнце прожигает все насквозь, какой стабильности можно ожидать в стране, где такая погода? Машины устремляются с холма вниз, никому в голову не приходит притормозить, пропуская тебя, они жмут на газ с такой яростью, словно жизнь их зависит от того, как быстро они пробьют компостером свою рабочую карточку, после чего можно расслабиться, сидя на стуле, и мечтать о чем угодно хоть до самого восхода луны. А пока мне приходится изо всех сил нажимать на гудок, чтобы напомнить водителю давно не мытой «субару», что прямо у меня под носом портит воздух, что я ничуть не меньше его плачу все свои налоги за право пользования этой дорогой. Ибо она – и моя тоже.
Подумать только, что я сам когда-то вот так же ходил в эту школу. Случись это снова, я, скорее всего, покончил бы с собой. Такого ужаса нагнали на меня эти гнусные учителя… А он, смотри, непритворно рад, что мы прибыли на место, прытко выбирается из машины и бежит, не глядя по сторонам, через дорогу, чтобы побыстрее оказаться в школьном бурлящем потоке. Но пока что он в потоке машин, черт побери, где здесь установлены дорожные камеры наблюдения, обещанные муниципалитетом? Не пытайтесь убедить меня, что эти малыши способны организовать забастовку. Я стою и жду, пока он пересечет улицу. Я не в восторге оттого, что ему приходится проделывать это еще раз по дороге из школы домой – возвращаться одному, среди стада этих чокнутых водителей, несущихся неведомо куда. Предупреди сигналом, по крайней мере, ты, безмозглый идиот на своей вонючей «вольво», притормози, подожди, пока мой сын пересекает улицу, а если тебе, сукин ты сын, так не терпится задавить насмерть какого-нибудь малыша этим утром, найди кого-нибудь другого, но моего сына – не тронь.
Вот такие дела. Я уже не в состоянии разглядеть его в толпе ребят. Пока они еще маленькие, вы как-то спокойно относитесь к их существованию, но по мере того, как они становятся все взрослее, вы начинаете по ним просто сходить с ума. В них, в конце концов, заключается весь смысл твоей жизни безотносительно к тому, сколько им лет на самом деле. Они – это вся твоя жизнь. Ты уже отдал им все, что имел. Еще больше? Подари им, если можешь, свою улыбку.
Утро. Моя секретарша пытается слиться с электрической батареей – маленькая, смуглая, озлобленная, – если она не найдет в себе сил измениться, боюсь, ей не останется ничего, кроме как провести остаток дней с этой батареей.
– Ты, случайно, не простудилась, Левана? Мне показалось… но, может быть, я ошибся… что на улице мелькнуло что-то вроде солнечного света. Нет?
Она дарит мне взгляд, который уже лишил нас не одного клиента.
– За те сорок тысяч, что я плачу тебе каждый месяц, не говоря уже о премиях и подарках, не кажется ли тебе, что я заслужил хотя бы одну улыбку в начале рабочего дня? Или это должно оплачиваться дополнительно?
Проходит некоторое время, пока моя шутка доходит до нее, и как результат на ее лице появляется вымученная кривая улыбка, вызывающая у меня чувство стыда. Сегодня мне повезло – ведь обычно до нее доходит вообще лишь одна из десяти моих шуток. Когда я открыл свою контору, за два года наевшись досыта возможностью оплачивать счета разъезжавшего на «кадиллаке» (новом) господина адвоката Гордона, не раз и не два я выслушивал советы знающих людей, что я должен на должность секретарши пригласить какую-нибудь старую деву, некогда окончившую в университете два курса, что будет стоить мне много дешевле, говорили они, добавляя, что она будет работать прилежно, будет предана своей работе и не станет каждую неделю отпрашиваться с работы для визита к врачу, которому надо показать занемогшего малыша… но они забыли добавить, что при таком выборе ты обречен созерцать мрачное лицо твоего преданного соратника, вросшего в кресло в полутора метрах от тебя, равно как и разглядывать внушительные счета за электричество, о происхождении которых тебе лучше не думать.
– Была какая-нибудь почта?
– Нет.
Этот ледяной голос вечной обиды. Невозможно, и в самом деле, простить нам то, что мы насильно извлекли их из пещер в горах Атласа и вынудили жить в цивилизованном мире.
– А как насчет звонка из областного суда… они ничего не сообщили, на какой день назначено слушание по делу нашего убийцы?
– Нет.
– Может быть, звонил господин Горен обрадовать нас тем, что он отправил наконец нам чек, который он и не думал посылать?
– Нет.
– А кто-нибудь вообще звонил этим утром в офис, если предположить, что здесь кто-то был?
– Нет.
И я плачу ей чертову уйму денег за то, чтобы весь день слушать от нее эти нескончаемые «нет». Получается примерно по две сотни за каждое «нет».
– Ну хорошо. Прямо сейчас позвони мистеру Горену и сообщи, что я до сих пор не получал от него никакого чека, и что если чек не будет у меня в руках до полудня, я не появлюсь завтра в раввинатском суде и он сможет наслаждаться своим браком еще несколько лет.
Фантастическое решение о разводе, которого я добился для него два месяца тому назад. А в конце люди раздражаются и не понимают, за каким чертом они обращаются к адвокату, в то время как того же результата они могли бы добиться без чьей-либо помощи, умей они владеть своими нервами. Признаю, это могло бы быть и так, обладай они достаточным развитием и образованностью, чтобы понять, что для этого им придется биться о стену головой, а поняв, предпочитают передоверить эту миссию профессиональному адвокату, который объяснит им, что им самим это было бы не под силу. Почему она смотрит на меня так? Готов биться об заклад, что сейчас она спросит у меня, какой у мистера Горена телефон.
– Я не знаю телефона мистера Горена.
– Действительно. Почему ты обязана его помнить? Я называл тебе этот номер не больше тридцати раз. Ужасно жаль. Ты что, не в силах оторваться от обогревателя, потому что тогда ты рискуешь обморозить ноги на пути к телефонной книге? Когда у тебя день рождения?
– Зачем…
– Я хочу знать. Это что, секрет? Или ты предпочитаешь, чтобы я узнавал это у полиции?
– Десятого июня.
– Ты не могла бы передвинуть его немного поближе, чтобы я мог сделать тебе давно намеченный мною подарок: электропростыню, в которую ты могла бы заворачиваться и не так зависеть от этой батареи?!
Взгляд этих черных марокканских глаз выдает ее желание понять, серьезно это или опять одна из тех шуток, которые не однажды уже заставляли ее плакать. Случись это снова, мне придется приплюсовать стоимость носовых платков к счетам за электричество.
– Это всего лишь шутка. Не принимай все всерьез. Мне кажется, что сегодня утром ты чувствуешь себя не очень. Что-нибудь не так дома?
– Нет.
Боюсь, что отец поколачивает ее. Такие примитивные натуры доходят до безумия перед каждым еврейским праздником, или кто-то из ее близких снова попал за решетку; однажды мне уже довелось спасать от правосудия ее буйного братца, после того как он учинил побоище на рынке, что и послужило началом моего знакомства с этой семейкой зеленщиков. Мои усилия они оценили в огромную корзину баклажанов, которой нам хватило на целый месяц, так что теперь при виде баклажана я перехожу на другую сторону улицы. Это они хорошо придумали – посадить свою дочь в контору адвоката, ибо если ты намерен регулярно вступать в стычки с законом, ты должен запастись надежным и легальным прикрытием.
Она поднимается и шествует к пирамиде телефонных справочников, которые громоздятся на столе, берет один и начинает переворачивать страницы с той же бережной осторожностью, с какой верующий перелистывает Священное Писание. Интересно, как долго это продлится.
– Я не хочу все утро проторчать в этом офисе. Я ведь говорил тебе вчера, что мне сегодня будет необходимо уйти?
– Да.
«Да?» Она действительно произнесла «да»? Тогда еще не все потеряно, тогда еще впереди может забрезжить надежда.
– Может быть, ты успела к тому же напечатать соглашение, которое я вручил тебе позавчера?
– Да. Оно лежит на вашем столе.
Невероятно. Опять это «да». Если она возведет это «да» в привычку, ее шансы найти себе мужа сильно возрастут. А кроме того, соглашение, о котором я говорил, на самом деле лежит у меня на столе, и было бы нечестно не отметить, что все копии, выполненные ею, – безукоризненно чисты и без малейших опечаток или помарок, ибо таков стиль ее работы – она делает все медленно, но надежно.
– Догадываешься ли ты, о ком идет речь в договоре?
– Нет.
– Это хорошо.
В ее огромных глазах – удивленное восхищение, но и недоверие, как у свидетеля, который не в состоянии решить, к кому относится шутка прокурора и может ли он пошутить в ответ.
– Если ты собираешься найти телефон Горена в телефонном справочнике Хайфы в то время, как он живет в Тель-Авиве, боюсь, мне придется задержаться здесь до полудня…
Она вздрагивает и роняет телефонный справочник на пол, но я молча рассматриваю носки своих ботинок. Ведь телефонные справочники, в конце концов, изготовлены не из стекла, и стоимость их, конечно же, учтена телефонной компанией в бюджете.
Я быстро читаю соглашение о разводе, составленное мною. Крепко сшито, ладно скроено, все честь по чести. В ближайшие годы я смогу, пожалуй, выпустить в свет наставления для собирающихся разводиться и получить по этой дисциплине кафедру в хорошем университете. Любой человек в этой стране, приходящийся кому-нибудь дядей, жаждет написать какую-нибудь книгу с тем, чтобы его племянник смог прославить этот труд в газете, – так почему бы не быть облагодетельствованным моим высочайшего класса трудом, который я сейчас завершаю? Но главное, чего я жду от сегодняшнего дня, это то, что старая леди без звука подпишет этот документ, не создавая новых проблем. Когда я остался наедине с ним в гостиной прошлым вечером, я попросил его быть предельно вежливым, не раздражаться попусту и не открывать военных действий из-за каждой агоры и даже лиры – не забудь, что ты сам живешь в стране долларов, сказал я ему, и сам Машиах[4], вздумай он явиться, не в силах был бы приравнять по стоимости лиру к доллару, и то еще учти, сколько людей на свете, переваливших за шестьдесят, отдали бы все на свете, чтобы получить развод на таких вот условиях и поменять старую развалюху на новенький «ягуар». Он сидел, ошеломленный, в тени выключенного торшера и смотрел на меня с яростью, бешено сверкая очками, затем вскочил, дрожа от гнева, кровь бросилась ему в лицо, и я был готов к тому, что он пустит в ход руки. Что ж, может быть, с его точки зрения, я и на самом деле сукин сын, у которого огромная пасть и грязный язык, мой бедный, увы, давно покойный отец был прав, упрекая меня за то, что слова вылетают у меня изо рта раньше, чем голова успевает понять, что это означает, но при этом сам-то он понимал, что таков мой стиль и что я первый готов рассмеяться над удачной шуткой, направленной против меня. Я всего лишь усвоил собственные его уроки, а он был верен им до последнего дня своей жизни, когда, лежа в больнице, за два часа до того, как его сердце остановилось, из последних сил расхохотался моей остроте, – чувство юмора он не терял никогда.
Не то что другие. Однажды был случай в суде, когда, сострив особенно удачно, я замер, ожидая в виде реакции дружелюбного и одобрительного смеха. Но наступила мертвая тишина, единственным звуком в которой был скрип пера одного из судей, восседавших на помосте. И тут я понял, что меня вполне могут вышвырнуть из этих стен. Тогда я отделался выговором, и это мне еще неслыханно повезло. И я сказал себе: научись держать язык за зубами. Ничего не поделаешь. Таков мир, в котором мы живем. Быть осторожней. Беда моя в том, что иногда я говорю совсем не то, что я думаю на самом деле. Потом сам об этом жалею. Этот раз был именно таким, я заставил себя уважать ее, более того, она мне даже чем-то нравилась, хотя в самые первые годы она не совсем отвечала моим представлениям о человеческом существе, даже просто о человеке, если использовать при этом определение, которое дается энциклопедией.
Что я мог сказать ему? Что мне очень жаль? Чего доброго, он мог бы подумать, что я действительно хотел сказать что-нибудь обидное. Он мог бы в свою очередь оскорбить меня, и я был готов к этому, поскольку любой, кто любит посмеяться над другими, должен быть готов к тому же в отношении себя, и я был готов услышать от него, например, что я всего лишь толстый и неуклюжий адвокатишка, с трудом способный набросать на бумаге пару строк. Скажи он мне в лицо это – или что-нибудь еще более обидное, но остроумное, колкое и оскорбительное, – клянусь, я первый зааплодировал бы ему. Но он не произнес ни слова. Не издав ни звука, словно онемев, он кружил и кружил по комнате, и в эту минуту я ненавидел и его, и всех ему подобных людей с повышенной чувствительностью и тонкой кожей.
– Не хочешь ли попробовать глоток отличного французского коньяка? «Hennessy» extra special, very old. E. S. V. O.?
Яростным жестом он отверг мое предложение, словно отогнал надоевшую муху, и вышел из комнаты. Бог с ним, пусть ему будет хорошо. Позднее, когда я переодевался в спальне, Яэль начала расспрашивать меня, что именно я сказал ее отцу. Что ты сказал ему, как заведенная повторяла и повторяла она. Как это прозвучало? Что это было? Я только сказал ему, чтобы он был немного более великодушным. И это все? Да, и это все. Для подобных ему чувствительных душ этого явно больше чем достаточно. И давай-ка в постель. Ты не задумывалась, сколько уже ночей подряд ты не исполняешь законы Торы, уклоняясь от супружеских обязанностей? Обратись я по этому поводу в раввинатский суд, мгновенно получил бы официальное разрешение взять себе любовницу… Я мог бы и дальше развивать эту тему, но она, бросив на меня хмурый взгляд, вышла из комнаты на середине фразы. Ее семья разваливалась, и на ее глазах готов был пасть последний бастион.
Пора было двигаться или следовало дождаться каких-либо сообщений?
Левана, вернувшись, сообщила мне: Горен настаивает, что отправил на мое имя чек четыре дня тому назад. От мысли, что чек на сотню тысяч, посланный на мое имя, будет теперь неизвестно сколько переходить из рук в руки почтовых идиотов, я чувствовал, что вот-вот просто рехнусь. Только позавчера я спросил его, послал ли он чек заказным письмом, с распиской. И оказалось, что подобная мысль даже не пришла ему в голову. Когда он десять лет тому назад стоял под хупой со своей избранницей, ему, похоже, тогда не приходило в голову, что настанет час, когда ему захочется дать ей коленом под зад, и как можно быстрее. Ну так что – мне пора в путь или все-таки дождаться почты?
Какая вокруг тишина! Что происходит? Я что, сегодня никому не нужен? Никто никого не прикончил этой ночью? Никто не был обворован, ничего не взломано, никто не запустил лапу в казну? Мошенники – исчезли? Никто не хочет продать квартиру или арендовать что-нибудь? Есть немало читателей газет, уверенных, что половина Израиля занимается лишь тем, что обеспечивает нам, адвокатам, средства для безбедного существования.
Им стоило бы прийти сюда и посмотреть, какая тишина стоит сейчас в адвокатских конторах. Да, многие из нас похожи на волков, но сейчас, в отсутствие добычи, мы все сидим и щелкаем зубами. В том числе и я… А раз так, то я отправляюсь проведать своего подопечного убийцу. А оттуда – в психушку. Очаровательный маршрут, правда?
Все хорошо, Левана, я уже ушел. Если чек все-таки появится, положи его на депозит в банк прежде, чем он будет аннулирован. И когда ты согреешься, намочи тряпку и сотри грязь с нашей вывески – там, внизу; неряшливый вид не делает нам чести. Во всем мире люди склонны считать адвокатов живодерами.
Внезапный звонок телефона. Готов поклясться, что это дело семейное, а потому я даю знак Леване, чтобы именно она взяла трубку. Кроме всего прочего, она должна побольше двигаться, чтобы мышцы у нее совсем не атрофировались. Часть ее зарплаты идет именно на это. Что ж до меня, то я тоже тренирую свою волю, желая отучить себя от былой привычки самому отвечать на каждый звонок, – согласитесь, что люди с большим уважением относятся к тому, в чьем распоряжении есть секретарша.
Я не ошибся. Звонил Цви из Тель-Авива. Возбужденный. Несколько минут тому назад он разговаривал с Яэлью, которая сказала ему, что я отправился по делам совсем один, и он полагает (и действительно, почему бы ему не полагать тоже), что, вне всякого сомнения, кто-то из родных должен сегодня меня сопровождать, а поскольку я отказался от помощи Яэли, то эту миссию он возлагает на себя и вот-вот явится к конторе, отложив абсолютно все (интересно, что он мог бы при необходимости отложить?) – да, он откладывает все и спешит мне на помощь, поскольку дело предстоит деликатное и завершить его нужно тонко, ибо речь не идет о формальном акте, тем более что специально приглашен доктор, который поможет в случае эмоционального всплеска, способного возникнуть в момент, когда она услышит, что он находится в Израиле, – и нет сомнения, что это болезненно ранит ее…
Я слушал его, не прерывая. Он звонил из Тель-Авива, и счет за разговор придется оплачивать ему самому; неплохо было бы понять, из-за чего весь этот переполох. Он говорил и говорил. Он мог говорить все что угодно. Я слушал. Говорить он имел право. В этой семье царило убеждение, что в детстве у него были проблемы с развитием и что он был очень привязан к матери, – утверждение, которому за много лет нашего знакомства я не нашел доказательств. Но как теория… На практике же с тех пор, как несколько лет тому назад она оказалась в сумасшедшем доме, они с братом исполняли пятую заповедь исключительно по телефону, а его брат тоже всегда мог присоединиться, если хотел. Голос крови… Во мне он молчал. Я был чужой, и я благодарил Всевышнего, что в моих жилах не было ни одной капли ее крови, – может быть, именно поэтому я навещал ее чаще, чем оба ее сына. Вместе взятые. И вот теперь они полны решимости вмешаться в мои дела.
– Ты слышал, что я сказал, Кедми?
– Не дергайся. Либо я сам пойду и увижусь с ней, или я выхожу из игры. Можете найти себе другого адвоката. Это обойдется вам тысяч в пятьдесят только за то, что вы обратились к нему. Плюс налоги. Вы до сих пор, я вижу, не поняли, как неслыханно вам повезло, что я со своим бизнесом оказался членом вашей семьи. Если бы меня не существовало, вам пришлось бы выдумать меня. Вы очень заблуждаетесь, полагая, что я всего-навсего большой придурок с хорошо подвешенным языком. У вас нет исключительных прав ни на боль, ни на хорошее воспитание.
Я бросаю взгляд на свою секретаршу, она сидит, замерев, голова опущена, играет карандашом, но не пропускает ни единого слова, а я кричу в трубку, у меня тоже есть мать, ей тоже много лет, и я знаю, что это такое. И в вашем случае я знаю, что надо делать. Я разговаривал с нею много раз. Проделал чертову уйму работы. Я подготовил ее. Она намного сильнее, чем вы думаете, и с головой у нее все в порядке. У нас нормальные, дружеские отношения без всяких там сантиментов. И даже ее пес лизнул меня на прощание… Откуда ты говоришь, из дома? Тогда послушай… сейчас самое время объяснить тебе мой план…
В конце концов мне удалось от него отвязаться. На часах уже ровно десять, я иду или нет? Может быть, чек вот-вот прибудет и я буду чувствовать себя много лучше, если собственноручно внесу его на депозит.
Я звоню Яэли.
Да, Цви звонил мне. Нет, он со мной не пойдет. Да, я упрямый. Упертый? Да. Если кому-нибудь суждено быть упрямцем, пусть, черт возьми, это буду я. Твой отец все еще спит? Похоже, долгий путь до Израиля стоил того, чтобы постичь тонкое искусство беспробудного сна. Что я ему сказал? Я уже говорил тебе, ничего существенного. Теперь ты скажи мне, что он сказал, что я ему сказал? Да, я хочу это услышать. Если не знаешь – помолчи и не дергай меня, с меня уже достаточно. Потому что я намерен встретиться с ней. Чтобы получить ее подпись… Ты увидишь, все будет хорошо. Хорошо… Хорошо… Хорошо… Хорошо… Я скажу только то, что совершенно необходимо. Десять процентов от моей средней работы.
Я знаю – сейчас она улыбается в трубку улыбкой нежной и мудрой, из-за которой я и женился на ней, но предназначена она мне, и вовсе не Леване, которая вся – внимание, слушает наш разговор, не пропуская ни единого слова, и только ухмыляется неизвестно чему, опустив к столу свою африканскую кудрявую голову. Готов снять перед ней шляпу – никогда бы не подумал, что она так хорошо выучила иврит. А теперь прихожу к выводу, что если я хочу поддержать в ней боевой дух, то должен каждый час, а точнее, час за часом выдавать по шутке.
«Одну минутку, Яэль», – говорю я и прикрываю трубку рукой. «Раз уж пока еще я в конторе… тебе хочется чем-то заняться… та мокрая ветошь, о которой мы с тобой говорили… Помнишь? Неплохо бы протереть нашу вывеску – там, внизу… Пока я не ушел…»
Усилием воли она заставляет себя встать. И выходит, взяв мокрую тряпку. А я, пользуясь случаем, возвращаюсь к Яэли и успеваю сказать ей, что я ее люблю и чтобы она не забыла между прочим забронировать своему отцу место в автобусе, который завтра отвезет его в Иерусалим.
Ну а теперь я должен решить – уйти мне наконец или подождать еще немного. Мне хочется подождать… Но чего? Что-то не верится, что сегодня я могу дождаться почты. Я сажусь и открываю запертый на ключ ящик стола, откуда извлекаю папку с делом убийцы, и начинаю проглядывать бумаги. Я знаю в этом деле все до мельчайшей детали и все-таки вновь завожусь. И начинаю волноваться. Что не удивительно – здесь заключен мой шанс, здесь моя надежда, это мой счастливый билет на выигрыш. Все остальное – чепуха, мусор. Три месяца тому назад, когда умер Штейнер, оставшиеся после него дела поделили остальные адвокаты. На мою долю выпал процесс телевизионного техника, обвинявшегося в убийстве, которое, как мне показалось, он и на самом деле совершил, хотя сам он решительно все отрицает, и с этих пор я ни о чем другом думать не могу. Я думал о нем ночью, просыпаясь и засыпая вновь, я думал о нем все время, десятки и десятки часов, мысли о нем сидели во мне, как заноза. У его семьи не было денег, но, к счастью, нашелся богатый дядя, проживавший в Бельгии, и они воззвали к нему, умоляя помочь, потому что если он в чем-то нуждался больше всего, то это была помощь. Он ухитрился оставить отпечатки своих пальцев абсолютно на каждой вещи в квартире, за исключением телевизора, до которого он не догадался дотронуться. Но убил ли он этого старика, или он только наткнулся на его труп? Тут есть от чего свихнуться, собирая все воедино, и я заставлю судей тоже напрячь свои мозги. Именно так.
Я звоню в тюрьму и прошу их подготовить его ко встрече со мной, поскольку намерен ненадолго к нему заскочить.
Ну а теперь пора и в самом деле двигаться. Только где же Левана? Я вышел в темноту коридора, пропахшего погребальной плесенью, несколько отвратительных субъектов оккупировали стулья у двери, ведущей в офис адвоката Мизрахи. В последние годы людям не дает покоя вопрос, в который все время подливает масла в огонь пресса, – существует ли в этой стране организованная преступность. Будь возможность посмотреть на тех, кто получил официальную лицензию представлять закон на практике в наши дни, вопрошающим стало бы ясно – представителями криминалитета является наше правительство.
Ну так куда же она провалилась? Можно подумать, что я ее куда-то прогнал. Все, чего я сейчас хочу, это наконец заняться делом. И я возвращаюсь в контору. Взгляд на телефон, после чего я принимаюсь собирать свои бумаги. Попутно вытираю пальцем слой пыли с томов обвинительных заключений Верховного суда, а заодно уже и со старой карты Израиля на стене, после чего начинаю рыться в ее сумочке, свисающей со спинки стула. Что за сокровища… фотографии кинозвезд, вырезанные из газет, смятые бумажные носовые платки, распространяющие аромат дешевых духов… как все это соответствует убожеству этой комнаты с ее высоким, облупившимся еще со времен британского мандата потолком… я устал от всего, что здесь находится, от всей безнадежности упадка, и об этом я сказал однажды Яэли, дай мне, сказал я, какую-нибудь свежую идею, придумай новое направление, придумай, чем можно оживить эту серость… Но я первый похоронил эту мысль, когда понял, во что это обойдется.
Чтобы стравить немного пара, я решил позвонить своей матери.
– Это ты? Ну, наконец-то. Я уже решила, что ты забыл обо мне. (С того дня, когда прибыл отец Яэли, она не знала ни минуты покоя.) Что у вас случилось (это не было вопросом, это было простой констатацией факта). Я звонила вчера после полудня, тебе что, об этом не сказали? И что это за дела такие, оставить Гадди одного наедине с ребенком… ему самому едва только шесть. (Хотя на самом деле ему семь.) Он говорил так печально. (Для нее это всегда звучало так.) А пожилой джентльмен в это время изволил почивать. (Так она его называла, несмотря на то что он был на год младше ее.) Что с ним стряслось? Он по-настоящему болен или у него что-то на уме? Он даже не догадался привезти для Гадди подарка. Это ж каким надо быть эгоистом. А тебе он что-нибудь привез?
– Нет. Но уж это-то совсем не важно.
– Я знала, что нет. А ты в это время не жалея сил занимаешься его разводом. Эта бедная спятившая старуха и в самом деле готова на это? (Она всегда чуть поднимала градус сумасшествия, говоря о моей теще.) Подумать только… ведь он готов буквально вышвырнуть ее на улицу! (Я держал телефонную трубку на почтительном расстоянии от уха, поглядывая при этом в окно.) Почему ты дал втянуть себя во все это? (Тут мне, по правде говоря, нечем крыть.) И он вовсе не собирается тебе за это платить. Может быть, я не права?
– Ты права. Но с чего это он должен платить?
– Так я и знала. Тогда чего же влезать во все это? Если в итоге случится какое-нибудь несчастье, во всем будешь виноват ты. Нет ли у тебя в конторе чего-нибудь такого, чем ты мог бы заняться с большей пользой? А если что-то пойдет не так, кого он первого возненавидит? Тебя. Они во всех грехах обвинят тебя, потому что ты не из их своры. Ты для них всегда будешь чужим. Так что же ты с таким рвением лезешь на стену и бегаешь, чтобы увидеть ее. Ты ведь говорил, что у тебя на руках важное дело в суде. От которого полностью зависит твоя карьера. И что тебе надо как можно лучше приготовиться к этому суду, добиться, чтобы он освободил этого насильника… Убийцу.
Тем более, это принесет тебе славу, а став знаменитым, ты сможешь открыть большую контору. Вместо того чтобы заниматься мелочами, вроде этих визитов в сумасшедший дом. А чем все это закончится? Вчера я уже собиралась приехать к вам и сказать ему – добро пожаловать, но этот его беспробудный сон… сказать по правде, он меня напугал. А что Яэль? Готова поспорить, что все улыбается этой своей улыбкой. Ты ведь признался однажды, что именно из-за нее и влюбился. Ведь так же это было, Израэль?
– Так.
– Ладно. Ты свободный человек, сам можешь решать, чего ты хочешь. Твой бедный отец сказал однажды об этой ее улыбке… Боюсь, ты не захочешь узнать, что именно. Сказать тебе?
– Если можно, мама, не сейчас.
– Ну хорошо. Значит, я увижу его в пасхальный вечер. Что хочешь, но, по-моему, это довольно странно – добиваться свидетельства о разводе в таком возрасте, тебе не кажется? Зачем ему это нужно? Ведь, как ни посмотри, он живет от нее отдельно. Разве что – а я думаю, так оно и есть – он задумал снова жениться в этой своей Америке. Многие не в состоянии даже представить, на что секс толкает стариков. Твой собственный отец, когда он уже лежал на больничной койке… рассказывать тебе?
– Не сейчас, мама. Я ужасно спешу. Как-нибудь в другой раз…
Бесшумно вошедшая Левана бросила грязную тряпку в раковину и принялась отмывать руки.
– Ты не заглянешь ко мне сегодня? Я испекла пирожки с мясом… как раз такие, какие ты любишь.
– Боюсь, что не смогу. Сегодня не день, а черт знает что…
– А кроме того, я приготовила такой пирог… это что-то…
– Пирог… ты сказала – пирог? Что за пирог?
– Не угадаешь. Яблочный.
– Штрудель? Ну… я посмотрю. Постараюсь. Спасибо… береги себя…
А эта… все моет руки.
– Ты уже освободилась? – спрашиваю я как настоящий джентльмен. – Похоже, что я плохо тебе объяснил, чего я хочу. Всего лишь того, чтобы ты протерла табличку на двери, а не мыла всю улицу.
Она покраснела и метнула на меня взгляд рассвирепевшей пантеры.
– Может быть, ты хочешь что-нибудь мне сказать?
Но она молчит.
– Что?
И снова я не удостоен ответа, голова опущена, руки мнут бумаги, она вся дрожит. Еще минута, и она убьет меня, но этой минуты у нее нет, я уже снаружи. Я тоже дрожу – нервы уже не те… Все словно сговорились – сначала Яэль, потом мама, а теперь еще вот эта. Маленькая чернушка. Если они все задались целью вывести человека из себя – они преуспели. Да, а теперь представьте себе еще, что все эти темные раскроют свой рот и начнут поучать нас на свой манер… мало того, что они на девяносто процентов обеспечивают работой судебную систему… они не прочь научить нас этикету. Настроение у меня сейчас хуже некуда. Я вдруг понимаю, что все во мне дрожит. Мой отец ушел из этого мира и оставил мне в наследство злобную женщину, всюду сующую свой нос, и теперь я прикован к ней навсегда. Ибо я – единственный сын. Так сказать, баловень семьи. Любимая мишень для всех и каждого. Потому что они, видите ли, считали, что ночь создана исключительно для сна, и у них не хватило времени и воображения, чтобы организовать мне брата. А этой чернушке я еще покажу. Когда подвернется подходящий случай, я переверну вверх ногами этот нагреватель и спалю ее. Настроение просто ни к черту. Небо снова затянули тучи, на улице каждый идиот, сидящий за рулем, считает своим долгом нажать на гудок, очевидно, что машины опять застряли в пробке, похоже, что мир окончательно спятил, и единственное место, где я могу перевести дыхание и оказаться в тишине, это тюрьма. Обитель спокойствия, порядка и мира.
Следует поблагодарить Всевышнего: в конце концов, Хайфа – небольшой и приятный городок и никто не ухитрился включить его в план масштабных преобразований, иначе говоря разрушить его. Сосновые рощи играют роль фильтра, очищая воздух от промышленных выбросов. Я не спеша поднимаюсь по склону горы Кармель, чтобы с высоты увидеть разом и лес и море далеко внизу, в то время как воздух, пропитавшийся ароматом хвои и моря, зеленым своим ароматом промывает мне взор. Зелень води и синева моря – это именно то, что мне сейчас нужно.
Почти успокоившись, я подъезжаю к тюремным воротам. Здесь меня уже все знают – настолько, что даже не спрашивают пропуск. За несколько последних месяцев я пробыл здесь едва ли не больше, чем любой заключенный, отбывающий срок, и если до этого когда-либо дойдет на самом деле, у меня будут все основания просить судью вычесть эти дни из приговора.
Внутри – полный бардак. Каждая вторая дверь открыта, тюремщики для проформы строго позвякивают ключами и очень удивляются тому, что заключенные сбегают, хотя сказать, что они «сбегают», значит не сказать ничего: для того, чтобы очутиться на свободе, достаточно просто открыть дверь камеры и выйти вон.
Старый тюремщик-друз проводит меня до маленькой полутемной комнатки для свиданий. Для тюрьмы существование друзов и черкесов – большая удача, ибо только они в состоянии поддерживать здесь хоть какое-то подобие порядка. Мой подзащитный, обвиняемый в убийстве, ожидает меня, сидя за голым деревянным столом, – невысокий, мрачный молодой человек, худой и жилистый – на его мышцы я обратил внимание еще при первом знакомстве, заметив, с какой легкостью он разомкнул свои наручники. Я пожал ему руку. Бог свидетель, что я пытался вести себя с ним совершенно дружелюбно, но взаимного доверия от него не дождался, ибо он принадлежал к породе недоброжелательных и недоверчивых людей, пребывающих в мире собственных фантастических иллюзий, а кроме того, при аресте у него нашли в тайнике запас марихуаны.
– Ну, как дела?
Он ответил мне подозрительным взглядом своих крысиных глаз.
– Все в порядке?
Он кивнул. Или мне это показалось?
Я ставлю мой атташе-кейс на стол, сажусь напротив и начинаю в который раз просматривать содержимое папки, каждую букву в которой я знаю, кажется, наизусть. Сорок тысяч лир, которые я за все это время получил от его семьи, едва покрывали прошлые расходы на бумагу и чернила.
– Слышно ли что-нибудь новенькое от этого… от твоего дяди, который торгует бриллиантами в Бельгии?
– Он вот-вот должен появиться.
– Он должен был «вот-вот» появиться еще три месяца тому назад. Очевидно, он решил прогуляться до Хайфы из Бельгии пешком…
Он снова бросил на меня мрачный взгляд, но теперь в нем была еще угроза, и я вдруг осознал, что должен быть со своими шутками поосторожней. Здесь.
И я начал задавать ему вопросы по делу, особенно по части свидетельских показаний, относящихся к самому важному дню в его жизни, дне, в котором я сам прожил каждую минуту и знал лучше, чем любой из прожитых мною собственных дней. Это была та тайная стратегия по его защите, призванная спасти его и заключавшаяся в том, что часы, минуты и секунды того дня я рассмотрел под микроскопом; уверен, что для обвинения в подобном методе будет кое-что новое, и не уверен, что приятное. Расщепив и исследовав минуту за минутой и секунду за секундой, я нашел доказательства, что он не мог сделать то, в чем его обвиняли. Этот процесс, я уверен, в будущем войдет во все учебники по криминологии и много лет еще будет вызывать восхищение и благоговейный трепет. «Этого парня… ну того, который додумался до „принципа миллисекунд“ звали Кедми»…
Я спрашивал его снова и снова, и он отвечал мне коротко и по делу. Он был здесь одиноким волком, и я сомневаюсь, что за весь день он перебросился словом хоть с кем-то. Но глуп он не был. Я уже наперед знал все его ответы, но спрашивал снова и снова, желая отполировать их именно здесь и сейчас. Я хотел представить себе наихудшую ситуацию, которая может возникнуть во время суда, ведь на него будут смотреть там с подозрением. Пусть же он осознает это и не будет заикаться, отвечая. Точность и ясность снова и снова. Но какова же истина? Мне казалось, что я что-то нащупал. Но время от времени мрак отчаяния накрывал меня. Истина была спрятана у него в черепе, она была подобна скользкому серому червю, и оставалось только надеяться, что прокурору ее тоже не разглядеть.
Старый тюремщик вошел в комнату с запиской в руке.
– Адвокат Израэль Дегми? Ваша секретарша хочет, чтобы вы позвонили своей жене.
– Спасибо. А кроме того, меня зовут Кедми.
– Вы лучше заканчивайте с ним поскорее, не то он останется без обеда.
Похоже, здесь все любят командовать.
– Я слышал. А теперь, если вы не против, я хотел бы еще побыть с ним наедине.
Мой убийца смотрел на меня с подозрением. А я продолжил расспросы. Он начал терять выдержку, и я понял причину – он боялся, что ему ничего не останется, запах еды уже плыл по воздуху, наполняя коридор позвякиванием мисок, но я был безжалостен – ведь если во время процесса он захочет есть и надерзит прокурору, он будет обеспечен тюремной баландой до конца своих дней.
В итоге я заканчиваю. Я тоже голоден. Мы стоим друг против друга, лицом к лицу. Сделал он это или нет? Бог весть. Но если я собираюсь вытащить его отсюда, мне нужно быть жестким.
– Тебе что-нибудь нужно? Какие-нибудь желания у тебя есть?
Он ненадолго задумывается, а потом говорит, что хотел бы получить разрешение провести пасхальный ужин дома, с родителями, потому что так было всегда, а без него им будет так одиноко…
Это он хватил. За всей его жестокостью я без труда определяю, насколько он невинен, рассчитывая на удачу своей выдумки. Вообще-то подобные вещи бывают, но не в его случае. Он всего-то в тюрьме каких-то три месяца и вот уже хлопочет об отпуске.
– Забудь об этом, говорю. Может, мне удастся устроить так, чтобы твоим родителям разрешили провести пасхальный вечер с тобой здесь. В тюрьме для них будет незабываемо услышать, как хор насильников будет распевать псалмы.
И я сам вполголоса стал напевать себе под нос.
Я увидел, как сжались его кулаки. Так сделал он это или нет? В любом случае моя обязанность организовать его защиту самым лучшим образом.
– Вы мне не верите, – безнадежно шепчет он, и глаза его полны слез.
А ведь он артист. И все это – спектакль.
– Не говори ерунды. Конечно, я тебе верю. Вот увидишь, все будет хорошо. А теперь отправляйся и поешь…
Я торопливо прохожу мимо шеренги заключенных. Все в одинаковых серых робах, убийцы, воры и террористы, у каждого в руках миска и ложка. Время от времени мне доводилось пробовать то, чем их кормят, и я знаю, что это такое.
В пустой комнате я нахожу телефон. Контора мне отвечает. Моя мать в данном случае права, мне надо держаться от них подальше. Звоню Яэли. Ее отец уже встал. Он против того, чтобы я шел к ней один. Он считает, что это безнравственно – посылать меня одного, когда он здесь. Он должен сам говорить с ней или, в крайнем случае, в моем присутствии.
Ну вот так. Отлично. Это финал. Я никуда не иду. Сворачиваю ко всем чертям это дело. Делайте все, что хотите. Теперь все будет нравственно. Кстати, а вообще-то вы знаете, что такое нравственность? Знаете? Это как гвоздь в чьем-то башмаке. В моем, кстати. Надо порвать все их бумаги и возвращаться в контору, там у меня достаточно своих дел. Я взбешен и хочу есть. Будь у меня под рукой собачьи консервы, я съел бы и их и начал лаять.
Я знал, каким образом я мог добиться от нее всего, чего хотел. Требовалось только закатить истерику. И я начал орать. Это тот язык, который они понимают. Истерика и вопль. Когда Аси был малышом, он бросался на пол и истошно кричал, молотил руками и ногами. До тех пор, пока все семейство на коленях не умоляло его о пощаде.
Я их знал. «Все хорошо, все хорошо. Не горячись… ты прав»… Она готова поговорить со своим отцом. Не исключено, что завтра она отправится туда сама. Это даже лучше. Если ты появишься там один… мы же знаем, какой ты заботливый…
Они знают.
На выходе из тюрьмы дежурный потребовал, чтобы я предъявил ему разрешение на выход. Покинуть это заведение труднее, чем попасть в него. Я потратил пятнадцать минут на то, чтобы разыскать клерка, владевшего необходимым штемпелем. Но тут же был перехвачен начальником тюрьмы, старым пронырливым педерастом, усвоившим иронический тон при разговорах с адвокатами. «Эй, парень! Что происходит? Почему мы не получаем здесь от вас никакой помощи? Вам, похоже, неинтересны наши проблемы. Кажется, что вы проглотили свои золотые языки, а, парень? Давай-ка пошли со мной. Я покажу тебе художества одного грабителя, который, надеюсь, обосновался здесь надолго. Я говорю тебе – это гений. Этот засранец изумителен, сам увидишь».
Отвертеться от него было нелегко.
А потом нужно было спуститься по склону горы к морю, миновав лес и вырулив на побережье неподалеку от нефтеперегонного завода. Моя машина – моя единственная помощница, моя любовь, моя надежная подруга и настоящее произведение искусства – пронесла меня в считанные минуты над землей, словно у нее были волшебные крылья. Мне нипочем были крутые повороты, серпантинами изрезавшие полгоры, наплевать мне было на вагонетки с гравием у меня над головой, что неслись по эстакаде до самого Акко, откуда рукой подать было до меловых утесов на границе с Ливаном, – прекрасная панорама, разворачивавшаяся передо мною. Это была Галилея, и она летела мне навстречу, наполняя легкие свежим весенним воздухом до того самого момента, когда колеса автомобиля пронесли меня мимо зубчатых стен бывшей рыцарской цитадели, где в случае остановки я мог бы получить бесплатный обед у моей матери, если бы хоть на минуту мог забыть о другой женщине.
Не Яэли…
Скажу положа руку на сердце – я не только никогда не изменял Яэли, но даже не помышлял об этом, но… в разных местах знал нескольких женщин, готовых разделить, скажем так, мои проблемы. Они работали в ресторанах, в кафе, они трудились в офисах, юридических конторах и судебных учреждениях, среди них были и мои коллеги… Время от времени встречаясь с ними, мы обмениваемся парой слов… ничего не значащими намеками, в которых при желании можно расслышать обещание… все это туманно, и почему-то всегда волнует женщин не меньше, чем просто притязание… я думаю, что эта атмосфера готовности любовной интриги дает пищу воображению и делает нас соучастниками какой-то игры… мечты о любви… самой любви. Ресторан с прозрачными толстого стекла стенами расположен на оживленной магистрали рядом с заправочной станцией, за ним, через дорогу, – завод керамики, а дальше море. Некогда здесь было место, где я дожидался Яэли в те первые годы, когда она приезжала повидаться со своей матерью, предпочитая, чтобы я при этом не присутствовал. Именно тогда я заприметил ладненькую официанточку и запомнил ее странно меня взволновавшую походку – медленную и вызывающую. Здесь ли она сейчас? У хозяина ресторана я делаю заказ, а пока что начинаю звонить в контору.
– Ваша жена дозвонилась до вас?
– Я говорил с ней, да. Есть ли какие-нибудь новости? Ты все еще, наверное, сидишь возле обогревателя? Что? Пришел чек? Повтори, я не верю собственным ушам. Сколько? Сто тысяч? Отлично. Отнеси его в банк. Что? Сначала я должен расписаться на обратной стороне? Тут ты права. Тогда спрячь его в ящик стола и запри на ключ. Скоро я вернусь и заберу его… Что? Когда это будет? А с чего это вдруг ты спрашиваешь?
Это выяснилось тут же. Явно стесняясь, она спросила, не позволю ли я ей уйти сегодня пораньше… Пасха совсем скоро, и ей хотелось бы помочь по дому.
Я великодушно разрешил. Думая при этом, сколько я сэкономлю на электричестве. А потом еще раз детально объяснил, куда именно положить чек и как закрыть ящик. После чего все внимание обращаю на тонкие лодыжки, приближающиеся ко мне. Да еще на красоту широко открытых глаз, взгляд их устремлен на меня, я чувствую, что она вспомнила обо мне, и хотя это мне льстит, я все-таки предпочел бы не видеть, как поднос с моим ужином выпадет из ее рук.
Наконец-то я смогу хоть что-то поесть. С утра рот был заполнен лишь болтовней. В ресторане я – единственный посетитель, а потому без зазрения совести начинаю ее гонять – за солью, за перцем, за чистой вилкой, и все для того, чтобы лишний раз насладиться ее животной грациозностью и тем, как она заливается краской смущения, возвращаясь. Неужели она испытывает возбуждение – я не говорю уже о желании, – разглядывая мою морду, или она принимает меня за крупную шишку? Эта мысль меня забавляет. Каждый день ты страдаешь от собственных вожделений, никогда не думая о тех, кого они заставляют страдать. В конце концов она садится рядом, целомудренно скрестив ноги. Мы одни – если не считать музыки, доносящейся из приемника, я режу мясо, но не свожу глаз с ее белых рук, я пожираю их взглядом, я съел бы ее всю, выпил бы и высосал до последней капли, в ту минуту, когда я жую хлеб и запиваю его водой, я ощущаю всю ее и понимаю, что она уже сдалась и я могу сделать с ней все, что хочу. Я хочу кофе, и она идет за кофе. Потом я хочу газету, и она приносит мне газеты, а потом она застенчиво теребит свой передник и спрашивает, можно ли прибрать за столом. Прибирая, она наклоняется так, что мне полностью видны ее груди, на которые, увы, у меня нет сейчас времени.
Киссинджер обедает тоже, он обедает перед очередной деликатной миссией. В его визите на Ближний Восток его окружает стая остающихся невидимыми репортеров. В ресторане было бы совсем тихо, когда бы шум проносящихся по скоростному шоссе машин не заставлял вибрировать стеклянные стены. Что человеку нужно для счастья… море, весна и эта вот чашка ароматного кофе… На какое-то краткое мгновение я вырубился. Сто тысяч ожидали меня в ящике стола, мой маленький убийца будет твердо держаться в суде, следуя моим указаниям, опирающимся на гениальную стратегию, даже на расстоянии убедившую его бельгийского дядю. Мое настроение резко пошло вверх. Я потребовал сигару и еще кофе. Почему бы и нет? Я заслужил их. Мои глаза увлажнились. Поднявшись, я потрепал ее по плечу. Я почувствовал нарастающий прилив щедрости. Все было хорошо. Пригласив владельца ресторана, я потребовал счет. Я оплатил его, добавив сверхщедрые чаевые, и уловил ее молчаливую благодарность.
На часах – десять минут четвертого. Легкий ласкающий бриз. Обычно в это время я звоню домой, чтобы убедиться, что Гадди уже вернулся из школы цел и невредим, но сегодня с меня хватило всех этих назидательных штучек – я обречен на них, но не сейчас, когда ветерок с моря ласково обвевает меня. Медленно я бреду к своей машине. Торговец клубникой установил свой лоток неподалеку, и я купил у него для старой женщины целый пакет, чтобы доставить ей хоть какую-нибудь радость – боюсь, единственную, которую ей придется сегодня от меня принять. Проверил, не спустили ли шины, не торопясь, плавно подкачал их, сел за руль, думая о детях, оставшихся дома, и чувствуя, как всего меня переполняет любовь к этой маленькой и нелепой стране. И трогаюсь с места.
Неспешное движение вдоль побережья выводит меня на дорогу, ведущую к больнице. Она петляет мимо коттеджей, окруженных просторными газонами. Тонкая линия, разделяющая группы строений в стиле бунгало и территорию сумасшедшего дома, чисто условная и заканчивается у ворот, где, как точка в конце строки, маячит нелепая фигура сторожа – бывшего обитателя здешних мест, скорее всего из реабилитированных чудаков. На нем шапка с козырьком, к груди приколота жестяная бляха, в кобуре – пистолет без патронов, что не удивительно: в этой стране каждый третий – либо полисмен, либо охранник, либо секретный агент – и все при оружии. Я торможу, нажимаю на гудок и чуть наклоняю голову, пряча лицо, – может быть, он примет меня за врача и откроет ворота, избавив меня от необходимости прошагать пешком не менее километра, но страж ворот стоит на своем посту бдительно и непоколебимо, не желая поступиться для меня хоть толикой своего величия. «Открой ворота, ты, идиот», – шепчу я. Но все тщетно – не трогаясь с места, он жестом показывает, где расположена стоянка, и у меня мелькает мысль, что если патроны у него все-таки есть, он, при случае, без раздумья один из них потратит на меня.
Не так уж много психушек довелось мне посетить, но если, Яэль, у меня когда-нибудь поедет крыша – найди мне местечко вроде этого, ладно? Абсолютная тишина, едва уловимый шепот прибоя и белые коттеджи в окружении зеленеющих газонов. Здесь тюрьмы возводят среди лесных массивов, а оградой домов для умалишенных служит белая полоса прибоя, набегающая на прибрежный песок. Сумасшедшие заслужили у родины привилегию доживать свои дни в красивейших ландшафтах Израиля – и это, кажется, единственный пункт, с которым согласны все.
Медсестра в белом быстрой походкой движется по тропинке и исчезает вдалеке. Я тоже иду по тропинке, может быть даже той же самой, и внезапно натыкаюсь на великана, одиноко стоящего в зарослях. Я не обижен ростом, но рядом с ним кажусь карликом. В руках у великана – метла из соломы, которую он при моем появлении вскидывает на плечо. Похоже, что он ошеломлен. Я улыбаюсь ему великодушной улыбкой и прибавляю хода, оставляя его стоять с разинутым ртом, из которого бежит на грудь струйка слюны, и мне кажется, что удивление его не было бы большим, окажись перед ним вместо меня автомобиль стоимостью в миллион долларов. Маленькая группка пациентов расположилась на веранде ее домика, я словно в трансе, не перестаю улыбаться. Старик в белом комбинезоне вскакивает со своего стула. Он узнает меня. Несколько месяцев тому назад мы дружески поболтали с ним о сходстве и различии между Бегином и Саддамом.
– Мистер Кедми, мистер Кедми, она в саду на опушке. Она ожидает вас.
Мы дружески пожали друг другу руки.
Но сначала я, как и обещал, должен был повидаться с доктором. Огромная чистая комната была залита светом. Несколько мужчин и женщин порознь сидели и смотрели телевизор, расположившийся посреди комнаты, телевизор тоже сходил с ума – так, по крайней мере, мне показалось. Тут же у меня появился собственный гид – он хватает меня за руку и тащит за собой в маленькую боковую комнату.
Запах медикаментов.
– Спасибо, дальше я справлюсь сам.
Все залито ярким светом, синие отсветы моря заполняют окна. Молодой врач лежит на кушетке, закрыв руками глаза. Он лежит не шевелясь, спит, окруженный сумасшедшими, что не мешает моему добровольному гиду, одному из его пациентов, встать прямо над ним и разбудить его.
– Пришел Кедми, мистер Кедми, доктор, это мистер Кедми… он пришел навестить свою мать.
– Свою тещу, – шепчу я. На то, что доктор спит, мне совершенно наплевать.
Молодой врач убирает руки с лица и улыбается мне. Глядя ему прямо в глаза, я напоминаю ему, кто я.
– Я к миссис Каминке, доктор. Ее зять. И прежде всего хотел бы узнать, как она?
Не переставая улыбаться, доктор спрашивает:
– Ее муж тоже здесь? Он пришел вместе с вами?
– Нет, он придет послезавтра. Но он уже в Израиле, это верно. Впрочем, я вижу, вы уже в курсе…
– Мы знаем все, – тут же объявляет мой гид. – Она рассказывала нянечке… они будут разводиться… – Глаза его сверкают.
– Все верно, Ихзекиель, все так. А теперь оставь нас ненадолго одних.
Но нет такой силы, которая способна была бы сдвинуть его с места. Сейчас он уже хочет узнать содержимое пакета, который я держу в руках.
– Что вы там принесли? Конфеты?
– Позднее, Ихзекиель, позднее…
Но он хочет знать, что в пакете.
– Что там? Что там?
– Там кое-что для собаки.
Лишь после этого яростный блеск его глаз понемногу стихает. Он начинает жевать собственный язык, голос у него меняется, и он начинает шататься, словно какая-то машина работает у него внутри. Туда-сюда, туда-сюда…
– Это для собаки, – бормочет он, – это для собаки…
– Ну, а теперь хватит. Ихзекиель, довольно.
Не вставая с кушетки, доктор пробует успокоить его:
– Почему ты больше не посылаешь писем премьер-министру, Ихзекиель? Почти год, как ты больше не пишешь ему. Иди сюда. Сядь за стол, я дам тебе сколько хочешь отличной почтовой бумаги со штемпелем нашей больницы…
– Ничего, если я поговорю с ней? Она… она… она?..
– В какой она форме? Определенно в неплохой. На прошлой неделе она слегка простыла, но сейчас ей уже лучше. Она ждет вас, ваша жена звонила два часа тому назад. Она сейчас там, за коттеджем. Ихзекиель, подойди ко мне…
Доктор поднялся со своего места и по-медвежьи обнял старика.
Я вышел из комнаты и пошел вниз по тропе, ведущей к опушке. Снова увидел я одинокого великана с его соломенной метлой точно на том же месте, где я оставил его, мне показалось, что он поджидал меня. А потом я увидел и ее среди высоких деревьев – она что-то поливала из шланга. На голове у нее была широкополая шляпа из соломы. Едва я направился к ней, я услышал рычание, доносившееся, как мне показалось, прямо из-под земли. Она повернула голову в мою сторону, и я увидел, как сверкнули ее глаза – словно капельки дождя на ветру. Я продолжал неуверенным шагом приближаться к ней, не зная, привязана ли ее собака, – при моем последнем посещении пес набросился на меня, и я, джентльмены, спрашиваю вас: кто из адвокатов согласился бы работать в подобных условиях?
Я никогда не понимал, что с ней такое, да, по правде сказать, и не пытался. Не уверен, что это знала даже Яэль: в этой семейке умели прятать свои секреты. И по судебным разбирательствам я знал, какую невероятную чушь могли нести все эти знаменитые психиатры, и знания эти никак не повышали моего доверия ни к ним, ни к их экспертизам. В последние годы я с удовольствием отказывался от визитов к ней, как правило, мы с Гадди ожидали где-нибудь неподалеку, пока Яэль отправлялась навестить ее. И похоже, ей и на самом деле стало лучше, если теперь они предпочитали лечить ее водной терапией вместо электрошока. Ясно было, что и самой ей нравилось ходить со шлангом возле больших деревьев, которые турки не успели спилить во время Первой мировой войны, щедро поливая все, на что падал ее взгляд. Она уже вылила на землю больше воды, чем во времена Всемирного потопа, и если бы ее шланг был чуть подлиннее, она стала бы не задумываясь поливать Средиземное море.
Я пробирался к ней сквозь кустарники, держа в одной руке документы о разводе, а в другой – два бумажных пакета, которые почти превратились в один. Если собака набросится на меня, я брошу ей тот, что с клубникой. Требовалось специальное разрешение Министерства здравоохранения, чтобы ему разрешили находиться в больнице. Я обратил на этого пса внимание с первой минуты, когда Яэль привела меня, чтобы познакомить со своими родными. Он был еще щенком, но я сразу заявил, что ему нужен либо персональный психоаналитик, либо пуля в голову, причем первое он может получить только в Америке. Самое смешное, что мое заявление они сочли одной из моих шуток. Узнать, шутка это была или нет, мне предстояло в ближайшие минуты. Лохматый ублюдок, помесь немецкой овчарки с бульдогом и еще черт знает с чем, медленно встает на ноги, грохоча своей цепью, которая, как мне хотелось бы верить, другим своим концом закреплена на чем-то более солидном, чем трава.
– Алло!.. Это я, – с фальшивой бодростью объявляю, останавливаясь и помахивая папкой с документами, после чего продолжаю осторожно продвигаться вперед и вновь замираю, не доходя нескольких футов до пса. Который на меня не глядит, но всем своим видом показывает – он знает, что я тут.
После того как я женился на Яэли, я некоторое время пытался называть свою тещу мамой, но это желание прошло у меня довольно быстро. Вместо этого я иногда ее целовал, от случая к случаю. Мне кажется, что после свадьбы я один был обескуражен.
Она отключает шланг при помощи заглушки и, согнувшись, продирается сквозь заросли, чтобы закрыть кран, после чего направляется ко мне. На ней просторная хлопчатобумажная блуза, которую Яэль купила ей в прошлом году, на ее сильных ногах – крепкие фермерские башмаки, неприбранные светлые волосы окружены странным светом, оттеняющим ее загорелое, в веснушках лицо, придавая ему даже некоторую игривость. В минуту, когда все они в один голос заверили меня, что малышка вылитая копия бабушки, они похитили ее у меня.
Я пожал ее руку:
– Как поживаете?
Она смущенно улыбается, изящно наклонив голову, но не произносит ни слова.
– Яэль прислала этот вот порошок для собаки. Что-то вроде витаминов. Не скажу точно, какие именно. Полагаю, это надо смешивать с едой. А это – немного клубники для вас… купил по дороге… отличные ягоды…
Она кивком благодарит меня, глаза ее блестят, она осторожно берет пакеты, не переставая улыбаться. Будь у меня время, я написал бы книгу о взаимосвязи между улыбкой и сумасшествием. Некоторое время мы стоим так, чувствуя себя неловко, затем, поддерживая друг друга, подходим к стульям, расположенным среди деревьев, и садимся. Она продолжает неопределенно улыбаться, как-то автоматически покачивая головой.
– Итак, он прибыл позавчера, – начинаю я самым благожелательным тоном в манере почти что эпической.
Она слушает безмолвствуя.
– Выглядит он хорошо, конечно, он постарел, но кто не…
Ее глаза сияют.
– Он все еще жалуется на судороги в шее?
Наконец-то она заговорила. Интересно, с какой частотой это будет происходить.
Судороги в шее? Я этого не заметил… О чем это она говорит?
– Судороги?
Но она не отвечает. Она вглядывается вдаль.
– Он все еще не привык к разнице во времени. Ночью он бодрствует, а весь день спит.
Она испытующе смотрит на меня.
– Ему не следует доставлять вам неудобства… там дети…
– Никаких неудобств. С чего бы? Гадди так счастлив его увидеть.
Имя Гадди успокаивает ее. Она закрывает глаза. Собака выбирается из кустов и виляет хвостом. Цепь она тянет за собой. Она обнюхивает землю, потом обнюхивает меня, обнюхивает пакеты, облизывает их, скулит, вертится и, наконец, пролезает между ножками стула.
– Яэль, должно быть, ужасно устает…
– Да нет… разве что немного… все хорошо, так что…
– Давайте ей отдохнуть. Не давите на нее.
– В каком смысле?
Но она не ответила. Что она в действительности думала обо мне? Сначала, когда с ней все было в порядке, я ощущал с ее стороны едва ли не презрительную надменность, а теперь, в последние годы, – мягкую любовь умалишенной. Аси и даже Цви… она исчезла из их жизни, и только Яэль заботилась о ней, а я заботился о Яэли.
Тишина. Кристально чистый весенний воздух. Струйка воды, вытекающая из шланга.
– Здесь так замечательно. Этот ветерок, это море… все, действительно все. А вчера у вас шел дождь?
Она сидит, склонив голову на сторону, положив руки на колени своей чистой рабочей одежды из хлопка, следы золотых прядей в ее волосах, она сидит очень прямо.
– Каждый раз, когда я думаю о вас, я говорю себе самому, как повезло всем нам, что мы нашли такое тихое место. Если когда-нибудь будет нужно… если случится… это как раз такое место, в котором я хотел бы оказаться… я имею в виду…
Опять этот мой длинный язык. Из-за этих последних совершенно ненужных слов мне тут же приходится изворачиваться, давая задний ход. Она внимательно слушает меня, и ее пальцы теребят подол платья, нервно накручивая на палец отпоровшуюся тесьму. Вдали, посередине дорожки, стоит великан с метлой, приговоренный пожизненно занимать этот пост. Его пустое лицо обращено в нашу сторону. Здесь, по крайней мере, никто не перебивает меня, когда я говорю.
Я вручаю ей документы.
– Это… здесь… соглашение. – Внезапно я понимаю, что волнуюсь. – Я составил все это. Соглашение о разводе.
Она внимательно слушает меня, но не делает никаких попыток посмотреть, что я принес. Я заботливо кладу папку ей на колени. Собака начинает скулить, она выбирается из-под скамейки и трется об меня, оставляя клочья рыжей шерсти, из собачьей пасти на меня летит поток слюны, затем пес кладет голову на колени хозяйки, и теперь слюна льется прямо на документы.
Она глядит на меня.
– Пес тоже хочет прочитать их.
Я улыбаюсь не без горечи. Это она так шутит или снова спятила? Скорее всего, и то и это. Сумасшедший имеет право на любые шутки, будь я на ее месте, скорее всего, я шутил бы точно так же, ведь так соблазнительно обладать законным правом говорить что угодно, не неся никакой ответственности за свои слова.
Она раскрывает пакет с клубникой, вытаскивает из него большую спелую ягоду и дает ее псу, который мгновенно проглатывает ее.
– Ты столько здесь написал… я что, должна прочитать все это?
– Боюсь, что все… прежде чем подписать. Таков у нас порядок.
– У нас?
– Я имел в виду адвокатов.
Она держит документ близко у глаз, пытаясь понять, что в нем, но быстро устает и протягивает руку ко мне.
– Может, ты сам прочитаешь его мне? Я не могу ничего разобрать. Я разбила свои очки… я говорила Яэли… Я не смогла прочесть даже книгу, которую она мне принесла…
Я взял документ, аккуратно вытер все следы собачьей слюны и начал медленно читать. Пес, проглотив последнюю ягоду, начал жевать бумажный пакет. Киссинджер сидит в дворцовом саду на берегу Нила, объясняя свой план соглашения о размежевании, в то время как фоторепортеры, сидя в зарослях, нацеливают на участников переговоров свои длиннофокусные объективы. Время от времени я прерываю чтение, чтобы внести необходимые пояснения, объяснить некоторые термины, формулировки и то, как я обошел некоторые сомнительные места и преодолел возможные препятствия. Осталось выяснить, что из этого всего она поняла. За все это время она не произнесла ни слова, крепко сжимая ошейник на собачьей шее. Так или иначе, я закончил.
– А что малышка? – спросила она. – Она больше не будит вас по ночам?
– Малышка? Время от времени.
– Не могу вспомнить ее имя.
– Ракефет.
– Правильно, Ракефет. Запиши мне его, пожалуйста, на чем-нибудь.
Я пишу его на клочке бумаги и даю ей.
Тишина. Неопределенность ситуации убивает меня.
– А почему Яэль не пришла? С ней что-то случилось?
– Ничего с ней не случилось. Она приедет завтра. Или послезавтра. Я сам ее привезу.
Внезапно собака, поднявшись в полный рост, перестала жевать пакет и теперь принялась глотать аромат, исходивший от него. И снова – абсолютная, всеобъемлющая тишина. Самое время для нее, чтобы подписать документы, – подобная тишина, я знаю, самое подходящее время.
– Все, что от тебя требуется, это поставить свою подпись. Вот здесь, в уголке. Или внизу. Если у тебя нет каких-нибудь замечаний.
Внезапно она поднимается, бумаги летят на землю, я вижу, что она в панике.
– Почему Яэль не пришла вместе с тобой? С ней что-то случилось…
Ну вот тебе и на. С добрым утром, демоны пробудились ото сна.
Я быстро собираю бумаги.
– Клянусь тебе, ничего не случилось, прошлой ночью она почти не спала. Она очень устала. А сейчас если ты подпишешь здесь… у нас совсем нет времени… мы ждем раввина в конце недели. Он вернулся из Америки специально… в письме ты согласилась… ты обещала…
У меня уже заплетается язык. Псина чувствует мое возбуждение, настораживает уши и начинает громко рычать. Голем на дорожке движется по направлению к нам, его метла нацелена в небо.
Как я могу уехать без ее подписи? Моя мать была совершенно права – зачем я позволил им затащить меня в их дела? Никто никогда не учил меня на юридическом факультете, как вести официальные переговоры с сумасшедшими… когда-нибудь и кто-нибудь должен написать об этом книгу. Одного кандидата я уже знаю. Это я сам.
И я говорю ей:
– Самое лучшее – это подписать бумаги прямо сейчас. Для этого здесь есть все, что нужно. И еще потому, что это хорошее соглашение – оно гарантирует обеспечение всех твоих потребностей. И даже если когда-либо ты захочешь снова выйти замуж, он обязуется до конца твоих дней выплачивать твое содержание.
И я обнял ее за плечи.
Но она в испуге отпрянула назад, сильно дернув за ошейник собаку, которая, захлебываясь рыком, попыталась броситься на меня. Старая грязная тварь… в свое время я до нее доберусь.
– Может быть, тебе хочется еще немного подумать…
Она кивает и похожа сейчас на маленькую послушную девочку.
– Я оставлю все это здесь тебе, а завтра… или послезавтра Яэль заберет их. Может быть даже, они придут вместе.
– И Яэль придет?
– Конечно.
Ее улыбка ослепительна.
Я предусмотрительно не дотрагиваюсь до нее теперь, боюсь, что пес может снова понять меня превратно. Внезапно что-то царапает мне шею. Это Голем. Он здесь, стоит за моей спиной, подойдя совершенно бесшумно. Я снисходительно улыбаюсь и отвожу в сторону метлу, которая колет мне голову. Пес завывает опять, он не собирается атаковать великана, для этого у него есть я, и, похоже, родственные чувства ему совсем неведомы.
– Ну, все, теперь я ухожу. Перед тем как я исчезну, есть ли что-нибудь, что тебе хотелось бы спросить или передать?
Она жеманно улыбается мне.
Здесь наступает истинное освобождение. Я мог бы написать об этом интересную книгу. Тридцать лет тому назад их связала сумасшедшая страсть, сегодня они точно так же сходят с ума, готовясь связаться с любым, кто попадется на их пути. Все чокнутые. Я сматываю удочки. И не потому, что у меня в подобных делах нет опыта. Конечно, его хватает. Но с официальной точки зрения мои достижения не столь уж велики. Я торопливо иду к выходу, ибо уже половина пятого. Сегодня время пронеслось мгновенно, впору самому рехнуться. Идей у меня предостаточно. А вот времени не хватает. Будь оно у меня в достатке, я написал бы три книги, не меньше, – вопрос только, что пришлось бы есть при этом Гадди и Ракефет. Боюсь, им пришлось бы питаться книгами. Это просто замечательно, что чек на сто тысяч дожидается меня, – в противном случае этот день был бы попросту проведен без какого-либо намека на оргазм.
Уже совсем стемнело, когда я добрался до своей конторы. В коридорах было темно. Большинство сомнительных личностей все еще сидело на стульях возле конторы Мизрахи. Что влекло их именно к нему, спросил я сам себя. Уж явно не его мозги – у него их отродясь не было. Готов поспорить – их привели к адвокату Мизрахи его необъяснимо низкие цены. Я открыл свою контору и включил свет. Она уже ушла. Первым делом я открыл ящик стола, но уже в ту же секунду почувствовал – чека в нем нет. Что здесь произошло? Всемогущий боже, где он? Куда эта сучка его подевала? Я прошерстил все папки и бумаги. Мне не хватало только этого. Это закончится инфарктом. Я убью ее, я ее просто прикончу, и посмотрим, какой суд не оправдает меня. Я ведь совершенно ясно сказал ей, чтобы она положила чек в ящик стола, а она сунула его куда-нибудь в такое место, из которого любой, кому не лень, мог стащить его. Боже, яви Свою милость! Я рванулся к телефону, чтобы известить полицию… Но зачем? Знаю я их – они тут же пришлют ко мне какого-нибудь полуграмотного Али-Бабу. Если бы у меня хватило слез, я мог бы разбогатеть, продавая билеты тем, кто хотел бы увидеть плачущего адвоката Кедми. И я снова перерыл вверх дном всю контору. И понял – она сама стащила этот чек. А что? Разве не о таком случае мечтала она все последние месяцы, сидя у обогревателя? Все ясно.
– Гадди, быстрее, дай мне маму. Одна нога здесь, другая там. И больше ни слова… Яэль, я потом все тебе расскажу, а сейчас один лишь вопрос, известно ли тебе хоть что-то… Я имею в виду, говорила ли тебе моя секретарша хоть что-нибудь насчет чека?.. Нет? Тогда все в порядке, прощай. Объясню все потом. Если не вернусь домой к полуночи, ищи меня через скорую помощь. Нет, нет, никаких причин для беспокойства… просто какая-то сотня тысяч лир уплыла в канализацию… Потом… Что?.. Все позже!
Трубку телефона – снова на рычаг, безумие неотвратимо охватывает меня. Я вытаскиваю все ящики, шарю внутри стола, срываю со стены карту Израиля… чек… он должен быть где-то здесь. Может быть, в стене? Я проношусь по офису подобно шторму, я хочу добраться до нее, но как? Ее семейство, подобно пещерным жителям, не имеет телефона. В конце концов я нахожу ее адрес на страничке, вырванной из блокнота, – это я сам когда-то записал… но где это? Я сделал эту пометку в то время, когда нанимал ее на работу и вовсе не думал… Слава богу, что есть хоть что-то, но где… какой-то район сомнительных новостроек… два номера домов на всю улицу, не имеющую названия. Приходится звонить в полицию, чтобы узнать направление, после чего остается только выключить свет и уйти из офиса, оставляя после себя руины и разгром.
Уже вечер, я спускаюсь в Нижний город через Вади-Салив и через Вади-Нисназ. И через Ратмийю, и сам черт не знает, где я сейчас. У них не нашлось даже названий для всех этих оврагов, которые можно было бы произнести на иврите. Грязные то ли улицы, то ли проезды, все одинаково заканчивающиеся тупиком. С какой-то минуты я начинаю по ступеням то карабкаться вверх, то скатываться вниз. Я никогда здесь не бывал прежде. Расселить вновь прибывших в пустующих арабских жилищах – замечательный правительственный проект. Повсюду вьются виноградные лозы, грязная вода, отдающая канализацией, течет по песчаным обочинам, сквозь проломы в стенах высунул ветви кустарник. Сломанные ступени каменных лестниц. Земля, бывшая некогда пашней, превратилась в болото. Там и здесь – заколоченные окна лавчонок. Внезапные огоньки керосиновых ламп. Какая-то забегаловка, основной товар которой – гашиш, смешанный с творогом. Все выглядит так, словно я снимаюсь в приключенческом фильме, – какая глушь. Какие тихие спокойные люди, как медленно, неторопливо бредут они, это только на телевизионных экранах они орут в полный голос, а сейчас каждый несет свою упаковку мацы для Пасхи, и когда я хватаю одного из них за рукав и начинаю вытряхивать нужный мне адрес, они смотрят на меня покорно и готовы сделать все, что мне нужно. А мне нужен адрес, где проживает семья Пинто. Пинто? Но какие из многочисленных, нет, из бесчисленных Пинто? Какие именно Пинто? Вот это вопрос! Я чувствую, что сейчас начну орать: «Пинто, которые торгуют баклажанами». На ближайшем рынке. Мне нужны все на свете баклажанные Пинто, и я найду их! Ночь только началась, у меня в запасе несколько часов, и у меня хватит запала прошагать столько миль, сколько нужно, чтобы познакомиться со всеми Пинто, сколько бы их тут ни было.
И я продолжаю карабкаться по массивным каменным ступеням, ведущим к кое-как слепленным домам, вхожу в кухни, ванные, столовые, в итоге добравшись до некой двери, за которой оказался столетний Пинто в ночной пижаме, за которым последовало посещение трехлетней дамы по фамилии Пинто, дружелюбно глядевшей на меня с горшка, – десятки и сотни Пинто, к сожалению никакого отношения не имеющих к моему чеку на сто тысяч. В их число входила, похоже, тащившаяся за мной длинным хвостом банда из малолетних любопытствующих Пинто, включая одного совсем взрослого Пинто, возглавлявшего этот добровольный и все возраставший эскорт, – что ни говори, не часто доводится им видеть, как большой бледнолицый еврей-ашкеназ как сумасшедший мечется, не ведая зачем, по их кварталу, пугая соседей.
В конце концов меня заносит в маленький, вымощенный камнями дворик, отгороженный от окружающего мира синими стенами, заполненный рассыпающейся мебелью и корзинами для овощей; снова я карабкаюсь по ступенькам, ведущим в маленькое помещение, дверь в которое открыта, и поначалу я не узнал, кому принадлежат изящные лодыжки, как не узнал и владелицу пары шорт, переходящих выше в морскую тельняшку, – какой хрупкой и маленькой показалась мне она, державшая в руках небольшой резиновый шланг, из которого она поливала самые верхние ступени, – в изумлении она уставилась на меня, который должен был показаться огромным, бледным и задыхающимся привидением, не догадываясь, что привидение это каждую секунду готово упасть в обморок, потеряв сознание от боли в сердце, которое молотом билось в моей груди, причиняя все возраставшую боль.
– Он у меня! – закричала она. – Не волнуйтесь, мистер Кедми… Все хорошо… я не могла открыть ящика… вы унесли с собой единственный ключ в конторе… я не хотела оставлять чек в конторе… я боялась… а вдруг с ним что-нибудь произойдет…
Не говоря ни слова, я закрыл глаза и пришел в сознание. Она вытерла руки и побежала во внутреннюю комнату, полную живописных фотографий ее предков, одетых как шейхи. Тут она вынесла конверт, который я выхватил у нее из рук, надорвал его и вытащил чек, быстро просмотрел его и сунул в карман своей рубашки. Разорванный конверт я швырнул на мокрый пол…
– Я надеюсь, вы не испугались.
Мне удалось выжать из себя ироничную усмешку. Теперь я оказался окруженным полудюжиной приземистых смуглых гангстеров, приглашавших меня присесть с ними. Разумеется, я не мог вымолвить ни слова, я чувствовал, что вот-вот потеряю сознание от усталости и волнения, все, на что я способен, это поднять одну руку в некоем подобии салюта и прошептать: «Спасибо». Всем своим видом я говорю – я тороплюсь. Не хватало еще в субботний вечер сидеть с ними и есть баклажаны. И я поворачиваюсь, делаю попытку исчезнуть, замечаю маленькую дверь неподалеку, бросаюсь туда, слева и справа от меня эскорт из членов семьи, за маленькой дверью – свобода, и я рывком открываю ее.
И оказываюсь в маленькой клетушке лицом к лицу со старой ведьмой, восседающей на горшке нагишом в красноватом адском пламени от раскаленной печки. «Покойник», – хрипит она в ужасе; я стою остолбенев, пока заботливые руки слева и справа бережно не выносят меня наружу, доставляя к выходу. Свобода – внизу. Она работает у меня уже год, а я только сейчас разглядел, какие у нее изящные ноги – грациозные и прямые, впрочем, это и не удивительно, поскольку она всегда прятала их под столом.
Сейчас мы стоим на темной улице. Стоим и молчим.
– Я вижу, что вы и на самом деле испугались… – У нее хватило такта сдержать смешок. – Признайтесь, что я права.
Я стою в темноте и чувствую себя одиноким и несчастным.
– Мне очень жаль… ведь тебе могло прийти в голову, что я умею читать… А раз так, ты могла бы оставить мне записку.
– Да? Вы совершенно правы. Мне… я совсем не подумала об этом…
Я потрепал ее по волосам. Осторожно, чтобы ее не обидеть.
IQ. Вот в чем все дело. Их IQ испарился под исламским солнцем. И это – нечто такое, что невозможно возвратить им при помощи Министерства социальной поддержки. И опять я блуждаю глухими переулками в поисках моей машины. За это время я нашел название для пятой своей ненаписанной книги: «Тайная жизнь непривилегированного класса». Кончится все это тем, что я выпущу книгу, состоящую из названий ненаписанных книг.
А пока что я заблудился среди песков этих полуобрушившихся води, но зато наткнулся на свой автомобиль, включил свет и, вытащив чек, удостоверился, что с количеством нулей на нем все в порядке.
Включил двигатель и рванул прочь от этой долины слез.
Гадди открыл мне дверь, и тут я только вспомнил, что должен был купить ему подарок. Во всех комнатах горел свет, малышка сидела в гостиной в своем высоком креслице в окружении игрушек, она смотрела телевизор, установленный прямо посредине комнаты, на экране Бегин давал интервью арабскому новостному каналу, обеденный стол был полон грязной посуды, обрывков бумаги и тюбиков краски. Дедушка сидит и пьет кофе, Гадди бросается ко мне, чтобы показать большой рисунок, из кухни появляется Яэль, на ней передник.
– Что случилось? Мы так беспокоились. Я ничего не поняла. И что это за сто тысяч, которые оказались в канализации?
– Не оказались. Вернулись обратно.
– Ты видел мою маму?
– Конечно.
– Что-нибудь было не так?
– Нет. Все в порядке.
Я отправляюсь в туалет, она идет за мной. За ней тащится Гадди.
– Мы не знали, когда ты вернешься, а потому поели без тебя.
– Замечательно. Надеюсь, что-нибудь осталось и для меня.
– Можешь не сомневаться. Что-то получилось не так?
– Если мне дадут помочиться, у вас будет шанс угостить меня ужином.
Я захлопнул дверь перед носом у Гадди, который попытался протиснуться за мной со своим рисунком. Облегчив мочевой пузырь, вымыл руки, а затем прошелся по дому, повсеместно выключая никому не нужный свет, и в конце концов ушел за стулом. Дедушка придвинул свой стул вплотную ко мне, лицо его было серьезным и бледным.
– Ну а теперь скажи нам…
– Одну минуту. Дайте хоть что-нибудь положить в рот… тогда кровь прильет к желудку… иначе у меня в черепе взорвутся мозги. И если у Кедми случится инсульт, Каминки заплатят за это оч-чень дорого…
Я уселся на своем стуле поудобней, достал из кармана мой чек, разложил его на столе и стал читать его, как я читаю по утрам газету в поисках хороших новостей. На этот раз новости были более чем оптимистичны. Похоже, что он поражен: вскакивает со стула и начинает кружить по комнате. Яэль отсылает Гадди в ванную, малышка умолкает, ее примеру в телевизоре следует Бегин. Музыкальная пауза. Осунувшееся лицо Яэли вызывает у меня сострадание, я вижу, как она устала.
– Ты что-нибудь поел сегодня за целый день? Твоя мать звонила несколько раз, все это время она ждала тебя, чтобы вместе поужинать. Куда ты исчез? Все-таки что-то случилось? Почему ты ничего не говоришь? Она ужасно за тебя волновалась.
– Можешь позвонить ей и сказать, что я сижу за столом с набитым ртом. Мне доставишь удовольствие, а ее избавишь от волнений.
Внезапно он перестает бродить по квартире и выпаливает:
– Что случилось? Так ты видел ее?
– Конечно видел. Можно мне еще немного яичницы? Пожалуйста.
– Ну и как она?
– В полном порядке. Поливает деревья.
– Но что она сказала? И как приняла тебя?
– Очень дружелюбно. Кстати, ее пес передавал тебе приветы, Яэль. Тебе отдельная благодарность за порошок для собаки.
Бросив последний взгляд на чек, я сложил его и спрятал в карман.
– Она подписала?
– Почти. Она захотела еще немного подумать.
– Подумать?
– Такое случается.
Зачем, ну зачем я связался с ними. Или виною тому мой паршивый характер?
Но тут, почти не плача, взрывается Яэль:
– Ты можешь говорить как человек? Ты сам ведь настоял, чтобы отправиться к ней самому, а теперь из тебя приходится клещами вытягивать каждое слово.
– Ну хорошо, хорошо. Я только хотел спокойно поесть. Простите меня… я просто не представлял себе, как вам приспичило. (Киссинджер представляет свой план правительству Израиля.) Я прибыл туда в три тридцать. Я разговаривал с молодым врачом, которого мне пришлось разбудить. Он сказал, что она в хорошей форме. Некоторые ее друзья знали, что я должен появиться… и зачем. Я нашел, что она посвежела и загар ей к лицу. Она поливала деревья. Я не знаю, является ли это новым видом терапии, но мне совершенно ясно, что это пошло ей на пользу. Просто никакого сравнения с тем, в каком состоянии она была несколько лет тому назад. Ты помнишь это время, Яэль? Мы тогда были с тобой вместе.
Ее отец стоял, склонившись ко мне. Вид у него был угрожающим. Яэль тоже выглядела враждебно.
– Я сказал ей, что ты прибыл и что выглядишь хорошо. Она спросила, по-прежнему ли ты мучаешься от спазмов в горле, и я сказал, что ничего похожего не заметил, никаких спазмов. Затем она спросила, не беспокоит ли твое присутствие детей, а я сказал, что, наоборот, дети очень тебе рады. Еще я сказал, что ты тяжело привыкаешь к разнице во времени из-за часовых поясов между Америкой и Израилем. Я вручил ей проект соглашения и советовал ей подписать его. Она спросила, должна ли она его прочитать. Я сказал, что да, поскольку такова наша профессиональная установка – не давать нашим клиентам на подпись каких-либо соглашений, контрактов или других документов, пока они не будут клиентом прочитаны. Они могут ничего из прочитанного не понять. Но для них же лучше, если они прочтут, ничего не поняв, чем ничего не поймут, не читая. (Ха-ха. Но никто меня не поддержал.) Она попробовала это прочитать, но не могла, потому что у нее сломались очки. А может быть, их съела собака. Ты и в самом деле должна об этом позаботиться, Яэль. Она слушала внимательно, пока я объяснял ей все тонкости договора и то, насколько ее интересы будут защищены и гарантированы. Я объяснял все это очень бережно и осторожно, но она, по-моему, твердо решила не спешить с ответом, и все время спрашивала о тебе, Яэль.
– Почему я не пришла?
– Ну, почти. Я объяснил ей как мог. Пообещал, что ты придешь завтра или, в крайнем случае, послезавтра, и тогда мы решили, что она еще немного подумает и, дождавшись тебя, подпишет соглашение. Конечно, время нас поджимает… именно это и пытался я донести до нее со всей доступной мне вежливостью… Можно мне получить еще одну чашку чаю? Я абсолютно пересох. Из-за этого чека я пробегал весь вечер.
– Она не согласится, – прохрипел старый джентльмен безо всякой надежды.
И он покинул комнату. В глубине души я знал, что он прав.
– Почему бы ей не подписать? – возразил я. – У меня сложилось другое впечатление. Так я могу получить еще чашку чаю, или я должен попросить об этом в письменной форме?
Яэль принесла мне чай, руки у нее дрожали, она вынула малышку из ее креслица и перенесла в кроватку. Гадди наконец показал мне свой рисунок, на котором странная женщина очень высокого роста стояла под дождем.
– Просто потрясающий рисунок.
Я поцеловал его и отослал в кровать. Отец Яэли был явно разочарован. Яэль глядела на меня безо всякой любви.
– Что на тебя сегодня нашло?
– Не знаю. Но я выжат как лимон.
– Оно и заметно.
– Всего было многовато…
Я и в самом деле едва держался на ногах. Что-то случилось со мной. Неужели меня так потрясли поиски этого проклятого чека? В глазах у меня снова встали полуразрушенные дороги… голая старуха на горшке… желтая вода… адские отсветы печки… ощущение от соломенной метлы у меня на шее и волосах…
Я поднялся, чтобы просмотреть почту, включил телевизор, я совершенно без сил, глаза слипаются, я не могу выдавить из себя ни слова, Яэль убирает со стола, малышка уже уснула. Я выключаю свет и влезаю в пижаму, прячу в карман пижамы мой чек и ищу свою газету, я едва шевелюсь, я забираюсь в постель, укрываясь с головой большим шерстяным одеялом.
Десять часов. Телефон звонит и звонит. Это моя мамочка. Да, говорит Яэль, как если бы речь шла о трехлетнем карапузе, да, он покушал, а теперь лежит в постели. Ее отец возвращается со своей прогулки. В руках его – пачка сигарет, что-то он шепчет ей. Мои веки смыкаются, газета соскальзывает на пол. Старый джентльмен входит в спальню. Его интересует, купил ли я подарок его внуку.
– Виноват, – говорю я. – Совсем забыл.
Он достает из своего кармана тридцать долларов и кладет банкноты на ночной столик возле кровати.
– Нет никакой необходимости, – шепчу я.
Но он ставит на банкноту пепельницу и стоит рядом с угрюмым видом. Яэль на кухне моет посуду.
– Что мне купить ему?
Он не отвечает.
– Если тебе все равно, я поищу для него небольшой электрический поезд. Он никогда не ездил в поезде…
Он молча стоит возле моей постели – высокий и красивый мужчина с копной седеющих волос, падающих ему на плечи, – так стригутся художественные натуры, богема… В хорошо сидящем на нем американском костюме. Его пальцы желты от никотина. Чего он хочет от меня? Разумеется, спросить о ней. Но он страшится этого разговора.
– Завтра ты уезжаешь в Иерусалим. К Аси.
Он бросает на меня взгляд… В глубине его души он очень хочет что-то спросить, но что-то удерживает его, и он жадно затягивается своей сигаретой. Внезапно он садится ко мне на кровать. Что-то притягивает его ко мне. То, разумеется, что я был у нее. Но что кроме этого я могу ему рассказать? Тишина. Я понемногу отключаюсь. Закутываюсь в одеяло. И закрываю глаза, открываю и закрываю снова. Подействует ли это на него? Должно. Но он продолжает сидеть курить, опершись на руку головой. Озабоченный человек. С проблемой. Ему нужен развод, у него есть женщина, ожидающая его, и если моя интуиция меня не обманывает, он заделал маленького дядю для Гадди. Ни звука – за исключением грохота тарелок из кухни. Мое тело наливается свинцовой тяжестью.
– Если ты не против того, чтобы посидеть в темноте, выключи, пожалуйста, свет. Мы вполне сможем поговорить без освещения… За те же деньги. – Я вяло улыбаюсь в надежде, что на сегодня это моя последняя шутка.
Он вздрагивает. «Что?»
Он понял намек. Встав, он смотрит на меня сверху вниз, выключает свет и исчезает из комнаты. Я погружаюсь все глубже в сон под своим одеялом.
Некогда в такие минуты я испытывал желание… но позднее понял, что ее лучше не трогать. Малышка начала плакать, но я не пошевелился. Мой рабочий день окончился. Название моей следующей книги будет звучать так: «Как заставить вашего партнера по браку позаботиться о плачущем младенце». Я еще глубже зарываюсь в постель. В сумасшедшем доме, полагаю я, в это самое время происходит обсуждение документов о разводе – если только их не сожрала собака. Почему, почти совсем уснув, я продолжаю думать о ней и о ярком свете возле моря, она заразила тебя, Кедми, ты тоже сошел с ума, Кедми, дорогой, бедный, бедный Кедми, Израэль Кедми, ты непоседливый взрослый ребенок, которому так нужно поскорее уснуть…
Вторник
Воображенье защищает взгляд И этим совершается искусство Что защищает человека жизнь Ажемчуг мудрости спасает наш язык Кольцом на пальце И так я думаю, что защищает нас Меня и всех, и против нас самих От нас самих, и мудрых и безумныхИона Валлах
И здесь он живет? Сознательно выбрав это убогое окружение? Или такова плата за литературную карьеру? Тогда вопрос: он что, и правда написал все свои книги, видя перед собой эти грязные облупленные стены? Ему принадлежат три разных почтовых ящика – два разломанных и огромный третий с такой прорезью для почты, словно это рот великана, готового проглотить весь мир. Некий человек, перепрыгивая через ступеньки, несется вниз и вдруг останавливается, совершив элегантный пируэт, и делает вид, что его внимание привлекли ящики для почты. Но глядит он при этом на меня так, что воздух потрескивает от электричества; время от времени он бросает взгляд на почтовые ящики и снова глядит на меня, но в конце концов (еще один взгляд) – исчезает. «Боль красоты твоей», – написал мне один из старшеклассников, взявший в привычку писать мне… но кто из них не пытался. Анонимные излияния души неведомым образом оказывались в моем портфеле, замысловатые любовные признания в стихах и прозе, состряпанные из библейских строк и комментариев известных наших мудрецов, разбавленных то здесь, то там обычными непристойностями, вырывающимися из самой глубины души подростка, выдавая самые тайные мысли, не дающие покоя голове под вязаной кипой. Виной тому мои татарские скулы и озорной огонек в газах, синее мерцание которых разбивает им сердца. Так что можете высказать мне, как же им в меня не влюбляться. Я могу сказать. Никто не может полюбить меня, потому что совсем ничего обо мне не знает. Совсем ничего. Но это можно сделать в то короткое время, пока я проверяю чью-то тетрадь с домашним заданием. В твоих ответах я не поняла ни слова.
Без десяти десять. Жди. Неприлично ни приходить ранее назначенного времени, ни даже минута в минуту, в этом есть что-то от комплекса неполноценности, ведь он может подумать, как это важно для меня, если она так точна. Я уверена, что я не первая и не последняя среди тех, кто докучает ему таким же образом. Он слишком велик для новичка вроде меня, но Аси утверждал, что у него прекрасные связи. Это и проверим, – может быть, и ты через него получишь такие же связи. Это слово-код. Мы все находимся в связи друг с другом. Пока сами не становимся такой же связью. Моя (даже если это дано мне в наказание) любовь. Моя истинная любовь. Он – и никто больше. Что мы будем делать? Если тебя пугает моя боль, как могу я не бояться ее? Так что я еще немного поброжу по улице. Даю ему лишних десять минут. Пасмурное утро, холоден ветер Иерусалима. Перистые облака. Тем не менее множество молоденьких матерей выбрались наружу со своими малышами, все испытавшие мгновенную боль, одинаково сладкую во всем мире. И это – не проникновение, которое ведомо и мне, и дело даже не в боли, а в крови. Двух лет достаточно для любого терпения. Дай мне уснуть, а потом ты можешь…
И моя собственная мать:
– Я не хочу вмешиваться, но когда-нибудь любая мать имеет право, а я из-за этого не сплю ночами. Вы женаты уже более двух лет. Я понимаю, ты хочешь быть свободной, но, может быть, кто-то должен подумать о том, что нас ждет впереди.
И папа:
– Дело не только в том, что это грех, но и в этом тоже, но Аси ни во что не верит, и он пытается перетянуть тебя на свою сторону, и ты поддаешься ему, отказавшись от веры, в которой мы взрастили тебя, без особого сопротивления, и это тоже…
И мама:
– Не начинай все сначала, сейчас я говорю об этом только с точки зрения медицины, только твое здоровье заботит меня. Однажды ты была больна, надеюсь, ты не забыла, и я прочитала в газете, не смейся, что иногда женщины думают, что в запасе у них вечность, но когда у них возникает желание, обнаруживается, что уже поздно, и выходит, что чем раньше, тем лучше, и само по себе случается только в книжках, но даже там…
Папа:
– Почему, ну почему ты все так усложняешь? Да, мы хотим внуков. Что тут такого? Это что, кому-то запрещено? Мы заслужили у Господа, чтобы Он дал нам хоть одного ребенка. Спроси у матери… Она скажет тебе, как мы хотели еще… мы пытались, чтобы их было больше, но твоя мама не смогла…
Мама:
– Ради всего святого, не начинай все сначала. Дай мне спокойно сказать то, что я хочу, не ради нас, а для вас. Мы в состоянии вам помочь, не то что его семья, которую и семьей-то не назовешь. Мы действительно думали о том, чтобы переехать к вам поближе, но лучше бы вам перебраться к нам поближе… и мы нашли даже квартиру неподалеку от нас.
Папа:
– Вы можете располагать нами не только вечером, но и днем. Бизнес, слава богу, так плох, что я могу управиться в магазине один и отпустить мать. Она может помогать вам хоть целыми днями.
Мама:
– И с точки зрения карьеры Аси… мы думаем об этом тоже, так что и с этой стороны есть резон.
Отец:
– С такой матерью, как твоя, тебе не придется беспокоиться ни о чем. Ведь это ей ты обязана тем, что выросла такой красавицей. Когда ты появилась на свет, мы были поражены, откуда в нашем роду взялась такая обезьянка, но потихоньку-помаленьку…
Мама:
– Хватит тебе раздражать ее, ты способен только все разрушить, ты думаешь, что это я, но видишь теперь, что все это он… он не может остановиться. У меня нет ни минуты покоя. Вчера я разговаривала с матерью Сары, девочки из вашего класса, которая вышла замуж за несколько месяцев до тебя… и они уже ожидают второго внука. Не сердись, я ни на что не намекаю. Я знаю, что это единственное, на что она годится, но вы должны использовать отпущенное вам время, а не плыть по течению и думать, что всё…
Слаженный усыпляющий, мягкий дуэт. Знали бы они, в какой точке наших усилий мы находимся.
Ну а у него была возможность обзора с другой стороны – глубокая и широкая расщелина, тянущаяся до самых гор и неба, помогавшая его вдохновению и освобождавшая от сомнений, где здесь север, где юг, где восток и где запад. Сама я не способна определить стороны света, зато Аси достаточно шагнуть в любую комнату, чтобы определить, в каком направлении он сделает следующий шаг. Пространства открыты любому, кто умеет их читать. И тут возможна неожиданность – подобная тем, что наполняют талмудические тексты. Таково же обостренное ощущение ландшафта. Мальчишки ломали копья с преподавателем Талмуда в то время, пока я по каплям стекала с небес. Полуживая сонная змея подобна обессиленному старому человеку, одолеваемому дремотой. Это возможно. У нас будет случай это увидеть. В конце концов, существуют только слова. И боль от этих слов. Но крови они не источают.
Холод пробирает не на шутку, а на мне – легкая весенняя одежда и летние туфли. Неужели этот леденящий ветер и означает приход весны? Почему это всегда происходит накануне Пасхи? Несколько блеклых дней, отделяющих зиму от весны, а затем всею своей мощью на нас обрушивается лето. Эта страна – для всего сразу. Кстати, недурная строчка, годится для стихотворения. Надо ее записать. Кто-то из поэтов поведал журналистам, что всегда носит с собой небольшой блокнот. Полезная мысль. Что он скорее всего скажет мне? Дина Каминка, у вас огромный талант. Ваше имя стоит того, чтоб о нем не забывали. Последняя надежда литературы времен упадка. Где вы скрывались до этих пор? Какая чепуха! Шикарные тетки с сумками для шопинга, проходя мимо, пялятся на меня. Взгляды их буравят меня насквозь, не то что взгляды мужчин. И выглядит это так, словно я у них что-то отняла. Но те, кто меня знает, знает и то, что исходящая от меня угроза – мнимая.
Маленький мальчик стоит прислонившись спиной к лестничным перилам у входа. Его. Стоит только бросить взгляд на такие же кудри. На то, как он смотрит. Для окончательного сходства не хватает только трубки. Я трогаю его за плечо. Ты сын такого-то, правда? Но это не производит на него никакого впечатления. Похоже, он привык уже, что он сын знаменитого отца. Он бьет по мячу и устремляется вслед за ним по ступенькам.
Две двери, одна напротив другой. На обеих (довольно странно) его имя. Я нажимаю звонок на одной из них, той, что справа. Молодая невзрачная женщина в джинсах держит на руках младенца, за ее спиной грохочет рок-музыка. Прежде чем я успеваю открыть рот, она указывает мне на другую дверь и мягко отступает, оставляя свою открытой, пока я ищу звонок. Уступая свое место другой женщине, постарше и тоже с ребенком. (Этот – третий по счету, тоже его?) В руках у нее – корзинка для покупок.
У него что, и на самом деле – две жены? А что… почему бы и нет? Такие квартиры стоят недорого. В глазах у меня возникает картина – среди ночи, голым, он перебегает от одной к другой.
– Я договорилась с господином… С господином…
– Входите.
Она осматривает мое элегантное платье с ироничной улыбкой и указывает на дверь, ведущую внутрь квартиры. С моей стороны это была ошибка – тащиться в это гнездо богемы на высоких каблуках. Я вхожу в узкий коридор и в ту же минуту слышу, как наружная дверь с громким и циничным грохотом захлопывается за моей спиной. Тусклый свет заполняет пространство среди приземистых книжных шкафов, воздух пропах не просохшим после стирки бельем, усиливая ощущение лирической увертюры, вкупе со смутным отражением в облупленном зеркале, притаившемся среди зимних пальто. Кроме всего прочего, зеркало показывает, что ветер полностью погубил мою прическу, и теперь моя голова более всего похожа на развевающийся флаг. Зачем мне все это?
Проходя мимо кухни, я замечаю гору грязной посуды в раковине. Может быть, он подыскивает себе третью жену, чтобы вымыть все эти тарелки?
Постучав в дверь, я мягко ее открываю. Маленькая комнатка. На просторной кровати сидит белокурая девчушка. Грязное белье. Ребенок занят тем, что грызет свою куклу. Я пробую открыть следующую дверь. Старый змей в поношенном черном свитере гольф, ниже, чем я представляла его, крепче, чем я представляла, старше, чем я представляла, наклонился над молодым человеком, перед которым высилась бумажная гора. Корректуры? Неопрятное ветхое, огромных размеров кресло, похожее на доживающую последние дни старуху, куча в беспорядке разбросанных курительных трубок, просторный стол в слабом свете лампы, деревянными панелями обшитые стены с книгами на подоконниках, проглядывающие за ними верхушки гор. Вместо ковра – овечья шкура на полу, крутящаяся без звука пластинка – совершенно не израильская комната, полная к тому же темных деревянных скульптур. Острый запах мужчины.
«Простите… ваша жена сказала, что я должна прийти в… не знаю, помните ли вы… мой муж… к десяти часам… меня зовут Дина Каминка…»
Остатки кофе в высоких стаканах, пепельницы, полные окурков и табачного пепла, душная комната насквозь пропахла литературным творчеством. У него яркие смеющиеся глаза. Молодой человек выглядит довольно мрачно. Я даю им время (а что еще мне остается) вдоволь налюбоваться моей красотой.
– Моя жена? Ладно, пусть будет так. А что, уже десять? Ну конечно, вы правы, мы договаривались встретиться в десять. Проходите, присаживайтесь. Еще минуту, и я к вашим услугам.
Я прямиком направляюсь к раздолбанному креслу, падаю в него и проваливаюсь буквально до самого пола. У него, в черных вельветовых брюках и обтягивающем свитере, вид надежного и аккуратного человека. В тот момент, когда он что-то исправляет в рукописи, затем начинает очищать стол, сдвигая в сторону бумаги и стаканы с остатками кофе прочь со стола, поясняя мрачному юноше смысл только что сделанной поправки. «Это не долго», – обращаясь ко мне, вполголоса комментирует он ситуацию, в упор глядя на мое пылающее лицо с несколько натянутой любезностью, после чего мне хочется еще глубже погрузиться в это кресло, но единственное, что мне удается сделать, это с чувством стыда скрестить ноги.
Он продолжает стоять, созерцая меня и, похоже, размышляет, что за явление ниспослано ему столь неожиданно этим заурядным утром, и прикидывает, чем это может обернуться.
– Может, вы хотите что-нибудь выпить?
– Нет, спасибо.
Он закрывает дверь за молодым человеком, который покинул комнату, не произнеся ни слова и не удостоив меня даже взглядом, затем надевает очки и начинает заглядывать в ящики стола, перекладывать ворохи рукописей до тех пор, пока в конце концов не обнаруживает желтоватую пачку листов, и начинает их просматривать, лучезарно улыбаясь, не произнося ни слова перекладывает один листок за другим, затем садится и снимает очки.
– Должен признаться, ваша поэма произвела на меня большое впечатление. Это похоже на чудо. Не снится ли мне все это? И так безболезненно.
– Это честно? – Я беззвучно тону, я в экстазе и еще глубже утопаю в кресле.
– Где вы были до сих пор? Ваша поэма «Неотразимость тела моего» абсолютно восхитительна.
– Как вы сказали? Моя поэма?
– Да. «Неотразимость тела моего», замечательно. – Он торжественно склоняется надо мной, чтобы мы вместе могли читать написанное на желтоватом манускрипте, – листок покрыт странными округлыми каракулями. Он путает меня с кем-то. Он имеет в виду кого-то другого.
«Неотразимость тела моего»?
– Наконец-то среди всего этого мусора, которым меня засыпают, я слышу новое звучание, предвестник нового слова в литературе.
В моем голосе – гибель вселенной, пыль рухнувших надежд, но храбрости я не теряю.
– Минуту… простите… мне кажется, вы ошиблись… эти страницы, они не мои… Дина Каминка… Вы спутали меня с кем-то… мой муж дал вам тетрадь с цветной обложкой…
Он оцепенел. Покраснел. Сгреб рукопись, улыбнулся (я не поняла, что он нашел здесь смешного?), хлопнул себя по лбу, легко вскочил на ноги и забормотал: «Минутку… минутку… прошу прощения… вы правы… как я мог так опростоволоситься… просто конфуз…» Опустился на колени, вытащил из стола самый нижний ящик, продолжая бормотать извинения. «Еще одна минута… черт знает что здесь творится… превратили комнату в редакцию… ну, вот… вот… Дина Каминка, разумеется… ваш муж Аси… исторический факультет. Конечно, я помню».
– Вы вовсе не обязаны читать все это… не имеет значения… – Внезапно я почувствовала облегчение и сделала попытку освободиться из обволакивающих объятий желеобразного кресла. Выбраться из него – и исчезнуть.
– Нет, нет… еще мгновение. Я читал это. Уверен, что читал. – Он лихорадочно копался в рукописях. – Это была история… не так ли? – рассказ, не так ли? О молодой женщине… еще одну минуту… дело происходит зимним днем… в лавке… одну минуту…
Зачем ему нужна одна минута? Придется каким-нибудь другим женщинам сказать новое слово в литературе, среди этого, как он выразился, словесного мусора он отыщет их. И тогда на ее долю придется радостная возможность услышать это из его уст… и, может быть, она в этот самый момент уже поднимается по лестнице. Но смотри-ка! Он держит в руках мой блокнот и торжествующе демонстрирует его мне. Моей первой ошибкой было то, что я все записывала в большой школьный блокнот, которым пользуются старшеклассники. А следовало бы писать на желтой использованной бумаге и никогда больше впредь не корчить из себя девственную мадемуазель из хорошей семьи, решившую побаловаться игрой в литературу.
Молчание.
Он хищно пролистывал мое творение, быстро пробегая страницу за страницей своим острым взглядом, и казался в это мгновение образцом сосредоточенности, не испытывая никакого стеснения оттого, что делает это прямо у меня под носом. Затем он закрыл блокнот, положил на стол, поднялся и дружелюбно мне улыбнулся.
– Что вы предпочитаете – кофе по-турецки или растворимый? А может, хотите чего-нибудь холодного?
– Нет, спасибо. Правда, я не хочу ничего.
– Так по-турецки или растворимый? – Он упорно стоял на своем, улыбаясь покровительственной улыбкой. – Я как раз хочу сварить и себе самому.
– Нет, на самом деле… спасибо…
Он подошел ко мне вплотную и доверительно опустил свою теплую ладонь мне на плечо.
– Вы на меня сердиты. Но я ведь и вправду читал рукопись… Просто в этом беспорядке, видите сами. Если вы не выпьете со мной чашку кофе, я буду очень огорчен. И тоже обижусь. Так по-турецки или растворимый?
– По-турецки.
Он энергично собрал посуду и остатки сухого печенья на поднос, сверху положил мой блокнот и покинул комнату.
Я поднялась из бездонных глубин чертова кресла и медленно побрела вдоль книжных полок, держа курс на желтоватые страницы рукописи, оставленной лежать на столе, – той самой, с округлыми и смелыми каракулями.
Из темноты, возможно, Смерть падет, Стиху подобно. Но притом Что стих – есть просто стих. И больше ничего Он не несет.Из кухни доносится смешок. Я возвращаюсь к полкам с книгами, не в состоянии даже прочитать названия на корешках, глаза мои влажны, над горами плывет свет.
Дверь открывается, и он вносит поднос, на котором стоят чашки с кофе, печенье и мой блокнот. Декорации на месте. Через всю комнату он бросает на меня нерешительный взгляд, а я приросла к моему месту у окна и стою не шелохнувшись. Он улыбается и подплывает ко мне. «Присядьте». И я сажусь, но не в омерзительное кресло, а, слава богу, на стул рядом с дымящейся чашкой. А он тем временем предлагает мне сахар. Он кладет мой блокнот себе на колени, хватает свою чашку и с видимым удовольствием делает глоток.
– Не сочтите мой первый вопрос простым любопытством, – говорит он после второго глотка. – Вы из ортодоксальной семьи… или я ошибаюсь?
– Я училась в религиозной школе.
– И в старших классах тоже?
– Да. Но почему вы спрашиваете?
Похоже, он очень собою доволен.
– Есть нечто общее, какой-то аромат в вашем языке, образности, в ваших ценностях, в вашем отношении к миру, к тому, что вы одобряете или не одобряете. Этого нельзя не почувствовать. И это – новый феномен – литература, рождающаяся в среде религиозных евреев. И все это явственно видно в том, что вы делаете. Новая литературная школа?
Он причислил меня, похоже, к основателям этой религиозной школы, меня персонально. И похоже, в единственном числе. И очень доволен, что нашел этому явлению подходящее название.
– Но я – не ультрарелигиозна. Я только придерживаюсь обычаев…
– Не имеет значения. Это слишком углубившиеся материи в сознании народа, чтобы от них было так просто отмахнуться. Это совершенно целостный и неповторимый взгляд на мир.
– А это хорошо? Или плохо? – Я спрашиваю смиренно, пытаясь удержать обжигающую чашку.
– Если сказать кратко, это долгожданная новая возможность. Мне трудно самому это выразить… описать… нет, совсем наоборот… но это явление создает в литературе новый климат, открывает иные возможности. Сколько вам лет? И пожалуйста, пейте ваш кофе. Почему вы не пьете?
От него требовалось высказать литературное мнение, дать оценку, а он уже сам назначил себя моим ангелом-хранителем, считая на этом основании, что может спрашивать о чем угодно, применяя для этого выдуманную им технику общения с юными бумагомараками.
– Мне двадцать два.
– Вы студентка?
– Закончила два года назад.
– По какой специальности?
– Социальный работник.
– Но не литература?
– Нет.
– Это хорошо. Но как вы ухитрились отучиться так быстро?
– Я была освобождена от армии.
Я смотрела ему прямо в глаза, ожидая насмешливой улыбки человека, чье гражданское самосознание оскорблено. Но он не сказал ничего, внезапно покраснев от своего промаха.
– Ну, все-таки выпейте хоть что-нибудь. Боюсь, что все уже остыло. Возьмите печенье…
– Спасибо.
Я поднимаю чашку и вдруг замечаю на ней отпечаток губной помады. С трудом заставляю себя сделать один глоток и поспешно ставлю чашку обратно. Во рту остается горький аромат кофе по-турецки.
– У вас есть дети?
– Что? Ах, нет… пока что…
– Значит, вы работаете?
– Да. В отделе социальной помощи нашего муниципалитета.
К чему все эти расспросы? Он просто тянет время или собирает материал для окончательного диагноза?
– Как давно вы… пишете?
– Пишу… трудно сказать… Класса с восьмого, наверное. Я заболела тогда… несколько месяцев не вставала с постели… что-то вроде ревматической лихорадки. Вот почему я не служила в армии. Именно поэтому, а не из-за религиозных убеждений. (Поэтому, ты, старый пердун!) Я очень долго не могла поправиться… и вот тогда я начала писать. До сих пор, когда мне нужно на чем-то сосредоточиться, я ложусь в постель и пишу на подушке.
Я болтаю много лишнего.
– В постели? – Он изумлен, он смотрит на меня совсем иначе, во взгляде его понимание и теплота, он наклоняется ко мне. – Сказать вам правду (я съеживаюсь и молю без слов, чтобы удар не был слишком жестким), ваш рассказ слабоват. Он скорее для подростков. Усложненный… без особых на то оснований… а к концу еще более… как бы это сказать помягче… А вот стихи… в основном много удачней. Особенно одно стихотворение… вот оно…
Ты так растил меня, Чтоб стала я колючей…Это ведь просто песня… я не шучу, это песня и заслуживает публикации. По любым меркам это не хуже, чем большинство тех стихов, что печатают сегодня, так что если вы пришли сюда, чтобы узнать мое мнение, чему вам следует посвятить себя – прозе или поэзии (я вовсе не хотела), – я могу со всей определенностью сказать вам – поэзии. И еще… это вам решать самой… с прозой порывать вовсе тоже не стоит. В ваших рассказах есть вполне качественные отрывки, не слишком много, но есть… в особенности там, где вы даете описание. Что я имею в виду конкретно… ну, конечно, бакалейная лавка, я ничего не путаю? Старомодная бакалейная лавка. Что-то в вашем описании задело меня (я сижу, закрыв глаза). Эти полки… этот темный шкаф для хлеба… Вы так смешно описали, просто великолепно, этот ломоть белого козьего сыра, изобразили всю ситуацию на грани абсурда, для этого надо обладать недюжинным воображением, знаете ли… не могу вспомнить детали, но все вместе врезалось мне в память. Я даже где-то пометил… – И он лихорадочно стал перелистывать мой блокнот. – Ну, хорошо, не важно, в конце концов.
– Не стоит ломать голову.
– Ну, вот это место. Где описана пожилая чета бакалейщиков. Очень хорошая жесткая проза, пусть даже местами и забавная… что плохо – что ваша героиня получилась такой неопределенной, существующей в некоем неопределенном вакууме, и вы еще вдобавок наградили ее всевозможными эмоциональными клише…
Сейчас его голос звучит искренне.
– Надеюсь, вы не сердитесь на меня за то, что я сказал вам то, что я думаю. Разумеется, это всего лишь мое личное мнение, но было бы нечестно разбавлять все это пустыми комплиментами.
– Не беспокойтесь. Я все поняла.
Он протягивает мне раскрытый блокнот.
– Все выглядит так, словно вы чего-то боитесь. Затронуть, к примеру, какую-то реально существующую проблему… Мне кажется, здесь есть что-то личное… хотя я совсем о вас ничего не знаю. Но я чувствую это… особенно в том на первый взгляд смешном отрывке в темной лавке. Ощущая какую-то горечь. Вам стоило бы копнуть чуть поглубже, вскрывать суть проблемы. И даже в ваших стихах…
(Даже в стихах! Я была сломлена.)
– Да. И в ваших стихах тоже. – Внезапно он разозлился. – При любом подходящем случае вы прибегаете к отступлению в сюжете, заменяя логику повествования своими эмоциями. Даже в натуралистических сценах. «Одна, одна, совсем одна. О, тщетная попытка содрогнуться, склонившись над лежащим юным телом, под облаком, что тихо проплывает… За утренним окном»… Когда кто-то склоняется над телом мертвого ребенка…
– Мертвого ребенка?
– Ну, не мертвого, больного там, это несущественно. Именно это маленькое тело здесь самое главное, что требует разъяснений, а вовсе не какие-то облака за окном. Но вы уклоняетесь от разъяснений, прибегая к эстетическим уверткам, давая себе поблажку. Вы не можете писать, не проявляя готовности раскрыться, даже когда не все еще сказано до конца. Но без этой готовности раскрыться не стоит понапрасну тратить время и изводить бумагу. Ну а кроме того, вы злоупотребляете таким словом, как «изящный». На первой же странице встретил его пять раз. «Привет тебе, изящная змея…»
Он громко читает вслух. Читает он хорошо. Профессионально. Создавая впечатление, что текст ему давно знаком, хотя я-то знаю, что именно этот он впервые увидел в кухне, полчаса назад, стоя между чайником и чашками для кофе.
Тишина.
– Для вас это так важно?
– Что именно?
– Литература.
– Да… Я думаю, да…
– Тогда отдайтесь этому занятию целиком. Иначе…
Его голос мягко затихает, в то время как взглядом своим он скользит по моим ногам. В коридоре начинает плакать ребенок, оттуда же доносится скрежет передвигаемых стульев. Внезапно я ощущаю во рту медный привкус. Одно к одному – все неприятности, включая его отрицательное мнение.
– Вы сказали, что мой рассказ недоработан. Но в вашей собственной прозе…
Он мгновенно ощетинивается:
– Что в моей прозе?
– Неважно…
Я не собираюсь развивать эту тему, я поднимаюсь, я хочу уйти отсюда, ребенок надрывается от крика. Он наклоняет голову, на лице его мудрая понимающая улыбка. Я снова протягиваю руку за своим блокнотом.
– Мне кажется, что кто-то вас зовет…
Но я вижу, что он чем-то очень расстроен, сидит в кресле, всем своим видом показывая, что не хочет, чтобы яушла, быстро перелистывая еще и еще страницы блокнота.
– Прежде всего – вещественный мир, реальные предметы, которые можно осязать физически, потрогать… и только потом уже – идеи и символы, вытекающие из них. Это литература. Абсолютная внезапность того, что случилось – с вами или кем-то еще, способность сопереживания – реального, а не абстрактного, быть ближе к земле, сокращая расстояние между реальной жизнью и литературой…
Я улыбалась. Рука моя еще протянута к блокноту. Я различаю шаги молодого человека сквозь истошный плач младенца, где-то грохочет, падая, посуда. Он начинает вставать, не выпуская из рук блокнота. Теперь, когда мы стоим лицом к лицу, я вижу, насколько он действительно ниже меня ростом, – уж не это ли причина тому, что он старается вставать пореже.
– Передайте от меня приветы Аси. Когда он впервые подошел ко мне в университете, я даже сразу не сообразил, кто он. Я помню его еще мальчишкой. Его отец, старый Каминка, был моим учителем в старших классах.
– В самом деле? Я никогда об этом не слышала.
– Тот еще был господин. Оч-чень странный, кроме всего прочего. Такой, что мог вымотать вам все кишки. Тем не менее именно он научил меня мыслить. Что с ним? Он еще жив?
– Без сомнения. Последние несколько лет он прожил в Америке.
– В Америке? Каминка? Что он там делал?
– Преподавал в нескольких открытых еврейских колледжах смешанного типа. На самом деле я никогда его не встречала. Он был уже там, когда мы поженились.
– И он не прилетел на вашу свадьбу?
– Нет.
– Очень на него похоже. Весьма необычный экземпляр. Очень сложный. И нашу жизнь делал довольно тяжелой. И вы говорите, что никогда не встречались с ним?
– Нет. Но вероятно, встречусь. Он сейчас здесь, приехал по делам. К слову сказать, сегодня он должен появиться в Иерусалиме.
– А жена его тоже жива? Я слышал, что она заболела… или нечто в этом роде.
– Да. Именно. Что-то в этом роде.
– Странный тип. Талантливый, но опустошенный какой-то. Было время, когда он размазывал нас по стенке…
(И вы-то не лучше… «Странный, опустошенный, необычный»… На одной странице – три раза…)
– Передайте ему мои наилучшие пожелания. Если он захочет, он вспомнит меня. Наши отношения всегда были непростыми. И вот что еще – если вам когда-нибудь захочется, чтобы я прочитал другие ваши вещи, я рад буду сделать это. И вам не нужно будет для этого прибегать к помощи Аси.
Я ощутила на своем лице его прокуренное дыхание – не самое приятное из ощущений. Он провожает меня до выхода, его ладонь на моем плече, он возвращает мне мой блокнот.
– Это стихотворение… вы сказали, что оно заслуживает публикации… кому я должна послать его? Вы не могли бы… если вы не шутили… дать это кому-то…
Он делает шаг назад, рука его соскальзывает с моего плеча. Но я смотрю на него, сосредоточив в этом взгляде всю свою красоту.
– Вы уже хотите публикации?
– Только если заслужила ее. Но если вы раздумали…
Моя рука сама вырывает из блокнота нужную страницу и протягивает ему. Он неохотно берет ее, затем возвращает мне и просит написать на ней мой адрес. Мы стоим в передней, возле кухонной двери стоит высокий молодой человек, на руках у него маленькая девочка. Ее лицо мокро от слез, она приглушенно всхлипывает и тянет к нему руки, но он не обращает на это внимания и продолжает разглядывать меня, сжимая в руках листки с моими стихами.
Огромная женщина открывает дверь своим ключом, уходит, окидывает нас пронзительным взглядом и быстро хватает малышку. Через открытую дверь я вижу задний двор и двух подростков, надувающих футбольный мяч. На улице – обычная сумасшедшая толчея. Сделав несколько шагов и не в силах побороть свое любопытство, я украдкой проделываю обратный путь.
– Простите меня за этот вопрос, но… сколько у вас детей?
Он быстро поворачивается:
– Двое. А что?
– Ничего. Я просто…
По лестнице бесшумно крадется к нам маленькая бесцветная мышка в очках. Возможно, именно та, что владеет ключом к новому художественному языку. Мне к лицу роль прорицательницы, и мой вердикт таков – мышку ждет почетный провал, тем не менее оставляющий надежды на будущее. Моим собственным достижением я могу считать ломоть белого сыра, сумрак хлебных полок и бакалейную лавку – истинное место моего пребывания, где я всегда чувствую себя как дома. Впрочем, это и есть мой дом. В ту минуту, когда я это описываю, во мне разливается тепло. Смотреть на все это широко раскрытыми глазами, не бояться выставить сокровенную часть своей души напоказ, копать все глубже и глубже, докапываясь до самой сердцевины проблемы, если ты знаешь, что проблема есть. Прощайте, изменчиво меняющиеся облака. Он прав. Но что я буду делать без этого «изящества», волшебного слова, которое так выручает меня в затруднительном положении? «Дряхлая змея на скале, старая, дряхлая, и сбившаяся с пути».
Я должна найти замену.
А тем временем ломоть сыра со страниц моего рассказа перебрался в реальную жизнь. Вот он, отец большим ножом отделяет его от круга, милое его лицо выглядит усталым, кипа съехала на затылок, он высок и по-прежнему строен. Предметы, знакомые с детства, здравствуйте. Помогите мне прийти в себя – и вы, буханки хлеба и халы, и вы, бисквиты и печенья, и ты, копченая рыба, и вы, банки с джемом, окружите, обнимите меня, мне так нужна ваша поддержка. А папа тем временем перебрасывается с маленькой крикливой покупательницей, страдающей от варикоза и вступившей в смертельную схватку с длинной полоской чеков. Я тихонечко проскальзываю к нему и стою за его спиной среди бочонков с пивом и коробок с моющими средствами. Мама в очках, прищурившись, пишет новые цены на этикетках поверх старых.
– Опять цены растут?
– Ах, Диночка, как хорошо, что ты зашла. Аси звонил. Он пытался узнать, где ты и что с тобой.
Папа уже обнимает меня, поглаживая по спине. Покупатели подождут.
– Потише, полегче, – говорит мама. – Ты испачкаешь ее платье.
– Я куплю ей другое, не хуже. Ну так что он тебе сказал?
– Кто?
– Ну этот… писатель. Как там его зовут…
– Дай ей перевести дух, – говорит мама.
– А как ты об этом узнал?
– Аси сказал нам.
Моя дверь в квартире никогда не закрывалась ни на ключ, ни на крючок, даже в ванную они врывались без стука, как, впрочем, и в спальню. В моих шкафах для них не было секретов, ничего интимного, личного, неприкосновенность личной жизни не существует, уединиться я не могу даже сидя в туалете, я открыта для них всегда, для их сокрушительной любви, для всепоглощающей и неутолимой жажды в любую секунду знать, где я и что со мной. Как я могу обижаться на них за это? Да я просто обязана навещать их, хоть ненадолго, каждый день – ведь и всего-то они хотят знать наверняка, что дочь их жива и здорова, а не превратилась в дым при очередном теракте.
– Ну так и что же он сказал? Понравилось ему?..
– Да… более или менее… кое-какие замечания… но… скорее да… а в целом…
– Отстань от нее, – говорит мама. – Госпожа Гольдер ждет своего чека. Не заставляй ее нервничать.
Он целует меня и возвращается в лавку.
– Хочешь, чтобы я тебе помогла, мама?
– Нет, дорогая, абсолютно нет. Садись и переведи дух. Сейчас я тебе приготовлю чего-нибудь поесть. Одну минуту, хорошо? А пока разыщи Аси. Он уже успел позвонить сегодня трижды. После двенадцати должен приехать его отец.
– Я знаю.
– Позвони ему, пожалуйста, прямо сейчас. До полудня он будет на работе. Мы обещали, что ты позвонишь сразу, как только появишься.
– Хорошо.
Я сажусь на ящик с пивом, чувствуя себя так, словно у меня только что вырвали зуб.
– Хочешь, я сама наберу номер?
– Подожди чуть-чуть, хорошо?
– С тобою все в порядке? Пошли, я сейчас приготовлю чай…
– Можно я посижу еще минуту?
– Его отец прибывает сегодня в три часа… ну вот мы и решили, что пригласим вас втроем на ужин, и тебе не нужно будет самой возиться с этим. А мы наконец сможем его увидеть… ведь он, что ни говори, наш родственник… никто не понимает, как это до сих пор мы ухитрялись не видеть его. И само собой, я полагаю, ему тоже хочется встретиться с нами.
– Только не этим вечером, мама. Я думаю, он захочет побыть наедине с Аси. Они не виделись уже несколько лет…
– Но Аси уже решил…
– Может быть, ты перестанешь дразнить меня? Нет, нет… пожалуйста, не огорчайся, это я так… дай мне немного подумать… одну минуту…
Одну минуту, одну минуту…
Вернулся папа, он не в состоянии был дождаться своей очереди.
– Ну что, договорились? Вы ужинаете с нами сегодня вечером? И тебе ничего не нужно готовить.
И он возвращается в лавку.
Они намертво прилипают ко мне, полные тревоги, они беззастенчиво льстят мне.
– Нет, мама. Только не сегодня вечером. Как-нибудь в другой раз.
– Это ведь только для тебя. Разве дома у тебя есть что-нибудь на ужин?
– Есть. Соображу что-нибудь. Не беспокойся.
– Нам это не нужно, пойми. Это не для нас. Просто хотим тебе помочь. И не сомневаюсь, он тоже хочет увидеть нас всех вместе.
– Конечно, конечно. Захочет. Я приведу его. Но не сегодня вечером. Может быть, даже завтра.
– Может, на пасхальный вечер?
– Не думаю. Скорее всего, он захочет этот седер провести с Яэлью и внуками. Думаю, нам придется к ним присоединиться.
У мамы кровь отливает от лица.
– Надеюсь, это не означает, что на время седера ты хочешь оставить нас одних?
– Мы проводим его вместе с вами каждый год. Если нас не будет, это случится только раз. Да и то еще не окончательно…
Со мною что-то происходит. И разве может единственное дитя что-нибудь скрыть от беспощадно любящих глаз?
– Диночка, тебе нехорошо. Может быть, ты хочешь спуститься и прилечь?
Пожалуйста, милая, не могла бы ты заболеть, так чтобы мы могли уложить тебя в постель и, как в детстве, укрыть тебя, поправить подушку, а потом молча сидеть рядом, сидеть, держа тебя за руку, и сидеть, сидеть…
Я сижу безмолвно. Мне кажется, что я обратилась в камень.
– По-моему, звонит Аси, – говорю я.
Это Аси.
– Дина? Когда ты там появилась?
– Только что, Аси. Вот в эту минуту.
– Это заняло много времени?
– Нет, это длилось недолго.
– Ну и что он сказал?
– Потом, ладно?
– Ну, в одно слово.
– Все хорошо.
– В каком смысле?
– Позднее, хорошо?
– Мой отец приезжает сегодня.
– Мне уже сообщили.
– Похоже, здесь что-то пошло не так. Кедми вмешался в дело и настоял на том, что за получением подписи он отправится один, чем запутал все дело. Я предостерег их, чтобы они этого ему не разрешали, но с помощью Яэли он распоряжается всеми как хочет. Говорить об этом сейчас не стоит. Он прибудет в три часа на автобусе, уходящем из Хайфы ровно в час, но мои лекции закончатся не раньше трех тридцати, так что тебе придется встретить его на остановке такси и вместе с ним приехать домой.
– Хорошо.
– Ты хорошо знаешь, что в доме полный беспорядок. Никакой еды нет. Твои родители пригласили нас сегодня вечером на ужин. Может, есть смысл нам принять их предложение, чтобы тебе не пришлось возиться с готовкой?
– Не волнуйся. Я что-нибудь соображу, а ты мне поможешь. Я полагаю, он хочет провести этот вечер с тобой в тихой обстановке.
– Ну, как знаешь. Я думаю сейчас о тебе.
– Вот и прекрасно. Ты ни копейки не оставил мне для покупок. И это уже не в первый раз. Так-то вот…
– Я не отвечаю за твои покупки. К тому же у меня сейчас в карманах пусто. Ты можешь одолжить немного денег у своих родителей.
– Я больше не возьму у них ни лиры. Ты же знаешь, что они никогда не берут их обратно. Зачем ты вытряс все деньги из моего кошелька?
– Я не взял из него ни пылинки. Я тоже совершенно пуст. А ты все-таки займи у родителей тысяч пять. Такую сумму они не откажутся потом принять.
– И не подумаю. Перестань давать мне советы. Я зайду в банк и возьму там деньги на собственное имя. К кому я должна там обратиться?
– Абсолютно к любому клерку. Не имеет значения, к кому именно.
– Напомни, где располагается наше отделение банка?
– Там же, где всегда, – на углу улицы Арлозорова и Бен-Иегуды.
– Правильно… теперь я сама вспомнила.
– Возьми у них две тысячи.
– Я возьму столько, сколько мне надо.
– Хорошо, хорошо. Только не опоздай. Будь здесь к трем. Ты его узнаешь?
– Узнаю. Не волнуйся.
– Я вернусь домой прямо из университета.
– Может, есть смысл встретиться в каком-нибудь кафе в Нижнем городе?
– Нет. Это слишком сложно.
– С чего вдруг?
– Какого черта тебя понесло вдруг в дурацкое кафе? Он будет уставшим. Я буду дома в четыре тридцать. Отправляйтесь прямо туда, договорились?
– Договорились. Скажи мне что-нибудь…
– Что я тебе должен сказать?
– Меня ждет наказание?
Долгая пауза.
– Это не наказание. Это отчаяние.
Он бросает трубку.
А родители уже что-то уловили. Я не успела оглянуться, как они с головой погрузились в заботы, связанные со мной и предстоящим мне домаужином. В огромную корзину укладывалось все необходимое для роскошного угощения: баночки с творогом, большие куски разнообразного сыра, истекающего слезой, за ними следовали маленькие корзиночки с шампиньонами, холодильник безропотно отдавал свое содержимое под нескончаемую песнь материнской любви – ну вот это, и еще это, и еще чуть-чуть этого, не гляди так, Диночка, да, конечно, все это можно купить в супермаркете, но там у них такие наценки, ты же не захочешь, кстати, вот здесь, в уголке, я оставляю кошелек, там совсем немного денег, отдашь, когда сможешь, ну все, все, полная корзина, папа поможет тебе донести ее до автобуса, что значит – ты не возьмешь, в чем дело? Как ты можешь… как будто ты не знаешь, как мы тебя любим и ждем всегда, и скучаем, не успеешь ты переступить порог, а мы уже считаем минуты до твоего следующего визита. В корзине все аккуратно уложено, все продукты – самые свежие, еще несколько дней ты сможешь…
Но на этот раз на меня что-то нашло, и я отказываюсь. Строптиво и непреклонно. Никаких денег. Есть у меня. Мои собственные. Я не возьму ни крошки. Вопрос закрыт. Без объяснений. И ничего в долг, никаких одолжений, ведь вы потом ничего не берете. Но если вы настаиваете, единственное, что я согласна взять, – это ломоть белого сыра.
– Зачем он тебе нужен? Посмотри, он такой сухой… Он тверже камня. Совсем не свежий… Он так давно…
– Я натру его на терке и сделаю из него суфле.
– Никто и никогда не сделает из него суфле, Диночка, не будь ребенком…
– Я видела подходящий рецепт в поваренной книге. Вам он для чего-то нужен? И кстати – сколько он стоит?
Бедный папа, он не просто рассержен, он в ярости, она оскорбляет нас, наша дочь, он заворачивает огромный кусок сыра и швыряет его мне. Лавка полна покупателей, они раздражены, их покупки лежат на прилавке, лицо папы багровое от гнева, мама, похоже, никогда еще не видела его таким. Я никогда до этого дня не говорила им «нет», я целую маму и трогаю его за рукав, после чего выскальзываю наружу, оказываясь за спиной театра Эдисона, и иду вдоль длинной и глухой стены, напротив которой афиши кино, а в углублении, в дальнем конце приткнулась небольшая лавчонка, скорее даже киоск, торгующий газированной водой (с крана непрерывно стекает тонкая струйка) и разнообразной мелочью вроде жевательной резинки, лежащей в аккуратных желтых картонках, а рядом с сухими вафлями я замечаю стопку тонких блокнотов и тетрадей. Владелец киоска – толстый инвалид, равнодушно сидит на стуле, опираясь на стену спиной, перед его глазами – старые киноафиши, за стеной – рев проносящихся машин и грохот выстрелов американского боевика, но его это все не касается и, похоже, не раздражает. Я рассматриваю блокноты, перебирая их один за другим, и останавливаю свой выбор на оранжевом с едва заметными линиями – производства иерусалимской писчебумажной фабрики.
– У вас только такие блокноты?
Но он не отвечает. И даже не смотрит на меня. Застыв, он слушает что-то, что происходит в нем самом. Ну, может быть, еще, что делается за толстой каменной стеной. И не двигается. Похоже, что ему на все наплевать.
– Ну, хорошо, – говорю я. – Тогда я беру вот этот.
Он протягивает руку и берет блокнот, чтобы взглянуть на его цену. Я высыпаю на прилавок горку мелочи, он смотрит на меня с подозрением, затем начинает считать. Я хватаю свой блокнот, ощущая, как зудят мои пальцы, и я пишу вот здесь, прямо здесь, на грязном прилавке, возле грязной стены грязного Нижнего города, в окружении каменных домов, чернеющих выбитыми окнами, под взглядами одетых в кожу фотомоделей на плакатах и любопытных прохожих, живущих где-то совсем рядом. Дрожащими от вожделения пальцами я перебираю страницы блокнота.
– У вас не найдется, случайно, ручки… или хотя бы карандаша?
Он извлекает откуда-то обшарпанную ручку, я плачу ему, и он отсчитывает мне сдачу мокрыми монетками. Страсть уже охватила меня всю. На одной стороне блокнота я пишу: «Поэзия», переворачиваю блокнот и на другой стороне пишу: «Проза», прилавок мокрый и грязный, и я стараюсь писать как можно быстрее.
Змея, застывши на скале… Шуршит и истекает кровью…Владелец киоска, уставившись на меня, говорит:
– Вы, дамочка, перепутали прилавок с письменным столом.
Но я не обращаю на него внимания, переворачиваю блокнот той стороной, что предназначена для прозы. Отец в негодовании, огромная мрачная стена, смрад, грохот проносящихся машин и взрывов, доносящихся из кинотеатра… Владелец лавочки, похожий на зомби, продает газированную воду в тени бананового дерева. Она покупает у него блокнот…
– Э-э, дама… я же сказал, не здесь!
Автобус тормозит на противоположной стороне, шофер пялится на меня, дверь со свистом открывается и закрывается, я хватаю блокнот, сумку и сверток с сыром и стремглав проношусь на другую сторону, дверь снова открывается, и вот я уже в безопасности внутри. Спасибо. Он ухмыляется. И предлагает мне усесться рядом с ним, что я и делаю, одаряя его своей ослепительной (знаю) улыбкой и протягивая плату за проезд, но прежде чем он успевает раскрыть рот, хватаю свой блокнот и впиваюсь в него. «Мгновенная реакция на ее красоту». А на поэтической стороне пишу:
Я вижу, как она танцует, Как тело гибкое ее Мелодию послушно повторяет.Что-то происходит сегодня.
Ключи уже торчат из стеклянной двери банка, но я ухитряюсь просочиться в узкую щель. Меня никто здесь не знает, поскольку в банке у нас общий счет, которым целиком распоряжается Аси, но утонченный молодой администратор берет меня под свое крыло и помогает получить пять тысяч, несмотря на то что у меня нет с собой чековой книжки. Он заполняет необходимые бланки вместо меня и заботливо протягивает их мне для подписи, после чего устремляется в кассу и приносит мне деньги новенькими купюрами, а вдобавок и новую чековую книжку – я вижу, что он готов для меня разбиться в лепешку, представляя собой тот высокоорганизованный нервический тип интеллектуала, выпестованного честолюбивой матерью, способного распознать во мне трепетную девственницу, влекущую его к гибели, как пламя свечи – нежного мотылька.
Его невесомые крылышки бьются среди пустеющего банка, где последние клерки собирают последние бумаги, с улыбкой поглядывая на нас перед тем, как отправиться восвояси. А меня внезапно охватывает непреодолимое желание узнать состояние нашего банковского счета. И оказывается, что в банке у нас несколько различных счетов, – мотылек выписывает их на отдельном бланке и отправляется для уточнений к центральному компьютеру, чтобы получить подробные сведения отдельно по каждому счету. «Здесь у вас лежит двадцать тысяч фунтов, а здесь – изрядная сумма в немецких марках, ну а здесь отмечены имеющиеся у вас акции». Я ничего об этом не знала и никогда не задумывалась, передоверив все финансовые расчеты Аси, пропуская мимо ушей все, что он об этом говорил, что вообще-то было удивительно, поскольку я – вслед за ним – должна была ставить свою подпись на любой бумаге… нетерпеливое позвякивание ключей отвлекло меня. Несколько молодых сотрудниц укоризненно покачивали головами рядом с выходом, но мой мотылек в очках решил, что сейчас самое время познакомить меня с последней банковской программой, предназначенной для процветающих молодых женщин. Я покорно внимала ему, бессовестно кивая, но в конце концов заявила, что мои возможности распоряжаться финансами ограничены суммой не превышающей пятьдесят тысяч, зато пообещала прислать своего мужа, с которым он сможет поговорить напрямую, и, спрятав банкноты в сумочку, подарила ему прощальный взгляд, от которого он весь пошел пятнами, и, открыв передо мной стеклянную дверь, весь сжался. Словно мое случайное прикосновение оказалось бы для него смертельным.
Я купила пирожное и букет цветов и дождалась своего автобуса. Было уже за полдень, и мне следовало поторопиться. Сидя на заднем сиденье, я вытащила свой блокнот и записала прозой: «полуденный свет в пустеющем банке», а на обратной стороне – «трепещущая моль из серебра».
Дома я сбросила с себя платье и влезла в рабочие брюки, прибрала посуду, после чего проветрила квартиру. Холодильник был практически пуст. Свой ломоть сыра я потеряла то ли в автобусе, то ли оставила его в банке. Какого дурака я сваляла, отказавшись от помощи родителей, да еще и обидев их. Я позвоню им и извинюсь. С этой мыслью я сбежала по лестнице, направляясь к угловому магазинчику, маколету, но тот, разумеется, был закрыт. У меня совсем выскочило из головы, что сегодня вторник! Но погода вдруг так разгулялась, солнце брызнуло с чистого синего неба, и день, который начался так мрачно, вдруг наполнил меня саму светом и теплом, несмотря на порывистый свежий ветер.
И я вернулась обратно. Собрала в кучу старые газеты, сложила в папки бумаги, принадлежавшие Аси, и поставила их на полку в шкафу, подравняла книги, сменила брюки, нанесла макияж… время пролетело единым мигом… В два тридцать я уже снова была внизу в ожидании автобуса, но он прорычал мимо меня, не остановившись. Шагнув с тротуара на проезжую часть, я вытянула руку с поднятым вверх большим пальцем, и «мерседес», проскрежетав, остановился. Обычно я так не поступаю, слишком уж это просто и легко, в такие минуты я чувствую себя проституткой. Водитель в огромных темных очках был похож на сутенера. «Куда тебе, крошка, – в Нижний город? Без проблем». Я стояла, упершись в дверцу так, чтобы ему было видно мое обручальное кольцо. Предостережением это должно было показаться ему – или обещанием? В наше время всякий расценивает по-своему. Он попытался завести со мной разговор, я отвечала вежливо, но все более и более сухо по мере того, как мы приближались к Нижнему городу. Остановил нас сигнал светофора. Можно? Я открыла дверцу и выскользнула наружу.
Без пяти минут три. Внезапно меня охватило возбуждение. Отец моего Аси. Каминка, собственной персоной. Человек, о котором я столько слышала и знала, но лишь из писем, обычно заполненных политикой и заканчивавшихся просьбой прислать побольше книг и журналов. Отец Аси… непременный участник всего, что с нами происходило: от любовных наших ристалищ в постели до сумбурных предсвадебных приготовлений, не исключая и саму свадьбу, – настолько он глубоко внедрился в самую сущность своего сына. И вот через несколько минут я увижу его воочию в конце улицы Бен-Иегуды, получив долгожданную возможность разобраться, расспросить и понять этого человека. Автостанция. Автобус номер пятьсот тридцать два из Хайфы придет, девушка, прямо сюда, сядьте и не беспокойтесь, из Хайфы он отбыл ровно в час и с минуты на минуту прибудет, да не беспокойтесь вы так, лучше скажите, как его зовут, и я мгновенно найду его… И я послушно сажусь на скамейку среди груды посылок и бандеролей, дверь офиса распахнута настежь, так что мне видна и запруженная людьми и транспортом улица, и солнце, затопившее своим светом крыши домов, подобно морю. Вокруг меня теснятся десятки людей, напоминая о приближающемся празднике, толпа сдавливает меня со всех сторон, но я ухитряюсь вытащить свой драгоценный блокнот, ничто на свете не в силах помешать мне. Проза сначала. Я пишу: «Сумасшествие свадьбы». На поэтической стороне я перечеркиваю «серебристого мотылька».
Огромный автобус, остановившись, перегораживает всю улицу. «Ну вот, а вы боялись». Из распахнувшихся дверей начинают выходить пассажиры – мужчины, женщины, дети. Если я чего и боялась, то это того, что я его не узнаю.
Но я узнала его сразу. Потому что из автобуса вышел Цви. Невероятно! Даже страшно узреть подобное сходство. Это, пожалуй, самое важное качество – его абсолютная идентичность с Цви никогда при мне не упоминалась. Вылитая копия. Высокий, прямой, крепко сложенный, он остановился возле автобуса. Костюм на нем был немного помят. Стоит и, прищурившись, смотрит по сторонам. Седые волосы растрепаны, маленькие аккуратные усы. Зачем ему усы? Они придают ему какой-то устрашающий вид. Общий вид его – усталый и немного растерянный, но я не в силах сдвинуться с места, словно примерзла. Я гляжу на него, стараясь этим взглядом привлечь его внимание, но внимание привлекаю лишь со стороны толстяка водителя автобуса, который помогает пассажирам освободить грузовые отсеки, успевая при этом перебрасываться скабрезными шуточками с клерками автостанции. В это мгновение я ощущаю нечто вроде удара. Он смотрит на меня! Смотрит, но не видит. В этот момент шофер достает из багажника его вещи – пальто, шляпу и маленький кожаный саквояж. Не говоря ни слова, старый Каминка кивает шоферу и, держа весь свой багаж в руках, смотрит вверх по улице, залитой солнцем. Затем неуверенно движется в том же направлении. Я должна последовать за ним, но шариковая ручка приклеилась к моим пальцам и выводит в блокноте: «Она его видит. Шляпа. Морщины. Солнце еще высоко».
Он переходит улицу Бен-Иегуды, направляясь к какому-то офису, но внезапно поворачивает обратно и начинает спускаться по улице вниз. Проносящиеся машины на какое-то время заслоняют его от меня, и я теряю его из виду, я мгновенно вскакиваю на ноги, блокнот – в сумке, и, сводя с ума шоферов, бросаюсь наперерез потоку, но он исчез, он исчез… Я в ужасе, но в это мгновение вижу его – он движется по тротуару в сторону светофора, где и останавливается, обратившись с вопросом к одному из ожидающих на переходе зеленого света. Еще один рывок – и я настигаю его в тот момент, когда он чуть замешкался на самой середине улицы.
И обнимаю его. «Дина». Он, вздрогнув, смотрит на меня, но тут же расплывается в улыбке. Зеленый свет меняется на красный. Наконец-то. «Аси все еще читает лекции в университете, оттуда он без задержки отправится домой». Я завожу его в какой-то проулок, где машины не мчатся, а просто едут, не посягая на вашу жизнь. Он выбрасывает прямо на тротуар сигарету, которую где-то успел закурить, я вижу, что он смущен моим внезапным появлением, он тяжело опирается на мое плечо, прохожие замедляют возле нас свои шаги, наблюдая нашу встречу. Я наконец нахожу безопасное местечко, останавливаюсь и нежно целую его. Он тронут. Он ставит свой саквояж у ног и в свою очередь обнимает меня, со слезами на глазах. «Пришло время», – говорю я и смеюсь. И он повторяет за мной: «Пришло время». Он стоит на тротуаре рядом со мной, и глаза его закрыты.
– Можно я возьму саквояж?
– Даже не думай!
– Ну, тогда хоть пальто и шляпу.
– Они мне абсолютно не мешают. Шляпу я просто надену.
И он надевает ее, вызывая улыбку у окружающих нас зевак. Толпа стискивает нас и относит по направлению к скверу Сионизма. Бесцельно мы отдаемся ее течению.
– Куда теперь?
– К автобусной остановке – и домой.
– Может, нам следует перед этим хватить по глотку? Или ты спешишь?
– Нисколько. Если не считать, что Аси вот-вот доберется до дома.
– Ничего с ним не случится, если он нас немного подождет. Пошли, мне хочется с тобой поговорить. Нет ли здесь поблизости приятного уголка, где можно было б посидеть?
Он взял меня под руку и молодцевато, с неожиданной, даже жесткой хваткой повлек меня по тенистому переулку с уверенностью человека, точно представляющего, куда он идет. Остановился он у стеклянной двери уже знакомого мне банка. Повернул обратно. Оглянулся. Перешел на противоположную сторону. Посмотрел налево и направо. И вернулся ко мне.
– Оно превратилось в банк, – пробормотал он. – Давай тогда двинем до кафе Атара… если оно еще существует.
Он говорил на беглом иврите, который ничуть не портил музыкальный русский акцент.
– Когда вы в последний раз были в Иерусалиме?
– Давно. Очень. Пропустил возможность побывать в нем три года тому назад в последний свой приезд. Выходит, что не был здесь пять лет. Или чуть больше. Там, в Америке, я часто восхищался этим городом. И гордился им. Фотографии Иерусалима можно увидеть в любом офисе, относящемся к еврейской общине, – и это всегда Иерусалим в одном и том же наборе: Старый город, Стена Плача, Музей Холокоста… Все выглядит одинаково, красочно и очень мило. И нет ни одной фотографии этого убогого, переполненного людьми, серого треугольника улиц, в котором бьется и клокочет реальная жизнь Иерусалима и в котором взрываются все эти маленькие бомбы.
Рука об руку мы продолжаем свой вояж и входим в кафе Атара, посетители пялятся на нас, похоже, мы представляем из себя странную пару. Свободное место находится у дальней стенки – маленький столик, на который он кладет свою шляпу. Появившейся официантке он заказывает два кофе и после некоторого раздумья осведомляется о наличии пирожных. Более того, он хотел бы на них прежде взглянуть. Он серьезно обсуждает вопрос о пирожных с официанткой, бросая на меня время от времени быстрые взгляды, сопровождаемые улыбкой. В конечном итоге длинный разговор завершается выбором. Официантка удаляется, за ней уходит и он – вымыть руки. Я извлекаю свой блокнот и, ощущая теплую волну внутри, записываю:
«Тепло, ощущение его во всем теле, сверху донизу. Она искренне рада возможности поцеловать пожилого джентльмена. Постепенно и терпеливо она раскрывается перед ним, не спеша делать какие-либо заключения, избегая категоричных оценок. Помятая фетровая шляпа, небольшие усики, вид добродушный, но в то же время решительный. Прикосновение его руки. Судя по тому, как он выбирал пирожные, он – сладкоежка. Описать пирожное – но так, между прочим, без подробностей, так не похожий на сына отец…»
Он садится рядом со мной, он причесался, волосы его влажны, и капельки воды еще блестят на бровях, и выглядит он весь как-то лукаво – во всяком случае, именно это я записываю в свой блокнот, который тут же исчезает в моей сумке.
– Ну а теперь продолжим. Наконец-то я могу рассмотреть тебя как следует. Сравнить описание с реальностью. Вот ты, значит, какая. Из плоти и крови, во всей красе. Где же он нашел тебя?
– Кто, Аси? В университете, где же еще.
– Они очень старались подготовить меня ко встрече с тобой. Аси писал мне: «Я думаю, что она очень хорошенькая, но не это в ней самое главное». Но что, по его мнению, «самое главное», он так никогда и не пояснил. И Яэль в своей сдержанной и суховатой манере тоже: «Мы почти ничего о ней не знаем. Она замкнута и не любительница поболтать. Она из очень религиозной семьи, но в ней это никак не подчеркивается. Исключительно хороша собой». Конец цитаты. После церемонии бракосочетания Цви тоже написал мне: «Невеста просто красавица». Как если бы они подобным образом хотели мне что-то сообщить, а получилось, что они сами прежде всего хотят понять, хотят, но не могут объяснить прежде всего себе самим, что заставляет Аси так спешить с этим браком, или ответить на вопрос, кто же на самом деле эта совсем молодая девушка, но если им удается в письмах ко мне описать ее красоту, я пойму что-то такое, чего не поняли они, и благословлю этот брак. Сказать тебе по правде, все эти их усилия мало чем помогли мне. Должен признать, что я был скорее смущен. Что я, черт бы их побрал, должен был понять, читая эти постоянные подчеркивания о «религиозной красавице» – никто не упустил случая упомянуть об этом. Было ли подобное словосочетание случайным или содержало скрытый смысл? И какое из этих двух слов было более важным? Какое несло в себе истину, а какое скрывало неправильную оценку? Что отражало временность этого решения, а что – искреннее чувство? Я задаюсь этими вопросами, потому что когда я три года назад виделся с ним, у него была другая подружка, студентка, слушавшая его лекции… они… впрочем, ты, думаю, слышала о ней. И вот ни с того ни с сего я получаю приглашение на свадьбу с религиозной красавицей! Как я должен был это воспринять? Я никого не обвиняю, но извещение было составлено так, словно мое присутствие на свадьбе было не слишком желательным. Мало что прояснила и твоя приписка в конце письма. Ты, надеюсь, простишь меня, но я очень чувствителен к нюансам языка. Все выглядело так, что мое присутствие – или отсутствие – на свадьбе не так уж важно. А теперь вспомни, что это все было зимой, в середине академического года и при полном отсутствии свободных денег, необходимых для подобного путешествия. Надо ли мне было появиться там, чтобы рука об руку стоять под брачным пологом с женщиной, которая уже пыталась убить меня, пусть даже все остальные делали вид, что… что все в порядке. Ну, как тебе это?
Принесли пирожные и кофе. Я сидела, совершенно ошеломленная этим взрывом признаний. Таким фантастическим и неожиданным проявлением враждебности. Такой жестокости. Он глядел на меня не отрываясь, таким взглядом смотрел иногда на меня Аси, но взгляд его был много менее суровым. Неудержимый поток, обрушившийся на меня, был столь же музыкален, сколь и суров. Кто это хотел его убить? Великий боже, о чем это он здесь толкует? Правильно ли я все расслышала? Должно быть, он тоже болен. Что это за семейство, в котором я оказалась? Я содрогнулась от страха. А он наклонился над тарелочкой с пирожными и стал с видимым наслаждением обнюхивать их. Затем достал две зеленые таблетки и начал их жевать.
– Это чтобы проснуться. Я добирался более семи часов и все еще не могу прийти в себя. У меня затекли ноги… такого со мной никогда раньше не случалось. Должно быть, становлюсь стар… тебе не кажется?
И он откусил пирожного.
– Я хотел написать твоим родителям и извиниться перед ними… и перед тобой, разумеется, тоже. Я предпринял некоторые усилия, чтобы разузнать о них побольше… через своих друзей в Иерусалиме. У них, как мне сказали, есть магазин бакалеи, так что выходит, они вполне порядочные и обеспеченные люди. Скромные венгерские евреи… Я правильно говорю? Вы из Венгрии?
Он перестал прихлебывать свой кафе и отломил еще кусочек пирожного и, положив его в рот, стал медленно жевать, всем своим видом выражая глубочайшее удовольствие от этого процесса.
– Но в конечном итоге вы так ничего и не написали, – пробормотала я.
Он прикоснулся к мой руке:
– Я не был уверен, что они это правильно поймут… мне пришлось бы начать все объяснения с самого начала… и это при том, что они уже успели узнать обо мне… такие обычно очень болезненно реагируют на неприятности в семейных отношениях. Я все-таки написал одну страницу… и отправил ее в корзину для бумаг… но дал себе слово, что однажды я объяснюсь начистоту. И вот теперь я здесь, один, наедине с тобой… и ты так мила… и то, как ты расцеловала меня… так сердечно, прямо посредине улицы, без малейшего колебания. Ты не только красива – это бывает… но у тебя есть характер… и я очень рад тому, что все получилось именно так и что наше знакомство состоялось, так сказать, тет-а-тет, без свидетелей, потому что, случись здесь Аси, он немедленно стал бы спорить со мной. Всю свою жизнь он только этим и занимается. Мне кажется, это началось с момента его появления на свет, прямо с колыбели. К счастью, сейчас у него для этого есть достаточно студентов, с ними он может спорить сколько угодно, и я полагаю…
Мощь этого потока своеобразной речи захлестнула меня, я была к подобному не готова, а потому сидела оцепенев, заливаясь краской, солнце слепило меня, гул вокруг оглушал, то и дело я ловила на себе чьи-то взгляды. Аси скоро доберется до дома. Все свалилось на меня так неожиданно. Голова моя шла кругом. Эмоции захлестывали. Он положил в рот остатки пирожного, допил кофе и сидел с закрытыми глазами, улыбаясь чему-то, известному лишь ему одному. Затем открыл глаза и огляделся.
– Но я… я не поняла… кто пытался вас убить?
Он пристально поглядел на меня. Достал зажигалку и сильным движением пальца зажег.
– Ты на самом деле не знаешь? Никто ничего тебе не говорил? Никогда? Похоже, что Аси всерьез заботится о нашей семейной чести. Как давно вы женаты? Что-то около двух лет, верно? Если за это время ты его не бросила, думаю, что и в дальнейшем не сделаешь из-за этого, ха-ха-ха!
Этот внезапный и странный смех изумил меня.
– Из-за… этого?
– Не бери в голову. Если они ничего тебе не сказали, значит, это не имеет значения. Давняя история. Все в прошлом.
Но внезапно он прямо на моих глазах переменился, придвинулся ко мне вплотную, весь окутанный облаком дыма, и лихорадочно начинает бормотать, выплевывая слова:
– Ты спросила меня – «кто?» Она, кто же еще. Как ты полагаешь, почему она находится там, где она сейчас, а я – здесь, рядом с тобой? Интересно, заикались ли они хоть раз об этом при тебе. Похоже, что нет. Ну хорошо, тогда… тогда… когда-нибудь, годы спустя, когда меня уже не будет, Цви расскажет тебе, как он своими глазами увидел меня валяющимся на полу возле кухни в луже собственной крови…
Он ослабил галстук, расстегнул две пуговицы на рубашке и продемонстрировал мне розовые полосы на горле и груди, хорошо видные среди седых волос, – лучи солнца играли у него на лице. Он снова дотронулся до моей руки.
– О чем это я? А, да, я остановился на вашей свадьбе. Меня этот вопрос мучил тоже все это время. Что происходит? Мой сын женится, а я в это время за тридевять земель от него сижу в какой-то дыре среди зимы и пытаюсь наказать вас, хотя на самом-то деле наказываю лишь себя самого. Что должны думать все свидетели свадебного торжества об отсутствующем по неведомой причине отце жениха? И что должна думать об этом невеста? Но однажды, говорю я себе, однажды я все ей объясню. Через год или через десять… вернусь и объясню. Когда закончится вся суета, я сяду с ней в каком-нибудь маленьком кафе в Иерусалиме – так я себе это представлял – и мы поговорим с глазу на глаз. Без свидетелей. Я не имел в виду вот это обычное кафе, я думал о том, маленьком и уютном, которое теперь превратилось в банк, и я – один на один с религиозной красавицей, потому что ты и в самом деле просто чудо… Да, теперь я понимаю, почему они все непрерывно подчеркивали это… А я вот спрашиваю тебя? Себя? Кто ты на самом деле? Нам следует попытаться хотя бы узнать это… познакомиться с тобой получше…
Посетители кафе беззастенчиво пялились на нас. Парочка, сидевшая неподалеку держась за руки, не была исключением – похоже, что мужчина попросту не мог оторвать от меня глаз.
И тут меня осенило. Передо мной был герой рассказа. А может быть, – и это было бы много лучше – герой повести или даже романа. Если только случится, что он останется или надолго задержится у нас в Израиле, я на полную катушку постараюсь использовать этот факт, всего его или отдельные его черты могут целиком и уже прямо сейчас перейти на бумагу, равно как и его манера говорить, не исключая простого воспроизведения отдельных его высказываний. Без каких-либо изменений. Аси… он не в силах был объяснить мне ничего. Тысячу раз я спрашивала его, на что похож его отец, и все, что я от него услышала, вызывало в воображении некий блеклый стереотип. И вот теперь он сидит передо мной, и я вижу героя, незаурядную личность, – персонаж из романа! Я бросаю на него взгляд: густые брови, аккуратные маленькие усы, прерывистый поток его речи. Передо мною сильная личность. Несомненно чистосердечная и искусная одновременно. Я крепко схватила чашку горячего кофе. Теплая струйка согрела желудок. Аси не прикасался ко мне уже две недели. Саквояж, пристроившийся возле моей ноги, отдавал мне свое тепло. Посетители кафе носились туда и сюда, едва не задевая мои волосы. Становилось все теплее. Внезапный аромат весны наполнил воздух. Я чувствовала, как меня охватывает странное возбуждение. Расстегнула одну пуговицу на блузке, потом другую. Слова, рвавшиеся наружу, принесли мне физическую боль. Потеряв над собою контроль, я вытащила из сумки блокнот и быстро записала: «внезапно пробудившееся желание. Причина – будущий герой повествования». Закрыла блокнот и убрала его обратно. Он понимающе улыбнулся.
– Поймала фразу? Когда я был в твоем возрасте, я даже спать ложился, не выпуская из рук такого же блокнота.
Ну, эти времена, подумала я, для него давно уже позади.
– Нам надо идти. Время бежит. Аси будет злиться…
Он попросил принести счет. Пять сотен? Пораженный, он смотрел на полоску бумаги. Похоже, вы здесь неплохо устроились, если такие сумасшедшие цены не смущают вас. Он вынимает свой бумажник и достает из него несколько долларовых купюр, но официантка отказывается принимать их. Тогда плачу я, наотрез отказываясь взять доллары, которые он протягивает мне. «Только один человек в этом семействе знает действующий на сегодня курс доллара – это Кедми, – говорит он. – Водитель такси поступил так же, и Яэли пришлось за меня заплатить, и, как и ты, она отказалась от долларов… Надо зайти в банк и поменять мою валюту». «Аси сделает это, – говорю я. – Так что не надо тратить на это время. Он убьет меня за то, что я так долго вас задержала». Мы движемся по направлению к автобусной остановке и присоединяемся к толпе ожидающих, сгрудившихся возле металлического ограждения. Я делаю попытку – увы, неудачную – поймать такси. Он разглядывает лихорадочно кипящую жизнь улицы. Подходит автобус. Толпа бросается к машине и начинает штурмовать входную дверь. Я беру у него шляпу и помогаю ему пробиться вперед, подталкивая в спину. И нам сопутствует успех – мы внутри. Он исчезает в то короткое время, пока я плачу за нас обоих.
В автобусе некуда яблоку упасть, десятки людей работают локтями и с веселым остервенением пихают друг друга. Я вижу его – он ухитрился добраться до заднего сиденья и даже найти себе место. Тут же он одалживает газету у соседа и разворачивает ее, успев при этом подмигнуть мне. Где я? Куда я попала? А вдруг у него размягчение мозга и он окажется очередным в этой семье сумасшедшим? А затем капля за каплей это передастся мне. Я не тебя имею в виду, персонаж из мрака. И это не притворная стыдливость. Это форма самозащиты, но ведь я берусь описывать твоего отца. Моего будущего как-никак героя. И конечно, в прозе, только в прозе может быть это исполнено… Да ведь еще и ребенок тут же, даю слово, ребенок тоже появится, это может быть сделано благодаря достижениям науки, в частности анестезии: здесь темная магия прозы. Все, что у тебя является чистым, я превращаю в нечистое, а все нечистое в тебе я очищаю. Все, что для тебя запретно, я делаю разрешенным, но что тобою разрешено, запрещено у меня, твою любовь я превращаю в ненависть, а то, что ты ненавидишь, наполню любовью, твое благословение у меня превращается в проклятие, но то, что ты проклинаешь, благословляю я. Я принимаю то, что отвергаешь ты, – и все это я делаю, не боясь твоего гнева. Что такого должен был он сделать, чтобы вызвать у нее желание убить его? Ослепительный свет, отражаясь от поверхности моря, заставляет меня на миг зажмуриться. И в это короткое мгновение я снова вижу давнюю картину – вижу Аси и отвращение в его глазах, ее пронзительный взгляд, белое хлопчатобумажное платье. И застарелый запах лекарств, и банку с джемом, что моя мама дала Аси, а я положила на траву у ее ног, сам он наклоняется к ней и говорит: «Мама, это Дина, мы пришли пригласить тебя на свадьбу». Это было впервые прозрачным зимним днем, она сидела, завернувшись в одеяло, в кресле возле огромного дерева. Она слушала и даже улыбалась. Она выглядела абсолютно нормальной до тех пор, пока не зашло солнце, и настроение у нее резко изменилось, что же должен был он совершить, чтобы вызвать у нее желание прикончить его, – здесь-то и таилась разгадка, тот самый скелет в шкафу, то, что они прятали, оставив его плавать в луже собственной крови в коридорчике рядом с кухней, как отталкивающе все это, но ведь в этом и суть ситуации, которую я хочу превратить в рассказ, потому что я подошла к случившемуся некогда вплотную, и я в одном шаге от развязки, и теперь могу лишь молить Всевышнего, чтобы у меня хватило сил на этот шаг. Я вышла замуж в семью, которая на деле оказалась законченным сюжетом для литературного произведения, развязку которого они прятали вместе с человеком, плававшим возле кухни в луже собственной крови. Автобус затормозил, пассажиры стали валиться друг на друга. Какого-то пузана бросило на меня, а может быть, он и сам ничего против этого не имел, он был багрового цвета, и я ощутила жар его огромного тела. Я не смогла, да и не пыталась отодвинуться от него, весь автобус так или иначе лежал друг на друге, но это вдруг показалось таким забавным, что все расхохотались, и автобус стал похож на растревоженный пчелиный улей, заполненный смехом.
На университетской остановке толпа пассажиров рванулась наружу, а другая такая же бросилась ей навстречу. С края этой, второй толпы я заметила Аси, он стоял неподвижно в потертом своем пиджаке и тонком галстуке интеллектуала, казалось, что более всего он хочет избежать чьего-либо прикосновения, выглядел он при этом очень раздраженным. И толпа перед ним заметно уменьшалась. Я высунулась из окошка, едва не вываливаясь наружу. «Аси!» Он услышал мой голос и завертел головой, пытаясь разглядеть меня. Водитель прибавил оборотов, автобус задрожал, и тут Аси одним прыжком вскочил на подножку, вцепившись в чью-то спину. Пневматические двери злобно шипели, безрезультатно пытаясь закрыться. Что это случилось сегодня с автобусами? Аси героически отказывался упасть, его тонкое, но сильное тело буквально ввинтилось в несуществующую щель, спина торчала наружу, и никто не мог бы сказать, за что внутри он уцепился. Черный его дипломат сам собой держался у него на груди. При этом он отчаянно вертел головой, пытаясь найти меня взглядом. Что ему в конце концов и удается. Я улыбаюсь и успокаивающе киваю ему, после чего водружаю себе на голову шляпу его отца, вызывая добродушный смех окружающих меня пассажиров, он расслабляется и начинает выглядывать своего отца. Я киваю ему в направлении последнего ряда сидений. На остановке в Рамат-Эшколь половина автобуса вываливается наружу – все разом. Я кричу, обращаясь к отцу Аси: «Это наша остановка». Аси уже поджидает нас возле задней двери. Я выхожу через переднюю едва ли не раньше всех и устремляюсь вдоль автобуса, чтобы увидеть их, так сказать, воссоединение. Отец Аси ведет отчаянную борьбу за право покинуть это средство передвижения, стараясь при этом не потерять свое скомканное пальто, Аси каким-то образом хватает его саквояж, пожилой джентльмен заметно помят и сконфужен, но, увидев Аси, тут же раскрывает свои объятия, не покинув даже последней ступеньки автобуса, не обращая внимания на то, что за его спиной битва за право покинуть автобус продолжается с неослабевающей силой.
– Ты что, дожидался нас здесь?
– Нет, я приехал в том же автобусе. Сел несколько остановок тому назад.
– Что это стряслось у вас с этими автобусами? И вообще, как вы здесь живете без собственной машины, без телефона? Какой же ты при этом профессор?
– А я и не профессор. Я лектор.
– Надо быть полностью сумасшедшим, чтобы ездить в этих автобусах и с подобной публикой. Вам просто необходимо купить автомобиль.
– На мою зарплату? Ты имеешь хоть какое-то представление о том, как мы живем здесь?
– Тогда чего стоят все твои таланты?
Обмен репликами продолжался даже после того, как снова набитый пассажирами автобус отбыл. Мы были на тротуаре совсем одни, если не считать светофора, руководившего движением на этом перекрестке.
– Они приносят мне славу. – И Аси улыбается своей добродушной и, как всегда, чуть ироничной улыбкой.
– Славу? Но кому?
– Мне, папа. И кстати, тебе тоже. Нашей фамилии…
Они снова обнимаются, целуя друг друга. Отец гладит Аси по волосам. И как же самой мне не испытывать при этом ощущения счастья – прильнув к Аси, я обхватываю его и изо всех сил прижимаюсь к его телу, такому тонкому, такому гибкому. От неожиданности он делает попытку отпрянуть и уклониться от моих непрошенных нежностей, но затем смягчается. Незабываемое ощущение дружественности этого мира и этого мига озаряет сияние мягкого света. Аси во всем своем великолепии кажется в эту минуту мне самым лучшим мужчиной на свете. Разомкнув кольцо объятий, мужчины делают по шагу назад, испытующе оглядывая друг друга.
Они смотрят друг на друга не произнося ни слова, я смотрю на них обоих и отмечаю, что отец немного выше ростом. Молчание длится мгновение за мгновением, и я начинаю ощущать, что в пространстве между ними что-то происходит: не вражда, не противостояние, нет – но что-то похожее на электрические разряды застаревшего антагонизма. Я сама ощущаю некий толчок. Но это сигнал, который посылает мне моя муза. Мой блокнот. Кажется, именно это называется поэтическим трепетом, вдохновением.
– А что это с твоим пальцем? – снимает напряжение момента проза жизни. – Ты что, порезался?
Пытался ли Аси разбить этот лед, или он был всерьез обеспокоен?
– А, это… – Он поднял вверх палец, обмотанный куском марли и рассмеялся. – Позавчера я порезался, пытаясь искупать малышку Яэли…
– Ты купал ее? Как это случилось?
– Яэль вышла за покупками, а я отсыпался после перелета. Гадди присматривал за Ракефет, но ему не позволяют брать ее на руки. Как назло она обмаралась в постели и очень плакала, так что ему пришлось разбудить меня, и мы вместе ее выкупали…
– Вы уже виделись друг с другом? Раньше?
– Что за вопрос? А ты как думал? Но я последние три года не видел его, и за это время он здорово вырос. Очень похож на Кедми – такой же округлый, но умница – что да, то да. У него голова в полном порядке, и он может за себя постоять. Немного склонен к меланхолии… чуть мрачноват. Ну, с Кедми в жизни не больно-то развеселишься, но мальчишку он любит, это бесспорно. Видно, так сказать, невооруженным глазом. А что до тебя, Аси, то с твоей стороны… словом, я был тронут, что ты догадался послать свою жену встретить меня. Да, это была блестящая идея! Мы не только получили возможность таким вот нешаблонным способом познакомиться… мы еще смогли посидеть с ней немного в кафе…
– А, так вот где вы пропадали. А я-то ломал голову в догадках, что могло задержать так долго.
– Откуда здесь взялись все эти новые постройки? Это что, часть одной большой перепланировки города?
Мы пересекли улицу и оказались возле открытых дверей супермаркета.
– Вы вдвоем отправляйтесь домой, а я на минутку заскочу сюда.
– Наверное, нам лучше зайти сюда всем вместе? (Аси, как всегда, хочет контролировать ситуацию.)
– Нет, нет, отправляйтесь домой. Аси, ты что, не видишь, как папа устал. Я управлюсь без вашей помощи.
Возражений не последовало, и они удалились, идя рядом, но сохраняя дистанцию между собой. О чем они говорили? Аси наверняка снова превратился в лектора, и, судя по тому, как его отец все время поворачивал голову то влево, то вправо, лекция была посвящена осуществлявшемуся в данное время градостроительному проекту перестройки района Рамат-Эшколь. Хотела ли она на самом деле убить его? Неужели? Боже, дай мне сил. «И возложил Всевышний длань Свою на меня, и предстал я пред ангелом, и дух мой вознесся пред Его престолом».
Супермаркет был переполнен. Час пик. Посетители метались, словно полоумные, но так было перед любыми праздниками, и я храбро вступила в общую битву за обладание проволочной коляской, без которой в супермаркете нечего было делать: полки с продуктами сметали на глазах в мгновение ока. «Виновата… виновата… прошу прощения…» – слева и справа, сбоку и сзади грохот сталкивающихся колясок, отбрасывающих соперников влево и вправо. Теряя силы, я хватаю ослабевшими руками все, что видит глаз, почти не разбирая, чем наполняется коляска, почти бессознательно – банки такие и банки сякие, овощи и фрукты, упаковка спагетти, соусы, масло такое и совсем другое… мой личный демон покупок ничуть не уступает своим собратьям. Втиснувшись в очередь, я упираюсь в чью-то спину и только тогда вспоминаю о своем блокноте – точно так же автоматически, как только что схватила упаковку взбитых сливок с клубникой. На ней мужская шляпа. Под ногами раздавленные апельсиновые корки, ощущение утерянного счастья, сын наклоняется к отцу, словно желая его обнюхать.
– Ваша очередь… – Огромная женщина нетерпеливо сопит мне в ухо.
Я, как ломовая лошадь, тяжело двигаю с места. На стойке у кассы – ряды бутылок с вином. От цен кружится голова. Будь что будет… и в необъятное чрево коляски ложатся бутылки с маслянистой переливающейся жидкостью. Но кто в состоянии выпить три бутылки вина? Уж точно не я и не Аси. И после мгновенного сожаления две из трех возвращаются обратно. Остается одна – но какая! О цене не хочется и думать, как не хочется думать и о том, что скажет на этот счет трезвенник Аси. Это самое дорогое из всех вин – «Старый Кондитон», десертное, в роскошной, под старину коробке, название выведено витиеватым шрифтом. Цена – на внутренней стороне ярлыка. Шестьсот восемь лир. Я ловлю на себе взгляд кассирши в минуту, когда ставлю перед ней коробку. В этом взгляде пополам с удивлением – и уважение, и, если я не ошибаюсь, что-то похожее на гордость. Теперь, когда все жребии брошены, остается только выбраться с коляской на площадку перед супером и там, отдышавшись, перегрузить свои пожитки в ящик – супермаркет гарантирует доставку покупок на сумму, подобную моей (боюсь даже произнести ее), на дом покупателю.
Очередь провожает меня взглядом. Но выйти наружу мне не удается. У самой кромки прибоя меня останавливает громкий выкрик:
– Дина!
Старый мой одноклассник по имени Ихиель держит прелестного голубоглазого мальчугана с крохотной кипой на голове, за ними женщина с продуктовой тележкой, заполненной до самого верха. Он подходит ко мне, светясь неподдельной радостью, немного раздобревший, с животиком, вспотевший… Одним словом, настоящий отец семейства, но малыш у него просто чудо природы. Начинает говорить о себе, и в голосе его неподдельная гордость. Он уже завершил учебу в колледже, выпускающем правоведов, и имеет все основания ожидать хорошего назначения в один из офисов на Западном берегу Иордана, где растут как грибы новые поселения – там как раз требуется человек на должность юридического советника округа Самария. Его жена – высокая и, на мой взгляд, несколько костлявая, лицо умное, но слишком уж бледное, на голове некое подобие шляпки, глядит на меня она с явным подозрением. «Это… Дина… – говорит Ихиель, почему-то чуть запинаясь. – Мы вместе учились… в одном классе. Как-то раз я говорил тебе о ней…»
«А у вас уже есть малыш!» – вырывается у меня. И что-то притягивает меня к ребенку на рукаху Ихиеля. «Можно мне подержать его чуть-чуть?» В своем голосе я различаю просительные ноты. Счастливый отец, светясь от гордости, осторожно передает мальчугана из рук мне в руки, в то время как расширившиеся глаза его жены полны тревоги. Этот малыш мог быть моим – в свое время Ихиель и я… словом, он был насмерть в меня влюблен. Ребенок у меня на руках невесом, этакий уютный и теплый клубочек плоти. Меня переполняет желание не выпускать его из своих рук, я легко прикасаюсь к его шелковистым волоскам, а он, прильнув ко мне, вглядывается в мое лицо, а затем медленно своей крошечной ручонкой стягивает со своей головы кипу и протягивает мне. Я улыбаюсь в ответ и целую его, а потом возвращаю отцу вместе с кипой, но не могу удержаться, чтобы не поцеловать его еще раз. «Он совсем меня не испугался», – говорю я родителям малыша. Я как-то не очень хорошо себя чувствую, пока Ихиель болтает о делах далекой школьной поры, сыпя уже давно позабытыми мною именами одноклассников. Кончается тем, что на обрывке бумаги он пишет мне номер своего телефона, прибавляя, что однажды встречал моего мужа… «Он ведь преподает в университете, не так ли?»
В супермаркете я провела не меньше часа с минимальным удовольствием. О чеке лучше всего не думать. И отец, и мама, как всегда, были правы. В итоге я поручила наполненную сама не знаю чем коляску арабскому юноше, чтобы он докатил ее до моего дома. Начинающийся закат обливал теплом цвета расплавленной меди; автобусы, поднимавшиеся из Нижнего города, освобождались от человеческого роя, улица полна детей. Я иду перед продуктовой тележкой, непрерывно подталкивающей меня в спину. Молодые арабы, идущие нам навстречу с пустыми уже тележками, судя по всему, знакомы с моим провожатым. Они дружески окликают его, похлопывая по спине, и что-то говорят, что заставляет его несколько принужденно улыбаться, он бросает на меня взгляд, мне кажется, что приятели предлагают ему поменяться местами, уж не моя ли красота тому причиной? Возле уличного фонаря я вынуждена остановиться – у меня вдруг сжимается сердце. Это несомненно какой-то знак. Что бы это могло значить? Я снова извлекаю всегда готовый блокнот и листаю его в поисках чистой страницы. Это возникло у меня в голове во время пребывания в супермаркете. Ее возраст – «тридцать-плюс» интеллектуальная внешность, типичная неудачница, недолгое время была замужем. Она крадет ребенка из продуктовой тележки, оставленной возле входа в магазин. Время вечернее, сумерки. Улица полна народа, заходящее солнце окрашивает все расплавленной медью.
Малышу восемь или девять месяцев от роду. В конце сюжета она должна его вернуть! Она носит очки, волосы коротко острижены. В глубине души она сама не понимает, что делает. Ощущение тепла от приближающейся весны, описание обуревающих ее чувств. Природа значит для нее очень многое. Она сирота, жива лишь ее мать. Всё еще… Она много курит… заядлый, так сказать, курильщик.
Сопровождающий меня молодой араб смотрит на меня со снисходительной улыбкой, придерживая ногой колесо тележки. Я без промедления отправляю блокнот обратно в сумку. Откуда это, черт побери, взялось: «заядлый курильщик»?
Аси был уже дома. Он сидел со своим отцом в неосвещенной гостиной; по всей комнате плыли клубы дыма. На отце была клетчатая рубашка, узел галстука он распустил. Я еще раньше заметила, что одевается он с большим вкусом, – похоже, он знал в этом деле толк. Я вошла в сопровождении молодого араба, тянувшего тяжелые картонные ящики с моими покупками. При виде этой картины Аси вскочил на ноги. «Ты что, сошла с ума? Где тебя носило?» Молодой араб замер, глядя себе под ноги. «Что это с тобою стряслось?» Аси был вне себя. «Что это за ящики? Покупки? Что этот тип притащил в комнату?» И он начинает рыться в покупках, комментируя каждый предмет. «Что это? Сыр? Но у нас уже есть сыр!» Он вываливает содержимое ящика на пол. «Какого черта! Кто все это будет есть? И кто все это способен съесть? Откуда у тебя оказалось столько денег?»
В эту минуту мне хотелось убить его. Мой помощник из супермаркета внес в комнату остатки содержимого продуктовой тележки и теперь стоял неподвижно, ожидая разрешения ситуации. Что он думает обо всех нас? Обо мне, об Аси… Аси… Как он может так себя вести? Как ему не стыдно? Особенно в присутствии своего отца. Возьми себя в руки, Аси… И тут до меня доносится хрипловатый музыкальный голос с балкона:
– Я – тельавивец, там родился и там, при всем моем уважении к Иерусалиму, надеюсь и умереть. А здесь с наступлением темноты меня охватывает какой-то необъяснимый метафорический страх… Какая-то тоска, тревога. Там я всегда старался в это время оказаться у моря, на берегу, в минуту прилива, вдыхая аромат цветущих апельсиновых рощ. А в Иерусалиме меня постоянно охватывает страх того, что вот-вот один из пророков явится по мою душу во время сна… ха-ха-ха… Должен признать, что здесь у вас открывается потрясающий вид. Не разрешайте никому строить хоть что-либо, что закроет вам этот обзор. Кстати, что это за огни там, на холмах вдалеке?
Я стояла рядом с ним.
– Кто-то однажды говорил мне… но я забыла. Это какое-то поселение на Западном берегу Иордана.
Я вдыхала запах его пота. Аси все еще продолжал копаться в моих покупках, из кухни доносилось его бормотание. Он был выше ростом и крепче сложен, чем Аси. Он сильно перегнулся через балконные перила, его клетчатая фланелевая рубашка трепетала на ветру.
Я легонько прикасаюсь к его плечу:
– Вам привет от Иегуди Левина.
– Какой Левин? Писатель?
– Он сказал, что когда-то был вашим студентом.
– Верно. Был. Много у меня было таких. Сейчас разбросаны по всему свету.
– А он… каким он был?
– Способный… даже слишком… очень высокого о себе мнения… и всегда окружен был девицами.
– До сих пор… – Я рассмеялась.
Аси присоединился к нам, вид у него был мрачноват.
– Откуда ты его знаешь?
– Аси… послал меня к нему показать кое-что из написанного.
– Так ты, значит, пишешь? – Он посмотрел на меня с добродушной улыбкой.
– Пытаюсь.
– И что же он тебе сказал?
– Сделал несколько замечаний…
– А что по сути? Главное?
Терпение не было основной из присущих Аси добродетелей.
– Кое-что ему понравилось.
Молчание. Мне хочется сменить тему разговора.
– Он сказал, что многому от вас научился. Что очень многим обязан вам.
Даже в темноте я видела, что он покраснел. Он не спускал с меня взгляда.
– Он так сказал? Левин? Ты не шутишь? Не могу поверить. Так он и сказал?
– Клянусь. Он говорил о вас с огромным уважением.
Я чувствовала, насколько он смущен.
Он улыбался. Я видела, что он хочет что-то сказать, но слова застревали у него во рту.
Достав платок, он вытер свой лоб.
– Полагаю, – жестко сказал Аси, что ты могла бы заняться ужином.
– А вы что, хотите есть?
– А как ты думаешь?
– Хорошо, хорошо. Не сердись. Через пару минут…
А пока что я прижимаюсь животом к балконным перилам и, перевесившись, вглядываюсь в бурлящий подо мной город.
– Ну, давай же, Дина, принимайся за работу. Сначала ты накупаешь гору еды, а потом…
Его отец сначала поглядывает на нас со стороны, затем вступает в разговор:
– Может быть, я могу быть чем-то полезен? В Америке я научился готовить… Конни часто прибегает к моей помощи.
– Нет, папа, мы сами. Отдыхайте…
– Ну, не уверен. Почему бы мне не делать здесь то, что я делаю там? Может быть, я узнаю от вас несколько новых рецептов. Аси еще малышом вечно вертелся под ногами в кухне, но сейчас, похоже, он стесняется показать все, на что способен.
Я отправляю их обоих на кухню. Вручаю Аси нож и горку овощей. Его отец, закатав рукава, открывает холодильник, засовывает туда голову и, принюхиваясь, производит ревизию содержимого. В итоге он отдает предпочтение блюду из яиц с рисом, его собственный рецепт. Яйца он уже достал. А рис? «Есть в этом доме рис?» – вопрошает он. Вопрос на засыпку. Я напрягаю память. Рис должен быть. Но где? И сколько? «Дина, милая, подскажи мне, где ты хранишь свои специи?» И вот уже он без моего ответа (черт их знает, где эти специи) ныряет в настенные полки, достает оттуда пакетики, баночки, коробочки, разглядывает, нюхает, пробует щепотку того и сего (хотела бы я знать чего) – имбирь, карри, ваниль, сахар, соль, оливковое масло, соевый соус (выходит, мы не так уж и бедны!). Не прерывая своих изысканий, он просит зажечь огонь, сам находит объемистую миску и одно за другим начинает о ее край разбивать яйца. Я как завороженная наблюдаю за ним. Аси, набычившись, мрачно глядит на все происходящее со своего места. На языке у меня все время вертится вопрос, и в конце концов я не выдерживаю:
– Вы, папа, начали с того, что в доме у Яэли выкупали младенца. Сейчас вы готовите для нас ужин. Что же вы будете делать, оказавшись в гостях у Цви, – станете пришивать ему новые пуговицы в рубашке?
Он смеется, потирая ладони:
– Конни не больно-то заботится о домашних делах, на первом месте у нее все, связанное с работой. А я все время дома, особенно в такие вот зимние дни, когда и из дома выйти не хочется. Лекционного времени в колледже у меня немного, так что для кухни я вполне уж созрел.
И он с силой начинает перемешивать содержимое миски, добавляя то одни, то другие специи. Я отмечаю его скупые, точно рассчитанные движения и вдруг представляю, как он, вот так же, касается тела этой неведомой мне большой женщины по имени Конни. Что происходит со мной? Кажется, я немного спятила. Охваченная непонятным мне самой страхом, я убираюсь из кухни и начинаю накрывать на стол, но бросаю это занятие на полпути, я должна записать все происходящее, я не в силах удержать рвущиеся из меня слова, грозящие разорвать мою грудь, смять диафрагму, вывернуть меня всю наизнанку, и, бросив все, я иду в спальню, закрываю дверь, обувь долой, стягиваю с себя брюки, расправляюсь с крючками лифчика и срываю с кровати покрывало, обнажая относительно белоснежную простыню, на которую и бросаюсь, едва прикрыв себя покрывалом, в руке у меня уже мой блокнот и неведомо как появившаяся ручка, скользящая по бумаге, я едва различаю написанное сквозь слезы, и весь переполняющий меня вещий жар старинных слов, кажется, вот-вот подожжет бумагу: «Ты моя сила, Ты мера моих дней, восславлю мощь Твою, уповая на милосердие Твое, я стучусь в Твою дверь с мольбой, я умоляю Тебя подать мне знак о том, о чем я плачу день за днем, я возношу к Тебе свою мольбу и одного лишь хочу, чтобы Ты удержал меня от беды и от зла… от неправедного пути…» Детская коляска у входа в супермаркет. У ребенка волосы цвета меда. Описать мать мальчугана, ее глаза: увядающая болтушка, это ее третий ребенок. Уже припасена для малыша конфетка. Она следует за матерью и ребенком по проходу. Она уже наметила место первого укрытия. Описать как можно точнее грязноватый запасной выход, темная лестница, обшарпанные стены с осыпающейся штукатуркой. Швабра и грязное ведро в углу. Максимум реализма. Волна возбуждения, охватывающая ее в момент, когда она хватает ребенка. Конфетку она предусмотрительно сует ему в рот. Она удивлена тем, как это мероприятие протекает, без каких-либо осложнений, судьба благоприятствует ей. Все хорошо. Хорошо?
Аси приходит и видит меня, прикрывшуюся простыней. Я немедленно прячу блокнот.
– Что ты здесь делаешь? Ты что, с ума сошла?
– Я прилегла на одну минутку. Просто выбилась из сил.
– Но ты ничего не делала!
– День был полон переживаний. Это почище любой работы. Сначала то, что было с тобой этим утром, потом твой отец. Еще секунда – и я встаю.
– Ты говоришь – отец. Чем он тут занимается? Что он там принялся готовить? Клянусь, это уже слишком. Вставай и начни накрывать на стол. Сделай хотя бы это.
– Ну встаю, встаю. Я уже начала там, на кухне… Необычный он у тебя… твой отец. Он разговаривал с вами, когда ты был ребенком?
Аси не отвечает. Бросает на меня мрачный взгляд и направляется к шкафчику.
– Что ты там ищешь?
– Хочу найти ему полотенце.
– Тогда возьми красное.
Его отец возникает в дверном проеме и, многозначительно улыбаясь, смотрит на меня.
– Ты… отдыхаешь?
– Да… прилегла на минутку.
– Пойду встану под душ. Не трогайте кастрюлю. Пусть кипит.
Аси протягивает ему полотенце, и он закрывает за собой дверь в ванную.
– Ты знаешь, он выглядит просто здорово, твой отец. Ничего удивительного, что он нашел себе молодую жену. И знаешь… он выглядит лучше тебя.
Аси скривился. «Ты тоже выглядишь не больно-то». Ты – прелесть. Не хмурься, пожалуйста, прошу тебя. Не то кончится тем, что ты спятишь от всех своих проблем. Видеть больно, как ты принимаешь все близко к сердцу. Поди сюда и поцелуй меня. Приляг со мной хоть на минуту. И в наказании тоже должен быть перерыв…
– Наказание? Что ты несешь такое?
– Ты не прикасался ко мне уже две недели. Подойди же. Один крошечный поцелуй… Сегодня мы будем спать вместе… в честь твоего отца. И можешь делать со мной все что угодно. В том числе и то, что должно быть сделано. Ты прав. До меня дошло сегодня, как по-дурацки мы себя вели. Мой страх перед тобой, твой страх при виде моего страха… идя этим путем, мы никогда не заведем ребенка. Подойди же, и дай мне поцеловать тебя. Я сделаю все…
Было похоже, что он уже собирается сделать ко мне первый шаг… но, начав движение, он вдруг остановился и повесил голову. До меня донесся звук льющейся в ванной воды.
– Так ты приляжешь ко мне?
– Почему ты вдруг захотела этого? Не ты ли избегала меня все это время? Ты и только ты сделала это невозможным.
По его лицу прошла судорога.
– Ну так теперь все будет по-другому. Иди ко мне. Делай со мной что хочешь. Я не пошевелюсь даже. Разрешу тебе все. Приляг хоть на минуту. В конце концов, дай мне просто поцеловать тебя…
Но он был настроен агрессивно и упрямо.
– Возьми меня. Я знаю. Я должна… Только об одном прошу тебя – не торопись и будь понежнее… Может быть, если мы не будем торопиться и станем делать это каждую ночь… дай же мне тебя поцеловать…
Я выбралась из постели и, обняв его, прижалась всем телом, обвиваясь вокруг него ногами, как если бы он был деревом, на которое я пытаюсь взобраться, хотя я просто хотела его поцеловать. Звук текущей в ванной воды прекратился. Его отец что-то закричал сквозь закрытую дверь. Аси оттолкнул меня.
– Немедленно отправляйся и накрой на стол. Сию же минуту. – И с этими словами он покинул комнату.
* * *
Блюдо из риса, перемешанного с яйцами, было поистине великолепным, и я не переставая хвалила его отца. Они не переставая говорили о людях, которых я не знала, поначалу я пыталась вслушиваться с должным уважением, чувствуя, что странная сонливость начинает охватывать меня, а затем внезапно с какой-то безнадежностью вспомнила о своем рассказе и задумалась, смогу ли я когда-нибудь с достаточной убедительностью объяснить мотивы, которые руководят действиями моей героини. Поразмыслив, я решила, что лучшее решение – это сделать ее существом примитивным или даже полупомешанным и тем самым наиболее достоверным, и понятным. Прозвенел звонок. Аси пошел открывать. «Кто-то хочет тебя видеть». – «Кто это?» – «Какой-то тип. С небольшим свертком». Я поднимаюсь и выхожу в переднюю, где вижу маленького банковского клерка, который так трогательно опекал меня сегодня, – он молча стоит, держа в руках упаковку брынзы, которую я потеряла. При виде меня он краснеет, бледнеет и снова краснеет, роковая стрела любви насквозь пронзила ему сердце, протягивая мне пакет, он что-то бормочет. Заикаясь так, что я не могу разобрать ни слова. В прихожей внезапно гаснет свет. Я делаю шаг ему навстречу, я тронута, мне хочется положить ему руку на плечо, но он, с испугом отпрянув, сбегает по лестнице вниз, не расслышав, боюсь, мои слова благодарности. Бедный малыш!
– Ну и кто же это? – спрашивает Аси.
– Клерк из нашего с тобой банка.
– И правда. То-то мне показалось, что я его знаю. Чего он от тебя хотел?
– Ничего. Я забыла сегодня в банке вот эту упаковку с брынзой, которую мне дали родители.
– И это причина, по которой он притащился сюда? Или было еще что-то?
– Понятия не имею, – отвечаю я с некоторой неопределенностью. И улыбаюсь. – Вполне может быть… полагаю, что да… Но ведь ругать его за это не стоит? А? Аси?
Но Аси не отвечает. По мне, ему бы уже пора привыкнуть к тому, что время от времени кто-то внезапно влюбляется в меня и пытается завязать со мной знакомство, но почему-то именно вид этого застенчивого паренька, похоже, поразил его. Даже потряс.
Я кладу на стол этот кусок сыра и разворачиваю. Сыр выглядит совсем свежим, хотя я-то знаю, каким сухим и твердым он был в родительской лавке, – но любовная лихорадка, сжигавшая руки и сердце маленького клерка, передалась через упаковочную бумагу и вернула этому сыру влажность и аромат. Я опускаю весь ломоть в чашку с водой. По правде говоря, меня пугает моя сила, способная заставить кого-то брести через весь город поздней вечерней порой по неизвестному толком адресу для того лишь, чтобы снова на мгновение увидеть меня. Аси появляется в кухне, я ловлю его взгляд, направленный на лежащий в воде кусок брынзы, и ощущаю, насколько он (Аси, конечно) напряжен.
– Что ты собираешься делать с этим?
– Написать с него натюрморт. Или ты думаешь, он может годиться на что-либо еще?
Некоторое время Аси смотрит на меня, а потом цедит с неожиданным ядом в голосе:
– Самое отвратительное во всем этом – твой новый стиль… знала бы ты, как он меня раздражает. Несчастный мальчишка вынужден был тащиться сюда… для того только, чтобы вернуть тебе этот чертов кусок брынзы… да перестань ты ухмыляться… тебе ведь нравится это…
– Что мне нравится, по-твоему?
Но он уже снова замкнулся.
Я приготовила кофе и нарезала торт.
Его отец курит, поглядывая на корешки книг на книжных полках, к нашим словам он прислушивается вполуха. Я уже совершенно привыкла к тому, что он здесь, с нами.
– Когда вы сможете встретиться с моими родителями? Они так хотят познакомиться с вами.
– Что за вопрос… мы обязательно встретимся. – Он поворачивается к Аси: – Как ты думаешь, когда?..
– Может быть, завтра вечером, – подсказываю я. – Мы могли бы все вместе поужинать. Как вы относитесь к венгерской кухне?
– Завтра вечером? Нет… Завтра я возвращаюсь обратно в Хайфу… Я имею в виду больницу… а оттуда – в Тель-Авив. Я еще не был в Тель-Авиве. Цви я видел только мельком в аэропорту… он ожидает меня… на самом деле я не знаю, попаду ли в Иерусалим в этот раз.
– Я отправлюсь с тобой, – говорит Аси.
Меня это оглушает громом.
– Ты уедешь завтра? Почему?
– Просто хочу побыть еще с папой. И Яэль обещала приехать. Я не был там уже целую вечность.
– Какой в этом смыл? Разве у тебя завтра нет лекции в университете?
– Мы двинемся позднее. Лекция закончится около десяти.
– Но в чем дело? Почему вам захотелось вдруг собраться всем вместе?
– Почему? Так надо, всем нам.
В этом месте его отец хриплым голосом вносит ясность (для меня):
– Кедми настаивает, чтобы мы пришли к ней с письменным соглашением. Мы всё уже обговорили по почте… несколько раз я звонил по телефону из Америки… обговаривал детали с Яэлью… она была так красноречива… говорила без конца… потом мы говорили с лечащим врачом и даже на следующее воскресное утро пригласили… рабби… и, конечно, я хотел увидеть ее, прежде чем… хотел сказать ей: «Хелло», но Кедми все твердил, что она должна поставить свою подпись первой, потому что, увидев меня, она откажется от всего вообще. Ведь мы полностью зависим от ее подписи… без нее этот документ является недействительным… А раз так, то рабби просто откажется приехать… он и так оказывает нам любезность. Кончилось тем, что Кедми отправился сам по себе, один. Яэль хотела пойти вместе с ним, но он отговорил ее. Ты ведь знаешь его, не так ли? Редкий упрямец, тот еще экземпляр, никогда не упустит случая неудачно пошутить… считает себя лучшим специалистом по любому вопросу. Прилетев, я ничего об этом не знал, был не в курсе дела… а ведь поверил всему. В итоге он, похоже, полностью обделался, потому что она не подписала. Сказала, что хочет еще раз все обдумать…
– Обдумать – что? Разводиться?
– Да. Внезапно ей захотелось все обдумать. И это после того, как все на свете было обговорено, и я звонил и звонил по телефону из Америки, и отправился сюда в эту поездку. Еле-еле удалось уговорить рабби приехать со своим помощником накануне праздника… поверь, это было очень нелегко… уговорить его… а в следующий вторник я должен лететь обратно. Ну, не знаю. Может быть, она разозлилась, что я не пришел повидаться с ней, а просто послал Кедми с соглашением о разводе. Я полагаю, что он отпустил несколько бестактных замечаний, – он ведь в общем-то простой и прямолинейный парень из неотягощенной избытком культуры семьи, даже если владеет языком достаточно бойко. Так что я сейчас в тупике. Подумал, что если я и Аси встретимся завтра с Яэлью и посетим ее… может быть, окажется, что мои страхи беспочвенны… и если мы появимся все вместе, будет лучше… приятнее для нее…
– Но насколько необходимо закончить все процедуры развода именно в эту поездку? – спросила я с некоторым изумлением, не в силах понять причину всей этой суеты.
Аси больно пнул меня под столом. Лицо его отца с каждой минутой становилось все более усталым, оно как-то сморщилось, и в глазах его, мне показалось, мелькнула мольба о пощаде.
– Да, конечно… ты права… Но понимаешь, Конни… так больше не может продолжаться…
В растерянности он посмотрел на Аси, который не произнес ни слова.
– Тогда, быть может, вам удастся увидеться с ними хотя бы на несколько минут завтрашним утром?
– Увидеться… с кем?
– С моими родителями.
– Ах да… с твоими родителями. Не знаю… Завтра утром? Будет ли у нас время? Мне хотелось бы сделать кое-что в университете. Но может быть…
– У тебя не будет времени, – отрезал Аси.
Он сидел набычившись, не поднимая головы.
– Значит, вы больше не будете в Иерусалиме?
– В Иерусалиме? Сомневаюсь. Я ведь даже в Тель-Авиве еще не был. Мне еще предстоит столько сделать… ведь я прилетел в этот раз совсем ненадолго, к тому же Цви ждет меня. Но ведь вы будете справлять седер вместе с Яэлью… и там мы все и встретимся, верно?
– Нет. Мы будем встречать седер у моих родителей. У них ведь никого больше нет.
Аси хотел, похоже, что-то сказать, но промолчал.
– Тогда, быть может, сразу после седера, прямо на празднике?
– Можно попробовать.
Молчание. Внезапно я поняла, что могу никогда его больше не увидеть, что, вероятнее всего, он снова исчезнет, и, возможно, уже навсегда.
– Может быть, и я все-таки приду завтра?
Он посмотрел на Аси.
– Нет. Не получится, – сказал Аси непреклонно. – Никаких «завтра». Завтра там будет полно народу. Ей с этим тогда не справиться.
– Но я все равно хочу ее увидеть.
– Нет. Завтра это невозможно.
Мы продолжаем сражение над головой его отца.
– Ну а что я тогда скажу своим родителям? Они будут ужасно разочарованы.
Я мужественно сражалась за их честь.
– Папа позвонит твоим завтра, чтобы попрощаться. Извинится и все объяснит.
Внезапно я почувствовала себя ужасно одинокой. Аси подло ведет себя, отбрасывая меня в сторону. Таков он – всегда делает только то, что считает нужным. Его отец сидит погруженный в свои мысли и курит. Между двумя затяжками он говорит:
– Я и в самом деле хотел бы встретиться с ними, но никак не соображу, как это сделать. Эта поездка проходит в такой суматохе… время летит с такой скоростью… Конечно, я позвоню им. Это хорошая мысль. И я скажу им, что в мой следующий приезд… потому что я снова приеду на будущий год с Конни… да, конечно, я им позвоню. Кто-то говорил мне, что они очень религиозны. Где они живут? В районе Геула? Входят ли они в число приверженцев какого-нибудь хасидского рабби? Ты не знаешь? Как интересно! Глядя на тебя, никто бы не подумал… В тебе нет никакого следа… Как же они могли тебе позволить? Может быть, ты сама утратила веру? Я полагаю…
Аси напряженно смотрит на меня.
– Аси не любит Бога. Вот и все. Очень просто. Как если кто-то не переносит запаха какой-нибудь еды и не хочет, чтобы кто-то готовил ее дома.
Его отец улыбается и кивает. «Это дело вкуса». Но время от времени, когда я одна, я покупаю эту еду и тайком ем ее, а потом полощу рот и долго мою руки, так чтобы он ничего не заподозрил. Да, я утратила веру, но иногда меня охватывает страх…
В глазах Аси сверкает радость. Ему все это кажется очень забавным.
– Ну а кроме этого, мы дома заботимся о кошерности… и тарелки, и кастрюли, и праздничное серебро… все содержим, как велит Тора, так чтобы мои родители могли есть с нами вместе, чего, надо признать, они никогда не делают.
– В этом году время от времени я начал заглядывать в синагогу, – говорит мой свекор.
– Я так и думал, что рано или поздно ты докатишься до этого, – Аси говорит это, не переставая глядеть на меня.
Его отец багровеет и неуклюже начинает объяснять:
– Исключительно как сторонний наблюдатель. Как обыкновенный зритель, пытающийся разобраться социологически в заблуждениях еврейской истории. Кроме того, в синагоге имеется превосходный хор. Разумеется, не ультраортодоксальный. Тебе стоило бы хоть раз услышать их великолепное пение. В высшей степени профессиональное. – Он напевает:
О, знает он, что весь он греховен, И напрасно бренчат его струны, И трепещет он сам и дрожит его сердце. Словно тень, он безмолвно бесплотен В день субботний во время молитвы…Внезапно в воздухе повисает ощущение какой-то неловкости. Аси неприязненно смотрит на нас обоих. Я собираю грязные тарелки и переношу их в раковину, намыливаю, а затем смываю струей воды. Аси и его отец сидят за столом и курят, не произнося ни слова.
Итак, что у нас в итоге? Мать семейства, находящаяся в сумасшедшем доме… мои смертельно обиженные родители. Это – проза жизни. Но есть нечто, и это нечто волнует меня сейчас более всего остального. Это моя проза. Моя героиня. Она брошена мной в решающую минуту. Она ждет меня. В каком виде я оставила ее? На выходе из супермаркета с ребенком в руках. Сумерки. Мне надо бы ее приодеть. Во что – в юбку или брюки? Конечно в брюки – из мягкого вельвета.
Покупатели, выходящие наружу, случайные прохожие непрерывно туда-сюда толкают ее. Слабее, сильнее. Таким образом она вскоре оказывается у лестничной площадки, рядом со шваброй… Да, я вижу это совершенно отчетливо. Здесь же – покрытая пылью старая детская коляска. Она укладывает в нее ребенка и начинает толкать перед собой. У нее должно быть имя (как же без него), оно должно быть простым, незамысловатым, никакого модерна. Тут же она сталкивается с соседкой. Обычный банальный разговор – лучшее средство, чтобы скрыть преступление. Вообще-то она ведет себя безрассудно, словно ее толкает в спину ветер безумия. Она поправляет подушки, сооружает из них нечто вроде стенки и устраивает ребенка поудобней. И малыш затихает. Затем первый приступ плача, хотя до этого он вел себя очень тихо. Может быть, ребенок просто голоден. Сколько ему? Она делает его чуть-чуть младше. Месяца четыре? Ему нужно дать молока. Она отправляется искать его. Молоко должно быть в любой лавке – маколете. Сколько молока нужно купить? Она движется вниз по улице. В ближнем маколете молока нет, теперь ей надо найти другой, работающий круглые сутки. Куда еще заведет ее это предприятие? В крайнем случае, решает она, ребенка можно вернуть обратно. Но зачем было начинать все это? И что это было – чисто внутреннее решение, необъяснимое движение души?
Кто-то стучится в дверь. Кто бы это мог быть? А… ее зовут к телефону. «Дина, тебя к телефону!» Я вытираю руки о фартук и отправляюсь этажом ниже в квартиру, где есть телефон, дверь уже открыта, невидимая семья обедает на кухне, откуда доносятся до меня хриплые грубые голоса. Трубка телефона болтается на проводе. У моих родителей дома две телефонные трубки, у каждого своя, этакий селектор, позволяющий им общаться одновременно с самыми дорогими им людьми – кто раньше. Их голоса сливаются в один слаженный венгерским акцентом дуэт. Не успевает один закончить фразу, другой тут же подхватывает ее и продолжает предыдущую мысль без задержки.
– Ну и как прошел ужин?
Мой рассказ поражает их. Постигнуть суть происшествия они не в силах. «Невероятно», – доносится из обеих трубок. Ты должна была это предвидеть. Если бы ты взяла у нас в лавке все, что мы тебе предлагали, этого не случилось бы. Ну а теперь – каковы его планы?
– Он собирается завтра утром вернуться на север. Он должен навестить ее в больнице, где она находится. Но он позвонит вам утром. Завтра утром.
– Позвонит? Он позвонит? И это все, что он сделает? Он что, не приедет? Не хочет или не может?
– Скорее, не может. Он отправляется к ней ранним утром. Но перед этим он вам обязательно позвонит. Все его пребывание в Израиле – сплошная суматоха. (По совести, я была бы обязана пригласить их к нам этим же вечером… но что-то не дает мне это сделать.)
Продолжительное молчание на том конце обоих телефонов.
– А как он там?
– Он в порядке. В полном порядке. Выглядит моложе своих лет, очень приятный внешне, дружелюбный. Похож больше на Цви, чем на Аси. Более того – там, у себя, в Америке, он посещает синагогу.
(Но почему я вдруг заговорила об этом? Чтобы обрадовать их? Чтобы он им понравился? Как своего рода утешительный приз?)
Они действительно казались на седьмом небе от счастья. Упоминание о религии решило все дело.
– Ну… как тебе это нравится! Видишь? Одну минутку… Что?
(Короткая пауза, пока они совещаются.)
– А может, нам подскочить к вам прямо сейчас на несколько минут… мы могли бы даже взять такси… или он слишком устал?
Я не говорю ничего. Я так люблю их и так понимаю их одиночество. Но как могу я сейчас пригласить их? Они деликатно пережидают мое молчание… Дина! Ты нас слышишь? Что ты думаешь? Если мы возьмем такси… (Предельное легкомыслие, которое они могут себе позволить.)
Я по-прежнему не подаю признаков жизни. Я не могу сказать им «нет»! Через минуту они должны все понять сами. «Дина?» Папа кричит в трубку. В конце концов они сдаются.
– Возможно, мне удастся заехать с ним к вам буквально на минуту завтра утром. Посмотрим. Главное, что мы будем с вами на седер.
И я вешаю трубку.
Аси и его отец уже закончили на кухне свой ужин и теперь убирают все со стола. Неудивительно, думаю я, что она спятила. Лукавый взгляд пожилого господина обращен ко мне, словно просьба о помощи. Аси мрачнеет с каждой секундой по мере того, как между ними сгущается молчание.
– Вам и на самом деле ничего больше не надо? – Я прилагаю все усилия, чтобы голос мой звучал как можно более дружелюбно. – Аси… скажи что-нибудь!..
Он отвечает мне каким-то безнадежным жестом. Я отправляюсь в спальню и обнаруживаю между простынями свой блокнот. Где ты сейчас, моя дорогая… сидишь, боюсь, нахмурившись, в своей комнате, стараясь отгородиться, спрятаться от нарастающего страха, слыша непрекращающийся плач младенца. Аси входит вслед за мной. Я прижимаю к себе блокнот и выскакиваю с ним в ванную комнату, быстро раздеваюсь и надолго становлюсь под душ, наслаждаясь обжигающими струйками, время от времени поглядывая в зеркало, несколько раз небольно кусаю себя за плечи, затем трогаю языком ароматную и упругую кожу. Потом накидываю на себя чистый банный халат, стряхиваю капли воды с блокнота – в тех местах, куда попала вода, чернила расплылись и потекли, отчего по странице расползлось нечто похожее на огромного паука, натянувшего свою паутину. Я пробую осушить страницу своим дыханием. Стою и дую… после чего возвращаюсь в спальню и ныряю в постель. Не сдерживаю себя более. И начинаю писать.
«Испытанное ею напряжение после удавшегося и осуществленного с такой легкостью и быстротой похищения ребенка. Ее испуг как результат этой удачи. Описать ее скромное жилище. Убогая комната, на стене – постер с изображением собаки. Ребенок, который кричит не переставая. Ее испуг – ведь кто-то может услышать. Она кипятит молоко, а потом ждет, пока оно остынет. Описать эту минуту… описать освещение… Ее жуткий внутренний конфликт».
Звонит телефон – должно быть, это ее мать. Она не отвечает, боясь, что плач будет услышан.
Постель понемногу согревает меня, в то время как я перечитываю написанное. Так слабо все, слабо и безжизненно.
Я переворачиваю блокнот к себе поэтической стороной. Совсем другое дело!
«Старый, злобно оскалившийся череп, змея, свернувшаяся на камнях Иерусалима. Ранняя весна…
Обжигающий воздух…»
Я закрываю глаза.
Аси зовет меня из соседней комнаты. Не открывая глаз, я говорю ему: «Еще минутку». Телевизор орет. Яркий свет… что-то выскальзывает у меня из рук. Банный халат распахнулся, и я чувствую, что замерзаю. Аси стоит возле постели, держа в руках мой блокнот, перелистывает страницы и читает то, что я на них написала. Должно быть, я уснула. Интересно, который сейчас час?
– Положи на место!
Голая, я выскакиваю из постели не обращая внимания на холод, но он продолжает читать, не удостаивая меня взглядом. «Положи на место!» Он закрывает блокнот и кладет его на столик, ручка падает к моим ногам на пол, он наклоняется, чтобы поднять ее, и, подняв, кладет рядом с блокнотом.
– Говорю тебе, не суй свой нос в чужие дела!
– Извини, – шепчет он, – я не знал, что это такое. У тебя никогда не было такого блокнота…
– Который час?
– Где-то возле полуночи. Как ты ухитрилась заснуть подобным образом?
– Где твой отец?
– Смотрит новости по телевизору. Я хотел взять чистые простыни.
– Сейчас я дам их тебе. А пока что закрой дверь.
Я надеваю кофточку и юбку.
– Чем вы все это время занимались?
– Разговаривали и смотрели телевизор. Но что произошло сегодня с тобой?
– Не знаю.
– А где у нас наволочки?
– Одну минуту. Я постелю ему. Дай мне сделать это.
Но Аси не отстает от меня, похоже, он хочет что-то мне сообщить, он ужасно напряжен и мечется по комнате из угла в угол.
– В чем дело? Он тебе что-то такое сказал?
Он впивается в меня взглядом, затем кривит губы в какой-то странной улыбке. И говорит:
– Ну… так получилось, понимаешь. В это трудно поверить… судя по всему, у него там вот-вот появится ребенок. Вот почему он здесь у нас словно в угаре… и почему так срочно ему понадобился развод. Эта его женщина… эта Конни… она беременна…
– Беременна? Сколько же ей лет?
– Не знаю. Да и какая разница? У него вот-вот появится ребенок… ты только представь себе…
– Аси? – Доносится из гостиной музыкальный голос… – Как ты выключаешь этот чертов телевизор?
– Сейчас я подойду.
Аси выходит. Я сопровождаю его, прижимая к груди простыни и одеяло. Гостиная полна дыма, повсюду я вижу грязные стаканы, а на столе – пустая бутылка из-под виски. Впечатление такое, словно несколько дней я здесь не убиралась. Отец Аси, высокий и стройный, стоит возле белеющего экрана, его пальцы нервно бегают по пуговицам рубашки. Аси выключает телевизор и начинает убирать подушки с дивана.
– Аси, перестань. Я сделаю все, что надо. Иди в ванную и стань под душ. Не сердись. Сама не понимаю, как я уснула…
– Не думай об этом. Дай мне простыни. Ты не обязана была вставать, я прекрасно справлюсь со всем этим.
Отец Аси подходит к нам и хочет взять из моих рук постельные принадлежности, но я только крепче прижимаю их к себе.
Похоже, что подобное поведение каким-то образом задевает его, и он бросает на меня какой-то непонятый взгляд. Я снова чувствую резкий запах пота. А ведь он стоял под душем каких-нибудь пару часов тому назад. И вот опять этот резкий мускусный запах. Что за тайна терзает его все это время… как если бы его тело хотело подобным образом поведать нам о чем-то. Вот он стоит – сильный, полный жизненных страстей мужчина… вот-вот ему снова предстоит стать отцом. Сколько ему лет… должно быть, под семьдесят… ну что ж из этого? И почему бы нет?
Полный желания помочь мне, он раздвигает диван, берет простыню и застилает матрас. Смотрит на меня – взгляд его дружелюбен.
– Тебе не стоит так уж обо мне беспокоиться, – говорит он.
– Со мной такое случается, стоит мне переволноваться. Вот как сегодня… ваш приезд… да еще эта утренняя встреча…
– Утренняя встреча? – На его лице удивление. И он обнимает меня. – Что-то необычное?
– Н-да… С этим писателем. Вашим студентом.
– А, с этим… – Рука, обнимавшая меня, дрогнула. – Он что, испугал тебя? Что он там тебе наговорил?
– Мне трудно объяснить… это касалось того, что я ему показала, и о литературе вообще…
– Он всегда был этаким крикуном… краснобаем… во всяком случае, когда я знал его. Очень самоуверенным, знаешь ли, этаким доктринером. Каждую пару месяцев он являлся с новой идеей и начинал молиться новым богам. А что он внушал тебе?
– О важности каждого пишущего опираться исключительно на конкретику, отталкиваясь от мгновенных физических ощущений, – только такой подход, по его мнению, имеет хоть какое-то значение… что-то в этом роде…
– Важность конкретики? Болтовня. О чем он толкует? И что он во всем этом понимает? Пусть тебя не обманывает его авторитет… это парень из тех, кто обожает почитательниц, за ним всегда тащился целый хвост девчонок, слушавших его с разинутым ртом. Я мог бы рассказать тебе об этом кое-что… Не слушай никого, особенно таких вот краснобаев. Прислушивайся только к себе самой! И знаешь что? Я тоже хотел бы взглянуть на то, что ты пишешь… если ты доверяешь моему мнению… кое-что я соображаю еще в подобных вещах. Можешь дать мне это прямо сейчас… или нет, лучше, если ты пришлешь мне по почте. Я чувствую, что мне понравится… особенно после того, как мы встретились и познакомились друг с другом. И вот еще… не обращай внимания на Аси. Он циник. В мире есть еще так много интересного – для меня, во всяком случае, мне всегда хочется узнать что-то новое. Я уже говорил с ним о том, чтобы вы оба приехали и пожили с нами в Америке какое-то время. Я бы нашел для него там работу – на курсах усовершенствования, например. Ну а кроме всего прочего, я его отец. И ты тоже, дорогая моя… как только я сброшу с себя все это… сброшу со своих плеч этот груз, это чертово бремя моей жизни…
Его глаза сверкают, кровь приливает к лицу, он хватает мою руку, он прижимает меня к стене и возбужденно шепчет, словно разговаривая с самим собой:
– Я не знаю, что тебе рассказывал Аси, он ведь и сам толком не знает всего… Но он в этом не виноват. Виноват во всем только я сам, ведь это сам я решил терпеливо дожидаться, пока он вырастет, повзрослеет и уйдет из дома, с женой, делающим серьезную, достойную, успешную карьеру… не могу сказать тебе, насколько я счастлив сейчас, что хотя бы на несколько часов приехал сегодня в Иерусалим. Теперь я успокоился и могу подумать о себе самом. Сказать тебе, чего я хочу сейчас больше всего? Всего лишь иметь возможность сделать кого-нибудь хоть чуточку более счастливым. И обрести это счастье самому. Мне многого не надо. Иметь хоть такую же маленькую квартирку… я был бы более чем счастлив жить в окружении нормальных простых людей. Ты ведь понятия не имеешь, как тяжело все это было… и я честно терпел все это до тех пор, пока она не проткнула меня ножом…
Его дрожащие пальцы снова забегали по пуговицам рубашки.
Меня охватывает ужас. Я стою, вдавившись в стену, его лицо маячит передо мной, его глаза полны слез, а снаружи ночь, ветер… и Аси, закрытый в ванной.
– Я не проклинаю их. Ведь речь идет об их матери. Но не могли же они всерьез думать, что до конца своих дней я буду прикован к ней… Закончив жизнь во мраке безумия… что за участь для живой материи, трепещущей плоти, конкретного человека… к слову, вот тебе та самая конкретика, обратить внимание на которую и советовал тебе утренний твой писатель, конкретный факт, физически неопровержимый, но смертельно опасный для человека, исполненного, кроме всего прочего, жизнью духовной… здесь все вместе и в итоге… это я, человек духа и плоти, живой человек… посмотри на меня, ведь я еще не стар, мне всего лишь шестьдесят четыре, люди все еще тянутся ко мне, к такому, каков я есть. Они встречаются со мной, дарят мне свою любовь… и во мне еще достаточно сил, чтобы ответить на нее, я все еще могу… Аси скажет тебе…
Аси, незамеченный нами, безмолвно стоял на пороге в своей банной пижаме, лицо его было совершенно белым. Его отец, взглянув на него, вдруг улыбнулся ему, и слезы у него на глазах высохли.
– Иди, – говорит он мне. – Иди, он ждет тебя. Желаю вам спокойной ночи.
И он трогательно целует меня в лоб.
– Откройте немного окно, Иегуда. Комнату надо проветрить, – говорю я. – От дыма в ней нечем дышать.
Он в нерешительности. А я удивляюсь тому, что назвала его по имени.
– Чуть попозже вы сможете снова закрыть их.
– Хорошо.
– Если мы завтра встанем пораньше, то оставим здесь Аси, а сами сможем поехать и поздороваться с моими родителями. Они там были огорчены, когда узнали, что вы собираетесь уже завтра уезжать…
Я хотела еще кое-что добавить, но он уже уловил по моему голосу, насколько я огорчена.
– Ладно, ладно, хорошо. Прекрасно придумано. Я поднимусь пораньше… ты сама меня разбудишь…
Я открываю окно и вглядываюсь в темные блоки жилых домов. Сильный, то ли зимний еще, то ли уже весенний, ветер врывается в открытое окно. Я собираю по всей гостиной грязную посуду и проскальзываю к раковине. Есть вещи поважнее посуды. Как там поживает моя героиня? По-моему, сейчас самое время наделить ее каким-нибудь именем. Я просто слышу, как она требует, чтобы ее называли по имени. Это должно быть совершенно простое имя. Ее зовут Сара. Просто Сара? Ужас, что и говорить. Конечно, ничего общего с теми экзотическими именами, которые звучат в сериалах с экрана телевизора. Зато если мой рассказ когда-нибудь захотят перевести, то с именем героини, по крайней мере, проблем не возникнет. Ох, где же ты сейчас, моя милая? Наглухо замурована в своей комнате с этим младенцем, в отношении которого у нее все больше и больше открываются глаза: он – умственно неполноценный. Что-то немного не так у него с мозгами. Не исключаю, что его мать будет только рада избавиться от него. Что за невероятная идея пришла мне в голову – новый свежий взгляд на открывающиеся перед литературой возможности. Но литературе – с моей помощью – дано невероятное превратить в вероятное. Похоже, я создаю новый жанр – трагедию абсурда, опасность лишь в том, чтобы не стать самой одним из основных персонажей.
Аси уже в постели, голова на подушке, при этом он ухитряется просматривать свои записи к завтрашней лекции. Мой оранжевый блокнот лежит на маленьком ночном столике возле кровати. Выглядит он грязновато, как-то захватанно. Я хочу взять его, но сил у меня больше нет. Я закрываю дверь, бесшумно переворачиваю блокнот и выключаю свет. Теперь в спальню проникает только светлая полоска из гостиной. Я сбрасываю с себя все, поднимаю простыню, которой он накрылся, и шепчу:
– Отмени наказание. Сейчас я полностью готова. Я обещаю тебе…
Он смотрит на меня, он улыбается мне, он бережно касается моего лица и шеи, вид у него смущенный.
– Не сейчас. Сейчас это невозможно. Он же в соседней комнате. Завтра.
– Хочешь сказать, что ты не можешь.
– Глупость. Конечно могу. И ты сама превосходно это знаешь. На, погляди… но почему тебе приспичило именно сейчас, когда он только что не лежит с нами вместе? Ты ведь знаешь, что начнешь, как обычно, кричать. Подумай об этом, ты в самом деле хочешь, чтобы он услышал твои вопли… Хочешь?
– Я… сейчас не буду кричать. Обещаю.
– Будешь. Это от тебя не зависит. Но не думай об этом. Все хорошо… все будет хорошо… – И он с силой обнял меня. – Завтра. Если уж мы так долго ждали, можем подождать еще один день.
– Тогда это значит, что ты просто не можешь.
Сейчас он в ярости… Не начинай все сначала. Ты знаешь, как дело обстоит… ну, раз так, давай иди сюда. Сейчас получишь доказательства.
И он внезапно бросается на меня, и я лежу под ним, распластавшись, а он взгромоздился на меня, а я, сжавшись в комок и собравши все силы, защищаю маленькую дверцу от коварного змея, который, нащупывая, скользит, пытаясь проникнуть внутрь, пронзить… и скатывается прочь, без сил, оставляя липкий влажный след.
– Ты… чокнутая баба… теперь ты видишь?
Моя ярость растворяется, уменьшается, исчезает. У меня достало сил удержаться от крика. Я поднимаюсь с постели и надеваю ночную сорочку.
– Ну хорошо… пусть будет завтра. Но отмени свое наказание.
– Прошу тебя… прекрати этот идиотизм.
– Скажи, что ты отменил…
– Мне нечего отменять.
– Есть. Ты знаешь ведь, что последние две недели специально дразнил меня, а сам даже не дотронулся…
– Ну ладно, ладно…
Я поцеловала его и вернулась в постель, повернулась к нему спиной и свернулась, подобно зародышу, попросив его положить руку мне на живот. Исходившее от него тепло сняло всю усталость. Сознание медленно угасало, мерцая. Сара, моя героиня, неподвижно лежала в своей кровати, вытянувшись. Где же она спала? Она не отвечает, не хочет говорить, она не хочет думать. Это – персонаж, потерпевший поражение. Кажется, что и весь рассказ выдохся. В какую сторону сюжет может развиваться? Похоже, что я попала в тупик. И должна решить, как из него выбраться. Эта Сара… что мне с ней делать? Завтра я попробую вдохнуть в нее новую жизнь. Не вижу другого выхода, как отдать ей мою кровь и плоть. Из гостиной все еще просачивается свет. Усталость накатывает, подобно речным волнам – волна за волной, укачивая, перекрывая бездонные глубины, монотонными валами голубой воды, бурлящими вокруг нее, поднимая в своем неостановимом движении гул, подобный потоку транспорта в час пик… но это уже работа ветра; в конце концов подобная монотонность начинает успокаивать ее, и она уже проваливается, проваливается в укачивающие глубины сна, как что-то прерывает ее спасительное погружение, прерывает слишком грубо, и тут же до нее доносится из соседней комнаты мучительный хриплый кашель, вдобавок простыня стягивается с нее, возвращается и стягивается снова, и на нее ложится рука Аси, потом он упирается в нее ногой, свет под дверью то появляется, то вновь исчезает. Аси, ты что, не спишь? Который сейчас час? Господи, еще только три, что с тобой происходит? Я не могу уснуть, хрипит он. Обними меня. Это не поможет, у меня внутри все кипит от злости. Что-то не так? Но что? Все не так, все. Из-за меня? Из-за тебя и из-за него. Ему понадобилось завести еще одного ребенка, словно он еще недостаточно принес горя тем, кто есть. Черт бы его побрал… где он берет на это силы… он не понимает, что означает слово «стыд»… он делает из всех нас посмешище. В итоге я начинаю понимать. Яэль давно догадывалась обо всем этом. В этой ситуации лучше всего ей забыться сном. Чем она занимается? Долгий, застарелый, захлебывающийся кашель разрывает воздух в соседней комнате. Она уже совсем уснула, она спит, и только он продолжает беспокоить ее. Перестань думать, ты думаешь слишком много, но перестань думать, ты не сможешь сойти с ума, говорит она, не будучи уверена, что она произнесла это на самом деле или все это ей снится… во мне… во…
Среда
Семья, тебя я ненавижу!
Андре Жид…Итак, столь же последовательно, как эти юноши отвергали идею государства и всех прочих общественных образований и учреждений, они равным образом отвергали – по крайней мере в начальной стадии – идею организованного террора. Их террор был актом индивидуальным, и таковым они желали видеть его и впредь. Персональным, а отнюдь не коллективным актом. Авторитет мог быть завоеван лишь индивидуальным поступком как таковым и проистекать из ощущения внутренней свободы, присущего отдельной личности, несущей ее всей остальной нации. Решение о совершении террористического акта не могло принадлежать какой-либо организации или собранию единомышленников, принято большинством голосов на собрании революционеров. А потому, несмотря на их необычайно сильное чувство братства и приверженность к гуманизму, которая принесла им симпатии публики, терроризм и его адепты оставались абсолютно изолированными явлениями. И прежде всего потому, вы должны все время помнить об этом, что все они были очень молоды – много моложе, чем вы, нынешняя молодежь. Писарев, ведущий теоретик русского нигилизма, заметил как-то, что дети и подростки наиболее восприимчивы к подобным идеям и именно из их рядов выходят самые безжалостные фанатики. Сама Россия – и об этом вы должны помнить тоже – в это время сама переживала вторую молодость. Стадию перерождения, которая началась за сто лет до событий, о которых мы говорим; страна была по-своему молода, и ее террористы были молоды тоже. «Пролетариатом старшеклассников» назвал ее кто-то, и вот они-то, почти что дети, высоко подняли факел свободы, встав лицом к лицу против жестокого диктаторского режима, пытаясь добыть свободу русским людям, которые, надо признать, вовсе не спешили присоединиться к этим попыткам. Почти каждый из этих юнцов заплатил за свои порывы – самоубийством, публичной казнью, тюремной камерой или сумасшедшим домом. Горстка интеллектуалов один на один боролась с империей при всеобщем равнодушном молчании. Но 27 января 1875 года началось то, что потом получило название «первой волны русского террора». Молодая женщина по имени Вера Засулич выстрелила в генерала Трепова, жестокого главу полиции Санкт-Петербурга. Никто не уполномочивал ее на это, она действовала, руководствуясь исключительно собственными моральными убеждениями. Идеологически же она, скорее всего, была подготовлена к своему поступку, поскольку много читала подпольной литературы и в том числе, разумеется, эссе под названием «Убийство», автором которого был немец Карл Петер Гейнцен, опубликовавший свое сочинение (оно было широко известно в подпольных кругах) примерно в 1849 году. Была она знакома и с Михаилом Бакуниным, автором знаменитой книги «Революция, терроризм и бандитизм», появившейся в Женеве в 1856 году. Именно с двумя этими сочинениями я и просил вас ознакомиться к сегодняшнему дню, отыскав их в антологии Вальтера Лакера…
Ну, конечно. Все как обычно – ничего они не читали. Перья перестали скрипеть. В наступившей внезапно тишине слышно было лишь завывание ветра за окнами; встретившись со мной взглядом, они отводили глаза. Что для них означали чьи-то научные изыскания? Я должен был быть благодарен им за то, что они просто пришли и слушают меня. То, о чем я им говорю, им совершенно не нужно. Но они продолжали смотреть на меня. Что я еще для них приготовил? Чего еще от меня ждать? Мне было о чем подумать, тем более что мне предстояла еще одна лекция. Говори, говори, у тебя есть еще пятнадцать минут до перерыва. Жаль, что сегодня нет одного из моих студентов – это въедливый старикан, который никогда ничего не читает, но знает, кажется, все.
Я вспоминаю, что и вчера его не было, и позавчера… с ним я не без общей пользы мог бы поговорить в эти четверть часа. Уж не заболел ли он? Жив ли вообще? Или решил больше не ходить на мои лекции? Или забился в какую-нибудь щель? Моя аудитория совсем не велика, и это беспокоит меня; вот и несколько вольнослушательниц-старушек отсутствуют – ну, эти, скорее всего, из-за пасхального вечера. Однако…
– Прошу внимания! Может ли хоть кто-то из вас сказать мне, в чем состоят основные тезисы Гейнцена?
Стулья поскрипывают.
– Кто читал их?
Они избегают моего взгляда, предпочитая разглядывать потолок или прислушиваться к завыванию ветра, а то и просто погружаясь в раздумья.
– Хорошо. Тогда я спрошу иначе. Кто не читал их?
Лес рук. Несколько человек присоединились к большинству после некоторого колебания. Глядя друг на друга, они ухмылялись.
– Этой книги не было в библиотеке, потому что вы взяли ее оттуда, – раздался голос из дальнего угла.
Вздох облегчения.
– Это верно. Но существуют еще два экземпляра. Я лично поместил их в запасной шкаф в начале года.
Они стали хмуриться, сбитые с толку.
– Честное слово, я пробовала отыскать их, но там их не было.
(В ее воображении.)
Именно так, настаивала студентка. Они числились в запасниках, но потом они исчезли. А библиотекарша ничего вспомнить не может.
– Исчезли куда?
– Кто знает… Исчезли – и все.
Вздох облегчения теперь был общим. Так или иначе, книг этих не было.
– Но почему вы не дали мне знать? Я попросил вас прочитать эти отрывки месяц тому назад. Почему вы тогда не обмолвились об этом ни словом? Ведь здесь у нас аудитория для дискуссий, а не лекций.
Дверь бесшумно приоткрылась, и внутрь просунулась кудрявая голова Дины. «Можно?» – дружелюбно прошептала она, после чего, не дожидаясь ответа, обернулась и сказала звонким голосом, эхом отразившимся от стен коридора:
– Это здесь!
После чего она прокралась к последнему ряду и бесшумно опустилась на стул, в то время как отец, на цыпочках следовавший за ней, опустив голову так, словно он пробирался по низкому тоннелю, старался не глядеть в мою сторону, прижимая к груди маленький саквояж и прокладывая свой путь среди путаницы пустых стульев к самому крайнему из них, стоявшему в темном углу. Не было никого, кто не обернулся бы, чтобы посмотреть на эту пару. Кое-кто из студентов узнал ее, и они начали перешептываться друг с другом, бросая при этом на меня быстрые взгляды. В голову мне бросилась кровь. Черт бы ее побрал. Зачем именно сейчас ей вздумалось войти? Аудитория раздражающе гудела.
«Эссе Карла Гейнцена „Der Mord“ („Убийство“) являлось наиболее важным идеологическим документом раннего террористического движения. Напечатанное несколько раз и широко цитируемое, оно впервые появилось в 1849 году в газете, издававшейся немецким политическим эмигрантом в Швейцарии. В нем Гейнцен, вынужденный бежать из своей страны, сделал попытку создать некую моральную классификацию террора. Сам он был не социалистом, а всего лишь радикальным буржуа, за что Маркс и Энгельс не раз нападали на него, видя в этом отклонение от социализма, что гораздо больше, чем поддержка террора, раздражало их. Позднее Гейнцен эмигрировал в Америку, где редактировал несколько немецких газет. Он умер в 1880 году в Бостоне, городе, который он считал единственным прибежищем культуры в Соединенных Штатах».
Пока я говорил, едва различимая улыбка мелькала по напряженному лицу моего отца, но когда я огласил мнение Гейнцена о Бостоне, она тут же исчезла и он, словно испугавшись чего-то, опустил голову.
А Дина, похоже, ничего не слушала и не слышала, продолжая сиять своей чуть простодушной прелестью. У нее не было времени нанести обычный макияж, отчего ее лицо казалось испачканным. Одета она была в старое, едва ли не детских времен синее платье. Она полностью завладела записями студента, сидевшего рядом с ней, который явно не имел ничего против. Они обменивались какими-то репликами, считая при этом, что они просто перешептываются, но мне они явно мешали. Неужели она этого не понимала? Или, наоборот, понимала слишком хорошо, что дело может кончиться для нее скандалом?
«Гейнцен приводит некоторые исторические примеры примитивного терроризма, в которых замысел индивидуального устранения тиранов возникал и осуществлялся в голове самих исполнителей. Он восхищался такими персонажами, как Гермодий и Аристогон, ведь они убили своими кинжалами тирана Гиппарха…»
Эти имена я с молодых ногтей ношу в своем сердце, и мне не надо заглядывать в конспект. Отец изумленно подался вперед. От интеллектуального запала голос мой звенел, как туго натянутая струна.
«Он показал, что исторически террор как таковой никогда не вызывал в обществе столь же сильное неприятие, как злобность, присущая тираническим режимам, и, наоборот, террористы, оставившие свой след в истории, вызывали скорее сочувствие. Если бы молодой немец по имени Фридрих Штапс, сделавший попытку убить Наполеона, достиг своей цели, говорит Гейнцен, а не был схвачен в последнюю минуту, не был ли он сейчас восславлен как всемирно известный герой?»
И снова полная тишина. Впиваясь взглядом в слушателей, я прошелся туда и обратно, продолжая:
«Гейнцен развивает свою теорию дальше, приводя в качестве аргумента тот факт, что разница между государственным и индивидуальным террором состоит в моральном превосходстве последнего. Государство использует средства уничтожения, и для него нет разницы между одним, десятью и тысячей убитых людей, тогда как террорист поражает только одну, заранее намеченную жертву. Моральный контраст между артиллерийским снарядом и выстрелом из пистолета всецело на стороне пистолетного выстрела».
Они писали, согнувшись над своими конспектами. Теперь они будут писать до тех пор, пока я не умолкну.
«На самом деле, хорошо прицелившись из пистолета…»
Я стоял лицом к ним. А потом поднял руку и при помощи большого и указательного пальцев изобразил пистолет. Тишина стала мертвой.
«В то же время одной из важнейших проблем стала необходимость избежать ненужных жертв среди случайных свидетелей, оказавшихся на месте происшествия.
Когда все окончательные приготовления к давно запланированному убийству адмирала Дубасова были завершены, террорист Войнаровский объявил, что „если жена Дубасова в это время окажется рядом с ним, то он откажется от попытки взорвать бомбу“. Карл Гейнцен по этому поводу тоже занял самую недвусмысленную позицию – невиновные гибнуть не должны. Вы прочтете об этом сами. Завтра у вас начинаются каникулы и времени будет больше чем достаточно. Мой экземпляр книги я возвращаю в библиотеку».
– Только ухитритесь поставить ее на запасную полку раньше, чем она исчезнет тоже…
Дружная волна гогота. Только техническая сторона дела была им интересна. Их приземленным практическим душонкам.
– Договорились. Но я хочу вот чего – чтобы вы прочитали еще два отрывка из той же антологии. Один принадлежит Сергею Нечаеву, другой Морозову.
И, пылая праведным гневом, я написал эти две фамилии на доске.
– Надеюсь, всем все ясно? Еще два отрывка. Предупреждаю, что вам придется на экзаменах обнаружить знакомство с ними. Мне надоело, что вы валяете дурака. Если вы ничего из того, что я требую, не прочтете, вы никогда не поймете, почему молодая Вера Засулич, дочь аристократа, отсидевшая перед этим два года в российской тюрьме, решила, что террористический акт является для нее делом чести, и почему она требует, чтобы Трепов заплатил за свою бесчеловечную жестокость. Она раздобыла револьвер, сунула его в карман пальто и отправилась на встречу с Треповым под предлогом, что имеет для него важное сообщение…
Звонок. Наконец-то. Отец выглядел бледновато. Он подпирал одной рукой подбородок, а другой придерживал саквояж, лежавший у него на коленях.
– Она ожидала его в зале для приемов, рядом с его кабинетом. Она была с ним знакома, поскольку не раз бывала в его доме со своими родителями – в раннем детстве и позднее. Напоминаю вам, что она происходила из аристократической семьи и что отношения между террористами – выходцами из благородного сословия и простолюдинами были очень крепки, что имело для успеха их дела исключительное значение. Как только он вышел из своего кабинета в окружении помощников и доверенных лиц, она поднялась со стула, на котором сидела, подошла почти вплотную и выстрелила ему в грудь. Однако она не убила его, он был только тяжело ранен. Она осталась стоять, не сделав ни малейшей попытки скрыться. Свой револьвер она уронила на пол и безо всякого сопротивления дала себя арестовать.
Дина перестала перешептываться. Теперь все взгляды были устремлены на меня в тишине, которая становилась все более глубокой. Вот чего они жаждали – авантюрного романа, а вовсе не исторических знаний.
«Правительство не отдало Засулич обычному суду, но применило в данном случае суд присяжных – едва ли не впервые в истории России, надеясь, что осуждение ее будет иметь и громадный моральный аспект. Но, ко всеобщему изумлению, суд присяжных признал ее невиновной и освободил от наказания. А когда ошеломленная полиция попробовала задержать ее, подвергнув административному аресту, толпа ее поклонников, дожидавшихся на улице, вырвала ее – буквально – из рук полицейских. В общей суматохе ей удалось скрыться, после чего она, не теряя времени, по чужим документам покинула Россию, став одной из самых заметных фигур в русском революционном движении за рубежом. Револьверный выстрел Веры Засулич положил начало множеству драматических убийств. Волна террора накрыла Россию. В том же году некто Степняк-Кравчинский, странноватый, но не лишенный способностей человек, о котором мы еще будем не раз говорить, выдвинул новую развернутую доктрину террора, опубликовав небольшой памфлет, озаглавленный „Смерть за смерть“».
Отец сидит с закрытыми глазами. Его саквояж соскользнул у него с коленей. Дверь открывается. Следующая порция студентов пытается прорваться внутрь.
Я закрываю свою папку с цветной обложкой. Что со мной творится? Я достаю сигарету, приготовленную заранее, и закуриваю ее ритуальным жестом, означающим конец лекции. Облако дыма, медленно расползаясь, окутывает меня. Студенты также потихоньку начинают расползаться, теснясь к выходу, исчезают, не произнеся ни слова. Двое подходят ко мне и просят дать им книгу прямо сейчас. Они сфотографируют ее и вернут в библиотеку. Не говоря ни слова, я протягиваю им книгу. Они что-то спрашивают. Я отвечаю – лаконично, отстраненно, даже жестко.
Я собираю свои листки и книги одну за другой и засовываю все в свой портфель, свирепея по мере того, как новые студенты заполняют аудиторию. И вот уже я прохожу сквозь эту толпу, набычившись, с опущенной головой, стараясь никого не задеть и не пытаясь даже взглянуть на Дину, которая стоит в дверях с двумя студентами, оживленно о чем-то болтая и хихикая. Не удостаиваю я взглядом и отца, который стоит, прижавшись к стенке, безуспешно пытаясь пристроить куда-нибудь свой саквояж. Я осторожно дотрагиваюсь до него: «Пошли, не то опоздаем». И, не оборачиваясь, устремляюсь дальше по коридору, после чего сбегаю по ступеням. Он улавливает мое состояние (а я в ярости) и спешит за мной.
– Надеюсь, мы не помешали тебе, – бормочет он, – Дина настояла, чтобы мы вошли и послушали, как ты преподаешь. Я возражал, но Дина…
– Ладно, проехали…
От него ощутимо пахнет одеколоном. Что это с ним происходит?
– Ты говорил с ними с таким воодушевлением… я просто восхищен. И теперь я рад, что своими глазами увидел это. Поразительно! Ты настоящий оратор. И этот драматический твой жест… с пистолетом… на мгновение мне показалось, что сейчас раздастся выстрел. Браво! Но надо быть с ними построже. Проверь их на экзаменах. Никаких поблажек этим ленивым сукиным детям – только тогда ты добьешься от них уважения. Что у тебя сегодня была за тема? Терроризм? Как интересно. Это то, что ты преподаешь им весь год?
– Нет. Эта лекция посвящена положению в России в конце девятнадцатого века.
– Ну да, ну да. Это же тема твоей докторской диссертации.
– Нет. Диссертация касалась России тысяча восемьсот двадцатых. Я послал тебе ее… но не уверен, взглянул ли ты…
Я маневрирую в плотном людском потоке, словно лодка в забитой судами гавани.
– Я… взглянул. Конечно… я прочитал даже… не все… то, что я мог понять… вот почему так вышло…
Сейчас он, заикаясь, пытается что-то объяснить мне. Но тогда… он не отозвался ни единым словом. Мы стояли, обдуваемые сильным ветром, на опустевшей площадке, где нас и нагнала Дина. Она просто врезалась в нас с разбега, прильнув ко мне со спины, она крепко меня обняла и стала целовать, нимало не заботясь, видит нас кто-нибудь из студентов или нет.
– У тебя такая чудесная группа!
– То-то ты так мне мешала.
Она хихикнула.
– Он просто прилип ко мне. Клянусь, я не виновата. Это один из таких, знаешь… вечных студентов. Как-то раз мы оказались с ним в одной группе. К тому же мы говорили шепотом.
– Ладно, забудем… – Я освободился от ее объятий и отступил на шаг… – Лучше скажи, обрадовались ли твои родители, увидев вас?
– По крайней мере сейчас они убедились, что ты не являешься плодом непорочного зачатия… даже если бы тебе этого очень хотелось.
Отец расхохотался:
– Я рад, что Дина настояла на этой встрече. Они так обрадовались, увидев меня. Визит был коротким, но очень удачным, а, Дина? Они очень приятные люди.
– Хорошо, папа, но мы должны двигаться. У нас впереди еще долгий путь.
И снова я почувствовал острое сожаление о потерянном дне. Мое драгоценное время… и еще Пасха впереди… библиотеки и так закрываются слишком рано.
– И правда, – дружелюбно сказала Дина, – пора трогаться.
– Ты собираешься пойти с нами тоже?
– Разумеется.
– Каким образом? Разве тебе сегодня не надо на работу?
– Я взяла на сегодня отгул. И пойду с вами.
Моя жена не упустит случая поразвлечься.
– Тебе совершенно незачем тащиться туда.
– Я буду ждать вас снаружи.
– Но какого черта? Я категорически против. Ты уже несколько дней не была на работе. Кончится тем, что тебя просто уволят. И ты ведь знаешь это, не так ли?
– Можешь обо мне не беспокоиться.
Ее эгоизм позволяет ей увиливать от работы, не смущаясь тем, что в конце месяца она вместо зарплаты приносит какие-то гроши. И если бы не то, что нам подбрасывают ее родители…
– Итак. Я иду.
Она вопросительно повернулась к отцу, который не сказал ничего.
– Ты не идешь!
– Я не видела твою маму так давно.
– У тебя будет множество случаев еще ее увидеть. Она никуда не собирается идти. Так же, как и ты сегодня.
Я сжал ее руку, чтобы дать ей понять это. Сжал достаточно сильно. И посмотрел ей прямо в лицо. На лице ее я заметил два маленьких прыщика. У нее были бездонные синие глаза. Тонкая кожа на скулах была натянута так плотно, что казалось, вот-вот порвется. Как же я сумел так с ней влипнуть? С этой строптивой монголоидной девочкой.
– Почему ты не идешь на работу?
Она вырвала свою руку из моей.
– Потому что не хочу. И ты меня не можешь заставить…
Отец, ухмыляясь, повернулся к нам, вполуха прислушавшись к нашему маленькому дружелюбному словесному бою.
– Ты права. Конечно, я не могу тебя заставить делать хоть что-то. Да и кто смог бы? Ладно. Папа, нам пора двигать, не то опоздаем…
Она стояла, дрожа от ярости. Студенты, проходя мимо, пялились на нее. Будь я на их месте, тоже пялился бы. Отец слегка дотронулся до нее.
– Ну, так, значит, мы еще встретимся на празднике… ты ведь зайдешь попрощаться со мной перед отлетом… и мы увидимся, верно?
Мне показалось, что она его даже не слышала. По крайней мере, она к нему не повернулась. Она неотрывно смотрела на меня, потрясенная моим отказом.
– Тогда дай мне немного денег, Аси…
– Для чего тебе деньги, Дина?
– Мне нужно.
– Но ведь вчера…
– Это было вчера. А теперь сегодня.
Отец подал голос:
– Эй, парочка! Вам нужны деньги?
– Нет, папа, все в порядке.
Я вытащил свой бумажник и дал ей пятьсот фунтов.
– И это все?
– Это все, что у меня есть. Ну, еще немного, что я оставил для себя.
Опять отцовский голос: «Если вам нужны деньги, скажите мне…»
– Чепуха. Я зайду в банк и сниму со счета.
– На твоем… на нашем счете ничего нет.
– Он даст мне, сколько мне нужно.
– Кто?
– Тот парень… тот маленький клерк, который прошлым вечером принес мне мою брынзу.
И она внезапно залилась смехом. Нежно на мгновение повисла у отца на шее, стиснула сильно мою руку и растворилась в толпе студентов.
– Совсем простые люди. Я был в их бакалейной лавке. Это что-то вроде страницы из романа о еврейском местечке девятнадцатого века. Лавочка с бочкой маринованной селедки у входа. Просто литературная бакалейная лавочка! Тоска зеленая… И вот еще что – они очень религиозны, пусть даже у ее отца нет длинных пейсов. Не просто религиозны, а очень. Можешь мне поверить, у меня на такие вещи развито шестое чувство, мне достаточно одного взгляда. Не прошло и двух минут, как они сообщили мне, что принадлежат к маленькой хасидской секте из Венгрии, в которой всем на свете правит столетний ребе, с которым они советуются по всем вопросам, касающимся жизни и смерти. Он говорит им, что делать и как думать. Ты знал об этом? Не ухмыляйся – и сам ты, дорогой мой мистер Каминка, профессор университета, в его руках, и он управляет твоей жизнью и твоими поступками, натягивая невидимые нити, кхе-кхе…
(Что это с ним?)
– Это наш автобус? Экспресс до Хайфы? Узнай-ка получше… Разреши мне заплатить. Ах, лиры… Просто ужас – я до сих пор не добрался до банка, чтобы поменять доллары. Ну, ладно, я верну тебе деньги за билеты в Хайфе, сейчас главное – оказаться на автостанции, и не позднее часа. Яэль и Кедми будут ждать нас. Нет, мне все равно, где сидеть. Хочешь у окна? Садись там. О чем я спрашивал себя во время этого удивительного визита к ее родителям этим утром – это что ты просто увидел молоденькую красотку у себя в университете, и тебе даже не пришло в голову разузнать, кто она и откуда взялась. В какую чудовищную мешанину превратился наш мир! Каких-нибудь двадцать лет тому назад молоденькая девушка из подобной семьи ни за что не вышла бы за пределы квартала, где она родилась, а если бы осмелилась выйти на улицу, то была бы с ног до головы укутана в темное облачение настолько, что ты – да и никто – даже не взглянул бы в ее сторону. Но сейчас все настолько изменилось и перемешалось самым поразительным образом, что незыблемые ранее барьеры просто исчезли. Полный хаос! И посмотри, что получилось в итоге: анархист вроде тебя попадает в ситуацию вроде твоей. Правда, я уверен, что ты-то разберешься со всем этим… ты ведь со времен детского сада этим отличался – умением разобраться с ситуацией. «Наш Аси как никто другой знает, что надо делать» – так обычно говорили мы друг другу с твоей матерью. Когда этот автобус собирается отходить? Я рад, что выбрался повидаться с ними, в противном случае это было бы воспринято как оскорбление. Не понимаю, почему ты против них так настроен. Так или иначе, мы вернемся как раз вовремя. Твоя Дина, может быть, немного ребячлива, и я рад, что ты не позволил ей присоединиться к нам и к тем испытаниям, что еще ждут нас сегодня. Кстати, ты заметил, что я держался в стороне? Но что касается утренней поездки, она была совершенно права. Согласись, что я делал это и для тебя тоже. И тут я с тобой не могу согласиться. Ты что, стыдишься их? Да, они принадлежат к низшим социальным слоям, к простому, скажем так, народу, но они вполне добропорядочные люди. Кстати, собственный твой отец не мог бы служить образцом для подражания, кхе-кхе…
(Это не кашель. Это у него появилась такая новая привычка посмеиваться. И звучит это как-то странно. Уж слишком пронзительно. Откуда это у него?)
– Подумай вот еще о чем. Рано или поздно они отойдут, а ты останешься с женой, которая лет через десять станет сногсшибательной красоткой. Думаешь, я не заметил, как мужчины пялятся на нее? Это сейчас, когда она еще не до конца созрела, но подожди еще несколько лет, и ты увидишь, что будет. Благодаря ей для тебя откроются множество дверей… твой отец в таких делах кое-что понимает…
(Он что, и вправду подмигнул мне? Это просто отвратительно…)
– Не скрою, о тебе мы говорили тоже. Они тебя очень любят. Ну, может быть, слово «любят» не совсем точное, но что точно, так это то, что они тебя уважают, хотя и не без какой-то опаски. А вот ее они просто обожают. Если ты относишься к ней как к маленькой девочке, то для них она – вообще младенец, дитя, единственный свет в окошке, они готовы отдать за нее все на свете, целовать следы ее ног и благословлять каждый глоток воды, который она делает. Я очень доволен, что у тебя хватило ума не поселиться в непосредственной близости к ним, – случись нечто подобное, ты обнаружил бы их в вашей постели вместе с их преданностью и волнением. Возможно, если вы подарите им внуков, они немного угомонятся и оставят вас в покое… прислушайся к тому, что я говорю тебе, или по крайней мере подумай об этом. Я знаю, как дорого тебе твое время, но мой совет – это лучшее решение из всех возможных. Сейчас она не занята на постоянной работе… так почему бы ей не использовать это время, чтобы воспитывать ребенка… и пусть она при этом пишет свои поэмы. Они несколько раз возвращались к этому вопросу, пытаясь перетянуть меня на свою сторону. Полагаю, что и сам ты не раз и не два слышал об этом от них. Допускаю, что за всем этим стоит еще их обожаемый рабби, кхе-кхе… и при всем при том они простые и добрые люди. А мы должны казаться им чуть ли не выходцами из другого мира, пойми. Я заметил, как они на нас смотрят, и я не представляю, как они восприняли бы историю нашей семьи, обмолвись ты хоть о малейшей детали этой истории. Но пока что они не трепещут перед тобой от страха, разве что чуть-чуть. Считай, что тебе повезло: ведь могло случиться, что они захотели бы увидеть тебя во всем твоем блеске во время лекции и услышать, как ты разглагольствуешь об этой молоденькой мисс Засулевич… они были бы уверены, что она была твоей близкой подружкой…
Засулич? Правильно, виноват, Засулич. Но на что она, в самом деле, могла быть похожа? На такую же, как она, молодежь, ощутившую себя вершительницей истории с помощью пули и динамита? Ты и сам ведь говорил, что она была вхожа в семью этого генерала… и после этого стрелять в него в упор… нет, нет, только не пытайся убедить меня, что ею двигала идеология. Чего я ищу в подобных делах – это персональный мотив, и я всегда желаю своим друзьям-историкам, чтобы они спустились с небес на землю и присоединились к этим поискам. Конни научила меня обращать внимание на психологические детали, и можешь мне поверить, что после этого словно пелена упала с моих глаз, и я прозрел, увидев мир новыми глазами. Но более глубокое проникновение в тему, которую ты сейчас преподаешь, мне кажется, невозможно, если ты не можешь читать документы на языке оригинала… по-русски…
– Я этим сейчас и занимаюсь…
– Невероятно! Я рад это услышать. Жаль, что в этом я мало чем могу тебе помочь. Что это было?
– О чем ты?
– Вот те штуки позади… из металлических труб?
– Это памятник военной авиации.
– Что-то новое, да?
– Нет. Он стоял здесь и в твое время.
– Никогда его раньше не замечал.
– Как часто ты бывал в Иерусалиме?
– Значит, так… Последние годы я бывал там редко. Я оказался узником… заключенным вместе с ней в этом доме. Каждая моя попытка выйти наружу кончалась скандалом. Но ты обо всем этом позабыл и теперь проклинаешь меня за попытку спастись… и спасти то, что осталось еще в моей жизни. Что с тобой?
– Ничего. Просто устал. Я не спал всю прошлую ночь.
– Я знаю. Слышал, как ты ворочался в постели. Почему бы тебе не закрыть глаза? Обещаю тебе замолчать.
– Этого не требуется. Мне никогда не удавалось уснуть в автобусе.
– Ты слишком перенапрягаешься… умственно… Я обратил на это внимание во время твоей лекции. Ты был так напряжен… словно натянутая тетива… поверь старику, так ты выгоришь очень быстро. И откуда только в тебе этот огонь… этот пафос? Неужели от меня? Я не имею в виду напор… но… и ты выбрал такую мрачную тему. Кроме того, ты обладаешь талантом придавать важность тому, чем ты занят. Еще когда ты был малышом и приходил из школы домой, вся семья затаив дыхание слушала твой рассказ о том, что происходило с уличным котом или с мухой, за которой ты следил по дороге домой. Где мы едем сейчас? Что случилось с монастырем траппистов, который был где-то здесь? Или я что-то путаю?
– Мы сейчас на новой объездной дороге.
– А, это та самая знаменитая дорога! Читал я об этом. Видел даже газетные фотографии торжества, когда премьер-министр (или это был президент?) перерезал ленточку. Поистине, сионизм жив, если по поводу появления нескольких километров новой дороги мы устраиваем такой бал-маскарад.
– Вчера мы тоже здесь проезжали.
– Значит, я этого не заметил. По правде говоря, мне сейчас не до пейзажей, сынок. До сих пор не могу сообразить, где я и что со мной, пусть с момента моего прибытия прошло уже четыре дня. Ладно, весь первый день я проспал как убитый, я просто не держался на ногах. День второй был отдан ожиданию вестей от Кедми, который настоял, чтобы отправиться в больницу одному, что он и сделал, вернувшись в итоге ни с чем. Вчерашний день я провел с вами, а сегодня я должен вернуться. Один Господь знает, что она там приготовила для нас. Больше я никому уже не верю. А ведь я думал, что все это дело займет один-два дня: подписи, процедура развода, словом, все-все, и у меня еще останется время, чтобы побыть с вами, увидеть старых друзей, порыться в книгах. Так все должно было произойти – по крайней мере, на взгляд оттуда. Об этом писалось в письмах, которые летели туда и сюда, об этом говорилось в бесконечных международных разговорах по телефону… Кедми чуть не уморил меня до смерти, обсуждая малейшие детали, он поднимал меня с постели ради них глубокой ночью – за мой счет, конечно. Похоже, он наслаждался, терзая меня. Что это мы сейчас проехали?
– Я не знаю. Что это было? Вот этот лесок?
– Нет, то, что было за ним.
– Это небольшой армейский лагерь.
– Ты не мог бы чуточку прикрыть окно? Похоже, снаружи чертовски дует. Не хочешь ли сказать, что снова начался дождь?
– Понятия не имею.
– Яэль сказала мне, что такой зимы, как эта, не было уже несколько лет. Я знаю, ты сердишься на меня за то, что я тащу тебя с собой сегодня. Ты всегда давал окружающим почувствовать, что твое время обладает не сравнимой ни с чем ценностью. Пусть так… но я полагаю все же, что ты можешь себе позволить потерять один день своей жизни ради своего отца… и для блага своей матери, кстати, тоже. Да, можешь мне поверить – это делается для ее блага тоже. А пропущенная профессором лекция будет прочитана днем позже, вот и все. Просто мне не вынести мысли, что вот-вот придется встретиться с ней лицом к лицу. А Яэль просто застынет, и от нее не будет никакого проку, если мы вдруг начнем ссориться. Если бы Цви согласился к нам примкнуть… но он отказался. Ладно, это не имеет значения. Ты так давно не навещал ее, что можешь считать, что давно задолжал ей этот визит. Кедми утверждал, что в эти последние годы он видел ее чаще, чем ты и Цви, вместе взятые. И если он, как всегда, несколько преувеличивает, мы не можем дать людям повод обвинять нас в чем-то подобном. Обвинять нас в том, что мы вышвырнули ее из своей жизни вон, как старую собаку. Даже если Цви всегда был ей ближе, ты просто обязан навестить ее сейчас, пусть даже больница от тебя так далеко. Куда мы это сейчас поворачиваем?
– По направлению к аэропорту. Здесь мы вливаемся в трассу, ведущую в Петах-Тикве.
– А, понимаю. И эта вот четырехполосная магистраль тянется до Тель-Авива?
– Да.
– Тель-Авив – это место, по которому я скучал больше всего. И за эти четыре дня сейчас я к нему всего ближе. Эта влажность… этот запах моря… широкие тротуары со столиками на них, выставленными и занятыми уже с утра… Евреи, посещающие Израиль, всегда толкуют об Иерусалиме, но тут же спускаются к Тель-Авиву, и как же я их понимаю… Всем им следует рассказывать о том, что сионизм начался с того, что человек оставил Иерусалим и спустился к побережью, к болотам и мангровым зарослям, где ничего, кроме комаров, змей и смерти от малярии, его не ожидало. Кто в состоянии оценить это сейчас? Иерусалим. Иерусалим… его превратили в святыню, в культ… но я о другом. Я хочу, чтобы ты говорил о моем деле… скоро… Хочу, чтобы ты объяснил ей ситуацию. Что все кончено. Поговори с ней несколько отвлеченно, начни издалека: о свободе, об общечеловеческих ценностях. Твои представления о моральной справедливости всегда имели для нее большое значение. Будь предельно вежлив, но тверд. И думай обо мне… ведь ты на моей стороне, не так ли, мы ведь смотрим на мир одинаково. Яэль слишком поддается эмоциям, поэтому лучше будет для нее помолчать. А сам я к тому, что говорил раньше, не добавлю ни слова, потому что, стоит мне начать, все пойдет кувырком… и я клянусь тебе… я даже рта не раскрою.
(Почему бы тогда ему не замолчать прямо сейчас.)
– Не вздумай даже заикнуться о другой женщине или ребенке. Ничего не говори о прошлом и обо мне. Упирай на принципы. Я благодарен Цви, что он не поехал с нами… один Бог знает, что он обо всем этом думает. Кедми тоже может отдыхать, нужды в нем нет. Пусть нас будет только четверо… посидим тихонько, поговорим… все это касается только нас. Но говорить будешь ты. Кстати, ты уже решил, что именно?
– Более или менее.
– Давай сначала послушаем ее, а затем, если надо, поясним кое-что. Я хотел бы вот чего – начиная разговор, знай, что я абсолютно от нее не завишу. Единственный, у кого в случае отказа могут возникнуть проблемы, это она. Я постараюсь… существует, кроме вот этого, множество других путей… если потребуется, я могу абсолютно законно этого ребенка усыновить. Не дай ей почувствовать, что мне это очень нужно… Это только подстегнет всю ее злобу. Она может не понять, что ситуация изменилась в корне и я уже давно у нее не под каблуком. А ты говори с ней о принципах в тех логических формулах, в которых ты так силен… безо всякой сентиментальности, так, словно ты читаешь лекцию своим студентам. Я полагаюсь на тебя… кстати, мы сейчас не приближаемся к последней остановке?
– Нет.
– Когда-то они обычно останавливались здесь, чтобы перекусить.
– В этом уже давно нет необходимости. Вся дорога без остановок занимает сейчас не более двух часов.
– Ты выглядишь очень бледным.
– Просто устал.
– Тогда почему бы тебе не попытаться уснуть? Можешь положить голову вот сюда. Я сейчас подвинусь.
– Не стоит. Все равно я не умею спать в автобусах.
– Это потому что ты боишься потерять над собою контроль.
– Откуда ты набрался подобных идей? Похоже, ты и вправду стал большим специалистом в вопросах психологии.
– Я тоже боюсь заснуть во время путешествия. Но ты не беспокойся. Я все хотел спросить тебя – как у тебя обстоят дела с деньгами? Хватает?
– Для чего?
– Вообще. Я заметил, что денежный вопрос тебя беспокоит… и сильно. Если у тебя есть проблемы… попал, допустим, в передрягу, дай мне знать, вернувшись, я что-нибудь наскребу и пришлю тебе.
– Я? Попал в передрягу? С чего ты взял?
– Ладно, ладно… не сердись. На самом деле я очень рад, что остался у вас. Жаль, что так ненадолго. Над чем ты сейчас работаешь, скажи-ка мне. Извини, что я не отреагировал, когда ты прислал мне свою диссертацию. Я ею очень гордился. Говоря честно, это было именно то, о чем я сам всю жизнь мечтал, но так и не собрался написать.
– А я и не ожидал, что ты ее прочтешь. Просто хотел, чтобы у тебя был экземпляр. Я знал, что моя работа тебя не заинтересует.
– Нет, нет. Я обязан был ответить. Как минимум, я должен был прочитать текст. И я сделал это… по большей части… просмотрел, а не просто пролистал. И запомнил даже стихотворение Пушкина, которое ты приводишь… очень впечатляет… к сожалению, голова моя в это время занята была совсем другим.
(Не сомневаюсь. Всегда было именно так. Потому-то он так ничего и не достиг.)
– Не бери в голову.
– Но я-то как раз и собираюсь это сделать. Как только вернусь обратно, прочту все от начала до конца и напишу тебе. Напишу, что я обо всем этом думаю.
– Этого не требуется. Уверен, что читать столько страниц… тебе будет просто скучно.
– Я это сделаю для самого себя. Так чем ты занимаешься в настоящее время, этими русскими террористами?
– Нет. Это была лишь тема моей сегодняшней лекции.
– Тогда чем же?
– Тебе это ничего не скажет.
– И все же?
– Вопросом исторической неизбежности. С точки зрения возможного сокращения исторических процессов. Все это навеяно изучением событий девятнадцатого века. Созданием некой модели…
– Но это же очень интересно. Почему тогда ты сказал, что меня это не заинтересует?
– Потому что это втягивает в дискуссию, касающуюся теорий, о которых ты не имеешь представления.
– Ну, конечно… ты и твои дискуссии… Ты тратишь свою жизнь на нескончаемые споры и диспуты. Готов схватиться с кем угодно…
– У меня был хороший учитель.
– Не исключаю, что однажды и у меня появится стимул показать себя с лучшей стороны… показать, на что я еще способен… подозреваю только, что это случится не слишком скоро. С возрастом приходится все строже контролировать свои порывы. Конни… ну ладно, забудем об этом. Сокращение срока исторических процессов… я правильно тебя понял? Возможно ли что-то подобное?
– Полагаю, возможно.
– Можешь привести пример?
– Все это есть в моей диссертации.
– Ты прав. Теперь я просто обязан это прочитать. Ты мне пришлешь?..
– Пришлю.
– Обещаешь?
– Обещаю.
– После всего, что я узнал, разве могу я не узнать, чем ты занимаешься? Даже если я так далеко отсюда. Я просто уверен, что пойму… если не все, то, по крайней мере, большую часть…
– Не сомневаюсь… часть ты поймешь, безусловно.
– Думаю, ты удивишься, если я скажу тебе, что нахожусь в весьма продуктивном периоде жизни. Я постоянно пробую что-то новое. Есть у меня в жизненных планах и небольшие лингвистические проекты… там сейчас все подобное очень востребовано… и было бы просто замечательно, если бы ты… зимой, когда никуда не хочется выходить… мы могли бы вместе… открою тебе секрет: я начал писать… назовем это мемуарами, которые могли бы в один прекрасный день превратиться в…
– В роман? Я всегда думал, что однажды ты напишешь что-то подобное.
– Ты говоришь об этом как-то… знаешь, я совершенно не вижу здесь повода для насмешки. Или ты думаешь, что не стоит и пробовать? Но откуда в тебе это презрение?
– Где ты увидел презрение?
– В тоне, каким ты сказал… Сам не замечая, ты высокомерно продемонстрировал свое интеллектуальное превосходство…
– Никогда ничего подобного я тебе не демонстрировал.
– На словах… но в тоне… Люди всегда очень хорошо чувствуют насмешку. Впрочем, это не имеет значения, ибо мне известна причина. Ты так и остался маленьким мальчиком, который не может простить то, что я оставил вас.
– С тех пор? Ты заблуждаешься. Абсолютно…
– Но я еще вернусь. Ты можешь мне не верить, но однажды я сюда вернусь и буду здесь жить.
– Я никогда не утверждал обратного.
– Меня не оставляет ощущение, что ты осуждаешь меня.
– Ошибаешься.
– Что бы ты об этом ни думал, я не мог оставаться взаперти с ней в этом доме, пока не помру, для того лишь, чтобы вам было спокойно.
– Хоть раз ты слышал от меня что-нибудь подобное?
– Останься я с ней, разве мог бы я хоть на что-то надеяться в этой жизни при таких взаимоотношениях… мог бы рассчитывать на интеллектуальное возрождение, на духовную жизнь? Судя по тому, как ты на меня глядишь, сидеть бы мне с ней до самой смерти. Постой, а это что такое? Новая магистраль до Хайфы?
– Нет. Это старая дорога. Она была здесь всегда.
– Но шоссе такое широкое. Выглядит абсолютно новым.
– Строители расширили ее… добавили разделительную полосу.
– Насколько все стало красивее за каких-то несколько лет. Поразительно… великолепная страна… нам следует беречь ее… да, да… Эти плантации апельсинов. Это небо…
(Почему я должен все это слушать? Всю эту чушь. Разве мне не о чем с ним разговаривать? При этой мысли я почувствовал, как лицо мое начинает пылать.)
– Зачем ты рассказал Дине, что мама хотела напасть на тебя?
– Напасть? Она пыталась меня убить. И ты прекрасно это знаешь.
– А ты знаешь, что это было не так…
– О чем ты толкуешь? Как ты можешь… Разве Цви не нашел меня на полу, валяющимся в луже собственной крови?
– Давай не будем об этом вообще. Не начинай все сначала. Пусть так – она хотела тебя убить. Но почему ты вчера решил ей все это поведать?..
– Я вовсе не собирался об этом говорить. Но даже если так вышло – что из этого? Разве это неправда? Так, по крайней мере, теперь она поняла, почему меня не было на вашей свадьбе. Я обязан был каким-то образом ей все это объяснить.
– А также обязан был, конечно, расстегнуть свою рубашку и показать ей шрам?
– Я этого не помню. Показать ей… Ты уверен, что я расстегивал рубашку? Как такое могло случиться?.. Может, ты ее неправильно понял? Может быть, наоборот, в это время я старался ее застегнуть? Она на самом деле так сказала? Но ты же ее хорошо знаешь. В чем-то она еще просто ребенок… витает в облаках… у нее сильно развито воображение; можешь назвать это литературной интерпретацией… и даже если я действительно показал ей свой шрам, что с того? Я полагаю, что она приняла это просто за шутку.
– Нет.
– Ну так в чем же я неправ? Хорошо это или плохо, сейчас она стала одной из нас. И позволь ей знать о нас все. Это ведь не такая вещь, которую можно скрывать вечно. Что было, то было. Это жизнь. Ты считаешь, что мы вечно должны друг друга стыдиться?
– А я и не стыжусь. Должен сказать тебе вот что: стыд – это стыд, но кроме него есть еще и унижение. Я никогда не демонстрировал тебе какого-либо интеллектуального превосходства. И если быть совсем точным, все, скорее, наоборот. Я очень многому научился у тебя. Ты тоже ведь был учителем, вот и я пошел по твоим стопам, правда немного в ином направлении. Но эта вот твоя псевдосентиментальность… Эта неконтролируемая потребность в болтовне… при отсутствии малейшей даже потребности в обозначении различий…
– Куда это мы сейчас поворачиваем?
– Понятия не имею. И вообще – почему тебя так занимают маршрутные проблемы этого автобуса?
– Я не хочу, чтобы мы опоздали. Ты уверен, что мы движемся прямо в Хайфу?
– Абсолютно.
– Ну вот… таков я. Такая у меня натура – беспокоиться обо всем, как говорят американцы – или съешь меня, или выплюнь. Мое кредо, моя суть – быть откровенным. Искренним.
– Не говори чепухи. Искренность не имеет к этому никакого отношения. Тем более что никто об этом тебя не просит. Ты понимаешь, почему я был против твоего визита к ее родителям? Я боялся, что ты начнешь рассказывать им обо всем, что здесь происходило и происходит, и, верный своей искренности, захочешь объяснить им свое появление… а может быть, тоже начнешь расстегивать рубашку…
– Ты и в самом деле думаешь, что я на такое способен?
– Почему бы нет? Совсем недавно ты показал, что способен совершать изумительные поступки…
– Это Конни. Ей обязан я тем, что обрел новую надежду. И это она была той, что заметила и оценила мой потенциал, когда я оказался там, униженный и пришибленный, доведенный до отчаяния человек… которому она вернула веру в себя. Мне так хотелось бы, чтобы вы встретились. Было бы просто прекрасно, если бы однажды ты и Дина могли на какое-то время поселиться у нас… а ты смог бы увидеть маленького еврейского мальчика, когда он появится на свет… увидеть это чудо… не могу даже сказать тебе, как мне этого хочется. И много есть еще, чего я не могу тебе сейчас сказать… у меня ведь есть обширные планы, связанные с тобой… например вот, это… но погляди, вот наконец и море! Это море похоже на мои планы в отношении тебя – они помогли бы тебе выйти в огромный океан возможностей. Я кое-что предпринял в своем университете… кстати, как у тебя с английским? Ты мог бы начать цикл лекций о терроризме, это именно то, что сейчас надо. Или рассказать им о еврейской истории в свете ценностей иудаизма… уверен, они ухватятся за это, а платят там отлично. А пока мы пожили бы вместе, одной семьей… не можешь ли ты чуточку приоткрыть окно… и тебе дует? Что-то мне не совсем хорошо… подташнивает, как при морской болезни… ты мне так помогаешь… пусть даже заткнул мне рот и заставил замолчать… похоже, что ты не помнишь о существовании такого понятия, как сострадание… неужели ты никогда не задумываешься, через что мне пришлось пройти?
– Папа, хватит уже. Забудь обо всем, переключись… по крайней мере на ближайшее время. Закрой глаза. Сделай глубокий вдох. И попробуй уснуть… я попробую тоже.
* * *
…И бледный молодой человек, столь грубо оторванный от своей работы, этот мыслитель, обдумывающий то, над чем никто и никогда еще не задумывался, размышлявший о вещах поразительных, воспринять которые в состоянии были лишь немногие ему подобные умы, – этот человек смежил ресницы. Он сидел, откинув голову, в стремительно несущемся автобусе, тусклым днем, подгоняемый раскаленным и пропитанным пылью ветром по направлению к горной гряде Кармеля, по дороге, вьющейся серпантином вокруг апельсиновых рощ, то закрывающих, то открывающих вид на залив, в сопровождении бесшумных лимузинов, водители которых, развалившись расслабленно у черных своих рулей, ни на мгновение не задумываются, кого они только что могли увидеть за стеклом автобуса, оставшегося позади, и что это был за человек, который, привалившись к своему отцу (который проглядывался неясной загадочной фигурой), витал в быстро меняющейся череде фантастических мечтаний, автоматически вытирая слезящиеся от ветра глаза; следы этих слез, возможно, каким-то волшебным образом сможет обнаружить лет этак через сто пытливый и дотошный автор биографии, если он толково и ответственно отнесется к своей задаче, проделав для этого, если нужно, путь до Миннеаполиса, чтобы найти полный ответ среди выцветших и высохших старых бумаг о событиях, имевших место в далеком девятнадцатом веке.
* * *
Мы были полностью без сил к тому времени, когда автобус наконец добрался до Хайфы. На выходе отец оступился на ступеньке и некоторое время переводил дух, прислонясь к одной из бетонных колонн терминала, а потом, пошатываясь, поплелся дальше по переходу, в котором эхом отдавались гудки автобусов. Я шел рядом, неся его саквояж. К счастью, Кедми ожидал нас у этого же самого выхода.
– Мы уже не знали, что думать. Что с вами там произошло? Я уже хотел было обращаться в бюро находок. Вы оба выглядите так, словно только что совершили посадку на Луну.
Отец смотрел на него как на пустое место. Он вертел головой, что-то выискивал, потом, не говоря ни слова, покинул нас и исчез в мужском туалете, прятавшемся в бетонной стене пешеходного тоннеля. Кедми весело подмигнул мне:
– Это очень важный для него день. И потому, поверь мне, он так нервничает. Он, похоже, едва дождался всего этого. Все, что мне нужно было, – это еще один день наедине с твоей матерью, чтобы она дозрела до окончательного «да». Но кто же может вас всех остановить. Ладно, пошли, там есть еще полтора Каминки, которые нетерпеливо дожидаются вас.
И он подвел меня к угловому столику кафетерия. В очередной раз я был поражен габаритами Гадди, который сидел рядом с огромной спящей игрушкой – моделью локомотива. Я улыбнулся ему и взъерошил его волосы, но ответной улыбки не получил.
– Мы ведь с тобой старинные приятели по телефону, не так ли, Гадди?
Он кивнул.
Яэль сидела сгорбившись, расслабленная и грустная, в большой серой ветровке, ее гладкое ненакрашенное лицо казалось еще более широким, чем обычно. Я приземлился в кресло рядом с ней. Следует ли мне поцеловать ее? По ее лицу пробегает гримаса, она закрывает глаза. Затем обхватывает мою голову и целует меня. Мне приятно прикосновение ее нежной кожи.
– А кто остался с младенцем?
– Моя мамочка, – ответил Кедми, ухмыляясь.
– А Дина не смогла приехать с тобой сегодня?
– Нет. Решили, что это не самая удачная идея.
– Спорить не стану. Как она там? Давненько я ее не видел.
– Я тоже. Хотя она работает на том же месте.
Кедми снова ухмыльнулся, словно он только что удачно сострил. Яэль улыбается как-то неопределенно. Она хочет что-то сказать, но Кедми буквально затыкает ей рот.
– Тебе есть смысл подсуетиться, Аси, – говорит Кедми, – если хочешь перекусить. Поезд скоро появится. Мы должны закруглиться до этого, согласен?
– О каком поезде ты толкуешь? Что еще за поезд?
– Случайно завалялся тут один. – Кедми хохочет. – Как раз то, что нам нужно. И он довезет вас до Акко. Да расслабься ты. Я пообещал Гадди. Для тебя это будет тоже неплохим развлечением. Остановка в Акко находится совсем неподалеку от здания раввината. Оттуда вы доберетесь до больницы на такси, а потом я заберу вас оттуда в пять, и все будет хорошо. А мне сейчас надо навестить моего подопечного убийцу. Мне ведь тоже не помешает заработать малую толику деньжат, поскольку твой папа не спешит взять меня на содержание…
Сквозь огромное стекло кафетерия я увидел отца, выходящего из мужского туалета. Он казался чем-то смущенным. Покрутив головой, он направился в противоположном направлении. Кедми ухмыльнулся и подозвал Гадди. «Беги и поймай своего дедушку, прежде чем мы его потеряем…»
– Ну, как он? – спросила Яэль. – Как прошел его визит к вам?
– Прекрасно. Похоже, что он в хорошем расположении духа.
– Да. Он выглядит счастливым.
Гадди тем временем догнал отца и толкнул его в спину. Обернувшись, отец обнял его и стал целовать с таким энтузиазмом, что, честно говоря, поразил меня. Мальчик тоже, как мне показалось, удивился не меньше, и все смотрел на свой локомотив, который не выпускал из рук. Они вернулись к нам, держась за руки. Яэль поднялась, чтобы обнять отца. Его лицо было мокрым, волосы тоже. От него исходил едва ощутимый запах рвоты.
– Что-то мне не совсем хорошо. Сам не знаю, что со мной… так внезапно…
Не глядя на него, Кедми сказал:
– Это от страха.
– Страха чего?
– Не будем об этом…
Отвратительная личность с отвратительным чувством юмора.
Отец попробовал сесть, но Кедми тут же начал им командовать:
– Вам нужно что-нибудь съесть. Никогда не помогаю человеку, который отказывается от пищи.
– Сядь, папа, – сказал я. – Пойду принесу тебе чего хочешь. Чего мне взять?
– Только стакан чаю и пирожное. Или что-то вроде. Э-э… постой минутку…
Он достал свой бумажник и вынул из него несколько долларовых банкнот.
– Мне они не нужны, – сказал я.
Кедми игриво подплыл к нам:
– Вы до сих пор еще не расстались со своими долларами, Иегуда? А? Вот что значит практичный человек. Знаете, что доллар, обмененный завтра, стоит двух, обмененных сегодня?
Отец нетерпеливо оборвал его:
– Есть здесь поблизости хоть какой-нибудь приличный банк?
– Не сейчас, не сейчас, – не сговариваясь, откликнулись мы хором.
– Но я хочу… мне надо… я должен…
– Ладно, – сказал Кедми. – Раз так… давайте их сюда. Сейчас я все устрою. Сколько вы хотите обменять?
Отец протянул Кедми стодолларовую бумажку. Кедми посмотрел на нее на просвет, ухмыляясь. «Сейчас у нас ходит здесь масса фальшивок», – пояснил он. Затем взглянул на свою газету, отыскивая сегодняшний обменный курс, и показал его отцу.
– Отлично, отлично, – пробормотал отец, не скрывая отвращения.
Я пошел к прилавку, чтобы выбрать ужин, и вернулся, осторожно неся поднос. Некоторое время я молча разглядывал их, пытаясь разобраться в своих чувствах. Гадди не сводил глаз с подноса в моих руках. Отец протянул мне несколько банкнот и подтолкнул их ко мне, не обращая внимания на ухмылку Кедми. Яэль не сводила глаз с отца и молчала. Где в эту минуту могла быть Дина? Публика все прибывала и прибывала. Это было как прилив. Непрерывно дребезжали тарелки. Иерусалим казался явлением из другого мира. Обычное утро. Весьма поучительно, в это время заканчивались первые лекции. Кедми продолжал суетиться, переговариваясь с посетителями, листавшими газеты. В какой-то момент он тайком подсунул мне стопку документов.
– Если ты незаметно сможешь перехватить ее, попробуй настоять (но без ненужного нажима), чтобы она хотя бы взглянула на это. Здесь – копия соглашения о разводе, которую я приготовил для нее.
– А почему я?
– Если не ты – больше некому. Держись твердо. Кроме тебя, больше некому.
Я не нашелся что сказать.
В два часа мы уже стояли у вагонов. Кедми запихивал нас поочередно внутрь, как если бы мы были багажом, затем отыскал наши места, показав проводнику билеты. Отцовский саквояж он засунул в багажное отделение, выдав ему взамен прозрачную пластиковую папку горчичного цвета с вытисненной надписью: «Главный раввинат». Не было ни мельчайшей детали, о которой он позабыл бы, и любое действие он сопровождал идиотскими шуточками. В своем неповторимом стиле. Как моя сестра ухитряется жить с подобным типом? Но Яэль была такой всегда – чуть рассеянной, мягкой, едва ли не заспанной, готовой принять все как есть и уступить по любому пункту, не вступая в спор, и она разрешает ему совать свой нос в то, что его совершенно не касается, включая содержимое ее кошелька.
– Чем это все вы так озабочены? – крикнул он нам с платформы. – Не беспокойтесь… это самый лучший из всех возможных поездов в мире. Такого случая вам в жизни больше не представится. А я приеду, чтобы забрать вас в пять… самое позднее – в половине шестого. Гадди… постарайся не забыть в вагоне свой локомотив. И попроси своего дядю, чтобы показал тебе всё внутри.
Помахав нам еще, он исчез, оставив нас в пустом вагоне одних, вырванных из времени. Неожиданное приключение, которое Кедми навязал нам ради мальчика. Черт бы их всех побрал! Что я здесь делал? Я сам удивлялся себе. Я устал как собака и чувствовал себя так, словно меня разбил паралич. Тем временем Яэль открыла большую пластиковую коробку, вытащила из нее огромный синей шерсти шарф и цветастую куртку – для того, оказалось, чтобы он вручил это матери как подарок. Он не без удовольствия принял все это, после чего они вместе принялись спарывать израильские этикетки. Поезд потихоньку набирал ходу. Путь пролегал через огромные ворота, мимо уходящих в небо кранов, оставляя позади грязные стены складских помещений и фабрик, пакгаузов и мрачных гаражей, внезапно без видимой причины притормаживая, чтобы тут же рывком отправиться дальше, едва не задевая боками внезапно появлявшиеся то тут, то там неведомого назначения постройки. Отец сидел неподвижно, но говорил не умолкая, останавливаясь лишь для того, чтобы прикурить очередную сигарету. То и дело поправляя падавшие на лоб волосы, он тряс наше родословное дерево – кто, где, что и как. Через равные промежутки он обещал замолчать, «не произнося больше ни слова». Это обещание касалось и все приближающейся встречи с матерью. «Я буду нем как могила, говорить будете только вы. Аси начнет первым». И который раз рассматривал папку, что дал ему на прощание Кедми, пытаясь уяснить ее содержимое.
Я решил устроить Гадди экскурсию по вагонам. Мы побрели в самый хвост, дошли по коридорам до выхода на последнюю площадку и там стояли, шатаясь, и глядели через заднее окно, как возникают, сплетаясь, рельсы, как они вьются по земле, заросшей сорняками, исчезают и появляются вновь и как стихает вдали грохот вагонных колес. Мальчик тихо стоял возле меня, уменьшенная копия Кедми, но много, много более приятная копия, игрушечный паровоз в одной руке, а другая крепко прижата к груди. Он стоял у окна, словно приклеенный. Я тем временем достал документы, которые Кедми дал мне, и попробовал вчитаться в текст. Он касался их развода. Жесткая профессиональная фразеология, там и здесь перемежавшаяся сентиментальными клише вставок. Последняя страница содержала домашний перечень – инвентарное перечисление собственности, подлежащей разделу. С видимым удовольствием, которое невозможно было скрыть, Кедми перечислял все, что можно было перечислить: начиная с мебели и кончая чайными ложечками, оценивая каждую вещь с точностью до цента. Меня всего трясло от ярости. Где сейчас Дина? Что мне делать с ней?
Потребовался целый час, чтобы добраться до Акко. На станции мы поймали такси и двинулись к зданию раввината, стоявшему неподалеку от окруженной стенами гавани Старого города. «Здесь вы должны меня подождать», – заявил отец с неожиданной для него твердостью. «Это не займет много времени». И мы остались наедине с такси, окруженные стоящими туристическими автобусами, лавочками, торгующими фалафелем, и старыми крепостными стенами древней цитадели. Шофер выбрался наружу и стал вытирать ветровое стекло. Гадди катал свой паровоз туда-сюда по заднему сиденью. Яэль, прижавшись ко мне, выглядела виновато. Задумывалась ли она когда-нибудь о серьезных вещах? Если нет – сейчас было самое время наверстать упущенное. Думай, Яэль, думай… мы должны продумать вместо нее все, пока еще ни один документ не подписан.
– Ты в курсе… у него там будет ребенок… от этой женщины…
– Знаю. Он мне сказал…
– А Цви… ты сказал ему?
– Он знает.
– И что он сказал?
– Он рассмеялся.
– Рассмеялся? А почему он не присоединился сегодня к нам? Я звонила ему весь вечер, но у него никто не брал трубку.
– Я говорил с ним.
– Ну так почему он не поехал с нами?
– Я не знаю. Может быть, он не хочет, чтобы они разводились.
– Ему очень нравится их квартира… и… или…
Она не договорила, но ясно было, что Кедми уже давно обдумал и это.
– Он с тобой об этом когда-нибудь заговаривал?
– Никогда. Все, что он сказал, так это то, что он не любит больничную обстановку. Я всю ночь не мог уснуть, провертелся в постели до утра. Этот ребенок… я не мог привыкнуть к тому, что… Кто мог ожидать от него чего-то подобного?
Она, однако, не поняла, о чем я толкую. Глаза ее широко раскрылись от удивления.
– Что заставляет тебя так все воспринимать?
Она – полная дура. Меня снова трясет от злости. Мое потерянное безвозвратно время. Мне представилось, что я покинул Иерусалим сто лет назад. Отца не было и в помине. Водитель такси отправился в ближайшее кафе. Сквозь каменные зубцы старинной крепости посверкивало море. Я открыл дверцы такси.
– Давай выходи, Гадди. Идем. Я хочу тебе кое-что показать.
Мы брели среди крепостных стен, пока не дошли до некоего подобия ступенек, криво ведущих вниз, образуя в конце укромный уголок. Сухой, иссушающий, серый день, продуваемый с востока горячим дуновением пустыни. Залив был похож на расплывшуюся по бумаге кляксу, над которой пурпурной громадой сверкал Кармель. Я крепко держал Гадди за пухлую руку, чтобы он невзначай не поскользнулся на замшелых ступенях вместе со своим паровозом, который он все так же прижимал к себе, в то время как я пробовал объяснить ему то, что открывалось нашему взору – вплоть до горной гряды, выступающей из воды там, где находился его дом, хотя сам он, кажется, предпочитал разглядывать огненные факелы нефтеперегонного завода, которые, казалось, вырастали прямо из воды залива, трепеща под порывами ветра.
Давным-давно, в 1799 году, Наполеон разглядывал эти каменные стены с вершины небольшого холма. До них было подать рукой. Хотел ли он и в самом деле прикоснуться к ним, чтобы почувствовать вечно живой пульс истории? Этого мы не знаем. Но знаем другое – ему пришлось отступить. Это место было не для него. Ну, ничего не поделаешь. Благодаря этой неудаче он глубже понял самого себя, лучше представил собственные свои силы и предел своих возможностей. Почувствовал связь времен и необходимость смирения перед велениями судьбы. Последние годы восемнадцатого века были в моих собственных работах отправной точкой исследований.
В эти мгновения я вновь хотел стать самим собой. Вместо «я» мне хотелось бы услышать со стороны – «он». Теперь мне мешал этот мальчик. Он внимательно, словно исследуя, разглядывал меня. А я думал о потерянном попусту времени, о моих набросках, об оставленных где-то далеко книгах. Далеко, в прозрачном и почти что призрачном отсюда Иерусалиме. Месте, где мысли приобретали особую ясность. О неповторимом свете иерусалимского неба. О Дине на иерусалимских улицах… где ей так нравится небрежно транжирить деньги, проходя сквозь строй незнакомых мужчин, в то самое время, как я стою здесь, обвеваемый иссушающим ветром пустыни.
Мы спустились со стен.
Яэль все еще сидит в такси, глаза закрыты, руки скрестила на груди. Шофер глядит на нас вопросительно.
– Отец еще не вернулся? Что там внутри происходит?
Я устремляюсь вверх по ступенькам раббанута. Просторный, уходящий вдаль коридор, узкие высокие двери. Откуда-то доносится приглушенное всхлипывание. Отцовское? Одним движением я распахиваю дверь. Молодая темнокожая женщина, всхлипывая, сидит за пустым канцелярским столом, в огромной комнате ее тихое рыдание отдается эхом. При виде меня она поднимается с места, похоже, она приняла меня за официальное лицо и пытается что-то сказать, но я быстро отступаю обратно в коридор; дверь за моей спиной с силой захлопывается. В конце коридора через просвет в другой двери я замечаю голову отца, покрытую черной кипой. Пара молодых чернобородых раввинов, сидя слева и справа от него, очевидно, что-то втолковывают ему, потому что он непрерывно кивает в знак согласия. Я опускаюсь на скамью в коридоре, положив голову на руки. Этот день бесконечен. Два человека в черном появляются внезапно и неведомо откуда. В руках у них носилки, которые они швыряют на пол у самых моих ног, не замедляя своего стремительного шага. Наконец в сопровождении все тех же раввинов появляется отец, который продолжает безостановочно кивать. Затем он пожимает им руки и с подчеркнутой благодарностью откланивается.
– Все будет хорошо, профессор Каминка, – напутствуют они его.
Я вскакиваю с места и быстро следую за ним вниз по ступеням, снимаю с него черную кипу и аккуратно засовываю ему в карман.
– Они весьма влиятельны, – говорит отец. Без кипы он выглядит много лучше. – Они обещали доставить членов раввинатского суда прямо в больницу. Берут на себя все связанные с этим хлопоты… несмотря даже на приближающийся пасхальный седер.
Выход внизу был заблокирован катафалком. Яростным усилием мне удалось приоткрыть дверь. Была уже половина четвертого. Мы опаздывали. Такси довезло нас до больницы и остановилось у центральных ворот. Внезапно я подумал – не лучше ли не брать Гадди с собою внутрь? Но у отца было другое мнение.
– Почему бы ему не пойти с нами? Она будет очень рада увидеть его. Он уже совсем большой мальчик и в состоянии все правильно понять.
Хотел ли он воспользоваться им как буфером? По мощеной дорожке мы двинулись дальше. Мимо коттеджей и лужаек. Море то и дело высверкивало между ними, а в спину нам дул сильный сухой ветер. Последний раз я был здесь в прошлом году глубокой осенью. Я читал лекции по истории преподавателям нескольких региональных школ и воспользовался этим, чтобы навестить ее на обратном пути. Уже смеркалось, когда я добрался до больницы. Она обрадовалась неожиданному моему появлению. Сознание ее было ясным как никогда, говорить о себе она не хотела, желая слушать исключительно о моих делах, включая содержание лекций, которые я читал на этом семинаре. Я чувствовал, что она прекрасно представляет, что творится у меня в голове и как складывается моя жизнь. Меня уже предупредили о ее непредвиденном и необъяснимом улучшении, которое меня самого совершенно не удивило, поскольку я никогда не верил в ее болезнь. Когда совсем стемнело, она предложила мне переночевать на территории больницы и даже отправилась навести справки, свободна ли гостевая комната, но я спешил возвратиться в Иерусалим. В конце концов она просто проводила меня в полной темноте до самого выхода. Горацио описывал вокруг нас широкие круги, каждый раз принимаясь обнюхивать наши следы, лизать мои ботинки и хватать зубами мои шнурки. А она шла рядом со мной, ступая с трудом, но держа спину совершенно прямо, то и дело останавливаясь, чтобы посмотреть на меня, словно хотела от меня нечто такого, чего я никогда не мог дать. Не было ни единого мгновения, чтобы мы спорили или придирались друг к другу. Она была необыкновенно нежна, задумчива, ни на что не жаловалась и никого не обвиняла. Мы стояли возле ворот, когда она в первый раз сказала мне, что получает письма от отца. Она вытащила зашелестевшую связку писем из своей сумки и показала мне, не давая при этом взять их в руки. «Чего он от тебя хочет?» – с тревогой спросил я. «Развода», – услыхал я в ответ. Слабый свет из сторожки освещал наши лица. Собака проползла под шлагбаумом, остановившись посреди дороги, насторожив уши и чуть поводя хвостом. Казалось, пес прислушивается к какому-то слышному лишь ему слабому шуму, доносящемуся со стороны хлопкового поля, а потом переводит свой взгляд на нас, стоящих поодаль.
Я осторожно пытался нащупать правильный тон разговора, угадать ее точку зрения с тем, чтобы приободрить ее. Самое время, сказал я с оттенком неясного мне самому энтузиазма, самое время сделать это, раз это не было сделано много лет назад, пока вы не запутались в ваших отношениях окончательно. Она слушала меня в полной тишине, повернувшись в профиль, до тех пор пока холодно не оборвала меня:
– Но он никогда этого не хотел!
– Когда об этом зашел разговор?
– Много лет назад. Ты тогда еще не родился. Я умоляла его, но он и слышать об этом не хотел. Обо всем этом ты ничего не знаешь. Он не хотел, чтобы я ушла.
– Но тогда почему…
– Есть вещи, которые тебе неизвестны. Ты и представить не можешь, как он тогда вцепился в меня.
– Но сейчас ты сама говоришь, что теперь…
– Посмотрим… посмотрим… Атеперьтебе надо идти…
Этим разрешением удалиться она унижала меня. «Не трать на меня время… этак ты и к ночи не доберешься до Иерусалима…»
И я простился с ней и пустой дорогой поплелся вниз, окутанный темнотой. Горацио вприпрыжку бежал со мною рядом; внезапно остановившись, он стал вглядываться в ту сторону, где оставалась мама, но затем снова присоединился ко мне. В конце концов на половине пути он остановился посреди дороги, затем издал громкий тоскливый вой и растворился во мраке.
Ну а теперь мы все четверо шествовали, чтобы повидаться с ней, – настоящая семейная делегация двигалась к больнице, во время Второй мировой войны служившей армейской базой. Гадди крепко держался за отцовскую руку, Яэль возглавляла шествие, а я замыкал его, неся саквояж. Что это было? И каким было коллективное сознание всей четверки, добавляло ли это множество что-либо к тому единичному, таившемуся отдельно в каждом из нас? Каким образом страх Гадди перед неведомым уравновешивался его любопытством перед встречей с запрещенным, с тем, что до него время от времени долетало в отголосках намеков и перешептываниях, что эта учетверенная общность добавляла к печали Яэли, опасениям отца и его глубоко спрятанной боли, его надеждам и его страхам – и мне, ощущавшему только ярость при мыслях о безнадежно и бесполезно потраченном дне? Я прибавил шагу. Внезапно дорожка, до того пустынная, заполнилась множеством народа. Пациенты и посетители высыпали из коттеджей, через лужайки шествовали медицинские сестры с подносами, пытаясь прикрыться ими от налетающих порывов ветра, ставшего внезапно настолько холодным, что возникало сомнение – уж не вернулась ли зима. А на небе сквозь мглу то появлялась, то исчезала желтая и какая-то сморщенная луна. Вспомню ли я когда-нибудь эту минуту, а вспомнив – с чем свяжу этот момент. Будет ли все это что-либо значить для меня?
Откуда столько людей? В воздухе – крики, смех, какой-то неведомый свист, беспорядок и сумятица, люди спешат, едва не сталкиваясь с нами, не уступают дорогу, и в это мгновение он возникает из зарослей – большой, задыхающийся, волоча за собою свою цепь, завывая, прыгая, словно резиновый, и первой жертвой становится Яэль. Он бросается на нее, тут же отскакивает, и вот он уже у моих ног, он кусает мои ботинки, после чего мчится к Гадди, опрокидывая его на траву, облизывает ему лицо, катает по траве, словно куклу, но в конце концов обнаруживает отца и кидается к нему, сопит, задыхаясь, облизывает снова и снова, а затем, волоча за собой свою цепь, принимается нарезать вокруг него петли. Отец от всего этого теряет равновесие и оказывается на коленях, краски покидают его лицо, видно, что он потрясен, и вот так, стоя на коленях, он кричит вдруг, обращаясь ко мне, что-то не слишком внятное, из чего мне становится ясно, что он не узнал свою собаку… и еще что никто не подумал сообщить ему, что верный его пес еще жив. Я видел, как он напрягает помять, пытаясь что-то вспомнить… Я поспешил к нему. «Это же Горацио, папа, это Горацио. Не бойся, он просто узнал тебя. Вот и все. Как будто мы дома».
Яэль тем временем бросилась поднимать Гадди, который от испуга не мог даже кричать; его паровоз валялся неподалеку.
– Это Горацио? – Отец был потрясен, он даже выглядеть стал как-то потерянно, его одежда и лицо были в грязи. – Это наш Рацио?! Это он?
Своего любимого пса отец чаще всего называл Рацио. Поднявшись на ноги, он пытается ухватить абсолютно потерявшего над собой контроль пса; на какое-то мгновение это удается ему, и он трясущимися руками ощупывает и гладит мохнатую голову огромной собаки.
– Это он! – хрипло повторяет отец несколько раз. – Это он! Живой!
Я боюсь, что непредсказуемый зверь еще раз опрокинет отца в грязь. «К ноге, Горацио! – приказываю я. – К ноге! Лежать!»
И тут мы видим маму. Она стоит и молча разглядывает нас. Она стоит в нескольких шагах от нас. Ее волосы в беспорядке, лицо в красных пятнах, одета она во что-то коричневое, подол почти до земли. В руке у нее обрывок цепи. Ее вид ошеломляет меня, в этот момент она выглядит просто дикой. Этот сверкающий взгляд, эти красные пятна на щеках (но может быть, это у нее такой макияж?). Время без двадцати четыре. Неужели у нее рецидив безумия? Не произнося ни слова, она наблюдает за отцом, который продолжает схватку с собакой.
– Это он! Здесь! Живой! – Отец смеется (но может – сквозь слезы?). – Разве ты не писала мне, что он давно уже умер?
Вопрос обращен к матери.
– Кто тебе писал?
– Я все время тосковал по нему… Я был уверен, что он давно уже мертв. – Он еще крепче обхватил мохнатую голову и прижал ее к своим коленям.
– Он тоже был уверен, что ты давно уже умер…
Они все еще сохраняли между собой дистанцию в несколько шагов. Она неподвижно стояла все на том же месте, но теперь за ее спиной высилась плотная фигура медицинской сестры в синей униформе. Сестра смотрела на нас, непрерывно моргая. А я подумал, что голос мамы, четкий и ясный, не сулит нам ничего хорошего.
Яэль расцеловала ее и подтолкнула к ней Гадди, которого мама обняла, наклонившись. Мне показалось, что она при этом расчувствовалась по-настоящему.
– Гадди… дорогой мой Гадди… знаешь ли ты, кто я? Ты меня помнишь? А где твоя маленькая сестренка… – Она порылась в своих карманах, вытащила обрывок бумаги и прочитала: – «Ракефет»?
Собака оставляет в покое отца и спешит внести свою лепту в эти объятия – прыгает вокруг мамы, все еще обнимающей Гадди, прыгает, лает и вертит хвостом. Гадди взглядом зовет на помощь Яэль – он все еще не отошел от прошлого испуга перед огромным псом, лицо его все в следах яркой помады, оставленных поцелуями мамы.
– Не бойся, не бойся, – говорит мама, – он не должен тебя пугать… это наша собака… когда ты был совсем маленьким, твоя мама оставляла тебя у нас. Вы так хорошо играли вдвоем…
Гадди недоверчиво поглядывал на огромную зверюгу, удивляясь услышанному.
Затем подошла моя очередь обнимать ее, вдыхать запах, исходивший от нарумяненных щек, – я сделал это, наклонившись и закрыв глаза.
– Аси… наконец-то ты посетил меня… это что, в честь появления отца?
Она с силой обняла меня.
– А где твоя жена?
– Она не смогла выбраться. Но будет у тебя здесь на праздники.
– Во время Пасхи?
– Да.
В это время отец приблизился наконец к ней, пес тащился следом. Отец по русскому обычаю широко раскинул руки. От всей картины отдавало пафосом.
– Мать… наконец-то…
Понимал ли он, что делает? Задумано ли все это во время долгого путешествия, или его подвиг на это шок от реальности происходящего? Съежившись от страха, я стоял не двигаясь и смотрел не веря своим глазам, как он обнимает ее, крепко прижимая к груди, покрывая поцелуями ее лицо. «Прекрасно… замечательно выглядишь… – бормотал он… – Изменилась… да, изменилась к лучшему…» Он продолжал мямлить и бормотать все в таком же духе, как если бы прибыл после долгой разлуки воссоединиться с ней, а не для развода. Он даже шепнул ей на ухо нечто… после чего рассмеялся со слезами на глазах. Был ли он настолько пустозвоном, или это была глубоко продуманная стратегия? Мама, словно скованная морозом, замерла в его объятиях, устремив невидящий взгляд куда-то в пространство, со странным подобием улыбки на губах.
Горацио издал гулкий рык. Наконец-то он смог полностью выразить свои чувства, подумал я. А отец тем временем отодвинулся от мамы, которая тут же представила его своей медсестре, наблюдавшей за всем происходящим без малейшего следа улыбки. «Позволь познакомить тебя с Мириам… она добрый мой ангел… Мириам, это мой муж… тот самый… из Америки…»
– Да, я поняла. Мы все ждали вас. – Морщины у нее на лице покраснели от прилива крови в момент, когда отец повернулся к ней и обнял в той же странной, какой-то сомнамбулической манере.
И в самом деле все выглядело, к нашему ужасу, именно так – они ожидали нас. Большинство больничного персонала было осведомлено о нашем предстоящем прибытии. Масса народа уже толпилась вокруг материнского коттеджа, мужчины и женщины в банных халатах и пижамах сгрудились возле нее, и уже спешил молодой врач с тем, чтобы поприветствовать нас. Когда мы оказались внутри, в палате, проходя сквозь ряды кроватей, появление наше то и дело сопровождалось аплодисментами. Отец шествовал первым, то и дело раскланиваясь, пожимая чьи-то руки, протянутые к нему, и так все продолжалось, пока мы не подошли к маминой постели, выделявшейся высоко взбитыми большими белыми подушками. Здесь он остановился, демонстрируя, насколько все увиденное потрясло его, в то время как самому мне казалось, что сам я вот-вот сойду с ума. Пациенты стремились подойти поближе – похоже, абсолютно всем им хотелось дотронуться до Гадди, погладить его по голове: по всему видно было, как они очарованы им, которые лишены были годами возможности увидеть живого ребенка. Затем доктор объяснил устройство и функциональную организацию ежедневной больничной рутины в этом месте (отец с полным пониманием выслушивал всю эту информацию), в то время как медсестры пытались оттеснить от нас толпу любопытствующих больных, среди которых особенно выделялся крошечный старичок, все время оказывающийся впереди всех; он непрерывно вмешивался в разговор, сопровождая свои слова энергичными жестами. В конце концов все мы выбрались наружу; толпа больных намерена была, похоже, сопровождать нас до самого конца; в итоге мы оказались возле небольшого строения, которое служило больничной библиотекой. Несколько кресел было вынесено наружу, а внутри, на самом большом и покрытом белой скатертью столе, прочно устроившемся в самой середине помещения на потрескавшемся цементном полу, было несколько чашек, сахарница с надписью «Собственность бюро общественного здравоохранения» и электрический чайник. Кроме этого там был еще поднос, а на нем огромный, желтоватого цвета кривобокий торт (очень пышный с одной стороны и претерпевший значительный урон с противоположной). И еще отливавший сталью нож. Несколько пациентов предприняли попытку просочиться внутрь вместе с нами, но бдительные медсестры пресекли их намерения прямо у порога. И снова отличился маленький тощий старичок с гнилыми зубами, поднявший настоящую бурю. Он весь трепетал от возбуждения и пытался привлечь внимание отца тем, что тащил за собою равнодушно взиравшего на все это идиота-великана, пристроившего на плечо большие грабли.
В конце концов все они вынуждены были ретироваться. Захлопнувшаяся за ними дверь отрезала их от нас. Мы сняли свою верхнюю одежду, и Горацио, весело виляя хвостом, понесся по комнате. Мой взгляд остановился на книгах, заполнявших книжные полки вдоль стен, но что это были за книги, понять было невозможно – все как одна они были забраны в коричневые безликие суперобложки. Какая жалость! Мы стояли вокруг кособокого торта, несколько нервически разглядывая его, словно он должен был содержать некое послание – например, благую весть. «Ваша мама своими собственными руками испекла это для всех вас», – объяснила нам пожилая медсестра, рассматривая сам факт появления на свет этого торта как большое достижение их психиатрической больницы. Тихая младшая медсестра молча разливала чай по чашкам, в то время как Горацио, не зная устали, терся у наших ног. Я попытался ухватить его за ошейник и вытащить наружу, но он злобно вырвался из моих рук, щелкнув зубами и едва не укусив меня.
– Отстань от него! – крикнула мама.
Пожилая медсестра вложила ей в руки нож. Мама взяла его машинально и тут же отпрянула, бросив молниеносный взгляд на отца. «Нет, – сказала она медсестре. – Разрежь лучше сама».
Вскоре торт был разрезан на несколько толстых ломтей, и мы уселись за стол. Горацио прыгнул на стул, затем соскочил, звеня своей цепью, и снова стал напрыгивать на отца, как если бы те годы, которые они провели врозь, взбурлили в нем, лишая его теперь покоя. Отец улыбается, поднося ко рту трясущейся рукой полную чашку. Мама встает, подходит к Горацио, дает ему увесистый шлепок его же цепью и загоняет под отцовское кресло. Она бросает ему кусок торта, который он подозрительно обнюхивает, затем лижет раз и другой, но не ест.
Никто не произносит ни слова. Кажется, что пирог лишил нас дара речи. Каждый раз, заслышав шум снаружи, я напрягаюсь, как тетива лука. Лицо великана то и дело появляется в окне, оно таращится на нас. Мы пьем тепловатый чай и давимся полусырым тортом – вкусовые ощущения в нем перемешаны так же, как и цвета. Обе медсестры едят изделие мамы вместе со всеми. Молодая медсестра жует старательно, всем своим видом демонстрируя решимость исполнить свой долг до конца; она сидит в стороне, и на лице ее выражение удивления от происходящего. Ощущение такое, словно мы все выступаем в некоем обязательном перформансе. У меня во рту вязкий и липкий вкус. Мама кормит Гадди, который сидит рядом с ней, но сама она не ест ничего.
– Ты не обязана кормить его, мама, – голос Яэли звучит мягко.
Но мама ее не слышит. Она берет рукой очередной кусок торта, разминает его пальцами и засовывает еще одну порцию прямо в рот своему внуку; последние лучи заходящего солнца вдруг ярко высвечивают ее нарумяненные щеки.
– Ну и ветер дул сегодня, – ни с того ни с сего замечает вдруг отец. – Всю дорогу из Иерусалима.
И он продолжает жевать свою порцию торта. Мать задумчиво смотрит на него, после чего, повернувшись, глядит на Гадди, который сидит с полуоткрытым ртом.
Я тоже сижу с набитым ртом. Аси, где ты оказался? В маленькой пристройке, служащей библиотекой для сумасшедших. Невероятная ситуация, заставившая тем не менее меня покинуть мое насиженное место, оторваться от письменного стола, с его старой настольной лампой, бросающей желтый свет на книги, – единственное, пусть и искусственное солнце, рассеивающее мрачность моей жизни. Безнадежно потерянные часы, которые я мог бы посвятить работе, пропали безо всякой пользы. Отец, мама… А если бы они умерли? Только они, двое. Почему они так и не могут ничего понять? Их бесконечные схватки, споры и ссоры, словно в детской песочнице. Двое состарившихся в непримиримой борьбе подростков – почему, зачем? Их крики и ругань всякий раз, когда мне случалось возвращаться от друзей или из скаутского похода. Яэль уже была замужем, Цви проходил военную службу. Я пробирался в постель, но они следовали за мной, садились на одеяло, стаскивая его с меня, и превращали меня в судью.
– Почему ты не ешь свой кусок торта?
– Спасибо, мама. Я не голоден.
Яэль поднимает на меня глаза. Что ей надо? Мама говорит:
– Необязательно быть голодным, чтобы съесть кусок торта. Может быть, тебе он не нравится?
– Нравится. Но я уже наелся. Мне только кажется…
Что мне кажется? Своим заиканием я лишь усугубляю ситуацию. Торт отвратителен, как оконная замазка.
Молчание. Даже Горацио притих. Устроившись под креслом у отца, он принялся яростно вылизывать свой пенис. Мутный желтоватый свет заполнял комнату. Не исключено, что в комнате находились одни покойники и я навещал их в загробном мире. Отец старательно и не торопясь дожевывал свой торт, то же делала Яэль. Гадди тем временем получил вторую порцию.
– Но сама ты еще не съела ни кусочка, – галантно заметил отец. – Твой торт – просто чудо.
Мать промолчала.
Младшая из медсестер поднялась и собрала тарелки, прихватив заодно и мою со всем, что на ней было.
– Хочешь добавки? – спросила мама у отца. Тот кивнул, не расслышав, похоже, вопроса, и тут же получил новый увесистый кусок. Вздохнув, он принял этот удар судьбы и безропотно начал жевать мамино изделие.
Молодая сестра собрала всю посуду на поднос. Кто-то открыл перед нею дверь. Она вышла наружу, и тут же чьи-то заждавшиеся руки освободили ее от подноса и через мгновение вернули его обратно. Она вытащила штепсель электропровода из розетки в стене, обернула его вокруг электрического чайника и просунула наружу, как это сделала она с подносом. И тут же вернулась обратно. Тем временем старшая медсестра что-то нашептывала маме на ухо, одновременно заворачивая остатки торта в большую салфетку. Молодая сестра вновь открыла наружную дверь, и тут же в приоткрывшемся проеме показались чьи-то головы. До нас донеслись возбужденные голоса, крики и смех. Те, кто был снаружи, терпеливо ждали, когда откроется дверь, понял я. Обе сестры, взглянув друг на друга, вышли из помещения, плотно закрыв за собою дверь.
– Эти люди, снаружи… это твои друзья?
Мама иронически усмехнулась: «Друзья…» Вывернув голову, Горацио ползет к ней, глаза его закрыты, на его густой рыжей шерсти видны глубокие пролысины. Отец глядит на пса, не отрывая взгляда от своего любимца.
– Рацио, – говорит он, – Рацио… Он здесь с тобой все это время.
– С каких это пор он Рацио? – восклицаем мы все в одно и то же время. – Его звали всегда Горацио. Ты никогда не называл его иначе.
Отец только улыбается в ответ:
– Рацио… Горацио…
– Может быть, тебе хотелось бы взять его к себе в Америку? – резко поинтересовалась мама.
Отец хохотнул:
– Я слышал, что у вас в этом году зима выдалась тяжелой… и я, похоже, поступил умно, захватив с собой пальто. Сначала я не собирался его тащить, поскольку весной здесь всегда теплее, чем в иных местах летом. Но в итоге я прихватил его, и, как я теперь вижу, получилось как нельзя лучше…
(Я понял, что он имеет в виду свой визит.)
Яэль, не говоря ни слова, встает и вручает ему большой пластиковый пакет, лежавший возле его кресла.
– Ох, да, прости… Я ведь привез тебе подарок.
Он берет пакет в руки и поворачивается к ней. «Вот здесь… кое-что… я купил это специально для тебя… – Но он не может вспомнить, что находится в этом пакете, осторожно открывает его, при этом он вопросительно смотрит на Яэль. – Да… это свитер».
Он достает из пакета нечто шерстяное… и разворачивает у себя на коленях.
– Свитер? – Мама, похоже, очень тронута.
Яэль берет свитер и набрасывает маме на плечи.
– Цвет тебе очень идет.
Мама поднимается. Вдвоем они помогают маме облачиться в подарок. Я неподвижно сижу на стуле, размышляя о том, насколько опасна эта внезапная нежность между ними. Затем бросаю взгляд на Гадди, который, замерев, не сводит глаз с собаки.
– Это именно то, что тебе нужно, – говорит отец.
– Спасибо. Тебе не следовало беспокоиться… разве я просила подарка? Но в нем действительно очень тепло…
Она смахивает слезу.
– Когда-то… давным-давно… у меня был свитер… точно такой же… как ты сумел такой же найти? – Сняв его, она вертит его так и сяк, пытаясь отыскать ярлык, которого нет. – Ты не должен был нести такие расходы. На самом деле не должен был. Может, он подойдет лучше кому-нибудь еще?.. Аси, например.
Она делает попытку вручить этот свитер мне.
Отец ни о чем подобном слышать не желает.
– Как ты можешь такое говорить? Ты даже не представляешь, как я счастлив, когда вижу тебя в такой прекрасной форме. Фантастическое улучшение… Я бы привез тебе много больше, но в чертовой спешке перед полетом…
– В спешке?
– Как только я получил твое письмо… и Кедми сказал мне…
– Ох!..
Снова начинается это хождение вокруг да около. Свет в комнате постепенно становился все слабее.
Мама снова садится.
– Итак, что нового в Америке?
– В Америке? – Закуривая сигарету, отец обдумывает ответ. – Америка большая… но ничего особенного… ничего нового. У нас тоже зима была тяжелой и долгой…
– Как и в прошлом году?
– Ну да… примерно… – Он как-то нелепо размахивает руками, не зная, похоже, что делать с ними. Уж не настиг ли и его приступ идиотизма… или это следствие простуды?
– Ты живешь все там же? Это место…
– Миннеаполис.
– Где это?
– На севере.
– Я хотела бы когда-нибудь найти его на карте. Аси… может быть, у тебя в портфеле найдется карта?
– Сомневаюсь… Я не…
– Может быть, такая карта найдется в одной из этих книг?
Яэль уже была на ногах.
– Я тебе, мама, покажу, где это. На Пасху я приду и принесу с собою атлас.
– Это возле границы с Канадой, – волнуясь, объясняет отец. – Совсем рядом с Канадой. Но внутри страны. Ты можешь нарисовать это? Представить?..
Но она не может. Яэль бросает на ряды книг взгляд, полный отчаяния. В окне опять маячит лицо великана. Кто-то (не исключено, что старый его приятель) пытается оттащить его – слышно, как они перебраниваются друг с другом. Отец смеется и запускает пальцы в мохнатую собачью шерсть Горацио, примостившегося у его ног.
– Доктор, если я его правильно понял, сказал, что ты скоро сможешь вернуться домой. Яэль сказала мне, что он настроен очень оптимистично…
Ответа не последовало. Молча, скрестив руки на груди, мама смотрела вслед Яэли, бредущей вдоль книжных полок. Она остановилась в углу комнаты.
– Где-то здесь должна быть карта. Аси уверен, что она должна найтись…
Вновь я оказался вовлеченным в их схватки. Махнув на все рукой, я стал рыться в книгах, грудой наваленных в углу. Дешевые романы. Бесконечные биографии. Безжизненные тома, помеченные штампами отдела культуры Министерства национального здравоохранения, о давно забытых политиках, которых не касалась рука читателя со дня, когда они были выпущены в свет на деньги политических партий. Ни одна из них ничего мне не говорила. Преодолевая собственный страх, отец поднялся с места и присоединился ко мне, поняв, что без карты никакого продолжения не состоится. Кончилось тем, что я нашел маленькую карту в одном из томов детской энциклопедии. Я показал карту ей, попутно называя громким голосом все, что имело хоть какое-то отношение к Миннеаполису. Она нагнулась, стараясь разглядеть все получше. Отец стоял возле нас, подтверждая все, что я говорил.
– Там очень холодно?
– Очень.
– Тогда тебе есть смысл перебраться сюда. Южнее. – И она положила руку на Бразилию.
Отец несколько неуверенно улыбнулся нам. А мне становится совершенно ясно, что именно ему она обязана своим безумием.
– Нет, мама. Ты показываешь нам на Бразилию.
– Бразилию? – Она сконфуженно смеется.
– Я не слишком хорошо вижу. Господи, это и впрямь Бразилия. Мои очки сломались на прошлой неделе, и нет никого, кто мог бы их починить.
С этими словами она достает из кармана свернутый носовой платок, разворачивает его и демонстрирует нам свои очки. Одно стекло безнадежно разбито. Отец осторожно берет очки, внимательно рассматривает их, а затем погружается в глубокое раздумье.
– Надо не откладывая попробовать починить их, – выносит он вердикт, обращаясь почему-то к Яэли. – Позаботиться об этом безотлагательно, вот что мы обязаны сейчас сделать.
Разбитое стекло по частям выпадает ему на ладонь. Он пытается собрать осколки вместе и втиснуть их в оправу.
– Это просто немыслимо – оставить маму без очков, – непрерывно повторяет он.
Признав свои усилия бесполезными, он вновь заворачивает очки в носовой платок и передает маленький сверток Яэли. Мама наблюдает за ним со своей язвительной улыбкой, которую я так всегда ненавидел. Она угасла в тот момент, когда наши взгляды встретились. Из всей семьи один лишь я мог противостоять ей.
– Расскажи мне о тамошней зиме, Иегуда. В свой прошлый визит ты так мило описывал падающий снег…
– Я?.. Описывал?
– А ты не помнишь? Я тогда была очень больна. Я многого не запомнила, но то, как ты описывал снег… да… это было так…
Он оборачивается к нам за помощью, бросает взгляд на окно, к которому прижата добрая дюжина лиц, смотрит на свои часы, я перехватываю его испуганный взгляд, обращенный ко мне; следующий его взгляд обращен к Гадди, он крепко прижимает его к себе, ерошит его волосы; похоже, что он мучительно пытается понять, чего же она в итоге хочет. На столе, где стоял чайник, лежит несколько смятых листков бумаги. Нет сомнения – это творения адвокатского таланта Кедми. Он было тянется к этим листкам, затем, передумав, садится вместо этого рядом с мамой, придвигая свой стул к ней вплотную, начиная одновременно рассказывать ей о снеге и время от времени поглядывая на нас, словно извиняясь за то, что сам не в состоянии объяснить ситуацию, в которой мы по его вине оказались. Но весь его вид говорит: запаситесь терпением, как я… Он не потерял еще, похоже, надежды, что все закончится благополучно. Ему нужно перевести общее внимание на некий отвлеченный пример… лучше исторического плана… лучше подальше от проблемы, которую знаменуют лежащие на столе несколько помятые листы соглашения о разводе.
– Родезия… – начинает он издалека, – возьмем, к примеру Родезию. – Но мама неожиданно перебивает его, и пример Родезии остается невыясненным.
– А сколько ты зарабатываешь сейчас, Иегуда?
Отец, запнувшись на полуслове, замирает.
– Ну так сколько?
– Ну… тысячу примерно, долларов в месяц.
– А сколько это будет в израильских лирах?
– Примерно сто двадцать тысяч.
Я вижу, что мама поражена. И более того – испугана. Отец успокаивает ее:
– Там это не так уж много. Можно даже сказать, совсем немного.
– Но ты… доволен? Ты счастлив?
– Ну, знаешь!.. Счастлив?.. А что это такое – счастье? Никогда не задумывался… никогда не примерял это выражение к себе. Да и сам смысл этого понятия до конца мне не ясен. Но там… живя там, я спокоен… умиротворен, если ты понимаешь, о чем я. На меня там нисходит покой… Но это совсем не означает, что я не скучаю по всем вам… по тебе, по детям…
Он нервничал все сильнее, и по его загнанному взгляду я понял, что он пытается понять, достиг ли он своим ответом поставленной цели или провалил испытание.
– Ну а эта женщина… у тебя есть с собой ее фотография?
– Какая женщина?
– Эта… твоя дама… которую ты любишь. С которой живешь… и о которой ты при мне никогда не заикался… хотя, возможно…
– Ее зовут Конни, – безнадежно сказал отец.
– Конни? – Она вопросительно посмотрела на нас. – Я спрашиваю, потому что он обещал привезти мне ее фотографию – в тот последний свой приезд.
Я вскочил на ноги, но на нее это не произвело ни малейшего впечатления. Внезапное возникновение в этой истории третьего персонажа – очень плохой знак. Следует немедленно развести их, как в боксе, по разным углам. Отец определенно в нокдауне. Ошеломленный последним ударом, он просто смотрит на нас. Но он потрясен.
– Какую еще фотографию, мама, ты хочешь увидеть? И вообще – как все это понимать?
– Он в последний свой приезд обещал мне. И теперь я хочу это фото увидеть.
Я резко поворачиваюсь к нему. Я сдерживаюсь, но это стоит мне дорого.
– У тебя, надеюсь, есть с собой это фото?
Он бледнеет, краснеет, вытаскивает свой бумажник, из которого в конце концов появляется небольшой снимок из тех, что снимают для паспорта. Она берет его, держит на вытянутой руке, вглядывается и молчит, продолжая изучать. Гадди смотрит тоже – ему очень интересно, что это еще за американская тетя. С фотографии на них смотрит привлекательная пухленькая блондинка. Мама разжимает пальцы, и блондинка падает на пол. Отец ухитряется в ту же секунду поднять фотографию с пола. Он снова протягивает ее матери, но та не выражает никакого желания дотронуться до нее, и тогда отец быстро убирает ее в карман.
– А фотография ребенка у тебя тоже есть?
– Ребенка???
Яэль вздрагивает:
– Какого ребенка, мама?
– Его ребенка. Нового…
– О чем ты говоришь?
– О чем, о чем… О его новом ребенке.
– С чего ты вдруг взяла?.. Кто тебе сказал?..
– Цви сказал. Вчера.
– Цви? – Все мы втроем замерли, словно пораженные громом.
– Да. Цви. Они были у меня здесь.
– Они?
– Ну да. Он… и его приятель. Постарше его. Он его и привез.
– Но как они здесь очутились?
– Чтобы увидеться со мной. Он уж несколько недель здесь не был. Он захотел познакомиться с тем, что насочинял здесь Кедми… захотел узнать, что… может быть, захотел показать это своему другу…
– И что же он сказал?
– Ничего. Он сказал мне, что у тебя будет ребенок.
– Но у него не может быть детей.
– Никаких детей не существует, мама.
В суде Яэль выступала бы на стороне защиты…
– Что заставляет тебя думать такое?
– Но… – Мама держится с достоинством, высоко держа голову, но тревогу не спрячешь. Глубокую тревогу.
Отец смеется, но смех его звучит неестественно и, прямо скажем, фальшиво.
– Цви недопонял. У него, как всегда, в голове полная мешанина. Каша.
– Но… как же?..
Пораженная этим отрицанием, мама заламывает руки, словно защищаясь от чего-то.
– Но как же… я была так рада, так счастлива, что у тебя будет ребенок… Что ты еще можешь… а Цви сказал мне… можешь спросить его сам…
Я решаю положить конец этому недостойному фарсу. И говорю чистым и неожиданно звонким голосом, звучащим четко и сухо:
– Ребенка еще нет… но он вскоре появится.
Повернувшись к нему, я осторожно беру ее за руку. Она в испуге смотрит на меня.
– Он еще не родился, но родится вот-вот.
Я игнорирую выражение паники на лицах отца и Яэли, сумятицу возле дверей, на лицах за оконными занавесками.
– Отец говорит чистую правду, Цви ничего не понял. Ребенок еще не родился, но вскоре это произойдет… вот почему отец с такой поспешностью прибыл сюда. – И я еще раз повторяю, повышая голос и выплескивая свою злость: – Его еще нет, но он вот-вот появится. Но главная причина не в этом. А в том, что вы давно уже расстались, и ребенок здесь ни при чем. Что ж до ребенка… Это проблема чисто юридическая… все должно происходить по закону… и по этому закону… он должен быть зарегистрирован… хотите вы этого или нет… но если не хотите, чтобы он…
И только в эту минуту мне вдруг становится совершенно ясным, что финал фразы застрял у меня в глотке, словно клин. Непроизнесенное слово «мамзер» безмолвно и грозно повисло в воздухе. Мама не сводила с меня глаз, в которых я видел уже позабытую было мною дикую ярость, которую не мог скрыть покрывавший ее лицо театральный макияж.
– Мы как раз собирались сказать тебе… теперь ты знаешь уже все… ты видишь, отец ничего от тебя не скрывает. Его еще нет, но скоро он появится…
С холодной яростью я повернулся к нему:
– Когда он должен родиться?
– Я думаю, – он с явным усилием выдавливал из себя каждое слово, – в ближайшие пару месяцев.
– В ближайшие пару месяцев, ты слышала это? Теперь ты знаешь все. Страдаем мы все. Ты думаешь только о себе, тебе одной больно, да? Но ты ошибаешься. Это позор для всех нас… но что сделано, то сделано. Что ты еще хочешь узнать?
Она попыталась что-то сказать, но я грубо оборвал ее, хотя губы ее еще шевелились.
– Чего тебе нужно еще? К чему хорошему приведет твое упрямство? Отпусти его обратно в его Америку, ведь мы все остаемся здесь, с тобой. Все до единого. Тем более что скоро ты выйдешь из этой больницы.
Я схватил листки с соглашением, лежащие на столе. Страницы были уже помяты и запачканы.
– Что Цви об этом знает? Кедми предусмотрел абсолютно все. Я говорил с ним. Ну, давай подписывай!
Она, нелепая в длинном своем коричневом облачении, отпрянула от меня. Я начал перелистывать страницы соглашения, пока не дошел до того места, где под ее именем была подведена – в самом конце документа – черная черта. Я кладу свою подрагивающую руку ей на плечо, кладу легко, просто касаюсь. Ощущаю ее запах.
– Так ты подписываешь?
Она трясет головой. «Нет»?
– Почему? Почему «нет»?
– Я должна подумать.
– О чем?
– О чем? – восклицает отец одновременно со мной.
Она строптиво оставляет наши восклицания без ответа и с подозрением вглядывается в нас.
– О чем тут еще думать? – ору я. – О чем?
Яэль встает, чтобы успокоить меня.
– Ты знаешь, что все, с прошлым покончено. Навсегда… – Я кричу, не в силах остановить себя, как если бы речь шла не о его жизни, а о моей. – Что есть еще такого, мама, о чем нужно раздумывать? Но ты… тебе, видите ли, нужно обязательно узнать о снеге… про снег… он должен еще рассказывать тебе о снеге. И ты, – я поворачиваюсь к отцу, но ярость моя бессмысленна, поскольку он стоит, безвольно опустив руки, со смущенной улыбкой, какая бывает на лице жулика, пойманного на месте преступления, – ты тут же начинаешь объяснять ей о снеге. Продолжаете свои странные игры! Я всегда знал, что они вам нравятся. Эти схватки, сражения… Да без этого вам жизнь не в радость! Это вечная война… она доставляет вам радость. Воткнуть в него нож… сесть в сумасшедший дом… все это притворство, эти недостойные игры, все это доставляет вам тайное наслаждение. И тебе, мама, и тебе, отец. Вот почему это тянется так долго. Вот почему вы топчетесь вокруг да около. А Цви знай науськивает вас, натравливая друг на друга. Но мы, и я и Яэль, уже озверели от этого так, что иногда не хочется жить.
Яэль с пылающими щеками пробует меня остановить, но тщетно.
– Вы вытаскивали меня из постели посреди ночи, чтобы я рассудил, кто из вас прав, а кто нет. Хорошо. Я рассужу вас сейчас. Кончайте это!
Отец хватает меня за рукав:
– Да! Да! Ты прав! Хватит!
Но я вырываю рукав. Мой собственный голос продолжает звучать в моих ушах.
– Что здесь такого, что требует долгих размышлений? Скажите нам. Сколько еще вы собираетесь с этим тянуть? У кого есть еще столько времени? Вы что, не чувствуете, как время уходит? С каждой минутой. Ты хотела его прикончить – так чего же ты ожидаешь от него? Убей его! А заодно и меня тоже! Убей меня! Давай, не медли. Убей!
Меня переполняет горечь. Ее лицо перекошено гримасой. Жалость к ней сильнее моего гнева. Мои воздетые руки. Взгляд на грязные занавески, за которыми – лица сумасшедших. Я закрываю глаза, словно в ожидании удара. И вот он приходит. Словно кто-то отпустил мне крепкую пощечину. Что дальше? Я барабаню кулаками по груди, в ритме этих ударов мое тело сотрясает дрожь, где-то вдали мерцает направленный на меня желтоватый взгляд глаз Гадди, и от этого наконец начинает утихать тупая боль в груди. И тут же следует реакция отца на мою истерику, он издает низкий стон, хватает маму, которая поднялась со своего стула, да, да, рычит, стонет, бормочет отец, да, да смотри, смотри, смотри, смотри, и внезапно падает перед ней на колени, сбитый с ног его собственной ненавистью, Яэль и я бросаемся к нему, чтобы поднять его с голого цементного пола, причем Яэль отталкивает меня, защищая отца от моего прикосновения, что она при этом думает?
«Ребенок, – шепчет мама, стоящая с каменным лицом во время этой сцены. – Немедленно уведите ребенка отсюда… или вы считаете, что он должен видеть все это? Вы придумали все это специально… все, все это специально…»
Отец и Яэль выталкивают меня наружу, а я тащу за собой Гадди. В ту же минуту я оказываюсь в окружении больных, ожидающих возле двери. Они бросаются ко мне, пожимают мне руку, пытаются обнять Гадди, который жмется ко мне. Видели ли они, как я вышел из себя, хотели ли они поддержать меня словами благословения? Изможденная, похожая на мученицу блондинка приветствует меня и изо всех сил ударяет меня по плечу. Она засовывает палец себе в рот, а затем закрывает глаза. Вокруг – сумятица голосов.
«Сигарета… Дайте ей сигарету…»
Я достаю пачку, которую тут же выхватывает у меня маленький старикашка. Сгусток энергии, он проворно вскрывает пачку и раздает сигареты пациентам заведения. Большая золотая зажигалка, посверкивая, переходит из рук в руки. Они наклоняются к ней, прикрывая огонек ладонями от порывистого ветра, они стараются изо всех сил. В конце концов у каждого во рту попыхивает зажженная сигарета. Мне тоже достается одна. Я несколько колеблюсь перед тем, как сунуть в рот обслюнявленный фильтр. Я не в состоянии шевельнуться. Старикашка буквально прилипает ко мне, демонстрируя взглядом полное ко мне доверие.
– Ты заберешь ее отсюда?
– Не сегодня, как-нибудь в другой раз.
– Ты – это тот ее сын, который в Иерусалиме?
– Да.
Ветер раздувает тлеющие огоньки подобно машине. Блондинка, небрежно привалившись ко мне, докуривает свою сигарету жадными затяжками.
– Они не хотят тебя отпускать, – шепчет мне мрачный молодой человек.
– Кто не хочет?
Все тот же старичок, словно извиняясь, крутит пальцем у виска. Я замечаю у себя на руках следы засохшей крови. У меня болит голова. Должно быть, я поцарапался своими часами и кровоточат царапины. Неподалеку от тропинки я вижу фонтанчик воды – вопрос лишь в том, можно ли им воспользоваться: длинный шланг змеей уползает неведомо куда. Я слизываю кровь. Гадди цепляется за меня, его паровоз снова с ним, под мышкой. Потом он выпускает меня и запускает свою ладонь себе под рубашку.
– Тебя что-то беспокоит, Гадди? – спрашиваю я его.
– Сердце.
– Ты не там его ищешь, – говорю я со смехом. – Дай я посмотрю.
Он медленно двигает руку по направлению к сердцу.
– Они арестуют тебя у ворот, – угрюмо сообщает мне молодой человек.
– Шш-шш, – останавливает его, улыбаясь, старичок. – Никто никого не арестует. – И он пытается увести от меня назойливого молодого человека.
– Твой единственный шанс ускользнуть, – настаивает молодой человек, – это пробраться наружу через какую-нибудь дыру.
– Какую еще дыру?
– Вон через ту, – говорит старичок, протягивая руку к зарослям кустарника в углу забора.
– Вон там, – в унисон отозвались эхом голоса вокруг.
– Ну, хватит! – свирепо закричал вдруг старик. – Убирайтесь отсюда… Хватит к нему приставать… А ты не обращай больше на них внимания.
Но они никуда не убрались. Наоборот. Окрик старика словно сплотил их. Блондинка еще теснее прижалась ко мне, продолжая затягиваться сигаретой, не вынимая ее изо рта и даже не открывая глаз, обволакивая меня все больше и больше, словно огромное беспозвоночное существо, как если бы ее болезнь просачивалась из нее наружу. Где я нахожусь? Вокруг меня я ощущаю дыхание пространства. Бескрайнее пустое море. С холмов Кармеля разливается красноватый закат, ощущение такое, словно ты разглядываешь мир через тусклое стекло. Время, как всегда, неостановимо текуче, но здесь кажется, что где-то оно успевает застыть и остановиться. Бескостная женская рука, подобно огромному щупальцу, невесомо обвивается вокруг моего живота. По моей спине ползет мороз. Я деликатно пробую освободиться от объятия, но она словно прилипает ко мне. Медсестра в больничной униформе, проходя мимо нас, останавливается, смотрит некоторое время, а затем спрашивает, не нужна ли мне помощь, но я не проявляю к ней никакого интереса.
– Адвокат не придет сегодня? – Это все тот же неугомонный старик.
– Он ожидает у входа. Это его сын.
– Его сын? – Старик изумлен.
До нас доносятся голоса из библиотеки. Я начинаю тропить свой путь обратно; толпа, отпихивая друг друга локтями, расступается, смыкаясь за моей спиной. Ощущение фантастического бреда с привкусом обреченности. Внутри отец по-русски разговаривает с матерью, которая отвечает ему на том же языке с ужасным акцентом. Мягкие звуки славянской речи бросают меня в дрожь. Переход на русский, который он заставил ее выучить, знаменует более интенсивное развитие их бесконечной войны. Еще несколько шагов толпа движется вместе со мною. Мягкое бескостное тело продолжает обволакивать меня, желатином просачиваясь сквозь одежду, прилипая к коже. Другие тела более плотного состава теснятся вокруг. Неожиданно я испытываю невесть откуда возникшее вожделение. Уж не схожу ли я с ума? Кто-то внезапно разражается громовым хохотом, повергая меня в ужас. Давешний великан присоединяется к нам, его взгляд устремленно выискивает что-то… Толпа, сплотившись, не пропускает его, но где там… словно огромная машина, он вдавливается в человеческое стадо, а затем медленно протягивает руку к ребенку… нет, к яркой игрушке, паровозу, который Гадди прижимает к телу… и вот уже великан вместе с паровозом устремляется прочь. Толпа, замерев, провожает его взглядом. Гадди, весь оцепенев, стоит и дрожит, не в силах понять, что происходит.
– Не надо, не волнуйтесь, я сейчас все верну, – говорит старик, потрясенный, как и все остальные… – Он только хочет на него посмотреть… Я все верну вам через минуту.
Дверь библиотеки распахивается, и из нее, виляя хвостом, вылетает Горацио; в зубах у него полупрожеванные обрывки бумаги. Вслед за ним появляется отец, лицо помертвело, галстук сбился на сторону, во рту погасшая сигарета, на куртке – такие же, как у Горацио в зубах, обрывки бумаги. Во взгляде – безнадежность и отчаяние. Пес пытается напрыгнуть на него и лизнуть, но отец грубо отмахивается.
Толпа пациентов бежит ему навстречу, пожимает ему руки и начинает клянчить сигареты. Все тот же старик пытается растолкать всех по сторонам, желая навести порядок. Отцовский взгляд поверх голов отыскивает меня.
– Цви все погубил! Из-за него она думает… она задумала… она сейчас хочет все… весьдом… Яэль там, внутри, говорит с ней сейчас… не ходи туда… черт бы тебя побрал… что ты наделал!
– Адвокат… адвокат пришел! – прокричал кто-то.
И в самом деле, по дорожке, в свете заката шествует Кедми, беспорядочно размахивая руками и что-то выкрикивая. Толпа подает назад, блондинка отпускает меня. Толпа сумасшедших глухо ворчит, словно свора собак, учуявших добычу. Кедми устремляется к нам едва ли не бегом.
– Что здесь происходит? Что вы тут делаете? Ты решил немного отдохнуть?
Пациенты больницы окружают нас. Старик делает попытку пожать Кедми руку, но Кедми не до пожатий.
– Что за балаган здесь!
Старик, похоже, относит замечание к себе.
– Да? Простите… Мистер… Пожалуйста, чуточку терпения.
Они пугают его, а он их провоцирует, не в силах сдержать свои эмоции.
– Что это здесь? Какое-то мероприятие? Чего всем им надо? Но прежде всего я хочу забрать своего мальчика. А где Яэль?
Он тянет за собой Гадди, крепко держа его за руку.
– А где твой паровоз?
– Он забрал его.
– Кто – «он»?
– Он вернет его, – отчаянно кричит старик. – Прямо сейчас. Я отвечаю за это.
– Тебя никто не спрашивает, – резко говорит Кедми. И без дальнейших раздумий бросается вслед великану, пытаясь вернуть игрушку.
– Стыдно должно тебе быть, гулливер, отнимать игрушку у ребенка…
Больные окружают Кедми, восклицая хором: «Он вернет, он вернет, он вернет». Они повторяют это снова и снова, в то время как я пытаюсь остановить его. Великан испуган – это видно по его лицу. Он прижимает игрушку к груди своей огромной ладонью, Гадди взирает на эту картину не говоря ни слова.
– Хватит, Кедми, хватит! – Отец кричит. – Я куплю ему другой паровоз!
Лицо Кедми пылает от гнева.
– Где все эти чертовы сестры? Куда подевались доктора? Где администрация? Это же полный бедлам. Пошли, Гадди, найдем нашу маму и уберемся отсюда к чертовой матери.
И он, подобно урагану, врывается в библиотеку, пнув по дороге Горацио. Внутри почти темно, мама стоит и разговаривает с Яэлью, которая сидит и тихо слушает, скрестив руки на груди. Пол усеян обрывками бумаги. Кедми наклоняется, поднимает один и смеется, но в смехе этом – одна горечь. И он говорит, обращаясь к отцу:
– Ну, вот… это конец. Поверить трудно, но, кажется, она и в самом деле закончила обдумывание.
– Это я разорвал все в клочья, – объявляет отец, и от этих слов новая волна гнева поднимается у меня к горлу. – Выбрось все из головы и забудь. Теперь тебя это больше не касается.
– Не касается?! Меня не касается? – Голос у Кедми еще более хриплый, чем обычно, и в нем удивления больше, чем ярости. – Ты совершенно прав – меня это не касается. С этой минуты. Мне жаль только, что ты не сказал мне об этом год назад. Ну, что ж… лучше не скажешь. Это не мое дело… и никогда больше не будет моим…
И он с силой скомкал обрывок бумаги, который держал в руке.
– Если бы я мог предположить нечто подобное, я просто подарил бы всем несколько чистых листов бумаги.
– Кедми, прекрати, – прерываю я его.
Он смотрит на меня с уничтожающей усмешкой.
– Яэль! – внезапно кричит он.
Мама и Яэль выходят наружу. На лице мамы светится улыбка. Это – что-то новое, такой улыбки я у нее не помню. Выглядит она как-то странно. Умиротворенно – так бы я сказал. Яэль бросается к отцу и крепко обнимает его. Шепчет ему что-то на ухо. Мама, глядя на них, утвердительно кивает. За это время вокруг снова образуется толпа из пациентов, они глядят на нее, как если бы она была их королевой. А старик берет ее под руку с почтительным видом. Кедми поспешно уводит Гадди прочь. Мама как-то неуверенно смотрит на меня, словно желая что-то сказать… объяснить… но сделать это «что-то» она не в состоянии. По мере того как она приближается, я отступаю назад, мой саквояж болтается у меня в руке. Я бросаю прощальный взгляд на обитателей этого скорбного места, задерживаю его на бескостной блондинке, которая стоит опершись на дерево. Рядом с ней на стуле сидит великан, обломки паровоза валяются у его ног. Я поворачиваюсь, чтобы уйти.
Мама что-то шепчет отцу. Он зовет меня. Руки у него безвольно повисли. Я останавливаюсь.
– Подойди. Мама просит извинить ее.
– Не стоит разговора. Забудем…
– Прости меня, – говорит мама. – Я хочу извиниться перед тобой, Аси…
– О чем ты? – бормочу я, краснея. – Забыли…
– Прости меня, Аси…
– Все хорошо. – Я весь дрожу. – Все в порядке.
– Это я виновата… во всем… – Она пытается улыбнуться, и на мгновение к ней возвращается былая красота.
– Не надо вспоминать то, что было. Я полагал, ты не будешь больше… все хорошо…
И я, наклонившись, целую ее и продолжаю двигаться к выходу. Яэль и мама рука в руке следуют за мной, за ними следует отец, бледный, опустив голову и погрузившись весь в свои мысли. А толпа пациентов, словно свита, медленно тащится позади нас. Мы пересекаем лужайку. Горацио вертится меж нами. Автомобиль Кедми ожидает нас у входа, он уже повернут в сторону магистрали, мотор работает, радио тоже. На полную громкость.
– Завтра, – шепчет мама, прощаясь с нами… – Завтра…
Яэль проскальзывает на переднее сиденье. Отец снова говорит по-русски, он говорит с лихорадочной быстротой, задыхаясь, желая, похоже, договорить что-то до конца. Но его слова заглушаются работающим двигателем. Я влезаю в машину, отец устраивается рядом со мной. Горацио делает попытку заскочить в машину вслед за нами, но дверь захлопывается у него перед мордой, и мы слышим, как он тычется в машину, оглушительно завывая.
– Яэль! – кричит Кедми. – Яэль! Если эта тварь поцарапает мне машину, я собственноручно прикончу его.
И он выжимает газ.
Горацио несется за нами вслед. Через заднее стекло нам видно, как он бежит посередине дороги, становясь все меньше и меньше, пока не превращается в движущуюся точку. Ухмыляясь, Кедми бросает взгляд в боковое зеркало и слегка притормаживает, так что пес начинает понемногу догонять нас.
– Прибавь немного, – говорит Яэль.
Кедми прибавляет, но чуть-чуть и снова притормаживает, особенно когда проезд, ведущий к больнице, вливается в автомагистраль. Собака продолжает нестись посередине бокового проезда, за ним проглядывает море и последние солнечные лучи почти утонувшего в нем солнца, окрашивающие небо в оранжевый цвет. У пса глаза превратились в щелки, красный язык вывалился наружу, он уже вот-вот коснется машины своим волчьим черепом, когда Кедми нажимает на педаль газа снова и выводит машину на главную дорогу. Горацио по-прежнему преследует нас, передвигаясь посередине шоссе, машины хрипло гудят, стараясь его не задеть.
– Кедми, остановись, – кричит отец. – Он попадет под колеса.
– Не тормози, – говорит Яэль. – Прибавь скорости.
Но Кедми и не прибавляет, и не тормозит. Весь сконцентрировавшись на вождении, он уводит собаку с каждой минутой все дальше от психбольницы, явно намереваясь загнать животное до смерти.
– Кедми, что ты делаешь? – умоляюще просит Яэль. – Поезжай быстрее!
Но он намеренно пристраивается к еле ползущему грузовику.
– Всякая критика, касающаяся моего вождения, – говорит он, – должна быть повторена минимум трижды… Можете продолжать, прошу…
Я молчал. Как только мы въехали в Акко, мы потеряли собаку из виду. Ни позади нас, ни среди других машин Горацио не проглядывался. Трафик был очень плотным. То и дело возникали светофоры, надо было следить за пешеходными переходами, по которым двигались люди со своими упаковками мацы, и малышней, поминутно выбегавшей из-за каждого угла и из узеньких проулков между бесчисленных лавчонок и лотков, торговавших всякой снедью, – шавармой и фалафелем. Во времена крестоносцев Акко, называвшийся Сен-Жермен-де-Акр, был столичным городом, по размерам не уступавшим Лондону или Парижу.
Кедми остановился возле бензоколонки и заправился. Теперь он вел машину медленно, внимательно поглядывая по сторонам. Покидая город с последним лучом солнца, мы заметили Горацио на пешеходном переходе прямо перед нами. Глаза широко раскрыты. Язык свисает едва ли не до асфальта. Вид у него потерянный, и потерянно он тычется в чужие ноги чужих людей, каким-то чудом избежав смерти под шинами чужих автомобилей в чужом краю, широко раскрытыми ноздрями пытаясь уловить знакомый запах – наш. На светофоре загорается зеленый, а он все стоит посреди перехода и нюхает… За нашей спиной непрерывный гул клаксонов. Похоже, что Кедми был готов переехать его, когда я, открыв дверцу, выскочил наружу, схватил пса за ошейник и вытолкнул его на тротуар. Поток машин покатился дальше. В первые мгновения Горацио пытался сопротивляться мне, но, поняв затем, с кем он имеет дело, стал лизать мне руки. Он был в полушаге от смерти, я сказал бы, что скорее он был мертв, чем жив, скорее хрипел, чем лаял. Я смотрю ему в глаза. Он весь изнурен и едва ли в своем уме от грохота и вони городских улиц. «Домой, Горацио, – говорю я ему, показывая на север. – Отправляйся домой! Домой, к маме!» Он виляет хвостом, его глаза, глаза волка, отливают синевой. Я поднимаю небольшую палку, это скорее длинная щепка, провожу ею перед сухим собачьим носом и забрасываю ее изо всех сил на ближайший пустырь… «Принеси ее, Горацио! Ты не забыл еще, как это делается? Ну же, давай!» Он смотрит на меня, не двигаясь с места, сбитый с толку обилием самых разнообразных запахов, и снова виляет хвостом. «Принеси мне ее, Горацио! – кричу я. Беру другую палку, поздоровее, и снова швыряю по направлению к пустырю. – Давай, давай… мне нужна палка… принеси ее мне!» Он вскидывает, словно проснувшись, свою голову, весь подбирается, как если бы услышал древний зов, и срывается к площадке, смешиваясь с толпой. Я тоже мчусь, только в противоположную сторону, к машине, вваливаюсь в нее и захлопываю дверцу.
– Кедми, вперед! Ради бога, хватит уже. Бедный пес.
– С каких это пор ты уверовал в Бога?
– Двигай, Кедми! – Мы крикнули это все трое. – Вперед!
– Ладно, ладно… Совершенно незачем орать.
И в то время, что старый пес охотится за палкой, мы уже несемся на юг по направлению к Хайфе. Отец, согнувшись, забился в угол, откинув голову, огни встречных машин вспышками освещают его лицо, плотно сжатые губы время от времени что-то шепчут. Внезапно он ловит на себе мой взгляд и сам смотрит на меня. Замечает глубокую царапину у меня на лбу, и я вижу, что он этим ужасно расстроен и очень переживает это маленькое происшествие.
– Это сам ты себя поранил? – произносит он глубоко сочувствующим тоном. – Но ведь ты обещал! Мне теперь уже не успокоиться больше. Не нужно мне было тащить тебя с собой. Как всегда, во всем виноват я сам.
В зеркале над водителем не видны маленькие глазки Кедми, взирающие на нас с удивлением.
Он был поражен молнией вечером. Его обугленный труп был найден на улице и положен на скамью возле автобусной остановки. Сверху набросили простыню. В конечном итоге он попал в морг и лежал там в углу. Ночь накрыла мир тишиной. Ранним утром заждавшиеся студенты заполнили лекционный зал. Некоторые из самых любопытных заходили взглянуть на него. Внезапно профессор Вергер, с глазами налитыми кровью, поспешил на кафедру. Он мертв, молния поразила его, нашего гения. Что за ужасная потеря. Самый выдающийся из всех моих учеников. Главная наша надежда. И как раз в тот момент, когда он был всего в шаге от открытия исторического значения. Вы не в силах представить даже, что он носил в себе. Теперь нам остались только его заметки. Какая непереносимая утрата. Если бы у него только хватило времени. Если бы судьба отпустила ему больше времени. Но его родители убили его. Удар молнии превратил все в руины… Дина в обмороке на краю могилы. Сейчас, я знаю это, она говорит, что во всем случившемся есть и ее вина. Ей предстоит возвращение в родительский дом, где она впадет в религиозный мистицизм. И в конце концов она будет выдана замуж за старого грязного раввина.
Я вышел в Хайфе на старой автостанции. Отец остался в машине. Он переночует у Яэли, и с утра первым делом она отправится в больницу. На этот раз одна. Они немедленно созвонятся с Цви; позвонить ли Дине, сообщить, что я возвращаюсь? Нет, сказал я. Я ненадолго задержусь в Тель-Авиве. Чтобы наказать ее. Заставить ее немного поскучать без меня.
Отец покровительственно взял меня за руку. Моя царапина, вину за которую он взял на себя, не давала ему покоя. «Ну вот, теперь ты лучше понимаешь меня, верно? Но ты не переживай… рано или поздно она примет нужное решение. Может, тебе нужно немного денег? И когда мы увидимся снова? Вы должны прийти на праздники и попрощаться. Не исчезай…»
И вдруг прикосновение его руки снимает все напряжение этого дня. Это ощущение натянутой струны. Меня охватывает ощущение покоя и умиротворения.
Огромная платформа, закованная в бетонный панцирь, окутана тишиной темной ночи. В кафетерии, где мы ужинали, свет погашен, а стулья покоятся на столах. Я покупаю билет до Тель-Авива, и рейсовый автобус, медленно пятясь, выруливает со стоянки. Параллельно автобусу движется, сияя окнами, поезд; некоторое время автобус и поезд идут бок о бок, пока наконец их пути не расходятся, и они растворяются в густеющем тумане, словно испарившись. Водитель включает приемник, и пассажиры могут ознакомиться с последними новостями. Автобус под завязку набит спящими солдатами. Море, от которого осталась в окне лишь узкая полоска, слабо мерцает и переливается в порывах ветра. Взять какой-нибудь отдаленный период и начать дискуссию о нем в самых обыденных терминах, найти позабытый документ, свидетельство или манускрипт, имеющий к этому отношение, и раздуть до небес его важность, зарыться в старые газеты, чтобы отыскать неизвестные факты об этом второстепенном событии, имевшем место в древние века, и пусть это будет моим последним деянием. Но при этом обнаружить ключ, найти тайный шифр, разгадать код. Древние века умерли, новые – еще в процессе рождения, а юность, как известно, сопровождается повсеместным появлением очень болезненных прыщей. Это время сомнений, страха и быстротекущей ностальгии, сопровождающей противоречивые процессы. Кто разгадает правильно шифр, кто в состоянии на тридцать лет вперед заглянуть в будущее, не доверяясь подверженной возможным ошибкам интуиции, а лишь прозрачным и научно проверенным методам?..
В Тель-Авиве дул колючий и сухой ветер. Низко нависшее оранжевое небо. Автобус выбросил нас на темной пустынной улице возле центральной станции. Обрывки использованных билетов кружились в темноте. Песчинки из Сахары поскрипывали на зубах. Пассажиры, выйдя, быстро рассеиваются и исчезают. Я иду по улице, полной обувных магазинов, их темные витрины полны модельной женской обуви из переплетенных ремешков и кажутся неуместными в тускло освещенной автостанции, среди прилавков с фалафелем, заваленных горами разноцветных салатов и вертелов с шавармой из истекающей соком нежной баранины. На противоположном тротуаре на платформе номер три небольшая группа путешественников образовала цепочку в ожидании посадки на автобус до Иерусалима – автобус, который, как обычно, полон до самой крыши. Низенький мужчина средних лет, одетый в заношенную куртку, в башмаках на высоком каблуке и с золотой цепью, болтающейся на шее, стоя возле телефонной будки, бросает на меня пронзительный, но дружелюбный взгляд. «Разрешите?» – говорю я. Он тут же отодвигается в сторону, не спуская с меня изучающего взгляда. Не нужна ли мне помощь? Нет, говорю я. Все в порядке. Я звоню Цви. Незнакомый голос с левантийским акцентом отвечает мне. Вежливо. Цви ненадолго вышел. Хотите что-нибудь передать? Нет, говорю я. Ничего срочного. «Но кто ему звонит?»
Я говорю ему.
Ах, вы доктор Аси Каминка? Как поживаете? Я – приятель Цви, Рафаэль Кальдерон. Ваша сестра и ваш отец звонили недавно из Хайфы с последними новостями. Могу ли я чем-то быть вам полезным? Не хотите ли вы на время остановиться у нас перед поездкой в Иерусалим?
Это человек, который доставил вчера Цви в больницу к матери. Еще один участник нашего пиршества.
Я вешаю трубку.
Темнокожая девушка в шортах и на высоких каблуках, скорее всего шлюха, низким голосом разговаривает на углу улицы с человеком из телефонной будки, продолжающим смотреть на меня с дружеской улыбкой. Автобус на Иерусалим уже отбыл. Следующего ожидает запоздавший пассажир, заросший густой бородой, явно ультрарелигиозного вида. В руках у него чемодан, перетянутый веревкой. Я пошел добыть какой-нибудь еды, купить порцию фалафеля, вложенного в питу, и бутылочку сока. Коротышка из будки продолжает почтительно улыбаться мне, не спуская с меня глаз. Уморительно раскрашенная пара девиц в блестящих кофтах из сверкающего люрекса, покручивая сумочками, направляются к нему. Я стою у фалафельной среди мусорных баков и жадно откусываю от питы, набитой дополна маринованными овощами, мой саквояж отдыхает у моих ног, и на него из питы капает сок квашеной капусты пополам с жидковатой тхиной, а ведь внутри портфеля – мои лекции. На часах уже восемь, уже несколько недель, как я не был в Тель-Авиве… почему бы не воспользоваться возможностью и не встретиться со старыми друзьями, с которыми я мог бы поговорить о моих идеях? Внезапно у меня исчезает желание как можно скорее очутиться дома. Я вытер лицо бумажной салфеткой и купил новую пачку сигарет, испытывая необоримое желание простого человеческого общения на этой ничейной земле вне времени и пространства. В родном моем городе, который всегда со мной и во мне. На мгновение я подумал о тех душевнобольных, среди которых я так храбро сегодня держался, какое присутствие духа сохранил и продемонстрировал неожиданно для самого себя в их окружении, и о том сладострастном ощущении, которое испытал от мягкого прикосновения блондинки, обволакивавшей мое тело. Возможно, мне следовало бы позвонить Штерну. Старинный друг, некогда учившийся со мной вместе и изучавший сейчас тот же, что и я, период истории в Тель-Авивском университете; мне до сих пор не удавалось как следует расслабиться во время разговора с ним по междугороднему телефону, из Иерусалима, я шарю по карманам в надежде найти асимон – жетон для телефона-автомата, но усилия мои безуспешны. Ни-че-го. И тут же не сводивший с меня глаз коротышка почтительно протягивает мне металлический кругляш, решительно отказываясь взять у меня его стоимость.
– Вы меня просто оскорбляете…
Он произносит это низким, тихим, но непреклонным голосом. Кто он? Судя по толстой золотой цепи, болтающейся на шее, – наркоторговец или сутенер. Ладно. В конце концов, это не мое дело. Я возвращаюсь обратно к телефонной будке и открываю толстую телефонную книгу-справочник, прикованную железной цепью к стене. Последние страницы отсутствуют – похоже, их кто-то просто вырвал. Во всяком случае, все, что начиналось на букву «Ш», отсутствует начисто. Я чертыхаюсь и бросаю поиски. Железная цепь насмешливо бренчит. Достаю сигарету и ищу зажигалку или спички… Разумеется, их нет. Но коротышка никуда не исчез, он тут как тут, и в кулаке у него уже трепещет огонек. В то же мгновение он протягивает его мне.
– Вы что-то ищете? – спрашивает человечек. – Может быть, я могу вам помочь?
– Нет, спасибо. Кто-то порвал телефонную книгу.
– Вы, наверное, хотели позвонить своей девушке…
– Простите?
– Я сказал – если это девушке…
– Нет. Это не девушка.
– Потому что если с этой не получается, у меня есть для вас другая. Она здесь… совсем рядом. И она будет рада вашему звонку. И будет вам очень рада. – Он кивает в сторону двух красоток, неутомимо помахивающих своими сумочками.
– Ну как?
– Нет, спасибо.
– Она просила меня передать вам… Вы – это то, о чем она мечтает. Сама она не решается к вам подойти – такая она стеснительная.
– Я тронут. Нет. Но в любом случае – спасибо. – И я улыбаюсь. Он говорит об этой паре так, словно они составляют одно целое.
– Если вам кажется, что она слишком высокого роста для вас… или слишком мускулистая… или еще что-то в подобном роде… уверяю вас, есть множество других возможностей.
Он произносит все это быстро, проворно, деловым, убеждающим тоном.
– Дело не в этом. В настоящий момент я…
– Потому что у меня есть еще пара других. Вы только скажите, что вы ищете… объясните, чего бы вы хотели… предпочитаете… скажите это мне, и я… у меня есть фантастический выбор… здесь, неподалеку… просто рядом. Отличная девочка, просто конфетка, молоденькая… живет в соседнем подъезде… она тебе понравится… практически она почти еще ребенок… может быть, она еще девственница… просто уверен, что так оно и есть… высший класс…
И он кладет дружеским жестом теплую руку мне на плечо. Я вздрагиваю.
– Что-то в вас есть такое, что мне понравилось с первого взгляда, – говорит он. – С той первой минуты, как вы появились на станции. Вам стоит только сказать мне слово… сказать, чего вы хотите. Сделаю для вас все. Почему бы нам не выпить не спеша по чашечке кофе, а потом поглядеть на то, что я могу вам показать? Куда, вы сказали, вам надо попасть? Автобусы ходят допоздна, я говорю с уверенностью, потому что я здесь днюю и ночую. И если вы даже пропустите последний… Я доставлю вас домой на моей собственной машине. Пойдемте… вы можете просто посмотреть… разрешите мне продемонстрировать, что такое настоящий сервис. В вас есть что-то такое, что мне ужасно нравится. Не бойтесь… это все честно… никаких обязательств, никаких денег… я только покажу вам товар… это не будет стоить вам ни цента…
Он говорит негромко, доверительно, убеждающе. Я теряю ощущение времени и места. Где я? Где мой дом? Где Дина? Пусть она дожидается меня. Хотя скорее всего она отправилась спать в родительский дом.
– Ну так как насчет чашечки кофе?
– Только если я заплачу за него. – Эти слова сорвались с языка помимо моей воли.
Он улыбнулся, абсолютно удовлетворенный:
– Что касается кофе… это как лекарство, верно. Вы командуете парадом. Не думайте, что я на вас нажимаю. Я ни на кого не нажимаю. Никогда. Это как разглядывание витрины… представьте себе, что вы разглядываете витрину.
Кофе появляется мгновенно. Я крепко держу в руках чашку, глоток чего-то горячего сейчас мне совершенно необходим.
Невысокий подросток бежит ко мне и моему новому знакомцу с каким-то сообщением. Его в этом кафе, похоже, знают абсолютно все. Из музыкального автомата потоком льется греческая музыка. Это сиртаки. Он закуривает длинную сигарету и предлагает мне такую же. Я отказываюсь. Его лицо испещрено морщинами. Я не могу определить, откуда его акцент. Он начинает говорить со мной с тактичной доверчивостью:
– Большинство людей не в состоянии объяснить, чего они хотят, и в итоге остаются неудовлетворенными. К сожалению, этого нельзя сделать автоматически… просто так. Каждый случай – особый. И в этом мой бизнес. Найти нужное решение. Чтобы все были довольны. Должный запрос – должный ответ. Вот вы, к примеру, – интеллектуальный тип. Я разглядел это сразу. Но у вас нет свободного времени. Вы погружены в свои мысли, и все в спешке, бегом… Если бы вы хоть словом намекнули мне…
– А сколько это теперь стоит? – спросил я чужим, сдавленным голосом.
– Это зависит, как долго…
– Нет, я интересуюсь, сколько обычно…
– Зависит и от того, сколько вы в состоянии заплатить…
– Но в среднем… сколько принято?..
– Некоторые дают пять…
– Сотен?
– Тысяч. Что в наши дни можно поиметь за пять сотен?..
– Пять тысяч?!
– Это для остальных. Вам не надо беспокоиться. Для вас это будет даром. Я просто уверен, что она потеряла от тебя (он как-то сразу перешел на «ты») – она потеряла от тебя голову. Сидит и ждет… вот в этом доме. Ждет, когда ты придешь к ней и своим огромным…
Эти слова все решили. Возможность доказать… самому себе. Не ей… но тем самым помочь нам обоим. Сделать это для нашего будущего. Для нашего ребенка. Еще один автобус на Иерусалим прогромыхал мимо. И следом – еще один. Заполненные битком ультрарелигиозным народом, они уходят в сторону квартала Меа-Шеарим, родному их гнезду, а на подходе – следующий. И в открывшиеся двери рвется толпа черных шляп. Мне ничего не мешает заплатить за кофе, пересечь улицу и раствориться среди них.
В кафе появляется парочка и подходит к нам поздороваться. Не со мной, конечно. Круглолицая девчушка в белой майке с коротко остриженными волосами и улыбчивыми шаловливыми глазами, а рядом с ней высокий худой юноша, который положил ей руку на плечо. Девушка скользит по мне молниеносно оценивающим взглядом, джинсы обтягивают ее впритирку. Маленький сутенер привлекает ее к себе, и она, наклонившись, чтобы поцеловать его, позволяет мне разглядеть ее груди, большие и упругие на вид. У них цвет слоновой кости. Я не успеваю разглядеть их пристальней, так как ее спутник берет ее за руку и ведет к столику в дальнем углу кафе. Что-то в ее глазах и короткой стрижке пронзает меня острой болью. Молодой человек возвращается к нам и что-то шепчет новому моему знакомцу, который серьезно слушает его.
– Она скоро придет… А пока, может быть, хочешь выпить чего-нибудь покрепче?
– Нет, спасибо. Мне пора идти. На самом деле… я очень спешу… боюсь, что вы со мной напрасно теряете время…
– Не беспокойся обо мне. Я сам распоряжаюсь своим временем. И я рад провести его с тобой…
Я заметил, что он засек мой взгляд, устремленный на девушку в углу, которая, улыбаясь, держала своего приятеля за руку.
– Может, тебе приглянулась эта? Скажи лишь слово, и она твоя.
– О ком вы говорите?
– О ней… той, что сидит в углу…
– Которая? – спросил я, изображая из себя невинность. – Ах, эта. Ну… она и в самом деле очень мил… но почему ты спрашиваешь?
Его лицо засияло.
– Милая? Не то слово. Это просто нечто, поверь. Чтоб ты знал – она студентка. – Он схватил меня за руку. – Позволь мне… Ты не пожалеешь. Теперь я понимаю, какой у тебя вкус… ты не разочаруешься…
И, вскочив с места, он пересекает кафе, направляется к перешептывающейся парочке, делает знак девушке, подходит к ней, наклоняется и шепчет ей что-то на ухо. Она краснеет и отвечает запинаясь и так тихо, что мне ничего не удается разобрать. Потом переводит на меня взгляд своих больших блестящих коричневых глаз и смущенно кивает. Вид у нее девочки из хорошей семьи. И похоже, что она довольна. У меня перехватывает дыхание, сердце гулко бьется в груди, а к лицу приливает кровь. Я чувствую, как у меня трясутся руки. Я ее накажу. Имею на это полное право. Уже два года, как я женат, а что я получил? Ни-че-го. Мой доброжелатель – плевать мне, сводник он или сутенер, – возвращается ко мне, садится и, не говоря ни слова, предлагает мне сигарету. Я гляжу себе под ноги, а когда поднимаю голову, вижу, как девушка уже проскальзывает в боковую дверь. Ее спутник разворачивает вечернюю газету и погружается в чтение. На противоположной стороне улицы все еще стоит автобус. Дождавшись, пока в него сядут несколько подростков, он тоже отбывает.
Домой. Она, боюсь, сейчас в истерике. Кому все это нужно, особенно полное время? Ну и, конечно, деньги…
«Пошли», – слышу я голос и чувствую легкое прикосновение.
Я снова изображаю непонимающую невинность. «Пошли… куда?»
Он смотрит на меня. Это твердый, это тяжелый взгляд. Опасный.
– Перестань. Ты ведешь себя как ребенок. Упрямый ребенок. Давай заглянем к ней, просто сказать ей: «Hello!» Только всего. Сказать «hello!». Просто познакомиться.
«Да… не сейчас… в следующий раз», – бормочу я, поднимаясь и дружески обнимая его. И вот так, полуобнявшись, мы выходим наружу и стоим так на тротуаре. Он обращается ко мне, и в голосе его я слышу почти что отчаяние. Похоже, что он теряет в меня веру.
«Всего лишь зайти к ней и поздороваться – неужели трудно? Ты можешь договориться о встрече с ней в любое другое время… просто некрасиво вот так заставлять ее ждать». И заботливой, опытной рукой он ведет меня в узенький проулок на другом конце тротуара. И снова я оказываюсь в окружении магазинов, магазинчиков, лавок и лавчонок, освещенных и полуосвещенных, а то и темных витрин, а тем временем мы входим в парадную большого жилого дома. Мой проводник нажимает на дверную ручку двери на первом этаже, и она открывается. «Всего лишь сказать ей: „Hello!“ Чего ты боишься? Ты совершеннолетний, она тоже. Все законно. Вперед»…
Меня ведет за ним неведомая сила. Куда она меня ведет? Где мы? Я словно вижу сон. Оглядываюсь. Мы в освещенном магазинчике. Это обувная лавка. Я вижу себя, отраженного множеством зеркал, вижу свое лицо с царапиной на лбу, похожей на цепочку из мелких жемчужин, мой галстук, лежащий на плече, мой смятый пиджак. Рядом с диваном – несколько стульев. А кроме них – низенькие наклонные табуретки для примерки обуви и всюду – полки с обувными коробками дамских туфель. Пустые обувные коробки и белая оберточная бумага, которую, скомкав, покупатели бросили на полу. Похоже, что процесс купли-продажи закончился здесь совсем недавно, чем и объясняется запах человеческого пота, наполняющий помещение. Она стоит в глубине комнаты возле кассы, разглядывая пару модельной обуви на высоких каблуках. При более пристальном взгляде она кажется несколько менее привлекательной, она употребляет дешевые духи, а возле губ у нее заметный шрам, но какое-то необъяснимое очарование, какой-то лукавый взгляд блестящих ее глаз – всё при ней. Никаких пустых разговоров не требуется, думаю я, и эта мысль возвращается ко мне, сопровождаемая все более сильным желанием. Она безмолвно смотрит на меня, чуть склонив голову с какой-то трогательной естественной грацией, и в эту минуту совсем не похожа на шлюху. Она садится на диван, и я вижу, что она скорее всего моих лет, может быть годом или двумя старше, сидит, положив одну ногу на табурет перед ней, одна штанина, задравшись немного, обнажает ее ступню, гладкую, розоватую и очаровательно пухлую. Я делаю шаг по направлению к ней, все еще держа в руках мой профессорский портфель с лекциями. Она бросает на него взгляд, в нем я улавливаю мгновенно блеснувшую насмешку, разумеется, она ждет, что я поставлю его на пол, если я… и я опускаю его на ковер и сажусь на стул напротив, словно продавец, но, может быть, и как покупатель. Скорее последнее.
– Как тебя зовут? – спрашиваю я.
– Натали.
– Натали? В самом деле? Очень мило. Ты израильтянка?
– Во всяком случае – сейчас.
Я грубовато хохотнул.
– А меня зовут… Цви.
– Вы не из Тель-Авива?
– Бываю в нем время от времени. Но живу на севере… неподалеку от Акко. (Для собственной безопасности я предпочитаю прибегнуть ко лжи.)
И я глажу ее ступню. Ее кожа тепла, нежна на ощупь и чуть отдает потом. Я расстегиваю пряжку на ее старой стоптанной туфле и снимаю ее с ее ноги, которую она продолжает держать на сиденье стула.
– Какой размер вы носите, мадам? – внезапно спрашиваю я, чувствуя, что заливаюсь краской.
В ответ она протягивает мне другую ногу. И я снова расстегиваю пряжку, стягиваю с ее ноги вторую туфлю и отбрасываю в сторону. От вожделения я едва не лишаюсь сознания, падаю к ее ногам и начинаю целовать их, ощущая на губах пыль и песок нубийской пустыни, запах пота, упругость податливой плоти, человеческого мяса. Облизываю, дрожа. Мои брюки грозят вот-вот лопнуть, я весь – сплошное желание и любовь, я кладу себе в рот ее пальцы, покусывая их, я мычу, подобно животному, и погружаюсь в неведомые мне дотоле бездны, в то время как она поглаживает мои волосы и закручивает мой тонкий галстук, словно веревку. Внезапно что-то пугает ее, и она убирает от меня свои голые ноги.
– Ну, хватит! Остановись! Встань и иди сюда.
И я подчиняюсь, влекомый страстью, неведомой мне до сих пор, и пытаюсь расстегнуть на ней блузку и высвободить из брюк. Она отводит мои руки и сама стягивает их. Коричневые трусики высверкивают серебристой молнией посередине, скрывают большой коричневый пупок.
– Любовь моя, – шепчу я, – моя дорогая… Помоги мне…
Она не может понять, о чем я.
– Ты можешь мне помочь?
Она недоумевает. Даже озадачена.
– Чего ты хочешь?
– Ты знаешь чего. Помоги мне засунуть… Войти…
И в ту же минуту все вырывается из меня, и я кончаю. Не успев даже лечь на нее. Какой провал! Даже здесь? Меня охватывает паника. Она сводит широко раздвинутые ноги, трогает мой мокрый член, и лицо ее передергивает гримаса отвращения.
– Ну, вот, – говорит она. – Не вешай нос. Это бывает. Ведь тебе надо было разрядиться, ну так что ж…
Я зарываюсь в нее лицом. Пытаюсь удержать ее. Ощущаю ее тепло, ее ноги все еще охватывают меня, в то время как мой организм продолжает извергать из меня все семя, накопленное за эти два года, – толчками, словно там, внизу, у меня бьется маленькое сердце; я же все целую и целую белую ткань ее блузки, ища взглядом ответный взгляд ее глаз, который она от меня уводит.
В конце концов она с силой отталкивает меня.
– Я… вошел в тебя? Да?
– Да, да… не думай об этом, – голос у нее вдруг стал резким и грубым. – Только не убеждай меня, что это у тебя впервые…
– С чего это ты взяла?
Поднявшись, она оглядывается и быстро застегивает свои брюки. Запускает пальцы в свои волосы и смотрит на меня. В этом взгляде – некий вопрос. Я ощущаю ее нетерпение. Но я тоже должен разобраться со своими брюками, что я и делаю, затем вытаскиваю из кармана бумажник и даю ей тысячу лир – из тех денег, что дал мне отец.
Она смотрит на деньги, но не торопится взять их. В чем дело?
– Это то, о чем мы с ним договорились…
– С кем это – «с ним»?
– Ну, с тем типом…
– С каких это пор он вмешивается в мой бизнес? С тебя еще тысяча.
– У меня ее нет.
– У тебя ее нет? Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что у тебя ее нет?
– Что у меня ее нет.
– Тогда давай мне твои часы.
– Мои часы? – Я был поражен… – И не подумаю.
– Черт с тобой и твоими часами. Тогда гони еще пять сотен.
– Я о чем тебе толкую? Нет у меня.
– А что у тебя в твоем портфеле?
– Лекции по истории. Хочешь посмотреть?
Она уселась возле кассы, всунула ноги в свои стоптанные туфли и сидит так, высоко держа свою стриженую голову. Где мог я видеть этот огонек, что вспыхнул в ее глазах?
– Покажи мне свой бумажник.
Она говорит все это сухим голосом, тихо, но жестко.
Нервно ухмыляясь, я отдаю ей бумажник. Она быстро роется в нем, находит пятьсот фунтов одной банкнотой и забирает ее.
– Оставь это мне, – говорю я. Мне ведь нужно еще добраться до Иерусалима.
– Подними руку… кто-нибудь подбросит тебя на попутке…
– Плохая шутка… Ночью… никто не остановится ради меня.
Я произношу это чужим, испуганным голосом. Но я и вправду испуган.
Кто-то дергает дверь, ведущую в лавку, после минутного колебания она возвращает мне банкноту. Вернее, даже сама запихивает ее в мой бумажник.
– В этот раз я тебе уступаю, – говорит она. – Но поступать так, как поступаешь ты, – некрасиво. Ты выглядишь порядочным человеком… в следующий раз постарайся обойтись без этих грязных штук.
Мне стыдно. Вот до чего я дошел. Привокзальная шлюха пожалела меня и читает мне мораль. И я заслужил ее!
– Мне очень жаль… честное слово, – заикаясь, бормочу я. – В следующий раз… я просто не представлял… ты ведь… я ведь всегда могу тебя здесь найти?
Она смеется – одними глазами.
– Да уж. Ты всегда найдешь меня здесь. Но свои шутки оставь при себе. Договорились?
Некто средних лет в модном костюме открывает дверь, растерянно кланяется и быстро закрывает ее. Я подбираю свой портфель, устремляюсь наружу и бреду, опустив голову, по улице, не пытаясь даже понять, где я нахожусь, перехожу с тротуара на тротуар, сворачиваю по наитию налево и направо, пока не натыкаюсь на автобусную станцию, пристраиваясь в хвосте короткой очереди, ожидающей (последнего?) автобуса на Иерусалим. Ветер утих, но зато заметно похолодало, а пыль сменилась туманом. Несколько усталых студентов пристраиваются в хвост за мной. Чувствуя себя, как выпотрошенная рыба, я стою, только что не повиснув на металлических перилах ограждения платформы. Кто-то с другой стороны ограждения трогает меня за рукав. Все тот же маленький смуглый человечек с бренчащей на шее цепью.
– Ну и как это было?
– Okey, – бормочу я. – Все было прекрасно. Только вот у меня нет больше денег. Все, что было, отдал ей…
– А как насчет часов… или вот авторучки?..
Я не отвечаю. Люди с любопытством оборачиваются на нас. Он улыбается своей простодушной улыбкой, он, похоже, запасся терпением и верой в будущее.
– Ничего, ничего, – говорит он. – А ведь есть здесь нечто такое… среди всей этой обуви, правда? Какое-то особое удовольствие. Я сам всегда это ощущаю, хорошо, хорошо, не бери в голову… в следующий раз… это мое постоянное место… здесь, на остановке иерусалимского автобуса…
И он пожал мне руку. Он меня утешал… он в меня верил… Мне стало стыдно. Может, он и в самом деле видел меня насквозь?
Автобус, покачиваясь, ввинтился в ночь, чудом не врезавшись во что-нибудь на узких улочках южного Тель-Авива. Черт с ними, с деньгами. Это жизнь – просто жизнь. Не против кого-либо… Домой, домой. Ты ей поможешь, правда? А она позволит тебе это сделать. Просто она боится… А ты разве нет? Но… облизывать ее, словно пес!.. Откуда это взялось во мне? Дешевый запах духов просто въелся в мое лицо вместе с пылью ее ног… напоминание, наполняющее мою душу неподдельным ужасом неотвратимой смерти. Среди обувных коробок, на грязном полу полутемной лавки. Непередаваемо отвратительная реальность. А что это? Голова Горацио меж моих ладоней, бурая голова старого и преданного, полуживого пса, едва не испустившего дух после потрясения от встречи с моим отцом. Я должен быть в ответе за все. Но что заставило меня произнести эти слова – «любовь моя»? Что-то случилось со мной. Что-то произошло. Мне страшно. Случилось нечто ужасное. Если я не пойму, что именно, я ее потеряю. Дину, мою любимую. Мое дитя. Мой свет. Мое прощение. То, что случилось, – не против тебя. А для тебя. Но что заставило тогда произнести «любовь моя»? Ты пришла ко мне из хорошей, простой семьи. Я – из сумасшедшего дома. Позволь ему делать то, что он может сделать лучше других. К чему предназначен… Он, единственный в своем роде. Который работает и дышит для тебя одной. Так позволь же ему сидеть и писать.
Осторожно, осторожно, все может случиться. Кроме того, что случилось уже. Это больше не повторится никогда. Слишком рискованно. Вот и сердце заболело из-за этого. Ты этого заслужила.
Аромат апельсиновых рощ. Весна берет свое несмотря ни на что. Огни домов уходят назад. Мелькнули последние фабрики. Что побудило меня произнести «моя любовь»? Как вырвались у меня изо рта эти слова? Как мог бы я уничтожить их, взять их обратно? Что я наделал? Она, должно быть, испугана до смерти. Уехав к родителям, позвонив Яэли… но ведь у Яэли никого нет сейчас дома… Это ужас… ужас… мне придется за все это платить… платить за все. До конца жизни.
Что заставило меня сказать: «любовь моя»?
Три основных ритма: контакт, освобождение и сокращение. Чем более человеческие сообщества становятся похожими друг на друга под влиянием культуры: цивилизации, торговли и взаимных контактов, тем сильнее жаждут они свободы, но также своеобразия, что ведет лишь к новым конфликтам. Пелопоннесские войны. В сердцевине подобной интуиции, такой изощренности, такого расцвета философии, искусства и религии греческие города-полисы безостановочно затевают кровавые войны друг с другом безо всякой внятной причины, войны, приводящие в конечном итоге к разрухе и самоуничтожению.
Рев несущегося сквозь просторы окутанной туманом Иудеи автобуса. Пациенты сумасшедшего дома, окружавшие нас. Она, с такой уверенностью прильнувшая ко мне. Чувствовали ли они, что я – внутренне – тоже один из них? Родственная душа. Откуда это во мне? Я готов был залаять, как собака. Моим студентам стоило бы посмотреть на эту картину, посмотреть, как я лаю, оказавшись среди них. Взгляд ее, обращенный на меня. Вера Засулич. Роль личности в истории. После Пасхи я начну свои лекции прямо с убийства царя. Приглушенным тоном, с точными, красочными деталями. Тринадцатое марта 1881 года. Николай Рысаков, метающий бомбу под ноги лошадям неподалеку от Зимнего дворца. Булыжники мостовой вперемешку с осколками льда. Софья Перовская, эта благородная, возвышенная душа. А сверх того метальщик второй бомбы, убившей тирана, светловолосый кудрявый поляк Игнаций Гриневицкий и его двадцать четыре года, студент инженерного факультета, который отказался даже назвать свое имя, лежа в луже собственной крови. Сидя неподалеку от места покушения на стуле возле Летнего сада, онемевший Достоевский незадолго до того, как обсуждались планы убийства, несмотря на свои реакционные взгляды, пренебрег возможностью предупредить власти. Я пленю их мелкими деталями и через них выведу к осознанию огромного значения этих подробностей. Я сделаю это так, что они поймут и полюбят этих молодых террористов, пожертвовавших собой ради высокой цели – так, как они ее понимали.
Я не в силах был избавиться от ее запаха. К нему прибавлялся привкус пересохшего фалафеля и кислой капусты. Плюс запах дизельных выхлопов. Мои липкие пальцы… Прежде всего – под горячий душ. На моей одежде странные липкие пятна. Я проскользну мимо нее в темноте. Но почему я произнес: «любовь моя»? И с такой легкостью?
Автобус несся как сумасшедший. За рулем сидел не водитель, а ковбой. Внутри меня прямо к горлу поднималась рвота. Остальные пассажиры утонули в своих сиденьях, большинство спало. Я никогда не мог заставить себя уснуть в автобусе. Горацио. Горацио. Вернулся ли он обратно? К матери. Все это было для него ужасно. Отец собирался снова отправиться туда завтра, один. А я поцарапал себя. Рано или поздно ты тоже рехнешься, Аси, тебе никуда не деться от генетики. Но постарайся сохранить незамутненным свой разум, берегись сделать ложный шаг. Теперь я знаю, что может взволновать мою душу, знаю, что ей нужно. Ей нужен священный трепет внутри. Женщина, а не ребенок. Да, любовь моя.
Выходя из автобуса, я споткнулся о ступеньку, и рвота, все это время подступавшая у меня к горлу, вырвалась наконец наружу, как на мой портфель, так и на пожилого резервиста гражданской службы, в остолбенении глядевшего на меня. Портфель был весь в блевотине. Сам я весь трясся от холода, и сил моих едва хватило, чтобы дотащиться до автобусной остановки, где в полной безнадежности я привалился к столбу в ожидании автобуса, который довезет меня домой.
В окнах моей квартиры было темно. Часы показывали одиннадцать. Ее родители, бесспорно, давно уже должны были забрать ее к себе. Я отпер входную дверь. В прихожей было темно. В комнате для гостей – тоже. Она была заперта. Ни звука. Я открыл дверь гостиной и выронил свой портфель. Жалюзи на окнах были опущены, но я невольно зажмурился ослепленный ярким светом. В комнате что-то не так. Может, кто-то передвинул мебель? Диванные подушки валяются на полу. Возле дивана валяются какие-то листки. В воздухе клубится сигаретный дым. Она сидит… на ней джинсы, туфли она сбросила. Ее волосы забраны на затылке, ей это очень идет, выглядит она так, словно за этот день она уменьшилась в размерах. Еще больше листков у нее на коленях, а пишущие ручки разбросаны в беспорядке повсюду.
Я останавливаюсь на пороге.
– Я пробовал дозвониться до соседей, но никто не отвечал. Мне пришлось бесконечно дожидаться автобусов. Ты звонила, Яэли?
– Нет.
– Не вставай.
Но она не сделала даже попытки сдвинуться с места.
– Я застрял на автовокзале. Чуть не испустил дух. Думал, что уже не доеду. Ну и денек! Я рад, что ты не потащилась с нами, ты бы просто сошла с ума. Кончилось тем, что меня вырвало. Я должен вымыться, грязный как свинья, и портфель весь облеван. Я заболеваю. Скучал по тебе весь день. А ты – была у родителей?
Она покачала головой с отсутствующим видом, безмолвно, погруженная в себя, в свой собственный, недоступный для меня мир. Это была новая ее роль, которую она придумала для себя.
– Моя мать так ничего и не подписала. Просто комедия… да, ты можешь благодарить судьбу за то, что у тебя нормальные родители. Лучше быть дочерью простого владельца бакалейной лавки, чем… Чем ты занималась весь день? Прежде чем ответить, подожди минутку. Сначала я должен смыть все это…
Но пошел я не в ванную, а в кухню. Еще большее количество страниц валялось на обеденном столе. Грязные тарелки, оставшиеся после завтрака, высились в мойке и рядом с ней. Смятые ее сильной рукой страницы, зачеркнутые слова, строчки… много свободного места. Я вгляделся – что-то о молодой женщине с детской коляской…
– Немедленно прекрати… – шипящим голосом произносит она за моей спиной. – Отправляйся в ванную. У тебя такой вид, словно ты весь день провалялся в сточной канаве.
– А что делала ты весь день? Где ты была?
– Там же, где сейчас. Здесь. Дома.
– Ты хотела зайти в банк. Зашла? Ты должна была снять со счета немного денег. И?
– Нет.
– Тогда чем же ты весь день занималась?
– Сидела дома. Я написала рассказ… полностью… одним разом. Была совершенно одна. И мне это понравилось – быть одной. Для разнообразия… без тебя.
Я продолжаю собирать посуду – тарелки и чашки, столовое серебро…
– Брось все это. И иди умойся, – она почти что кричит на меня. – Ты похож на кучу дерьма… от тебя разит!
Я оставляю в покое бардак на столе и с остатками достоинства шествую в спальню. Еще больше листов разбросано по всей кровати. Верхняя одежда – ее, моя – брошена как попало на все стулья – похоже, что ей понадобилось высвободить весь платяной шкаф. Она следует за мной – бесшумно, осторожно, стараясь не подходить слишком близко, глаза ее широко раскрыты. Некоторое время я довольно бессмысленно топчусь в спальне. На ночном столике лежит открытая книга по истории на английском языке, которую я читал этим утром. Портреты юных русских революционеров в галстуках и жестких стоячих воротничках, фотография царя при всех его воинских орденах и регалиях, изображения дам в длинных вечерних платьях – с датами рождения и смерти под каждым из них. Серьезное лицо Веры Засулич – глубоко посаженные глаза ее светятся и смотрят прямо на меня, от чего по спине у меня пробегает мороз.
Я отправляюсь в гардероб и начинаю наводить в нем порядок, вынимая из шкафа пустые вешалки.
– Брось это! – вскрикивает она за моей спиной. – Иди и умойся, наконец! Ты даже не представляешь, на что ты сейчас похож…
Что-то изменилось сегодня. Что-то, что никогда больше не станет прежним.
Четверг. Вечер
Моя любовь Мой Бог Ты помнишь мою муку И навсегда мою запомнишь смерть Иегуда Галеви– Цви? Цви? Это ты, Цви? Цви?
– Кто там?
– Это я, Рафаэль. Цви!
– Кто?
– Рафаэль? Посмотри в щелку.
– Это ты, Цви…
– А ты что думал?
– Сейчас около двух… Я боялся, что это твой отец. Ты сердишься?
– Нет. Как ты здесь очутился?
– Случайно. Проходил мимо. А ты и вправду спал?
– Да. Почти. Но ты своим грохотом разбудил меня.
– Прости. Не говори так. Грохот? Я тихонько постучал. Словно птичка.
– Словно кувалдой…
– О, дорогой! Прости меня. Мне показалось, что у тебя горит свет.
– Тебе показалось.
– Но разве в кухне не горел свет? Нет? Но я видел с улицы, что в кухне горит свет. Уверен. Совершенно уверен. Свет горел. Минимум полчаса. И тогда я решился постучать. Но и на самом деле – легко. Как птичка.
– Света не было.
– Ты уверен?
– Уверен. Я сам его выключал.
– Может быть, твой отец снова включил его?
– Отец давно уже спит. И не вставал…
– Но я не мог ошибиться. Не может такого быть. Может быть, у вас живет какой-нибудь мышонок и он то зажигает, то выключает свет. Не смейся. Однажды в доме моей тетки в Иерусалиме мышонок поселился в распределительной коробке, и каждый раз, когда ему куда-нибудь было нужно, он или включал, или выключал свет.
– Поздновато для шуток.
– А я не шучу. Абсолютно серьезно. Ведь дом сходил с ума, пока не пришел дежурный электрик с проверкой и не поймал его. Ну ладно… Я ухожу, ухожу. Я вижу, ты действительно спал. Мне страшно жаль, что я тебя разбудил. Но как ты расслышал мой стук? Значит, у тебя такой чуткий сон? Клянусь, я не стучал даже… скорее я просто дотронулся до двери, как…
– Зайди…
– А? Ты уверен? Ну, разве что на минутку. На самом деле. На минутку, не больше. Спасибо.
Не могу объяснить. Сам не понимаю, как это случилось. Не мог уснуть… глаз не мог сомкнуть. И пошел бродить по улицам… часа два, не меньше.
– Сам удивляюсь…
– На кухню? Почему на кухне? Возвращайся в постель, а я посижу возле тебя, так что – в постель! Немедленно. А я посижу рядышком, а потом уйду.
– Ты прав. Просто у меня такой голос. Я буду говорить шепотом. Мне ужасно неудобно. Я совершенно забыл о нем.
– Тогда нам лучше устроиться в кухне и закрыть дверь.
– Ну так?..
– Я сам не знаю…
– И все ж?
– Никаких видимых причин. Не могу объяснить. Все время ужасно нервничаю. Полная развалина. Иду ко дну. Просто жизнь развалилась на куски. Разве не говорил я тебе, что ты перевернул во мне все вверх дном? Превратил меня в фарш. Но я еще жив. Я выжил… выжил… Но можешь мне поверить, от всего этого мне не оправиться.
– Нет…
– Да.
– Да.
– Возможно.
– И это – тоже.
– Ты прав. Тут не сомнений – ты прав. Но лучше бы тебе не напоминать мне об этом. Я выживу.
– Чай? Нет, нет, не беспокойся. И отправляйся в постель. Ты и так уже наполовину уснул. А я отправлюсь дальше…
– Ты уверен?
– Ты на самом деле так чувствуешь? И хочешь?..
– Только если и ты хочешь тоже. Я заметил за тобой привычку пить чай по ночам. Пользуешься любым предлогом, чтобы выпить чаю. Может быть, ты унаследовал эту привычку от твоих российских предков, которые всегда готовы были посидеть за самоваром.
– Что? Верно. Для нас чай является чем-то вроде лекарства. Которое следует принимать при простуде. Может, ты хочешь?..
– Нет, нет. Чай – это то, что надо. В любом случае – только чай. Именно чаю я сейчас хочу больше всего.
– Нет, нет. Честно. Именно чай. Потому что я уже заболел.
– Во всяком случае, ты его любишь. Ко мне это не имеет никакого отношения. Ты так внимателен. Не могу себе простить, что разбудил тебя. Никогда не решился бы прийти, зная что ты спишь. Ты не должен был впускать меня. Это свет ввел меня в заблуждение.
– Нет… не думай об этом. Я так на себя сердит. Еще долго не прощу себе этого.
– Спасибо. Огромное спасибо. А знаешь, мне непривычно видеть тебя без очков. Даже в голову не приходило, что ты можешь обходиться без них.
– Нет, нет… большая разница. Мне придется к этому привыкнуть. Теперь я разглядел их лучше. Я имею в виду, что я лучше увидел их. Во всей их красоте. А это у тебя что – новая пижама?
– Очень тебе идет. Такая мягкая. Очень идет. Где ты ее достал?
– Да. У них там умеют делать красивые вещи. Очень тебе идет.
– Сколько?
– Совсем неплохо. Глядится что надо. Очень красивая и очень тебе к лицу. Ну а теперь скажи, как прошел у тебя день. Когда он прибыл? Вечером я звонил трижды, но никто не брал трубку.
– Что за ресторан?
– Правильно. Ну и как он? Есть какие-то новые обстоятельства? Расскажи мне.
– Ну так что ж вы в конечном итоге предложили ей?
– И что он тогда решил?
– Каким образом?
– И тогда…
– Поздравляю! В воскресенье… но это же пасхальный вечер…
– Ты уверен, что не хочешь быть там? Я могу подвезти тебя.
– Не беспокойся. Я все устрою…
– Как можешь ты говорить о них подобным образом? Ты меня просто убиваешь… Как это возможно…
– Эта история изумляет меня. Я не имею в виду тебя именно. Я не могу забыть ее лица. Она произвела на меня потрясающее впечатление. Благородная дама. Я был ею очень тронут.
– Ты ей тоже понравился.
– Правда? Ужасно приятно это услышать. Скажи, а мне можно хоть на секунду взглянуть на него?
– На твоего отца. Я ужасно любопытен.
– На одну секунду.
– В твоей комнате? Но почему?
– Ну конечно. Все сомнения. Ведь тогда это была его кровать. С твоей стороны эта забота… так трогательна. Да… только на секунду. Я не произведу ни шороха.
– Разумеется, в темноте…
– Ну хотя бы немножечко света…
– Он похож на тебя. Да нет, он здорово похож на тебя. Просто удивительно. Красивый пожилой человек.
– Да не просто одно лицо. Копия. Как если бы мог увидеть тебя лет этак через тридцать… когда я уже давно буду покоиться в могиле…
– Нет, нет… Замечательное сходство. Поразительное. И малыш ваш тоже на него похож.
– Твой брат.
– Нет, потрясающе, невероятно…
– Я? Просто ужасно. Разве сам ты не видишь?
– Не знаю. Сам не знаю. Я сейчас полная развалина. Это уже третий раз за неделю, что я не в силах уснуть.
– Таблетки? О чем ты говоришь! Я в них давно уж не верю. Вместо того чтобы помочь, они только еще больше меня возбуждают. Они начинают действовать только через шесть часов, как раз в то время, когда я усаживаюсь на утреннем совещании рядом с Блейхером. В тот именно момент, когда мы пытаемся определить тренд и мне следует быть в наилучшей форме. В эту минуту малейшая ошибка может обойтись банку в миллионы и миллионы.
– В девять часов.
– Каждое утро. А при такой инфляции – трижды в день.
– Безусловно. А кто сказал, что человеку требуется семь часов сна? Может быть, трех тоже достаточно. Между прочим, по ночам я тоже изучаю город. Ты не представляешь, сколько в нем происходит всего. Тель-Авив, без шуток, превращается в настоящий мегаполис. А сейчас, кроме всего прочего, весна и воздухтакой благоуханный… Сначала я решил отправиться в бар к Сами, думал найти тебя там, хотя и знал, что ты должен был встретиться со своим отцом. Он хотел, конечно, чтобы я осел у него… но эти его мальчики, и его музыка, и эти его шлюхи – ты не поверишь, сколько там у него шлюх… и я решил, что это не для меня. И я отправился в «Маарив».
– В «Маарив»? Но это же…
– Верно. «Маарив» – это газета. Но у них там есть телепринтер, которым мы можем пользоваться, чтобы узнавать новости с нью-йоркской биржи напрямую.
– Правильно. Прямая линия. Мы получаем самые свежие новости ранним утром, и я таким образом получаю возможность планировать наши завтрашние шаги. Что?
– Разумеется. Конечно… и уже сегодня. В голове у меня сплошной туман.
– А тебе сейчас все это интересно? Я вижу, ты полностью в курсе биржевых новостей.
– Конечно. Это единственный путь.
– Что я думаю? Ты хочешь узнать это сейчас? Прямо сейчас?
– Меня это не волнует. Нисколько. Я полагаю, что доллар сейчас не в лучшей форме, а будет в еще худшей. В нашем банке мы говорим об этом все последние дни. Судя по тому, что мне говорят последние цифры с нью-йоркской биржи, может случиться все что угодно.
– Резкое падение.
– Даже еще хуже. Много хуже.
– Может случиться все что угодно. Мир просто спятил. На случай, если ты не заметил: деньги определяют психологию.
– Что мы планируем сделать завтра – это отделаться от большинства серий «D», которые котируются по шестьдесят центов за доллар, а взамен приобрести большую смешанную партию из марок, франков и иен.
– Как отнесутся ко всему этому инвесторы? Как всегда. Если наши действия принесут им прибыль, мы удостоимся аплодисментов. Если прибыли не будет – можем получить под зад ногой. Все просто.
– Можешь не сомневаться. Все последние дни мы думаем только об этом. Но этим утром мы решились предпринять экстраординарные меры. Зависит? Зависит это от того, что нюх нам подскажет о перспективах доллара. Мне мой нюх подсказывает, что к сегодняшнему закрытию доллар укрепится. И Блейхер со мною согласен, более того, он готов ввязаться в большое сражение, готов идти до конца. У тебя вода закипела.
– Я полагаю – до тридцати пунктов. Подобное уже случилось однажды – в семьдесят седьмом году, только сейчас это много более опасно, поскольку может полностью обрушить надежность биржи, а о том, что тогда произойдет, – лучше и не думать. Мы утонем все… все.
– Понятно. Поскольку это связано с огромным количеством других акций и облигаций и является, таким образом, ключом ко всему рынку. Но его не проведешь.
– Кого, Блейхера? Да уж. Он любит встряхнуть рынок. И правление развязало ему руки. Ведь кто он? Просто чокнутый немецкий еврей, который в жизни занимается только тем, что ищет, куда бы ему вложить деньги. Как только он находит – куда, он бросает в бой не только все деньги, что у него есть, но и те, что почему-то оказались рядом. Ничего он так не любит, как ворваться в пролом. О, это один из самых опасных сукиных сынов.
– Не всегда. И если бы у него не было за спиной трех сефардов, Атиаса, меня и Ронена (чье настоящее имя, между прочим, звучит как Мизрахи), чтобы было кому сдерживать его, он всех нас втюхал бы в большую беду.
– Одной левой…
– Да. Мизрахи. Уж не думаешь ли ты, что при рождении ему дали имя Ронен?
– Стопроцентный еврей из Ирака. Удивляюсь, что ты сразу этого не почуял. Когда ты с ним познакомился?
– Чего он хотел от тебя?
– И ты этого не понял? Это же ясно. Чистокровный иракский пройдоха, тебе лучше держаться от него подальше. Еще раз я тебе удивляюсь.
– Верно. Я ужасно нервничаю, ты это тоже почувствовал? Не понимаю сам, что со мной происходит. Может быть, это связано с театром…
– Да. Театр. Вечером мы пошли в театр. Как называется? «Дядя Ваня». Может, ты слышал о нем? В Тель-Авиве. В Камерном театре.
– Да. Чехов.
– Еще раз…
– Правильно. ЧЕХОВ. Извини, но я впервые услышал о нем. Полагаю, ты должен знать о нем все. Дома у меня есть программка с его фотографией… и все такое.
– Да.
– Совершенно случайно. Несколько дней тому назад банк предложил нам билеты по смешной цене – триста лир. Что сегодня можно получить на триста лир? Стакан чая с сахаром стоит дороже. Но наш профком известен всему городу своей способностью выбивать скидки…
– Совершенно верно. Может быть, именно потому, что мы работаем в банке. Они хотят просто подкупить нас – единственное предположение, которое приходит мне в голову. На следующий день, клянусь, мы получили предложение приобрести новенький двухдверный холодильник за полцены.
– Мне стыдно, что я этого не знал.
– Мне стыдно…
– Всегда говори мне, что тебе нужно.
– Он и на самом деле старый. И шумный. Но я проверю, остается ли предложение еще в силе.
– Ну, очень жаль, что я этого не знал. Это точно так же, как с театральными билетами. Обычно я прямо отправляю их секретаршам. Но в этот раз ни одной из них не было из-за праздников. И моих дочерей не было тоже, так что я сказал ей – давай сходим в театр и посмотрим эту пьесу, о которой столько шума… тем более что в театре мы были в последний раз лет десять тому назад.
– Нет. Я не знаю. Я не говорю, что все они – барахло, только меня нисколько не привлекают все эти хасидские легенды и мюзиклы о скрипачах, играющих на крыше. На них у меня не хватает терпения. А она вообще всему предпочитает кино, а в особенности французские фильмы. Время от времени мы ходим на рутинные комиксы… пустые комедии… типа того, для настоящего театра я слишком впечатлителен, понимаешь? Мне всегда становится стыдно за актеров, за то, что происходит на сцене, и за то, что они с нее произносят; такое испытываешь, когда видишь на улице невоспитанных детей. Не забывай, что мы другое поколение.
– Ты знаешь.
– Совсем другое поколение. И это факт.
– Не смейся надо мной, хорошо?
– Я уже говорил тебе, но ты забыл. Я ничего от тебя не скрываю, я говорил тебе давным-давно. После Пасхи мне исполнится пятьдесят шесть.
– Спасибо. Но это правда. С этим ничего не поделаешь.
– Потому что у меня не отвисает брюхо и я легок на подъем.
– Итак, я рассказывал тебе… я сказал ей… Пошли, давай сходим и увидим собственными глазами… что мы теряем, если нам не понравится, мы можем встать и уйти в антракте, мы ведь не прибиты гвоздями к нашим креслам, зачем же оставаться дома и всю ночь сожалеть, что не пошли, а предпочли бесконечно жевать ту же жвачку, рассуждая о делах, которые может решить только сам Господь? Ты меня слушаешь?
– В итоге она со мной согласилась и мы пошли.
– Да. Вечером. Несколько часов тому назад. И это оказалось высший класс. Я говорю о спектакле. Настоящий сюрприз. Сначала я все не мог понять, куда все это движется, да и русские имена сбивали меня с толку. Но у нас были прекрасные места, прямо напротив сцены, в середине четвертого ряда, и мы видели мельчайшие детали того, что происходило на сцене, – каждую секунду они смеялись, кричали, плакали и даже вздыхали. Можно было разобрать каждое слово. Поначалу я ожидал, что вот-вот должно произойти что-то необыкновенное. И только потом я понял, что это – неизвестно как – уже случилось. Не знаю, как и когда… но то, что для героев пьесы было важнейшим вопросом жизни, произошло вот так… на наших глазах… и вот этого чуда я так и не мог объяснить.
– Ты сказал, что это Чехов?
– Антон Чехов. Я попробую запомнить. Мне даже кажется, что я когда-то… Но кем он был?
– Это все, что тебя волнует? Все очень просто. Чехов. Его знают все.
– Нет. Никогда я не слышал о нем. Я в этом не виноват. Все, что я вынес из школы, – это то, что существовал какой-то поэт, который увидел Бога… Ну, ты знаешь – в пруду. В воде.
– Правильно. Бялик. И еще несколько… вроде него. Вот так. Не забудь, дорогой мой, что меня отец выдернул из школы, когда я перешел в десятый класс, и отправил на работу. Это было во время Второй мировой войны. Помни – мы другое поколение. Изучали ли вы Чехова в школе? Завтра я пойду в книжный и куплю его книгу – после того, как я побывал в театре, я прочту ее без труда. И ты тоже должен ее посмотреть. Я приглашаю тебя – вопрос только в том, покажут ли они ее еще раз накануне Пасхи. Этим вечером публики было не так уж много, может быть, именно поэтому билеты достались нам так дешево. После того, как твой отец отбудет. Это что-то, что тебе нужно увидеть. Для себя. По-настоящему хороший спектакль, высший класс. Все, что происходит на сцене, – просто как в жизни, правдиво… этому веришь… и все это без лишнего шума, без этих воплей. Актеры… они играют так естественно, их имена есть у меня в программке, дома, я специально захвачу ее для тебя. Но тебе, я вижу, смешно…
– Нет. Она тоже приняла это очень тяжело. Уже в антракте я увидел на ее лице слезы. А после, когда погас свет, я вспомнил, как она побледнела. Я дотронулся до нее, чтобы как-то успокоить, но она никак не отреагировала. У меня было такое впечатление, что она даже ничего не почувствовала. И тогда я почувствовал, как меня охватывает дрожь. Не знаю, что это было и к чему имело отношение. Но думал я только о тебе. О тебе… и о нас. И обо всей этой безнадежной ситуации.
– Что?
– Нет. Ты не понимаешь. Эта женщина, Хелена… Елена… помнишь, как дядя Ваня был безнадежно в нее влюблен?
– Ты забыл. Я возьму тебя с собой, чтобы ты увидел. Тогда ты поймешь.
– Верно. Все именно так.
– Поверь, все последние дни я был на грани. Чтобы не разрыдаться. Даже в банке я ощущал в горле комок, едва оставался с собой один на один.
…Когда я думаю об этом, о всей этой безвыходности и всей моей радости… несмотря ни на что именно радости… я теряю всякое представление о том, что со мной происходит. Вот почему я сказал тебе, что внутри у меня – руины. Вся моя прошлая жизнь рухнула в какую-то черную дыру. Все скрепы моей предыдущей жизни лопнули. Ты сделал все это без малейшего усилия… легко… само собой… Для тебя подобное состояние естественно, но ты не понимаешь, что ты со мною сделал. Ты меня еще слушаешь?
– Нет. Я уже начал по тебе скучать. А… у тебя слипаются глаза… не думай, я вижу, как ты устал. Все, я ухожу. А у меня ни в одном глазу.
– Нет. Не думай об этом. Да, это правда, она в полном отчаянии, бедняжка. Для нее в этом вся ее жизнь… и я, поверь, так хорошо ее понимаю… и я не устаю себе повторять, что если бы я знал другой выход из этого положения, я просто сошел бы с ума. Но почему именно эта пьеса поразила нас так сильно? Может быть, внутренне мы были готовы к тому, что еще только должно было с нами случиться, а «Дядя Ваня» послужил предлогом… или предлогом было что-то иное? Когда зажегся свет, а занавес опустился, в этот момент я увидел, что она действительно плачет. И слезы эти лились и лились, она просто не в силах была остановить их. Я был настолько поражен, что не в силах был даже аплодировать. И так мы сидели, уставясь в пол, ожидая, пока вставшая с мест публика начнет выходить из зала. Но и после этого она продолжала рыдать. Ты меня слушаешь? Она плакала все то время, что мы шли к машине, и в машине она продолжала плакать тоже, но уже тихо, как если бы, раз начав, у нее уже не было сил, чтобы остановиться. Ее слезы лились непрерывно, и я знал, что лились они не из-за пьесы. Они лились из-за меня. До сих пор она не произнесла ни единого слова. С тех пор, как… Что?
– С тех пор, как она узнала…
– О нас… о том, что мы…
– Что?
– Нет.
– Да.
– Нет.
– Может быть. Но она не в состоянии была остановиться. Это было нечто вроде водопада из слез. И я решил не предпринимать никаких попыток успокоить ее. Я даже подумал, что так будет лучше – дать ей выплакаться, чтобы то, что скопилось у нее внутри, выплеснулось наружу. Обычно она всегда очень сдержанная. Есть в ней эта внутренняя гордость.
– Тебе легко так говорить. Но находиться там и наблюдать, как она плачет… я не мог даже заставить себя прикоснуться к ней… она была так чувствительна с тех пор, как узнала… просто чтобы хоть немного поддержать ее. Слышать это безостановочное рыдание… за минутой минута… Но я не произнес ни слова. Я не хотел ссоры, хоть я и знаю, что всему виною я сам. Я поклялся самому себе, что ни за что не буду с ней ругаться – на мой взгляд, она достаточно страдала и так. Я привез ее домой и включил телевизор, понадеявшись, что он чуть облегчит ее страдания… отвлечет от несчастья. Но я не угадал – она поднялась и вышла из комнаты. Я сказал, что никогда больше в жизни не принесу домой ни одного театрального билета, и вообще не сделаю ничего, что хоть самую малость огорчит ее, – никогда в жизни. Она ничего не ответила. Она перестала плакать, да. Но и разговаривать она перестала тоже. И, к сожалению, в доме не было наших девочек, чтобы растопить между нами лед, как они всегда делали это, когда находились дома. Сама она не сказала им об этом ни единого слова, потому что не хотела, чтобы они отвернулись от меня. Так она сказала.
– Чтобы я стал им отвратителен… она была уверена, что и я отвернусь от них.
– Что я еще могу сделать? Я уже сказал ей, что никогда ее не брошу. Ты меня слышишь? Я хочу, чтобы и ты знал об этом тоже.
– Я рад этому.
– Я сказал, что как могу я быть проклят за то, что со мною случилось? Такова моя судьба. Разве я этого просил? Если бы в этом была замешана женщина, все было бы понятнее. Ты хотела бы, спросил я, чтобы это была женщина? Или ты и сейчас предпочла бы женщину?
– Она ничего не ответила. Ее отец был сыном известнейшего раввина. В Иерусалиме. Оттуда идет весь ее ужас. Но я сказал ей, что весь грех беру на себя. Я заплачу за это в аду – я, и никто другой. Я за все в ответе.
– Я знаю, что ты не веришь ни во что подобное. Но в моем возрасте я не могу упустить последний мой шанс. Я конченый человек. Я хотел сказать ей, что за одну минуту рядом с тобой я готов заплатить тысячей лет, проведенных в аду. Хотел… но не сказал. Но что я сказал, так это то, что Господь сам осудит меня. И накажет. Не спорь сейчас со мною, Цви. Возможно все. Я могу заболеть. Ты хотела бы, чтобы у меня обнаружили рак? Для тебя это было бы легче? То, что со мной произошло, оно из тех же глубин. Пути, которыми приходят подобные вещи, никому не ведомы. Я могу только сказать, что произошло, но как я могу ответить на вопрос – почему? И тогда своим сдержанным тихим голосом она сказала мне… Ты меня слышишь? Она сказала, что предпочла бы наказание Господадля меня… да, предпочла бы, чтобы это был рак. Ты когда-нибудь слышал подобное?
– Да, конечно. Это показывает всю глубину ее унижения. Как она это чувствует.
– «Я хотела бы, чтобы Бог наказал тебя онкологией. Да, чтобы обнаружили рак». Именно такими словами она и сказала.
– Что?
– Правильно. Я сказал ей: «Ты рассуждаешь, как ребенок. То, что сейчас происходит со мной, я с Божьей помощью еще могу пережить, но рак я не переживу. Никогда. А все это я пережить, преодолеть – смогу». Так я сказал. И еще: как это пришло само по себе, точно так же оно и может уйти. На что она ответила: «Не считай меня идиоткой. Это никогда и никуда не уйдет. Надо полностью спятить, чтобы надеяться на это». Тогда я согласился и сказал: «Ну хорошо. Допустим, что я действительно спятил, пусть даже частично… разве не известно тебе, что сейчас дела сумасшедших тоже рассматриваются со всевозможным вниманием. Дай мне время. Может быть, я преодолею это. Я чувствую в себе силы преодолеть». Это то, что я сказал ей… как ты понимаешь, это вовсе не означает, что я так думаю: по правде сказать, все обстоит совершенно противоположным образом, все мои ощущения с каждым днем только крепнут. Но это я говорю тебе, чтобы ты знал. И тогда она призналась, что установила за нами слежку. Что ты скажешь на это?
– Нет, разумеется, не сама. Ей на это не хватило бы просто выдержки. Она наняла частного детектива. Можешь ли ты представить эту картину – как застенчивая, изысканно одетая женщина вроде нее входит в частное сыскное бюро и нанимает детектива, чтобы он отслеживал каждый наш шаг, подкрепляя все это фотографиями. Кстати, ты что-нибудь заметил?
– И я тоже нет. Но он проделал с нами весь путь, когда мы посетили больницу твоей матери. Представляешь? Ты и там ничего не заметил?
– Да хватит тебе смеяться. Для тебя это, кажется, подходящий повод для шуток. А я был просто в шоке. В основном из-за нее. Это какую же глубину обиды надо испытать, чтобы дойти до такого. А знаешь ли ты, что детектив сфотографировал тебя прямо посреди улицы?
– А что я могу поделать? Она прямо как маленькая девочка. Она говорит мне, что знает абсолютно все. И она действительно знает все; знает даже больше того, что знаю я сам о твоем отце и твоей матери, знает, как зовут твою сестру и ее мужа, что живут в Хайфе, знает, как зовут твоего брата и имя его жены из Иерусалима, ее родителей, и все адреса и телефоны. Она села со мною рядом и начала считывать их с обрывка какой-то бумаги, чтобы доказать мне бог знает что. Но я держал себя в руках. Вот, сказал я ей, вот если бы спросила меня, я все тебе сказал бы сам, потому что ничего не скрывал и не собираюсь скрывать от тебя. От тебя у меня секретов нет – все открыто и честно. Если бы, сказал я, здесь была бы замешана другая женщина, я скорее всего вынужден был бы прибегнуть к обману, стал бы действовать у тебя за спиной. Ты даже не представляешь, на что идут в подобных ситуациях мужчины, но поскольку никаких женщин нет, я веду себя предельно честно, а потому нет ничего такого, что заставило бы тебя переживать так сильно и обвинять меня в чем-то постыдном. Этого нет – ты согласна? Я тебя не обманывал и не предавал, ни тебя, ни того, что нас связывает. Это не адюльтер… это что-то совершенно иное. Теперь оцени, какую линию поведения я выбрал по отношению к ней. Очень тонкую, очень логичную и в то же время совершенно честную. Что ты об этом думаешь?
– Совершенно верно.
– Правильно.
– Бесспорно. Это именно то, что я думаю.
– Да.
– И без всякого раздражения.
Именно так я ей и сказал. Я веду себя с тобой совершенно честно, так зачем же тебе хочется втянуть во всю эту подноготную детективов? Речь ведь идет и о твоем честном имени тоже. Не жаль тебе, кроме всего прочего, тратить на это деньги? Не сказать чтобы это так уж меня задевало, но не лучше было бы тебе купить на них какие-нибудь украшения или новую модную одежду, а я честно рассказал бы тебе все, что ты захотела бы узнать… Ты слушаешь меня?
– Нет. Не думай об этом. Я должен тебе все рассказать. Потому что она заявила, что хочет понять, чем мы занимаемся… и как это выглядит. Ты меня слушаешь? Это показывает, насколько она чувствует себя униженной. Я сказал ей, что не совсем понимаю, зачем ей это знать. Что чем меньше она знает, сказал я ей, тем лучше она будет себя чувствовать. То, что ты непрерывно об этом думаешь, усложняет – без надобности – и твою, и мою жизнь. Понимаешь… она все время представляет, как… как я… засовываю… это… в тебя… но она не думает, что реальность может просто отличаться от игры воображения… в сторону большой человечности, что ли… как это в большинстве иных случаев и бывает. А это происходит, когда помимо голого факта, который можно увидеть и вообразить, существуют еще и эмоции, и боль… и многое другое, чего увидеть нельзя… Понял ли ты теперь, как последовательно я веду с ней избранную линию поведения? Мою тактику… я вижу, как ты устал…
– Через минуту я закончу.
– Нет, нет, минуты достаточно.
– Я должен завершить мой рассказ. Наиболее знаменитые люди, сказал я ей, прошли через нечто подобное. Самые известные, я даже выучил наизусть – специально для нее – несколько имен.
– Ты уверен, что я сейчас их вспомню? Ну, например, Аристотель.
– Что?
– Аристотель – нет?
– Сократ? А это что еще за тип? Никогда о таком не слышал. И вообще на имена у меня плохая память. Я уверен, что слышал об Аристотеле. Ты сам-то уверен? Я специально пролистал энциклопедию, и…
– Не огорчайся. Я хотел просто привести ей несколько примеров. Для спокойствия. Ты не представляешь, что все это означает для нее. Это как если бы я оказался убийцей. У нее обрушился весь ее мир. Как и у меня. Но она попросту рухнула, в то время как у меня на месте былых развалин пробивается нечто новое.
– Пятьдесят. Что ж… Значит, у нее все уже позади.
– Нет. Все остальное не имеет значения. А потом она стала ругать меня. Говорила такое, чего никогда раньше не рискнула бы сказать. Это было ужасно. Она всегда была тихой, благовоспитанной, сдержанной женщиной, всегда держалась с большим достоинством, пусть даже она не получила никакого образования – ее родителям это не приходило даже в голову. Ультраортодоксальная семья – этим все сказано. Она просто сыпала непристойностями, а кончила тем, что снова зарыдала.
– Я, разумеется, ничего похожего себе не позволил. Она же пригрозила, что обо всем расскажет своим братьям. Их у нее двое. Один, как я понял, – важная шишка.
– Это, я думаю, не имеет значения.
– Почему тебе так важно узнать его имя?
– В другой раз. Ты и так узнал уже слишком много.
– Нет, нет. Как-нибудь в другой раз. Не надо на меня нажимать. Пожалуйста, сделай мне одолжение.
– Я понимаю. Но не сейчас.
– Нет. Ничего. Ничего они тебе сделать не смогут. Но я не хочу, чтобы они обо всем узнали. Потому что об этом узнает вся остальная семья и, что хуже всего, девочки. Для них это будет сильнейшим ударом. Дай мне время, сказал я ей, дай нам обоим достаточно времени, чтобы перевести дыхание. Прийти в себя. Тогда посмотрим. Но я вижу, ты совсем без сил. Вернись в постель, а я посижу рядом.
…Что?
– Это на самом деле тебя интересует?
– Для тебя это должно звучать как шутка. А я – что я могу сделать? Если хочешь, дорогой мой, можешь надо мной посмеяться.
– Нет, нет. Если тебе смешно – смейся. Почему бы нет? Мы это вполне заслужили. Мы ведь принадлежим к другому поколению, к миру, о котором ты ничего не знаешь. Сколько лет твоему отцу?
– Пошел шестьдесят пятый? Ну так я не так уж от него отстал. И откуда мы сюда прибыли… Если бы мой отец вдруг ожил, он снова захотел бы оказаться в… Ты станешь причиной смерти всех нас.
– Ну, не сердись. Я не имел в виду персонально тебя. Это следует понимать так… даже если все это правда, что… что все это время я носил это в себе… и если бы я не встретил тебя, это никогда бы не пошло дальше смутных желаний чего-то, что не имело еще имени… осталось бы в области желания, но не пошло бы дальше воображаемой возможности, не превращаясь при этом в объект для пошлых шуток… Но внезапно случилось нечто невероятное…
– Ты действительно хочешь?
– Внезапно. Именно. Ты веришь мне?
– Неожиданно она захотела… да, заняться со мной любовью… нет, что ты, не потому, что… просто ей захотелось проверить меня… Что?
– Совершенно верно. Провокация.
– Да, безусловно. Что?
– Нет. Как бы я смог? Это неудачная шутка. Я сказал ей… Я пообещал ей заняться этим завтра.
– Я не хотел ее оскорбить, потому что это было бы ужасным ударом по ее гордости. И я… не стал… заниматься этим с ней… и уже несколько месяцев, как я… даже когда я сам мучался тоже… меня испугало, что если… даже просто… ее груди… ох… когда я увидел, как она… я просто испугался их. И тогда я сказал ей, что с радостью завтра… но сегодня вечером абсолютно не… потому что и этот театр, и твои слезы, и наша перебранка – все это убило всякое желание. А завтра я снова буду в наилучшей форме. Я прилагал все силы, чтобы быть с ней максимально мягким, потому что был уверен, что на самом деле она этого вовсе не хочет. Но я не хотел, чтобы она почувствовала себя отвергнутой. И вот внезапно она поверила мне и больше не произнесла ни слова. Я помог ей улечься в кровать и дружески обнял ее. Похоже было, что в этот вечер она исчерпала уже все свои силы, все до конца, – я понял это по тому, как она мгновенно уснула. И тогда я достал ее сумочку и нашел там фотографию… одну из тех, что детектив…
– Подожди минутку… вот она…
– Ты ничего не замечаешь? Какие отвратительные профессии существуют еще в мире!
– Я полагаю, что это должно быть в самом центре… на улице Алленби… Там еще такая лавочка около отделения банка «Апоалим», ты ее знаешь?
– Ну да… Абсолютно точно. Но чью это руку ты там держишь? Кто этот человек? Я его знаю?
– Кто?
– Впервые от тебя слышу. Кто он? Посмотри, как он прилип к тебе.
– Нет, просто… Мне показалось странным, что вы стоите так посреди улицы. Он на тебе просто повис.
– Нет. Я имею в виду, что в центре города, вот так… словно напоказ… Это выглядит так, словно… как давно ты знаешь его? И есть ли у него семья?
– Нет. Я имею в виду жену… детей… ты никогда не упоминал при мне о нем. Я просто хочу понять, что он из себя представляет. Как часто ты встречаешься с ним? Где он работает?
– Просто так. Но это меня несколько настораживает. Сам не знаю почему. Обычная глупость. Вот так, внезапно, увидеть на фотографии рядом с тобой новое лицо. Я ужасно устал…
– Я ничего от тебя не хочу. Это потому лишь, что внезапно мне… Ты понимаешь… я почувствовал, что ревную… ну вот… пожалуйста, извини, прости мне, Цви… дорогой мой… любовь моя… понимаю сам, что это нелепо… но я не смог заснуть… внезапно я за тебя испугался…
– Нет… да… испугался… не смейся…
– Нет… Но весь день ни о чем другом не мог думать… даже при всем моем доверии… даже сейчас не могу справиться с этим… даже мысль о тебе и… так на меня сильно действует… просто дьявольски…
– Нет… извини меня… нет… пожалуйста, постарайся понять… я ведь прошу прощения. А тут еще деньги, что я тебе дал. Это тоже меня испугало…
– Но до этой минуты я ведь ни разу об этом даже не заикался, разве не так?
– Нет, но разве не так? Скажи сам.
– Совсем наоборот. Испугало меня то, что я сам не знаю, как долго я могу ждать, когда ты… тебе…
– О каком займе ты говоришь? Цви, дорогой мой, ты ведь знаешь, что никогда не сможешь их вернуть.
– Нет. Я знаю это совершенно точно. Не сможешь.
– Ну хорошо, хорошо. Если тебе так легче. Сможешь. Для меня это не имеет значения… но это не так. Я прошу тебя только об одном – думай обо мне. Я проваливаюсь в бездонную яму… и не знаю, удастся ли мне выбраться из нее. Все, что случилось, боюсь, мне не по силам. Так что не огорчай меня еще. Меня тянет к тебе… слишком сильно. Это опасно. Разреши мне идти своей дорогой… не заставляй становиться твоим рабом. У меня ведь есть дом… семья… дети… ответственность… А ты ведь во всем, что случилось… такой специалист…
– Нет… Конечно, в этом ты не виноват. Но я чувствую, ты опытный игрок в такого рода… может быть, ты и молод, но опыта у тебя более чем… более чем…
– Нет. Прости меня… я просто делюсь с тобой своими… подобные связи… по сравнению с тобой я просто ребенок… и все границы, которые… внутри меня что-то рухнуло… так, словно никаких правил больше нет. И я боюсь даже рот раскрыть… боюсь спросить… потому что чем больше я узнаю, тем больше будет моя тревога. Кто мог бы даже подумать несколько месяцев тому назад, что я буду тебя ревновать? Я думал, это будет просто интрижка, такая вот легкая любовная авантюра… небольшое развлечение… но никогда бы не подумал, что я дойду до такого… что зайду так далеко. Если бы не это, все сейчас в моей жизни было бы совсем иным… но я увлекся тобой… А теперь больше всего на свете хотел бы оказаться запертым с тобою в этой комнате…
– Клянусь тебе, я не знаю. Я влюбился не только в тебя – во всю твою семью точно так же. Я был очень тронут, когда ты взял меня с собой во время визита к своей матери в больницу. Равно как и тем, что ты не постеснялся показать ее мне, позволил увидеть вас вдвоем. И все то, что с вами случилось… и вот еще что – меня очень заинтересовал твой отец. Сам даже не понимаю, что со мной происходит. Может быть, я попросту влюбился во всех вас? Как ты думаешь, такое может быть? Скажи мне… я полагаю, о таких вещах ты можешь судить лучше меня. Я знаю, я у тебя не первый, вполне может быть, что у тебя есть еще несколько подобных Кальдеронов в других банках… это ведь возможно? Ты меня просто убиваешь. Чего ты хочешь от меня? Просто денег? Скажи мне. Или сейчас ты просто не хочешь об этом говорить? И перестань улыбаться…
– Нет. В глубине души. Я чувствую, что все это время, пока я здесь, ты надо мною смеешься.
– Я, наверное, сошел с ума, что веду с тобой такие разговоры. Да и уже наступило утро…
– Совершенно верно.
– Да, но как ты вычислил меня? Откуда ты мог знать? Ты только раз или два видел меня в банке и уже понял, что это… сидит во мне. И затем, когда вечером мы вышли перекусить, ты с абсолютной уверенностью, прямо в кафе, положил мне свою руку на брюки. Как ты мог знать? Я уже не в первый раз спрашиваю тебя, но ты еще ни разу мне не ответил.
– Нет, нет, больше я об этом не хочу.
– Да. Извини. Я зашел слишком далеко.
– Прекрасно.
– Все в порядке… все хорошо.
– Не скажу больше ни слова.
– Нет.
– Правильно.
– Возможно.
– Нет.
– Да. Дело вот в чем. То, что я рассказал тебе о наших банковских делах, граничит с уголовным преступлением. Если это выплывет наружу, они вышибут меня из банка и засунут в самое дальнее отделение… и будут правы. Блейхер всегда предупреждал насчет болтовни… потому что самым ценным во всех этих транзакциях является элемент неожиданности… стоит кому-нибудь проболтаться, как ты теряешь все преимущества внезапности. Поэтому он так любит окружать себя сефардами. Знает, что нам он может доверять… ведь ты как никто умеешь держать язык за зубами.
– Нет. Нет… никакого предубеждения… минутку… ты меня не так понял…
– Нет. Он сказал это, ничего конкретно не имея в виду. Это… это…
– Нет. Но таковы правила поведения. По большому счету он прав. Если он узнает о нас с тобой, он прежде всего решит, что меня шантажируют…
– Нет, постарайся понять…
– Нет, пожалуйста. Попробуй понять…
– Нет, я вовсе не имел этого в виду. Прости меня…
– Нет. Просто мне… дорогой мой… любимый…
– Ты уже говорил мне это, и я запомнил каждое слово… и я верю, верю тебе. И хочу верить дальше. Но и ты должен понять. Даже если бы я не сказал ни слова. Я слежу за тобой… Так, как моя жена следит за мной.
– Минуту… одну лишь минуту… Выслушай меня, мой дорогой… на самом деле ведь ты не обязан ходить на какую-нибудь работу…
– Нет, одну минутку… о боже… что на самом деле представляет из себя эта инвестиционная компания, в которой ты… Это фикция, это ничто. Я пригляделся к ней…
– Еще минуту. Я прошу тебя выслушать меня. Я просто падаю с ног. Продолжай и постарайся меня разубедить, если сможешь. Продолжай, откуда закончил…
– Это все не имеет значения. Но у вас нет капитала. Ачто это еще за тип, этот Гилад, на которого ты работаешь? Мелкий биржевой жучок. Человек, который ухитряется урвать немного акций здесь, немного там, стараясь, чтобы его хоть как-то заметили и приняли всерьез. Создает оптическую иллюзию – вот что он делает. Не то чтобы я думал, но…
– Ну постой минутку. Выслушай меня…
– Все это мне знакомо. Но поверь мне, в таких делах я профессионал. Специалист. О таких, как он, я знаю все. И таких инвестиционных компаний видел не одну и не две. Они возникают и исчезают, словно мухи. И никакого будущего у них нет.
– Я не говорю о криминале. Я говорю – у них нет будущего, а это невольно толкает в криминал. Но сказать по правде, это вовсе не мой бизнес. Это потому лишь, что я сам задаю себе подобные вопросы… меня сводит с ума беспокойство, потому что, может быть, ты связываешь это со мной… что все это… иначе почему ты так или иначе… почему ты… со старым полуживым человеком вроде меня… морщинистым…
– Нет, еще минуту… Но ведь, может, ты всего лишь хочешь получить от меня информацию… для…
– Закрытую. Внутреннюю информацию.
– Помолчи. А теперь слушай меня. Я не боюсь. Я никогда не говорил тебе, что не дам ее тебе. Скажи мне только, для чего тебе все это нужно. Я уже сказал, что не боюсь. Я дам тебе все, что хочешь, даже если окажется, что тебе это нужно для…
– Нет. Извини. Минуту…
– Да, шш-шш… извини… я буду говорить потише… но все-таки для чего тебе все это знать? Я могу устроить тебя на хорошую работу в одном из наших филиалов. Для начала получать ты будешь не слишком много, но устроен ты будешь очень надежно, а я прослежу, чтобы твое продвижение вверх не затягивалось. Все будет происходить под моим неусыпным наблюдением. Держись меня, и я буду заботиться о тебе, как о собственном сыне… потому что таковы мои чувства к тебе… как если бы ты был… в таком возрасте… а кроме того… после всего… но я тебе уже однажды это говорил…
– Да. Я ухожу немедленно.
– Нет. Ухожу. Я и так уже не дал тебе уснуть. Дорогой мой… самый любимый… самый желанный… О боже, посмотри, как я декламирую… что я так напыщенно несу. Я не могу понять, что со мною стряслось, каким образом я оказался здесь, у тебя, далеко за полночь. Я, который обычно уже лежал бы в своей постели в девять тридцать после передачи вечерних новостей, в пижаме, которая на мне уже в восемь. Так дальше продолжаться не может, извини меня, я клянусь, что никогда больше не буду плакать в твоем присутствии… а вот теперь я начинаю опять… не могу удержаться от слез… все время. Замри… и не двигайся.
– Не двигайся. Он на самом деле здесь.
– Я вижу его!
– Мышонок, ха-ха-ха.
– Да. Он бежит у тебя за спиной по кухонной плите. Клянусь, он остановился, чтобы взглянуть на нас. Ты был прав.
– Замри и не шевелись! Не испугай его. Боже, он совсем большой. Может быть, даже это крыса. Или очень старая мышь. Он смотрит на меня…
– Он на самой плите или за ней, ха-ха-ха.
– Почему это кажется тебе забавным?
– Ты полагал, что он живет в шкафу. Но они больше любят плиты.
– Уверен, что они не боятся жары.
– Нужна мышеловка и кусочек сыра.
– Оставь это мне. Это мое дело.
– И мое. Но это будет означать убийство, я хотел бы просто поймать его. Я приду еще раз сюда ночью и поймаю его для тебя. Это настоящая мышь, ха-ха…
– Но все-таки большая. Слишком. Сам не понимаю, что меня так рассмешило. Ха-ха-ха-ха. Мышонок…
– Да, шш-ш-ш… А сейчас я ухожу. А что бы ты сказал, если бы мы немножко… это так подняло бы мое настроение… я бы занялся этим сейчас… можно было бы… быстро и потихоньку…
– Твой отец? А… да… но…
– Я понимаю.
– Бесшумно… это заняло бы минуту, максимум две…
– Я понимаю. Ну а если мы плотно прикроем дверь. Он давно уже крепко спит.
– Нет. Я понимаю. Все хорошо.
– Я мог бы сделать это сам. Если ты на это согласился бы… я мог бы… ты можешь даже уснуть за моею спиной. Все, что мне нужно, это твоя рука…
– Это не потребовало бы много времени. Я… совсем неслышно. Мне сейчас так плохо. Что?
– Ты только разреши мне лечь с тобою рядом. Чтобы я мог видеть… пусть даже в пижаме… можешь даже ее не снимать… только чтобы почувствовать тебя… я буду, как птичка. Эта ночь пробудила во мне еще большую страсть… какие-то ужасные желания… меня всего трясет. Какой это ужасный возраст! Это подобно тому, как если бы чувствовал приближение твоего последнего часа. Может быть, именно с этим связано такое нетерпение… теперь я так понимаю твоего отца. И здесь ничто не связано с физической формой. Это чисто психологическая потребность… что ты сказал?
– Я не собираюсь давить на тебя.
– Забудь об этом. Ты убиваешь меня. Кончится тем, что ты меня прикончишь… но не беспокойся… Не важно. Кончится тем, что я слягу с какой-нибудь неизлечимой болезнью… я уже чувствую ее у себя… но скорее всего я закончу тем же, что твоя мать…
– Ладно. Ладно. Ты сейчас бросаешь меня на целую неделю. А кроме того, у тебя столько проблем, связанных с отцом.
– Постараюсь выжить. Но я подумал… В доме ее брата, как и все последние тридцать лет. Вся семья собирается вместе. Я просто цепенею при мысли, что будет, заподозри они, что у нас что-то не так. Боюсь, что это может оказаться для меня последним седером. И петь я тоже должен вместе. С каждым годом это длится все дольше и дольше, потому что с каждым годом ее братья становятся все более религиозными. Ну да ладно, выкинь из головы.
– Правильно.
– Да…
– Забудь об этом.
– Всю свою жизнь я прожил в одиночестве, можешь мне поверить…
– Всю свою жизнь. Забудь…
– Нет, я не это имею в виду. Это означает, что я был хорошим парнем всю свою жизнь. Был достойным мужем, отличным отцом, преданным дядюшкой, уважаемым членом семейного клана – а теперь, когда я захотел небольшого перерыва для собственных моих дел, все яростно ополчились на меня. Цви! Цви… ты спишь…
– Да, ты заснул.
– Уже три. Отправляйся в постель. Я закругляюсь. Останусь пока еще чуть-чуть на пару с твоей мышью. Ха-ха-ха! Может, мне удастся обнаружить, где ее нора. Похоже, что она обосновалась прямо здесь. А ну, марш в постель… и выключи свет. А я посижу в темноте.
– Что?
– В банке. А почему ты об этом спрашиваешь?
– Позвони мне в банк. И если ты еще хочешь эти акции… Дай мне знать. Я застолблю их за тобой.
– Прекрасно. Поговорим об этом завтра. Я имею в виду – сегодня. Не забудь, что это пятница. Я работаю до часа.
– Когда?
– Ты хочешь обождать меня внизу? Я знаю, где это.
– Без проблем.
– Давай пока не будем об этом. Умираю, хочу узнать, что ты с ним делаешь. О чем вы говорите? Может быть, хотя бы изредка – обо мне?
– Понимаю. Ты думаешь, что время от времени он мог бы к нам присоединиться?
– Хорошо. Здесь есть о чем подумать. Подумай, что к чему.
– Целый день?
– Когда он возвращается?
– Нет. В Америку.
– Ш-ш-ш. Как ты такое можешь говорить?
– Не жди, что я тебе поверю.
– Что???
– Как у тебя только язык поворачивается. Даже подумать о таком. Если бы слова могли убивать, на земле уже никого не осталось. Ты не в себе. Отправляйся в постель. Я не желаю работать в праздничный день. Если хочешь, я могу отвезти тебя на север.
– Этим утром.
– Подумай хорошенько. Я буду только рад сделать это для тебя.
– Отлично. А теперь – спать. В конце концов, у нас для связи есть телефон. Спасибо за компанию. За проявленное, так сказать, терпение. Ты был ко мне так добр… Клянусь, я постучусь, как воробушек, и ты сразу проснешься…
– Иди же наконец спать. Впереди тебя ожидают нелегкие дни.
– Не беспокойся об этом, выключи лучше свет. У меня есть ключ. Когда буду уходить, дверь закрою. Ты что, не помнишь, как сам дал его мне месяц назад?
– Я знаю, что вернул его. Но я сделал для себя дубликат.
– На случай, если ты вдруг заболеешь и не в состоянии будешь подняться с постели.
– Разреши мне пока что оставить его у себя. С ним я чувствую себя много лучше. Я никогда не позволил бы себе войти, когда тебя нет дома. Ты можешь получить его обратно в любую минуту.
– Да.
– Нет.
– Может быть.
– Прекрасно.
– Не волнуйся. Я к тебе даже не прикоснусь. Может быть, если я посижу здесь и подумаю, это меня успокоит. Я снова становлюсь ребенком. Возвращаюсь обратно в детство.
– Спокойной ночи, дорогой. До завтра. Позволь мне в последний раз обнять тебя… последний поцелуй…
– Это не Цви, мистер Каминка, но с ним все в порядке.
– Все хорошо, мистер Каминка. Я его друг. Цви знает, что я здесь.
– Он сейчас заснул, но он в порядке. Мы немного поболтали.
– Нет. Какой Иосиф? Я – Рафаэль Кальдерон. Он никогда обо мне не упоминал? У нас небольшой совместный бизнес.
– Нет, я работаю в банке.
– Я случайно проходил мимо и зашел поболтать.
– Ра-фа-эль Кальдерон. Я заглянул к нему чтобы помочь… ну, например, с мышами…
– Нет, не волнуйтесь. Здесь обнаружилась мышка… ха-ха-ха. Мы сами видели ее пару минут назад. Цви обнаружил ее несколько раньше… с неделю… но никак не мог понять, где она прячется. А я сказал ему, что самое верное – это дождаться ночи и в темноте… его немного подташнивало, а я к таким вещам, как мыши, отношусь спокойно. Я вырос в старом еврейском квартале в Иерусалиме – и там никого мышами не удивишь…
– Да, обыкновенная мышь. Ничего особенного. Если хотите знать мое мнение, она живет здесь уже достаточно давно. Что, однако, странно, ведь надо было добраться до третьего этажа. Ведь это третий?
– Собака?
– А, собаку мы там видели. Я ее запомнил.
– В больнице.
– Я подвозил туда Цви во вторник.
– Кальдерон. Рафаэль Кальдерон.
– Нет. В их разговоре не участвовал. Стоял в стороне. Тогда-то я и обратил внимание на собаку. Большой жирный пес со спутанной шерстью.
– Да. Точно. Я подумал, что это больничная собака и она хорошо к нему относится.
– Она жила здесь? Тогда здесь не должно было быть мышей. Пес бы их распугал.
– Конечно. Как давно вы владеете этой квартирой? Если вы простите мне мое любопытство…
– Ну, хорошо, кое-что прояснилось. Но пожалуйста, не позволяйте мне надоедать вам. Уже очень поздно, и нет никаких шансов сейчас поймать эту мышь.
– Около трех. Что вы имеете в виду?
– Ваша жена? В каком смысле?
– Нет. Я держался в стороне и ничего не слышал. Я ничего об этом не знаю. А в чем проблема?
– Да. Цви несколько туманно упоминал… вы прибыли, чтобы разойтись?
– Прошу прощения?
– Да. Получить развод. Что-то в этом роде. Я никогда всерьез не обсуждал это с ним. А тогда я просто подвез его, потому что наш общественный транспорт…
– Каким образом?
– Я ничего не заметил. Она говорила довольно рассудительно. Поначалу я даже не представлял, где мы находимся. Я подумал было, что это нечто дома для престарелых, может быть хостес или что-то в этом роде. Я плохо знаком с севером страны, просто почти ничего не знаю…
– Да. Да. Под конец я все-таки сообразил, что это не дом для престарелых.
– Из Иерусалима. Старая иерусалимская семья. Третье поколение.
– Совершенно верно. До кончиков пальцев сефарды, можно сказать.
– И она тоже? Впервые слышу. Никто об этом даже не обмолвился.
– Половина? Со стороны матери? Как я этого не почувствовал? Я чувствую это всегда. Мне бы никогда это в голову не пришло… она абсолютно не похожа… как вы сказали?
– Не могли бы вы повторить…
– Так… Абрабанель. Ну, конечно. Весьма известная фамилия.
– Из Сафеда? Но подобная же ветвь имеется и в Иерусалиме. Как удивительно. Цви ни разу не обмолвился об этом ни словом. Это объясняет мне кое-что и обо мне самом. Значит, Цви является тоже в каком-то смысле… очень интересно! И очень приятно.
– Прошу прощения? Нет, я только…
– Моя речь? В каком смысле?
– Это странно, мои девушки тоже говорят мне, что я выражаюсь немного странновато.
– Иврит тоже, но не только. У меня была бабушка, которая говорила только на ладино[5].
– Исключительно иврит. Да, две девчонки.
– Они уже выросли. Сам не знаю, почему до сих пор называю их девчонками.
– Пошел двадцать третий. Они близнецы. Красивые, с прекрасной кожей, вам и в голову не придет, что они родились на Ближнем Востоке. А кроме того, они блондинки.
– К сожалению, я так и не был благословлен сыном.
– Прошу прощения?
– Характерное для сефардов? Не уверен, что сами сефарды так думают. Я полагал всегда, что все мы говорим на иврите.
– Как это? Я никогда не замечал.
– Да. Мы всегда обращаем внимание на то, как говорим. И на дикцию.
– Смешивание? Возможно, вы и правы.
– Я никогда не обращал на это внимания. В голову не приходило. Каждый говорит так, как привык с детства. Тут вы правы. Сегодня перемешалось все на свете. Мы живем сегодня в мире, где все перемешалось со всем.
– Только сейчас. И потому, что вы об этом упомянули. Сам я никогда о таком не задумывался.
– В основном – газеты. На книги у меня нет времени. Цви говорил мне, что ваша специализация – ивритская литература и сам иврит. Этим я объясняю вашу чуткость к слову.
– В отделении инвестиций. «Барклайс банк». Это один из филиалов банка «Дисконт». Но мне не по себе, что я держу вас тут. Просто некрасиво. Говорю честно. Цви говорил мне, насколько утомил вас перелет из Америки. Я помню, как он звонил своей сестре в Хайфу в воскресенье, звонил несколько раз, и каждый раз ему говорили, что вы все еще спите.
– Вы уверены?
– В любом случае эта ночь для меня потеряна. Совсем разучился спать. Чем позднее я засыпаю, тем раньше просыпаюсь. Из чего никак не вытекает, что из-за меня и вы не должны ложиться…
– Да. Ночь действительно жарковата. Внезапно резко потеплело, просто как летом. Подумать только – ведь прошлой ночью дождь лил как из ведра.
– Чай? Запросто. Сейчас поставлю воду.
– Да, да. С этой кухней я знаком. Я уже говорил этим вечером Цви, что вы, русские, любите попить чаю ближе к полуночи. А мы пьем чай, только когда подхватим простуду. А наш напиток – черный кофе.
– Нет, ничего страшного. Я все сделаю. Я точно знаю, где здесь что лежит. Есть, кстати, немного печенья в шоколаде, что я принес вчера. Но может быть, вы предпочитаете пить чай без компаньонов? Тогда я отправляюсь… мне просто не по себе, что я лишил вас сна…
– Вовсе нет. Для меня – огромное удовольствие сидеть здесь вот так с вами.
– Большое спасибо. Насколько я помню, вы собирались пробыть здесь около недели, не так ли?
– Да. Я помню. В субботу вечером. Мне страшно любопытно, как вы нашли страну в этот приезд… и что вы о ней думаете?..
– В каком смысле?
– Это очень интересно. Похоже, что вы правы. Когда человек живет здесь, он не замечает перемен.
– На самом деле?
– Да, вся эта грязь… бесспорно…
– И это тоже. Но не забывайте, что это всего лишь половина мира. Люди не слишком-то склонны верить политикам. Я, к примеру, ничего в политике не понимаю. В общем и целом я правительство поддерживаю, каким бы оно ни было. И страшно злюсь, когда кто-то предпринимает попытки устроить переворот…
– Да, то, что у нас сейчас есть… хотя я должен сказать…
– Да, выглядит мрачновато. Ощущение безвыходности…
– Да. Но в основном это все слухи. Поверьте мне, народ купается в деньгах. Я знаю это по тому, куда они вкладывают деньги. А не по тому, что они при этом говорят. Если бы это не было закрытой информацией, я мог бы с помощью одного только карманного калькулятора показать вам, какие деньги обращаются в стране и кто стоит за их движением. Некоторые из них числятся в списках получающих пособие по прожиточному минимуму. Я знаком с продавцами фалафеля, которые приходят в банк, приносят чемоданы, полные пятисотфунтовых купюр, пропахших прогорклым маслом. Вот почему я не слишком склонен к критике…
– Да, это верно, кому-то приходится страдать.
– Надеюсь, нет.
– Мы – надежные, старомодные сефарды, не то что эти смутьяны из Северной Африки, с которыми нас иногда путают… Но мы совсем на них не похожи. Они просто дикари… иногда их показывают по телевидению, и нам стыдно, что в нас течет та же кровь. Когда испанцы и португальцы изгнали нас, кто-то осел в Тунисе и Марокко, а мы превратились в хорошо организованный средний класс. Вы найдете нас в основном в банках, среди работников правосудия, в полиции… Не на самом верху, но на весьма респектабельных позициях. Везде, где осталась хотя бы видимость законности и порядка. Это возвращает нас к временам Турецкой империи и владычеству в этих местах Британии, когда требовалось заполнить административные посты честными людьми. Справедливыми чиновниками. Вот такими мы и были. Это те места, где мы можем показать себя с лучшей стороны. Я как-то сказал Цви, что это создание сионизма, называющееся Государством Израиль, слишком объемно для нас, слишком перегружено военной мощью. Мы больше привыкли к более медленному движению истории, к турецкой, скажем так, ее поступи в британском оформлении.
– Да. Я знаю, что несу чепуху. В наше время все страны похожи друг на друга. Даже Турция, которая, кажется, отделилась от общего потока – я читал об этом в газетах, – сталкивается с теми же проблемами, например, все освещение Стамбула каждый вечер отключается на какое-то время, погружая город во мглу. И мне кажется, что еще только в Британии…
– И в Британии тоже? Надо же… Ну так что… это значит, что у всех есть основательные причины для недовольства…
– Примерно полгода назад. Мы встретились в банке.
– Да. Это что-то вроде инвестиционной компании.
– Его босса зовут Гилад. Вы, случайно, с ним не встречались?
– Ну да, конечно, вас ведь не было в стране. Я совсем забыл. Я сам столкнулся с ним пару раз. Молодой, энергичный паренек, знающий, как вести себя на рынке. Я очень надеюсь, что он не натворит глупостей. Беспокоюсь за Цви… Все эти крошечные фирмы склонны к неоправданно большому риску, но иногда они, что называется, «выстреливают». Будем надеяться, что с этой может произойти нечто подобное, кто знает? Проблема в том, что рынок акций сейчас так волатилен…
– Я думаю, что голова у Цви хорошая. И он готов учиться. Часто он задает мне хорошие вопросы. И у него развито воображение, что важно тоже. Но человек, связавший свои надежды с биржей, должен обладать двумя важнейшими качествами – опытом и терпением. А кроме того, развивать в себе шестое чувство.
– Конечно. И это тоже.
– Ну, нет. Это не наука. Трудно придумать что-либо более далекое от науки. Человек биржи должен обладать шестым чувством. Чувством, которое подсказывает ему, какие бумаги надо держать, а от каких избавляться. Во что следует вложить капитал, а от чего бежать. Израильский рынок ценных бумаг слишком мал. Кто только на нем не пасется. Огромная толпа любителей то приливает, то уходит, как вода во время отлива… поверьте, профессионалам от этого – одна головная боль. Инфляция ведет к оптическому обману – прибыль кажется огромной, а на самом деле едва видна. И чаще всего игра не стоит свеч. Правда, я не знаю, насколько вы искушены в подобных вещах.
– В Америке? В Америке совсем другое дело. Там у вас водятся большие игроки. Аферисты высшего класса, хладнокровные сукины дети, способные поставить все свое состояние, словно в рулетке, на один номер и с безмятежным видом отправиться в бар пропустить глоток-другой в то время, пока шарик крутится. Евреев среди них почти нет, у них – другая специализация. Рынок ценных бумаг необъятен, места хватает всем. Акции могут внезапно рухнуть… почти до нуля, до самого дна… а потом так же необъяснимо взвиться вдруг ракетой до самых звезд. Мы здесь более осторожны. А кроме того, правительство здесь любит вмешиваться абсолютно во все. Оно внезапно может пожалеть какую-нибудь компанию, потому что она расположила часть своих предприятий в депрессивном районе, или внезапно может оказаться, что один из директоров служил когда-то под началом министра. А потому вся биржа состоит из стопроцентных психопатов, потому что даже гений не может у нас в Израиле предугадать, что ожидает его на следующее утро. И все мы боимся делать большие ставки, потому что не уверены, не ведется ли игра краплеными картами. Верить нельзя никому. Я не слишком крепко заварил вам чай?
– Колотый сахар? Есть, конечно, – вон там, в шкафчике. Цви любит сосать его, когда пьет чай. Вот, пожалуйста. Это то, что вы имели в виду?
– Нет. Но я бываю здесь часто… и тоже пью чай… вот так, держа кусочек сахара во рту. Я слышал, что русские называют это «вприкуску». Цви сказал… я думал, он научился этому от вас.
– Да. Да. Похож на вас как две капли воды. Я уже сказал ему об этом. Я, кстати, с годами тоже все больше и больше начинаю походить на своего отца, да почиет его душа с миром. Думаю, что у всех рано или поздно начинают проявляться родовые черты.
– Верно.
– Совершенно точно.
– Прошу прощения?
– Да. Цви говорил мне. Это и в самом деле хорошая квартира. Сейчас она потянет, думаю, не на один миллион. Превосходное расположение… и сколько угодно людей с деньгами, которые хотели бы вернуться в город, готовых потратиться даже на капитальный ремонт. Как далеко отсюда расположено море? Сотня метров? Тут придется поработать. Без женской руки здесь не обойтись…
– Как это?
– Да. Цви в этом не силен. Впрочем, чего вы можете в наши дни ожидать от молодого человека?
– И все-таки…
– И все-таки. Не следует преувеличивать. Он не выглядит на тридцать.
– Продать? Для чего?
– А…
– Понимаю.
– Я понимаю. Все ясно. Если вы разрешите мне высказать свое мнение, то в принципе я могу это сделать прямо сейчас. И вот что я скажу вам: «Нет». Не рекомендую. Ни в каком виде. Нет, нет и нет – ни по частям, ни целиком. Просто «нет» – раз и навсегда, если вы меня об этом спрашиваете.
– Да, да. Я знаю. Слышу об этом каждый день… огромное количество удивительных историй, таких и этаких и о тех, кто загреб на этом кучу денег, и о тех, кто потерял последнюю рубашку…
– Да. И такое я слышал тоже. Но я в подобных ситуациях скорее консервативен. Квартира, в которой вы живете, это не только деньги. Это дом.
– Возможно, это и так… но я сам подумал бы дважды и трижды, прежде чем…
– Автомобиль – это несколько иное. Поймите меня правильно. Машина – это что-то совсем другое. Когда я вижу открывшуюся возможность для удачной инвестиции, большинству из своих клиентов я говорю так: «Ловите момент. Продайте машину или драгоценности и даже фамильное серебро без малейших колебаний. Но не квартиру».
– Да. Но, несмотря на все, это дом, и вы никогда не можете знать…
– Но почему?
– А!
– А.
– И Цви?
– A.
– Вы полагаете, ее когда-нибудь освободят?
– Ага.
– Прошу прощения?
– Каким образом?
– Я… Ух!
– Прошу прощения?
– Нет… Все сначала?
– Да. Что-то в этом роде… Я имел в виду… я не был уверен, знаете ли вы об этом или нет… набраться смелости…
– Прошу прощения?
– Да. Я немного испугался. Я не был уверен в том, знаете вы что-нибудь или нет. И когда внезапно…
– Я понимаю.
– Я не знал.
– Я совершенно не знал.
– Я много думал об этом. Непрерывно.
– Понимаю.
– Сейчас я понял…
– Я вижу. Спасибо вам…
– Я не знаю. Внезапно я испугался… за Цви…
– Еще подростком? Понимаю. Я предполагал это…
– И ваша жена тоже? Как интересно!
– Вся семья… я понимаю. Мне так хотелось бы услышать об этом немножечко больше. Это просто завораживает меня. Ну а остальные… они счастливы в браке?
– Нет. Я имел в виду, все ли у них нормально.
– Да. Он говорил мне об этом. Я не имел удовольствия познакомиться с ним, но мне сказали, что он очень одаренный… Кажется, он читает лекции в Иерусалимском университете?..
– Нет.
– Да.
– Нет.
– Да. Естественно, я думал, что вы должны кое-что знать. Я не представляю, что вы об этом думаете… и тем не менее… когда вы так неожиданно возникли из темного коридора… я испугался…
– Рад это слышать.
– Это исключительно разумный подход… элегантный, если можно так сказать, взгляд на вещи. Очень тонко и чертовски человечно.
– Да. Мне очень приятно это слышать. Большое-большое спасибо.
– Я знаю. Это только легко сказать. Но если бы, мистер Каминка, я оказался на вашем месте… я… ладно, не будем об этом. Я – новичок во всем этом. До недавнего времени я с трудом мог себе представить, что подобное существует. Я никогда… это Цви познакомил меня со всем этим… Все это так ново для меня… В мои-то годы… вот почему я мог показаться вам таким нервным, едва ли не ненормальным. Все это последнее время в моей жизни – сплошной поток эмоций… ведь абсолютно все оказалось неведомым мне…
– Всего лишь несколько месяцев тому назад… после осенних каникул… До того я был абсолютно нормален. Я даже не знал, как я смогу сделать это… не догадывался, что это сидело во мне давным-давно. Даже просто как возможность. И только сейчас, когда все вырвалось наружу, я, оборачиваясь на свое прошлое, могу увидеть все признаки этого с тех пор, как осознал, что… Так что все случившееся со мной оказалось чудовищным сдвигом.
– В банке. Ему доводилось заглядывать в мой офис, поскольку у его фирмы были с нами общие дела. Иногда он присутствовал на переговорах и слышал, как и что я говорю.
– Лишь несколько дней тому назад.
– Нет. Только моя жена.
– Это оказалось настоящей трагедией. Вы в состоянии это понять. Ужасно тяжело. Невероятная трагедия, да. Такая беда.
– Нет. Абсолютно исключено. Это было бы концом жизни для нее и для меня, для нас обоих. Такого я не могу даже представить. Я никогда не смогу бросить ее. Да ее семья просто меня убьет.
– Прошу прощения?
– Я не знаю. В глубине души я надеюсь, что рано или поздно сумею это преодолеть. Что происходящее сейчас – это просто одна из фаз.
– Мне пошел пятьдесят шестой. А родился я в двадцать третьем. Как видите, я ненамного вас моложе.
– Да. Можете себе представить, как это все перевернуло во мне вверх дном. Может быть, в Америке подобные вещи воспринимаются более спокойно. Совсем недавно я прочитал в газете, как обстоят дела… даже среди евреев…
– Совершенно верно. Я слышал о подобной синагоге в Нью-Йорке. Бог безгранично велик, если Он может подобное вытерпеть. Ибо Он может все.
– И не говорите! Ужасно забавно прочитать в вечерней газете о всех тех странностях, что творятся в современном мире, но когда это внезапно коснется самого тебя… когда я начинаю все это обдумывать, я начинаю верить… понимаете, я сам ведь из очень религиозной семьи… мы ревностно соблюдаем все традиции. Разумеется, у нас религия не настолько уж серьезное дело, как у вас, ашкеназов…
– Да, я знаю. Но я думал именно о вас. Персонально. Мы не подходим к подобным случаям с точки зрения иудейской идеологии. И вообще идеи идеологического мученичества нам чужды. Страдальцев во имя отвлеченных идей среди сефардов вы не найдете. И если вы обратили внимание, никто так легко не меняет убеждения, с легкостью переходя из одной партии в другую… Но зато когда дело касается вопросов семьи – тут мы стоим насмерть. И вот я – один из этих людей. Человек семьи. Для нас семья – это все. Это в нашей крови говорит Ближний Восток. Семья и честь семьи. Мы просто помешаны на вопросах чести. Влияние, сила – нас не интересуют, но честь… потому что ее в этой части света никогда не бывает слишком много. За это мы готовы на все… вплоть до убийства… в теории… я имею в виду… я не уверен, что вы хотели бы присоединиться ко мне… но вы ведь меня понимаете… я чувствую, что готов заплакать… прошу извинить меня, мистер Каминка… так уж получилось… наверное, я вам очень надоел…
– Благодарю вас.
– Благодарю от всей души. Такая вот вышла ночь. Никогда еще у меня не было такой ужасной бессонницы. Вы мне поверите, если я скажу вам, что когда Цви рассказал мне о вас, я ответил ему, что я точно такой же, как и твой отец, только еще хуже. Мы из поколения, до самой старости носящего в себе пламя… пожар эмоций, которые заменяют нам что-то иное… в возрасте, в котором происходит в итоге пожар души… пересмотр прежних ценностей. Кризис. Потому что долгие годы мы сдерживали себя, ибо были поколением конформистов. Поколением соглашателей… Вы согласны? А?
– В том смысле, что мы никогда не позволяли себе впадать в какой-либо кризис – так, как это позволяет себе сейчас молодежь и даже более взрослое поколение. А у нас в свое время не было впереди старшего поколения, способного остановить нас в случае чего-то, что сейчас является едва ли не ежедневной нормой для двадцати-, тридцати– и даже сорокалетних, которых мы сами и наша сегодняшняя жизнь разбаловала настолько, что они готовы считать кризисом все, что с ними происходит, – даже если это случается каждый день. Все это так не похоже на нас, вы согласны? Ведь мы в их возрасте не были такими?
– К сожалению, рядом с нами не оказалось никого, кто мог бы это сделать. Старики крепко держали нас на коротком поводке.
– Вы серьезно так думаете? Вы считаете это на самом деле интересным? Я так счастлив, что вы меня понимаете. Я человек не слишком-то образованный. Попросту говоря, неуч. Но я не могу не думать вообще, а когда думаю, то не могу не сравнивать того, что было тогда и что происходит теперь.
– Нет, это совсем не глубоко. Так, не мысли даже, а мыслишки. Самое начало. Что мне хотелось бы понять, так это почему все это новое… внутри нас… почему оно столь могущественно… и так разрушительно… понять, откуда берется вся эта боль, сопровождающая наше обновление… особенно когда я начинаю задумываться, когда с этим столкнутся – могут столкнуться мои девочки. Когда они узнают…
– Но им всего лишь по двадцать два. Что это за возраст – двадцать два? Мой отец, да покоится он в мире, в этом возрасте еще нещадно порол меня…
– Клянусь, это время от времени случалось. Но ведь это девочки. Я говорю сейчас обо всей семье. И о стариках, разумеется, тоже, поскольку они живут с нами вместе. Ваши, как я понимаю, все были убиты или, если кто уцелел, остались в Европе, а раз так, они не обременяют своими проблемами вашу жизнь. Вы живете с ними, если можно так сказать, в мире. Вы по сравнению с ними оказались намного сильнее и можете делать то, что считаете нужным. В настоящее время все связывают с ними лишь ностальгические воспоминания… но это, согласитесь, всего лишь ритуал… В субботнюю ночь вы надеваете кафтан, поглаживаете черные бороды… и все это выглядит довольно мило, но если бы в вашей гостиной вы нечаянно застали несколько десятков тех, кто неведомым образом ухитрился остаться в живых после гетто, – вы просто сошли бы с ума. Получили бы шок. А в нашем доме такое происходит ежедневно…
– Некоторые из них скончались совсем недавно. Пока мой отец не скончался в прошлом году, я виделся с ним практически ежедневно после работы. И мать моей жены живет с женой брата в Иерусалиме… не говоря уже о множестве теток, живущих и здесь и там, которые абсолютно в курсе всех дел, обсуждаемых в течение всего дня по телефону, которым они удивительно быстро научились пользоваться и теперь болтают непрерывно через всю страну. У меня есть одна тетушка, получающая счета за разговоры по телефону не менее двадцати тысяч фунтов в месяц, что равно зарплате директора не слишком маленького банка.
– Если вы принадлежите к той части человечества, которая обожает путешествия. Но это не я. Где мне довелось побывать? Три года тому назад мы провели месяц в Европе, и в конце я не мог дождаться дня, чтобы вернуться. Может быть, этим летом я попробую съездить в Египет на пару недель. Дело в том, что мы едим только кошерную пищу, а это тоже создает дополнительные трудности…
– Да. Я вас понимаю. Бесспорно. Но тогда – куда же? В Европе мы чувствуем себя совсем чужими, пусть даже я говорю по-французски. Но тамошний воздух, атмосфера, все время какая-то серость… кто знает, быть может, вскоре Ближний Восток распахнет для нас свои границы и мы сможем проводить свои отпуска среди арабов…
– Прошу прощения?
– Да. Когда придет Машиях, ха-ха!
– Но не следует совсем уж терять надежду. Если бы они хоть чуточку были более цивилизованны. Не могу выразить, мистер Каминка, насколько вы мне симпатичны. Насколько вы мне нравитесь. Я предчувствовал это с той первой минуты, когда узнал о вашем ожидаемом приезде. Это ведь я привез Цви в аэропорт субботним вечером, но я сам тогда не остался, поскольку не хотел создавать всем неудобства. Да и сейчас я долго сомневался, прежде чем постучать. То, что происходит в вашей семье, я принимаю так близко к сердцу… вчера, когда Цви взял меня с собой, позволив увидеть вашу жену… я был так тронут… я как раз думал тогда, насколько для человека тяжела эта ноша, его семья… и вдруг оказалось, что я в состоянии вынести и еще одну…
– Кто?
– Как его зовут?
– Джид? Он еврей?
– Ах, Жид… Француз.
– Гомосексуалист? Никогда о нем не слышал. Он что – известный писатель?
– Никогда не слышал о нем.
– Что? Он и на самом деле такое сказал? Ну, это уже слишком.
– Хорошо… но это не для меня. Я человек семейный… и из-за Цви… потому лишь, что я так к нему привязался… просто полюбил его… а вот теперь и вы тоже…
– Что я могу сделать?
– Я уверен, что у него есть будущее. Но он должен заглядывать вперед. Меня он тоже беспокоит. Иногда я даже сомневаюсь, подходит ли он для работы на бирже.
– Да. К сожалению, ему свойственно перепархивать с ветки на ветку. Это немного по-детски… но он еще так молод…
– И все-таки…
– И все-таки. Я уверен, что полезнее всего ему было бы поработать на каком-то определенном месте в банке. За банковским делом – великое будущее. Я мог бы найти ему такое место и следить за его продвижением… незаметно, с высоты своего положения… и не надо меня недооценивать, в банке я – сила… и одно мое слово весит очень много. Я мог бы заботиться о нем… подобно отцу… словно родной его отец… потому что, в конце концов, вы так далеко… в настоящее время, я имею в виду…
– Прошу прощения? Еще раз, пожалуйста?
– Да. Я одолжил ему некоторые суммы… одни раньше, другие позже… чтобы помочь ему преодолеть некоторые сложности, возникшие при транзакциях…
– Да. Меня это тоже беспокоит.
– Не могу в это поверить. Нет. И не говорите мне этого, мистер Каминка, я полностью ему доверяю. Не говорите мне… а кроме того, у меня есть его долговая расписка… и ему всегда будет открыт доступ… нет, нет, не говорите этого… вы пугаете меня…
– Что заставляет вас так говорить?
– Да. Я согласен. Но я не могу ему отказать. Постарайтесь понять меня – ведь у меня сейчас это единственное счастье.
– Не хочу даже слышать об этом. Но буду внимательнее наблюдать за ним. Стану еще больше заботиться. Но разве вам не ясно, что я его люблю… нет… не говорите мне…
– Вы так в себе уверены… так откровенны и прямы. Надо быть настолько смелым, чтобы встать и оставить семью… как это сделали вы. Надо обладать большим запасом дерзости… да, надо быть смелым… и я иногда спрашиваю себя самого…
– Я имею в виду… я не перестаю восхищаться… но не будем больше об этом.
– Я полагаю… прошу прощения… я понимаю, что это не мое дело, но я не могу не восхищаться, даже если развод вам действительно необходим… даже тогда… то есть мне пришло в голову, что имеется в этом случае иная возможность… Хотя, безусловно, это не моего ума дело…
– Прошу прощения?
– Я не понимаю.
– Повторите, пожалуйста…
– Еще раз – простите?
– Вы это серьезно?
– Но как? Вы, должно быть, выражаетесь фигурально? Это такой словесный оборот?
– Что? Я не понимаю. Простите меня… одну минуту…
– Здесь? Где?
– На этой кухне?
– Прошу прощения?
– Нет. Я об этом не знал. Разве что самую малость… Я имею в виду, что я больше не знаю, что я на самом деле знаю о вас, а что мне кажется, что я знаю. Цви говорит слишком много, и я, разумеется, слышу его… даже если это меня не касается… но я слышу… Это его стиль – болтать все, что взбредет на ум. Он так откровенен с окружающими, так несдержан на язык, он говорит с такой уверенностью… но, может быть, это просто признак невиновности, и поэтому вы можете себе такое позволить. Это, может быть, еще и потому, что вы утратили веру в Бога так давно, что ни капли этой веры в вас уже не осталось. Мы просто скрываем суть дела. Только и делаем, что пытаемся спрятать ее. Факт тот, что кое-что я знал об этом, но я думал, что она больше пыталась испугать вас, знаете, как это иногда случается с людьми… что с нею что-то стряслось на мгновение, как может произойти с любым из нас под влиянием сильного стресса. Я уверен, что она не имела этого в виду. Я ведь видел ее… такая изящная женщина… я прошу меня простить за недоверие, но я уверен, что она не собиралась…
– С ножом? Нет, не говорите мне…
– Я в это не верю. Вы действительно думаете так? Я полагаю, она просто взмахнула…
– Где? Да, я видел след… но вы уверены, что это от…
– Понимаю. Прошу прощения.
– Да, понимаю.
– Она должна была оказаться под огромным стрессом. Но кстати… что сказали на это раввины? Ведь нельзя навлечь проклятие на человека, впавшего в грех под влиянием горя…
– Да.
– Это действительно случилось именно здесь? И Цви был тому свидетелем? Как это должно было быть для него мучительно.
– Я слушаю.
– Мне?
– Что бы я сделал? Что мне вам сказать? В конце концов я бы ее простил. Да, в конце концов я бы поступил именно так. Человек должен уметь прощать, мистер Каминка. Нужно всегда думать о возможности прощения. Ведь мы – евреи. И нас на земле осталось так мало… что мы не можем себе позволить… Хотя бы ради детей…
– Я имел в виду ваших детей.
– Это меня не касается, это абсолютно не мое дело. Но поскольку вы спросили… а я так расположен к вам…
– Да, я знаю, что там должен появиться ребенок. Видите сами, что Цви рассказывает мне все. Но что вы можете поделать? Я понимаю ваши проблемы, но у вас нет никакой возможности настаивать, если она откажется, и вот вам мой совет… настаивая на своем, с финансовой точки зрения вы только проиграете. У нее также имеется здесь ее собственность, ее вещи… в шкафу я видел ее одежду. Я понимаю… когда расходишься – всегда трудно добиться того, чтобы все прошло гладко. Но иногда лучше не… О-опс! Она снова бежит. Минутку… не шевелитесь… ха-ха-ха… она появилась снова. Ее норка должна быть где-то здесь.
– Позади вас. Она выглянула наружу и смотрит на нас, словно прислушиваясь.
– А теперь она опять нырнула под плиту. Это место следовало бы обработать фумигатором изнутри. Но если вы обратитесь за этим в муниципалитет, они только опрыскают все снаружи. Распылят немного отравы – и все.
– В этом нет необходимости. Я сам займусь этим.
– Нет. Не для того, чтобы убить. Хочу просто поймать ее.
– Самое лучшее средство – это мышеловка. А кроме того, уберите все съедобное. Ничего не оставляйте снаружи. Если, конечно, не хотите доедать то, что не доела мышка.
– Отлично. Ну, мне давно пора… Будете ли вы здесь завтра?
– Да. Если вы имеете в виду сегодня.
– Уже четвертый час. Как притих в этот час город. Внезапно я почувствовал, как я устал. Извините, что я оказался таким занудой…
– Я знаю. Это подул бриз. Когда, вы полагаете, состоится церемония под…
– Подписи соглашения.
– Да.
– Возможно ли это перед самой Пасхой? Что? Раввины соглас… Цви говорил, что вам удалось добиться от них согласия на это сегодня утром.
– Конечно. Вчерашним утром. Прошу меня простить. Я совершенно потерял голову. Есть ли здесь телефон? Я слышу… да?
– Это, должно быть, моя жена. Я уверен в этом. Могу ли я взять трубку на секунду?
– Да. Она знает, очевидно, этот номер. Наверное, получила его от… одну секундочку…
– Алло?
– Она повесила трубку.
– Нет. Я абсолютно уверен, что это она.
– Надеюсь на Господа, что ошибаюсь. Но я ее знаю. Это она. Она проснулась и увидела, что меня нет. Я в этом уверен…
– Позвольте мне взять трубку… на одно мгновение… Алло? Алло? Она снова отключилась.
– Нет. Я в этом уверен. Это она. Я ухожу. Если снова будет звонок, не отвечайте. Скажем, меня здесь не было. Ну вот он опять… я возьму трубку… Если это вас, я вам ее передам…
– Алло? Алло?
– Одну минуту… о боже…
– Ты что, сошла с ума? Что случилось?
– Ничего. Я просто проходил мимо.
– Пожалуйста.
– Умоляю тебя.
– Хорошо.
– Хорошо.
– Прекрасно.
– Если ты так считаешь.
– Я уже на пути домой. Совсем не могу уснуть.
– Почему ты так говоришь?
– Нет. Я с его отцом.
– Похоже, ты удивлена.
– Клянусь.
– Чтоб я так жил.
– Нет. Чтоб я так жил. Именем моего покойного отца.
– Это не то, что ты думаешь.
– Хватит. Я тебя умоляю.
– Нас могут услышать.
– Да. На одну минуту…
– Хорошо. Я уже одной ногой на пороге.
– Ты не понимаешь.
– Ты даже не пытаешься понять.
– Хорошо.
– Хорошо.
– Стоп. Довольно.
– Я виноват, я знаю.
– Только я. Я говорил уже тебе.
– Хорошо.
– Позже.
– Хорошо.
– Позже.
– Как ты разговариваешь?
– Что это вдруг?
– Ты сошла с ума.
– Я тоже.
– Как у тебя язык поворачивается?
– Я слышу.
– Нет. Это не так.
– Умоляю тебя… нас слышно.
– Я сойду от этого с ума. Прошу тебя…
– Как ты можешь… это же сумасшествие.
– Отрезать свои груди?!
– Все, что захочешь…
– Обещаю.
– Это для меня невыносимо тяжело. Но я попробую преодолеть себя… ведь это – любовь. Дай мне время…
– Ты тоже можешь завести себе кого-нибудь…
– Я не возражаю…
– Все, что ты захочешь…
– Хорошо.
– Не сейчас.
– Не сейчас.
– Я тоже.
– Никогда. Ты не посмеешь.
– Хорошо. Но позже.
– Тогда я никогда не вернусь домой.
– Нет. Прямо сейчас. Через десять минут. Я уже стоял на пороге, когда ты позвонила.
– Больше не звони. Обещай мне.
– Я вешаю трубку.
– Я вешаю трубку.
– Я вешаю трубку.
– Я вешаю трубку.
– Нет. Он уснул. Здесь только его отец.
– Клянусь здоровьем девочек.
– Ты за это заплатишь.
– Хватит. Я отключаюсь.
– Цви… это звонили мне.
– Да. Она. Виноват я сам – не нужно было оставаться так надолго. Но все будет хорошо. Если она позвонит снова, скажи ей, что я ушел. Не разговаривай с ней. Всего хорошего, мистер Каминка. Не знаю, увидимся ли мы снова.
– Да. Возможно, в аэропорту. Вы возвращаетесь ведь вечером во вторник?
– Возможно. Мысль неплохая. Разумеется.
– Я буду ждать вас там ровно в пять.
– Ухожу. Буду ждать вас в пять. Обо мне не беспокойтесь. И в любом случае – желаю удачи. Ну, хватит, а то я никогда не уйду. Прошу извинить меня. Я совсем не собирался заходить. Просто вышло так, что я проходил мимо, постучал, как птичка. А вы поднялись… а ты, Цви, услышал меня…
Пятница. Между четырьмя и пятью пополудни
Мы не смогли протрезветь, пока не справились с овладевшей нами слепотой, в то время как мой папаша превращался в заливное, лежа на блюде, огромный и распухший от варки в бледном сероватом и мутном желе, пока мы сидели там тихие, как рыбы.
Бруно Шульц– Не мог бы поклясться, что сгорал от нетерпения встретиться с тобою. Я ведь не опоздал, не так ли? Надеюсь, ты это заметил.
– Конечно.
– Конечно… конечно… не нужно мне было спрашивать. Вот он, я, и все тут. Полагаю, ты должен был думать так: надо ловить в свои сети как можно больше… Вот и этого – засунуть его в пробирку, а ее заткнуть пробкой и засунуть в дальний угол секретера, где хранится картотека… и еще: если мне позволен будет (заметим в скобках) краткий комментарий, добавлю, что твой оптимизм несколько преждевремен. Сколько раз я за это время приходил к тебе? За эти два… или три месяца? И каждый раз я говорил себе: «Ну все, это конец». Конец этим играм, парень, плати по счетам и прощайся. И к слову, что касается оплаты – я все еще не спросил тебя, сколько ты берешь за право и удовольствие балаболить здесь со мной, оказывая, разумеется, этим мне большую честь?
– Тысячу пятьсот.
– Неплохо… совсем неплохо… Но не чрезмерно. Вовсе нет. Кое-кто из твоих коллег много жаднее. Я оплачу счет, а потом мы полюбовно разойдемся. Так что я оплачу его, не переживай. Да, я оплачу… скорее всего оплачу… Я, во всяком случае, в это верю… Да и почему бы нет? Ты это заслужил… Только никогда сам не говори на эту тему. Но ты ведь и в самом деле полагаешь, что в вопросе об оплате мне можно доверять?
– Полагаю, что можно.
– Ну что ж, приятно слышать. Блажен, кто верует. Нет, нет, не беспокойся. Ты не должен воспринимать это как незаслуженный комплимент. За то, что ты в меня веришь. Я действительно тебе заплачу. Ну а потом?.. Будет видно. Главное, что мы это попробовали… Приобрели, так сказать, опыт. Прошли сквозь это. Потому что в наше время невозможно представить нормальный разговор между двумя цивилизованными людьми без того, чтобы раньше или позже не прийти к обсуждению ситуации, звучащей как «я и мой духовный наставник» или же «мой духовный наставник и я». С таинственной улыбкой на устах и блеском глаз человек приобретает опыт, знакомясь с техническими деталями, определяет уровень оплаты и специализацию различных контор. Но объявить начало дискуссии надлежит лишь тебе. Нет ничего позорного в том, чтобы открыть ее где бы то ни было, но есть определенные границы, чему она может быть посвящена, чего может – или не может – касаться. А потому сейчас я тоже могу получить небольшое удовольствие, рассказав тебе о собственном моем небольшом приключении. Я тоже там был. А что я там встретил? Талмудический жаргон и жаркое обсуждение всем давно опостылевших философских проблем. Пятидесятиминутное красиво упакованное лекарство для полузасохшего эго, но абсолютно безопасное. Неспособное причинить ни малейшего вреда. Засим, с твоего любезного разрешения, я беру обратно свои предыдущие возражения.
– Значит, у тебя были возражения?
– Более или менее. Но что важнее всего, не забывай, что я полностью отдаю себе отчет в том, что они означали.
– Замечательно. И тем не менее, может, нам стоит затронуть другой, не менее важный аспект…
– А именно?
– Время и место наших будущих встреч…
– Твои предложения?
– Предлагаю встречаться у меня в кабинете в послеобеденное время. Скажем, между четырьмя и пятью… Подходит?
– Что ты имеешь в виду?
– Я имею в виду время и место, которое будет наиболее удобно для наших встреч, ничего больше. Пятница, послеобеденное время, от четырех до пяти. Час. Что может быть лучше? Тель-Авив стихает, банки закрыты, автобусы почти не ходят, толпы народа схлынули, и на улицах становится меньше женщин… много меньше. Лавки тоже закрываются, пусть даже не все. Ну, может, там или здесь в нерелигиозных булочных купить халу или упаковку молока… Что еще?.. В модных бутиках можно всегда приобрести что-нибудь сверхмодное… ну, спорттовары… рубашки… наступает, правда, время торговцев, вразнос продающих цветы или орехи… большие букеты, завернутые в блестящую бумагу, ты мог заметить сам на противоположном тротуаре… самое лучшее, словом, промежуточное время, когда уходящая неделя сворачивает свои пожитки. Чего нам никогда не следует делать – это затевать что-нибудь новенькое… до чего руки не добрались раньше. Все, неделе конец. Даже курсы акций примораживаются на сорок пять часов… все замирает… ведь, кроме всего, это канун субботы, священного дня… печальная, глупая суббота с ее гимнами и ритуалами… В такую погоду я всегда – светит ли солнце, или идет дождь – люблю бродить по улицам, двигаясь на север, но не слишком удаляясь от моря… наслаждаясь неспешной прогулкой среди таких же одиноко бредущих людей… возможно, таких же, как я, холостяков обоего пола, чья жизнь избавлена от необходимости спешить к семейному ужину… наиболее подходящее время, повторяю, для того, чтобы встретиться таким как мы, а кроме того, чуть-чуть сменить обстановку ежедневной рутины жизни. Вообще-то я удивлен, что именно меня ты выбрал, чтобы посветить в ее подробности… и в немалой доле объяснение того, почему я на это согласился. И любопытно было бы услышать от тебя, последний ли в твоей жизни случай на этой неделе или ты продолжишь свои усилия в этом направлении даже в священную для всех евреев субботу…
– А ты хотел бы оказаться последним?
– А то! До смерти люблю быть последним. Несколько раз я даже собирался притаиться где-нибудь под лестницей и посмотреть, не проследует ли к тебе кто-нибудь после меня, но мне не хотелось вовлекать тебя в какие-то разборки с соседями. Да, я был бы в восторге узнать, что я был последним… иметь основания предполагать, что сразу после того, как я уйду отсюда, откроется дверь и войдет твоя жена, напевая: «Конец, конец пришел неделе». А потом крикнет тебе: «Ну что, этот твой кудрявый красавчик педик уже ушел? Давай иди сюда, у нас на ужин сегодня цветная капуста!»
– Цветная капуста?
– Я унюхал ее запах, поднимаясь по лестнице. Может, она еще не успела об этом сказать. Тогда, значит, это сюрприз.
– А ты любишь цветную капусту?
– Я ее ненавижу.
– А это на самом деле так ты думаешь о себе – «красивый и кудрявый педик»?
– Кудрявый и красивый. В таком порядке. Я просто констатирую факт.
– Да, теперь я понимаю. Я просто хотел знать, так ли ты воспринимаешь самого себя. Согласен ли с подобным имиджем.
– Я тут ни при чем. Это то, как другие воспринимают меня.
– Ты в этом уверен?
– Думаю, что да. А ты в этом сомневаешься?
– Я только спросил.
– Но о чем я начал говорить? Ты перебил меня…
– Ты начал говорить что-то о подходящем для встреч времени, об удобном кресле, о просторной комнате…
– И что меня потянуло вернуться сюда вопреки моему решению положить этому конец…
– И вот все эти гомики, о которых ты думал, и заставили тебя вернуться.
– Ну… не только. И вся атмосфера.
– Ну да – «и вся атмосфера». И всё?
– Нет, не только это. Ты достаточно умен, чтобы оставить каждый раз небольшую наживку с крючком на тонкой леске с поплавком… это твое постоянное недовольство мною, придирки, непрерывное ворчание – все для того, чтобы я на это клюнул. И тем ухитрился заронить в меня искушение вернуться, всегда оставляя на поверхности что-то вроде буйка, бакена, чтобы я не потерял фарватер и держался на плаву. И это в неразберихе и беспорядке уходящей недели… Вот почему я отказался от мысли подать в отставку.
– Отказался от мысли?
– Да… да… хотя я и знаю, что здесь не существует такого понятия, как отказ… что в этой комнате все так значимо… Ты знаешь, что у меня есть младший брат… молодой, честолюбивый, энергичный… так вот он утверждает, что вся история человечества, его страданий и невзгод может быть сведена к нескольким простым законам, которые он хочет открыть. И он откроет их, у меня в этом нет сомнений… он их найдет. Все эти многозначительные причины бесконечно забавляют меня… Но что я хотел сказать?
– Ты начал говорить, что в наше время… что сегодня…
– И что в нем? Что в сегодняшнем дне стряслось?
– Что ты… что тебе ужасно не терпелось увидеть меня.
– Все верно.
– Послушай… Ты и в самом деле все запоминаешь. Держишь в уме всю нить любых ассоциаций, как бы широки они ни были. Я полагаю, ты рад был услышать, что я стал менее равнодушен к тебе… и можно даже сказать – более от тебя зависим.
– Не думаешь ли ты, что я хочу этого?
– Почему бы и нет? Ведь это так естественно. Мне нравится, когда люди привязываются ко мне… при условии, разумеется, что эта связь может быть оборвана в любую минуту. Есть чертова уйма людей, которые мечтали бы держать меня под каблуком.
– Например…
– Список бесконечен, поверь.
– Для начала – твой отец.
– Мой отец? Да он махнул на меня рукой давным-давно. Когда собственные его дела безнадежно запутались. Сейчас он хочет все забыть и обрести свободу, подобно мне. Тебе стоило бы посмотреть на него, когда он сошел с самолета.
– Он уже на самом деле здесь?
– Не сомневайся, почему бы ему здесь не быть? Преображенный папаша продемонстрировал свой новый облик. Молодцеватая походка, лихо сдвинутая на затылок шляпа, супермодный саквояж. Что еще? О, да – густая грива волос, ниспадающая на шею, и элегантно подобранная по цветовой гамме одежда – наверняка благодаря усилиям какой-нибудь молодой особы, заботящейся о нем. Мои сестра и зять ожидали его в терминале, но я не поленился добраться до обзорной площадки, откуда с высоты птичьего полета я взглянул на этого шестидесятичетырехлетнего кавалера, претерпевшего психосексуальную реинкарнацию в момент, когда он ступил на израильскую землю и после долгого перерыва вновь наполнил свои легкие влажным вечерним воздухом… а кроме того, увидеть его жалостливое выражение лица до прохождения паспортного контроля… наша бедная жертва убийства.
– Извини… я чего-то недопонял… Тебе не хотелось бы добавить под конец… то, чего я не расслышал?
– Нет, ничего… я только…
– Но ты ведь что-то сказал?
– Ничего важного.
– Ты сердишься из-за него?
– Совершенно нет. Ты взял ложный след. Меняй направление. Я кажусь тебе рассерженным? Ты, значит, не уловил сути взаимоотношений между нами. Он не имеет ко мне больше никакого отношения.
– Мне подумалось, что существует некая связь между твоим внезапным желанием сегодня… а вызвано оно тем, что ты захотел поговорить о нем.
– С чего бы это? У тебя создалось заранее подготовленное представление, такого рода теория, и ты хочешь приспособить меня к ней. Отношения типа «отец-сын», эдипов комплекс… этакая примитивная ловушка. Мне очень жаль, что я все тебе испортил.
– Во время прошлой встречи ты не переставая говорил о нем. Его появление невероятно тебя возбудило. И ты нервничаешь.
– Может быть, «нервничал»? Я этого и не отрицаю. Но оказалось, что я нервничал напрасно. Впустую потраченные эмоции… для меня лично его визит закончился, едва успев начаться.
– В каком смысле?
– В том смысле, что прошла целая неделя, прежде чем мы увиделись. А затем имел место типичный для членов семейства Каминка момент, когда ночью он прошествовал через таможню. Мы крепко обняли друг друга… в чем-то даже крепче, чем я от него ожидал… кажется, что на глаза нам набежали слезы, хотя участь настоящей плакальщицы досталась моей сестре – она с детских лет отвоевала в нашей семье это право. Ее законный муж стоял… с нею рядом, изображая нечто вроде улыбки; о слезах не было и речи, я почти уверен, что у него напрочь отсутствуют слезные железы. Но все завершилось достаточно быстро. Меня тоже начало трясти. А затем посреди всех этих чемоданов и ящиков, обрывочных разговоров о полете, еде и невозможности уснуть возник новый лейтмотив: мое сходство с ним. За три прошедших года различие между нами почти исчезло: я немного заматерел… настолько же, насколько поглупел, и голову я стал держать с таким же, как у него, наклоном… ну а он сбросил вес, отрастил свои кудри до плеч и усвоил этот молодежный стиль. Не исключаю, что когда-нибудь смогу послужить моделью вместо него – издалека. Короче говоря, мои и его гены смотрели друг на друга со взаимным удовольствием, улыбаясь друг другу. Законный муж моей сестры, он же адвокат, не в силах был пережить подобное, все, на что его хватило, это повторять в изумлении: «Я никогда не думал, что два человека могут быть так друг на друга похожи». Ты понял? Он не думал.
– И это тебя, кажется мне, раздражало?
– Да нет, пожалуй. Но это давало хороший повод порадоваться тому, что встреча не затянулась. Они взяли его с собой на север и отбыли. Кроме всего прочего, повод к спешке давало и его стремительное прибытие – долгожданный развод… Заключительная фаза их собственной столетней войны.
– Так это событие уже произошло?
– В следующее воскресенье, если Бог захочет… а точнее, если Он сможет. Но я не стал бы стопроцентно утверждать, что Ему это под силу, ибо до сих пор не происходило ничего, кроме полных провалов. Ибо они избрали самый идиотский план, состоявший из сплошных ошибок. Сначала, вместо того чтобы прямиком отправиться к ней, они двинулись обходным путем. А надо было без всяких вывертов появиться в первый же вечер перед ней, упасть перед ней на колени и сказать: «Вот я. Перед тобой. И я взываю к тебе… прости меня… я тебя недостоин, я, который был полным кретином…» Вместо этого он пошел домой и впал в летаргический сон в доме моей сестры. На целые сутки. После чего он послал этого немыслимого клоуна, адвоката, к ней с тем, чтобы она подписала соглашение. Я по телефону предупреждал их, чтобы они не отпускали этого джокера без сопровождения, потому что он провалится по всем статьям. Что и вышло – потратив целый день, он не только ничего не решил, но и запутал все окончательно. Она полностью оставила его в дураках. Затем, во вторник, вместо того чтобы увидеться с ней самолично, со словами: «Вот он, я… я пришел к тебе, униженный жизнью, недостойный даже стоять перед тобой на коленях… готов на все твои условия. Хочешь квартиру – возьми квартиру… возьми все, что хочешь, но помоги мне… Я там попал в страшную беду, будь ко мне милосердна…» – он совершил паломничество в Святой город с намерением получить поддержку – моральную – со стороны моего младшего брата и его юной жены – романтической особы с литературными претензиями, которую отец увидел впервые, поскольку не дал себе труда прилететь к ним на свадьбу. Можно ли представить себе лучшее время для исправления былых ошибок? Вместо этого он у них переночевал и в конце концов в среду организовал форменную делегацию для визита к моей матери, включив в состав команды мою сестру и ее мужа, которые не нашли ничего лучшего, чем потащить туда их маленького сына. И все это для того, чтобы, явившись перед ней, сломить ее волю.
– А ты… не хотел присоединиться.
– Ну, вот еще. Абсолютно нет. Искусство трагедии – не для меня, и если я должен принимать участие в спектакле – то я согласен только при условии, что сам исполню главную роль. Соло, так сказать. Поскольку там был самый настоящий спектакль. Был и официальный прием, для которого мама собственноручно испекла пирог. Пациенты заведения изображали публику, и нашлась роль даже нашему старому псу, который узнал отца и, бросившись к нему, свалил его на лужайку. Представление, как видишь, было полно веселья.
– А что это за пес?..
– Я никогда тебе не говорил? У нас был огромный, странный, хитрый и упрямый пес с жесткой красноватой шерстью и большими болтающимися ушами. Ублюдок был на одну четверть бульдог, на четверть – немецкая овчарка и оставшаяся половина бог знает чего. Я обычно звал его «половина с четвертями», но мама и Аси называли его Горацио, каковое имя отец сократил до Рацио… существо, признающее лишь собственные права, которое мы послали в больницу вместе с матерью, чтобы он, как безумный, носился по лужайкам, доедая объедки, оставшиеся после лунатиков. Короче говоря, он тоже получил в представлении свою роль. У моего брата случился припадок истерии, и он начал орать на маму и нанес себе при этом незначительные повреждения… сестра моя, заливаясь слезами, умоляла маму… но она ничего не подписала. А потому в четверг отец снова вернется – на этот раз один. Он наконец-то понял то, что ему следовало понять давным-давно. Понять, что если он хочет обрести свободу, он должен отдать ей квартиру целиком. Такова его нелегкая судьба, поскольку именно в этот момент к ней вернулось ее сознание, крепчавшее буквально с каждой минутой. Он не возвращался в Хайфу вплоть до прошлой ночи… а утром отправился навестить некоторых своих дружков – адвокатов, с тем чтобы они состряпали новое соглашение. Назавтра он возвращается в Хайфу. А в воскресенье, если все пройдет как надо, они получат свой развод, и вечером в понедельник он улетит обратно… Нет, на этот раз он надавил на меня, для меня этот визит ничего не значит. В этом представлении я просто зритель. Яэль и Аси – официальные ликвидаторы. Я свой вклад уже внес. Все эти годы я оставался в этом доме с ними… я тебе об этом рассказывал. Я сыграл роли защитника и прокурора, свидетеля, судьи и исполнителя приговора, все по очереди… так что на этот раз я вне игры. На другой стороне тротуара. Говорил ли я с тобою о нем так подробно во время нашей последней встречи? Что-то не помню.
– Да.
– Похоже, что я и впрямь боялся и нервничал из-за этого визита. Я еще не забыл предыдущий, три года назад, и через полтора после того, когда он впервые бросил нас. Он возник и поселился со мною вместе на целый месяц, больной, сокрушенный, переполненный ощущением вины, запутавшийся между двумя мирами… раненая жертва неудавшегося убийства, возвратившаяся на место преступления… бродивший как тень между своим и ее имуществом, обретший вновь свою собственную кровать и свой дом, терзаемый мрачными воспоминаниями. Он вытаскивал меня из постели в середине ночи и рыдал на моей груди. Он не в состоянии был остаться один ни на минуту – я начал даже беспокоиться, что он никогда больше не вернется к себе в Америку.
…И все это время я боялся повторения спектакля, хотя последние его письма были написаны в ином стиле. Он нашел там бабенку, работу и еще что-то, чтобы занять этим свою жизнь. Он всегда был ужасным обывателем и потому, очевидно, сумел как-то незамысловато обустроить свою жизнь. Но кто мог бы подумать, что, прибыв, он целую неделю будет фланировать без остановки между Хайфой и Иерусалимом, не заглянув ни разу в свой любимый Тель-Авив.
Что? Виноват. Я, кажется, разочаровал тебя. Ты надеялся, что он обрушится на меня и задавит, провоцируя новые конфликты во время нашей встречи. Не предупреждал ли я тебя с первого раза, что не собираюсь играть для тебя роль невротичного страдальца? Я изложил тебе полную историю моих родителей, с тем чтобы раз и навсегда покончить с этим вопросом, чтобы ты понял, что мне нечего от тебя скрывать, избавив тебя от необходимости терять время, раскапывая эту древнюю историю. Я обратился к тебе не затем, чтобы ты разрешил мои проблемы. Я пришел за пониманием.
– Пониманием – чего?
– Той таинственной и неуловимой силы, дающей мне власть над другими людьми. Я хочу увидеть себя более отчетливо, чтобы заставить мое, скажем так, отклонение еще сильнее работать на меня. Ты не в состоянии заставить меня думать о себе плохо… потому что нормальность, которую ты проповедуешь, не для меня.
– Ты полагаешь, что я проповедую нормальность?
– Все время. Замаскированно, конечно. Скрытно. В тебе достаточно шарма, чтобы не прибегать к лобовой атаке. Что вовсе не означает, что однажды ты к ней не прибегнешь… потому что ты не дотянулся еще до самого худшего – до секса за деньги, отвратительных удовольствий и их связи с деньгами… но тогда у тебя пропало бы желание во имя твоей социальной справедливости обвинять меня в нарушении норм – сделай ты такую попытку, и я тут же помахал бы тебе рукой, сказав «до свиданья» с другой стороны двери…
– Для тебя это так важно – то, что я уважаю социальные нормы?
– Для тебя это важнее всего. Факт.
– Ты говоришь об этом как о факте, потому что сам ты нуждаешься в нем.
– Ни в чем подобном я не нуждаюсь. А нуждаешься ты. Сидишь тут, обложившись своими книгами, в одной из которых, не сомневаюсь, описан мой случай.
– Который из?..
– Дефиниции – это твоя работа, а потому зачем бы мне облегчать твою жизнь?
– Ты неустанно толкуешь тут о категориях, теориях, пробирках, в которые якобы я хочу тебя засунуть, заткнув пробками. Ты избрал себе мишень и начал метать в нее свои дротики. Но может быть, тебе просто удобно думать, что все вокруг были существами жесткими, угрюмо-рациональными, заурядными конформистами, что позволяет тебе радоваться, услаждая чувство собственной особости, непохожести на них, оправдывая твое к ним отвращение, всегдашнее и вечное. И если я перестану представлять собою нормальность, ты со мною будешь чувствовать себя неуютно.
– Ты ведь никогда не занимался любовью с мужчиной… и что-то подсказывает мне, что никогда не смог бы…
– А ты думаешь, что я должен был бы… для того, чтобы…
– А вот у меня были не только мужчины… и тогда, и сейчас. Сколько угодно женщин, которые готовы заниматься со мной… есть много путей, ведущих к этому… может быть, в один прекрасный день я позволю тебе… это может произойти, если у меня появится соответствующее настроение. Но прости меня за то, что я тебя прервал…
– Я не раз слышал о некоторых странных экспериментах, производившихся в этой комнате, но у меня нет никакого желания пройти через них для того только, чтобы убедиться в их многообразии.
– Ты намекаешь, что интеллектуально они демонстрируют поверхностный уровень. А я говорю об их глубине.
– Нет, не только интеллектуально. Это, конечно, тоже… но я был удивлен, почему в недавнем разговоре ты изобразил меня пожирателем цветной капусты… не понимаю, с чего ты это взял?
– Разве в данный момент в твоем доме не пропахло все цветной капустой? Запах идет из твоей кухни.
– Нет. И никогда не было.
– Прости, если я тебя оскорбил… Я обонял нечто, поднимаясь по лестнице… извини…
– Дело не в этом. То, о чем я говорю, это почему ты так зациклился на цветной капусте, на ней, выбрав именно ее из всего разнообразия мира. Что она для тебя символизирует, что олицетворяет? Не связано ли это с ее внешним видом… с тем, как она выглядит… круглая, белая, разбитая на соцветия, очень напоминающие мозг… не дает ли она повод изобразить меня сугубым рационалистом, закоренелым, отъявленным интеллектуалом, который все время питается своим мозгом, не столько человеческим существом, сколько техническим продуктом? Ты постоянно шлешь мне некие послания и, как игрок, ставишь на карту наши отношения. Эмоционально ты мне уже не веришь… как не веришь и в то, что я могу тебя понять психологически. Ты отрицаешь за мной эмоциональные мои возможности. До сегодня ты ни разу не дал мне почувствовать твои истинные чувства… Я подразумеваю истинную интимность… несмотря на твои безуспешные попытки выглядеть этаким простачком.
– Я просто не хотел тебя смущать…
– С чего ты взял, что ты меня смущаешь?
– Каждый раз, когда я дотрагиваюсь до тебя, ты морщишься.
– Это не более чем игра твоего воображения. Проекция твоего представления обо мне.
– Я хотел избавиться от кровавых подробностей моих эскапад… ведь ты еще так молод.
– Я не нуждаюсь в подобной помощи. И никогда тебя ни о чем подобном не просил. Я здесь, чтобы помочь тебе… тем более, что ты не до конца понимаешь, какую роль я здесь играю. Я здесь, чтобы помочь тебе. Имей ко мне хоть чуточку доверия. В конце концов – используй меня. Если ты искал помощи молодого терапевта, это тоже очень важно. Человек всегда повторяет семейные образцы – своего ли отца, брата или даже сестры. Ты остановил свой выбор на мне, чтобы я помог тебе установить контроль над чем-то, нуждающимся в контроле; возможно, это твой младший брат, который, по твоим словам, такой же упорный мозгляк, как я. Но до сих пор ты просто препираешься со мной, вместо того чтобы поработать над собой самому. Ты обладаешь значительной вербальной силой, обширным словарным запасом, помогающими тебе манипулировать языком, ты способен непрерывно переводить любое понятие в область абстракций, включая концептуальный план, избегая при этом, конечно, самой сути дела…
– Я что-то тебя недопонимаю…
– Прекрасно ты все понимаешь. Пытаешься создать впечатление, что присутствуешь здесь как бы условно… решая, заплатишь ты мне или нет, и что каждый твой визит может оказаться последним. Ты намеренно опаздываешь… специально выбирая для этого странное время – вот как сегодня, заранее настроившись на то, что это просто форма некой рекламы. При этом ты продолжаешь настаивать, что тебя ничто не тревожит, и что приходишь ты единственно для того, чтобы посмотреть, как я во всем этом разберусь – в том, в чем ты уже разобрался сам. Но так мы работать не можем. С начала нашей работы мы отдали решению твоих проблем уже три месяца. Что было предсказуемо в свете этих вопросов. Но мы не можем двигаться дальше… неизвестно куда… ведь твое время стоит недешево… равно как, впрочем, и мое…
– Э-эй!.. Перестань на меня нападать… хотя бы на первое время… я просто оглушен…
– Тебе не кажется, что это произошло вовремя?
– Я не знал, что в тебе это есть. Оказывается, ты не настолько невинный тихоня, каким ты мне казался… более того, мне это нравится. Ты знаешь… то, что ты сказал насчет моего брата… это интересное предчувствие… а теперь скажи мне вот что – сколько тебе на самом деле лет?
– Зачем это тебе?
– О, нет, нет… только не это. Не заставляй меня перебрасываться с тобой вопросами. Теперь ты сам пытаешься ускользнуть. Хотя бы раз приподними занавес анонимности и скажи мне просто, сколько тебе лет?
– Двадцать… семь… Но зачем тебе это?
– И ты на самом деле отождествляешь себя со мной?
– Только для того, чтобы понять.
– Что за странную профессию ты выбрал? Ну ладно, я поведаю тебе о сне. Несколько недель тому назад ты спрашивал меня, бывали ли у меня… ну ладно, было ли у меня нечто для тебя интересное… Я расскажу тебе о своем сне, чтобы ты не мог сказать, что я не пытался. На самом деле была истинная причина, по которой мне сегодня не терпелось увидеть тебя… та же причина, по которой я не опоздал, явившись вовремя… потому что у меня припасен для тебя новый, совсем свежий, так сказать, сон. Большую часть его я уже, правда, забыл в течение дня, но кое-что осталось еще… так что давай посмотрим на то, что осталось. Что до меня, то мне он кажется абсолютно бессмысленным, но это уже твоя проблема. Я предчувствовал, что ты приготовился к нападению на меня, а потому явился, вооруженный своим сном. Ты знаешь, я думаю, что между нами начинает формироваться настоящая связь. А сейчас я готов к совместной работе… и посмотрим, на что ты по-настоящему способен.
– Я могу работать только вместе с тобой.
– Разумеется, вместе со мной. Я уже выучил наизусть правила игры. Словом, ты знаешь, прошлая ночь была более чем странной. Мой отец появился далеко за полдень и настоятельно стал тащить меня из дома в какой-нибудь ресторан, хотя я потратил несколько часов, чтобы собственноручно приготовить нам ужин. Он одержим был идеей пойти в один маленький ресторанчик, где, как его убедили, готовят совершенно необыкновенный борщ, о котором он мечтал все это время, пока жил в Америке. Ну ладно… и мы отправились туда, но ресторан этот был уже закрыт в преддверии праздника. Но он настоял на своем, потребовав, чтобы любым образом вызвали владельца, и владельца нашли. Тот был настолько ошеломлен своей международной известностью, о которой даже не подозревал, что на радостях распорядился открыть свое заведение специально для американского профессора Каминки. Но увы… борщ весь был съеден еще в обед. И тем не менее борщ появился – один Бог знает откуда. Его доставили в большом кувшине вместе с крынкой сметаны, и он сел и весь погрузился в красную, дымящуюся, осуществленную свою мечту, облизывая губы, глотая за ложкой ложку, и все никак не мог остановиться, на лице его можно было прочитать, что он испытывает истинное наслаждение, ибо, поглощая очередную порцию, он ухитрялся еще шутить и перебрасываться репликами с дюжиной людей вокруг него. Профессор из Америки, прилетевший специально, чтобы перед Пасхой отведать борщ! Он почти ничего не рассказал мне, как прошла его встреча с мамой, кроме того, что надеется завершить все дела к воскресенью и что он готов отдать ей квартиру всю целиком… после чего почувствовал такой упадок сил – не исключаю, что виновато в этом было и то количество борща, которое он умудрился поглотить, так что самое лучшее, что мы могли сделать, это отправиться домой. Дома он принял душ и уселся на диван, просматривая все письма и журналы, адресованные ему за время его отсутствия, а потом погрузился в передачу по телевизору, посвященную интервью с рядом политиков новой волны, о которых он ничего не слышал. Но затем он стал задремывать, так что мы не успели поговорить о чем-нибудь важном. Я тоже рано отправился спать, пока в два часа ночи этот старый гомик не постучал к нам в дверь. Он известнейший банкир из старой иерусалимской семьи… странный сентиментальный тип, который влюбился в меня по уши…
– Кальдерон?
– Именно он. Это означает, что мои усилия не пропали даром, ибо я в разговоре с ним упомянул твое имя… ну, а ты, как я вижу, не упустил свое. Совершенно верно – Рафаэль Кальдерон. Я показал ему его истинное лицо и с тех пор его жизнь превратилась в одно сплошное бедствие. Все в его жизни пошло вверх дном. Скрепы, державшие его семью, исчезли, а сама семья развалилась на части. Он бегает за мной, как собака, делает – и готов еще делать для меня – абсолютно все и более всего боится оставить меня одного. Замечательное дело для тебя. Сразу после пяти он будет ожидать меня внизу в роскошной машине с шофером. Для тебя это подходящий случай, сейчас он испытывает настоящее страдание… попомни мое слово, вскоре он явится взглянуть на тебя. У меня нет никаких сомнений – он уже ревнует меня к тебе. Этот человек попал в штопор. Но, возвращаясь назад, он постучал в дверь и разбудил меня в два ночи. А у меня такое нежное сердце, что я не в состоянии даже такого типа, как он, отправить обратно, так что мне пришлось подняться и выслушивать его предрассветные признания. Как ты можешь видеть, у меня тоже есть свои пациенты и, долго ли, коротко ли, мне приходится лечить их, заметь, совершенно бесплатно… встречаются такие, знаешь ли, ни на что не похожие экземпляры, которые сначала отдаются мне психологически, а потом желают овладеть мною физически. Что?
– Ничего.
– Мне послышалось, что ты что-то сказал.
– Нет.
– Я не уверен, что сейчас надо перейти к моему сну. У нас осталось не так много времени… ну хорошо, я лучше расскажу его, чтобы ты опять не говорил, будто я увиливаю. Я отправился досыпать, а Кальдерон засел на кухне с моим отцом, который тоже проснулся. В конце концов начались звонки от его жены… не могу точно сказать, это случилось тогда или чуть раньше того, как мне приснился этот сон. Большинство деталей я забыл… но то, что я помню, имеет отношение к тебе, и это примерно следующее – более или менее. Место действия – в какой-то маленькой гостинице, стоящей на берегу озера в окружении отдаленных гор… возможно даже, что все это находилось не в Израиле. Я многого в этом отношении не запомнил, но что запомнил, так это ступени… и что у лестницы было два пролета. Один, по которому я поднимался, был пологим и светлым, а рядом, словно они были пристроены по ошибке, шли ступени собственно здания, которыми, похоже, не пользовались. Они были высечены из грубого старого камня и покрыты красной ковровой дорожкой, растрепанной по краям… лестницу продувал ветер, она вела в комнаты, предназначенные для сдачи, из большинства которых постояльцы давно уже выбыли. В них я мог разглядеть разобранные кровати, чьи-то личные вещи, разбросанные там и сям: полотенца, заколки, использованные клочки ваты, разноцветные халаты… На первом этаже, на который я попал в последнюю очередь, я заметил сидящего у окна – бог знает, как он туда забрался – преподавателя английского из вечернего лицея-экстерната, в котором я учился двенадцать лет назад. Мы прозвали его «мистер Фокси», но это никак не связано было с его настоящей фамилией – его, немецкого еврея, фамилия звучала как Нейштадт, или Фрейштадт, мрачный старый холостяк, сокрушенный в свое время финансовой катастрофой неудачник, потерявший свой бизнес и не нашедший ничего лучшего, как стать преподавателем английского в вечерней школе. Он всегда ходил в зимней одежде – высокий и лысый, в очках, с опущенными плечами и желтой кожей – весь, за исключением его пальцев, которые были желтыми от никотина… и говорил с нами только по-английски, потому что только это возвышало его над нами. Сейчас он сидел в этом… ну, скажем так, строении в расстегнутой белой рубашке, ожидая чего-то или кого-то в этой похожей на столовую комнате, заставленной столами. Я не знал, помнит ли он меня, но подошел к нему. Он говорил со мной, как и прежде, по-английски, но это был такой английский, который я свободно понимал, так что слушал его безо всяких проблем… слова, смысл сказанного был мне понятен так же, как если бы он говорил на иврите. Не удостоив меня даже взглядом, он объяснил, что ожидает своей охоты. Я думаю, что он стосковался по мясному блюду, но он дал ему английское название ОХОТА… звучало это так, как если бы он был английским аристократом или владельцем поместья… так это, по крайней мере, выглядело. Ты меня слушаешь?
– Да.
– Это выглядело абсурдом – то, как этот невзрачный человек сидел там, рассказывая мне о своей ОХОТЕ, которая должна была возникнуть откуда-то из леса – очевидно, он подразумевал, что оттуда, из леса, кто-то принесет ему уже готовое блюдо, поскольку в самой комнате я не обнаружил ничего похожего на кухню. Но он, внезапно перегнувшись через подоконник, стал вглядываться во что-то внизу. И, проследив за его взглядом, я увидел заросли кустарника, сквозь которые был протянут толстый пожарный шланг, из которого текла вода. Где-то там, внизу, видимо, что-то происходило, мне почудилось какое-то движение, после чего струя воды стала ослабевать, а затем и вовсе исчезла, как если бы кто-то завернул вентиль…
– И?!
– Это все.
– Это все? В этом месте твоего сна ты и проснулся или отправился досыпать?
– Нет, я проснулся. Звонил телефон, и я мог расслышать, как он кого-то о чем-то умоляет…
– А проснувшись, ты испытал тревогу?
– Может, ты отстанешь от меня с этим? Нет… не было никакой тревоги… меня просто разбудил телефонный звонок. Но если бы я отправился досматривать свой сон, то уверен, что первым делом спустился бы вниз посмотреть, куда прикреплен этот шланг и кто его перекрыл.
– А этот учитель английского… как ты сказал его звали?
– Ученики звали его «мистер Фокси». Потому что он был похож на длинную серую лису.
– Возникали ли у тебя какие-нибудь ассоциации, связанные с ним? Видел ли его когда-нибудь позднее?
– Нет. Он для меня абсолютно ничего не значил. Я даже не догадывался, что он занял какое-то место в моем сознании. Я не видел его все эти годы… и никогда не вспоминал о нем… почему же нечто подобное произошло?
– Ты хорошо успевал по английскому?
– Нет. Был одним из самых худших. Совершенно не приспособлен к учебе. Никогда не надеялся даже сдать выпускные экзамены…
– Были ли еще предметы, по которым ты не дошел до конца учебы?
– Нет. Я думаю, английский язык был единственным… Поскольку я как-то разом потерял интерес к получению багрута[6], я больше экзаменами не интересовался.
– А когда ты начал посещать вечернюю школу? Этот лицей. После учебы в средней школе?
– Примерно через год.
– А до того, в школе, в которую вы ходили… отец твой тоже работал там преподавателем?
– Да.
– А твоим учителем он когда-нибудь был?
– Нет. Он преподавал только у восьмиклассников.
– Ну и из-за чего же ты бросил школу?
– Кому это интересно? Мне – нет.
– Не допускаешь ли ты, что причиной было твое нежелание учиться именно у него?
– Ох… может быть, и так. Это возможно… ну, если я и думал об этом, то как-то по-другому. Могла быть эта причина… могли быть и другие, а эта – одна из них. Все это могло быть… только каким образом это поможет нам разобраться с моим сном?
– Этот преподаватель английского… ты говорил, что он для тебя был фигурой довольно второстепенной… уверен ли ты?
– Уверен абсолютно.
– Но во сне подобная второстепенная, малозначащая фигура может быть ширмой для других. Она этих других скрывает… более значительных.
– Не слишком понятно…
– Этот… мистер Фокси… он более или менее ровесник твоего отца… и подобно ему работал учителем… приходилось ли тебе когда-нибудь сталкиваться с ним?
– Никогда.
– Но ты провалил его предмет. Даже если это и правда – все равно он преподавал единственный предмет, по которому ты провалился, из-за чего и не смог в конечном итоге получить диплом.
– Для меня этот факт не имеет абсолютно никакого значения.
– Но ты ведь не станешь отрицать, что в каком-то смысле это тебя задело…
– Нет. Ничего подобного. Но тем менее продолжай.
– Учитель говорит по-английски, но ты тем не менее понимаешь его так, словно он говорит на иврите. Теперь твой отец обосновался в Америке, обретя новую, английскую идентичность. Невзирая на это, его прежняя, еврейская идентичность продолжает оставаться здесь…
– Продолжай. Я тебя слушаю. И пока что не могу сказать, что ты прав. Или – что ты не прав.
– Учитель из твоего сна изменился. Обычно он ходил в толстой зимней одежде, а здесь он внезапно предстал в белой летней рубашке. Он был не похож на себя, прежнего… изменился… точно так же, как, по твоим словам, изменился твой отец… ты ведь говорил об этом… о его новом, молодцеватом стиле, о том, насколько артистично стал он выглядеть. Я пытаюсь на эти факты опереться. На детали, о которых ты упоминаешь в твоем сне: преподаватель, сидя у окна, ожидал насыщения какой-то сытной пищей благодаря его ОХОТЕ… А твой отец прошлым вечером что делал? Он тоже ОХОТИЛСЯ, только за красным БОРЩОМ. Сходство прямо бросается в глаза: красное… как кровь… и там и здесь. Мне показалось или нет, что аппетит твоего отца определенно расстроил тебя? Он стал похож на другого учителя, который для тебя ничего не значит, обрел другую личину, маску – не без твоей, кстати, помощи. Зачем ты надел ему очки и наградил лысиной? Кому и для чего понадобился подобный камуфляж? А это случилось потому, что на самом деле ты думал о нем… Потому что сон вывел наружу некие твои затаенные желания. Тебе нужно было спрятать их в других образах, чтобы защитить самого себя и в то же время дать, найти для них какой-то выход. Какой именно – это и предстоит нам выяснить.
– Я внимательно слушаю тебя. И снова – не говорю, что ты прав. Так же, как не утверждаю обратного. Однако у меня возникает один небольшой вопрос: эта теория камуфляжа, скрытности, подмены – она общепринята или ты сварганил ее специально для меня?
– Можешь не сомневаться – она принята повсеместно. В нашей работе это – букварь. Любой сон – это попытка подмены одного другим – так работает эта система.
– Но что, по-твоему, я пытался скрыть?
– Нечто, имеющее отношение к твоему отцу… или к твоим намерениям, связанным с ним. Это уже твое дело разобраться с этим. Потому что с самого начала твой сон ясно свидетельствует и о тебе самом, о попытке твоей самоидентификации… Да и все остальное также имеет отношение к тебе. Я сужу об этом на примере упомянутых тобою двух лестниц. Ступени в твоем сне означают наличие у тебя сексуальных желаний, сам факт подъема по ним и спуска есть не что иное, как сам половой акт…
– Считаешь меня за дурака? Да?
– Даже не думаю.
– Тогда пытаешься выглядеть дураком сам.
– Не умничай, а слушай. Это классический символ, а в твоем случае он выражается с предельной ясностью. Ты поднимаешься по лестнице одного вида, прямой и светлой. Но тут же, рядом, вьется лестница совсем другая – темная, продуваемая насквозь ветром, ведущая неведомо куда, без всякой пользы, и покрыта она красным, старым, потрепанным ковром. Заметь, на всякий случай, снова красный цвет. И приводит эта лестница тебя в комнаты, уже, похоже, давно оставленные жильцами, – мне совершенно ясно, что женщинами: полотенца, заколки, клочки использованной ваты, разноцветные женские пожитки… Между двумя этими лестницами – разделяющий их пролет, который ты не пробовал даже преодолеть; небольшой и не столь уж такой опасный, он, без сомнения, оказался бы тебе под силу. Что это ты сказал мне несколько минут тому назад? «Есть сколько хочешь женщин, которых я могу…»
– Это начинает звучать ужасно по-талмудически.
– Но сны и работают по-талмудически, используя абстракции, смещения и смешения. А твоя задача – интерпретировать их, отделяя одно от другого, надеясь восстановить разорванные связи, и попытаться понять, что они хотят тебе сказать.
– Следуя твоей логике, что я должен был понять, увидев пожарный шланг в зарослях кустов?
– А у тебя самого не возникает в связи с этим каких-либо ассоциаций?
– Никаких.
– А само это место ты не смог бы узнать?
– Нет. Я, по-моему, сказал тебе, что оно не похоже было на Израиль.
– Может быть, это место напоминало тебе о твоем детстве?
– О моем детстве? Я бы не сказал…
– А может быть, оно ассоциируется у тебя с тем местом, в котором сейчас находится твоя мать?
– Моя мать? Там? Нет… тот кустарник… там не было таких зарослей. И вообще…
– Но место… больница… она ведь находится неподалеку от моря… по пути к северу…
– То, что мне приснилось… никакого моря там не было, было рядом маленькое озерцо… окруженное горами. Пейзаж, похожий на Швейцарию. Да, я отчетливо помню горы, окружавшие его.
– Тогда это может быть Хайфский залив. Он изогнут плавной дугой, подобно арке. Во сне ты по своим внутренним причинам плавно замкнул… и получил озеро… А?
– Значит, ты полагаешь, что горы на заднем плане – это не что иное, как гряда Кармель?
– Очень может быть.
– Нет. Это не то, что там было. И ты не можешь принудить меня силой, чтобы я с тобой согласился.
– Я и не пытаюсь. Я хочу только одного – пробудить в тебе собственные твои ассоциации.
– Это было сказочное место… могу я в своем сне создать новое место действия?
– Можешь. Но обычно все новое оказывается составлено из старого. С пейзажами – то же самое.
– Хорошо. Пусть это будет именно такой случай.
– Может быть, ты вспомнишь еще какие-нибудь детали?
– Нет.
– А в зарослях… не было никого?
– Нет. Правда, что-то там шевелилось… что-то двигалось. Это было как-то связано с…
– С пожарным шлангом?
– Да.
– А шланг… сам по себе… не напоминает о чем-либо? Что-нибудь означает?
– Боюсь, что нет.
– Какова была первая твоя мысль, когда ты его заметил?
– Ну… не знаю… это был просто пожарный рукав, шланг, который лежал на земле, почти сливаясь с ней. И такого же коричневого цвета, немного более светлого в том месте, где он выползал из зарослей, – это было отчетливо видно в свете заходящего солнца. Вода вытекала из него… а потом струя вдруг иссякла… как если бы кто-то закрутил вентиль… или согнул рукав, перекрыв течение.
– Может – приподняв? Так, что он встал… и вода перестала…
– Ты говоришь – встал?..
– Э-э, брось… не приписывай моим словам то, чего в них нет… я имею в виду, что кто-нибудь, проходя мимо, просто наступил на рукав, и полив прекратился… А учитель… он что-нибудь произнес? Как-то среагировал?
– Нет. Впрочем, я не обращал на него внимания. Сейчас мне кажется, что связано это с тем, что он ожидал, когда из леса ему принесут результат его чертовой ОХОТЫ.
– А что ты почувствовал, увидев, что вода уже больше не течет?
– Я подумал, что там, в кустах, кто-то есть… и что он должен появиться… и тут я проснулся. Я должен был услышать, о чем говорят между собой Рафаэль и мой отец… и о чем Рафаэль умолял кого-то по телефону…
– Давай вернемся немного назад. Пейзаж… горы… озеро… кустарник… что все это вызывало в тебе?
– Полагаю, что об этом сказать мне должен ты. Может быть, это были тоже некие символы. Мне бы это понравилось, да, скорее всего… Нет ли у тебя какой-нибудь книги… пособия… ну, чего-то вроде словаря, который толковал бы язык символов… так, примерно, как ты растолковал мне символы лестниц… и где бы мы нашли соответствующие смыслы кустов, пожарного рукава, заката…
– Боюсь, что все это не так просто. Попробуй ответить сам – только быстро. Какова была твоя первая мысль?
– Если быстро, то первая мысль была совсем никакой… и если медленно – тоже.
– А ты копни здесь поглубже… или ты хочешь спрятаться за своими защитными стенами?
– Спрятаться – от чего?
– Я не знаю. Но чувствую, что истинное значение сна скрыто здесь.
– А мне на самом деле нечего тебе сказать. Голова совершенно пустая. Совершенно. Все это ведь, в конце концов, не больше чем фантазии…
– Нам с тобой не нужны отговорки. Кого мы обманываем? Себя? У нас в руках есть ключ. Я могу только предполагать. Ты пришел ко мне с возникшими у тебя проблемами из-за твоего бессмысленного, я бы сказал, обезвоженного сна, похожего на обглоданную, сухую кость… но теперь ты и сам видишь, что сны разговаривают с нами на своем собственном языке, используя свои способы организации. Если ты можешь еще больше углубиться в них, мы – быть может – узнаем наконец, какое послание они несут нам.
– Мне очень трудно думается под таким нажимом.
– Что ж… тогда давай оставим все до лучших времен.
– Я чувствую такую пустоту… ты досуха выжал из меня все… этот сон… и все в нем… происходило в такой темноте…
– Я думал, что слышал от тебя о ярком свете…
– Светло было только снаружи, возле кустов. А я стоял у окна. В кромешной тьме.
– Хорошо. Оставим это пока. Мы можем вернуться к этому эпизоду в любую минуту. Ты не собираешься проводить своего отца в воскресенье?
– Я? С чего бы это вдруг? Это что, мой сыновний долг? Им же, уверен, будет лучше без меня. А я увижу его этим вечером у сестры за пасхальным седером.
– А твоя мать?
– Она останется в больнице. Что мы можем поделать? Это только в плохих рассказах бывшие супруги после развода проводят первую ночь под одной крышей. Реальность обычно отличается от литературы.
– Оставалась ли она там, у себя, на пасхальный седер в прошлом году?
– Нет. Она всегда проводила его у моей сестры. Кроме самого первого года. После этого мы получили официальное разрешение забирать ее на праздники.
– Разрешение… от кого?
– От больничной администрации.
– Разве она была в то время в такой плохой форме? Я думал…
– Нет. Таковы требования закона.
– Закона?! Как это?
– Таковы были условия соглашения, которые освобождали ее от судебного преследования.
– Не понимаю, что ты несешь?
– Но ведь я тебе уже все рассказал.
– Определенно нет.
– Отец был ранен, и не было никакой возможности скрыть это.
– Все равно – ничего не понимаю. Он вызвал полицию?
– Это сделал я.
– Ты?
– Разве я тебе не рассказывал? Знаешь… меня удивляет, что из всего, мною рассказанного, ты забыл именно это.
– Ну… может быть, мне и в голову не пришло, что полицию вызвал именно ты.
– Мне пришлось. Он лежал на кухне в луже крови… никакой возможности… нельзя было скрыть, что он подвергся нападению… я думал, что он вот-вот умрет…
– Понимаю.
– Они могли повесить это на меня.
– На тебя?
– Они могли сказать все что угодно. И всякий мог в это поверить. Ведь с ними был только я. В то время Аси устраивал свою жизнь, а потому почти не появлялся дома… Он непрерывно сдавал бесчисленные экзамены и ухитрился пройти два курса за один год… Яэль и Кедми перебрались в Хайфу… а здесь все случившееся произошло так быстро… она словно действовала в двух параллельных направлениях – в одном она изображала сумасшествие, в другом – она в самом деле просто спятила, но в общем она умышленно подогревала в себе свойственное ей неистовство… именно так. И все это, взятое вместе… Отец и в самом деле был не на шутку перепуган. Он боялся оставаться с ней наедине и умолял меня быть с ним и никуда не уходить. Он даже платил мне за это, причем столько, что я мог не работать. Он был испуган, но продолжал провоцировать ее, сделав объектом своих шуточек и насмешек, передразнивая ее речь. Если она начинала обсуждать с ним модные песенки и пробовала сама напевать их, он гримасничал, словно обезьяна, тут же подхватывал, перевирая мотив и искажая слова, причем видно было, что он получал от этого процесса явное удовольствие, чего нельзя было сказать о ней. Но он не мог остановиться, похоже было, что он тоже теряет над собой контроль. Его поддразнивания с каждым разом становились все более издевательскими… и так это продолжалось день за днем, пока, испугавшись, он не заперся в собственной комнате на ключ. Но наибольшей насмешкой в их жизни был продолжавшийся из ночи в ночь секс. Уж я-то знал, как это у них происходило: после всех этих сумасшедших выходок они снова и снова оказывались в итоге в общей постели. И это продолжалось до тех пор, пока она не начала приворовывать в магазинах. Но ведь я рассказывал уже тебе об этом, верно?
– Да.
– И о том, как он лишил ее возможности сорить деньгами.
– Да.
– И об этом сумасбродном питании, на которое она нас обрекла, приобретя огромную электрическую мясорубку, в пыль перемалывавшую все, что она запихивала туда… но ведь и об этом я тебе рассказал?
– Все верно.
– Сейчас, вспоминая все это, я думаю, что таким необычным способом она пыталась сказать нам что-то для нее важное, доказательством чему служили невероятные смеси, большей частью совершенно несъедобные… хотя иногда… иногда у нее получалось действительно что-то вкусное. Наконец у нас на тарелках оказались порции собачьего корма – и это было еще не самое худшее. Кончилось это тоже необычно – отца стошнило прямо за столом, и он вообще перестал прикасаться к подаваемой ею еде. По ночам он пробирался на кухню в надежде отыскать кусочек хлеба или сыра. И это в то время, когда холодильник и все кухонные полки были забиты ее продуктами. Они скверно пахли и провоняли весь дом. Что, очевидно, и привлекало всякую живность. Самые разнообразные и необычные птицы слетались на этот смрад, устраиваясь на подоконниках! Вороны обычно возвращались в середине ночи. Были там и мыши. Пес все время вращал головой и бросался, разгоняя их. А затем отец обратился к врачам, выясняя возможность госпитализации. Яэль приехала и привезла с собою Гадди, а поскольку мать очень его любила, я предложил Яэли, чтобы до поры до времени она оставила мальчика у нас. Она поначалу испугалась, но в конце концов так и поступила. Мать была в полном восторге – вместо того, чтобы спать с отцом, она спала с внуком и в течение нескольких первых дней в квартире воцарилось спокойствие. Отец взял за правило большую часть времени проводить вне дома, а когда возвращался, сразу же закрывался на ключ. Но однажды вечером все ключи от всех дверей таинственно исчезли. Гадди все это время находился со мною рядом. На следующий день рано утром мы услышали, как ужасно закричал отец и завыла собака… но все это я тебе один раз уже рассказывал… похоже, что, повторяя одно и то же по нескольку раз, я попросту теряю свои деньги.
– Никому еще не удавалось слово в слово повторить сказанное…
– Я в этом не уверен…
– А затем ты вызвал полицию?
– Он отключился… и я был уверен, что он уже мертв. Я позвонил им и сказал: «Простите меня, но кого я должен информировать об убийстве?» Не спорю, может, я чуть-чуть поспешил, но меня сбило с толку все это обилие крови. Надо отдать им должное – они появились мгновенно и тут же приступили к допросу, который проводил похожий на гангстера сержант. В это время отец пришел в сознание. Он держался за грудь и громко стонал, но, как мне показалось, испытывал от всей этой ситуации некоторое удовольствие. Они забрали его с собой и повезли в больницу, а сержант с матерью удалились в другую комнату. Он расспрашивал ее обо всем довольно долго, а затем отпустил. Из Хайфы примчалась Яэль и занялась их судьбою. А позже приехал Кедми и забрал Гадди. Но до этого он крутился по квартире, пытаясь понять, что же случилось. Он все поглядывал в мою сторону, но я помочь ему ничем не мог, поскольку все это время старался оттереть следы крови. После полудня приехал Аси, отправился в больницу, а потом уехал к себе в Иерусалим, забрав с собой собаку. И когда наступил вечер, в квартире оказался только я, один на один с этой странной, пугающей тишиной. Сгоравшие от любопытства соседи непрерывно звонили в дверь, но я никому не открыл. На следующее утро раздался звонок и появился отец, весь обвязанный бинтами, – выглядел он довольно мрачным. Они отправили его домой, нож нанес ему только глубокую царапину. Много позже я был поражен, услышав, что и как он рассказывал своим друзьям об этом происшествии. Особенно в то время, когда полиция еще не закончила разбираться в отдельных деталях случившегося. Сержант, руководивший расследованием, рекомендовал превентивную госпитализацию… И я на самом деле не понимаю, в чем меня можно обвинить.
– А кто тебя обвиняет?
– Разве я не чувствую, как ты осуждаешь меня?
– Я тебе не судья и никогда им не буду. Я хочу лишь понять с тобою вместе, как работает твой ум, который тобою руководит.
– Мне кажется, что тут нечего понимать. Им следует жить раздельно.
– Понимаю.
– Чувствую, что ты со мной не согласен.
– Согласен я или не согласен, сейчас не имеет никакого значения. Мы говорим здесь о тебе.
– Но ты говорил, что хотел установить тип моей личности. Идентифицировать меня.
– Для того лишь, чтобы получше тебя понять. Но не для того, чтобы принимать за тебя решения или оказаться на твоем месте.
– Их нужно разделить друг с другом… Вывести каждого поодиночке из их совместного ада.
– А до каких пор ей придется там оставаться?
– Она сама предпочитает оставаться там. Может быть, этим она хочет себя наказать. А может быть, она боится снова совершить подобную попытку. Тогда она была по-настоящему больна. И когда он убрался за границу, никто не знал, сколько он там пробудет. Врачи скептически отнеслись к тому, что я хочу заботиться о ней в ее собственной квартире. А с Яэлью она не могла жить, потому что в то время Кедми решительно отказывался от каких-либо отношений с ней. И она сама в итоге предпочла этот вариант… в этом удобном месте, возле моря. Возможно, ты знаешь, где это. А она обрела там множество друзей – более того, она взяла на себя заботу о некоторых тяжелых пациентах. А мы отдали ей собаку. Сначала предполагалось, что это временное решение, но оно оказалось весьма удобным для всех сторон… и так оно и осталось. Ты полагаешь, мы поступили неправильно? Ну, вероятно, мы не приложили достаточно усилий для ее освобождения. Не исключаю, что тем самым и мы хотели ее наказать. В прошлый раз я спросил ее, не кажется ли ей, что пришло время отправиться домой…
– Ты в самом деле недавно был у нее?
– Да. Во вторник.
– Ты ничего мне не сказал.
– А ты ни о чем не спрашивал.
– Был ли для этого какой-то особый повод?
– Нет. А почему он должен был быть? И сейчас, и раньше я просто приходил навестить ее… раз в несколько месяцев. В этот раз я смог остаться с ней подольше. Это всегда зависело от ее состояния… ну и от погоды тоже. Я предварительно созвонился с ней, взял выходной и приехал туда чуть после полудня. Она ожидала меня возле ворот, и мы вышли в город – иногда мы добираемся до рыбацкого причала в Акко, а иногда, двигаясь в противоположном направлении, к Рош-а-Никра, заходим в одно весьма приличное кафе в Нагарии. Я сводил ее в кино, потом мы поужинали в мясном ресторане и поздно вечером я доставил ее обратно.
– Все это хорошо… но почему она ждала тебя у ворот? Не проще ли было тебе пройти внутрь и уже оттуда забрать ее?
– Я предпочел именно такой вариант. Я не люблю больниц. Как подумаю о них, по всему телу пробегает дрожь. Однажды, несколько лет тому назад, я прошел внутрь и сразу оказался окруженным толпой больных. Мне тяжело даже подумать о том, что можно внезапно очутиться в подобном месте… Да, знаю, это звучит смехотворно… И все-таки я не в силах отделаться от мысли… А что, если однажды, попав туда, я не смогу оттуда выйти…
– Что за бред… что значит «не смогу».
– Потому что они меня не выпустят оттуда. Как могу я быть уверен, что подобная идея не стукнет кому-нибудь в голову? Есть такая книга… написал ее Томас Манн, а называется она «Волшебная гора». Так в ней один молодой человек отправился проведать своего кузена в туберкулезный санаторий… и вынужден был остаться там, поскольку оказалось, что у него тоже туберкулез. Зачем тогда рисковать? Всегда в таком месте может найтись кто-то, кто решит, что и я тоже…
– В этот вторник ты снова сводил ее в кино?
– Нет. Мы просто сидели и разговаривали. На поход в кино не было времени. Я привел с собой Кальдерона, чтобы он познакомился с текстом соглашения, которое Кедми и папаша сварганили вместе взамен прежнего. Я хотел узнать его мнение – у него трезвая, чисто финансовая голова банкира. А я рассказал ей немного об отце, о его новом стиле и о глубинных изменениях, произошедших в его жизни. Все для того, чтобы как можно лучше подготовить ее ко встрече с ним. Я сказал, что, по-моему, она не должна спешить с избавлением от принадлежащей ей собственности, ибо после развода она должна в решениях полагаться только на себя, больше ни на кого. Кроме того, мы говорили и о судьбе общей квартиры… о том, насколько это умно (а может быть, глупо) оставлять себе половину, в то время как совладелец ее будет находиться в Америке… и не лучше ли подумать о том, чтобы инвестировать ее в оборот тем способом, который принесет наибольшую прибыль. Она не так уж и стара и, в конце концов… кто знает, что эта жизнь еще приготовила ей. А еще она оказалась ужасно наивной… ей и в голову не приходило, что подобным образом можно что-то заработать… это в наши-то дни… словом, она оказалась до трогательности старомодным существом, живущим по понятиям, которых уже давным-давно нет.
– И что же она сказала в итоге?
– Она меня выслушала. А мой друг Кальдерон обрисовал новые возможности для нее. Основное, что я хотел внушить ей, было то, что ее позиция в этом случае решающая… Надо было, кроме всего прочего, удержать ее от чувства вины перед ним, которое она внезапно могла ощутить… дать ей существенную уверенность в себе перед разлукой на века…
– С кем?
– Не понял?
– Ее разлукой навеки… с кем?
– С кем?
– С ее расставанием навсегда.
– С кем?
– Я тебя не пойму.
– Ты только что произнес: «хочу помочь обрести ей уверенность в себе перед вечной разлукой»… ты имел в виду своего отца?
– Что?
– Ты думаешь о чем-то другом… В чем дело?
– Что? О чем ты толкуешь?
– Я сказал, что ум твой в эту минуту занят чем-то другим…
– Случилась страннейшая штука… внезапно я вспомнил… понимаешь… этот преподаватель английского… этот мистер Фокси, который появился в моем сне… послушай, это невероятно… это просто фантастика, на самом деле… как я мог это забыть… он ведь и в самом деле умер… его имя… как же я мог это забыть… только сейчас я это понял… просто удивительно…
– Когда он умер?
– Как раз недавно, несколько недель назад. Как я об этом узнал… я наткнулся на извещение о смерти, на некролог, в какой-то газете, который поместила там школа. Он скончался совсем недавно, а я все забыл. Не вспомнил ни на миг… так вот почему он мне приснился… я воскресил его из мертвых, не подозревая, что он… я абсолютно потрясен…
– Я предлагаю на этом остановиться.
– Не понял?
– На этом месте мы остановимся и с него же продолжим в следующий раз.
– Ах да… понимаю. Наше время истекло. Целый час… ну ладно. Тогда на следующей неделе…
– Мы не встречаемся на будущей неделе. Мы снова встретимся через две недели. На следующей неделе я буду в отпуске.
– Ты не сможешь встретиться со мной через неделю? Я тебя правильно понял?
– Правильно. Через две недели в это же время.
– Да… но откуда эта идея – уйти в отпуск? Я имею в виду…
– На следующей неделе – пасхальные каникулы.
– Ты хочешь сказать, что на Пасху ты не работаешь? Только не говори мне, что ты – религиозный…
– Нет. Я просто отправляюсь отдыхать.
– Но ты, надеюсь, будешь в Тель-Авиве?
– Еще не знаю.
– А не можем ли мы встретиться где-нибудь в другом месте? Может быть, даже в другое время… в любой день… я берусь все устроить…
– Боюсь, что не получится.
– В любое время, в любой час, в любом месте. В любом…
– Мы встретимся снова через две недели.
– Понимаю… одну минуту… я хочу с тобой расплатиться…
– Никакой спешки. Заплатишь в следующий раз.
– Но деньги у меня с собой. Я должен тебе…
– В следующий раз. Это может подождать.
– Извини… только есть еще одно…
– Да?
– Если на следующей неделе мне нужно будет сказать тебе несколько слов, буквально несколько… Я могу связаться с тобой по телефону?
– Не думаю, что это будет удобно. Давай дождемся, пока мы снова не встретимся. Это не продлится долго.
– Я… да… я только… Я не знаю, но… я чувствую, что на следующей неделе что-то произойдет. И возможно, я захочу тебе об этом рассказать… тебя не удивило, что я совершенно забыл, что этот учитель умер?
– Разумеется, и об этом мы проговорим тоже.
– Ты, может, не поверишь, но после сегодняшней встречи я проникся к тебе еще большим доверием. Чуть ли не влюбился… да… Раньше я не хотел тебе говорить, но поначалу ты производил на меня отталкивающее впечатление… Я имею в виду – физически… из-за твоего маленького роста… полноты… и эти смешные бачки с обеих сторон… почему ты отращиваешь их? Сегодняшняя мода – стричься как можно короче… таков стиль… а твои пейсы…
– И об этом тоже мы можем потолковать в следующий раз. А сейчас я предлагаю…
– Да. Я понял. Внезапно ты предстал передо мной в новом свете. Ты на самом деле хочешь подвести меня к чему-то… и есть пути, ведущие ко всему… В направлении… и ты вовсе не тянешь время…
– Да. И сегодня ты начал работать как следует. Но если говорить серьезно…
– Ты это тоже почувствовал?
– Да. Но сейчас не время говорить на эту тему. Поговорим обо всем этом в другой раз.
– Ужасно жаль, что сейчас нельзя продолжить разговор… но я хотел только спросить тебя…
– Ну, давай…
– Меня беспокоит еще одна вещь. Генетика… она неотвратимо передается по наследству? Я тоже, подобно ей, сойду с ума? Что тебе об этом известно?
– И об этом мы тоже поговорим. В следующий раз. А пока – не забудь у меня свой шарф.
– Я уже взял его… я хотел специально оставить его у тебя, чтобы иметь хоть какой-нибудь предлог для возвращения… так что теперь с этим все в порядке. Я ухожу. Последний вопрос на прощание – ты на самом деле считаешь, что даже самая незначительная деталь многозначительна… что не существует таких вещей, как случайность, бессмысленность происходящих событий… хаотического прилива и отлива жизненного моря?
– Нет, Цви. Стоп. На самом деле. Пожалуйста.
– Ответь хотя бы одним предложением. Пожалуйста.
– В чувственной сфере всегда присутствует некая субстанция, притягивающая к себе все несчастья… Но я обещаю тебе, что при следующей встрече мы обязательно обсудим это. Нам с тобой на этом направлении предстоит пройти еще долгий путь.
– Я не могу ждать. Сегодня выдался поразительный день. С чего мы начнем нашу следующую встречу? О чем ты хотел бы, чтобы я подумал? Ты должен заранее планировать это… не сомневаюсь, что возникнет этот мертвый учитель. Не исключено равным образом и то, что нам придется вернуться к самому началу сна… к этим зарослям кустарника… и к пожарному рукаву. А ведь ты знаешь… ты прав. Человек никогда не должен отступать…
– Мы можем начать с чего угодно. Предлагаю оставить этот вопрос открытым. Все, что взбредет тебе на ум. Даже собака.
– Собака?
– Почему бы и нет? Она ведь часть этой истории тоже. Ну а сейчас – прощай. Если ты только опять передумаешь уйти…
– Там, за дверью, кто-то стоит. Выходит все же, что я не самый последний…
– До свидания, Цви. Хороших тебе праздников.
…………
– Рафаэль, это ты? Что ты здесь делаешь? Мы договорились с тобою встретиться внизу.
– Доктор?
– Прошу прощения.
– Рафаэль, не сейчас.
– Я хотел только узнать, может ли он меня принять сейчас. Ты узнал это у него, Цви?
– Не сейчас, Рафаэль… не сейчас… ты должен уйти отсюда…
– Пожалуйста… сейчас совершенно не время для этого. Но мы можем твердо договориться насчет следующего месяца. Цви даст тебе номер моего телефона.
– Огромное спасибо… с большим удовольствием… счастливой Пасхи… я буду ждать тебя внизу… прошу меня извинить…
– Видишь… я же говорил тебе. Но здесь я освобождаю тебе дорогу… Это совсем не то, что со мной. Мне очень неприятно… я виноват… сейчас ухожу. Что случилось с ним прошлой ночью? Но я лучше пойду. Спасибо тебе. Огромное спасибо. Ведь мы скоро увидимся, верно?..
Суббота?
Возникнув, Время с самого начала В конце времен Покой Не обещало. Ури БерштейнСуббота? Суббота? Внезапно я спотыкаюсь на полпути и не могу продолжать свой рассказ. Что произошло такого три года назад в субботний день? Я не могу даже вспомнить. А был ли вообще подобный день? Он исчез без следа, не оставив после себя даже фантомного ощущения боли. Суббота? Каким-то образом я потеряла ее – и это я, которая заботливо сохраняла память о любом из ушедших дней, подобно жрице, охраняющей алтарь. Я, которая упрямо спасала их, на века замерзших в своей чистоте, неподвластной течению времени; я, рьяно собиравшая воедино и оберегавшая их собственные истории – одного за другим и день за днем, возвращая им их истинные составляющие, присущие только им цвет, запах. Обрывки разговоров, предметы одежды, перемены погоды и изменение настроения – все эти последние, ужасные дни, когда он, звездою экрана, лучезарно улыбался им в их невозможной, бесценной открытости тому отдаленному звучанию слабой, но устойчивой удачи, но при всем этом никто даже случайно не заметил, что наступило самое время именно тогда начать собирать воедино разрозненные клочки воспоминаний, разбросанные повсюду, словно остатки расползшегося на части старого одеяла; взять их у тебя, Кедми, у матери, у Аси, у Дины… забрать эти клочки, подобные тлеющим уголькам в золе памяти, даже у маленького Гадди и задать вопрос: что же, все-таки произошло тогда в больнице той ужасной ночью, и спрашивать об этом снова и снова (да, всех – и даже пса, если только мне удастся его отыскать и заставить говорить), чтобы помочь мне в моем неумолимом и бесконечном поиске правды о тех днях в их невероятной, бесценной для меня открытости, начиная с самого первого момента в аэропорту, когда он спустился по трапу, чтобы обнять нас на мокрой от дождя взлетной полосе – всех до одного, и до той, последней ночи, когда мы прибыли к больничным воротам слишком поздно, чтобы встретиться с ним, уже ушедшим прочь, оставив лишь скулящего и роющего когтями влажную землю пса, потерявшего, похоже, последний разум… для меня это был конец истории… Да, для меня, которая была, есть и будет одной из вас и которая не забывала – и никогда, никогда не забудет – и кто сохранит за вас за всех это в памяти, так же, как одинока была я в своей безоглядной любви к нему, любви, без всяких «а» и «но», никогда не бывшая за него и не бывшая против, но всегда находившаяся рядом с теми, кому могла потребоваться моя теплота и мое участие – все, что я могла отдать. Ты, Кедми, можешь делать все что угодно; любой из вас может это – а я всегда буду с вами. Вместо размышлений и раздумий… Да, взамен обдумывания и рассуждений я буду помнить. Размышления и раздумья я оставляю вам всем. И тебе, Кедми, и Аси, и Цви… но вы за это оставьте мне воспоминания, память о минувшем, ибо, кроме меня, этого некому делать. Только вот что меня мучает – что же произошло в ту субботу? Боже мой, как могло это случиться, что у меня из памяти выпал целый день, выпал начисто, словно его никогда и не было. А может быть, его на самом деле и не было? Иначе как мог он исчезнуть, выпасть из моей упрямой, ненасытной памяти, сохранившей минута за минутой все, что предшествовало свершившейся тогда катастрофе? Объяснения нет… разве что с самого начала я предчувствовала появление кого-то, кто вернет мою память обратно, в прошлое; вернет и потребует разъяснений… объяснений… уточнений… и вот тогда все, что моя память накопила, будет востребовано. И она пришла, эта минута, в виде маленькой женщины в нелепой шляпке с большим пером, блокнотом на коленях и длинным карандашом в руке, которая выжала из меня все, что я знала о нем и о них, выжала досуха, выдоила и опустошила, словно перевернутую бутылку, задавая бесчисленные вопросы на своем примитивном иврите, пока моя память, пятясь, раскрывала перед ней прошедшее день за днем – воскресенье, понедельник, вторник, среда… заставляя следовать пройденным им маршрутом – из Хайфы в Иерусалим и вновь обратно, а оттуда в Тель-Авив… утром, в полдень и вечером… все, что я знала, все, что я, собрав у вас, ссыпала, по зернышку, в амбар моей памяти, узнав от него… от вас… как если бы я была свидетельницей всего собственной персоной. Так что когда мы добрались до субботы, я умолкла. Мне нечего было сказать, у меня начисто отбило память. Музыка остановилась. А я стояла и, как идиотка, твердила одно и то же: «Суббота? Суббота? Совершенно не могу вспомнить чего-либо, что связано с субботой». Сознание почти что покинуло меня. Единственное, на что меня хватило, это на вопрос: «А вы уверены, что это было вообще? Может быть, это случилось в первый день Пасхи… иногда именно так и получается». Но она продолжала смотреть на меня. «Нам следовало бы разыскать старые календари и посмотреть…» Быстрая улыбка, мелькнувшая и так же исчезнувшая, навела меня на мысль, что, по ее мнению, я пытаюсь от нее что-то скрыть. Где все мы были в ту субботу? Что в это время произошло? Она уже спрашивала это. А я молчала – это я-то, которая бережно, как жрица к своему алтарю, относилась к каждому из прошедших дней, сохраняла и лелеяла в своей памяти, которая в эту минуту так изменяла мне. Так как же я могла хоть что-то забыть? Я даже дошла до того, что позвонила Кедми в его адвокатскую контору – помнит ли он о той субботе, если это была суббота, и может ли чем-то помочь мне память Цви… Ах так… но сам-то ты что-нибудь можешь вспомнить? Мне важно даже то, о чем ты думаешь, что ты это помнишь… пусть это будет не сама память, а тень ее… ну попробуй… напрягись. И позвони мне, я жду.
Я поднялась и начала вышагивать по комнате. «Суббота?» – бормотала я с успокаивающей улыбкой. Конечно. Через минуту-другую я все вспомню. В воскресенье он получил развод. В то утро он отправился в лечебницу один. Мы так и не поняли, как ему удалось уговорить раввинов завершить все формальности бракоразводной церемонии в день пасхального седера, – до тех пор, пока неделей позже не пришло извещение от одной неизвестной маленькой иешивы с благодарностью за щедрое пожертвование, которое он сделал. Один Всевышний знает, чего ему это стоило. Значит, остается только суббота. Суббота… ну, конечно. Никуда она не делась. «Все прояснится через минуту. А теперь, Яэль, улыбнись ей». И я улыбнулась. «Может быть, сначала позволим себе по чашечке кофе?» И я отправилась в кухню, пройдя по квартире, где все оставалось в том же виде, что до ее появления. Все было вверх дном. Грязные тарелки мокли в раковине, открытые кастрюли с остатками еды стояли на остывшей плите, стулья на столах ножками вверх, тряпки рядом с ведром на грязном полу, кровати не убраны, пластинка продолжает неслышно крутиться на патефоне, стоящем на прикроватном столике. Еще не было девяти, когда она появилась, и с тех пор всякой деятельности пришел конец.
Я вернулась обратно, неся кофе, и, пока она находилась в ванной, заметила оставленную открытой записную книжку с жирно подчеркнутыми записями; на каждой странице красовалась дата… и вообще мне показалось, что записи эти сделаны в минуту раздражения; более того, мне показалось еще, что она за чем-то охотится, что-то выискивает или пытается выяснить… и я ускользнула неслышно в детскую, бросить еще один взгляд на него, дремавшего в кроватке Ракефет. Прикрыв его тельце простынкой, я невесомо прикоснулась к его лицу. «Фантастика», – прошептала я про себя, чувствуя, что снова вот-вот заплачу, потому что это началось в тот момент, когда они появились, и я никак не могла с собою совладать и даже не надеялась на это. Возьми себя в руки, Кедми, и будь готов: ты не должен удивиться, увидев, что слезы текут у меня по лицу каждый раз, когда я бросаю на него взгляд, смотрю на этого ребенка. А она была так этому рада, увидев мою реакцию. Ей сразу стало легче, и лицо ее порозовело и разгладилось. Ведь вначале она была в совершеннейшей панике, бедняжка, когда стояла здесь у порога со всеми своими сумками, краснея и заикаясь, впадая в отчаяние оттого, что я решительно отказывалась понять, кто она такая. До тех пор пока меня не осенило – кто; и тогда я постепенно открыла перед ними дверь в квартиру, переняв с рук на руки ребенка, дотронувшись до которого, я залилась слезами. А кто бы мог поступить иначе? Во всяком случае, убеждена – не ты, Кедми. Ты мог бы найти в этой ситуации и повод сказать что-нибудь смешное… да. Не агрессивное, не унизительное или унижающее – просто таков ты, Кедми, что можешь увидеть смешное буквально во всем, но беды в том нет, ибо в сердце твоем нет злости. Ты добр… а смех? Что ж, смейся, сколько тебе угодно – так ведь и происходит едва ли не каждый день, когда ты возвращаешься домой с работы, в которой смешного не так уж много. Так что ты нашел бы смешным и то, как она со своей поклажей стояла на пороге, но ведь в ту минуту ты обошелся с ней так дружелюбно, с такой теплотой пожимал ей руки, что я не могла скрыть удивления, – надеюсь, ты не будешь отрицать, что заметил это. А ведь могло быть и иначе, и кто осудит человека, увидевшего незнакомую женщину с вещами и ребенком и отнесшегося к этой ситуации, скажем так, достаточно прохладно. Ты прошел прямо в кухню, где и увидел ребенка, сидевшего в детском кресле с салфеткой на груди, которую я завязала ему на шее, – он барабанил по столу суповой ложкой и пел что-то по-английски, и как мило это было, когда с озорным огоньком в глазах ты сказал, обращаясь к Гадди и Ракефет, которые ошеломленно глядели на него: «Ну, что, ребята, так как вам нравится ваш новый дядя из Америки?» Ты даже не представляешь, насколько легче мне стало, когда я увидела, что ты нисколько не рассердился, что ты вовсе не против того, чтобы с достоинством принять то испытание, которое вдруг возникло перед нами, и что у тебя хватает терпения, чтобы оставаться самим собой, не впадая в раздражение. Потому что я знаю тебя, и знаю, как это бывает. А потому прошу, нет – умоляю тебя: не начинай сразу же строить планы, как отделаться от них даже на те несколько дней, что они здесь пробудут. Позволь мне побыть с этим ребенком, прежде чем его от нас заберут. Мой любимый, как я люблю тебя, как я всегда думаю о тебе, думаю и горжусь, что ты так отнесся к чужому ребенку, от которого нет никакой пользы. Спасибо тебе, мой хороший, мой милый, за твое отношение ко мне и к малышу, ты был с ним так ласков… ты даже поцеловал его… разве не так? Конечно так. И потом взъерошил ему волосы. Признай это, Кедми, здесь нечего стыдиться. Ничего плохого в этом нет. Даже ты был тронут этим чудом.
Но я плакала, и она была счастлива. Видно было, что она чувствует себя много лучше, лицо ее прямо светилось. Оно было до того таким несчастным, таким напряженным, впервые она оказалась в Израиле, и прямо из аэропорта, после долгого перелета из Америки, схватив такси до нашего дома, без всякого звонка, опасаясь, что мы не примем ее… Я рванулась на звонок у входной двери, в квартире кавардак, грохот проигрывателя, который я включила вместе с гипнотизирующим шумом дождя, падавшего, подобно золотым монетам в лучах оранжевого солнца, и я, уставившаяся на нее, отказываясь признавать ее, уверенная, что здесь какая-то ошибка, и эта странная средних лет женщина с ребенком на руках и тремя мокрыми сумками у ее ног, пытающаяся скороговоркой сказать мне что-то на таком английском, который я не только не понимала, но не сделала даже попытки понять, так вот представь себе эту женщину, которая стоит у чужого порога и безо всякой надежды быть понятой, раз за разом повторяет без конца свое имя, которое абсолютно ничего мне не говорит, кроме того, что ее зовут Конни. И лишь постепенно, когда я повнимательней вгляделась в лицо ребенка, в голове у меня словно что-то взорвалось и пелена спала у меня с глаз. У него было лицо трехлетнего Цви… вот тогда-то, вся трепеща от пронзившей меня догадки, я пригласила их пройти в дом. И тут же прекратился этот поток невероятного английского – ибо она как-то заколебалась, неуверенная, что правильно поняла мой жест. А мальчик вошел внутрь безо всяких колебаний – и тебе стоило бы посмотреть на него в эту минуту, как он стоял, весь в красном, и прислушивался к музыке, словно персонаж из волшебной сказки. И веришь ли – у меня по щекам покатились слезы. А она – я это заметила, была просто счастлива видеть это. На нее просто приятно было смотреть, она хорошела буквально на глазах. «Это – его?» – прошептала я. Она кивнула. «Это его», – повторила она на иврите, закрыв глаза, а затем внезапно каким-то церемониальным движением вскинула голову. «Да. Это – его».
Странная, необычная женщина – ты не согласен? Тебе надо было бы увидеть, как она вырядила ребенка… Я уже говорила. Все красное, с головы до пят. Нет, ты только представь себе эту картину, все эти вещи: красное пальтишко, красная курточка и красные штаны… более того – красные даже трусики и нижняя рубашка – и все одного тона. И, как венец всего, на голове у него была красная кипа, которую она сделала для него специально к этому путешествию в Израиль, потому что она думала, что здесь буквально каждый… что обязательно нужно… ну просто чудная какая-то. Этот явный избыток красного цвета. И сама она, стоящая с ним рядом в этой неописуемой белой шляпке, но с длинным красным пером, развевающимся у нее над головой в разные стороны. Иди сюда, погляди, я покажу тебе, она ее оставила здесь. Интересно, у какой породы птиц могли бы быть подобные перья. Или оно синтетическое? Да, скорее всего так оно и есть. Она сидела напротив меня битых два часа с этим дурацким пером, развевающимся во все стороны, – странная, очень напряженная, ужасно нервничающая женщина. Как мы могли забыть о ней, о ее существовании? Мы словно вычеркнули ее из списка живых. Ты, я уверена, помнишь, что одно время я говорила всем вам, что мы обязаны выяснить, что там произошло, что надо написать ей, но ты, Кедми, был решительно против, а Цви и Аси вообще не желали ни о чем думать. У тебя что, мало здесь своих проблем, говорил ты, что хочешь добавить к ним проблемы из Америки? Ты боялся, похоже, что следствие могут открыть снова, что может возникнуть вопрос о правах на наследство в связи с этим ребенком, за чем может последовать пересмотр всех соглашений… Цви обещал нам, что этот маленький человек, который повсюду следует за ним с тех пор… этот банкир… как его? Кальдерон? Да, Рафаэль Кальдерон… что он позвонит ей в Америку и введет ее в курс всех дел. Поведает эту историю, что он и сделал… она сказала мне об этом сегодня, рассказав обо всех их тогдашних разговорах, в которых он проявил себя истинным джентльменом и поддерживал отношения с ней в течение достаточно долгого времени даже после того, как Цви совершенно прервал с ним все связи. А можешь ли ты поверить, что однажды он даже послал ей подарок от нашего имени, когда ребенок появился на свет? Она была уверена, что мы об этом знаем, – она, которая так нас боялась, возлагая на саму себя всю ответственность за то, что случилось, за то, что это событие подтолкнуло отца оформить юридически его развод с мамой, чтобы ребенок мог официально носить его фамилию. После всего этого она была уверена, что мы свяжемся с ней. Она не в состоянии была поверить, что нам не захочется увидеть ребенка, а потому она спокойно дожидалась, пока он станет немного старше для подобного визита. Как могли мы не проявить к нему никакого интереса? Полгода назад она даже приступила к изучению иврита на специальных курсах – и ты сам сможешь убедиться, каких успехов она таки добилась, хотя и плохо, но она уже может говорить! Я думаю, что к языку у нее есть определенный дар. Я уже говорила тебе, что она сидела лицом к лицу со мной все это время с карандашом в руке и своей записной книжкой, записывая в них все новые для нее ивритские слова. А начал все это отец, он стал учить ее и делал это очень заботливо и продуманно. Ужасно странная женщина… и не такая уж молодая тем не менее. Ей где-то в районе сорока пяти, и у нее уже есть женатый сын. Более того, она мне доверительно сообщила, что скоро станет бабушкой. Она немало рисковала, решившись завести ребенка в ее возрасте, ведь она вполне могла родить и урода. И при всем при этом как женщина она выглядит вполне привлекательно, не так ли? Выглядит, конечно, усталой… морщины ее не красят, а вот краска для волос, похоже, была не лучшего качества, что можно понять, потому что, как она мне призналась, эти три последних года дались ей совсем нелегко… но тело еще полно жизни. Видно, что она за ним ухаживает. Я отметила это, когда она пошла принять душ, а я зашла в ванную спросить, не нужно ли ей чего-нибудь, – тело у нее молодое, упругое, много моложе ее лица, и груди хорошие, налитые – могу себе представить, сколько удовольствия в постели она могла доставить отцу. Все это трудно увидеть, просто разглядывая ее. Ты, я уверена, пришел бы в ужас от ее макияжа, ты к такому не привык. И одевается она странновато и, я бы даже сказала, несколько нелепо; добавь сюда эти огромные с затемненными стеклами очки в роговой оправе вдобавок к идиотскому перу, торчащему, словно стрела. И при всем при этом ей свойственна жесткость, нечто вроде внутреннего стержня, равнозначная твердости характера и врожденному упорству. Этим объясняется, по-моему, то, что она решилась прилететь в незнакомую страну и явиться в незнакомый чужой дом с маленьким ребенком, одетым во все красное… я уверена, что подобное облачение призвано символизировать нечто… но я не могу вообразить, что бы это было такое… почему даже ботиночки на нем были красного цвета… уверена, что у нее на уме при этом что-то было. И то, как она принялась допрашивать меня о каждой, даже мельчайшей подробности, а затем, не дожидаясь формального предложения, раздела мальчика и принялась его мыть под душем, переодела, и, оставив его у нас, просто исчезла… Признаюсь, Кедми, все это просто испугало меня, куда она от нас отправилась? Чего она хотела? И единственное, что меня успокаивает, так это то, насколько совершенно для меня неожиданно, насколько необычно и несвойственно для тебя, как спокойно ты все это воспринимаешь. Ты меня слушаешь, Кедми? Я не сомневаюсь в тебе и верю, что ты все уже обдумал и просчитал эту ситуацию. И тем не менее я повторяюсь: она – очень необычная, странная женщина, и теперь я понимаю, что совсем не случайно она привлекла внимание моего отца. И еще что она прилетела, руководствуясь неким скрытым мотивом, а совсем не желанием узнать подробности того, что случилось. Тебе нужно было самому видеть, насколько терпеливо она выспрашивала меня, выпытывая из меня сведения, не жалея своего времени, уточняя каждую мелочь, даже если видела, что мне это неприятно: о тебе, о маме, об отце… не было ничего, что бы ее не интересовало. И я уверена была, что после этого она отправится посмотреть на все, о чем я упоминала; что мы поедем в Тель-Авив и Иерусалим и она пройдет весь путь по его следам вплоть до психиатрической больницы. Как же могли мы забыть о ней, всхлипывала она; как мы могли забыть о нем? Я рассказала ей все, что могла, сама нередко удивляясь тому, что сохранилось в моей памяти, а я все вспоминала и вспоминала. Кончилось тем, что она выдоила меня досуха. И это продолжалось до тех пор, пока я не споткнулась на субботе. Что тогда произошло, Кедми? Я помню, что воскресенье было днем Пасхи, и что отец самостоятельно отправился автобусом в больницу, чтобы получить свидетельство о разводе. Он вернулся в тот же полдень, и в тот же вечер приехал Цви. Но до того ведь была суббота, о которой даже под страхом смерти я не могла бы ничего сказать… Так что ж тогда случилось, Кедми? Мы были дома? Я стараюсь рассуждать логически. Чем могла я заниматься в тот день? Скорее всего я готовилась к пасхальному ужину… должна же была я приготовить все, что полагается. Если бы мне удалось вспомнить, что я делала, я смогла бы восстановить весь день. Что мы ели во время седера? Кедми? Нет, не сердись… скажи мне только, если помнишь что-либо… Суббота… должно же было хоть что-то происходить! Я знаю, что не происходило ничего… я имею в виду – ничего важного… что-то вроде антракта… но тем не менее… не могу же я не помнить ничего, даже простого факта. Вот почему на прощание я сказала ей: «Извините… но вы уверены, что это действительно было в субботу?» Что вызвало у нее раздражение. «Даже не сомневаюсь в этом» – так она ответила мне. Тогда я сказала: «Я, кажется, что-то начинаю припоминать такое. Потерпите минуту-другую». Но это не заставило ее угомониться… она продолжала напирать на меня, не давая передышки. «Я более чем уверена, что это была суббота, – упрямо твердила она». – «Я даже сама вам позвонила». – «Вы нам звонили? Каким образом вы звонили нам?» – «Я лично звонила вам по телефону. В ту субботу, рано утром. Я хотела с ним поговорить… неужели вы не помните?» – «Это невозможно, – сказала я. – На этот раз вы точно ошибаетесь. Вы нам никогда не звонили. Если бы это имело место, я бы это запомнила. В этом я совершенно уверена».
– Но дело в том, что на этот раз ошибаешься ты. А она звонила на самом деле.
– Она звонила в то время, когда отец был здесь?
– Да. В середине ночи. Сейчас я вспомнил. Она сказала тебе, что это было утром? Забавная дама. Она разыскивала его ровно в полночь.
– В ту субботу?
– Ты что, всерьез полагаешь, что я помню, какая именно суббота это была? И была ли это суббота? Поверь мне, есть множество дел, о которых я должен помнить. Я пытался позабыть весь этот ночной кошмар со всей возможной быстротой и не придавая ему какого-либо хронологического порядка в моей жизни.
– Но ты никогда не обмолвился ни словом насчет этого телефонного звонка.
– С чего бы я стал говорить с тобой о нем? Она разыскивала его. А не тебя. Я сказал ей, что он отправился в Тель-Авив, и дал ей тамошний номер. Так о чем я должен был тебе рассказывать? Вы все в то время посходили с ума. И я должен был очень заботливо дистанцироваться от вас. А вы были очень довольны, что отстранили меня от всех ваших дел. Испугались, что мой здравый ум разрушит вам все ваше лунатическое удовольствие…
Твой здравый ум? Твое здравомыслие? Твое невыносимое, нестерпимое, невозможное для любого нормального человека здравомыслие – ты этим гордишься сейчас, как и тогда. Позабыв, очевидно, что отец в клочки разорвал тогда составленное тобою соглашение и отправился искать другого адвоката в Тель-Авив. Тебя тогда это так оскорбило, что ты метался по квартире, как торнадо. Ты был просто в ярости. Ты был абсолютно невозможен. Срывал свое возмущение на любом, кто попадался тебе под руку, даже на Гадди. Вел себя, как необузданный дикарь, как варвар, бушевал, хлопал дверями и исчезал из дома безо всякой причины. Ты был подобен ночному кошмару, и началось все это сумасшествие в среду, в больнице, в тот момент, когда ты вошел в библиотеку и увидел составленное тобой соглашение разорванным на клочки. И то, как ты бережно принялся собирать их один за другим с язвительной усмешкой на губах… ох… я прямо как сейчас вижу, насколько это тебя оскорбило. Нет, не надо… не отрицай этого… с тех пор прошло так много времени, и я думаю, что тогда ты был прав. Я должна была отобрать текст соглашения у отца, едва поняла, что он собирается его порвать, но все произошло так быстро… Аси вскрикнул и даже оцарапал себе лицо, как я теперь понимаю, намеренно, чтобы отвлечь отца… А затем внезапно на пороге появился ты… и документы, над которыми со всей своей тщательностью ты работал столько дней… все это время бегая с ними к маме… и все эти телефонные звонки, со всеми этими черновиками, которые, разорванные на клочки, валялись теперь у наших ног, с отцом, кричавшим, что теперь он отправится к любому другому юристу из тех, кому он сможет доверять… каково все это было слушать, мой дорогой. Я-то знала, что мы никогда не вовлекали тебя в подобные дела. Но ты сам настоял на этом. Ты хотел принять в них участие. Ты хотел доказать ему, хотел доказать всем нам, что способен справиться с этой проблемой, и я не могу себе простить того, что не смогла остановить тебя. А ты на своей идее просто помешался, она превратилась у тебя в манию, и ты своей убежденностью сумел всех парализовать; всех… но больше всего меня. Нет, я ни в чем не упрекаю и тем более не обвиняю тебя. У тебя были самые похвальные намерения. Ты жаждал нам помочь, спасти отцовские деньги. И не исключаю, что он заплатит тебе в конце концов хоть сколько-нибудь. Нет, прошу тебя, не злись на меня. Послушай, это не была твоя ошибка, тем более не твоя вина. В то время ты так нуждался в работе, тогда – помнишь, Кедми, ты только-только открыл крошечную юридическую контору со слабоумной секретаршей, которая путала все на свете. И от отца мы не получили, увы, никакой поддержки. Конечно, он не должен был отстранять тебя от дел в самый разгар процесса, тем более так, как он это сделал, уйдя к другому адвокату… но все же твоя реакция показалась мне избыточно злобной… пусть даже с учетом того, что твоя гордость была задета… я отметила это, когда мы шли к машине, из которой наружу вырывались какие-то вскрики; как только мы выключили приемник, я почувствовала, насколько злобной была наступившая тишина. И в жесте, которым ты включил мотор… А помнишь, что ты проделал с собакой? Нет, не изображай невинность, спрашивая, что там была за собака. Это была наша собака, Горацио. То, как ты сознательно и жестоко играл с ним на трассе, заставляя бежать за машиной из последних сил до тех пор, пока он не перестал ориентироваться… уж не хочешь ли ты уверить меня, что ничего не помнишь? По просьбе мамы ее друзья из больницы в течение пяти суток разыскивали его повсюду. Особенно тот невысокий старичок – где он только его не искал… Но давай будем честны наконец. Сейчас я ни в чем тебя не обвиняю. Мы тогда все совершали ошибки, и, сложившись, они лишь все ухудшили, в частности то, что мы потащили с собой Гадди. Да, я знаю, знаю, что отец очень этого хотел. Но я взяла его не из-за отца, а ради мамы, и в конце-то концов все, что было, упало на его плечи непосильным грузом. Но ведь ты за него тогда не заступился, тебе его было не жалко. Ведь ты был безжалостен к нему… беспощаден. Ты был жесток. Ты хотел наказать весь белый свет из-за составленных тобою, но разорванных моим отцом документов, из-за того, что он потерял к тебе доверие. И ты попросту потерял над собою контроль, как рассерженный мальчуган. Для меня это оказалось полной неожиданностью, потому что никогда прежде такого с тобой не случалось; что-что, а контроля над собой ты никогда не терял. В любой ситуации, при всех твоих штучках, при циничных выходках, когда ты работал на публику, во время пустой твоей и ненужной болтовни и буйных выходок я всегда знала и могла быть уверена, что ты не перейдешь определенных границ. Не горячись, говорила я в таких случаях сама себе, он просто играет, он отлично знает, где нужно остановиться, чтобы потом с улыбкой извиниться. Вынося терпеливо все это, думала я, ты можешь втайне наслаждаться даже этими его проделками. И ты сам ведь тоже знал, что они веселят меня, так ведь? Потому что я всегда знала, что, оставшись без сил, ты рухнешь в постель, где я тебя и найду поздно вечером, свернувшегося клубком, почти бездыханного, и меня нисколько не заденут твои колкости и язвительные придирки, потому что я знаю тебя другим – отяжелевшим, тихим, сонным и теплым. Но тогда ты был в состоянии какого-то дикого бешенства. Нет, нет… не пытайся сейчас выглядеть героем; ты просто не счел нужным поговорить с кем-нибудь из нас тогда… и этим объясняется то, что ты не рассказал мне о ее телефонном звонке. И еще: ты перестал разговаривать с нами, потому что для нас это было самым тяжелым наказанием… пусть даже еще более тяжелым оно было для тебя самого. Ибо что может быть для тебя ужаснее молчания? Оно для тебя просто изнурительно, оно лишает тебя сил и попросту сводит с ума. А я в это время думаю совсем о другом. О том, что и с Гадди тогда ты перестал общаться. Сейчас ты можешь делать вид, что не помнишь об этом. А тогда день за днем… ты не перебросился с ним ни единым словом… как если бы за все происшедшее он нес ответственность тоже… и это Гадди, который привык к тому, что ты всегда был в центре его внимания, вникая во все его дела, ты, на которого он только что не молился, которым он восхищался и которого обожал… нет, погоди… когда я говорю о восхищении, это означает прежде всего степень его привязанности к тебе, восхищения и доверия, вот так. Я не имею в виду, что это объясняет все, с ним произошедшее. Но он переносил все это очень тяжело. Разумеется, не только поэтому – он вдруг разом лишился опоры, все те события, которым он невольно оказался свидетелем, давили на него, эта непонятная ребенку вспышка необъяснимой для него дикой ярости не только испугала его, но и спровоцировала сердечный приступ. Я сказала ей об этом в то утро, потому что хотела, чтобы и она поняла, через что пришлось пройти нам в то утро, чтобы она поняла, как мы чуть не потеряли и нашего мальчика… а мы потеряли бы его, если б не ты. Да, если бы не ты; я повторила ей это несколько раз. «Только Кедми», – сказала я. Он… и только он. Я не забуду этого до конца своих дней. Если бы он не среагировал с такой неправдоподобной быстротой на состояние нашего мальчика и не настоял бы на том, чтобы мы немедленно обратились в больницу… не откладывая… если бы он не обратил внимания на симптомы его недомогания, найдя его лежащим на полу… Я именно так сказала ей тем утром: «Если бы не Кедми»… потому что и я сама не уделяла Гадди достаточно внимания, была слишком ошеломлена, слишком занята и озабочена тем, что случилось с отцом, и ни о чем другом не в состоянии была думать. Но кто мог себе даже вообразить, что у мальчика семи с половиной лет может быть такой сердечный приступ… инфаркт… Посреди всего этого ужаса в здравом уме остался только Кедми, который сохранил для нас жизнь нашего мальчика. Который дал мне его снова, во второй раз… а потому с той минуты я поклялась себе, что буду отныне верной его рабой… твоей рабой, мой любимый… и всегда буду прощать тебе все, что бы ты ни натворил… ей я этого не сказала, но тебе я говорю это сейчас. Ты меня слушал?
– Что я должен был услышать?
– То, о чем я говорила.
– Ты не говорила ни о чем. Ты молчала.
– Я молчала?
– Может быть, ты говорила сама с собой, но, насколько я в состоянии судить, ты сидела молча.
– Значит, я разговаривала сама с собой?
– Откуда мне знать? Спроси у себя.
– Ты, должно быть, уснул.
– Ты всегда думаешь, что если я молчу – значит, я сплю, поскольку у меня нет возможности говорить. Другого ты не допускаешь. Но представь себе, Яэль, что достаточно много времени я думаю, не производя при этом шума. Во время работы в конторе, к примеру сегодня, у меня возникло столько мыслей, что оставшихся хватит даже на завтра.
– Который час?
– Уже больше десяти.
– Неужели ты в состоянии уснуть в такую рань?
– Я в состоянии уснуть в любую минуту. Не говорил ли я тебе, как будет называться моя последняя книга? «Умение уснуть. Десять доступных уроков». Ну, как тебе?
– Я готова стать твоим первым, Кедми, читателем.
– Спасибо. С твоей стороны это очень мило. Первый урок будет называться так: «Скажи своей жене, чтобы заткнулась».
– Кедми… она все еще не вернулась. Где ее до сих пор носит? И ей даже не приходит в голову позвонить. Не могу представить себе, где она. Она умчалась около четырех. Я начинаю волноваться.
– Если это тебе нравится, волнуйся сколько влезет, но я не понимаю, почему ты так спешишь. Давай дождемся завтрашнего дня. Тогда сможешь начать волноваться по-настоящему.
– До завтра? О чем ты говоришь?
– Пролетела птичка и шепнула мне, что она уехала из города. А ты ведь знаешь, что птички никогда меня не обманывают.
– Какого черта ей понадобилось уезжать из города? И когда? Она сказала, что хотела бы навестить некоторых знакомых… что она должна что-то им передать…
– Она попросила меня высадить ее возле центральной станции. Я совсем не уверен, что там у нее есть какие-либо знакомые…
– Ты хочешь сказать, что высадил ее у центральной станции? Ты об этом мне даже не заикнулся.
– Существует множество вещей, о которых я тебе не заикаюсь. Так, например, я утаил от тебя, что она приобрела подробную карту Израиля и попросила показать ей, где именно находится больница… а также рассказать, как лучше до нее добраться.
– Она не поедет в больницу… там ей нечего делать. Но тогда где она? И ребенок здесь… о чем она только думает?
– Совершенно не представляю, о чем она думает, но зато я знаю, о чем думаешь ты, и боюсь, что это снова очередная глупость. Ты думаешь, что она оставила тебе ребенка в виде подарка и смылась… но это, боюсь, уже чересчур, Яэль. Этот красивый, здоровый белокожий мальчуган, вдобавок посещавший религиозную школу, тянет на рынке на несколько тысяч долларов, даже если снять с него все эти красивые одежки. Мне не верится, что она так легко может решиться потерять такие деньжищи…
– Как можешь ты такое даже произнести, Кедми?
– Яэль… она вернется. А если нет – мы отдадим малыша Дине и Аси. Я уже говорил тебе, что мы никогда не вернем себе святой дух, который христиане стащили у нас две тысячи лет тому назад.
– Можешь ты мне просто сказать, что с тобой стряслось? Что это за странный метод, которым ты со мной сегодня говоришь?
– Ничего странного, Яэль. Это метод чистой логики, холодный, неторопливый путь логических рассуждений. А то, что касается эмоций, их я оставляю тебе.
– Ты… ты не понимаешь… или делаешь вид… ты не разглядел ее как следует… ты ведь едва перекинулся с ней двумя-тремя фразами… А я провела с ней вместе все утро. Она – странная, подозрительная женщина. Она приехала сюда, руководствуясь некими туманными мотивами. И я не понимаю, как ты можешь так спокойно врать мне. Ты тоже начинаешь казаться мне странным…
– Ну, спасибо…
– Нет, правда… Как можешь ты проявлять такое безразличие? Это на тебя совсем не похоже. С тобой что-то не так. Тебе что, кажется нормальным… появиться у нас вот так, безо всякого предупреждения… с этими своими сумками и с ребенком… а если бы ты мог видеть, во что он был одет… во что она его обрядила…
– Дай мне возможность угадать. С трех попыток. Он был весь в красном?
– Ну, хватит! А теперь оставь меня. Больше я не скажу ни слова.
– Если ты хочешь, чтобы я выпрыгнул из постели и начал вместе с тобой носиться по комнатам… я имею в виду, если это поможет тебе угомониться, успокоиться, я буду только счастлив сделать это. Потому что не существует ничего, чего бы я не сделал для тебя, дорогая моя жена. Но это было бы невероятно и неосуществимо для меня в качестве автора книги «Как заснуть без проблем. Десять легких уроков».
– Кедми, хватит! Уймись! Все. Все. Неужели даже на ночь глядя ты не можешь избавиться от этого своего тона… потому что я больше не могу…
– Ну, а я не пойму, из-за чего ты так выходишь из себя. Просвети меня. Если бы мне кто-нибудь притащил прелестного англоговорящего младшего братца… вроде этого… Я просто умер бы от радости. Беда твоя в том, что ты относишься к подобным происшествиям без достаточной благодарности. Будь ты, ну вот как я, в семье единственным сыном… Ты относилась бы ко всему совсем иначе. И по-другому ценила бы то, что сегодня произошло.
– Ты можешь меня оставить?
– А может быть, сейчас ты хочешь немножечко поплакать? Сдается мне, что в этом заключается твоя проблема – ты сегодня совсем не выплакалась. Ты можешь себе это позволить… если же ты этого не сделаешь, окажешься в той же ситуации, что и три года тому назад. Вот этого мне не хотелось бы увидеть снова. Мне стоило больших сил вернуть тебя снова в норму без потерь. Мне казалось, что мы вновь стали единым целым. А теперь я боюсь, как бы не оказалось, что некоторые части этого целого мы потеряли по дороге.
– Кедми, умоляю. Не сейчас. Я просто чертовски нервничаю.
– Она вернется. В самом деле, Яэль. У тебя нет никаких причин напрягаться так сильно. Расслабься…
– Ты уверен?
– Единственное, в чем я уверен, – это в нашей большой, хотя и ужасной любви. Если бы ты не была столь озабочена, я мог бы тебе признаться, что не одна… скажем так, леди была бы счастлива быть со мною в этот ночной час… Но я не хочу доставлять тебе дополнительных тревог. Мне, кстати, очень понравилось то, что ты сказала о моем самообладании. О том, что я, по твоему мнению, самые важные вещи всегда способен держать под контролем. И о том, что втайне тебе нравятся мои шутки. Я бы хотел, чтобы ты написала это… или, как мы, юристы, говорим, предъявила свое восхищение мною в письменном виде – так, чтобы твои поклонники перестали обвинять меня в том, что я все время терзаю тебя.
– Но ты и в самом деле меня терзаешь. А что послужило причиной такого твоего превосходного настроения? Я вся вне себя, а ты растянулся на спине и не похоже, чтобы это тебя хоть как-то волновало. Ну, Кедми, давай выкладывай, что случилось. Уж не провернул ли ты сегодня у себя в конторе какое-нибудь прибыльное дельце?
– Как говорится, «чуть было не…». Но мне нравится и то дело, которое мы получили с доставкой на дом… оно ничуть не хуже того, что было в конторе. Суди сама: мы расширили и приумножили состав семьи, не прилагая для этого совсем никаких усилий. Я приобрел нового шурина вместе с кипой и энергичную, достаточно молодую американскую мачеху. Что-то такое происходит вокруг нас… словно поменялось что-то в атмосфере… словно и сами мы сегодня помолодели. Я думаю, что расширенный состав вашей семьи…
– Ну вот что… с меня хватит. С меня хватит, и я ухожу. Как раз сегодня ты полностью потерял над собою контроль.
– Ты прекрасно знаешь, что ничего я не потерял. Ты сама сказала, что…
– Мне кажется, что ребенок плачет.
– Он и не думает плакать. Но если тебе хочется порыдать, я могу тебе это устроить.
– Где ты на самом деле ее подобрал? Давай-ка выкладывай все как есть. Голую правду. И куда ты ее дел.
– Да я уже говорил тебе. Я отвез ее к центральной автостанции. Я ни о чем ее не спрашивал, но понял, что она собирается двинуть на север… и, скорее всего, разыскать там эту психушку, – вот все, что я успел сделать. И поменять для нее несколько долларов. У меня совсем не было времени, я спешил скорее добраться до работы. Я с тобою согласен – она особа довольно странная. Что-то в ней есть от лунатика, какая-то призрачность, что ли. Ходячее привидение, а? Ну, что-то в этом роде. Невозможно поверить, что твоему отцу понадобилось добраться аж до Америки, чтобы найти точно такую же спутницу жизни, как та, что он оставил здесь и от которой он сбежал.
– Моего отца оставь в покое. Ты меня слышишь? Не трогай его сейчас. Хватит. Лучше скажи мне, что было в субботу?
– В субботу?
– Тогда… когда мой отец был здесь. Три года назад.
– Ох, нет. Теперь ты начинаешь все сначала. Только не говори, что тебе по-прежнему хочется отыскать тот потерявшийся день.
– Да. И дело во мне. И в том, что я полностью забыла о нем.
– Боже, спаси нас и помилуй, она начинает все сначала. Ну что на самом деле тебе нужно?
– Мне нужно знать. И чувствую я, что ты прекрасно помнишь, что тогда произошло, но почему-то не хочешь, чтобы я знала тоже.
– Помню? Я помню? Неплохо! Не думаешь ли ты, что мне нечем больше заняться, кроме как вспоминать о том, что случилось три года назад? Не в силах представить даже, когда всему этому бреду настанет конец. Я надеялся, что после всех передряг мы в своем доме введем разделение труда, где на тебя ляжет ответственность за прошлое, а я буду заботиться о настоящем, так что когда настоящее превратится в прошлое, для тебя будет что вспомнить. На этом пути, моя дорогая, ты зашла достаточно далеко; теперь самое время вернуться из этого сумасшедшего дома обратно в нормальную жизнь. А она… поверь, она не исчезнет, растворившись в воздухе. В этой стране это не под силу никому. Не успеешь ты спрыгнуть со скалы вниз, как пять вертолетов Службы спасения уже будут висеть в воздухе, чтобы перехватить тебя. Давай потихоньку приходи в себя. Я уже намекал тебе, что не одна дама могла бы уже уходить от меня, осчастливленная, даже на ночь глядя… Эй, постой… а ты-то куда собралась?
Да, но что все-таки случилось в ту субботу? Должен же быть ключ к разгадке; проблеск луча, форма облака, чей-то внешний вид, предложение, несколько слов, тональность голоса, движение ребенка, передача по радио, очередная шутка Кедми, настроение, в котором я пребываю, собственное мое лицо и просто мысль. Где же ты, этот день? Где ты потерялся? Кто увел тебя? Каким-то образом я сама тебя проворонила? Где-то должна находиться отправная точка. Но почему я так зациклилась на этом дне, чем он так памятен, незабываем, что намертво засел в моем сознании, ведь и все то (что я запомнила) было: яростная синева неба за окном… отец в темном костюме, прихлебывающий свой кофе… его очки для чтения, съехавшие на кончик носа, пальцы, быстро листающие бумаги, лежащие перед ним, быстро брошенный на меня взгляд. Но вот вопрос: когда он вернулся в Хайфу? В пятницу после полудня он позвонил уже из Тель-Авива. Кедми поднял трубку, что-то грубо буркнул в нее и снова ее повесил, знаком подозвав меня. Снаружи вовсю лил дождь. Телефон зазвонил снова, и я взяла трубку. Голос отца, теплый и глубокий, звучал издалека. «Папа, – спросила я, – а что, в Тель-Авиве тоже идет дождь?» А он ответил: «Здесь абсолютно чистое голубое небо, дорогая. Лучшего Тель-Авива я не видел никогда». Он сказал мне, что решил оставить ей всю квартиру и подписал об этом все необходимые бумаги несколько часов тому назад. Затем он перешел к проблеме с Цви. «Не спускай с него глаз. Он способен на все. И в отношении тебя тоже. Вместе с этим старым педерастом». Он повторил эту фразу еще несколько раз: «Вместе с этим старым его педерастом, который все время вьется вокруг него». Но помимо этих двух воспоминаний, в промежутке между ними прошел, собственно, весь день, окутанный белой пеленой глубоко внутри меня, оставив незаполненное чистое пространство между этими двумя фиксированными точками. Та суббота… какой-то проблеск возникает только в связи с его прибытием в Хайфу. Когда он туда прибыл? Когда он мог туда прибыть? Что случилось, когда он там оказался? Думай, что ты могла позабыть. Эх, если бы я тогда услышала тем утром ее телефонный звонок… Потому что она и в самом деле тогда звонила, и я должна была расслышать его, даже если я его не ожидала. Если бы я услышала тогда звонок телефона, или предполагала, что она может позвонить, у меня в руках была бы хоть какая-то зацепка.
Но ответа нет. Нет ничего. Серая пустота. Пробел. Игра воображения. Страница, вырванная из календаря. И больше ничего. И все то, чего быть не может. Но должен существовать способ, который поможет памяти вернуться. Должен быть. Здесь, в этом кресле. В эту минуту. Напрягись, Яэль. Выключи свет. Я должна найти эту субботу. Если я не сделаю этого сейчас, мне никогда ее не вернуть.
– Что это, Гадди? Что тебя тревожит? Тебе что, не спится?
– Нет. Я не сплю. Просто сижу – вот и все.
– Никакой особой причины.
Я выключила свет, чтобы он не мешал мне думать. Нет, пожалуйста… не укладывайся сейчас на диване… Возвращайся в кровать, уже поздно…
– Беспокоит? Что? Ноги? Это ерунда. Это потому, что ты растешь. Абсолютно ничего не значит. Папа? Он снова уже в постели.
– Я не знаю. Для чего он тебе? Не думаю, что он уже заснул. Он часто продолжает обдумывать свои рабочие дела перед сном.
– Ты хочешь есть? Как это может быть? Ну хорошо… скажи, чего ты хочешь. Но только чтобы это было мгновенно.
– Хлеба? Посреди ночи ты хочешь хлеба? Хорошо, я отрежу тебе ломтик. Что тебе положить на него?
– Просто хлеб?
– Нет. Папа не голоден. Он немного перевозбужден. Не беспокойся об этом.
– Но ты совсем не становишься толще. Нисколько.
– Забудь о его словах. Он уже запамятовал, что в твоем возрасте мальчики все время растут.
– С тех пор как оба вы решили придерживаться диеты, он думает, что ты должен считать каждый свой укус. Ты не должен обращать на это никакого внимания.
– Вот это абсолютно правильно.
– Я отлично знаю, что тебе полезно есть, а что нет. Давай я тебе намажу сверху чуточку масла. Совсем капельку… только чтобы у тебя не было сухо во рту.
……………
– Его мама? Она скоро вернется.
– Нет. Он с нами не останется. Только на несколько дней.
– Она попросила присмотреть за ним. Он славный мальчуган, верно?
– Нет. Она надела на него кипу, потому что не придумала ничего лучшего. Она думала, что в Израиле все ходят так. В кипах.
– Хорошо. Я передам ей. Но он ведь все равно симпатичный мальчик, правда?
– Это не имеет значения. Ты и Ракефет научите его нескольким словам на иврите.
– Нет, не называй его Моше. Он не поймет, почему ты так к нему обращаешься. Называй его Мозес. Это то имя, к которому он привык.
– Да, мой хороший. Мозес – это его настоящее имя.
– Почему ты решил, что он заикается? Боюсь, тебе это показалось.
– Я не заметила. Так говорят у них в Америке.
– Хорошо, не все. Но дети…
– Пусть даже не все дети. Но не забывай, что на самом деле он еще малыш. И он сейчас очутился в чужом доме после долгого путешествия.
– На кого?
– Верно. На Цви. Он – просто поразительно похож на него, копия. Когда-нибудь я покажу тебе фотографию Цви, когда он был ребенком, и ты сам увидишь, как они похожи.
……………
– Совершенно верно.
– Правильно. Потому что он дедушкин сын, пусть даже сам дедушка никогда его не видел.
– Да. Он умер незадолго до его рождения.
– Здесь, в Израиле.
– Нет. Он вовсе не был так уж стар. С ним произошло несчастье… что-то у него внутри… и этого он не выдержал… точнее мы не знаем.
– Ну… что-то такое…
– Мы говорим, что это был несчастный случай.
– Ну… да. Что-то вроде автомобильной аварии.
– Нет. Он тебе не настоящий дядя, как Аси или Цви. Твой папа, как всегда, пошутил. Но наполовину он и на самом деле приходится тебе дядей, пусть даже он такой малыш.
– Вот это верно.
– И это правильно. Он – сын дедушки.
– Да. Как я. Как Аси.
– Да. Что-то вроде… один из них. Так можешь и говорить.
– Совершенно верно. Разве что бабушка не была его мамой.
– А ты сам помнишь дедушку?
– Правда? На самом деле? Ты хорошо его помнишь?
– Я так рада, что у тебя была возможность встретиться с ним. Никогда его не забывай.
– Вспомнишь… если захочешь этого. Но только если захочешь.
– Да. Ракефет не сможет вспомнить, даже если очень захочет. Но ты… что именно ты запомнил?
– Да, правильно. Он проспал целый день.
– Когда он прилетел, было воскресенье.
– Верно. Ты тогда остался один.
– Верно, верно. Я помню, что вы купали с ним Ракефет. Он был очень доволен тем, как ты ему помогал.
– Он порезал себе руку? Нет, этого я не помню. Но это вполне могло случиться.
– Это было до того, как ты заболел.
– Нет. И совсем не толстый. Ты был то что надо. Иногда я жалею, что эти времена прошли.
– И в заключение? Помнишь ли ты седер с дедушкой?
– Не помнишь? Как это может быть? Попробуй-ка вспомнить…
– Что ж… нет так нет. Но ты должен помнить, как мы ходили навестить в больнице бабушку. Вместе с дедушкой и Аси. Помнишь?
– И это тоже совсем нет?
– Тебе было тогда семь с половиной. Как же ты можешь не помнить?
– И даже то, как все мы встретились с бабушкой и она дала тебе кусок торта, как же ты мог такое забыть?
– А этот свой паровоз… его ты тоже не помнишь?
– Большой паровоз, который дедушка привез тебе… как это может быть… и даже то, что огромный великан попытался отнять его у тебя?
– Он был немного того… не вполне здоров. Сумасшедший. Ну, если хочешь… Его ты тоже не помнишь?
– Только тот день, когда дедушка спал здесь? И все?
– Это было как раз накануне Пасхи. И в субботу накануне пасхального седера… ты можешь вспомнить что-нибудь о той субботе?
– Ничего страшного.
– Ну хорошо. Если ты покончил с едой, теперь самое время поспать. Уже совсем поздно. Давай я укрою тебя…
Ребенок стоит, не произнося ни звука, утопая в свете луны, привалившись к решетке кровати, протирая глаза. Еще минута, и он зальется слезами, спрашивая, где его мать. Глядя на него, я поражаюсь – точная копия наших мужчин. Достаточно поглядеть на его челюсть. Сколько времени стоит он вот так, тихо-тихо? В комнате ужасающе спертый воздух, самое время открыть окно. Ракефет, раскрасневшись, спит, соскользнув со своего матраса на пол. Если Конни собирается остановиться у нас, утром я должна найти раскладушку. В воздухе сильно пахнет мочой. Как трогательно дети забросали всю кроватку своими игрушками…
– Отправляйся спать, Гадди. Я позабочусь о нем. Не беспокойся.
Но мне не удается его поднять. Маленький упрямец прямо-таки прилип к кровати, он удивленно рассматривает меня, готовый заплакать, не понимая, где он оказался. Мой брат. Нелепость этой ситуации, полный ее абсурд. Вчера долгие часы он провел в полете. А куда она исчезла? Как она может так поступать? В кроватке все насквозь промокло: простыни, одеяло… вся кровать. Копия отца. Невероятно. И такой же упрямый… не говоря уже о профиле. Один к одному. А вслед за этим, подобно вздымающемуся в отдалении горному пику, внезапный всплеск памяти, откуда, черт возьми, он взялся? Полный неистовства. Зимняя лунная ночь в нашей старой тель-авивской квартире, теплый дождь, обрушившийся на город, огромная луна в небе, Цви, совсем еще ребенок, в огромной родительской кровати с позолоченными спинками, одетый в розовую пижаму, позднее перешедшую к Аси, Цви, стоящий меж подушек… Я так ясно вижу всю эту картину теперь… его лицо… его взгляд… похоже, это было в середине ночи. Они подняли меня в середине ночи… но может, это было ближе к утру, потому что они спали допоздна. На матери не было ничего, кроме сорочки, а кроме того, она была беременна. Да, я уверена, что была. Из-под одеяла выглядывает отец, он смеется. Они позвали меня, чтобы я отнесла Цви в его кровать. Сколько мне могло тогда быть, девять? Столько же, сколько сейчас Гадди. «Он пойдет только с тобой», – говорят они. Мама закрывает глаза от слепящего света лампы. Волосы ее распущены, в эти минуты она слишком занята своими делами, чтобы замечать меня. Я чувствовала, что между ними существует некий договор, секретное соглашение, некое глубинное равновесие, позволяющее им думать одинаково. Они передали Цви мне… его продолговатое, тонкое лицо. А потом отец начал целовать матери ноги и непередаваемый страх накрыл меня, подобно шторму. Когда это было? Отдаленность памяти. Деревья под дождем на бульваре, их большие мокрые листья, блестящие в лунном свете… Лицо Цви.
Гадди вертелся под своим одеялом, ожидая меня, поглядывая на меня смышлеными своими глазищами. Такой хмурый, такой серьезный, вылитый Кедми, маленький Кедми, только без чувства юмора, столь присущего большому Кедми, но проявляющий такую же склонность к логическим рассуждениям. Он вынужден постоянно защищаться от повышенного внимания к нему со стороны большого Кедми. А теперь вот здесь новое пополнение нашей семьи, с полной серьезностью стоящее в детской кроватке, крепко вцепившись в ее решетку; большие глаза спокойно разглядывают проплывающие облака на зимнем небе, весь описавшийся с головы до ног. Как могла она уйти так, как она ушла, и вот так оставить его? У меня это не умещается в голове. «Иди ко мне, – говорю я. – Сейчас я тебя возьму». Он внимательно смотрит на меня и что-то говорит по-английски, я с трудом начинаю его понимать.
– Скажи ему «хороший мальчик», – говорит мне Гадди из-под одеяла.
– Хорошо… но ты постарайся уже заснуть… Иди ко мне, – говорю я ребенку. – Иди ко мне, хороший мальчик.
Мой смехотворно убогий английский. Я беру простынку и заворачиваю его в нее, чтобы не простудился. Звучит глупо, но тем не менее не могу его поднять. Внезапно он упирается маленькими своими ступнями в матрас.
– Иди ко мне.
Напрягая силы, я отрываю его от кроватки и несу в гостиную, где в полной темноте ставлю его на коврик. «One moment», – говорю я ему и отправляюсь в детскую, чтобы найти для него какую-нибудь пижамку Ракефет. Он начинает хныкать. Всемогущий боже, что мне сказать ему? «I change you». Боже милостивый, может ли он это понять? Кедми, иди сюда. Тихо, тихо, я с тобой. «Nice boy. Good boy». Кедми! Ты встаешь?
– Ты уже поговорил? Кто это был? Она?
– «Hello, Moses. How do you do?»
– Я тебя, кажется, о чем-то спрашиваю! Ответь мне. Это была Конни?
– «Hello, Moses». Принеси мне его сюда в кровать. Он и в самом деле копия твоего отца. Это просто поразительно.
– Кедми! Кто звонил по телефону? Это была она?
– Да.
– Тогда какого же черта ты повесил трубку так быстро?
– Сначала принеси мне его… Ты знаешь, ваша семья чисто генетически обладает просто сумасшедшей силы генами, воспроизводящими блондинов. И я по-настоящему рад, что нашего Гадди это не коснулось.
– Кедми, ни слова сейчас об этом. Что она сказала? Почему ты повесил трубку?
– Я не вешал. Это она закончила разговор. Передашь ли ты мне, наконец, ребенка?
– Что она сказала?
– Ничего особенного.
– Спрашивала ли она о ребенке?
– Да. Я сказал ей, что ты его переодеваешь и разговариваешь с ним по-английски.
– Когда она собирается вернуться?
– Она не сказала.
– Как ты думаешь, почему? Ты ее спросил?
– Непохоже, что она появится здесь раньше чем завтра.
– Не раньше чем завтра? Но почему?
– А почему бы нет? Ты что, предпочла бы, чтобы ее не было целую неделю?
– Почему ты не дал мне поговорить с нею?
– Она не просила меня позвать тебя.
– Чтоб тебе провалиться! Что вы за странная пара… вы оба. Откуда она звонила? Она тебе оставила номер?
– «Hello, Moses». Может быть, ты мне его уже передашь? Я все еще не могу прийти в себя от этого невероятного сходства мальчика с твоим отцом. Ну, не тяни, дай мне его. С каких это пор он целиком принадлежит тебе? Ты знаешь, что он немного заикается?
……………
– Кедми, ответь мне. Откуда она с тобой говорила?
– Я не знаю.
– Как ты можешь не знать? Внезапно ты стал изображать из себя святую невинность. Что за бес вселился в тебя на ночь глядя? Как можешь ты валяться в постели в такое время? Что она тебе сказала? Куда она подевалась?
– Который час?
– Около одиннадцати.
– С ума сойти. И в самом деле поздно. А ты хочешь поднять меня из постели и усадить в кресло? Для чего же мы тогда купили кровать? «Hello, Moses!» Улыбнись и передай мне его. Я тоже хочу поиграть с ним.
– Кедми!
– Расслабься и выпусти пар. Улыбнись ему. Завтра она вернется, обещаю тебе. Вместо того чтобы носиться по квартире, словно началось землетрясение, посмотри лучше на себя в зеркало. Ты еще даже не сняла передник, который надела утром… то еще зрелище, поверь. Дай мне ребенка. Почему ты не перестелила ему постель… и не постараешься прийти в себя прежде, чем окажешься в нашей?..
Он что-то скрывает. Эта его улыбочка. Что с ним происходит? Что-то такое есть… Есть что-то… между ней и им. Никогда еще он не демонстрировал такого спокойствия. Что у него на уме? Может ли это быть? Способна ли она скрыться, оставив нас с…
Откуда-то издалека я слышу, как звонит телефон… насколько врезалось это в мою память… ну, конечно! Как могла я хоть на мгновение забыть об этом. Так ли это было в то утро? Звонок из тюрьмы. Тот человек – заключенный – тот его убийца – сбежал. Я вспомнила. Они звонили – тем утром. Шел дождь. Это было в субботу. Тот человек – тот заключенный – его убийца – сбежал. Они звонили из тюрьмы. Само собой – они звонили. И шел дождь. И сейчас я все вспомнила. Суббота. Я нашла ее.
Внезапно все покровы исчезли, разорванные в клочья обрывки занавеса поднялись, и сквозь лохмотья памяти ярким светом засияла та суббота. Явилась во всем своем великолепии и блеске, красках и запахах. В то утро шел дождь… вспоминай, вспоминай, Яэль! А ближе к полудню… Да, вышло солнце… в ту субботу… вышло солнце… был день накануне Пасхи… убирай, убирай завесу, покровы, лохмотья занавеса… Туман в голове рассеивается с каждой минутой, еще чуть-чуть, Яэль… и все встанет на свои места, весь день и каждый час этого дня займет свое место… что было тогда… вавилонское столпотворение, кошмар и жуть… Я металась по кухне с предпраздничной готовкой… Ракефет проснулась и плакала… внутри меня ширился и нарастал ужас. Папе скоро надо было отправляться в дорогу, и он собирал свой чемодан. Если в это время с ней что-нибудь случилось бы, он не смог бы помочь. Кедми зарылся в гору вечерних газет и не снисходил до разговоров со мной. Во время праздника он готовился взять реванш у моего отца. И именно в это время раздался звонок из тюрьмы. Я оказалась к трубке ближе всех. «Что-то стряслось там с твоим убийцей», – сказала я, потому что между собой мы так его и звали. «Мне нужно повидаться с моим убийцей». «Мой убийца сказал… мой убийца полагает…» Кедми вырвал телефон из моих рук с непривычной для него грубостью и стал слушать сообщение, с одного взгляда на его лицо я поняла, какой ужасный удар он получил.
В детской комнате темно. Запах отвратительный. Надо капитально все проветрить, впустить свежий воздух. Открыть окно и дать приятному зимнему бризу войти внутрь. Его моча повсюду – такое впечатление, что внутри у него непрерывно действующий гейзер. Простыни. Матрасы… Спящая Ракефет похожа на цветок. Гадди сосет свой большой палец, глаза его открыты. Я подхожу и осторожно вынимаю палец у него изо рта. Он смотрит на меня.
– Где он сейчас?
– С твоим папой.
– Он будет спать с тобой?
– Нет. Я только что перестелила ему постель.
– Он только писается или…?
– Только писает… пока… не думай об этом… постарайся уснуть…
День воспоминаний. Плотина рушится. Суббота? Да, это она. Как сильно, светло она видится из сегодняшнего дня. Воспоминания о ней льются потоком. В глазах моих слезы. Как могла я хоть на минуту забыть все, что было? И все-таки я забыла. В стремлении поскорее добраться до несчастного случая моя память просто стерла все, что было; телефонный звонок из тюрьмы, кавардак в кухне, усилия Кедми по розыску сбежавшего заключенного… мать Кедми, неумолчный плач Ракефет, прибытие отца после полудня того же дня – так с луковицы снимаешь за слоем слой, день поворачивается к тебе то этой стороной, то другой… С чего я должна начать? С Кедми. В состоянии полного шока он проклинает все и всех, как если бы преступник бежал с единственной целью – нанести удар по его карьере… «Зачем я трачу свою жизнь на профессию адвоката? Если бы я работал надзирателем, я мог бы выпустить из-за решетки любого, кого захочу». Быстро переодевшись, он несется в тюрьму, бросая меня посреди кухни, где горой высятся овощи, огромный кусок мяса лежит в тазу, в то время как Гадди снова жалуется на боль в груди, а Ракефет продолжает заливаться слезами. Телефон звонит не умолкая: мать Кедми, Цви, Аси, полиция. Звонят из больницы, интересуясь судьбой собаки, а затем к телефону подходит мама – просто чтобы поговорить. Тем временем в разгар всего этого сумасшествия прибывает папа, и уже в эту минуту мне становится ясно, каким для меня будет этот пасхальный седер, с которым было у меня связано столько надежд, которые у меня на глазах обращаются в пыль. Кедми возвращается в отвратительном настроении, ругаясь как извозчик. «Пожалуйста, расскажи мне, в чем состоит наибольшая неприятность», – попросила я его. «Знаешь… в конце концов они его найдут. Ты же сама сказала, что он сбежал лишь для того, чтобы встретить пасхальный седер со своими родителями. После этого он просто-напросто вернется обратно». Но Кедми боялся больше всего, что полиция, поймав беглеца, выбьет из него признание, которого он не сделал до сих пор, – о своей виновности в убийстве… Кедми безуспешно пытался умерить их ретивость… ведь убийца в момент ареста оказался бы в одиночестве, без всякой юридической защиты… а в подобной ситуации Кедми не пожелал бы оказаться никому.
Суббота. Ну, конечно. Так оно и было. Прошлое вернулось ко мне со всеми его красками и запахами, вместе с потоками дождя, ослепительного утреннего света, вырвавшегося из-под разбежавшихся облаков, вместе с теплым ветерком, поднявшимся внезапно. Я стояла на балконе, развешивая только что законченную стирку – простыни и скатерти. В то время как Кедми, ругаясь на чем свет стоит, бродил по дому, словно посаженный в клетку лев, названивая каждые пять минут в полицию, советуя им, ругая их, выспрашивая их о каких-либо новостях. В итоге он решил поехать туда, где жили родители его сбежавшего подзащитного, и поймать его самостоятельно, с тем чтобы, вернув его в тюрьму, иметь возможность его защитить. Что за фатальный, дикий, запутанный день выдался тогда… Я только что не теряла сознание от того, с какой силой все закружилось у меня в голове от воспоминаний, буквально разрывавших меня на части. О том, как, сидя лицом к лицу с ней, я как идиотка повторяла за разом раз: «Суббота, суббота… а вы уверены в том, что эта суббота была на самом деле?» И это длилось до тех пор, пока она не укрепилась в своих подозрениях, что я пытаюсь утаить от нее нечто особенно важное. Время шло. Я ждала отца. А потом неожиданно в тот полдень из своей конторы позвонил Кедми и зашептал таинственным голосом: «Быстрее приезжай. Мне нужна твоя помощь. Моя мать уже едет, чтобы взять на себя заботу о детях. Я нашел его, но он улизнул. Приезжай быстрее, ты мне нужна. Твоего отца мы подхватим на остановке такси в Нижнем городе. Я уже переговорил с Цви».
Субботний полдень в пустом сонном городе, уже предвкушающем близость грядущего праздника… Мать Кедми приехала, чтобы посидеть с детьми, вся в тревоге из-за исчезнувшего убийцы, так задевшего самолюбие ее сына. Как мог он поступить подобным образом после всего, что Кедми для него сделал? Быть таким неблагодарным! Я добралась до его мрачной конторы, в которой он работал тогда, пытаясь сделать карьеру в частной практике. Коридоры были пусты. В воздухе пахло гнильем. Кедми уже ждал меня на пороге, раскаленный добела, и я видела, как бешено работает его мозг. Своего подопечного он нашел там, где он когда-то жил и куда, как оказалось позднее, полиция даже не думала заглянуть. Они, как сказал мне позднее Кедми, тратили время, разыскивая его в горах Кармеля, полагая, очевидно, что он сбежал из тюрьмы для того, чтобы нарвать там букет цветов. Но Кедми увидел его прямо на улице, неподалеку от засады, которая ожидала бедолагу рядом с его собственным домом. Но беглец, в свою очередь, тоже увидел Кедми и, будучи уверенным в том, что вслед за адвокатом его ждет встреча с полицейскими, резво взял ноги в руки – и растворился в воздухе, и напрасно Кедми кричал вслед исчезающему придурку, что это он, Кедми, его единственный друг и верная защита… «его убийца» бегал резвее резвого. Но Кедми был абсолютно уверен, что парень вернется, – человеку просто захотелось увидеть перед Пасхой своих родителей, по которым он очень скучал. Моя миссия заключалась в том, чтобы дождаться «убийцы» возле его дома, не опасаясь быть узнанной, поскольку он никогда меня не видел, и сказать ему следующее: «Эй, парень. Не валяй дурака. Мистер Кедми хочет переброситься с тобой парой слов. У него есть идея, которая может тебе помочь».
Сумасшедшая суббота, как я ухитрилась ее забыть? Весна уже разошлась вовсю, небо быстро прояснялось. Суббота всюду и везде, суббота повсюду, множество самого разнообразного народа входит и выходит из всевозможных дверей, двери открываются и закрываются, а кое-где и вращаются, телефонные будки полны, все происходит в одно и то же время – а среди всего этого предпраздничного бедлама бродит мой Кедми, немытый, небритый, с потным красным лицом, похожий на сбежавшего уголовника больше, чем сам преступник, объясняющий мне, как после седера он вернет своего подопечного в руки полиции, но не просто, а на организованной специально по этому случаю пресс-конференции. И тогда, кроме всего прочего, будет видно, чего стоит настоящий юрист. Которому его клиенты подчиняются и доверяют безоговорочно. И как безропотно они вверяют ему свою судьбу.
Суббота после полудня. Такой мягкий ласкающий свет, свет субботы, и я, абсолютно выдохшаяся, голова кружится, в голове ничего нет. И ничто еще не готово для седера, и завтра утром отец получит свой развод и улетит обратно в Америку двумя днями позже, оставив маму на меня. Я уже вижу, как я мечусь по зарослям вокруг больницы, пытаясь найти ее пса, а Кедми продолжает играть в свои детские игры, а мне нужно отвести Гадди к врачу, а тем временем минута за минутой уходят и еще ничего не сделано. И скоро придет момент надолго проститься с отцом. Возле киоска с фалафелем неподалеку от станции болтаются несколько подростков. Мы ждем отца. Ждем, пока он выйдет из такси. И снова я приветствую его – это длится уже целую неделю. Я провожаю его и получаю обратно. Теперь мне видится все ясно – только вот как же я могла это забыть? Первое, что бросилось мне в глаза, была его прическа – в Тель-Авиве он побывал в парикмахерской, после чего стал казаться более старым и седым. Одежда помялась, утратив элегантность, а сам он сгорбился под тяжестью своей поклажи. Как все это застряло во мне и помнится сейчас – его появление в ту субботу, то, как он стоял на тротуаре, пока я целовала его, крепко обняв, и удивлялся лужам, оставленным возле деревьев утренним дождем. «С нами, – сказал он, – в Тель-Авив пришла весна… если не лето. Вскоре станет так сухо и жарко, что народ вовсю понесется на пляжи». Он так сказал «с нами», словно он никогда не уезжал, и уж тем более не собирается улететь снова. Как мило это было со стороны Кедми, сказал он, как это было приятно, когда тот взял у него из рук большую и тяжелую сумку… В которую я сложил все грязное белье, Яэль, и я буду очень тебе благодарен, если до отъезда ты все успеешь выстирать. У меня уже не осталось ничего, во что бы я мог перед полетом переодеться в машине… а мы тем временем рассказали ему все о сбежавшем преступнике. Он внимательно слушал, улыбаясь, но я видела, что он ошеломлен. Не больно-то умно было посылать меня к дому уголовника, сказал он, пообещав, что если нужно будет пойти туда еще раз, то он попросту пойдет вместе со мной, пусть Кедми и утверждает, что убийца – истинный джентльмен и совсем не опасен.
Кедми повез нас через рабочий квартал на окраине города по дороге на Тивон неподалеку от огромного карьера, выбранного экскаваторами цементного завода. Он показал нам домик, где жили родители убежавшего парня, а потом вручил фотографию беглеца, которую он разыскал у себя в офисе, после чего исчез в одной из боковых улиц. И вот мы оказываемся – отец и я – в наступающих сумерках шагающими по узкой улочке рабочего квартала, чтобы встретить клиента Кедми и уговорить его добровольно вернуться за решетку. Неподалеку от дома была автобусная остановка со скамейкой для дожидающихся очередной машины пассажиров, и вот на нее-то мы и уселись, наблюдая за входящими и выходящими. Как я могла такое забыть? С таким же успехом мы могли оказаться выходцами с далекой планеты – странная парочка, сидящая и сидящая в стороне от всех. Отец говорил и говорил, а я слушала. Он был обеспокоен, и ему надо было выговориться, его переполняли впечатления от дней, проведенных в Тель-Авиве, и сознание того, как мало времени до отлета у него осталось, а потому он перепрыгивал с предмета на предмет в сгущающейся вечерней темноте, и это длилось до тех пор, пока последние случайные пассажиры не лишились возможности пялиться на нас. И тогда только он произнес то, что с самого начала было у него на языке: «Я отказался в ее пользу от квартиры. И больше никогда не желаю об этом слышать. Собери мои вещи и привези их мне. Пусть они хранятся у тебя. Но не позволяйте Цви одному пользоваться всей квартирой. Он дегенерат. И становится все хуже и хуже. Он продаст ее, чтобы иметь возможность играть на бирже. А ты предупреди насчет него маму, потому что меня она никогда не послушает»… Его глаза полны были слез. Сейчас он был на стороне матери. «Но в итоге она отделалась от меня. Оставила без крыши над головой. Сумела вырвать с корнем. Я был таким образом наказан ею за то, что тоже не сошел с ума и отказался вместе с ней погрузиться в темную бездну. Она думает, что, поскольку мы некогда любили друг друга, я обязан вечно хранить ей верность…»
И, поднявшись рывком, он заставил этим встать и меня и ходить с ним по улице, держа меня за руку, в то время как он снова и снова говорил про то утро, когда она пыталась убить его, и как Цви никак не среагировал на произошедшее, словно его оно не касалось. А я плелась рядом с ним, слушая все это с душевной мукой, ловя случайные взгляды, время от времени сама поглядывая на фотографию, которую держала в руке, чтобы не пропустить случайно того, кто должен был вот-вот появиться. Мы развернулись и двинулись обратно. Вокруг нас носилась детвора, устремившаяся к большому костру, на котором, как положено перед Пасхой, сжигали «квасное».
Отец продолжал говорить… Видно было, что его переполняли эмоции. В конце улицы он внезапно с силой сжал мою руку. «А ты – что думаешь ты? Ты одна только не высказывала своего мнения, соглашалась со всеми. Как ты могла быть такой равнодушной?» На что я ответила: «Ты прав. У меня и в самом деле нет своего мнения. И никогда не было». – «Но я не понимаю, как это может быть», – запротестовал он. «Иметь свое мнение… слишком жирно для меня, – сказала я. – Я могу только сочувствовать тебе. И никогда не могла представить себя на твоем месте. Это все равно как если бы вы оба были моими детьми». Так я сказала ему – вот этими самыми словами. Ему было странно услышать подобное, и он остановился, недоумевая… А солнце тем временем садилось за находившимся вдали заливом. Но сказал ли затем он то, что он сказал, или это примерещилось мне? Да, скорее всего, он все-таки сказал: «Значит, ты будешь тем человеком, который в конце концов и убьет меня». Как могла я такое забыть? Я стояла тогда, словно пораженная громом. «Ты говоришь обо мне?» – «Да, о тебе. Ты приложила к этому больше усилий, чем все остальные, взятые вместе. Ты… своим молчанием». Это тоже он произнес или мне примерещилось снова? Да… а потом он добавил: «Вы отняли у меня мой дом, а теперь не хотите отпускать…» Как я могла забыть? Почему? Но я по-прежнему молчала. Молчала, как всегда. И не отвечала ничего. И тогда он улыбнулся и обнял меня. В ненасытном моем устремлении к несчастью память моя устремляется дальше и дальше… А потом приходит ночь, но никаких признаков убежавшего убийцы нет как нет. Мы отправились на поиски Кедми и обнаружили его. Положив голову на руль, он спал.
И мы возвратились домой. Мать Кедми была серой от перенапряжения и волнений. Отец вытащил свое грязное белье и запустил его в стирку. Кедми снова стал метаться по комнатам, как побитый пес, пока не дозвонился до полиции, где ему сказали, к великой его радости, что поисковая группа отозвана. И тогда он принялся наводить порядок в доме и вокруг дома, помог отправить ребятишек в постель, после чего вежливо разговорился с отцом и даже приготовил для него порцию кофе. Он старался изо всех сил быть для нас полезным, он светился и истекал молоком и медом. А затем как-то враз исчез – оказалось, сбегал позвонить по платному таксофону родителям убийцы, которые, само собой, клялись, что даже не знали о бегстве их сына, и с явной надеждой (на что?) сказали Кедми, что готовы ждать сколько угодно, если он решится их навестить. И бедный Кедми, не в силах примириться с мыслью, что все его усилия пойдут прахом, приткнул меня в угол, умоляя сопровождать его туда опять и дождаться, пока он предпримет еще одну, уже самую последнюю попытку. А та суббота все тянулась и тянулась и, похоже, становилась бесконечной. Кто же потом скрыл ее, набросив серое одеяло? Была уже середина ночи, когда Кедми склонил отца и меня к тому, чтобы мы все вместе наведались в рабочий квартал, чьи улицы в этот час были безмолвны и пустынны. Он усадил нас на ту же самую покосившуюся скамейку неподалеку от светившего тусклым желтоватым светом уличного фонаря и снова исчез, свернув за угол. Отец находил все это забавным. Он совершенно проснулся и без конца подшучивал над историей о сбежавшем убийце, фотографию которого он вертел в руках, возвращаясь к старым воспоминаниям, делясь со мною своими планами на будущее… ко всему этому я, полусонная, прислушивалась молча, не двигаясь, полумертвая от усталости, ощущая запах его пота в минуту, когда я приваливалась к нему, и немедленно забывая то, что он только что сказал; это было похоже на сосуд, который не может вместить в себя еще даже одну каплю жидкости. Взгляд мой при этом рассеянно блуждал среди высоченных вытяжных труб цементного завода, выбрасывавших в воздух клубы желто-коричневого дыма, который тут же опускался на пустые улицы и заползал в открытые окна маленьких домиков. Где я и увидела внезапно того, кого искал Кедми, – «его» убийцу, отделившегося вдруг от стены – так, словно и сам он был частью этой стены, ожившей и двинувшейся с места; но то была не стена, а невысокий жилистый молодой человек, который скользнул вдоль фасадов мягкой кошачьей походкой, стараясь держаться при этом подальше от света. Я мгновенно вскочила на ноги. Он шел прямо на нас – голова опущена, руки в карманах. Он не удостоил меня даже взглядом. Я стояла и всматривалась в небритое лицо с маленькими поблескивающими глазами, пока отец, поднявшись, не присоединился ко мне. «Одну минутку, – сказала я без промедления. – Я жена мистера Кедми. Он здесь, за углом, и хотел бы с тобой поговорить. Только поговорить, ничего больше. Это прежде всего важно для тебя. Ни с ним, ни поблизости от него нет никаких полицейских».
Он замер. Застыл на месте, переводя взгляд с меня на отца. Не похоже было, что он испугался. «Мне с ним не о чем говорить, – холодно произнес он. – Все, чего хочет мистер Кедми, – это поговорить. Но он не верит тому, что говорю ему я. Пусть найдет себе другую игрушку и играет с ней. А с меня хватит».
Он повернулся и неуверенными шагами двинулся было прочь, не решив, похоже, куда именно. И вот тогда, подобно учителю, решившему на ходу переговорить с учеником, отец опустил свою ладонь ему на плечо, стал что-то говорить ему, сопровождая свою речь свободными жестами другой руки. Молодой человек, продолжая смотреть под ноги, слушал его… и так, бок о бок и плечом к плечу, они удалялись от меня, пока не скрылись в одном из соседних переулков. А я понеслась к своему Кедми, который похрапывал, опустив голову на руль. «Кедми, – закричала я, расталкивая его, – Кедми, он здесь. Отец толкует с ним сейчас. Проснись!» Он вылетел из машины пулей и понесся за ними, оглашая пустую улицу громким криком… но на это среагировал только «убийца». Оглянувшись, он увидел Кедми и прямо на наших глазах испарился, растворившись в ночном тумане, клубившемся меж заводских труб, огражденных невысоким забором. Отец, остановившись, неторопливо достал сигарету и прикурил; вид у него был совершенно собранный, и сна, похоже, не было ни в одном глазу. «Он обещал мне встретиться с тобой после седера, – сказал он отчаявшемуся Кедми. – Он поклялся, что сам вернется в свою камеру. Он дал мне честное слово, и я верю ему. Тебе советую поступить так же». И Кедми, впервые за все те годы, что я его знала, стоял, не находя слов, чтобы ответить, стоял безмолвно, как статуя, не в состоянии выдавить из себя ни единого слова.
И вот теперь он лежит и спит, положив на лицо газету, в то время как ребенок уставился на него, глядя из своей кроватки сверху вниз среди простыней и подушек. Стоит он весьма своеобразно – распрямившись в полный рост, чуть выгнув спину и прочно упершись пятками в матрас, глаза обращены к полоске лунного света, пробивающегося сквозь щели в портьерах, колышущихся от бриза. Высокий, худой мальчик, не желающий общаться со мною и рассматривающий меня с явным подозрением. Я снова пытаюсь пустить в ход свой ломаный английский, но он только в изумлении опускает голову.
– Хватит тебе уже терзать его своим английским времен Шекспира, – подает реплику Кедми, уже было совсем уснувший. – Может быть, ты наконец уложишь сейчас его в постель? Здесь он ходит по моей голове…
Я поднимаю его и несу в заново перестеленную, но все равно мокрую кровать. Укладываю и заботливо укрываю… от прикосновения к его телу я испытываю давно забытое наслаждение. В который раз я пытаюсь поговорить (тщетно) с ним. Ракефет переворачивается на спину, погружаясь все глубже в сон. Гадди тоже ерзает в своей постели, чувствую, что его сон – неглубок. В комнате абсолютно темно, только ночничок светится зеленоватой точкой. Я уже почти на пороге комнаты, когда понимаю, что малыш снова встал на ноги и, вцепившись в ограждение кроватки, смотрит на меня. Чего он хочет? Такое странное, тихое, замкнутое в себе самом существо. Я делаю новую попытку уложить его, но он крепко держится за решетку кровати, на лице его выражение отчаяния. Где она сейчас может быть? Возможно ли, что она больше не вернется, оставив его нам? Возможно ли подобное помутнение разума? И у нее тоже?
Из детской кроватки, не мигая, на меня смотрит мой отец в возрасте пяти лет.
Внезапно что-то заставляет меня отпрянуть в страхе, как если бы отец, собственной персоной, вошел из коридора в комнату и вышел наружу через окно. Меня сотрясает крупная дрожь, сердце, сначала готовое выскочить из груди, перестает биться, чтобы биться потом с еще большей силой. Как это мы позволяем ему возвращаться туда? Что заставляет его самого делать это? Как могла я забыть ту субботу, что я пыталась в себе подавить?
Может быть, воспоминание о встрече со сбежавшим уголовником так повлияло на меня? То, что мы не прониклись к нему сочувствием… не дали ему понять… не предусмотрели… Что побудило нас бросить его так, как мы сделали это, увидев, как он выбирается из такси в ту субботу, такой постаревший, со сбитой на затылок шляпой на растрепанных волосах, с сумкой, полной грязного белья? Мы бросили его. Аси игнорировал его. Цви хотел отомстить. А у меня не было своего мнения. «А ты… что ты думаешь об этом?» И я… я не нашлась что ответить. «Единственным человеком, который выглядел по-настоящему счастливым, встретив меня, была Дина. Все остальные отнеслись ко мне враждебно. Даже Гадди». И снова я безвольно промолчала, соглашательски присоединяясь поочередно к любому мнению – Кедми, Гадди, мамы, даже собаки, даже убийцы и даже Конни в ту минуту, когда она появилась в дверях. Да, я соглашалась с любым, кто приближался ко мне, я принимала их точку зрения бездумно, не рассуждая и не пытаясь подвергнуть анализу. И все это отдаляло нас друг от друга тоже. Так, может быть, он и вправду полагал, что мы прогоняем его, стараемся от него отделаться – в частности, как я своим молчанием… своим нежеланием сказать то, что ему от меня хотелось услышать… вплоть до ужаса той, последней ночи.
Суббота. Так оно и было. Медленно скользнула она, вернувшись и заняв свое место среди тех девяти дней, упрямо спасаясь от претензий времени. В конце концов я вернула себе потерявшийся было день. Кедми не захотел мне в этом помочь. Для него воспоминания были слишком болезненными. Поняла это я только сейчас. Потому что тот «его» убийца оказался в конце концов никаким не убийцей. Потому что после того, как мы склонили его к тому, чтобы он вернулся обратно в тюрьму, настоящий убийца был где-то пойман, а этот, подозреваемый, был освобожден без суда, который Кедми с таким энтузиазмом обговорил для него. Именно это заставило его признать профессиональный провал и отказаться от частной практики, приняв предложение окружного прокурора перейти к нему на работу. Точно так же мог он поверить отцу, что его подзащитный, давший ему слово вернуться в заключение по доброй воле, действительно сделает это. Тем более, что весь обратный путь по горам он непрерывно говорил о «своем убийце», и в то время, как мы, смертельно усталые, сидели в машине, отец (хотел он этого или нет) вынужден был выслушивать рассуждения об убийствах вообще и об этом «убийце», равно как и о планах моего мужа, связанных с предстоявшим судом. После всего этого мы вернулись домой, где царил полнейший беспорядок, и я занялась отцовским бельем, вывешивая его для просушки на балконе глубоко за полночь, ощущая в воздухе наступление настоящей весны.
Когда я сейчас думаю об отце, я ощущаю глубокую боль, и ужасная печаль охватывает все мое существо, снова и снова. Что мы сделали не так? Мы не в состоянии были вновь свести их, и не знали, как они будут существовать порознь. Возможно, что все, что мы должны были сделать, это просто посадить их друг напротив друга – и оставить наедине.
…А мне следует взять ребенка и показать его маме. Я обряжу его в красные его одежды и привезу его к ней, может быть, его появление каким-то образом вдохнет в нее жизнь.
Еще раз, последний, я заглянула в детскую. Он по-прежнему стоял, не производя ни звука, что-то разглядывая. Или чего-то ожидая. Может быть, появления его матери? Недоумевая, куда она могла задеваться. Внезапно я ощутила еще большую тревогу, чем прежде. Где она? Кедми должен мне сказать. Обязан. Я пошла в спальню и разделась.
– Кедми! Израэль? Израэль… ты спишь?
– Уснешь тут… Как я могу спать? – пробормотал он, открывая глаза. – Тем более, что я уже пишу новую свою книгу, «Как проснуться, продолжая спать. Десять доступных советов». Скажи мне что-нибудь. Признайся, по крайней мере, что ты специально задалась целью свести меня с ума, не давая мне уснуть. Почему ты нарезаешь вокруг меня круги, словно большая мышь?
– Ты в состоянии выслушать меня или предпочитаешь спать?
– Полагаю, что ты уже выбрала свою квоту на дневную болтовню. Но может быть, ты имеешь в виду поцелуи… и тогда…
– Я вспоминала. Ты слушаешь меня? Я отыскала ту потерявшуюся субботу.
– Я просто вне себя от радости. Может, ты сумеешь продать кому-нибудь свою находку, а на вырученные деньги купить что-нибудь полезное?
– Но ты знаешь, что тогда случилось? Это был как раз тот день, когда твой бедняга «убийца» сбежал и мы провели несколько часов тогда, разыскивая его…
Он открыл глаза.
– Какой убийца?
– Тот самый, что сбежал. Который, как потом оказалось, вовсе не…
– Погоди, погоди, не напоминай мне о нем! Я вложил в это дело всего себя… и это из-за него мне пришлось закрыть мою собственную юридическую контору. Постой… когда я думаю о том, как твой отец гнался за ним по улице…
– А ты не забыл, как он помог тебе?
– Я не забыл ничего. Ну, хорошо… а теперь расслабься… тем более что ты вернула себе все свои дни. А если твой мозг немного отдохнул, было бы справедливо, если бы и моему было позволено то же самое.
«Иди сюда», – говорю я ему, ложась обнаженным телом к нему вплотную. Пораженный, он откидывает в сторону одеяло и принимается обнимать меня, целовать и ласкать мои груди. Я тоже обнимаю его. Обнимаю крепко, обнимаю… Он хочет войти в меня… он хочет меня…
…Истошный вопль ребенка… Я отталкиваю его.
– Забудь о нем, – задыхаясь, шепчет Кедми. – Я…
– Куда она ушла? Скажи мне правду… все, как есть…
Он тяжело дышит.
– Потом… в другой раз. Я обещаю…
Ребенок кричит и плачет все сильнее, будоража ночь. Кедми возбужден… возбужден все более и более, он не в силах остановиться, наседая на меня, как молодой бычок на телку. Но мне не до него. Я полностью нахожусь в той субботе. Все спят. А я стою на балконе, опьяненная ароматом буйной весенней ночи… надо мною – звездное небо, на веревке – отцовская постирушка, а я думаю о том, что ждет всех нас и что в будущем ожидает меня саму. А день тем временем подходит к концу. Ибо, как это выяснилось, он, этот день, существовал, никуда не исчезая. Конечно, он был. И раз так, то он присоединился, слился с другими днями, противостоявшими попыткам времени стереть их из памяти, где им надлежало сохраниться во всей их непотревоженной ясности и чистоте до самой последней детали. Навсегда…
Седер Песах
Свет тебя пеленает в пламя предместья. Оцепенелая, бледная, ты смотришь, скорбя, – смотришь, как ветхие лопасти предвечерья оборачиваются вокруг неподвижной тебя[7]. Пабло НерудаЛиловый свет сочился из смертельной раны бескрайнего неба, простершегося над заливом волокнами раскаленной меди, врезавшимися неизгладимым следом в розоватую плоть бесконечного дня, гонимого на запад… Внизу мерно вздымалась и опадала морская гладь, утопая за горизонтом наступающей ночи – предвестницы следующего дня. Слегка наклонившись, огромная луна как-то боком заняла свое место на небе, то и дело исчезая и появляясь вновь в разрывах туч. Будь собака сейчас здесь, она задрала бы голову к небу, завыв так, как завыла мама той первой прозрачной, зимней ночью, когда мы только-только прибыли: она проснулась и, сев на подоконник, вцепилась в решетку, сбросив одежду, с разметавшимися волосами завыла с глубоко скрытым удовольствием, взвизгивая при любой попытке успокоить ее… до тех пор, пока не прибыли санитары со смирительной рубашкой.
«Пошли, пошли, ну пошли же. Они вот-вот начнут… сейчас начнется пение… они уже начали петь…»
Голос Ихзекиеля умолял меня с дальнего конца комнаты, но я не отвечала и даже не шевелилась под своим тонким одеялом.
«Ты можешь остаться здесь совсем одна во время седера», – повторил он снова, выключив свет, и двинулся по комнате, скользя между кроватями в своем просторном балахоне, в своей шляпе и новом галстуке, с зажженной сигаретой во рту. Он вел себя грубо, повсюду преследуя меня в течение всей недели, изо всех сил стараясь удержать меня от развода. А теперь – вот он, здесь, среди кроватей, в женской палате, где ему и в голову не приходило побывать, плавно движется среди всеобщей суматохи все ближе и ближе, подгоняемый отчаянным порывом, лишившим его страха. И только в этот момент я осознала, что, кроме нас двоих, никого в палате больше нет. Подавляющее большинство пациентов с утра отправились домой в сопровождении своих родственников; остальные собрались в столовой в ожидании пасхального седера. Даже ночная медсестра ушла; комната врачей была заперта на замок. А здесь полная тишина нарушалась лишь звуком его шагов, которыми он решительно приближался ко мне, забрызгивая меня слюной, вылетавшей у него изо рта, когда он говорил. В то время как его ладони коснулись моего тела. «Ну что ты… пошли же! Ты не можешь так со мной поступить! Пение уже началось…» Он стоял возле моей кровати и с напором, которого я никак от него не ожидала, грубо выхватил из моих рук книгу, захлопнув ее, бросив на мою тумбочку, а затем стал рыться среди моих вещей, пока в руках у него не оказался большой белый конверт с вложенным в него соглашением о разводе. Разглядывая его при свете луны, он внезапно впал в ярость. «Это и есть та штука, с помощью которой тебя обобрали? Тебя провели как ребенка! Что теперь будет с тобой!» И, не спрашивая разрешения, он сгреб все в кучу и зашвырнул ее в мой шкаф, гремя собачьей цепью, позабытой мною, сдернул с меня простыню в приступе раздражения и с несвойственной ему обычно грубостью заставил меня подняться, глядя на меня с такой злостью, словно я уже была объявлена публичной собственностью. «Ты испортишь нам весь праздник. Мы все ждем только тебя. Это из-за тебя я стою здесь!» Его теплые ладони невесомо легли мне на плечи. «Ты не можешь так поступить со мной!»
И – быстрый взгляд на голую стену, где не было ничего, кроме гигантской тени Мусы, замершей и недвижной, за исключением разве голодного движения его челюстей, которые никогда не отдыхали.
Они были вокруг меня с той самой минуты, когда Иегуда и раввины покинули больницу. Вид у них был такой, словно они только что выскочили из-под колес мчащегося такси, их собралась целая банда, всех тех, кого Ихзекиель воспламенил в недавние дни, – Муса и Ариель, и Двойра вдобавок к тем двум молодым экс-солдатам. «Поздравьте ее, – командовал он, хватая меня за руки и демонстрируя их. – Теперь она свободна от всяческих обязательств. И ей совершенно не нужно больше убивать его. Они оба в безопасности». И даже Муса дотронулся до моей руки, заикаясь и весь покраснев от волнения. Сегодня весь день они следовали за мной повсюду, и я никак не могла отделаться от них. Медсестра попыталась урезонить их, но он упрямо торчал напротив моей двери, плелся сзади, доходя до самой ограды, сидел напротив во время полдника, посылая мне тарелки с едой и поливая передо мною из шланга дорожку. Не было никакой возможности оторвать его от меня, и не было никого, кто мог бы это сделать по моей просьбе. Сама больница полностью погрузилась в хаос; машины въезжали и выезжали, огибая коттеджи, приехавшие высматривали своих родных, за которыми они приехали, чтобы увезти их на седер, посторонние люди шатались по палатам, пациентов одевали и переодевали, собирая их вещи и фирменную одежду, отбирая необходимые медикаменты, поднимая шум и гам и приглашая нас к чаю. У Ихзекиеля тоже был посетитель, его сын, похожий на него как две капли воды: то же лицо, тот же взгляд и такая же мокрая сигарета в уголке рта. Единственным различием были несколько поредевшие волосы и более темный их цвет. Он прибыл на защитного цвета мотоцикле с коляской для отца, но Ихзекиель отказался в нее садиться. Он закатил настоящую истерику – такую, что никто не рискнул к нему подступиться. Кончилось тем, что сын отправился в офис и вернулся обратно в сопровождении врача с дежурной медсестрой, но Ихзекиель был непреклонен. Абсолютно. Его обязанностью, его долгом было находиться возле меня… «Я говорил вам, что он в нее влюблен», – донеслось до моего слуха. Сказал это молодой врач.
Кровь прилила мне в голову, и я бросилась к своему убежищу в большой роще, где стояло мое кресло, надела очки, которые Иегуда принес сегодня от офтальмолога, и раскрыла книгу, которую я читала все эти последние годы, прислушиваясь в то же время к реву отъезжающего мотоцикла и перекрывающему его голосу Ихзекиеля, взывающему ко мне. Я поправила пришедшие в беспорядок волосы, закрыла глаза, надвинула свою соломенную шляпу на лицо и притворилась спящей. Но я слышала их голоса, шум раздвигаемых ветвей и ощущала, как вздрагивала земля под тяжелой поступью Мусы. Но когда они увидели меня, погруженную в сон, они мгновенно замерли, а потом бесшумно опустились на землю там, где они стояли… опустились и стали ждать, когда я проснусь. А я нежилась с закрытыми глазами под ласкающими лучами весеннего солнца. Постепенно шум посетителей и разъезжающихся машин начал стихать. Глубокий, умиротворяющий покой опустился на меня, и я подумала – ну вот, я и получила развод, которого хотела, он отдал мне свою часть квартиры, никогда не услышу я более, как он говорит со мной в этой своей вновь приобретенной манере. И еще я подумала, что именно сейчас самое время для нее, чтобы нанести мне визит и рассказать о том, что она думает. Но мое дыхание становилось все тяжелее и тяжелее, книга выскользнула из рук и упала на землю, в то время как я погружалась в дрему, смутно желая, чтобы появился кто-то, кто снял бы с меня очки и подложил мне под голову подушку. Мои растрепанные волосы вились на ветру, а я погружалась в сон все глубже и глубже, пока не достигла самого дна, где детский голос говорил что-то по-английски. Откуда-то донесся сильный запах жареных грибов… после чего я ощутила легкое прикосновение и проснулась, готовая увидеть перед собой белое круглое лицо Двойры – и действительно увидела ее… но не только ее – за нею, словно прячась, возник Ихзекиель – он держал в своей руке руку Двойры, словно это была не рука, а плеть, которой он собирался меня разбудить. «Цви! – выкрикнул он. – Цви приехал! Он здесь! Он ожидает у ворот! Он послал нас за тобой!» Я всегда знала, что в любую минуту Цви может мне позвонить, но мне и в голову не приходило, что он может появиться собственной персоной накануне седера. Я встала, несколько ошалевшая ото сна, но с ясной головой, как если бы во время этой короткой передышки меня как следует отмыли изнутри. Больница теперь была совершенно пуста. На дорожке во всем своем великолепии, в белой рубашке и красной бандане на голове, стоял наш «король Ог», наш великан Муса. Поверх банданы, на огромной шпильке чудом держалась черная кипа. «Цви у ворот, – непрерывно, как безумный, повторял он. – Ты знала, что он приехал? Ты разговаривала с ним?» Похоже, он был в отчаянии. «Он что, приехал, чтобы забрать тебя?» Но я ничего ему не ответила. Все еще не пришедшая в себя после сна, но с ясной головой, я зашагала по направлению к воротам, ощущая, как вновь поднявшийся ветерок, разогнавший тучи и открывший голубую лужайку неба, подгоняет в ту же сторону неразлучную тройку – Ихзекиеля, Мусу и Двойру (Ариель исчез, – скорее всего, кто-то приехал и забрал его). Ихзекиель шествовал, погруженный в раздумье. Он то и дело выдвигался вперед, поджидая меня, словно преданный пес, и снова забегал вперед, как бы гарантируя безопасность пути. Когда мы проходили мимо закрытой палаты, то вынуждены были остановиться при виде трех незнакомых подростков в майках и коротких трусиках, игравших так непринужденно, как если бы они не имели никакого представления о том, где они находятся. Дети в сумасшедшем доме… Высокая светловолосая девочка и худой мальчик катали упитанного круглолицего малыша, по всей видимости младшего их братишку, по лужайке, весело переговариваясь по-английски.
Мы подошли к воротам, от которых ровные ряды эвкалиптов спускались к главной дороге, оставляя слева и справа такие же ровные ряды хлопковых посевов, которые в конце лета раскроют свои белые коробочки. За ними поблескивали стальные рельсы, двумя синеватыми ручейками уходившие к горам Галилеи.
Позади ворот, возле темнеющей проходной, из окна которой доносился рев рок-музыки, мой Цви эффектно стоял возле большого белого «мерседеса»; во рту – длинная сигарета, пиджак наброшен на плечи поверх белоснежной рубашки из тонкого хлопка – вид у него был такой, словно он только что вышел из модного салона верхней одежды. Едва он завидел меня, он прекратил свою болтовню с привратником, небрежно кивнул моему эскорту и живо распахнул передо мною ворота, которые тут же закрыл перед носом у Ихзекиеля, даже не поблагодарив его. Затем выбросил сигарету, повернулся ко мне, взял мои руки, торжествующе улыбнулся и обнял осторожно, но крепко. А затем, ведя меня к машине, разразился потоком слов… речью, смысла которой я сразу не поняла. С заднего сиденья машины он достал букет цветов и вложил их мне в руки не без торжественности, сопроводив все это многозначительной улыбкой. «Ты с ума сошел, Цви», – сказала я ему. «Совершенно верно», – ответил он с веселым смешком. «Ну, вот, наконец-то ты свободна. Совершенно свободна, свободнее не бывает. Я говорил по телефону с Яэлью, и когда она сказала мне, что все процедуры прошли гладко, я не мог удержаться, чтобы не приехать сюда. А мой приятель Кальдерон согласился меня подбросить… Ну, так, значит, все кончено. Мне сказали, что ты вышла… А ты, значит, после всего этого мирно уснула. Снимаю, мама, перед тобою шляпу…» Он все не мог никак остановиться, бессмысленный поток пустой болтовни, казалось, вытекает из его рта совершенно самостоятельно, без малейших усилий с его стороны. И букет цветов, не что-нибудь! В самом автомобиле сидел его владелец, банкир, и я перехватила его встревоженный взгляд. Он незаметно кивал, но вид у него при этом оставался чопорным, принужденным, и мне показалось, что он просто боится вмешиваться в наш разговор.
«Ну, значит, с этим покончено, – повторил Цви, взяв меня под руку и двигаясь со мною вниз по дороге среди притихших в ожидании праздников полей… – И как ты сейчас при этом себя чувствуешь? По правде сказать, я боялся, что он в последнюю минуту даст задний ход». Он посмотрел на меня… «Или что это сделаешь ты. Яэль сказала мне что-то об одном из раввинов, который пытается сделать какую-то гадость… что-то он сказал ей об этом по телефону. Но пока что мне сдается, что дело закончено – вы разошлись благородно и достойно, безо всякого шума. Я звонил Аси, чтобы рассказать, чем кончилось дело, и он тоже был рад. Это должно было случиться… рано или поздно… не было иного пути…» И он продолжал и продолжал все в таком же духе. «Ты же знаешь его… у него такая интуиция… он убежден, что все, что должно случиться, – случится, это предопределено. Завтра вместе с Диной он приедет попрощаться с отцом, а потом, возможно, увидится с тобою тоже. Принести свои поздравления…»
Внезапно он запнулся, подмигнул мне и снова обнял. «Ну а теперь, как ты думаешь, что нам предпринять? Я собирался заехать за тобой и забрать тебя… но куда? Я просто разрываюсь между вами двумя. Он улетает завтра вечером, и я не могу его не увидеть… если уж честно, что-то подсказывает мне, что следующий раз мне представится не скоро. Он ведь на самом деле покидает нас – я окончательно поверил в это, увидев, как безропотно он отдал тебе квартиру… в конце концов. И Яэль просила меня провести этот седер с ними… тем более, что там кроме Кедми будет еще эта его ужасная мамаша… А с другой стороны, я не могу допустить и мысли, что ты останешься здесь среди этих людей. Мне так хотелось побыть с тобой… кто бы мог подумать, что меня все это так взволнует… А ты будешь просто дремать да еще так безмятежно… хотя, конечно, если все действительно подписано и заверено печатями… эти документы… это соглашение о разводе… это все ведь у тебя? Мы должны все по-быстрому решить, потому что бедный Кальдерон обязан быть у себя дома для седера, провались оно все пропадом… А он не хотел бы сознательно раздражать их… так что ты на все это скажешь? Хотя, конечно, мы можем и сами по себе… даже вдвоем пойти куда-нибудь… может быть, даже в хороший отель… Если такие… должны быть, где устраивают коллективные празднования… но, может, ты предпочитаешь, чтобы мы вернулись в Тель-Авив и устроили сами себе частный, индивидуальный седер, заказав роскошный ужин где-нибудь там? У тебя ведь в квартире наверняка сохранилась какая-то одежда… в квартире… теперь она целиком твоя, верно? Так что… ну, что ты скажешь?»
Но я не говорила ничего, не в силах понять, на каком я свете, не в силах вернуться в реальный мир после глубокого моего сна и бесформенных видений, равно как и сомнения, собирается ли она вернуться сегодня… А если да, то смогу ли я с ней говорить – и горло и губы у меня пересохли. Я позволила ему вести меня дальше вниз по дороге, глядя на мокрую изборожденную землю, сплошь покрытую поднявшимся сорняком; один-единственный солнечный день вызвал к жизни всю эту растительность… желтые цветы отливали золотом. И он, так по-детски желающий отпраздновать… такой болтунишка, который тащил меня сейчас к огромному ржавому плугу, забытому кем-то на дальнем конце поля. Он рассматривал его заляпанное грязью лезвие удивленными, широко раскрытыми глазами.
– Ну, так что ты в конце концов скажешь, мама? Как мы поступим? Следует все как следует обдумать, верно?.. мы не можем больше терпеть его… тем более что его новое семейство ожидает его там. Они ждут его… и его хороших вестей, и ведь он их везет им? Почему бы тогда нам не отпустить его к ним… А нам не отправиться на рыбачью пристань в Акко… в тот знаменитый рыбный ресторан… мы были бы там единственными евреями… что ты сказала? Ты просто не можешь оставаться здесь в предпасхальный седер…
– Не могу?.. А почему?
– Ты что, не помнишь?
– Не помню – что?
– Как ужасно ты себя чувствовала в такой же ситуации… в первый год. И тогда я был с тобой.
– Ты был здесь со мной во время седера?
– Конечно, – он улыбается. – Ты забыла. Ты была тогда очень больна. Совсем не понимала, что с тобою и где ты… но я был с тобой, и никогда не забуду, что это был за сумасшедший дом. У меня до сих пор мороз по коже…
– Отправляйся и побудь с отцом. В течение долгого времени ты, боюсь, его не увидишь. Я сама с ним уже попрощалась, но хочу чтобы ты побыл сейчас с ним. И еще хочу, чтобы ты помог Яэли. А я пойду сейчас к себе, лягу в постель и что-нибудь почитаю. Отец принес мне мои очки. Почему ты должен все делать только для меня? С главным вопросом все кончено… Ты сам сказал, что отныне я свободна… но ты ведь не думаешь, что мне снова восемнадцать лет…
Что-то пробежало по его лицу. Горечь? Печаль? Задумавшись, он опустился на колени и автоматически стал рвать едва появившиеся на поверхности побеги, и продолжал это до тех пор, пока, словно очнувшись, не увидел, что он делает, и тогда быстро бросил всю охапку на землю, сопровождая это виноватой улыбкой. А я пыталась вспомнить, была ли я в тот пасхальный седер с ним вместе или ему все это примерещилось, а я была не с ним, а с нею… взглянув вверх, туда, в сторону гор, я увидела, как заходящее солнце окутало все вокруг мягким светом, но увидела и ее, одетую в военную штормовку, руки в карманах, как у человека, путешествующего налегке. Я не могла определить, движется ли она по направлению ко мне или уже удаляется. И снова почувствовала прежний трепет, потребность того, чтобы снова она стала частью меня самой, подобно тяжелому рюкзаку… радость от ее непохожести, непонятной и дикой, между откровением ножа и проблеском света…
Цви счищал грязь со своих брюк, тяжело дыша, а я смотрела на первые морщины на его лице. Он повернулся к больнице и глядел на далекое мерцание водной глади… «Так мирно здесь, – сказал он. – Так тихо. Никогда раньше не обращал на это внимания. Похоже на сон, который преследует меня… когда-нибудь я расскажу тебе о нем. А теперь мне надо идти. Пойдем… попрощаешься с Кальдероном… он там скучает в одиночестве… он вообще-то в полной растерянности. Боюсь, это кончится тем, что его уволят из банка». И в то время как он медленно вел меня обратно к поджидавшему его автомобилю, я чувствовала, что он хочет сказать еще что-то, но сдерживается, слыша ее легкие шаги за моей спиной. Человек в машине что-то читал, склонив коротко подстриженную голову к рулю.
– Кальдерон, – вежливо сказал Цви, – попрощайся с моей матерью.
Он приподнялся, а когда выглянул, я увидела, что лицо его мокро от слез. Он вытер их и вылез из машины.
– Простите меня, миссис Каминка. – И с этими словами он пожал мне руку, низко поклонившись… – Это все… это все книга Чехова. Вы с ней незнакомы? Мы видели спектакль «Дядя Ваня», а затем Цви принес мне эту книгу. Невероятное произведение. Фантастическое. И когда я думаю о том, сколько народа проливало над ним слезы, мне хочется плакать снова, хотя я и понимаю, что глупо заливаться слезами над кучкой русских, живших сто лет тому назад и бывших, скорее всего, антисемитами при этом. Я слышал, что у вас, слава богу, все обошлось благополучно… вне зависимости от того, получилось ли все именно так, как вы хотели… но тем не менее все, так или иначе, решилось.
Он тряхнул головой, и я увидела, что глаза его были красными от слез, а щеки от этих же слез были мокрыми. Внезапно он вспомнил, что это был за день, и торопливо добавил:
– Я хотел пожелать вам счастливой Пасхи. Какая дивная сегодня стоит погода… настоящая весна… похоже, что зима все-таки закончилась…
– А где вы справляете седер? – спросила я.
Он бросил взгляд на Цви.
– Еще не знаю…
– Дома, – громко заявил Цви. – Ты будешь встречать седер дома. Разве не об этом ты думаешь все время?
– Да, – согласился он, переводя свой взгляд с Цви на меня и обратно. – Скорее всего, я буду дома.
Он прижал свою книгу к груди, глядя в то же время прямо мне в лицо. А потом добавил, видимо вспомнив что-то еще:
– Мистер Каминка сказал мне, что со стороны матери… что вы… что в вас есть что-то общее с нами. Немного…
– Немного чего?
– Немного от Абрабанелей, – он произнес эту фамилию с гордостью. – Что вы в какой-то мере тоже Абрабанель… я имею в виду, что в ваших жилах течет та же кровь…
Когда они успели встретиться и что побудило Иегуду рассказать ему о моей бабушке, которая и была Абрабанель?
– Ему было очень приятно узнать, что мы в какой-то мере относимся к сефардам… – объяснил мне Цви.
– Это кажется вам таким уж важным? – как можно мягче спросила я.
Он заметно смутился и покраснел.
– Это… еще один способ приблизиться к познанию самого себя… кровное родство в различной степени… Абрабанели – это не просто так… очень уважаемая династия. Я говорю о кровном родстве… но не надо понимать это буквально… я имею в виду кровь… в это я, пожалуй, не верю… это нечто неуловимое, неосязаемое…
Он опять бросил взгляд на Цви, и было в нем столько неподдельной и глубокой любви, что я была потрясена. Цви ответил на этот взгляд насмешливой улыбкой. И в это мгновение я увидела ее, быстро промелькнувшую над верхушками деревьев, и почувствовала, как голова моя раскалывается от боли, а лицо искажается гримасой…
– Что-нибудь не так? – в голос спросили они оба. – Что случилось?
– Ничего. Все нормально.
– Ну, хорошо. Думаю, нам лучше удалиться, – сказал Цви. И, обращаясь к Кальдерону, добавил: – Если тебя не будет дома как можно скорее, твои, кроме шуток, найдут тебя и прикончат…
– Может, так оно было бы к лучшему, – ответил Кальдерон с кривой улыбкой.
Цви тепло расцеловал меня и еще раз проговорил: «Я рад, что все это закончилось», и снова я ощутила, что он чего-то недоговаривает. Они уселись в машину и помахали, разворачиваясь, руками на прощание, взяв направление на восток. Голова моя, было просветлевшая, сейчас была мутна, и такими же, расплывчатыми, виделись все отдаленные предметы. Белый «мерседес» мчался посередине дороги параллельно железнодорожным рельсам, но вдруг, затормозив, развернулся на сто восемьдесят градусов и с той же скоростью стал приближаться. Цви выскочил из машины, едва она остановилась, и подбежал ко мне. «Мама, – не переводя дыхания, заговорил он, – мама, может, мне следует взять у тебя бумаги, которые дал тебе отец? Лучше не держать их в больнице… ведь кто-нибудь может их взять да и потерять».
Так вот чего он хотел все это время. А может быть, именно за этим он и приехал. «Кто же это может их взять?» – спросила я, никак не обнаруживая своих чувств и не отрывая взгляда от буйства сорняковых зарослей. А он ответил:
– Но ведь это – единственные документы, подтверждающие наши права на квартиру. Давай я положу их на хранение в свою банковскую ячейку, потому что с точки зрения закона это единственные документы, которые у нас есть… и если мы когда-нибудь захотели бы…
– Захотели бы – что? – спросила я.
– Не важно, что именно. Отец не пожелал здесь остаться… и…
Он тяжело дышал, поняв, очевидно, что сказал что-то не то.
– Это была не моя идея. Это Кальдерон. Он в таких делах большой специалист.
Он ждал от меня ответа или какой-либо реакции. Но я просто молчала, потому что, зная его, знала уже и то, что он врет, и что вовсе не Кальдерону принадлежала эта идея. И он все понял и расслабился, словно из него вдруг выпустили воздух.
Где-то вдалеке залаяла собака.
– А знаешь ли ты, – сказала я, – что наша собака до сих пор еще не вернулась?
Его руки беспомощно повисли.
– Да, я слышал об этом. Это все Кедми… он натуральный сукин сын. Но Горацио… он ведь и прежде не раз убегал, но всегда возвращался обратно.
– Но никогда он не отсутствовал так долго, – сказала я. – Может быть, завтра ты поищешь его?
– Хорошо, – пообещал он. – Я этим займусь.
И он снова обнял меня. «Ты прекрасно выглядишь. В любом случае все это пошло тебе на пользу». И он еще раз – в последний – поцеловал меня. Даже в самые плохие времена он никогда не боялся меня поцеловать, крепко обнять, утешить и успокоить.
Ворота со скрипом открылись и пропустили меня обратно, только Муса и Ихзекиель, испытавшие, похоже, неподдельное облегчение оттого, что Цви не увез меня с собой, еще ожидали меня. И мы двинулись по дорожке, проходившей мимо закрытой палаты, и увидели троих детей, которые безбоязненно продолжали играть под звездным небом за решеткой. Мы миновали библиотеку, дверь в нее была полуоткрыта, поскольку я не закрыла ее в свое время должным образом. Что-то заставило меня заглянуть внутрь. Сладковатый запах чего-то горелого висел в полумраке. Красноватый отсвет ложился на ряды книг, покрытых коричневой бумагой, и на множество грязных чашек и тарелок с остатками печенья, стоявших на столе. Цветы, которые я с утра повсюду расставила, тоже виднелись здесь и там, они стояли, увянув и опустив головки. Плотный слой высохшей грязи устилал пол, усеянный сигаретными окурками; тут же валялась черная бумажная кипа, и солнцезащитные очки, забытые кем-то, сиротливо лежали на полке. Я взяла их и надела, погрузив весь мир в пыльную коричневатую мглу. По всему видно было, что с самого утра в помещении никого не было, поскольку все, кто мог, были заняты подготовкой к празднику. Я сложила цветы на поднос, вынесла их наружу и вручила Ихзекиелю. Затем притворила дверь и заперла ее ключом, оказавшимся у меня в кармане, а затем бросила цветы на землю, на траву, хранившую следы колес побывавшего здесь такси. А сама стала дожидаться Ихзекиеля, чтобы прогуляться хоть немного, дожидаясь, пока не приедет Иегуда. Улучив момент, я ненадолго вернулась в библиотеку, наводя порядок, а потом побрела вокруг коттеджа, который, к моему удивлению, оказался не прямоугольным, как обычно, строением, а напоминал овал, и стены у него были закруглены. Все мои документы были со мной и находились в кармане халата… ощущение было необыкновенное и странное. И я была в эти минуты совершенно одна, поскольку сестра Авигайль, чьей обязанностью было помогать мне во всем, не спешила приступить к своим обязанностям. В восемь часов прибыло черное такси и, подобно лодке, остановилось на лужайке, разбросав колесами комья грязи. Иегуда, одетый в темный костюм, выбрался из машины, не доехавшей до цели почти на сотню метров, так что он вынужден был пробираться среди луж, щурясь от слепящего солнечного света, то и дело проваливаясь в грязь, отмахиваясь в то же время от крошечных насекомых, роившихся в свете солнца. Вслед за Иегудой появились из такси остальные пассажиры, первым из которых оказался старый йеменец, слегка припадавший на одну ногу, – с собою он нес кейс из пластика; с неожиданной резвостью он помчался вперед, вонзая в землю свою трость и время от времени нагибаясь то здесь, то там, чтобы сорвать тот или иной цветок или поднять лист, чтобы тут же растереть его между пальцами. За ним держался кругленький и жизнерадостный рабби Машаш, который уже навещал меня несколько раз до этого; он бережно вел с собой худого старика в черном сюртуке и очень темных солнцезащитных очках, а замыкал все это неординарное шествие выглядевший очень странно некий персонаж в длинном, до земли, армейском плаще цвета дубленой кожи и в кепке с козырьком. Я поспешила поприветствовать их, чувствуя угрызения совести, когда увидела, насколько бледным выглядит Иегуда; эта наша встреча была третьей за неделю, и каждый раз он выглядел хуже предыдущего. Йеменец склонился ко мне так, словно исполнял какую-то фигуру из неведомого мне танца, и мягко пожал мне руку, прежде чем прошмыгнуть в коттедж. Я последовала за ним вовнутрь, а Иегуда проводил туда же двух старших ребе, в то время как самый молодой из них, отличавшийся буйными зарослями золотистых кудрей и плотным телосложением, раскрасневшийся от жары, но тем не менее не снявший шерстяного шарфа, обмотанного вокруг шеи, задержался на входе, чтобы поцеловать мезузу, после чего с некоторым колебанием тоже переступил через порог. А я смотрела, как чистый пол превращается у меня на глазах в помойку. Вошедшие тоже, кажется, были удивлены количеством грязи, которое они нанесли своей обувью, и попытались хоть как-то очистить ее. «Не обращайте внимания», – сказала я им, пока они снимали свои шляпы, заменяя их кипами, вытирая вспотевшие лица и удивляясь обилию цветов в такой небольшой комнате. «Не берите в голову». Затем рабби Машаш представил своих сотоварищей. Старейшим оказался рабби Авраам, следующим по возрасту был йеменский переписчик рабби Корах, а последним – рабби Субботник, новый иммигрант из России, известный эрудит и феноменальный знаток Торы, прибывший в Израиль прямиком из трудового лагеря усиленного режима.
– Вы здесь в одиночестве? – спросил рабби Машаш. – Ладно, это не столь важно. Доктор Нееман обещал, что постарается организовать все, что надо, и прибыть… но, думаю, мы не станем его дожидаться.
И они тут же принялись приводить комнату в нужный им порядок, переставляя стулья, сдвигая столы в угол и устроив рабби Авраама в удобное кресло возле окна. Йеменский специалист-переписчик расположился, как ему было привычнее, со всеми своими письменными принадлежностями, прерываясь лишь для того, чтобы, понюхав очередной цветок, тут же бросить его на пол. Затем из своего пластикового кейса он извлек несколько узелков, завернутых в носовые платки, развязал стягивающие их тесемки и достал сначала чернильницу, а затем и несколько перьев. Иегуда держался возле русского талмудиста, сидевшего у двери и подозрительно оглядывавшего своими большими синими глазами комнату, непрерывно трогая руками шарф, все еще обмотанный у него вокруг шеи, как бы решая вопрос – оставить его там или снять. Так и не придя к какому-либо решению, он заговорил вдруг мягким мелодичным голосом с ужасающим грубым русским акцентом.
– Ну и где же она? – вопрос относился к Иегуде.
– Где она? Что вы имеете в виду?
– Ваша жена. Женщина, с которой вы разводитесь.
– Моя жена? Да вот же она. Рядом.
– Рядом? – спросил изумленный русский, уставившись на меня. Похоже, он был уверен, что я – медсестра, а настоящая жена… ее притащат вот-вот, рыдающую и в слезах, вытрут слюни, уберут сопли и позаботятся, чтобы она не прикусила язык. – Это она? – переспросил он медленно, не в силах поверить своим глазам.
– Без сомнения, – мгновенно вступил в разговор рабби Машаш, утирая пот; лицо его пошло красными пятнами. – Без сомнения – это она. Миссис Каминка. А вы что подумали? Кто она по-вашему?
Он продолжал бороться с цветами – даже теми, что лежали на подносе. Рабби Субботник бросил на меня недоумевающий и озабоченный взгляд, как если бы он оказался вдруг жертвой надувательства. Иегуда помог раввинам выбраться из их пальто. «Ну и ну… вот так жарища… настоящий весенний день!..» – раздавались басовитые их голоса – в то время как он, согнувшись, расшаркивался перед ними. Когда я отправилась, чтобы приготовить чай, он внезапно оказался передо мною, вытащил из своего кармана мои очки и забормотал: «Ну, вот… держи… Яэль их тебе починила. Теперь ты снова можешь в них читать». Затем он вручил мне коричневый конверт, из которого сам же достал отпечатанное на машинке письмо. «А это – право на владение всей квартирой; о чем ты просила. Все подписано и скреплено печатью». Он провел длинным пальцем вниз по напечатанному тексту, продолжая говорить горячечным шепотом. «Вот здесь». Затем он достал еще какие-то документы.
– А это – доверенность, заверенная нотариусом, которую я дал на имя Аси. Если возникнут какие-либо проблемы, он будет иметь право действовать вместо меня.
– Аси? – изумилась я. – Почему Аси? Почему не Яэль?
– Потому, что я не хочу больше иметь дело с этим ее Кедми, – мгновенно ответил он. – Аси – самый надежный из всех. Самый нормальный.
Бумаги издавали шелестящий звук. Я ощущала исходящий от них запах его страха. «Какое счастье, что сейчас ее здесь нет», – подумала я. Будь это иначе, ее хватил бы удар. «А почему ты такой бледный?» – спросила я. Он улыбнулся горькой улыбкой. И в эту же минуту мы почувствовали, как замерло все вокруг, отметив изумление, с которым четверка раввинов взирала на нас.
Пасха, пасторальный развод за несколько часов до седера в библиотеке деревенского сумасшедшего дома, тщательно украшенного мною цветами и зеленью. Йеменит, заканчивающий приготовления со своими принадлежностями для письма и перьями, сворачивающий при этом сигарету из зеленоватого табака, поглядывая при этом широко раскрытыми глазами на пейзаж за окном психиатрической больницы. Рабби Машаш достает документы из нашего файла, его округлая жизнерадостная фигура заполняет комнату, выражая сильнейшее желание как можно скорее завершить формальную церемонию.
«Профессор Каминка», – мягко обратился он к Иегуде, который вздрогнул при этих словах, заставив меня усомниться, на самом ли деле он так уж преуспел в Америке или всего лишь пытается произвести на них впечатление. Я бесшумно двигалась меж ними, разнося чай, в то время как он следовал за мной, предлагая им крекеры и сахар, как если бы они были зваными гостями у нас в доме. Поначалу они отказывались, поглядывая на свои часы, чтобы определить, наступило ли время для приема разрешенной пищи, но в конце концов каждый из них взял по крекеру, стараясь не ронять крошек на свою одежду. Русский сидел в углу, не снимая своей шляпы, распространяя запах немытого тела; блюдце с чаем он держал в растопыренных пальцах, как это делали в старину, и дул на него, произнося благословение своим неторопливым, мелодичным голосом, когда дверь отворилась и молодая женщина, которой я никогда прежде не видела (я не сомневалась, что она – из закрытой палаты), вошла, неся с собою книгу. Я подумала, что она вошла, увидев полуоткрытую дверь библиотеки, и поспешила за своей книгой, чтобы обменять ей. Мужчины, растерявшись, обратили вопрошающие взоры ко мне, но мне нечего было им сказать – даже тогда, когда Иегуда встал со своего места, чтобы остановить ее. Она проскользнула мимо него в комнату, маленькая, словно птичка, и теперь стояла возле полки с книгами, легонько дотрагиваясь до них и то и дело поглядывая на нас через плечо. Внезапно она произнесла свистящим шепотом: «Убери от меня прочь свои лапы, ты, несчастный педик!» Все застыли, кроме йеменца, глаза которого радостно сверкнули. Иегуда двинулся к ней, намереваясь ее выставить, но я положила свою руку ему на рукав, потому что знала теперь, что эта двуличная сучка только и ждет того, чтобы устроить скандал. Постояв еще минуту, она взяла с полки какую-то книгу, взглянула на нее и изо всех сил швырнула на пол, как если бы нас вообще здесь не было, после чего вылетела из комнаты, непристойно и громко хохоча.
Йеменец был в восторге. Он хохотал, словно ребенок и даже прижался к оконному стеклу, чтобы посмотреть ей вслед. Рабби Машаш был, наоборот, огорчен. «Такого никогда еще не было. Может быть, нам лучше закрыть дверь, потому что у нас не так уж много времени, а при таких… обстоятельствах мы рискуем никогда не закончить… Я говорил доктору Нееману, что нам нужно тихое место… Ну, хорошо, не будем об этом. Давайте начнем. Для начала, господа, нам нужно установить личности разводящихся…»
Они раскрыли свои папки для проведения идентификации. Первым делом они спросили имена наших отцов и матерей, а затем имена их родителей, даты их рождения и смерти, равно как и места, где они родились.
– Поскольку до сих пор все в порядке, – возвестил рабби Машаш, – вы можете приступать к составлению текста о разводе.
Но именно в эту минуту молодой русский раввин, который до этого не только не произнес ни слова, но даже не раскрыл свой файл, сидя безмолвно и не спуская своих глаз с меня, поднялся со своего места и сказал:
– Минутку. Есть один маленький момент. Не нужно так спешить. Мы не должны действовать вопреки закону.
И, обернувшись к Иегуде, он потребовал, чтобы тот покинул комнату.
– Но в чем дело? – сердито запротестовал рабби Машаш. – Что-то не так? Но что именно?
– Я хочу задать несколько вопросов жене без присутствия мужа, – сказал русский ребе со своим грубым акцентом, делавшим его иврит едва понятным, несмотря на мелодичность голоса. Взяв отца за руку, он открыл перед ним дверь. – Пожалуйста… один момент… подождите снаружи.
От всей его фигуры исходило нечто, не позволявшее ослушаться его. «Но что все-таки не так? – вопросили остальные рабби. – Чего вы добиваетесь? И почему вы сначала не обратились к нам?»
Но русский ребе настаивал на своем. Ничего не объясняя по существу, он промямлил, заикаясь, несколько цитат из Библии, подкрепив их ссылкой на имена известных галахических авторитетов. Иегуда встревожился. «Хорошо, – сказал он. – Хорошо. Я ухожу». И дверь за ним закрылась. А вслед за этим рабби Машаш и рабби Авраам рассерженно вскочили и, уставившись на виновника этой неприятности, стали вышагивать туда и сюда по комнате, похожие на две черные стрелки часов – одна большая, другая маленькая, в то время как он, тонкий, как секундная стрелка, стоял и, не отрываясь, смотрел на меня.
– Я не думал, что она… что вы, мадам… были в состоянии… что вы настолько в порядке. Мне сказали, что ситуация безнадежна… что иного выхода, кроме развода, не существует. Но вот я здесь, и я… и я вижу выход. С учетом всех обстоятельств… если человек в здравом уме… мадам должна меня понять… у нее есть собственные права… даже если… в сумасшедшем доме… и если мадам скажет… я не подпишу… Здесь это не Россия… здесь нет… не должно быть ну… насилия… принуждения.
Тут уже вышел из себя рабби Машаш. Он буквально задыхался от ярости.
– Насилие? Принуждение? Никакого насилия здесь нет, и никакого принуждения быть не может, рабби Субботник. О чем вы тут говорите? Миссис Каминка подписала по собственной свободной воле все документы. Это было ее свободное решение. Вы уж меня извините. Что вы пытаетесь нам доказать? Она сама попросила его прибыть из Америки… Вы ставите нас в немыслимое положение. Мы предстаем в совершенно невозможном свете… Все уже оговорено… Для нашей репутации – это дело чести… Сам рабби Виталь дал нам свое благословение…
Он возбужденно повернулся к старому ребе Аврааму, который, укрывшись за своими сильно затемненными солнцезащитными очками, начал тревожно покусывать ногти.
Но ребе из России не удостоил их своим взглядом. С подчеркнутым чувством собственного достоинства он сверлил меня взглядом. При этом он не мог быть намного старше, чем Аси. Лицо у него было гладкое, без единой морщины. А взгляд был взглядом фанатика.
– Вот вы здесь… и мы вас спрашиваем… Но почему? Какая разница, если она… Ну… Если мадам оказалась в этом месте в силу каких-то причин… При этом не настолько молода и больше не… Ну…
От возбуждения он весь покраснел. Его ломаный, но мелодичный иврит подводил его. Точно так же говорил Иегуда, когда он впервые ступил на эту землю.
– Дело в том, что вскоре у него появится ребенок, – сказала я.
– Ребенок? Какой еще ребенок. И где?..
– В Америке.
Это подбавило огня. Он свирепо обернулся к остальным ребе и саркастически воскликнул:
– Ну. А теперь у нас на руках оказывается еще маленький бастард. – Он заглянул в папку, которую держал в руках. – Здесь ничего об этом не говорится.
– Рабби Субботник! – Рабби Машаш теперь кричал уже во весь голос, кутаясь при этом в просторное тяжелое пальто. – Объяснитесь, наконец!
Но русский ребе оставил его без ответа и подошел ко мне вплотную… Так близко, что я чувствовала на себе его дыхание.
– Миссис Каминка! Выбросьте из головы этого ублюдка… их появляется теперь на свет так много… так что одним больше или меньше… повсюду в мире все идет вверх дном… Но святость бракосочетания это…
Сейчас он был уже темно-малиновый.
– Святость для кого? – смиренно спросила я.
– Для кого? – он отшатнулся, захваченный врасплох. – Ну… для Господа, конечно…
Это он произнес очень мягко.
Ну, наконец-то. В самое время. Внутри меня бушевала ярость. Мне пришлось напрячь все свои силы, чтобы не дать вырваться наружу словам, кипевшим во мне.
– Господь? О ком это вы толкуете? Кто это такой?
– П-п-простите?
– Я не желаю больше слушать об этом. Не произносите больше при мне этого слова. Ни этого, ни какого-либо иного, столь же бессмысленного!
Старый ребе Авраам рухнул на стул и закрыл лицо руками.
Красный, как свекла, рабби Машаш набросился на ребе из России, который отступил от него на шаг, не переставая улыбаться.
– Рабби Субботник! Все, хватит! Что вы из нас делаете? Существует определенная процедура развода, и мы все, собравшиеся здесь, обязаны ей следовать. У нас здесь имеется председательствующий судья. И я прошу вас оставить свою философию при себе.
Он резко повернулся ко мне и подтолкнул меня к двери.
– Миссис Каминка… Имеет место некоторое недопонимание. Вскоре мы продолжим. Пожалуйста, подождите снаружи несколько минут.
Он вывел меня наружу, где царил ослепительный солнечный свет, и захлопнул за мною дверь. Иегуда сидел на покатом валуне и курил.
– Что там еще происходит? – спросил он.
Как я хотела бы оказаться сейчас в его объятиях… Но об этом не приходилось и мечтать, хотя… Хотя именно это и произошло в тот первый день, когда он с такой неожиданной теплотой обнял меня.
– Что же там происходит? – Я почувствовала, как в нем нарастает тревога. – Чего они хотят?
Какие-то звуки – выкрики и удары по столу доносились до нас из-за двери. Отец поспешил ко входу, но дверь открылась, словно сама собой.
– Профессор Каминка, войдите на минутку. Вы одни… пожалуйста.
Это был рабби Машаш. В минуту, когда он пропускал отца вовнутрь, я поймала на себе его двусмысленный взгляд.
Боль у меня в голове была плохим предзнаменованием… первым признаком приближающегося приступа болезни. Все те слова, которые я хотела в конце концов произнести, застыли на моих губах, словно клейкая пена. Из-за закрытых дверей доносившиеся голоса становились все менее разборчивыми. Я поняла, что в эту самую минуту молодой рабби из России расспрашивает отца, прилагая все силы, чтобы спасти наш брак.
– Профессор? – доносилось до меня. – Какой профессор? Профессор чего?.. Америка? Где именно?
Голос Иегуды звучал мягко, завораживающе, в его обычной манере, в то время как рабби Машаш своими репликами пытался разрядить напряженную атмосферу, нагнетаемую резкими вопросами русского ребе. Из больничной кухни, становясь все более густым, валил дым, уходя вверх к безоблачному небу, и что-то мелькало в зарослях и среди деревьев, где Ихзекиель и его банда ожидала нас. И еще кто-то проглядывался там, какой-то посторонний, о котором мне ничего не было известно, – он то и дело мелькал меж ветвей и сквозь листья. Может быть, это снова была она? В это я не могла поверить. Внезапно из библиотеки перестали доноситься какие-либо звуки. Даже шепота не было слышно. Ах! Если бы только со мною сейчас была Авигайль! Я пошла вокруг коттеджа, среди высоких и густых сорняков, пока не добралась до открытого окна, и увидела Иегуду, стоявшего без пиджака, с распущенным галстуком. Он держался за грудь, пока рабби Машаш доказывал что-то молодому русскому ребе, а рабби Корах слушал его, тоже с удивленным выражением лица. Я закрыла глаза и прикусила губу, едва держась на ногах от боли. Через какое-то время дверь отворилась, и Иегуда снова оказался снаружи.
Он бросил на меня напряженный злой взгляд и пошел прочь, с отчаянием поглядывая на свои часы, не обращая никакого внимания на сияющее утро, солнце и зацветающую землю.
– Кто просил тебя раскрывать рот и болтать о ребенке? Но ты… ты не смогла промолчать… ты должна была все рассказать им…
И гримаса презрения перекосила его лицо.
– Прости меня. Я не думала, что…
– Ладно, чего уж… – перебил он меня.
– …Что они не в курсе дел…
Он яростно повернулся ко мне:
– Они были не в курсе дел… чего? Я сам не в курсе дел, о каком ребенке ты толковала. Потому что нет никого… – Его голос стал теперь тонким, как если бы внутри него вот-вот мог вырваться наружу с трудом сдерживаемый крик. – Ты что, не видела, с кем ты имеешь дело? Почему тебе потребовалось все усложнить… И это после того, как ты получила от меня все, что хотела? Черт бы побрал и тебя, и их… Вместо благодарности – снова и снова унижение… А все ты… Ты, как всегда.
Отчаяние сделало его жестоким, я это поняла. Он испугался, что вся его затея рухнула.
– Может быть, я сумею объяснить все это им… попробовать… – Я попыталась подняться с камня, на котором сидела, – и не смогла. Ощущение было такое, словно камень не хотел меня отпускать.
– Ничего не надо, – произнес он голосом лишенным надежды. – Ничего… ты только сделаешь еще хуже. Этот русский рабби – крепкий орешек. Впивается, точно клещ. И любое твое слово обернет против меня.
Что я могла сказать? И я осталась сидеть, моя длинная белая юбка распласталась по камню почти до земли. Пели птицы. Со всех сторон доносились звуки просыпающейся больницы, но звонкий голос русского ребе все равно слышен был во всей своей патетической велеречивости, с которой он произносил на немыслимом иврите слова древних песнопений, перекрывавшихся время от времени успокаивающим баритоном рабби Машаша, а я сидела и думала – что же это происходит, что в защиту распадающегося нашего брака бросился подобный странный, ни на что не похожий, почти асоциальный беженец из далекой России, и делает это с таким пылом по одному ему лишь известной причине. Иегуда стоял тихо, не шевелясь, красивый, но полностью утративший веру в себя выродившийся интеллигент… Стоит тихо и вслушивается в окружающий его мир, небрежно засунув руки в карманы пиджака. А через некоторое время эти руки, внезапно пришедшие в движение, начинают извлекать из карманов заграничный паспорт, билеты на самолет, еще какие-то документы, бумажник с деньгами, отдельные банкноты, и его пальцы бесцельно перебирают, роются во всем этом хозяйстве, которое он, по-видимому, вынужден постоянно носить с собой. На какое-то мгновение наши взгляды встречаются. Внутри библиотеки голос продолжающего отчаянную битву русского ребе вдруг теряет силу, в отличие от голоса йеменца, кажется берущего верх. Иегуда достает сигарету и нервно закуривает… Сейчас это – самое важное, и он слеп ко всему остальному на целом свете – к великолепию деревьев, к больнице, к небу… Его движения нервны… даже судорожны… Он поправляет пиджак, касается прически, застегивает пуговицу на рубашке, озирается, а затем неуверенными шагами движется прочь, а я сижу недвижимо, и в голове у меня одна только мысль – я вижу его в последний раз.
– Иегуда!
Он останавливается, стоит. Ждет? Но чего? Не дождавшись ничего, он поворачивается. Молчит. Смотрит куда-то. Мимо меня?
В последний раз?
– А знаешь… Кажется, я – единственный человек, который не видел твой знаменитый шрам, ведь ты показывал его каждому встречному…
Ему это не нравится, но он вынужден меня слушать. В последний раз.
– И?.. – говорит он наконец.
– Ты вскоре отбываешь… и мы… и я никогдатебя больше не увижу. И этот шрам… оставила тебе я тогда… Я… я… но я никогда его не видела…
Он раздражен, я вижу это.
– Не имеет значения. Почему тебе вдруг захотелось его увидеть? Позволь мне, Наоми…
– Я – единственная, кто его не видел. Цви утверждает, что ты уже показал его всем. Почему бы и мне не взглянуть тоже?
– Пожалуйста… Только не сейчас, – просит он. – В любое другое время. Сейчас дай мне уйти.
– В другое время? Его не будет… Ведь мы больше никогда не встретимся.
– Встретимся. Конечно встретимся. Почему ты так… Я еще вернусь… Ведь у нас есть дети… Что бы там ни было, они принадлежат нам обоим…
Но я устала, и мной уже овладевает нетерпение.
– Покажи мне его!
Он распознает в моем голосе угрозу, улавливает, угадывает мое страстное желание… Чего? Только увидеть шрам? Некоторое время он колеблется, но недолго. И сдается. Как всегда. И быстро расстегивает одну за другой пуговицы на рубашке, обнажая в свете яркого дня свою грудь, которую я так хорошо знаю и которую забыла. Его плоскую грудь с кудрявыми завитками, с большой родинкой, сейчас почему-то бледной. А поперек груди – кривая линия, похожая на багровый выпуклый шнур. Застывшая навеки памятка о моем промахе. Не там должен был бы быть шрам, он ускользнул от меня в последнее мгновение. Он стоит молчит. Смотрит на меня. Пальцы его, нащупывая пуговицы, начинают застегивать рубашку. Затем он поднимает на меня взгляд, смотрит внимательно, словно хочет запомнить надолго. Или навсегда? Затем губы кривятся в так хорошо мне знакомой иронической усмешке.
– Ну а теперь ты скажи мне – ты и на самом деле хотела меня убить?
Нет, он не спрашивал меня. Просто размышлял вслух.
– Да, – быстро ответила я, ощущая во рту, в пересохшем мгновенно горле сладкий привкус…
– Но почему?
– Потому что ты разочаровал меня.
Он проводит ладонью по голове, приглаживая волосы, похоже, мой ответ удовлетворил его, словно подтвердил нечто такое, о чем в глубине души он и сам давно уже догадывался. А я вдруг с ужасом вижу ее в дыму, который поднимается над крышей кухни, на ее спине чудом держится маленький чемодан… Но как раз в это время дверь открывается и рабби Машаш в своей белой рубашке с подвернутыми рукавами выходит наружу и знаками показывает нам, что мы должны войти, и мы идем. Комната полна дыма. Из электрического чайника столбом валит пар, стулья сдвинуты, и все занимают свои места. Мы едва успеваем войти, как церемония начинается. Рабби Машаш читает постановление о разводе, раздельно и громко произнося каждое слово, в то время как йеменец-каллиграф, сидящий за столом, записывает все сказанное с невероятной быстротой. Затем рабби Машаш отводит меня в угол, а Иегуду – в противоположный, и я оказываюсь рядом с русским, который, словно приклеенный, стоит возле окна. Текст решения раввинатского суда зачитывается в присутствии нас обоих еще раз, после чего подписывается по очереди всеми раввинами, оказавшись в конце концов на рукаху Иегуды. А затем йеменец быстро складывает обе мои ладони лодочкой, а в воздухе возникает кусок пергамента, который, подобно библейскому голубю, садится мне прямо в руки. Следом за голубем в воздухе громко звучат слова молитвы… И я получаю развод.
Русский раввин открывает дверь, впуская поток ослепительного света, – сам он, воспользовавшись моментом, проскальзывает наружу, и фалды его грубой армейской шинели громко хлопают у него за спиной, в то время как каллиграф-йеменит бережно обращает свои письменные принадлежности в узелки. Рабби Машаш занимается тем, что собирает бумаги, престарелый рабби Авраам мелкими шажками движется к выходу, а Иегуда не отрываясь смотрит на меня, и в глазах его – тоска. И в эту минуту мне становится совершенно ясно, что жить без меня он не сможет.
– Мистер Каминка, – обращаются они к нему. – Вы не хотели бы провести с нами сегодняшний седер? Ведь вы об этом, разумеется, не забыли?
Он смущен… Он неуверенно кивает головой:
– Может быть… Я… может быть, ненадолго…
Йеменит трогает его за рукав:
– Но вы понимаете, что приглашение относится только к вам. С этой минуты вам запрещено находиться вместе с этой женщиной в одном помещении.
Каким дураком он должен сейчас чувствовать себя, какой тряпкой – доведенный до отчаяния старый человек, пытающийся пожать мне руку.
– Сказал ли я тебе, что дал Аси нотариально заверенную доверенность на случай чего-то непредвиденного?
Он пытается освободить свой рукав от мертвой хватки йеменца, желая сказать мне что-то еще.
– Так что в случае чего у тебя есть на кого опереться…
Я ему не ответила. Но внутри у меня непрерывно билась одна и та же мысль – ведь я и в самом деле никогда его больше не увижу… И вот-вот он исчезнет… исчезнет из моей жизни навсегда. Как это могло случиться… Как случилось? Но это случилось… А я все не могла в это поверить. А они, судьи, уже выталкивали его наружу, мягко, но непреклонно, туда, где в полный рост стояли сорняки и земля вокруг была мокрой после того, как утром я полила ее. Оказавшись снаружи, они огляделись и вдруг разом устремились навстречу появившимся неведомо откуда доктору Нееману и Авигайль, которые торопились не пропустить процедуру моего развода. Доктор Нееман стал пожимать достопочтенным раввинам руки, отпуская одну за другой свои знаменитые шуточки, в то время как Авигайль, задыхаясь, ворвалась в библиотеку, где находилась я.
– Все уже закончилось, – сказала я, и удивилась, как просто все звучит. – Все кончилось.
– Не может быть, вы уверены? – спросила она. И тут, разом поняв смысл моих слов, она обняла меня, крепко прижав к груди. – Это на самом деле… совсем-совсем закончилось? Что за безумный, что за сумасшедший день у нас сегодня!
– Пошли, все уже началось!
Он пытается поднять меня, выманить из постели, соблазненный обретенной мною новой свободой. Муса тоже вваливается в палату, натыкаясь на кровати. Ихзекиель откалывает одну из своих отработанных штучек. Он валится на пол, лежит, не открывая глаз, и говорит, что не в силах двинуть ни ногой, ни рукой. А Муса начинает снова стонать: «Они уже приступили к еде».
Я поднимаюсь с кровати, на мне все еще белый халат, надетый поверх полотняного костюма.
– Хорошо, – говорю я этим двум клоунам, устроившим представление исключительно для меня. – Хорошо. Я пойду с вами. Но только до столовой.
Они идут по обеим сторонам от меня, словно несут по воздуху, а я скольжу между ними по дорожке, не выпуская из рук книгу, которую читала в постели. В воздухе свежо. Мы проходим мимо библиотеки. В ней горит свет, как если бы там внутри кого-то ожидали. Я чувствую, как сильно бьется мое сердце… Но я должна туда заглянуть. Дверь, которую я закрывала, снова открыта, чашки убраны, но на полу по-прежнему толстый слой застывшей грязи. Слабый свет позволяет рассмотреть ряды книг на полках, их грубые переплеты. Глядя на них, я испытываю глубокую печаль: ведь они – последние свидетели одного брака, которому здесь был положен конец. Он хотел меня о чем-то спросить, но раввины утащили его прочь от меня. Переполненные окурками пепельницы оставлены на столе. Исчерченная какими-то знаками бумага сиротливо белеет среди этого бедлама. Я беру ее в руки. Это – все, что осталось от первого варианта соглашения о разводе, которое Кедми принес мне и которое отец порвал в клочки. На этом самом месте совсем недавно Аси вышел из себя настолько, что поранил самого себя.
За моей спиной Ихзекиель и Муса ждут, замерев, как статуи; время от времени они начинают хныкать: «там уже все началось». «Вот-вот все будет съедено, вот-вот они начнут петь. – Ихзекиель выключает свет. – Идем же…» Сквозь притуманенные стекла я вижу свет расположенных неподалеку домов из соседних поселков, слышу завывание собаки. Лай доносится издалека. Может ли быть, что это наш пес, Горацио? Может ли быть, что она уже дожидается, стоя у больничных ворот, забросив за плечи пятнистый, оливково-коричневый свой рюкзак, в грубых солдатских ботинках, – стоит и поджидает меня? Я мечтаю лишь о том, чтобы уйти поскорее… уйти и забраться под свое одеяло, но они снова безжалостно вытаскивают меня на дорожку, ведущую прямо к залитой огнями столовой, на пути к которой к нам присоединяется большая группа врачей и медсестер, покатывающихся со смеху от шуточек доктора Неемана; тут же нельзя не заметить ни на что не похожую кепку молодого рабби из России… Кажется, его зовут рабби Субботник. Что заставило его вернуться… Может быть, я ошибаюсь… Нет, услышав этот голос, ошибиться невозможно, это его голос и это его длиннополая красноармейская шинель. Они сначала догоняют нас, потом идут рядом. Но в конце концов вырываются вперед и первыми достигают широко открытых дверей столовой – той конечной точки, до которой я хотела дойти. Но не дальше.
– Оставьте меня здесь, – бормочу я, но Ихзекиель не желает об этом даже слышать; если я откажусь посетить с ними вместе пасхальный седер, угрожает он, то прямо сейчас он рухнет на пол. Муса всей грудью вдыхает ароматы еды, но он, словно цепью, прикован к Ихзекиелю, он без него – никуда, и не переступит даже через порог, так что выбора у меня нет, и вместе со всеми я попадаю внутрь, где воздух заполнен звуками песнопения, повсюду царит неразбериха, столы составлены гигантским квадратом, на котором ослепительно белеют накрахмаленные скатерти с горами мацы, похожей на страницы Брайля для слепых, в больших, без этикеток, бутылях просвечивает что-то жидкое – скорее всего, свежевыжатый сок; здесь же разбившиеся на группы и группки пациенты, медсестры и обслуживающий персонал вперемежку с представителями администрации – и все это, вместе взятое, производит шум, подобный тому, что производит море в час прилива. За отдельным столиком – семья: трое начищенных до блеска ребятишек – тех, что допоздна играли на лужайке, но теперь с ними их очаровательная мать, муж которой, молодой врач из Америки, недавно зачисленный в штат больницы, весело смеется неподалеку и выглядит абсолютно счастливым; судя по всему, это его первый седер в Израиле. У меня нет объяснения тому, что при моем появлении все встают, – остается предположить, что виною всему мое белое одеяние из льна, которое не может скрыть накинутый поверх него белый же халат, и книга, которую я не выпускаю из рук. Все разом встали со своих мест, повинуясь знаку, поданному русским раввином, – сам он тоже встал и теперь глядит на меня своими темно-синими, широко раскрытыми глазами, и у меня нет сомнения, что он не успел еще забыть, кто я. Он аккуратно держит чашку двумя пальцами – точно так же, как сегодняшним утром, и мягким своим и в то же время сильным голосом произносит первые слова благословения, ложащегося над пасхальным вином:
– Благословен будь Ты, Господь, Царь вселенной…
Но вот уже стая медсестер спешит к осанистому доктору Нееману, который прерывает рабби и что-то шепчет ему на ухо. Боковая портьера отъезжает, и в столовой появляются пациенты из закрытого отделения – добрую дюжину из них я никогда не встречала, их сопровождает молодой врач и пара медсестер. Вид у них испуганный, чувствуется, как они напряжены. Остановившись, они образуют линейку, первым в которой стоит рыжеволосый коротышка. Организаторы седера рассаживают их по столам и наполняют их бокалы, и опять, по знаку, поданному русским ребе (сам он, напряженный, как струна, стоит с закрытыми глазами; не исключено, что и для него этот седер в Израиле – первый), все встают, а в воздухе слышен сильный и мягкий тенор, произносящий освященные многими веками слова: «Барух ата адонай элохейну мелех ха олам…»[8]
Чей-то вопль прорезает воздух. Рыжеволосый пациент, ускользнув от внимания своих надзирателей, запрыгивает на стол. Косоглазый, он посылает всем нам огненные взгляды – жаль только, что адресат их трудноопределим. Разумеется, он тут же пойман, и его стаскивают на пол и волокут прочь из зала, и его плач еще долго доносится до нас, долгий и тоскливый вой, словно принадлежащий дикому зверю. Все краски – если они были на лице русского раввина – исчезли, он бледен как полотно, как накрахмаленные скатерти на столах. Едва обретя душевное равновесие, он начинает снова обряд благословения пасхального вина, произносимого над специальным бокалом, который так и остался у него в руках, в то время как всем остальным приходится поднимать их заново. Всем остальным… кроме меня. Я не встаю со всеми, я сижу с открытой книгой, я ненавижу эти благословляющие слова, я не хочу никого и ничего ждать, а потому я пью свой сок, разведенный капелькой пасхального вина, ощущая во рту сладковато-кислый привкус. После чего все усаживаются, за исключением маленького мальчика, который, наоборот, встает со своего места. Он поворачивается в сторону своей семьи, к родителям и братьям, Субботник поддерживает малыша взглядом своих темно-синих глаз, и мальчик декламирует со своим тяжелым американским акцентом великие четыре вопроса так, словно у него рот был забит камнями, но с привычной уверенностью, хотя у меня возникло подозрение, что смысла произносимых слов он не понимает. Тем не менее, когда он закончил, все присутствовавшие в столовой наградили его искренними аплодисментами, и снова вознесся к потолку голос русского раввина, и даже мое равнодушное к официальным опостылевшим декларациям сердце сжалось, когда раздались печальные и гордые заключительные слова: «Рабами были мы в Египте…» И снова покрыты были эти слова шумом и живым смехом, а я увидела в окне ее лицо, истомленное желанием. Встав со своего места, я знаком подняла и Ихзекиеля. Зачем? Мне совсем не нужно, чтобы он стоял так вот, у всех на виду. Я умираю от жажды… Кто нальет мою чашку? Я протягиваю руки к бутыли и начинаю пить прямо из горлышка, я захлебываюсь, но не могу оторвать от бутылки своих пересохших губ, словно пустыня все еще пылает за моей спиной, обжигая сухим жаром, в то время как рабби продолжает описывать нам ужасы тех времен, «когда мы были рабами».
Он стоял тогда на мокрой земле, среди груды прелых листьев. Манжеты брюк запачканы грязью, но он не замечает ничего вокруг, он погружен в себя, солнце палит, фиолетовая весенняя дымка уходит в воздух, но он – вне этого мира. Где же он? И что он делает… Что и почему. Он достает бесчисленные бумаги, но даже не заглядывает в них; как автомат, перекладывает их из одного кармана в другой, галстук на нем свободно свисает на грудь. Узел распущен, седые курчавые волосы выбиваются из расстегнувшейся рубашки, обнажая большую бледную родинку, которую некогда я так любила целовать. Да еще маленький рдеющий рубец, напоминающий извилистый ручеек. «Ты и в самом деле хотела меня убить?» Вопрос был задан почти что с детским наивным удивлением, в то время как на лице оставалась мудрая улыбка, прямо-таки освещавшая его лицо. Может быть, все это было просто ошибкой… А то и вообще сном? Он так и не смог поверить в то, что тем утром… Пусть даже это было уже не совсем утро, просто ночной свет еще не был выключен, в том числе и на кухне, и я нашла его стоящим возле стола в ночной пижаме. Высокий и тощий, он был похож на диковинную птицу в своем тесном переднике. И против обыкновения он был небрит. В этот неурочно ранний час он тайком поглощал свой скудный завтрак, поставив тарелку на пожелтевший экземпляр газеты, заперев на замок дверь, ведущую на кухню, а ключ повесив себе на шею. При моем появлении он недовольно надул губы – холодный, сдержанный человек, замкнувшийся в круге собственных своих мыслей; маленькие его кастрюльки закипали на плите, полные заготовок, в то время как пес, лежа под столом, колотил хвостом и принюхивался к запахам еды, которую он положил ему в миску.
Он был поражен, увидев меня.
– Зачем ты поднялась? Гадди в конце концов снова уснул. Разумеется, он может вскрикнуть, он ведь такой же крикун, как и его отец… Но почему бы тебе не вернуться в постель? Мы должны вернуть его Яэли. Наверное, правильно будет, если ты этим займешься, а я останусь здесь и наведу порядок. За весь этот месяц я не прочитал в газетах ни единого слова.
Он быстро начал счищать со своей тарелки объедки и постарался отвлечь мой взгляд от продолжавших выкипать кастрюлек. Затем он сходил за моими лекарствами, отсыпал дозу в стакан чайной ложкой и механически, не говоря ни слова, протянул его мне. Он был на грани срыва. А мне пришло в голову, что он сам пал жертвой собственного отчаяния и будет только рад отделаться от меня. Я подошла к плите посмотреть, что он там готовит. Он неуверенно улыбнулся, но подвинул ко мне одну из своих кастрюлек, в которой лежало – почти без воды – подозрительно чернеющее мясо. Я убавила огонь, подлила воды и немного помешала варево ложкой, а потом уже вилкой попробовала мясо. Оно было твердым как камень.
– Давай я тебе помогу, – сказала я. – Иначе у тебя ничего не получится. Достань мне нож.
Он поискал в ящичке и протянул мне самый большой из ножей, который попробовал тут же вернуть обратно, едва только заметив, как жадно ее рука ухватилась за влажную рукоятку. В это мгновение ему стало ясно, что в кухне есть кто-то еще, в то время как меня переполнила новая надежда. Он ее распознал. Он знает, кто она. И понимает, что игра окончена и я не притворяюсь.
Тем временем нож перешел из рук в руки. Он не сопротивляется. Он отступает к двери. Он говорит:
– Может быть, лучше все-таки разбудить Цви…
Пение грозит обрушить стены столовой.
– Вехи ше-амда, вехи ше-амда[9].
Каждый поет это на свой собственный лад. Поет обслуживающий персонал, администрация, поют медсестры, даже часть пациентов вплетают в это пение свои нестройные голоса. С неподдельным воодушевлением сидящий рядом со мной Ихзехиель слегка подталкивает меня локтем, чтобы я влилась в общие ряды. Раввин подбадривает поющих с довольной улыбкой на губах, которые выпевают – вместе со всеми – незнакомую ему до того израильскую мелодию. Я прикрываюсь своей книгой, голова у меня раскалывается, и я всем своим существом ненавижу и эти слова, и эту мелодию, думая о той, что стоит сейчас за дверью в банном своем халате, стряхивая капли дождя с растрепавшихся волос, стоит и, исполнившись радости, прислушивается к музыке, желая слиться с ней, но голод причиной тому, что рот ее переполняет слюна. Она знает, что на столах сейчас – полным-полно мацы, полным-полно.
– Тогда – давай, – шепчу я ей, – давай действуй, возьми и ешь. Как бы случайно – возьми отломи кусок и сунь в рот.
Народ смотрит на нас во все глаза. Я склоняюсь над своею книгой, я не хочу никого видеть и не хочу, чтобы кто-нибудь видел меня, видел, как я ем, быстро хватаю пластинки мацы, ломаю их на куски, набиваю ими рот и жую, жую. Ем и готова есть еще и еще, ведь целый день у меня во рту не было маковой росинки. Тонкие и сухие кусочки мацы громко хрустят у меня на зубах. А медленное, протяжное, взволнованное пение постепенно становится все тише и тише. Рабби перехватывает мой взгляд и без слов просит меня остановиться, но тщетно – я продолжаю отламывать кусок за куском хрустящие пластинки мацы… Более того, Муса следует моему примеру и делает то же самое, а следом за нами подтягиваются и обитатели закрытого отделения, расположившиеся вокруг нас, не упускающие случая правильно понять намек.
– Минуту, минуту, – раздается чей-то голос в попытке навести порядок и остановить неконтролируемое растаскивание мацы.
С тех столов, за которыми сидят врачи, доносится взволнованное гудение. Рабби поворачивается всем корпусом туда и сюда, а затем бьет кулаком по столу, призывая к вниманию.
– Одну минуту, друзья. Пожалуйста, дождитесь благословения.
Но я злобно продолжаю отламывать кусок за куском хрустящую мацу, испытывая давно забытую радость; крошки дождем сыплются мне на колени, и я не хочу даже тратить время, чтобы стряхнуть их. Доктор Нееман, невольно улыбаясь, останавливается возле меня, большой и уютный, наклонившись, он обнимает мои плечи теплыми своими ладонями.
– Миссис Каминка! Дорогая моя Наоми! Давайте чуть-чуть подождем благословения. Ведь это все, чего Он от нас ожидает.
– Кто ожидает? – спрашиваю я. – Бог?
Он беззвучно смеется и подмигивает мне, он, как всегда, весь исполнен доброжелательности и юмора, а теплота его ладоней напоминает мне о времени, когда вот так же, посмеиваясь, он следил, как меня привязывали к столу перед тем, как попробовать на мне действие электрошока.
– Ну, ну… Успокоились… Все хорошо. Осталось потерпеть совсем немного. Это просто неизбежная церемония, вы же это знаете. Еще чуть-чуть. Я и сам не больно-то в это верю, но зачем разочаровывать всех остальных?
Он стоял там на мокрой земле, зажигая сигарету, прелые листья и пожухлая трава вокруг, свежий дерн… Ничего этого он не замечает, ему это безразлично – весенний фиолетовый свет, красота вокруг… Ничего этого он не видит, погруженный в одолевающие его проблемы. Думая о чем-то своем, перебирая, перекладывая с места на место какие-то бумаги, деньги, документы и авиабилеты, узел галстука распущен, рубашка расстегнута, и я могу видеть, как курчавятся седые волосы у него на груди. На какое-то мгновение я вижу бледную родинку, которую однажды я целовала с такой неистовой страстью, а рядом – похожий на шнур рубец. Похожий на кривой ручеек. Он показывает мне его, одновременно смущаясь и посмеиваясь, с искорками в глазах, показывает и спрашивает, моих ли рук это дело; спрашивает, как если бы сомневался в этом. Это была на самом деле я? Хорошо… Теперь он может позволить себе подобные шутки, ведь все, связанное с разводом, осталось позади. И теперь он может поразмышлять о том, что же это было. Была ли это ошибка, или это было заблуждение, мимолетный порыв тем теплым летним утром, когда он бросил собаке приготовленную мною еду, пытаясь отвлечь мое внимание манипуляциями со своими кастрюльками, закрывшись на замок, полностью погрузившись в свои проблемы, вечно те же самые, как у всякого влюбленного в себя человека, повесившего себе на шею позвякивающие ключи.
– Возвращайся в постель, зачем ты поднялась? Что это за ночь, он ведь никогда у нас не оставался, разумеется, он может закричать. Это не должно повториться. – И все это время он искал мои лекарства, которые механически и почти не глядя он отмерил и протянул мне, и тут я уже окончательно проснулась, он-то хотел дать мне наркотик, чтобы оглушить меня, чтобы избавиться от той, в которой разочаровался, потерял веру, опустил руки, с того самого момента, когда наткнулся на зонтик, который я принесла домой, вернувшись из магазина.
– С чего вдруг ты решила это купить? – поинтересовался он.
А я ответила, что ничего я не решила. Он оказался в моей хозяйственной сумке по ошибке, и я не заплатила за него ни копейки.
На следующий день я вернулась домой уже с двумя зонтиками и большой коричневой кружкой.
– Как просто, оказывается, украсть что-либо, – задумчиво произнесла я. – Это вовсе не означает, что я все это стащила… Я даже и не почувствовала, как это произошло, но интересно, кто все-таки подложил это мне. Кто и зачем.
Он поднял палец к потолку:
– Что за дурацкие выходки ты себе позволяешь? Я требую, чтобы ты прекратила это раз и навсегда.
Несколько дней я безвылазно просидела дома, а потом отправилась в магазин, чтобы вернуть все на место, но они уже поджидали меня там. Они, похоже, еще раньше запомнили меня и схватили, не дав ничего объяснить. Какой-то молодой продавец затолкал меня в угол и настоял на том, чтобы администрация вызвала полицию. Более того – в конце концов они задержали и Иегуду, который примчался из университета, чтобы опознать меня, что он и сделал. Вид у него был испуганный, и он был бледен как мел. Я была голодна и устала до смерти. Но он не пожелал даже поговорить со мной. Ему пришлось заискивать перед полицейским, толстым сержантом, который успокоил его, ибо был знаком с делами такого рода и понимал, что к чему, вовсе не собираясь раздувать этот инцидент и добывать какие-либо показания для того, чтобы заслужить поощрение по службе. Наоборот, он проявил поистине человеческие качества, проявил понимание, хотя и выглядел достаточно примитивным служакой, и отпустил меня без лишних слов, позволив себе лишь прочитать короткую нотацию Иегуде.
По пути домой мы не говорили друг с другом. Ни слова. Иегуда кипел от бешенства, он только бросал на меня косые взгляды, как если бы видел меня впервые. Домой мы тоже вошли молча. Я что-то съела, приняла душ и из последних сил добралась до постели, не обменявшись с ним ни словом. Но в момент, когда я уже погружалась в сон, я почувствовала, что он смотрит на меня.
Он стоял на пороге спальни, внимательно меня разглядывая.
– Видишь, – начала я ему объяснять, – здесь есть еще кто-то. Это трудно сразу понять, но этот кто-то… или некто… Это внутри меня… Ну, чтобы тебе было понятнее – второе я. Считай, что у тебя сейчас две жены, вместо одной. Но не пугайся, хорошо? Ты можешь даже переспать с ней, если хочешь. Подружись с ней, попробуй узнать ее получше, не впадай только в панику и постарайся ее покорить… Ты знаешь, как это делается. Она, быть может, еще больше я, чем я сама. Возможно даже, что она еще девственница. Я сама еще не до конца изучила ее. Чувствую, что вскоре она заговорит… Ты услышишь, когда это произойдет.
Он стоял, закрыв лицо руками, не мог, похоже, или не хотел этого принять. Отказываясь слушать меня.
– Она совсем простая. Даже в чем-то примитивная. У нее нет привычки ходить по магазинам, потому что она не понимает различия между тем, что принадлежит ей, а что нет. Она пришла из пустыни. Но ты увидишь сам – с ней можно говорить. И ее можно полюбить. Вот и скажи ей все это. Ты ведь так ловко управляешься со словами. Проверь это еще раз на ней. Попытайся. Она должна ощутить твое присутствие. Ты ведь сейчас в отставке… руки у тебя развязаны, времени сколько угодно… Она может дать твоей жизни новый смысл.
– Хватит! – закричал он. – Ты делаешь все это специально. Это просто представление… театр…
– Ты ошибаешься, Иегуда. Все не так. Послушай. Сейчас она заговорит с тобой. Продемонстрирует. Чтобы ты поверил.
И она на самом деле заговорила. Быстро так заговорила голосом моей матери, заговорила об очень непростых, даже, скажем так, непристойных вещах. Он хлопнул дверью и вылетел из спальни, а я… Как только она замолчала, я тут же провалилась в сон.
Когда я очнулась, была уже глубокая ночь. Дверь спальни была открыта, в квартире царил полумрак. Кто-то пел в телевизоре. Цви уже встал. Он вошел посмотреть, что со мной, и я поняла, что отец уже все ему рассказал и что он попросил его вернуться и жить с нами.
Цви помог мне подняться и приготовил какую-то еду, окружив меня теплом и поддержкой. Это было лучшее из всего, что он мог сделать. Отец уже спал на диване в своем кабинете, и только в этот момент я поняла всю глубину его отчаяния, его страха, его разочарования и его поражения. Он передал меня с рук на руки Цви, который был этому только рад. Получить меня и поддержать мое достоинство. Он выключил телевизор, постелил себе в комнате для гостей и вышел, чтобы найти какую-нибудь книгу почитать…
Я пришла в себя от внезапно наступившей тишины. Подняв взгляд от книги, я увидела, что рабби подзывает к себе хорошенькую молодую американочку, которая поднимается с места и смотрит на мужа, а после его едва заметного кивка идет в великолепном своем одеянии и берет из рук раввина огромную фарфоровую вазу. Она держит ее в своих тонких руках, в то время как он поднимает большой бокал с вином и начинает перечислять десять Божьих кар, возглашает древние псалмы и после каждой кары льет, капля за каплей, вино из своего бокала в фарфоровую чашу… КРОВЬ… ЛЯГУШКИ… ВШИ… САРАНЧА… ПАРАЗИТЫ…
Хорошенькая молодая американка стоит с чашей в руках, слушает и, не понимая ни слова, улыбается, в то время как рабби продолжает капать, капля за каплей… кара за карой… НАРЫВЫ… ГРАД… ДИКИЕ ЗВЕРИ…
Американочка загипнотизированно провожает взглядом каждую каплю. ТЕМНОТА… СМЕРТЬ ПЕРВЕНЦЕВ… Наконец он умолкает. Закрыв глаза, стоит. Жестом показывает ей, что она может вернуться на свое место. Но она продолжает стоять, благоговейно держа чашу, не понимая, что с ней делать. А затем неожиданно поднимает, подносит к губам и начинает из нее пить. Всеобщий вскрик: «Чаша проклятий…» Ее просто вырывают у нее из рук. Пронзительный хохот сопровождает позорное ее возвращение к своему месту, где ее окружают дети и муж, осыпающие ее поцелуями. А тенор снова взмывает к потолку:
– Рабби Йосси из Галилеи говорил…
Ты бродишь по влажной земле, идешь туда и сюда, стараясь не утонуть в грязи, обломок счастливо для тебя завершившегося развода, в яростном, неистовом свете не на шутку разыгравшейся весны, манжеты брюк забрызганы глиной, новенький твой американский костюм поблескивает на солнце, кто-то другой одевает тебя теперь, ты никогда еще не выглядел так стильно.
Ты закуриваешь сигарету, голубоватый дымок, завиваясь, поднимается к небу, ты уходишь в себя все глубже и глубже, перекладывая какие-то бумаги из одного кармана в другой. В закрытом павильоне, за задернутыми шторами раввины ведут битву за и против нашего развода, но я уже отделена от тебя, сидя на пригорке, я не спускаю с тебя глаз и вижу седые завитки волос у тебя на груди, там, где сердце; там еще похожий на багровый шнур кривоватый шрам. Разом остановившись, ты вдруг успокаиваешься и пристально смотришь на меня. О чем ты думал в ту минуту? О себе или о нем – в третьем лице, как это уже случалось в прошлом. Ты повернулся ко мне так неожиданно, с такой открытостью, в тебе проглянула вдруг такая мудрость… и даже юмор… а ведь я уже решила, что самым худшим из того, чего ты лишился, была потеря так свойственного тебе юмора…
– Неужели? – спрашивал ты. – Неужели все это правда? И ты на самом деле хотела меня убить?
Возможно, что сейчас, когда мы уже не составляем одно целое, эта мысль тебе льстит. И тебе нравится так думать. А что я тебе ответила?
– Да.
Но это было не так. Я просто хотела одним ударом рассечь то, что нас опутало. Тебе понятна разница? Одним ударом освободить тебя от безнадежности и страха, из-за которых ты и бежал от нас, но оставив при этом какую-то часть самого себя здесь, с нами. Потому что я уверена – что-то ты здесь оставил. А я всего-то хотела освободить тебя от невыносимого твоего страха. Пусть даже ценой нашего разъединения, отделения… но не расставания, не разрыва. Не потери тебя, нет. Я хотела твоей свободы, которая потом (так я думала) непременно приведет тебя обратно ко мне… ко всем нам. Ведь у меня чуть не остановилось сердце, когда я застала тебя тогда на кухне – в переднике, в чаду подгорающего мяса, в пене от выкипающего супа. Вот тогда я услышала ее голос: «Порви, разруби все путы, это единственный путь к спасению – для тебя, для него». Вот тут-то и прозвучало это слово – «нож».
– Возьми нож и перережь веревки, – приказала она. – Один взмах ножа… но не убивай его, только освободи.
А ты – ты, который знал меня лучше всех, который столько лет со мною прожил, – что ты подумал? Чего испугался? Почему и сейчас ты задаешь мне этот вопрос, спрашивая:
– А ты и в самом деле хотела меня убить?
– Да, – сказала я…
Но ты ведь понял, что я имела в виду. Не тебя я хотела убить, даже не испугать… Я хотела убить твой страх… Пусть даже он был вызван горчайшим твоим разочарованием в жизни. Вот для чего я схватилась за нож… А ты? Что тебя так напугало? Почему ты стал со мною бороться, хватать за руки, а потом бросился бежать… Ну да… Ведь когда случалось что-то серьезное, ты всегда старался убежать. Ты бросился к Цви и разбудил его. И разбудил детей… Чего ты от них ожидал? Ведь ничего хорошего они от тебя никогда не видели. Речь не идет о справедливости, я говорю о честности. А они… вспомни, на кого ты всегда кричал? Кого без конца учил и поучал? С чего вдруг ты так побледнел, попытался выхватить у меня этот злосчастный нож… Почему начал метаться по дому? Если бы ты просто стоял как стоял, а не пытался убежать… Вместо того чтобы вскрикивать, потеряв голову: «Боже! О боже!» – и выскочить за дверь. А из тебя так же бурно выскакивали, высыпались слова… слова и слова… А ведь будь по-другому, не пролилось бы ни единой капли крови. Ты был бы освобожден от своих страхов совершенно безболезненно, легко и свободно. И мы могли бы добиться этого, даже не прибегая к ножу…
Внезапно что-то грохнулось на стол, и приглушенный шум голосов вперемешку со смехом стал стихать. Кто-то, сидевший сбоку, начал петь следующий куплет из Агады[10], тоже все тише и тише. Из противоположного угла комнаты кто-то пытается подхватить мотив… И тоже умолкает.
– Шш… Шш… – раздаются голоса. – Замолчите вы там. Утихните! Рабби хочет сказать несколько слов…
Тишина становится еще весомее. В конце концов он останавливает свой взор на нас, он высвечивает нас, словно направляя на нас свет прожектора. Все взгляды в свою очередь обращены сейчас на него. То здесь, то там по лицам пробегает улыбка. Он делает шаг назад и потом медленно начинает описывать круги между столами, одна рука на груди, другая парит в воздухе. Мы, замерев на своих местах, завороженно смотрим за тем, как он описывает круги – один за одним, придерживая сердце и указуя перстом на небеса… Время от времени до нас доносится бормотание, в котором иногда слышны знакомые слова: «Свобода… Смерть… Вечная жизнь… Бог могущественный и единственный… Рабство…» Время от времени он останавливается то здесь, то там – возле детишек примолкшей американочки, но и передо мной тоже, захлопывает книгу, которую я держу в руке. Палец его указует мне какую-то цель в небе, мягкий, но неумолчный тенор зовет всех к единению, сулит радость и счастье посвященным, грозит бедами и карами сомневающимся, а смерть, говорит он, ждет отпавших. Круг, еще круг и еще. Рука прикрывает сердце, другая устремлена туда, где Он решает судьбы людей и народов, казнит и милует, строгий и неподкупный, и ангелы пообочь Него слева и справа. В такие мгновения мне кажется, что это бесконечное круженье, этот неумолимый тенор, эта неизвестная мне завораживающая мелодия – это все какой-то ритуал, которому молодой русский ребе научился в мордовских (интересно, что это такое?) лагерях.
– Ну! Вы, все вы. Все до одного… ИЗБРАНЫ… И на вас – на всех на вас лежит отблеск ЕГО святости, вы связаны с НИМ заветом… Все вы.
Он раскидывает руки в стороны, словно надеясь обнять всех, находящихся в столовой. Мы сидим не дыша, он загипнотизировал нас.
– ВСЕ-Е-Е вы… Хотите вы того или не хотите… Даже те, что не верят.
Он замолкает, не спуская с меня глаз.
– ВСЕ-Е-Е, – затянул он снова. И перестал кружить, как если бы вдруг забыл, что он хотел сказать… Стоял, задрав голову, голос потерял мягкость и стал грубым. – Ну… Вся земля отдана в ваши руки, – здесь он рывком вытаскивает из своего кармана блокнот, голос его звучит, как барабанная дробь – советуя, настаивая, требуя, – чтобы вы владели ею… – Он улыбается чему-то, скрытому в глубине его существа, а затем повторяет с еще большей силой: – Чтобы вы владели ею. Владели… – Он, кажется, готов повторять это без конца, лицо его наливается кровью, я чувствую, какой гнев переполняет его…
А мы сидим, боясь пошевельнуться. Он же снова начинает описывать круги, одна рука прижата к груди там, где сердце, мягкой, словно у кота, поступью, не замечая, что шарф на его шее размотался, откуда-то в другой его руке белая салфетка, светлые кудри упали на шею, теперь я вижу его со спины, и вдруг, словно молния, меня пронзает догадка: это вовсе не мужчина, это женщина, выдающая себя за мужчину. У меня перехватывает дыхание.
Он останавливается у моего стола, чуть сбоку. Его взгляд ощупывает нас.
– Ну… ну… – Он расправляет плечи. – Каждое поколение жаждет свободы… Но только подобия свободы… Подобия свободы… Есть свобода стать рабом… Возможность стать рабом Всевышнего. Это – внутренняя свобода. Только она и важна. Свобода внешняя не стоит ничего.
Опять он тянется к моей книге, которую я раскрыла, выхватывает ее, мрачно ее рассматривает, захлопывает и, засунув под мышку, вновь начинает нарезать круги. Но я вскакиваю на ноги. Как же это я не увидела с самого начала, что это не ОН, а ОНА? Переодетая рабби, выдающая себя за раввина? С отчаянной храбростью я обращаю на него всеобщее внимание. Неужели никто, кроме меня, этого не видит? Дойдя до отдаленного стола, он начинает снова петь и снова возвращается к своему месту, жестом призывая нас присоединиться к нему, требует, чтобы мы подхватили мелодию. А я прозреваю истинное положение вещей. Она вернулась. Она уже здесь, между нами. И я в панике устремляюсь наружу.
Черная ночь охватывает меня, накрывая, словно холодным плащом, я бегу, словно спасаясь от погони, пролетаю, пробегаю, продираюсь сквозь заросли кустарника, ударяюсь о ветки, слышу топот ног, настигающих меня, они бегут за мной по тропинке. В кромешной тьме Ихзекиель выкрикивает мое имя, я бросаю быстрый взгляд влево и вправо и замечаю тоненькую невысокую женщину, попыхивающую сигаретой. Наконец она поднимает с земли кипу, которая свалилась у нее с головы, пока она пробиралась к моему домику. Я снова продираюсь сквозь кустарник, держа направление к наружным воротам. В свете луны тропинка напоминает переливающийся ручеек, сторожка на выезде залита светом, из окон по-прежнему рвется музыка, на этот раз арабская. Здесь я поворачиваю обратно и вскоре оказываюсь возле административного корпуса – дверь в него открыта и тоскливо скрипит под ветром. Внутри темно. Забитые папками стеллажи, телефоны, поблескивающие в лунном свете. Прежде чем я успела набрать последнюю цифру, резкий и грубый голос Кедми прорезал тишину:
– Кедми слушает…
– Это я…
– Кто это? Говорите громче…
Меня охватывает внезапная слабость.
– Это мама.
– Что это вы там бормочете. Кто вы?
– Мама… – я это уже шепчу.
– Чья мама? Ах… Это вы… Что случилось?
– Дай мне поговорить с Яэлью…
– А что случилось?
– Я хочу поговорить с Яэлью. Или с Цви.
– Хорошо, хорошо. Только не надо нервничать. Сейчас сможете поговорить со всеми… Только сначала скажите мне, что произошло?
Но из-за углового стеллажа, уставленного папками, появляется ОНА, одетая в облысевшую меховую шубу и галоши, на носу у нее старушечьи очки, которые вот-вот спадут, высокая, морщинистая, прямая, на ногах белые шерстяные чулки, с шеи свисает дешевая серебряная цепочка. Она протягивает костлявую руку, стараясь выхватить у меня телефон с улыбкой, которую я ненавижу. А в следующее мгновение я уже начинаю говорить, она пытается сделать то же, а голос в трубке, голос Яэли, раз и еще раз повторяет одно и то же:
– Мама? Что случилось? Что все это значит? Мама? – Она встревожена. Терпеливо повторяет свои вопросы, зовет меня: – Мама? Это ты?
Это я.
Молча я слушаю ее голос, потом кладу трубку и, повернувшись к окну, вижу, как быстро проплывает луна. Голос Яэли все еще звучит… где-то там. Где? Я затыкаю уши, не хочу ничего слушать. Ничего слышать, но ничего не могу и поделать с голосами, доносящимися до меня из бездонных глубин…
– Возможен несчастный случай.
– Вы опять беретесь за свое. Прекратите. Не надо.
– На этот раз их заставят. Их схватят.
– Вы говорили это уже тысячи раз, и что же? Ничего не случилось.
– На этот раз все под контролем, да? И что в итоге?
– Он так замечательно поет.
– Она это сделает. Но не вздумай проболтаться. ОНА, а не ОН. Я тебя предупредил.
– Нет, нет. ОНА. Все могли это сегодня видеть. С этой минуты, если это тебе нравится, будет ОНА. Только ОНА. И во множественном числе. ОНА, ОНА. Везде и повсюду.
– Это полное сумасшествие…
– Она. Сколько ни повторяй. О-Н-А. И даже Муса, если тебе угодно, это тоже ОНА.
– Все, у меня нет больше сил. Все, что хочешь… Только не начинай все сначала.
– ОНА повсюду.
– Заткнись.
– Земля перевернется вверх дном.
– А потом и небо.
– Ну, будет. Притормози. Стоп.
– Потому что тебе известно, как я к этому отношусь. Богиня. Королева. Владычица Вселенной.
– Нет. Только не это…
– Богиня. Это так просто. Это идеально. Превосходно.
– Это сумасшествие.
– Богиня. Просто блестящая идея.
– Чушь. Вот так.
– Не забыть напомнить об этом Цви. Завтра.
– Ты не скажешь ему ни слова. Держись от него подальше.
– Но ему это понравится. Идея просто замечательная. Теперь, когда вся квартира наша, они все придут ко мне.
– Квартира перешла ко мне. Что здесь не так? И что от меня все хотят?
– С какой легкостью он отдал ее тебе. А?
– Потому что она всегда принадлежала мне. И он это понимал.
– Тогда, значит, – БОГИНЯ!
– Попробуешь так вот посмеиваться надо мной – убью! Своими собственными руками. Ты меня знаешь.
– Какое счастье оказаться здесь вместе с богиней.
– Не оказалось бы это еще большим несчастьем.
– Ну… Как бы то ни было. Может быть, у несчастья окажется сладкий привкус. Быть вместе с богиней.
– Сказано тебе было – уймись!
– Богиня. Обратного пути нет. Слово сказано. Какой стыд, что Иегуда…
– Не сходи с ума. Никакой Богини не существует.
– Но слово-то есть. Вот мы и будем придерживаться слова. Наполняя его нежностью. Свойственной ЕЙ.
– Хватит все время пытаться выволочь меня обратно. Вместе с тобой. Я буду бороться. Я тебя убью.
– Да? Но это все ведь у тебя внутри.
– Это верно. Внутри. Глубоко-глубоко. Там, где и идет война. Глубоко внутри.
– Богиня! Так это и принимай. А я сейчас буду петь.
– Ну, хватит. И слушать не хочу. С этим покончено. Все. Отправляйся обратно в пустыню. Пока! И сдохни!
Телефон звонит и я знаю что это Яэлъ, и она беспокоится может быть это Цви тоже может быть даже Иегуда, но я боюсь отвечать потому что мне тогда придется что-то говорить что-то что может огорчить их еще больше. Я выхожу наружу иду к тропинке слыша как непрерывно звонит телефон взывая к моим чувствам ожидая что я вернусь. А в это время вокруг меня и среди деревьев полным-полно танцующих женщин появившихся из-под земли. Я закрываю лицо руками слушаю завывание ветра похожее на шум работающего вентилятора сквозь мрак то и дело пробиваются сполохи света рассеивая тьму. Издалека до меня доносится голос Ихзекиеля в последний раз звякнув умолкает телефон. Я гляжу вокруг вдыхаю прохладный воздух замечая как мир постепенно обретает свой прежний облик что-то подсказывает мне что нужно вновь вернуться к проходной, а оттуда к сияющей огнями столовой меня зовет туда журчание струи вырывающееся из шланга в небе я вижу одинокую звезду голова проходит мне хорошо я плыву в ночи медленно возвращаясь к офису чтобы в конце концов дозвониться до них может быть я услышу Гадди или малышку я спрошу у них понравился ли им пасхальный седер.
Первый день Пасхи
А еще мне не дает покоя понимание того, что порознь или вместе мы все равно – одно целое.
Эудженио МонталеИ вот уже наступило завтра. Но еще тени отражаются на стене, словно полоски ртути. Здравствуй, последний день праздника! Кто бы мог подумать, что финал так близок? Теперь это вопрос нескольких часов. Поздним вечером сегодня закончится все, что связано с отцом. Подобный урагану визит разводящегося, а сейчас уже разведенного человека позади, но в итоге – гордиев узел разрублен не без осечек, не без ошибок. Но так или иначе – я свободна. И можно забыть все. Все небольшие, но от этого не менее ужасные и отвратительные моменты. Что-то забудется быстрее, что-то будет помниться еще долго. Ярость не находящих окончательного согласия раввинов, пергаментные листы протокола, ее протянутые – в попытке поймать их – ладони. Древние беззубые традиционные обряды, способные, тем не менее, нанести удар тогда, когда менее всего этого ожидаешь. Еще не утратившие реальной силы. Аура таинственности. Так что прощай, мой убийца. И мое убийство, пусть неудавшееся, – тоже. Фантазиям и домыслам больше нет места. Через несколько часов ты погрузишься в сон, оставляя под собою облака, чтобы проснуться, когда колеса коснутся серого бетона взлетно-посадочной полосы, а затем окончательно – в просторной американской кухне, заполненной тихим провинциальным утренним светом. Оказавшись дома – в покое пригородного изгнания. Вернувшийся беглец из далекого отсюда Израиля. Чтобы жить отныне, запасшись безграничным терпением. Здесь тебя уж ничто не разочарует. Сиди почесывай свой дряблый белый живот, с отвращением разглядывая остывшую размазню из овсянки на воде и жидкий желудевый кофе, отменно способствующий вялой эрекции, проникаясь благодарным удивлением к тому факту, что ты еще просто существуешь. Что ты остаешься, в какой-то степени, самим собой. Но что это за время и что произошло с моими часами?
Дверь мягко открывается, пропуская внутрь луч красноватого света, и Яэль, стараясь не шуметь, пробирается в комнату. Не произнося ни слова, она поправляет мою постель, аккуратно расправляя тонкое одеяло. Осторожно она отодвигает в сторону мою руку, доставая небольшой сверток, оказавшийся у меня неведомым образом в ногах.
– Яэль?
– Ш-ш-ш. Иди спать, папа. Сейчас я заберу малышку.
– Ракефет? Она все еще здесь? Я совсем забыл о ней… но что случилось?
– Ты должен был уснуть вместе с ней.
Сладость ночи… игрушки, прихотливо разбросанные поверх простыней, кулачок ее, как оставшееся свидетельство ночного урагана слез, головка ее безвольно откинута назад. На мгновение она открывает глаза, моргает, зажмуривается и засыпает снова.
– Ты должна была меня разбудить. Как мог я не услышать, что она плачет? Который час?
– Еще рано, папа. Иди поспи еще. У тебя был долгий и нелегкий день, и такой же ждет еще тебя впереди.
– Я спрашиваю тебя, Яэль, который сейчас час?
– Еще нет шести. Иди и поспи.
– Я не могу найти мои часы.
И я поднимаюсь с постели и, стоя босиком, начинаю шарить среди простыней. Яэль нагибается и просовывает руку в просторный подгузник. Маленький кулачок разжимается, и из него выпадает что-то блестящее.
– Она стащила это у тебя, – смеясь, говорит Яэль. – Но отдадим ей должное – она честно вернула это, уснув.
– Дай мне на минутку подержать ее. Не могу представить, как я с ней расстанусь.
Я положил ее себе на колени, покрывая быстрыми и легкими поцелуями ее маленькое теплое личико, ее крохотный ротик с таким знакомым, нашим фамильным подбородком. Но она так и не вынырнула из глубокого своего сна.
Дверь перекрывает луч света, беззвучный трепет теней занимает свободные места на стене. Мои босые ноги ощущают холод каменного пола, теплые часы у меня в руке, но я не вижу циферблата. Бог с ним, со временем, можно пока что обойтись и без него. Забудем о нем, пусть оно лежит спокойно в портфеле рядом с билетом на самолет и паспортом, пусть до поры до времени отдыхает в темноте – до того момента, пока не замигает надпись: «Посадка» – обычно происходит это за полчаса до взлета. А произойдет это еще не скоро, через двенадцать примерно часов, в полночь, – он пройдет на посадку, ощущая на своей спине взгляды Яэли, и Цви, и Аси, и Дины, которые обещали проводить его, а он не стал ни спорить, ни отговаривать их. Ты в эти минуты принадлежишь не себе, а им, всем им, включая Гадди, с которым ты так сблизился в эти дни, даже малышке, даже этому Кедми – да, Кедми, которого ты стал лучше понимать за эти дни. Прояви терпение к нему сегодня, пусть он каждую минуту готов, разинув рот, одарить окружающих еще одной сомнительной шуткой… Но признайся, что с момента, когда ты помог ему решить проблему с «его» убийцей, он изменил свое отношение к тебе. Ты можешь оказаться на высоте и сделать то же самое, – я к твоим услугам, Кедми, скажи, чем я могу быть тебе полезен, я даже согласен примириться с твоей Хайфой, этим бесформенным городом, который может – со временем – превратиться в нормальный город, пусть даже сейчас это скопище людей, волею случая проживающих по соседству. Да, именно сегодня можно примириться с существованием Хайфы, в этот праздничный день, наполненный сияющим светом и ароматом весны. Всю эту долгую зиму мечтал ты о Тель-Авиве, о людях Тель-Авива на его улицах и площадях, а завершилось это в конце концов всеобщим паломничеством к ней и групповым походом к ней в больницу, когда все разом воспылали вдруг желанием увидеть ее… Ну ладно, что об этом говорить сейчас. Узел проблемы разрублен в момент, когда пергамент с текстом о разводе летал по комнате. В следующий раз… когда бы это ни случилось… А пока что – это время расставания… надолго… надолго. Маленькая моя, спятившая страна, тебе придется подождать, пока мы встретимся снова. Как там сказал забавный наш приятель Кальдерон – той ночью на кухне? «Дайте мне чуть-чуть передохнуть!» Лучше не скажешь. Нервная страна. А как быстро, почти не раздумывая, согласился он передать ей во владение свою собственность. Дайте мне хоть немного передышки. Мне нужно время, чтобы прийти в себя. Но узел все-таки разрублен. И он свободен. Это новая свобода. По стене движутся тени, оконное стекло дребезжит, автобус прогревает свой двигатель, разбивая глубокую тишину утра. Я поднимаю жалюзи и открываю окно, впуская в комнату свежий воздух. Утренний туман наползает со стороны залива. Газеты подвергают эту страну вивисекции каждой своей страницей, весело обсуждая, имеет ли она будущее. Кедми прохаживается по этому поводу десять раз на день, но сейчас все выглядит так мирно и безопасно, стоит только посмотреть, как из фабричных труб лениво вываливаются клубы дыма, устремляясь к низкому небу. Реальность, как всегда, выгодно отличается от высокоумных философствований о ней – пусть даже иногда приходится удивляться тому, что происходит вокруг.
Похоже, что Кедми не удивился, даже когда раздался звонок в дверь. Пасхальный седер не прошел еще и половины пути. Все мы сидели, каждый держа в руках свою Агаду, и на мгновение я подумал, что это она звонит из своей больницы.
Но Кедми бросился к дверям и через минуту возник снова из плохо освещенного коридора. Вначале я не узнал его – на нем была белая рубашка, он был выбрит, отмыт и причесан, но глаза его, похожие на бусинки, глядели по-прежнему настороженно и жестко, пока Кедми, расплываясь в двусмысленно-добродушной улыбке, держал его обеими руками, словно опасаясь, что он сейчас рванется и сбежит. Из его рта уже потоком лились слова – Кедми был полностью в своем амплуа:
– Хорошо, хорошо, хорошо… просто замечательно… Какой достопочтимый, какой уважаемый гость! Взгляните, кто почтил нас своим визитом! Глядите все! После того как мы осчастливили родителей, самое время, по-моему, порадовать нашу доблестную полицию… А пока что проходите… Милости просим! А потом мы все вместе подумаем, как сделать так, чтобы этот праздничный седер с родителями не обошелся тебе в дополнительных два года тюрьмы.
Молодой человек стоял замерев, мрачно глядя на окружающих; видно было, насколько неприятно ему прикосновение Кедми. Он повернул обратно, к коридору, из которого, как по волшебству, возникли две странные фигуры – низенький, коренастый старик-работяга, а вслед за ним смуглая, неопрятная цыганистая женщина трудноопределимого происхождения. Кедми, мгновенно сообразивший, кто они, поспешил подойти к ним.
– Прошу любить и жаловать… Это мистер и миссис Миллер. Входите, входите… Никаких церемоний. Я уверен, что у Всевышнего не возникнет к нам никаких претензий, если мы на минуту объявим перерыв, а потом уже закончим наш седер. Пожалуйста… Проходите и садитесь.
Я испытал приступ жалости, глядя на отца, так скованно стоявшего рядом со своей темнокожей женой, которая тем не менее выглядела слишком молодой, чтобы быть матерью этого парня. Я поднялся, чтобы освободить для них место, и предложил им сесть – то же сделала и Яэль, в то время как мать Кедми не двинулась с места и, сидя, снисходительно поглядывала на гостей. А Цви, который сидел развалившись, внимательно разглядывал убийцу. В комнате было еще достаточно стульев, но пара, похоже, пока не пришла к окончательному решению, присоединяться к нашей компании или нет. Оба смотрели на своего сына, не готовые снова расстаться с ним.
– Пожалуйста, садитесь… Выпейте чего-нибудь, – сказал Кедми, внезапно отбросив свои шутки и проявляя настойчивость гостеприимного человека. – Может быть, вы хотите вина… попробуйте вон того… что было припасено для Элиягу[11]…
– А вы пока что еще не сообщили полиции? – спросил отец с явным немецким акцентом.
– Нет. Я решил подождать и посмотреть, появится ли ваш сын. Я подумал, что он и в самом деле захочет все праздничные дни провести с вами… Ха-ха-ха… Но ведь наперед никогда не знаешь… Но забудьте об этом сейчас… Мы придадим делу религиозный оборот, так ведь? Мы можем поклясться, что он решился на побег, чтобы молитвой испросить у Всевышнего снисхождения и защиты. Надеюсь, вы исправно посещали синагогу… Что? Не слишком? Ну, ничего… Мы подадим стране родившегося заново еврея. Наденем на него кипу, придадим ему новый, современный вид. Чтоб вы знали – этим утром я позвонил в полицию узнать, как и что… Так вот: они до сих пор охотятся за тобой в лесах… Они даже обзавелись собакой, чтобы она выследила тебя, точь-в-точь как это делают в кино… Более того, они подняли в воздух вертолет. Что тут скажешь? Только то, что в детстве они не наигрались вдоволь в полицейских и разбойников. Можете мне поверить – этот ваш семейный седер обойдется государству не меньше чем в четверть миллиона… Но вы не расстраивайтесь – они сдерут все до копейки с газет и телевидения, как только праздники закончатся. Так что прошу садиться, леди и джентльмены, не бойтесь ничего, доплачивать ничего не придется. Ни за что. А вот чего ожидаю я сам – так это появления богатого дядюшки из Бельгии… Кто знает… Возможно, именно его и обнаружит полиция в лесах… Ха-ха-ха!
Кедми, Кедми! Где ты себя нашел, такого? Со своим высокомерным сарказмом, абсолютной своею бестактностью, недержанием речи, которую правильнее было бы назвать словесным поносом, плоскими шуточками, но время от времени и удивительными по точности анархическими замечаниями. И хотя я знаю, что Яэль тебя по-настоящему любит, я никогда не понимал этого до конца, пока не прилетел сюда в этот раз, когда понял, какая сила может содержаться в сдержанном молчании. Кто же такой Кедми на самом деле? И почему такая доморощенная израильская стряпня оказывается вдруг выставленной на всеобщее обозрение?
Утренний туман рассасывается, тает, уходя в северном направлении, и чистый свет омывает залив. Как быстро здесь рождается день! Это подарок, за который вам ничего не придется платить. Который сейчас час? Попробуй угадай. Ты открываешь дверь в темную гостевую комнату и видишь Цви, который, свернувшись, лежит на просторном диване, уснув давным-давно, бледная рука его свисает едва ли не до пола: напрягая зрение, ты можешь разглядеть время на его наручных часах, для этого надо взять его за кисть и повернуть, чтобы увидеть: сейчас пять минут шестого. На мгновение он открывает глаза и улыбается, а затем снова сворачивается клубком, словно зародыш во чреве матери. После чего ты бредешь в столовую и садишься на то же место, на котором ты сидел во время седера. Обеденный стол пуст, посуда убрана, посередине белой скатерти – пятно. Сначала ты просто сидишь, потом голова твоя опускается на руки… В голове сполохами возникают какие-то образы… обрывки мыслей. Совсем недавно вот здесь, рядом с тобой, сидела пара не расположенных к общению с тобой родителей. Поначалу они и слушать не хотели о том, чтобы присоединиться к нам, но я настаивал до тех пор, пока они не согласились.
Кедми посадил молодого человека рядом с собой «для короткого обмена мнениями», как он выразился; вылился этот обмен в монолог, в котором Кедми втолковывал юноше, что он должен был признавать, а что нет, – главным пунктом было то, что он должен был рассеять у полиции подозрения, что побег его вызван был желанием спрятать часть награбленного. Мне еще раз показалось, что он сам убежден в виновности своего подзащитного, но, будучи профессиональным адвокатом, готов защищать даже того, в чью невиновность он не верит. В конце их перешептывания он дал парню подписать официальное признание в том, что тот вернулся обратно не под чьим-то давлением, а исключительно по доброй воле, после чего поспешил к телефону и набрал номер полиции, отказываясь наотрез разговаривать с дежурным сержантом, требуя некоего офицера, которого он знал лично. Тем временем родители юноши, сраженные горем, сидели вместе с нами за праздничным столом, не прикасаясь к бокалам с пасхальным вином, стоявшим перед ними; женщина молча разглядывала стол, а мужчина бросал на нас подозрительные, недоверчивые взгляды. Гадди поглядывал на гостей с явной неприязнью, и, кажется, один лишь я пытался изобразить дружелюбие.
– Он всего лишь хотел провести пасхальный вечер с нами, – объясняла женщина, обращаясь к Яэли. – Он – единственный наш сын, и ему не хотелось оставлять нас одних.
– Вы его мать? – мягко, но с некоторым удивлением поинтересовалась Яэль.
Женщина кивнула, признавая свою вину. Когда вопрос был обращен к отцу, стало ясно, что перед нами – упрямый, но простодушный немецкий еврей, «йекки», осколок давней «немецкой» алии, так и не сумевший подняться в своем статусе выше работника физического труда. В эту минуту он находился в непонятном для него и неразрешимом конфликте со всем миром, но, даже погружаясь в пучину экономических бед, не сдавался и убеждений своих не менял.
– Не волнуйтесь, – сказала мать Кедми, давая этим странным людям понять, что благодаря Кедми они тем самым попадают и под ее покровительство. – Вот увидите, мой сын спасет его.
Женщина с благодарным доверием смотрит на нее, но глава этого маленького семейства гневно хрипит:
– Его незачем спасать. Прежде всего, потому, что он ни в чем не виноват!
Мать Кедми одаряет его понимающей улыбкой, завороженная его непримиримой неуступчивостью, но стоит на своем:
– Вот увидите. Если даже он и на самом деле ее убил, Израэль его спасет.
– Кто убил? Дедушка? – спрашивает Гадди, который сидит рядом со мной.
– Никто никого не убивал, – восклицаем все мы в один голос. – Все целы.
Цви улыбается. Ссутулившись в своем кресле, он поигрывает своей миниатюрной Агадой.
– Тогда зачем же полиция приедет, чтобы арестовать его?
– Потому что они думают, что он кого-то убил. Но твой папа докажет им, что это не так.
Отец убийцы злобно смотрит на Гадди, а мы все замираем, прислушиваясь к тому, что Кедми говорит в телефонную трубку с присущей ему всезнающей агрессивностью, рассчитанной на то, чтобы спровоцировать собеседника. Лишь Цви сидит с совершенно беспечным видом, сохраняя на лице ироничную улыбку, в то время как его пальцы сооружают небольшую пирамиду из мацы, засыпая крошками белую скатерть. В конце концов Кедми возвращается в столовую с сияющим видом, таща за собою беглеца, как если бы он боялся выпустить его из своих рук даже на секунду. Идиотам из полиции давно пора бы уже появиться здесь… Остается лишь надеяться, что рано или поздно это произойдет.
– Ну хорошо, а теперь давайте завершим пасхальный седер до того, как начнется вся эта кутерьма.
Родители молодого человека встревоженно вскакивают с мест.
– Тогда нам лучше сейчас уйти. Мы и так доставили вам столько беспокойства.
– Как вы можете такое говорить? – спрашивает Цви. – Никакого беспокойства вы нам не причинили. – Весь сплошная учтивость, он уже стоит на ногах. – Оставайтесь с нами до тех пор, пока не появится полиция. Тогда вы сможете попрощаться с ним.
– Правильно, – согласно кивает головою Яэль. – Если хотите, можете пойти в гостиную. Побудете там в тишине… одни…
– Но зачем им уходить туда? – протестующе восклицает Цви, охваченный внезапным подозрением. – Оставайтесь с нами… Если, конечно, хотите этого. – Он глядит на меня, улыбаясь. – У вас будет возможность услышать, как мой отец распевает пасхальные псалмы. – И он очищает место для молодого человека, приносит кресло, усаживает его и дает в руки Агаду.
Холодок пробегает у меня по спине, когда я вижу, каким взглядом мой сын смотрит на этого юношу. Кедми захвачен врасплох, но это длится недолго, и он снова берет все дело в свои руки – не исключено, что у него есть причины бояться, что пойманный беглец вновь может исчезнуть, если оставить его в соседней комнате без присмотра. Гости нерешительно покидают свои места и начинают прислушиваться к слабому и нечеткому пению – моему, матери Кедми и Гадди, присоединившему свой детский голос к нашим, тогда как остальные гудят сами по себе. И таким вот образом седер подходит к концу, оставляя нас сидеть вокруг стола в ожидании полиции.
Кедми поднимается и идет открывать наружную дверь, чтобы пророк Элиягу мог войти[12]. Выходя, он подмигивает мне. Внезапно все звуки исчезают. Мы все сидим, замерев, не производя ни звука, за исключением Цви, который шепчет что-то на ухо убийце, щеки его пылают, но беглец отвечает ему раздраженным, недоумевающим взглядом. И это продолжается до тех пор, пока до нас не доносится с лестницы звук тяжелых шагов. Кедми опять спешит к двери, успевая по дороге пошутить:
– Летят, как на крыльях. – Ему смешно, нам почему-то нет. – Единственное событие, которое может заставить полицейского прибавить шагу, – это трансляция футбольного матча по телевизору.
Тем временем появляется источник тяжелого топота. Это усатый толстяк в полицейской, довольно тесной ему форме. Остановившись в коридоре, он шумно переводит дыхание. В руке он держит листок бумаги, а на бедре у него болтается огромный пистолет.
– Здесь проживает некий Израэль Кедми? – вопрошает он, обводя присутствующих настороженным взглядом.
– Да, – отвечает немедленно Кедми. – И должен сказать, что вы прибежали очень вовремя. Потому что ваши люди появляются быстро только во время киносъемок. А на практике вас обгонит любой крот…
Слова эти еще висят в воздухе, когда сержант, вытащив пару наручников из бездонного своего кармана, ловко и неправдоподобно быстро защелкивает их на запястьях Кедми, от удивления потерявшего дар речи.
– Считай, приятель, что ты удачно сострил, – говорит он и тащит Кедми по направлению к двери. – А теперь пошевеливайся, остряк!
Кедми впадает в ярость:
– Э-э… минуту… ты, псих! Я адвокат! Ты сначала дочитай свою вонючую бумажку до конца…
Цви задыхается от смеха, издавая странные булькающие звуки, мы, остальные, окружаем сержанта, рядом со мной Гадди удерживает смех, прикусив губы. Юноша, виновник всего этого сыр-бора, хватает сержанта за рукав и негромко произносит:
– Э-э… Ты ошибся. Это я… тот, кто тебе нужен.
Но полицейский невозмутим. Он вовсе не собирается тут же признать свою ошибку. Он стоит, как стоял, тихо и флегматично, и только по сощуренным глазам его можно догадаться, что он и сам получает удовольствие от этой сцены, героем которой он и является.
– Что ты имел в виду, говоря, что это ты?
– То, что я – тот парень, который убежал…
– То есть ты и есть Израэль Кедми?
– Нет. Я – Норам Миллер.
– Так какого же черта ты суешься ко мне?..
– Потому что… это я.
– Никто не сказал мне ни единого слова ни о каком Миллере. Но если ты хочешь составить компанию этому парню – милости просим…
Кедми тем временем впадает в совершенное бешенство. Потрясая наручниками, он кричит, ревет, вопит:
– Немедленно… сию же минуту сними с меня это дерьмо… Ты, кретин, идиот, тупица! Я – адвокат! Адвокат… понял, ублюдок!
Но сержант с силой дергает цепочку наручников и, выворачивая скованные запястья адвоката, тянет его за собой.
– Адвокат, говоришь? Тогда заткнись, умник, и перестань меня обзывать. У меня в ордере на арест вписан Израэль Кедми. Это ты? Это все, что я хочу знать.
В этом месте я подхожу к толстяку вплотную и легонько трогаю его за руку. И объясняю ситуацию просто и доходчиво. Он слушает меня и начинает понемногу понимать, что все не так просто – не только для нас, но и для него, особенно когда он бросает взгляд на побелевшее от ярости лицо Кедми, адвоката, глаза которого полны ненависти и, кажется, вот-вот вылезут из орбит. Затем сержант достает «уоки-токи», отстегивает его от ремня и делает попытку связаться с полицейским управлением. Слышно шипение, треск и какие-то непонятные звуки. Он просит Яэль принести ему стакан воды, кладет «уоки-токи» на стол, берет стакан свободной рукой и выпивает воду одним глотком. Тем временем аппарат оживает. Девичий голос сообщает:
– Управление полиции слушает!
Сержант называет свое имя и служебный номер.
– Так кого же ты схватил там? – щебечет девушка.
– Израэля Кедми, – говорит сержант.
Огнедышащий взгляд Кедми устремлен на пейджер.
– Тебе следует задержать Йорама Миллера, – сообщает дежурная. – Ты его видишь?
– Да, – наливаясь кровью, сообщает сержант.
– Тогда немедленно схвати его. Он и есть беглец. И будь осторожен – он очень опасен.
С кривой улыбкой сержант освобождает Кедми от наручников.
– Ладно, – говорит он. – Бывает. Ты уж не сердись…
Отпрянув от него, Кедми начинает массировать руку. Сержант тем временем надевает наручники на нового их владельца.
– Виноват… – говорит он, обращаясь к Кедми. Но тот непримирим:
– Если кто и виноват, то это твои родители, давшие жизнь такому идиоту, как ты. А сейчас, будь добр, подпишись на моем заявлении, что я передал тебе парня из рук в руки согласно его решению по доброй воле вернуться обратно.
Бумагу, которую Кедми протягивает ему, полицейский не удостаивает даже взглядом.
– Не собираюсь ничего подписывать, – вновь превращаясь в толстого флегматика, сообщает он Кедми. – Подпись на похожей бумажке такого рода стоила мне задержки очередного звания на два года. Если есть желание, можете проводить нас обоих до полицейского участка. – И он уже совсем добродушно улыбается Кедми. – Честно, я извиняюсь… Но я не виноват. В ордере на арест у меня значится только Израэль Кедми.
– Раз ты ни при чем, – тихим, полным ненависти голосом перебивает его Кедми, – то и извиняться тебе не надо. Ты не виноват. А виновата твоя полиция и твои родители. А ты… Ты совсем не виноват, что родился идиотом, а вырос кретином.
– Я запомню это, – незлобиво улыбаясь, говорит сержант. – Я запомню твои слова, Израэль Кедми… И давай закончим на этом.
Но гнев Кедми еще не выдохся.
– Ты мне угрожаешь? Мне? Хочешь меня испугать? Уж не должен ли я тебя бояться? По-моему, бояться теперь должен ты. Скоро ты обо мне услышишь, обещаю. И думаю, то, что ты услышишь, не слишком тебя обрадует. И хватит сотрясать воздух. Я иду с вами. И ты, парень (это относится к беглецу), и ты…
От него несло жаром, как от раскаленной печки. Как болезненно этот человек реагировал на оскорбление, и как скор он был на них сам. Но, говоря честно, я не так обеспокоен был его состоянием, как судьбой скованного наручниками паренька, не перестававшего глядеть на своих родителей, от которых его сейчас уводили в тюрьму – надолго ли? Возможно, думал я, вам придется еще очень долго скучать по нему. Как сам я буду скучать по другому мальчику, вот этому, чью руку я держу сейчас в своей, – он тоже, пусть ненадолго, видел своего отца в наручниках, и теперь, еще не придя в себя от потрясения, жмется ко мне в поисках поддержки. Да, профессор Каминка, тебе будет очень его не хватать. Когда ты увидел его впервые после перелета, и они разбудили его, ты поначалу не только удивился, но даже испугался, насколько толстым он показался тебе. Просто миниатюрная копия Кедми, только без маниакальных замашек своего папаши… И выглядел он замкнутым и странно мрачноватым. А потом уже он разбудил тебя тем утром, когда из затянутого тучами неба хлестал дождь, барабаня по стеклам, ты, снова разглядев его, испугался: он стоял перед тобой в черном дождевике и старой кожаной шляпе, надвинутой на уши, держа в руках щипцы для колки сахара. Ты мог поклясться тогда, что паренек – просто умственно отсталый или перевозбудился от каких-то сильных эмоций. Но в конце концов, приглядевшись, ты стал понимать его и высоко оценил его простодушную чистоту и сообразительность. Да, пусть он выглядел несколько мрачноватым, хорошо, пусть редко улыбался – маленький пессимист, испытывавший сильное давление со стороны своего отца, к которому он был очень привязан и которого тем не менее он все время осуждал. Тебя изумили тогда, когда он рассказывал об отношениях между его родителями, его замечания, не по-детски точные и непростые. И при всей его замкнутости и медлительном спокойствии он зорко замечал все происходящее вокруг него и с поразительной зрелостью судил обо всем и обо всех… Обо всех… а значит, и о тебе тоже. Насколько же глупым виделось теперь их решение взять его с собой в психиатрическую клинику. Насколько нелепыми должны были мы ему показаться – и то, что ты упал на колени, и тогда, когда он увидел, как перевозбужденный Аси наносит сам себе рану, размахивая руками… Все это он видел, фиксировал, запоминал и оценивал, глядя широко раскрытыми глазами – смотрел, не моргая, за исключением разве что одного момента – когда этот свихнувшийся великан выхватил у него из рук его игрушку. Каким в это время запомнился ему ты сам и вспомнит ли он о тебе и о сумасшедшей этой неделе твоего пребывания в Израиле, до тех пор, пока ты не появишься здесь снова? Только когда это «снова» теперь произойдет?
Тень позади меня все еще остается на стене. Она похожа на темные лохмотья. Это дымка, которой суждено растаять в лучах солнечного света. И сзади и спереди темнота становится все глубже… тем глубже, чем ближе к поверхности моря. Уже смутное ощущение усталости охватывает тело, но лучше усталость дневных забот, чем полет и невозможность уснуть. Мои пальцы бессознательно расчесывают шрам; Конни называет это моей психосоматической чесоткой, и когда это происходит, убирает мою руку и приникает, целуя, губами к моей груди. С такой чисто американской добротой и таким великодушием. Точно так же Дина захотела его увидеть. Я был тронут и смущен. Но здесь не было места выдумкам – шрам есть шрам. И существует необходимость (психосоматическая, да, Конни?) показывать его тому, кому это интересно. И ты вынужден расстегивать рубашку. Даже если понимаешь, как странно ты выглядишь в переполненном кафе. Аси был вне себя от ярости, он не в состоянии ни понять этого, ни принять, ему не хватает широты души.
– Почему ты завел с нею разговор об этом?
Почему? У нее такая ослепительная улыбка, у твоей Дины. По-моему, она была искренне рада нашей встрече – в отличие от тебя, она умница. Я заметил, что она тайком сделала какую-то запись в своем маленьком блокноте. Уж не ревнуешь ли ты? Иначе как понимать твою реплику:
– Может получиться так, что и ты, и твой шрам однажды появятся в одном из ее рассказов.
Она – красавица и простодушна, как ребенок. Красота ее неожиданна, как внезапный удар, впечатление сильнейшее… и при всем при том она тебя любит. Мысль о том, что когда-нибудь я снова ее увижу, наполняет меня радостью. Ведь она просто приехала попрощаться со мной. Отсюда вы, кажется, отправляетесь в лавку ее родителей? Представляю себе, как они обрадуются вам. Кстати, который сейчас час?
Разойдясь по комнатам, все спят беспокойным сном. Стонут, вскрикивают, мечутся в постели, наполняя беспокойством близкое утро. Каждый отправился на покой слишком поздно. Цви взбрело в голову наведаться в полицейский участок. Кедми пригласил мать и родителей его подзащитного переночевать у него в квартире. Яэль из последних сил отправила в постель Гадди. Один я остался не у дел – сидеть у пустого стола, а передо мной, словно материализовавшись при помощи волшебства, сидит молодой журналист из местной газеты, прокравшийся в комнату буквально на цыпочках через незапертую наружную дверь. Никогда не упускающий случая выкинуть какой-нибудь номер Кедми пригласил его донести до читателей всю эту историю в надежде получить в виде бесплатного приложения дорого стоящую в ином случае рекламу.
– Все уже разошлись, – сообщаю я обескураженному репортеру. – Но я расскажу тебе с абсолютной точностью, что здесь произошло. – И я посадил его напротив себя, как школьника, и продиктовал свой вариант произошедшего.
Ноги у меня затекли. Сонный Гадди бредет из своей комнаты с закрытыми глазами в ванную, за ним тащится по полу его тень, пока ее не поглощает коврик.
– Гадди, – шепчу я.
Он замирает на мгновение, как если бы услышал чьи-то голоса. Но потом продолжает свой путь. Раздался звук сливаемой воды, и вот он уже бредет обратно к себе.
– Гадди, – снова шепчу я, не двигаясь с места.
Он останавливается снова, вслушивается в темноту, не открывая глаз, словно окликнул его призрак. Его рука проскальзывает внутрь пижамной куртки, и в этой позе он напоминает мне маленького Наполеона. Затем рука его замирает на груди где-то в районе сердца, после чего он продолжает двигаться по направлению к своей постели, не произнеся ни слова.
Мое сердце переполняет сочувствие к нему. И я отправляюсь за ним вслед в его комнату. Свернувшись клубком под простыней, он открывает один глаз и смотрит на меня. Но узнает ли? Насколько глубоко память обо мне должна сохраниться у него, чтобы он меня не забыл? Я сел на его кровать, ощущая теплоту его тела и улавливая слабый запах мочи.
– Ты знаешь, что я сегодня улетаю?
Он кивает.
– Ты будешь помнить своего дедушку?
Он, немного подумав, кивает снова.
– А ты не слышал, как я тебя сейчас звал?
Он не отвечает. Он неторопливо рассматривает меня своими большими глазами, только сейчас поняв, что окликал его не призрак, а дед. Всего лишь. И снова его рука под простынею ложится на грудь.
– Где у тебя болит? Мама сказала, что завтра она отведет тебя к врачу и что ты потом напишешь мне, что он тебе сказал. Ты, я думаю, просто мало двигаешься. Не делаешь никаких упражнений. Мало гуляешь.
– А где гулять-то? – спрашивает он.
– Я говорю вообще.
– Нет, это не поможет, – отвечает он безнадежным голосом, разительно не соответствующим его возрасту. Отвечает, как взрослый. – Это все из-за моих гланд. Их надо удалить.
– Чепуху говоришь. Ничего тебе не нужно удалять. Ты нормальный, здоровый парень, поверь. Просто тебе нужно больше заниматься собой. Давай поднимайся. Может быть, тебе захочется прогуляться со мною вместе…
– А куда?
– Никуда. Просто выйти и подышать утренним воздухом. В этот час на улицах никого, кроме нас с тобою, не будет.
– Хорошо, – говорит он, не делая ни малейшей попытки встать.
Я пошел одеваться. Слабая тень стала еще тоньше, с каждой минутой растворяясь в небесной голубизне. Расставание, думаю я, прощальные минуты и часы. Их осталось ровно восемнадцать. Много это или мало? Как знать… Так или иначе – жребий брошен. Рубикон перейден, и с каждым шагом граница уходит и уходит назад… а раны… что ж, они затянутся, рано или поздно. Ее больше нет – ни ее, ни всего, что с ней связано. Никакого безумия. Я умылся и побрился. Медленно. Никакой спешки, профессор Каминка. Запомни и эту минуту – как с каждым мгновением растворяются тени и становится все светлее и светлее. Я заглядываю в комнату Гадди. Он все еще в постели. Лежит. Глаза его закрыты. Уснул. Я бреду в маленькую кухню, дверь за собой я прикрываю. Чисто вымытая посуда выставлена в сушилку, остатки продуктов аккуратно прикрыты. Ставлю на огонь чайник. Открыв шкафчик, нахожу большую упаковку хлеба, которую Кедми приберегает для праздников. Рядом лежит огромный нож для нарезания хлеба.
Каким же таким своим обещанием я так ее разочаровал?
Я допивал свой кофе, когда дверь открылась и вошел Гадди, одетый в школьную свою форму. Он протирал глаза.
– А, ты, значит, все-таки встал! Молодец. Хочешь чего-нибудь поесть? Нет? Ты уверен?
Он молча боролся с собой.
– Значит, нет. Ну а как насчет стакана молока?
Он соглашается. Я наливаю ему в кружку. Он мгновенно опустошает ее, машинально протягивая руку к пластинке мацы – отламывает кусок, и он с хрустом исчезает во рту.
– Ешь, ешь… – говорю я. – Не следует выходить на прогулку голодным.
Он доедает всю мацу. Я отношу грязную тарелку в мойку, и мы уходим, проходя мимо спальни Яэли, сквозь приоткрытую дверь которой я вижу огромную тушу Кедми. Он лежит на спине, положив одну руку Яэли себе на лицо.
– Надо бы оставить ей записку, – говорю я. Нахожу клочок чистой бумаги и пишу: «Мы отправились на утреннюю прогулку. Скоро вернемся. Дедушка». – Подпишись и ты, – говорю я Гадди. И он с удовольствием пишет свое имя.
Снаружи утро уже разгулялось вовсю, тем не менее довольно прохладно. У весны еще есть немного времени для разгона. И все-таки интересно – который час?
Кажется, что притихший город нравится Гадди.
– После седера все спят как убитые, – резюмирует он. – А сколько сейчас времени?
– Я свои часы оставил в саквояже. Этот день придется прожить без них.
– Как это случилось? Почему?
– Потому что я не хотел видеть, как быстро уходит время, которое я мог бы еще провести с тобой.
Он смеется.
– У тебя нет собственных своих часов? Я оставлю тебе денег, чтобы ты завтра мог их купить себе.
Ему захотелось показать мне свою школу. Мы спустились к подножию холма и вошли в обширный двор прямоугольной формы, весь покрытый слоем утоптанной грязи. Школьную стену украшали огромные часы, показывавшие восемь.
– Они всегда показывают восемь, – сказал Гадди. В эту минуту он выглядел очень оживленным. Оглядываясь вокруг, он, похоже, что-то высматривал, то и дело ковыряя носком ботинка слежалую грязь. Внезапно он наклонился к земле и выковырял большой красивый кусок мрамора, который он положил себе в карман.
– Вот это находка! – пробормотал он, слегка задыхаясь.
Он стоял и озирался, не узнавая так хорошо знакомое ему место, такое сейчас тихое. Он чувствовал себя дома. В одном из углов школьного двора высилось нечто вроде небольшой платформы. Это был простой обломок камня, и вот на него-то он и запрыгнул, начав важно на нем вышагивать.
– А где твой класс? – спросил я его.
Он показал – где, и после нескольких безуспешных попыток проникнуть внутрь здания через какую-нибудь из закрытых дверей мы нашли такую – с обратной стороны фасада, которая поддалась нашим усилиям. Протиснувшись внутрь, мы оказались в школьном коридоре, стены которого были сплошь увешаны портретами национальных героев, букетиками сухих цветов, плакатами и цитатами из Библии, а также огромной картой Государства Израиль после Шестидневной войны, страны, которая непрерывно сражалась за право называться страной. Пропитавший все запах бананового пюре – неистребимый атрибут начальной школы. Я не переступал порога подобных заведений с тех пор, как мои собственные дети подросли. Я начал рассказывать Гадди, что в свое время я тоже был учителем, но учил не детей, а тех, кто, став учителями, учил учиться других. Он кивал, довольный услышанным, а сам тем временем вел меня к лестнице на втором этаже к своему классу, дверь в который была, к его огорчению, как и все остальные, наглухо закрыта. Сквозь стекло можно было различить парты и стулья, расставленные вдоль стен. Затем он повел меня обратно во двор, дергая на ходу все двери подряд. Ярко светило солнце. Жалюзи на окнах домов, протянувшихся вдоль улицы, были еще опущены. Он снова радостно запрыгнул на каменную платформу, красивый и здоровый, увлеченно говоря что-то самому себе, играя то ли в директора школы, то ли в кого-то из учителей. Издалека мне видно было, как скользили по его лицу солнечные лучи, в свете которых он был похож на несколько перекормленного кабана.
– Кто у вас директор школы? – спросил я, когда он присоединился ко мне.
– У нас не директор, а директриса, – пробурчал он несколько смущенно.
– Сердце тебя больше не беспокоит?
– Нет. – Он сказал это, не задумываясь. Мы оставили школьный двор, и он предложил мне посмотреть на детский сад, в который он ходил до школы. И мы снова пошли по улице, но уже вверх, пока не подошли к маленькому каменному строению, прилепившемуся к одной стороне оврага, прямо на склоне. Ко входу вели грубые каменные ступени. Он поскакал по ним вниз, через игровую площадку с ее качелями и песочницей, и, добравшись до входа, толкнул дверь. Она не была закрыта. Я последовал за ним.
– Там кто-то есть, – прошептал он.
Мы вошли и двинулись на звуки голосов, обнаружив, что детский сад превратился во временную синагогу.
– Прошу нас извинить, – сказал я, обращаясь к небольшой группе мужчин, которые находились внутри, натягивая поперек помещения толстую веревку, призванную отделить мужскую половину от женской.
– Пожалуйста, пожалуйста, входите, – сказал один из них. – Теперь как раз будет миньян[13], и мы сможем начать службу.
– Нет, нет, – сказал я заикаясь. – Мы вовсе не собирались… Мой внук только хотел показать мне свой бывший детский сад… Мы просто заглянули… и для службы у нас ничего с собою нет…
Но они вовсе не собирались отпускать нас, у них нашлось для нас все необходимое, из шкафчика с игрушками они достали все, что нужно для молитвы: новенький, еще с этикеткой таллит, и молитвенник, и кипы.
– Проходите и присядьте, если вы устали. Мы впервые проводим здесь службу. Муниципалитет разрешил нам расположиться здесь на время праздников… Все это сделано по просьбе соседей… Мы вот-вот начнем…
Я бросил взгляд на Гадди, который с нескрываемым любопытством наблюдал за превращением его детского сада в синагогу.
– Не хочешь ли ты ненадолго задержаться и поглядеть на службу? И посещал ли ты синагогу когда-нибудь раньше?
– Нет.
– Твой отец никогда не брал тебя с собой?
– Нет.
– Тогда давай посидим немного. Заодно и отдохнем. Который час?
Мы сидели на крошечных стульчиках. Четверо (или пятеро) молодых людей готовили помещение, устанавливая стулья рядами, превращая кукольный шкаф в некое подобие ковчега Завета, а Тору, которую они извлекли из картонного ящика, поместили внутрь, после чего сымпровизировали возвышение для кантора, весело подшучивая над тем, как они переоборудовали оккупированный ими детский сад, в то время как молодой и энергичный рабби с английским акцентом дирижировал ими. Кто-то грохнул в тарелки. Годами я не утруждал себя посещением синагоги, живя в Израиле. И вот оказался сейчас здесь, среди молодежи, которая выглядела совсем не как ультраортодоксальная, несмотря на кипы, которые все время норовили съехать у них с головы, сижу и смотрю на эту молодежь и не нахожу в этой ситуации ничего особенного.
– Вы живете здесь где-то поблизости?
– Нет… я просто навещал свою дочь, а вот она…
Сквозь окно видно русло пересохшего ручья, вади; на склонах в ярком солнечном свете сверкает еще не высохшая роса. Серебристо-зеленые оливы – все в точках от жидкой грязи после ночного дождя. Вокруг нас громоздятся завалы детских игрушек всех мыслимых и немыслимых цветов, а также плакаты в сопровождении целой коллекции фотографий с изображением собак, увесившей стены. Гадди с интересом читает имена, выведенные на дверцах шкафчиков для верхней одежды, а затем помогает рабби найти ту или другую вещь – например, ножницы, моток веревки или скотч, в то время как я, не двигаясь с места, чувствую, что тоже каким-то странным образом оказался причастным к свершающемуся на моих глазах акту религиозного возрождения.
Остается всего несколько часов. Последний день в Израиле медленно уходит прочь. А за твоей спиной, равно как и впереди, – что ожидает тебя, если не сгущающаяся с каждым часом темнота. И это не выдумки, не фантазии пожилого человека, вовсе нет. Я это чувствую, я это знаю. Все это время – и то, что прошло, и то, что идет сейчас, я думаю о ней. Что ожидает ее? Дети полагают, что наступило улучшение. Но они ошибаются. Что могут знать они, не представляя, насколько глубоко поразил ее недуг. Вы обескуражили, вы разочаровали меня. А я… что я мог, что я должен был, по-вашему, сделать? Может быть, я тоже разочаровал вас, что и сам не сошел с ума? Но разве я когда-нибудь обещал вам это?
Два молодых человека, по виду – ученые из Техниона, говорят что-то о своих лабораторных опытах. Гадди подходит и садится рядом со мной. Тяжелый его профиль и двойной подбородок внезапно напоминают мне Яэль, когда она была еще подростком. Глаза его с любопытством глядят на все вокруг, но рука бессознательно скользит по груди. И останавливается.
– Почему ты опять держишь здесь руку? У тебя там болит?
– Нет.
– Тогда почему?
– Если это начнется, я успею ее поймать.
– Поймать? Что?
– Боль.
– Завтра мама отведет тебя к врачу. Все это мне очень не нравится. А врач скажет тебе, что нужно делать, чтобы похудеть, посоветует избегать слишком жирной пищи. Когда я буду здесь в следующий раз…
– А ты еще раз приедешь?
– Конечно. Конечно приеду.
Три молодые дамы, щебеча что-то веселое, появляются на пороге. Мужчина, поднявшись, приветствует их.
– Как приятно видеть вас здесь!
Они обмениваются шутками по поводу преобразившегося детского садика, заходят в маленький умывальник… Затем усаживаются позади протянутой через помещение веревки.
– Вот сюда. Вы за границей. Категорически запрещено ее пересекать.
Взрыв смеха. Для них, видимо, все это – необычное приключение; это похоже на примерку платья, только здесь вместо платья примеряется религия. Прихожане продолжают прибывать и прибывать, обмениваясь приветствиями с окружающими.
Молодой рабби набрасывает на всех таллиты и напоминает им слова молитвы.
– Теперь уж есть десятка, – говорит кто-то, – то есть миньян. Можно начинать молитву.
В окне виден сверкающий осколок моря. В первый год моего пребывания за границей я ужасно скучал по подобному ландшафту; со временем эта боль ушла, и дыхание у меня перехватывало уже от других мест, особенно осенью и весной. Мы, которые были очевидцами рождения этой страны, были убеждены, что в любое время сможем приспособить ее к своим желаниям. Увы, мы ошибались. Эта страна вышла у нас из-под контроля, претерпев непредсказуемые мутации. Сейчас она полна каких-то странных людей, пусть даже от них исходит необъяснимо сильная энергия. Время смазало некогда чистые линии. И тем не менее эта страна – единственно возможная наша родина – такая, какая она есть. Аси следовало бы несколько умерить свою историческую прыть. Усилием воли можно сделать многое. Но не все. Терпение, сын мой. Терпение. Никакой спешки. И помни – крот истории роет медленно.
Я ловлю на себе взгляды женщин, что сидят на женской половине за натянутой веревкой. Впервые силу своей привлекательности ты ощутил в Америке. Тамошние дамы не пропускали ни единой твоей лекции, будь то погожий зимний денек или снежный буран. Похоже, ты выглядел в их глазах неким подобием голливудского киногероя. Этаким Рудольфо Валентино! Правда, несколько постаревшим. Апостол изгнания, он изгнал самого себя и теперь проводит среди нас свои дни в жаре супермаркетов, расположенных глубоко под землей, где он бродит, пробуя на ощупь качество дамской одежды, любуясь элегантными шляпками, и проходит ряд за рядом в ожидании Конни. «Конни, я подарил половину своей квартиры». И в то время, когда она, как мертвая, лежит, не двигаясь, в постели, ты должен вести себя терпеливо, как истинный джентльмен.
Между тем количество мужчин по-прежнему не превышает десяти.
– Мне очень неудобно, – шепчу я, наклонившись к раввину, – только я ведь не собирался молиться. Я просто оказался здесь…
– Ну, останьтесь хотя бы до начала молитвы, – упрашивает он. – Скоро нас будет более чем достаточно. А вы… только до начала…
Он идет к импровизированному возвышению, кратко объясняя по дороге смысл и слова грядущей молитвы утренним посетителям, после чего затягивает старинный псалом чистым своим и мягким голосом:
– Владыка всего живого, Повелитель царств, духом Твоим наполняется всякая плоть… Ты велик, Ты могуч, Ты один такой… и нет никого, кто был бы Тебе подобен…
Какая-то молодая пара появляется у входа и останавливается, оглядываясь вокруг. Я чувствую себя так, словно я прирос к своему креслу. Изможденным. Без сил. Время стремительно уходит. Но который все-таки час? Помещение, как и обещал рабби, начинает наполняться. Коробка с молельными принадлежностями – таллитами, кипами – уже совсем пуста. Под неистовым напором солнечного света ослепительно сверкают оконные стекла. Гимн чистоты. Упорство блистающей мысли. Ужас, заставляющий сжаться все мышцы, все. Гадди сидит застыв, я чувствую, что ему не по себе. В помещении появляется мальчик, похоже, он сразу обращает внимание на Гадди. Он узнает его и шепотом призывает его выйти наружу. Потом он что-то шепчет своему отцу, одетому в офицерскую форму. Гадди дергает меня за рукав:
– Когда мы уйдем отсюда?
– Скоро.
Я сижу с закрытыми глазами, наслаждаясь литургией, вокруг меня, – глубокая тишина, которая лишь оттеняется бормотанием десятков людей, склонившихся над молитвенниками.
– Пойдем, – упрямо гнет свое Гадди, непривычный к обстановке службы в ортодоксальной синагоге, и его можно понять. Тем более что он аргументирует свое нетерпеливое желание уйти: – Мама и папа будут беспокоиться, куда мы подевались… – И он встает со своего места.
– Хорошо, хорошо. Мы уходим. Прошу меня простить. – Это я говорю, уже обращаясь к молодому человеку, сидящему рядом со мной. – Вы, случайно, не знаете, который сейчас час?
Он показывает мне свои часы, не решаясь произнести даже слово.
Я снимаю с себя таллит и без лишних церемоний вручаю его вместе с кипой новому прихожанину, который только вошел. Маленький мальчик тоже поднимается с места и идет за нами следом, но Гадди прибавляет шаг и несется вниз по ступеням, целиком ныряя в весенний день. Сейчас улицы переполнены и взрослыми, и детьми. Машины стремительно съезжают с холма в низину. Я иду, опустив голову. Какую вину все они вменяют мне? Верят ли они в это сами? А если не верят, почему никак не показывают, что я ни в чем не виноват? А Всевышний, который все видит и знает? Но ведь Наоми сказала тебе некогда: «Не впутывай Бога в свои делишки… Оставь Его».
Мы сворачиваем на боковую улочку. Гадди выбегает на газон и возвращается с обрезком железной трубы. Он останавливается возле дерева и сбивает с самой нижней ветки листья для своих шелковичных червей, еще не превратившихся в кокон. Внезапно я понимаю, что за нами следом движется автомобиль. Я останавливаюсь, и машина делает то же. Свет, отраженный от ветрового стекла, не дает мне возможности разглядеть водителя. Мы притормаживаем возле узенького проулка и резко поднимаемся по ступеням, ведущим к квартире. Входим. В гостиной все еще темно. Яэль и Кедми в кухне; сидя за столом, они с заметным энтузиазмом доедали свой завтрак, состоявший из пит и пластинок мацы. Кедми все еще был в пижаме, и, судя по всему, настроение у него было хорошее.
– Вчера вечером ты исчез с нашей дочерью, а этим утром проделал тот же трюк с нашим сыном, а, дедушка?
– Гадди снова жалуется на боль в груди. Вы должны завтра же показать его врачу.
– Ничего страшного, – сказала Яэль. – Он все это придумывает.
– И тем не менее…
– Ладно, мы сводим его, – сказал Кедми.
– Ты обещаешь?
Он удивленно уставился на меня.
– Я же сказал. Можешь не сомневаться. Где это вы были?
И мы рассказали ему о новой синагоге, открывшейся в бывшем детсадике. Он мгновенно вскипел:
– Ну, вот! Не говорил ли я вам, что они уже почти захватили всю страну? Еще немного, и в субботу нам будет разрешено передвигаться только на роликах!
Я поинтересовался, чем закончился их вчерашний визит в полицию. Он ответил, что, прежде всего, он подал официальную жалобу на полицейского, которому до конца его жизни не светит теперь никакое повышение. Я снова задал ему вопрос – на этот раз в отношении убежавшего кандидата в убийцы. Думает ли он сам, что тот невиновен?
– Думаю ли я о том, виновен он или нет? Какая разница? Допустим, я верю, что виновен. Но моя задача состоит в том, чтобы не я, а судья поверил в его невиновность.
Тем временем Яэль принесла мне завтрак.
– Который час?
– А что, кроме всего прочего, Ракефет умудрилась сломать твои часы?
– Нет, я просто забыл их в комнате.
– Сейчас половина девятого. Ты уже начал отсчитывать часы?
– Нет, конечно. С чего ты это взял?
Телефон прозвонил. Яэль взяла трубку. И вернулась. Звонил Аси с автобусной станции Тель-Авива. Они уже на пути к нам. Я вернулся в свою комнату, захлестываемый волнением, встал на колени возле маленького саквояжа, вытащил из него мой паспорт и билет и снова проверил время вылета. Затем перечитал текст доверенности, которую я оставлял Аси, а напоследок внимательно вчитался в свидетельство о разводе. Тень на потолке заставила меня вздрогнуть. Чья это тень – моя или еще кого-то, кто появился в комнате. Я сложил мою пижаму и убрал ее. Небо за окном было пронзительно синим. Внизу, за углом, я опять обратил внимание на белый автомобиль, который следовал за нами. Водитель стоял, привалившись к багажнику. Тщедушный мужчина в белом костюме.
Я поспешил к Цви, который все еще спал в полутемной гостиной, его обнаженная рука свисала до пола. Он открыл глаза и удивленно воззрился на меня.
– Папа? Который час?
– Уже половина девятого.
Тот же недоумевающий взгляд.
– Цви, вставай. Я думаю, что этот человек внизу… Думаю, он ожидает тебя.
– Что еще за человек?
– Ну тот… твой. Ты понимаешь, о чем я. Кальдерон…
– О боже! Он уже здесь? Знаешь, по-моему, это уже слишком.
– Ты собираешься вставать?
– В свое время. Из-за чего весь сыр-бор? Еще нет и девяти… а ведь сегодня праздник.
– Мне кажется, следует его пригласить. Пусть поднимется сюда.
– Не делай этого. Пусть ждет. Он привык.
Он нырнул снова под одеяло и закрыл глаза.
– Как бы там ни было, думаю, что тебе пора вставать.
– Хорошо, хорошо. Еще чуть-чуть. Впереди еще куча времени. У тебя что, предполетная лихорадка?
– Да вроде бы нет.
– Ты рад, что летишь обратно?
– Непросто мне расставаться с вами со всеми.
– Ох!..
И он повернулся на другой бок.
Кедми уселся поудобней и принялся за газету. Яэль начала убирать квартиру. Я смотрел в окно на тощего человечка, который застыл на том же месте, куря сигарету. Некоторое время я боролся сам с собой, в результате чего решил сходить за ним. Он стоял, не спуская глаз с окон нашей квартиры. Я подошел вплотную. Внезапно он увидел меня. Поначалу он сделал попытку куда-нибудь деться, но затем, узнав, тут же расплылся в улыбке и протянул мне руку:
– Хелло, мистер Каминка… Я не думал, что вы узнаете меня. Как прошел ваш седер?
– Более или менее. А ваш?
– Главное, что он прошел. Эта пытка все тянулась и тянулась. И все из-за старшего брата моей жены… С каждым годом он говорит все дольше и дольше. Но в конце концов мы это пережили.
– Вы ждете здесь Цви? Он еще не проснулся.
– Конечно, конечно, я знал, что так будет. Пусть спит. У меня есть для него кое-что. Кое-что новенькое, что может его заинтересовать. Но не волнуйтесь. Пусть выспится.
– Что-то новенькое?
– О, это касается бизнеса. Ничего особо значительного… Это все может подождать. Ну а вы, мистер Каминка… Как вы? Я слышал, что развод прошел гладко. Я подвозил туда вчера Цви, и мне показалось, что она перенесла это спокойно.
– Не хотите ли вы подняться со мной наверх?
– О, нет… Нет. Я не могу этого сделать. Не в такое время. Я подожду здесь, у машины. У меня в машине есть приемник… и вообще все, что нужно. Я просто перепутал время… что-то с часами… и вот приехал слишком рано… Забудьте об этом, прошу вас… В конце концов, это ваш последний день здесь… Нет…
– Но, мистер Кальдерон, я настаиваю. Мы, кроме всего прочего, вытащим Цви из постели.
– Абсолютно невозможно! Это выглядит так… как если бы я…
И он начал все сначала:
– Это, как если бы я… на самом деле я собрался в синагогу… Я никогда ведь не пользуюсь машиной ни в субботу, ни по праздникам… Все для молитвы – и таллит, и кипа, и молитвенник у меня с собой. В машине… И я уже был на полпути к синагоге, как вдруг в голове что-то взорвалось… Мысль… Что все в моей жизни безнадежно… Что он хочет меня бросить… Скажите, ради бога, что это не так. Вы высказали столько достоинства и сочувствия ко мне в ту ночь… Это так помогло мне дожить до сегодняшнего дня…
Я дотронулся до его тонкой и теплой руки, и он прижался ко мне, его морщинистое лицо покрылось пятнами, глаза запали.
– А он ничего не говорил обо мне… Хоть чего-нибудь?
– Давайте поднимемся…
Его лицо ожило. И просветлело.
– Но он… Цви… Он упоминал?.. Он не скажет, что…
– Нет. И, насколько я его знаю, не говорил и не скажет. Но пошли, выпьем чего-нибудь, вам это не повредит. А его мы разбудим. Хватит уже ему спать.
– Для него это вредно… Я имею в виду его привычку спать допоздна. Это не позволяет ему продвигаться в делах. Я говорил ему, что он не может позволить себе открывать глаза за час до открытия биржи и думать, что самое время заняться чем-то. Но ведь сегодня другое дело… праздник… Почему бы не дать ему отоспаться? Не волнуйтесь… А если мы разбудим его, то он страшно разозлится… А я… Может, мне удастся отыскать какую-нибудь синагогу поблизости, и я смогу помолиться…
И он вытер с глаз слезы.
– Тогда пошли. Разрешите мне показать вам маленькую синагогу, открывшуюся только сегодня. Мы с Гадди прогуливались этим утром и наткнулись на нее – в его старом детском садике… Некоторые жильцы близлежащих районов, как я понял, захотели вернуться к религии.
Он колебался…
– Я уверен, что это не сефарды… только ашкенази… особенно из недавних… они, да, возвращаются к религии. А кроме того, я совершенно не знаю всех этих новых песнопений. Но вы не беспокойтесь… Я пойду, ладно… Схожу туда. Где это?
Он достал свой таллит из машины и набросил его на себя. Возложил на голову черную кипу, поднял в машине все окна и закрыл двери.
– Когда этим утром я садился в машину, ощущение было такое, будто впереди меня ожидает огненная полоса. Никогда раньше я не садился за руль ни в субботу, ни в праздники. Хорошо еще, что мой отец умер и никогда об этом не узнает. Но я искуплю свои грехи… Я верну Богу то, что получил от Него. Я подведу всему итог. Пусть даже причиной для этого явится отчаяние и ощущение безнадежности. Чувствую, как у меня из-под ног уходит почва. И от этого я начинаю думать о смерти, да мне и не хочется жить. Но я должен выстоять… Выстоять. И я знаю, что…
Он крепко сжал мою руку.
– Цви… Он действительно ничего вам не говорил? Не говорил, что он собирается сделать?
– Нет.
– Но я ведь знаю это. Я знаю… Нет, ничего не говорите мне… Я знаю, что он хочет меня бросить… Я это чувствую. Будь он женщиной… Но где, скажите, я могу встретить мужчину, которого полюбил бы так? Все это для меня такая беда… Такое несчастье… Прямо с первой минуты…
Он стоял весь облитый солнечным светом. Стоял на каменных ступенях, ведущих к синагоге, и говорил, и говорил немного гнусаво плачущим голосом. Снизу до нас доносились голоса, которые всегда слышны при обычной службе, равно как и топот бегающей детворы, всплески молитвенных песнопений… Несколько мужчин в таллитах курили рядом со входом в синагогу, мне захотелось успокоить его… а заодно успокоиться и самому.
– Давайте обо всем этом и поговорим с Цви…
– Нет, нет… не надо! Он разъярится. Он обвинит во всем меня… А у вас достаточно своих неприятностей. Не говоря уже о том, что этой ночью вы улетаете. Кстати, я сказал Цви, что буду счастлив доставить вас в аэропорт. Я буду скучать по вам, мистер Каминка… Все мы будем. Хорошо… Увидимся позднее. Может быть, молитва немного меня успокоит. И скажите Цви, что я вскоре вернусь.
Его длинная скорчившаяся тень спускается вслед за ним по ступеням, и они исчезают в детском саду. Ну а ты сам – где ты? Твоя собственная тень застыла на бетоне стены, распласталась, размером в прожитую жизнь. «Я буду скучать…» Как быстро фарс оборачивается трагедией. Я буду по вам скучать. Чья тень исчезнет следующей? Холодный свет. Небо утопает в синеве. Мягкое дуновение ветра. «Всем нам будет не хватать…» Кто ты? Потрепанный жизнью старик. И тем не менее… Строго прочерченные улицы, обрамленные эвкалиптами. Шагай. Шагай. Отчизна… ты можешь стать родиной. Крохотная собачка с задранным хвостом тащится за огромной сукой, уткнувшись носом ей в зад. Повсюду дети. Ими запружены улицы. Который все же час? Зеленые склоны оврага, простершегося ущельем меж двумя домами. Это напоминает пропасть. Об этом не следует говорить, об этом не принято даже упоминать, но факт есть факт; страна под названием Израиль есть не более чем эпизод. Но может быть, история отнесется к Израилю милосердно? В виде исключения, а? Аси, что ты можешь сказать об историческом милосердии? Вот тебе тема для обдумывания. А пока – шагай. Шагай. Время уходит. Его не остановишь. По тебе, который собрался бесшумно исчезнуть в ночи, будут скучать. Не злиться, не проклинать. Скучать, побежденные, потрясенные твоим великодушием. Твоей уступчивостью. Твоим даром. Аси и Дина спешат обнять тебя перед разлукой – эти дни так сблизили вас. А пока что я спускаюсь по тропинке, петляющей по склону оврага, исчезая среди благоухающих зарослей, выводя к площадке, откуда открывается ошеломляюще прекрасный вид на залив. Где-то вдалеке лают собаки. Приземистые корпуса Техниона окружают меня слева и справа. Запомни это. Усталыми глазами запечатлей все это в солнечном свете. Позднее другой ландшафт перекроет для тебя воспоминание об этом… Но однажды все вернется. И ты вспомнишь. Как сидел на каменном уступе, расстегнув на рубашке все пуговицы так, чтобы ветерок с залива обдувал твой шрам, вызывая страстное желание расчесать его. А солнечный блеск вызовет в твоей памяти сверкание ножа. Ни следов фантазии, никаких сожалений. Овладевшее ею раздвоение личности, которое требует от меня невозможного – сдержать некие невысказанные обещания. Но мыслимое ли это дело? Не отсюда ли их общее во мне разочарование, когда они решили, что я настолько испуган, что не поинтересовался даже судьбою собаки. Надеюсь, что когда-нибудь наши дети поймут, что некогда произошло на самом деле.
– Эге-гей!.. Тут кто-то есть! – прокричал юношеский голос над моей головой. – Какой-то старикан…
И разом колонна подростков промчалась совсем рядом, продираясь сквозь заросли кустарника, подобно пестрой многоцветной змее, скатываясь вниз по тропинке в десятке сантиметров от меня с гиканьем и свистом.
– Эй, ребята! Который час?
– Уже одиннадцать.
Колонна прокатилась по склону вниз и исчезла в подлеске. Я вскарабкался вверх и прошел мимо синагоги, вновь превратившейся в детский сад, на двери болтался огромный замок. Белый автомобиль исчез. Одетый в какое-то старье, Кедми стоял перед домом со шлангом в руке и мыл свою машину, время от времени отдавая командным голосом приказы Гадди, который изо всех сил помогал ему.
– Аси и Дина уже здесь?
– Нет.
– А Цви наконец поднялся?
– С чего бы это? Разве биржа сегодня открыта?
– Который тогда час?
– Времени достаточно, чтобы ты мог еще прогуляться.
Я быстро преодолел ступени. Дверь в квартиру была открыта и наполнена звуками соседского радио и чьей-то перебранкой. Яэль, стоя на кухне, мыла посуду, в то время как малышка важно восседала в своем креслице возле стола, прижимая к себе бутыль с надетой на нее огромной соской.
– Цви еще спит?
Яэль безмятежно улыбается:
– Он отказывается вставать. Ты же знаешь, каков он по утрам.
– Но мы не должны позволять ему валяться в постели целый день. Сейчас я его разбужу.
И, подобно шторму, я врываюсь в салон, раздергиваю шторы, поднимаю жалюзи и начинаю трясти его изо всех сил.
– Хватит уже, хватит валяться, ты, лентяй! Давай-ка на ноги! – Темная ярость накатывает на меня. – Раз-два – и подъем! – И одним рывком я сдергиваю с него одеяло. Запах его белья… Он садится в постели, ошарашенно глядя на меня, потрясенный и недоумевающий.
– Что происходит?
– Вставай! Происходит то, что совсем скоро я улетаю в Америку. Происходит то, что Аси и Дина вот-вот прибудут, а ты хочешь, чтобы посреди белого дня они застали тебя валяющимся в постели!
Он пытается натянуть обратно одеяло, но я резко откидываю его, и оно падает на пол. У него лицо дегенерата – гладкое, чистое, безмятежное. Абсолютная копия моего лица в юные годы – распутника и сластолюбца.
– Какая муха укусила тебя, папа? Ты что, тоже сошел с ума? Который сейчас час?
– Хватит придуриваться, ты что, не понимаешь? Все уже давным-давно на ногах. А ты!..Довольно!..
Он сидит на корточках среди скомканных простыней и исподлобья смотрит на меня встревоженным взглядом.
– Я заснул снова… но во сне я видел тебя.
– Ты увидел меня во сне? – У меня невольно вырвался истерический смех. – Боже, помоги всем нам! А теперь – вставай!
– Ты не хочешь услышать об этом?
– Потом. А сначала – вставай.
Я включил радио на полную мощность. Звуки хора сотрясли весь дом, а я поспешил к Яэли, которая готовилась выкупать малышку и возилась в ванной комнате, устанавливая ванночку.
– Ну, вот он, я, – решительно заявил я и предложил свою помощь. – Давай я тебе помогу. У меня же есть опыт.
– Да что ты волнуешься, папа? Иди и приляг. Ты на ногах с самого утра, а впереди у тебя еще долгий-долгий день.
– Не хочу я ложиться. Хочу быть с вами, покуда я здесь. Хочу еще раз подержать малышку. Давай передай ее мне. Я ее подержу… Не бойся.
И я аккуратно стал раздевать девчушку, уложив ее на свежую пеленку, в то время как Яэль наполняла ванночку водой. От нее шел пар, затуманивая зеркала. Я аккуратно снял с нее крохотную рубашечку и развернул пеленку, обоняя неповторимый и давно забытый мною запах детского желудка. Приготовив мыло и тальк для присыпки, я локтем определил температуру воды. Из-за дверей до нас доносился голос Гадди, к которому чуть позже присоединился баритон Кедми, закончившего дела внизу и поднявшегося в квартиру. Хор кибуцников по радио становился все более громким: страна приветствовала подобным образом – музыкальным фестивалем – приближающийся День весны. В перерыве диктор декламировал стихи из Библии. Кто мог бы представить себе, что эти старинные ритуалы найдут свое место в реалиях сегодняшнего дня? Невероятно. Стало еще больше возбужденных соседских голосов, кое-кто заглядывал, чтобы одолжить чашку молока. Израильское утро. Я снял рубашку, чтобы не замочить ее, и, держа на весу маленькое розовое детское тельце, стал медленно опускать его в воду, пытаясь в то же время каким-то образом развеселить ее. Яэль стояла рядом, готовая в любую секунду прийти мне на помощь, но я жестом отослал ее прочь. Я видел, что она поражена моими ловкими и точными движениями, и изумление ее было неподдельным.
– Мы будем скучать без тебя.
– Будете – что?
– Будем скучать без тебя, папа. Вот что я имела в виду. Я никогда не могла представить…
– Не говори глупостей. Вы наконец хоть на короткое время обретете мир и покой, выпроводив меня.
– Ты не прав. От одной мысли об этом становится грустно…
– Только не для Кедми.
– И для Кедми тоже. За эти несколько дней… Я же вижу, вы оба привыкли друг к другу. Я это просто чувствую. Не в его правилах обнаруживать такое, однако…
– Ну уж если на то… Я это знаю. Он ведь и на самом деле парень неплохой. Я и сам привык к нему.
– Он просто хороший. Но ухитряется наживать себе врагов из-за того, что не всегда умеет держать язык за зубами… А потому…
Она вдруг осеклась и замолчала, словно поняв, что говорит что-то не то. Щеки ее горели. Я улыбнулся ей, но не сказал ничего. Ракефет весело хлопала ладошками по воде, разбрызгивая ее во все стороны. Ее чистенький лакомый лобок. В эту минуту я вспомнил слова Гадди, который сказал, что она, Ракефет, похожа на Наоми. Я начал потихоньку вынимать ее из ванночки, держа со всей осторожностью и вниманием, но довольно крепко, чтобы она случайно не выскользнула. Зашел Цви и стал мыть руки, а потом начал бриться, непрерывно перемещаясь между нами и раковиной, откуда он с изумлением и таращился на меня. Когда я снова опустил девочку в воду, чтобы она немного поплавала, она закрыла глаза. Все при деле. Минутная пауза. Что со мной происходит? Я ощущаю какой-то невероятный подъем. И тут же сумасшедшая мысль о смерти. Темнота прошедшей жизни за спиной, непроницаемый мрак впереди. Что ждет всех – меня, ее. Отважная вдова превращается в подобие трупа, лежащего в просторной кровати. Безграничность желания. Что еще? Осталось лишь несколько часов, которые мне надо провести с ними. Неужели им и в самом деле будет чего-то жаль? И они о чем-то пожалеют. Чего им будет жаль, чего не хватать? Неужели тебя? А вдруг…
– Папа, хватит.
– Еще чуть-чуть. Разве ты не видишь, как все это нравится ей?
Хор кибуцников поет еще громче, женские голоса вздымаются, исполняя израильскую ораторию. Кедми тоже входит теперь в ванную и с нескрываемым изумлением наблюдает за тем, как я купаю ребенка. Мне кажется даже, что он потрясен.
– Мы будем скучать по тебе, папа. Как же мы обойдемся завтра без тебя?
– Минуту назад я сказала ему то же самое.
Он снова выходит, гасит повсюду свет, оставляя нас во влажной, насыщенной паром темноте. Яэль расстилает огромное красное полотенце.
– Теперь достаточно, папа.
Я вылавливаю малышку из воды и передаю в руки Яэли, которая ловко заворачивает ее в полотенце. Звенит входной звонок. Кто-то входит в квартиру. Гадди стучит в дверь ванной:
– Они приехали из Иерусалима!
Внезапно меня охватывает сильнейшее желание как можно скорее увидеть их обоих, и я, полуодетый, выскакиваю им навстречу в коридор, роняя капли воды, стекающей с рук. Робко, словно незнакомцы, они стоят возле открытой настежь входной двери в треугольнике света. Она коротко, по-мальчишески острижена, одета старомодно, есть в ней что-то пуританское теперь. Может, это впечатление возникает от ее строгого и длинного платья, черного платья со строгим белым воротничком, мне она кажется еще более высокой, чем обычно (но в этом виноваты, скорее всего, ее черные туфли на высоких каблуках). В одной руке у нее изящная маленькая и тоже черная кожаная сумочка, в другой она держит букетик цветов, и – боже! – как она хороша! Она напоминает мне высокую черную свечу. Выглядит она несколько старше с момента нашей последней встречи. Лицо ее кажется слишком бледным. Болтая о чем-то с Кедми, она время от времени бросает странный взгляд в мою сторону. С ней явно что-то произошло, думаю я, не в силах налюбоваться ее фантастической, яркой и какой-то тревожащей красотой, особенно ее удлиненным лицом с огромными сверкающими глазами, которые кажутся еще более глубокими из-за высоко посаженных скул. То и дело она опускает густые ресницы и смотрит в пол. Мне показалось, что Кедми нервничает, перехватывая ее адресованные мне взгляды. О чем они говорят? И куда подевался Аси? Едва удостоив меня взглядом, он, не останавливаясь, скрылся в гостиной, где он мог налюбоваться вдоволь неубранной постелью Цви, но я не сомневался, что найду его возле книжных полок. Нет. Сердце в таких случаях никогда не обманывало меня – что-то стряслось, что-то здесь было неладно. Но сердце, восхищенное ее красотой, все же билось у меня в груди так же сильно, как и тогда, в Иерусалиме, когда я увидел ее в первый раз возле такси.
– Как я рад видеть вас, ребята. Мы скоро закончим купать Ракефет. Я совершенно мокрый.
Кедми, неуклюже стоявший посреди комнаты, прищурившись, смотрел на них.
– Он сейчас зарабатывает у нас профессиональный стаж няньки.
Они принужденно улыбнулись.
– Давайте садитесь. Где попало. Кавардак, который вы видите, – это фирменный знак семьи Каминка. – И, подавая пример, Кедми первым опустился в просторное кресло.
И Дина, и Аси вопросительно посмотрели на меня, не произнося ни слова и не глядя друг на друга, словно между ними пролегла пропасть. Мне следовало отправиться в мою комнату для дальнейших сборов, но я вместо того шагнул к ним – так и не одевшись, а затем обнял и поцеловал Аси, который тут же отстранился от меня.
– Да не бойся ты… Это всего лишь вода. А вообще – спасибо, что заехали, – пробормотал я с чувством.
Он не ответил. Я повернулся к ней, собираясь обнять ее тоже, но она уклонилась, очевидно смущенная моей наготой. Улыбнувшись, я наклонился, чтобы понюхать букетик, который она держала, но она только крепче сжала его в кулаке, протянув мне свою прохладную руку.
– Как поживаете? – спросила она.
– Как видите… Я здесь последний день… А как прошел ваш седер?
– Как и положено, – встрял Аси, бросив на нас пронзительный взгляд.
Она даже глазом не моргнула.
– А как поживают твои симпатичнейшие родители?
– Хорошо, спасибо.
– Не хотел бы уехать, не попрощавшись с ними. Наверное, удобнее всего позвонить им прямо сейчас.
– Они будут очень рады. Но не сейчас… Лучше позже вечером. Они не отвечают на звонки во время религиозных праздников.
– Да, да. Конечно. Вечером, значит. Я должен был об этом помнить.
И тут я положил свою руку на ее хрупкое плечо.
Яэль появилась из ванной с малышкой, вымытой и причесанной, и буквально упакованной в белоснежный подгузник. Коротко вскрикнув от восторга, Дина всунула в руки Яэли цветы, взамен получив Ракефет, и прижала к себе сверток грациозным движением. В эту минуту в комнату вступил Цви, был он свежевыбрит и одет как франт. Оглядевшись, он кивнул Дине.
– Было еще темно, когда вы уезжали из Иерусалима? – спросил он, после чего подошел к своему знаменитому уже младшему брату и тепло его обнял; Аси, сделав неловкую попытку освободиться от объятия, вопросительно посмотрел на Яэль. Затем, подойдя к Яэли, Цви с неожиданной застенчивостью прижался к ней как-то по-сыновьи и нежно ее поцеловал. Я испытал острый укол зависти. На какое-то время мы все словно потеряли дар речи. Кедми, развалясь в кресле, насмешливо поглядывал на нас. А затем пробурчал так, что каждому было слышно:
– Ну, давайте, давайте… Не стесняйтесь. Целуйте друг друга, проклятые русские большевики… А нацеловавшись, доставайте свои ножи и режьте друг друга на кусочки. И отправляйтесь к самовару пить чай…
Я был так ошеломлен, что буквально застыл на месте. Что за гнусный характер! Как у него только язык повернулся сказать такое. Но похоже, что остальные просто его не расслышали. А у меня все поплыло перед глазами. Холодный ветер, ворвавшись через окно, заставил меня задрожать. Я поспешил к себе в комнату и вытащил сложенный белый свитер из саквояжа. Пальцы мои нащупали часы. Они все еще показывали восемь, похоже, они остановились. В раздумье я подержал их некоторое время, а затем положил обратно. Снова просмотрел свой паспорт и билет и нашел доверенность для Аси, которую сложил и сунул в карман брюк. Внезапно у меня закружилась голова. Как пережить все это?
Пропасть между ними оставалась все той же, в глазах моих стояли слезы, тень моя куда-то сместилась, вытащенный было из-под кровати саквояж я затолкал обратно и из последних сил убрал беспорядок вокруг меня. Еще несколько часов, еще чуть-чуть. Держись. Улыбайся. Они собрались специально, чтобы порадовать тебя. По-прежнему ты в их глазах – глава семьи. Несмотря ни на что. А ты боялся позора. Ты видишь – твое исчезновение из их жизни – это не эпизод. Это событие. Может быть, даже катастрофа. Ожидали ли они такого поворота? Похоже, что нет. Похоже, что в их жизни разрыв ваших отношений разбивает им сердца. А ты видишь нагую еврейскую вдову с гладкой, без единой волосинки, кожей, простершуюся на постели. Образец фригидности. И себя ты видишь – потеряв голову от страсти, ты целуешь каждую клеточку ее тела, испытывая одновременно невообразимую нежность и неутолимую похоть. Но кто мог бы предположить, что в результате всего этого появится ребенок?
Гадди входит в комнату:
– Мама спрашивает, не хочешь ли ты чаю?
– Конечно, я выпью, старина. Пойдем вместе. – И я прижимаю его к себе, большого, неуклюжего. – Иди к Аси и покажи ему своих шелковичных червей и коконы. Когда он был в твоем возрасте, он тоже очень любил ставить опыты.
Я вытер свои слезы, надел рубашку и галстук, причесался и вышел к остальным. Яэль и Дина были в детской комнате с малышкой. Цви убирал постель под наблюдением Кедми. Аси стоял в стороне на балконе, стоял, курил и любовался открывающимся видом, весь погруженный в мрачные свои раздумья. Может быть, он вспоминал, как сам себе нанес удар там, в маленькой библиотеке? Или о том, как бросил в воздух соглашение о разводе? Что с ним происходит? Что с ним не так? Сломленный, опустошенный, не выдержавший испытания ее красотой. Гадди пытается привлечь его внимание своей коробкой с червями и коконами. Аси машинально кивает и глядит на меня. Я подхожу к нему.
– Жаль, что мы так и не сумели организовать наше время, чтобы побыть вдвоем, правда? Этот чертов такой короткий визит… Это он во всем виноват…
– Ну так как все там было?
– Где?
– Там, где вы были.
– Лучше, чем можно было ожидать. Но я ведь уже все рассказал тебе по телефону. Сама церемония оказалась предельно короткой.
– Так или иначе, все закончилось.
– Да.
– А мама?
– Что ты имеешь в виду?
– С ней тоже все было в порядке?
– В каком смысле? Да…
– Она вела себя тихо?
– Вполне. Почему бы ей вести себя иначе?
– Яэль сказала мне, что один из рабби доставил всем неприятности.
– Да… Но он не слишком в этом преуспел. Молодой фанатик… К счастью, рабби Машаш призвал его к порядку.
– А она… Что, она и на самом деле хотела, чтобы ее выписали? Врачи на это готовы пойти?
В его голосе явно прозвучала тревога.
– Я не знаю. Возможно. Во всяком случае, ее лечащий врач сказал, что не видит никаких противопоказаний.
– Но если так… Куда же она пойдет? – Он не дает мне договорить, и я слышу его частое дыхание, словно у него одышка.
– Я на самом деле не знаю, Аси. Она может идти куда захочет. Теперь она ваша. Целиком. Ваша, а не моя.
– Что… Никаких даже намеков о ее планах?
– Нет. Я не стал выспрашивать ее о них.
– Не говорила она что-либо об Иерусалиме?
– Об Иерусалиме?
– Ладно, забыли…
Он и в самом деле ненавидел ее.
– Ты ведь знаешь, что я… словом, я должен передать тебе доверенность, чтобы ты мог официально оформить передачу ей моей доли собственности на квартиру.
– А почему ты решил доверить это мне? Почему не Цви… или Кедми?
– Потому что я хочу, чтобы это сделал именно ты. Цви может прийти в голову все что угодно, вплоть до… Ты знаешь, каков он, чуть дело коснется денег. А что до Кедми… Это не его бизнес. Я хочу, чтобы именно ты позаботился обо всем. Это не займет у тебя слишком много времени.
Он слушает меня, не произнося ни слова.
– Ну, а как вообще идут твои дела, Аси? Как поживает твоя Вера Засулич?
Захваченный врасплох, он пошел пятнами:
– При чем здесь Вера Засулич?
– Я как раз думал о ней. Твои студенты… Я вспомнил о тех нескольких минутах твоей лекции, которую мне довелось услышать… Я был просто в восторге от того, как ты это делал… Как излагал свои идеи… Я говорю совершенно честно. Все это меня просто потрясло. Пожалуйста, не забудь прислать мне свои публикации. Обещаю тебе ответить… Мне просто стыдно, что тогда я не… До сих пор не могу себе простить…
– Забудь это…
Цви опять появился в комнате, дружески болтая с Диной. Кедми демонстративно продолжал сидеть в кресле с газетой, насмешливые его маленькие глазки поглядывали в разные стороны, выискивая цель для очередной реплики.
Яэль готовила чай. Становилось все светлее, но теплее не стало. Похоже, что длинные портьеры задерживали солнечные лучи, но, так или иначе, день набирал силу. В отличие от весны. Сквозь окна, открывавшие прекрасный вид на белые домики, окаймленные зелеными рощицами, доносился приглушенный шум невидимой автодороги с ее потоком машин. Яэль расставила чайные чашки, тяжелое лицо ее раскраснелось от удовольствия, может быть, еще и потому, что накрывать на стол ей помогала Дина с ее удивительной грациозностью. Я улыбался, глядя на нее, и почему-то ожидал, что она захочет со мной поговорить, хотя до настоящей минуты она скорее избегала общения со мной, не исключено, что оставив его на потом. Гадди принес поднос, полный горячих лепешек, пит… Аси расспрашивал Кедми о новостях и получал развернутые объяснения. Цви разразился потоком сомнительных острот, а я разглядывал свое потомство, волею случая собравшееся вместе – и вместе со мной. А затем перевел свой взгляд на окно и в последний, по-видимому, раз увидел вдалеке, у самой границы с Ливаном, вырисовавшийся с поразительной четкостью высокий белый утес Рош-а-Никра.
Что ж… Родина навсегда останется родиной. Именно отсюда начинается сладкий сердцу горизонт. Здесь возникают звуки, которые я слышу, где бы я ни находился, – тонкий посвист ветра, шум ленивого прибоя, щебет птиц. Моя страна… которую я покидаю. Моя семья, которую… которая… Вот сидит она вокруг меня… Безостановочно и даже самозабвенно как-то все пьют чай. Быстро исчезают с подноса горячие лепешки. Прозрачен мерцающий свет. Обрывки разговоров. Цви вспоминает о каком-то из своих недавних приключений. Я поражаюсь красоте его речи – даже не верится, что это он. Я думаю без конца все о том же – каким они увидели меня в этот раз. Быть может, последний. Разочарованы ли они? Или они отказались наконец от роли моих судей? Вот я сижу среди них – старый, потерпевший поражение отец. Странный тип. Неудачник. Кедми продолжает просвещать всех в отношении политики. Я вижу, как в глазах Аси загорается полемический огонек. Цинизм Кедми вот-вот подвергнется контратаке. Это не шутки. Исторические примеры, относящиеся к различным периодам, – такие аргументы даже разговорчивому юристу опровергнуть будет непросто. Аси говорит отточенными фразами. Что ж, говорить мои сыновья научились. Я научил их. Много это или мало – но это так. Научил их я. Боюсь, что только этому. Ах, вот еще: точно, как и я, Цви держит чашку с чаем двумя пальцами – большим и указательным.
Мои дальнейшие мысли по этому поводу прерывает звонок в дверь.
Быстрее всех отзывается на это Гадди. Вернувшись, он говорит, обращаясь к Цви:
– Там кто-то спрашивает тебя…
Цви никак не реагирует и не делает попытки даже встать со стула. Он закрывает глаза и говорит безнадежным голосом:
– Что я могу поделать? Скажи ему, пусть войдет.
Кальдерон входит нерешительно, не поднимая на нас взгляда. Я быстро поднимаюсь, чтобы взять его под защиту, из страха, что Кедми не упустит случая блеснуть одной из своих грязных шуточек. Но когда я начинаю по очереди представлять ему членов нашей семьи, оказывается, что он знает всех, и, робко протягивая руку, обращается ко всем по имени.
– Да, да, я знаю… – бормочет он. – Рад встретить вас, госпожа Каминка. Вы ведь добирались сюда из Иерусалима, не так ли… и вы тоже, доктор Каминка… Госпожа и господин Кедми, как поживаете? – После чего, потрепав Гадди по волосам, вручает ему, достав из кармана, плитку шоколада. – Рад видеть вас всех. – Но взгляд его избегает Цви. – Я вижу, что здесь собрались все, кроме Ракефет. Где же она?
– В постели, – улыбаясь, отвечает Яэль.
– Ну, – говорю я, понизив голос. – Удалось ли вам немного помолиться?
– Да. Спасибо. К сожалению, я успел попасть только на молитву «мусаф».
Достав пачку сигарет, он предлагает закурить всем желающим, украдкой бросив взгляд на Цви.
– Хотите чаю? Или кофе?
– Нет, ничего, благодарю вас. Я заглянул только на минуту. Погода снова меняется. Когда улетает ваш самолет?
Яэль встает и, нагнувшись к Кедми, что-то шепчет ему на ухо, но он, уютно устроившись в кресле, не отвечает ей, явно наслаждаясь ситуацией. Но Яэль настойчива, и он взрывается:
– Кто сказал тебе, что нам нужно что-то купить? Все, что нужно, у нас есть дома.
Яэль тормошит его за рукав, пытаясь поднять его на ноги.
– Может, я могу чем-то помочь, Яэль? – спрашиваю я. – Если нужна рекомендация, ее, надеюсь, дадут мне и Аси и Дина.
Дина тоже предлагает свою помощь. Но Яэль, похоже, хочет получить ее только от Кедми, который, в свою очередь, никак не высказывает желания покинуть кресло.
– Поднимайся!
– Отстань от него, – говорит Аси. – Мы поедим то, что есть в доме. Мы вовсе не умираем с голоду.
Кальдерон буквально вскакивает на ноги:
– Прошу прощения… Не разрешите ли мне пригласить всех вас в ресторан? Я знаю один… Здесь поблизости. За мой счет, разумеется. Очень милое заведение… отличная еда, прекрасный сад… посреди леса… пожалуйста…
Яэль предложение отклоняет:
– Спасибо. Это очень мило. Но есть мы будем здесь.
Кедми, наоборот, идея приводит в восторг.
– А что… На самом деле, чем плохо поесть на свежем воздухе? Почему бы и нет?..
– Разрешите мне все это организовать, – настаивает воспрянувший духом Кальдерон. – Для меня такое удовольствие пригласить всех вас. Так сказать, прощальный ужин для семьи профессора Каминки… при одном условии – вы позволите мне оплатить весь счет.
Яэль не в силах сдержать улыбку. Этот Кальдерон… он такой смешной. Но…
– Проблема не в этом, – говорит она. – Я уже приготовила все, что нужно, здесь… и, разумеется, вас я приглашаю тоже, – добавляет она, обращаясь непосредственно к Кальдерону, не оставляя при этом попыток разлучить Кедми с его креслом. А Кальдерон, воодушевленный своей идеей, пытается сейчас перетащить на свою сторону Цви, который ухмыляется, глядя из своего угла на Яэль.
– Меня эта проблема вообще не волнует, – говорит он. – Делайте что хотите. Одно могу гарантировать – если Рафаэль говорит, что это хороший ресторан – то так оно и есть. Могу за это поручиться. И для него стоимость – не проблема.
– Это очень и очень известный ресторан, – окрыленно подхватывает Кальдерон. – Обслуживание в саду… высший уровень… настоящая европейская кухня… Наш банк часто проводит там приемы, и меня там знают.
Но Яэль ничего не желает слышать:
– Нет. Мы будем есть дома. Здесь. Все уже готово.
Но Кальдерон не отступает. Еще немного, и с ним случится истерика.
– Это прекрасное место… В саду… Кругом деревья… тихий уголок… никто не будет нас беспокоить… Зачем вам взваливать на себя все эти хлопоты, госпожа Кедми… Это последний день, который вы проводите с вашим отцом… Пусть это будет моим подарком… Вы доставите мне огромную радость разделить с вашей семьей вечернюю эту трапезу. А ваш папа…
Его необъяснимое возбуждение и это вырвавшееся у него «ваш папа» заставили всех почувствовать какую-то неловкость. Всех – кроме Кедми. Он тоже выглядел несколько удивленным, причем можно было подумать, глядя на него, что он с трудом удерживается от смеха. С этим надо было кончать. И, поднявшись с места, я подошел к Яэли, обнял ее за плечи, заметив при этом, что тень моя перекрыла ограждение на балконе, и сказал так мягко, как только мог:
– О чем спор, Яэль, милая… А почему бы нам и в самом деле не выйти из квартиры на свежий воздух? По-моему, у господина Кальдерона возникла совсем неплохая идея.
Я говорю это и смотрю на Дину. Она сидит в своем углу, вся в черном, неприступно холодная, ее здесь нет, она в иных мирах, ее невероятной красоты лицо заставляет сжиматься мое сердце. Смотри, смотри. Это все – твои дети. Нож рассекает утро на неравные части. Какие заботы мучают каждого из нас? Если мучают. Как вдруг притихли все – даже Цви. Что произошло?
Узел разрубает Кедми:
– А что? Совсем недурная идея! Что это мы? Неужели лучше возиться с кастрюлями в кухне с утра до вечера? А приготовленная еда – не пропадет. Обещаю – мы с Гадди выскребем все до дна не позднее чем завтра. А кроме того, у всех осталось считанное время напоследок пообщаться с отцом.
Яэль смущена. Она не привыкла в подобных ситуациях вступать в бой. А потому, повернувшись к Кальдерону, она говорит уже более мирно:
– С вашей стороны, господин Кальдерон, это действительно очень мило, но ведь мы все уже здесь. А когда вы присоединитесь к нам…
Мне видно было, как он буквально борется с собой.
– Мне так хотелось бы присоединиться к вам… ко всем вам, но разве вы не видите, что я не могу, не могу… из-за хлеба. И не только потому, что закон Торы у меня… а у вас… Нет, простите, меня это не касается… Это ваше право… у нас свободная страна… Только мне нельзя сидеть за этим столом. Как и, возможно, госпоже Каминке тоже… Я не настолько наивен, чтобы думать… что что-то со мною стрясется… Вот, хоть это и запрещено Торой, я касаюсь этого, – и с этими словами он кончиками пальцев поднял питу с подноса и тут же осторожно опустил ее обратно. – Вы все видели, что меня при этом не поразила молния… Но тем не менее…
– Яэль! – не выдержал я. – Ну почему бы нам на самом деле не пойти. Что в этом плохого?
– А дети?
– Мы возьмем их с собой… конечно. Так мы и сделаем, – воскликнул Кальдерон. – Для них это место словно специально создано… Там есть детская площадка и аттракционы… и многое, что можно просто заказать. Я готов держать их на коленях…
Кедми положил конец спорам:
– Мы идем. Все.
Но Кальдерон теперь смотрел на Цви.
– Может быть, на самом деле я вам всем мешаю?
Он стоял и смотрел на Цви, униженный, жалкий… Но Цви не проронил ни слова. Тогда Кедми навис над ним всей своей тушей, затолкал в угол и прорычал, как рассвирепевший лев:
– Ну а теперь что стряслось с тобой? Нет, нет… Да не пугайся ты… Я не подозреваю ничего такого… Может, ты скажешь мне, на какой банк ты сейчас нацелился? Вспомни. Сколько тебе лет сейчас… и сколько было, когда ты только начал…
И запомни этот день. Может быть, именно он принесет тебе удачу.
Ресторан и правда оказался приятным – высоко, едва ли не на вершине Кармеля, в маленьком сосновом лесочке, прорезанном узкой тропой, посыпанной гравием, который поскрипывал под ногами, небольшой ресторан в деревенском стиле, в отличном состоянии, излюбленное, похоже, заведение для любителей тишины, покоя и вида на море, особенно для пенсионеров, которые могли здесь в дружелюбной и дружеской обстановке предаваться воспоминаниям о былом за кружкой пива или бокалом вина местных сортов – терпкого и недорогого вина Галилеи. Вот и сейчас за столиками, уютно спрятавшимися под деревьями, сидят пары – две более чем пожилые дамы в ярких цветастых платьях и два аккуратных старичка в темных костюмах времен, очевидно, кайзера Вильгельма. Это «йеки», немецкие евреи, методичные и дотошные – едва ли не первая алия начала века. Здесь, в пансионе для престарелых, частью которого является этот ресторан, они и встречают закат своей жизни. Все здание отделано светлой вагонкой, выглядит, может, несколько легкомысленно для плохой погоды, но скрашивает эту легковесность идеальная чистота. Старики не без интереса, явно дружелюбно смотрят на нашу компанию, официанты-арабы, улыбаясь, уже спешат предложить нам столики по нашему вкусу. Нам предстоит решить непростой вопрос – предпочитаем ли мы расположиться в саду или пойдем внутрь. Первое предпочтительнее, но не будет ли снаружи слишком холодно для Ракефет?
Кальдерон исчезает внутри – он должен отыскать управляющего, который, возникнув из ниоткуда, тут же отдает необходимые распоряжения.
– Давайте попробуем устроиться снаружи, – предлагает он. – Для начала. А если станет слишком прохладно, вы сможете в любую минуту перейти внутрь.
И действительно, небо начинает хмуриться, становясь из синего серым, – вслед за этим холоднее становится и воздух. Из ресторана появляются две тощие, в бело-черных пятнах собаки, скорее всего близнецы; они не спеша обходят нас, слабо пошевеливая хвостами, опустив головы, они принюхиваются к нам и, похоже, остаются довольными, ибо позволяют погладить себя. Тем временем все стулья оказываются расставленными, а на стол легла исключительной белизны скатерть. Кальдерон носится туда-сюда. Аси, склонившись над одним из псов, легонько почесывает ему голову.
– Аси, – спрашиваю я, вспомнив о другом псе, – а что Рацио… Он-таки вернулся?
Поскольку Аси никак не реагирует на мой вопрос, я задаю его Цви.
– Почему ты настаиваешь на том, что его зовут Рацио? А, папа? Его зовут Горацио. Нет. Я был там вчера. Его не было уже четыре дня. Но в конце концов он вернется. Как обычно, он всегда возвращался…
– А ты… ты полный ублюдок, – бросает Аси прямо в лицо Кедми. – Почему ты так обошелся с ним? Чего ты хотел этим добиться?
Кедми остолбенел.
– Этот пес… ему самое место в психушке. Самое место. От него запросто можно рехнуться. Похоже, что, кроме заботы о нем, других проблем у вас больше нет?
– Но что ты против него имеешь?
– Я? Имею? – лицемерно удивляется Кедми – А что, собственно, я сделал? Я, что ли, виноват, что он пустился бежать у меня под колесами? Как будто там не было других машин, под чьи колеса он мог попасть.
– А ведь и на самом деле неплохо здесь, – торопливо переводит разговор обеспокоенный Кальдерон. – Признайтесь, господин Кедми, что здесь совсем неплохо.
– Да уж… – с горькой улыбкой соглашается Кедми. – Здесь замечательно…
– Приятно видеть всю семью во главе с отцом, – продолжает Кальдерон, подвигая мне стул. – Садитесь, профессор Каминка. Отец семейства должен сидеть во главе стола. И решать, где и в каком порядке сидеть остальным.
– Девочки, – говорю я, обращаясь к Дине и Яэли. – Садитесь рядом со мной. И ты, Гадди, тоже придвинься ко мне поближе.
Цви слоняется по саду, то исчезая, то появляясь в тени деревьев, при этом он дружелюбно раскланивается со стариками, с большим интересом разглядывающими нас. Кальдерон устремляется к нему, словно желая что-то сообщить; на самом деле, сжигаемый своей любовью, он просто хочет прикоснуться к Цви и пытается взять его за рукав, но Цви стряхивает ищущую руку, даже не удостоив Кальдерона взглядом.
Два официанта накрывают на стол: серебристые обеденные приборы, тарелки, бокалы. Работая, они улыбаются, глядя на малышку, которую устроили за соседним столом, посадив в огромную плетеную корзину из-под мацы; в то же время они краем глаза то и дело поглядывают на Дину, ошеломленные ее красотой, и с утроенным усердием стараются обслужить ее. Аси поднимается и уходит в глубь сада, словно ему нужно на что-то посмотреть. Вернувшись, он садится за дальний край стола. Кедми тоже начинает устраиваться поудобнее. Последним к нам присоединяется Цви. Он поднимает свой нож и осторожно пробует его лезвие кончиками пальцев, потом испытующе смотрит на меня, прежде чем опуститься на стул.
– Когда я думаю, папа, – раздельно произносит он, – когда я думаю о том, что уже через несколько часов тебя с нами не будет… да, все оставшееся время мы будем по тебе скучать…
Внезапно я чувствую, что меня мутит, но я улыбаюсь ему, а потом поворачиваюсь к Дине, которая – тонкая и непорочная – сидит рядом со мной, распространяя терпкий аромат, исходящий от ее строгого черного платья. Она занята малышкой, сидящей чуть поодаль в своей корзине.
– Что-то не так? – спрашиваю я ее негромко, бросая взгляд на Аси, одиноко сидящего за дальним концом стола. Меня внезапно пронзает мысль, что они перестали разговаривать друг с другом.
– Может, ты скажешь мне, в чем дело? – спрашиваю я опять.
Ее улыбка ослепительна.
– Нет, – говорит она. – Нет. Все хорошо… Кальдерон, здесь по-настоящему прелестно. У вас хороший вкус. Спасибо.
– Я же говорил вам. Правда? Я же говорил. Вы здесь как в центре Европы.
Чуть порозовев и глядя на меня блестящими своими глазами, Дина, понизив голос, говорит, чуть наклонившись ко мне:
– Чуть позже… сможете уделить мне немного времени?
– Что за вопрос! Разумеется. Но… для чего?
– Мне хочется прочитать вам кое-что.
– Прочитать мне?.. Ах да. Что-нибудь свое?
Она кивает.
– Конечно, конечно. Буду очень рад. Где хочешь и когда.
– Но это… может быть долго…
– Забудь об этом. Время найдется. – И я сжимаю ее руку. – Я так рад, что вы сегодня приехали. Весь этот визит превратился для меня в один непрерывный сон. Тот вечер с вами, в Иерусалиме, сейчас кажется мне случившимся сто лет назад… Но скажи… у вас сейчас все в порядке?
– Да, – говорит она, все так же напряженно.
А пока что стол, как по волшебству, заполняется едой – плетеными корзиночками с мацой, бутылками вина, приправами, тарелочками со свежими овощами. Официанты открывают бутылки и бесшумно разносят нам папки с меню.
Кедми мгновенно пробегает их.
– Неплохо, – бормочет он, – совсем неплохо. Цены просто божеские.
– А что я говорил? – ликует Кальдерон.
Появляется старший официант, тяжеловесный и уверенный в себе араб средних лет, и останавливается со мною рядом.
– Добрый день, пожалуйста… Что господа желают заказать? Бьюсь об заклад, здесь отмечается день рождения дедушки…
– Считай, что ты проиграл, – мгновенно реагирует Кедми. – На самом деле семья празднует развод.
Старший официант недоверчиво хмыкает.
– Дедушка отваливает из Израиля. Навсегда. А ты разве этому не рад? Ты должен радоваться – одним евреем меньше.
Бывают люди, которые внезапно, вот так, сходят с ума. С ними никогда нельзя знать, когда случится следующий приступ. Кальдерон ошеломлен и испуган. Яэль берет своего мужа за руку. На этот раз он зашел слишком далеко. Но официанту все еще удается сохранить профессиональное радушие.
– Конечно… Я уверен, что господин пошутил… Зачем покидать Израиль? Что в нем такого плохого?
– Может быть, ничего плохого здесь нет. Для вас, – бросает, не раздумывая, Кедми, не меняясь в лице. – Ведь вы надеетесь рано или поздно захватить в этой стране все…
Старший официант наконец перестает улыбаться.
– Кедми! Заткнись, наконец! – в один голос кричат Аси и Цви. – Этого дурака надо остановить. Ну и тип!
– Ну, раз так… – Кедми, похоже, вспомнил, где они и зачем сюда пришли. Не поднимая глаз на застывшего у стола официанта, он, как ни в чем не бывало, говорит: – Ну, раз так… Может, мы наконец что-нибудь закажем?
Вздох облегчения. Мы начинаем совещаться, что заказать.
– Все, что хотите, – заявляет отошедший от испуга Кальдерон. – Рекомендую начать с закусок. Всем. Даже Гадди. И даже малышке. Прошу вас, не стесняйтесь. Я так рад. – Он просит… в голосе его мольба. Может быть, он чего-то недопонимает? Ведь он платит за все. – Я вас очень прошу…
– Остынь, Рафаэль, – резко бросает Цви.
– Я…
– Я сказал – заткнись!
И Кальдерон затыкается.
А еда-то… еда очень вкусная. На столе – куриные грудки, консоме, паштет из печенки, отварные овощи, огромные белые картофелины в грибном соусе. Аси и Цви на своем конце стола что-то бурно обсуждают, а Кальдерон, сидя почти вплотную к своему кумиру, что-то отвечает Кедми, который, набив рот, успевает тем не менее задавать вопросы, касающиеся работы банков. Вино сухое и терпкое. Свет, то появляясь, то пропадая, ложится полосами на яства и на лица. Ракефет непрерывно вертится, сидя на высоком кресле для малышей, держа кусок мацы в одной руке и засовывая другой такой же кусок в рот; при этом она ухитряется еще что-то напевать. Собаки валяются, растянувшись на гравии дорожки, по которой обитатели пансиона для престарелых медленно прогуливаются вдоль бордюра. У них – заслуженные ими бессрочные каникулы. Двое джентльменов, современников Исхода из Египта, выгуливают маленькую, ярко одетую старушку, ведя с ней возвышенную беседу. Но гуляют не все – большинство пожилых постояльцев оккупировали столики, то и дело подзывая официантов, которые, как загнанные лошади, носятся взад и вперед, виртуозно удерживая на подносах маленькие рюмочки со шнапсом. На бегу они обмениваются краткими репликами по-арабски, не забывая все более и более дружелюбно подбегать и к нам. Спокойно сидевшая рядом со мною Яэль с аппетитом опустошала свою тарелку. Гадди показал, что он уже вполне может позаботиться о себе сам, не слишком заботясь о том, чем именно набит его рот. Дул свежий ветер, раскачивая деревья. Яэль рассказывала Дине о Ракефет. Дину интересовало абсолютно все, а затем, не прерывая разговора, она отработанным движением достала маленький блокнот и, почти не глядя, сделала в нем какую-то запись. Я тронул ее за руку и сказал, подмигнув:
– Ну, значит, маленький наш друг все еще с тобой.
Она обернулась и дружески сверкнула ослепительной своей улыбкой:
– Он всегда со мной.
Вино ударило мне в голову. Кедми заключил мир со старшим официантом и теперь обменивался с ним шутками, терзая его своим арабским. Мне до смерти хотелось понять, о чем на другом конце стола толкуют Аси и Цви. Кедми непрерывно нахваливал искусство здешнего повара, накладывая себе на тарелку целые горы еды; от непрерывных усилий его лицо все больше краснело, но он, похоже, и не думал сдаваться. Глаза Кальдерона напоминали двух мышек, которые шмыгают туда и сюда; он командовал парадом, непрерывно делая замечания обслуживавшим нас официантам, в то же время успевая записывать для Кедми названия подававшихся на стол новых и новых блюд. Тем временем Аси и Цви закурили по сигарете.
– Никакого курева во время еды, ребята, – крикнул я им.
– А ты угадай с трех раз, у кого мы этому научились, – захохотал наглый мальчишка.
– Но о чем вы там толкуете все это время? Говорите погромче, я тоже хотел бы послушать.
– Об истории, – снова рассмеялся Цви в своем обычном вызывающем стиле.
– История? – вопросил Кедми. – А что это такое?
– Все, – ответил Цви. – Во всяком случае, по версии Аси.
– Что ты имеешь в виду, говоря «все»?
– Все сущее… Включая еду, которую мы сейчас поглощаем.
– Ты шутишь? Даже еду? – При этих словах Кедми поднял вилку, на которую был нацеплен огромный кусок мяса, и не без труда засунул ее в рот. – Ум-мм-м, – проурчал он, – какой вкуснющий кусок истории. – Похоже было, что этот парень мог опошлить все что угодно.
– Но если все, что существует, – продолжал настаивать Кальдерон, – это история, то чему же мы можем у нее научиться?
– Ничему… – Кедми был безапелляционен. – Тебе предстоит с этим жить до самой смерти. И глотать ее по кусочкам.
– Но это… – не желая сдаваться, гнул свое Кальдерон, на этот раз обращаясь непосредственно к Аси. – Если это так, то каким образом можно понять… или узнать, что нас ожидает в будущем? Что может произойти? Для того чтобы уже сейчас избежать ошибок? Правильно оценив ситуацию. Возможно ли такое?
Аси слушает внимательно, время от времени кивая головой.
– Тебе действительно это интересно?
– Очень. Я понимаю, что невозможно предупредить то, что должно случиться… Но… как бы это сказать… сделать какую-то прививку против возможных последствий…
– Сделать прививку?
– Ну… пусть это будет попытка разгадать ход будущих событий.
– История учит нас, что катастроф, ожидающих человечество, ни предусмотреть, ни предупредить невозможно.
Я не могу остаться равнодушным.
– О каких катастрофах ты говоришь, Аси?
– О тех, что неизбежно грядут. И перед которыми человечество бессильно.
Дина прервала свой разговор с Яэлью и, обернувшись, посмотрела на Аси, как если бы видела его впервые. В воздухе повисло тревожное молчание. В эту минуту я понял отчетливо, что они давно уже не разговаривают друг с другом ни на какие темы.
Ракефет начинает хныкать. Кальдерон встает, чтобы взять ее на руки, но я опережаю его и беру малышку на руки первым.
– Может кто-нибудь передать мне вон то мясо, – говорит Кедми, лицо его цветом сейчас напоминает свеклу. – Спасибо. Спасибо, Аси. И пожалуйста, перестань портить нам аппетит странными твоими придумками… если можешь. Спасибо.
Усталость обрушивается внезапно. Ощущение такое, что ты сейчас просто рухнешь. По жилам продолжает бродить выпитое вино. Который сейчас час? Я беру тонкую руку Дины и, легонько вывернув ее запястье, бросаю взгляд на изящные золотые часы, на которых буквы иврита заменяют привычные арабские цифры. Сейчас часы показывают «алеф зайн», иначе говоря тридцать пять минут второго. И за тобою, и перед тобой темнота рассечена полосами пурпурных вспышек. Я вижу снег, покрывающий улицы, по которым движутся упрямые снегоочистители. Вижу вечеринку – отмечают развод. Как подобное возможно? Праздник освобождения? Мама, почему так случилось? Ее последние слова, они кровоточат, как рана. В чем я ее разочаровал? Я всегда испытывал перед нею страх, боялся даже тогда, в самые первые годы, когда мы предавались любви. И вот неожиданно их стало двое. Дух слаб. Возможно, я обещал слишком много. Так ли? Слишком многое случилось в столь короткое время. Утро, иссеченное лезвиями света. Мягкое звучание немецкой речи среди деревьев. Что она делает в этот час, в эту минуту, в это исчезающее мгновение? Сидит ли на каменном выступе, идет ли, не глядя под ноги, или сидит, глядя невидящими глазами в книгу? Если она хочет, она может уйти оттуда в любое время. А собака… Горацио, носится где-нибудь по улицам. Если только его не задавило. Ощущение слабой эрекции. Свидетельство о разводе, гет, парящий в воздухе. Конни нагишом на свежем воздухе. Ты значишь для меня больше, чем большинство ценностей. Любых. За моей спиной старший официант доливает вино в мой бокал. Я улыбаюсь ему в ответ с благодарностью, он отвечает мне такой же улыбкой. На мгновение я испытываю желание расстегнуть рубашку и показать ему мой шрам. Цви что-то шепчет на ухо Аси. Кедми, наливаясь кровью, нагибается к ним, чтобы послушать. Гадди безостановочно набивает рот едой… Он ест, ест и ест, сколько можно, почему они не остановят его? Яэль и Дина снова обсуждают что-то свое, понизив голос. И только Кальдерон все время поворачивает в мою сторону свое внезапно постаревшее лицо, желая не то сообщить мне нечто важное, не то услышать.
Я припоминаю нашу ночную встречу.
– Ну, расскажите, что в конце концов случилось с той мышью?
– В конце концов я поймал ее. В мышеловку, которую я принес. Утром мы услышали, как она захлопнулась.
– А потом? Что вы с ней сделали?
– Я подарил ее городу.
– Городу?
– Я оставил ее у входа в один из городских культурных центров. Предоставил им право решить, что с ней потом сделать.
– Ха-ха… Не слабо…
– Надеюсь, что это была не последняя мышь, обитающая в здешних краях. По крайней мере, я слышал об этом.
– То есть ты полагаешь, что это была не последняя мышь?
– Что это за последняя мышь? – спрашивает Гадди.
– Господин Кальдерон обнаружил на кухне мышь и в конце концов поймал ее.
– На чьей кухне?
– В моей и нашей бабушки старой квартире в Тель-Авиве.
– Но она уже больше не твоя. Ты ведь отказался от своей части.
– Да, я слышал об этом, – вклинился Кальдерон. – Неожиданное, я бы даже сказал драматическое решение…
– Драматическое? – Я улыбнулся Кальдерону. – Это интересное определение.
– Одним жестом отказаться таким образом от пяти миллионов…
– Пять миллионов? По-моему, вы сильно преувеличиваете.
– Нет. Боюсь, это полностью соответствует действительности.
– Такое старье? Стоит никак не больше четырех.
– Прошу меня простить, но вы ошибаетесь, – начиная горячиться, говорит Кальдерон. – Дом, может быть, и старый. Но расположение… Лучше не бывает. В самом сердце Тель-Авива. Для вложения в недвижимость – лучшее место во всем городе.
– И все равно – цена не может быть столь высокой, – говорю я.
– И тем не менее это так. Случайно мне довелось узнать, что у Цви уже есть покупатель, готовый заплатить ему столько… И это не значит, что последнее слово уже сказано.
Я почувствовал, как ярость захлестывает меня.
– Что? Цви хочет продать?
Удар был убийственным. Я посмотрел в его сторону. Он сидел, комфортабельно откинувшись на своем стуле, и что-то говорил Аси. На лице его блуждало какое-то подобие улыбки. Разговорчивый парень. Обаятельный сукин сын – когда-то я и сам был таким. Кальдерон сидел, не отрывая от него взгляда. Он еще себя покажет, ловкач. Но у меня уже все позади. Впереди меня ждут закованные в ледяной панцирь озера, над которыми вскоре займется утро.
Внезапно небо потемнело. Несколько сбившихся в клубок туч закрыли солнце. Мы все с тревогой смотрели вверх. Компания стариков-пенсионеров испустила по-немецки радостный вопль, без сомнения вспомнив о родимых краях. А я остаюсь ни с чем, и кровь в моих жилах течет все медленнее. Ничего у меня не осталось, кроме имени на документе о разводе. И я должен буду снова начинать все сначала. Ракефет в этот момент заерзала у меня на коленях. Я попытался – безуспешно – утихомирить ее. На помощь уже поспешила Яэль, которая и забрала у меня малышку, но плач ее от этого стал только громче, и она оттолкнула бутылочку, которую Яэль дала ей. Тогда уже за дело принялась Дина, которая взяла ребенка из рук Яэли и принялась ходить с девочкой по саду, покачивая ее и что-то нашептывая, в то время как обитатели пансионата для престарелых обменивались репликами и пытались помочь советом. Но Ракефет продолжала заходиться в душераздирающем крике. Яэль снова взяла ее к себе, сняв с нее памперс, но плач продолжался с той же силой.
– Яэль, – раздраженно буркнул Кедми, – сделай что-нибудь. – Уйми ее.
Но Ракефет испускает такие звуки, словно в нее вселился злой дух. Гадди, который с самого начала пришел в крайнее возбуждение, не мог усидеть на месте.
– Это точно так было тогда, совсем так же, только тогда я остался с ней совсем один! Теперь видите, что ее невозможно остановить! Вон вас сколько… а тогда я был один!..
Ракефет тем временем продолжала переходить из рук в руки, ключи бренчали у нее под носом, старший официант пытался привлечь ее внимание к принесенным откуда-то старым игрушкам, и даже собаки подошли поближе, пытаясь, очевидно, понять происхождение странного для этих мест звука, но Ракефет даже не взглянула на них. Она надрывалась в крике, и лицо ее из багрового стало синим. Яэль испугалась не на шутку.
– Надо немедленно вернуться домой, – сказала она Кедми.
– Подожди, подожди… А как же заказанный десерт?..
Кальдерон срывается с места и мчится выяснять судьбу десерта, но Ракефет кричит так оглушительно, что он замирает на полпути и смотрит на Яэль, которая, впадая в истерику, кричит на Кедми:
– Десерт! Десерт?! Тебе еще нужен десерт?
Мы все уже на ногах и пробуем успокоить ее:
– Да ничего страшного… Сейчас она успокоится. Надо еще чуть-чуть переждать.
Но Яэль непреклонна:
– Я хочу, чтобы все мы сию же минуту вернулись домой.
Улучив мгновение, я направляюсь к Аси и Цви, оживленно болтающим о чем-то, стоя в стороне.
– Вам обоим не худо было бы встречаться почаще. О чем вы так увлеченно говорите все это время?
– О покушении на царя, – усмехается Цви. – Аси рассказывает мне в деталях, как он был убит. Который по счету он был у них? Ты мне его называл.
– Александр Второй.
Я улыбнулся тоже.
– Ну ладно, – произнес Кедми, сдаваясь. – Двинулись.
– Какая досада, – сказал Кальдерон. – Может, мне нужно было взять ее в машину и немножко покатать? Я таким образом обращался со своими девочками, когда они не хотели засыпать. В таком же возрасте…
– Все… Не надо волноваться. Мы все отправляемся домой.
И Дина с Яэлью занялись тем, что собрали в кучу все вещи маленькой Ракефет.
– Мы в больницу, папа, – сказал Цви. – А ты отправляйся домой и отдохни. Ты очень бледен, а впереди тебя ждет еще долгий перелет. Может быть, мы еще поищем пса, пока мы там будем. Мама скоро уйдет оттуда, и если в это время Горацио вернется, он не найдет ее больше. Он не заслужил того, чтобы мы его там оставили. Ты с нами, Аси?
Аси стоял в нерешительности.
– Отправляйся, – подтолкнул я его. – Отправляйся к ней. Она тебе очень обрадуется.
– Хорошо, папа.
– А что насчет Дины?
– Она останется. Не вижу смысла тащить ее с нами.
– Когда вы собираетесь вернуться?
– Около шести. У нас еще масса времени. Твой вылет состоится не ранее полуночи.
Кальдерон, до сих пор не произнесший ни слова, подал голос:
– Итак… что вы решили?
– Мы собираемся навестить в больнице маму. Вы можете нас довезти?
– Конечно.
– Твоя жена в Тель-Авиве, должно быть, сходит с ума?
Кальдерон горестно закрывает глаза, слабое подобие улыбки кривит его тонкие губы.
– Ну и что? Допустим, что на праздники в кои-то веки я сменил одну семью на другую…
Появляется официант. Он принес счет и, передавая его Кальдерону, что-то шепчет ему.
Кальдерон рассматривает счет.
– Готов принять участие, – говорю я.
– Абсолютно лишнее. Для меня это удовольствие.
Цви смеется:
– Можешь ему верить. Для него это на самом деле удовольствие.
Я гляжу ему прямо в глаза:
– Так ты на самом деле готов продать квартиру?
Он, побледнев, поворачивается к Кальдерону:
– Ты должен обязательно разболтать все на свете? Трепло ты поганое, вот кто ты!
На Кальдерона страшно смотреть.
– Я… Я… нечаянно. Прости меня. Я был уверен, что твой отец уже знает…
– Тебе мало того, что я тебя… Ты хочешь получить еще и все остальное.
– Нет… Я не хочу… Я… подожди минуту… Цви…
– Все. Заткнись! С меня хватит. Ты – жалкий предатель!
Гадди дергает меня за рукав:
– Мы ждем только тебя.
Кедми трубит в свой рог. Надо садиться в машину. Дина и Яэль с малышкой уже сидят внутри. Ракефет все еще кричит. Дина даже не попрощалась с Аси. Двигатель рычит. Я втискиваюсь внутрь.
Ракефет надрывается.
– Что с тобою, Ракефет? Где болит?
Машина, пятясь, выезжает из ворот. Какие-то несколько секунд я могу видеть всю троицу, стоящую поодаль. Аси удерживает Кальдерона, который борется с ним за свое право встать перед Цви на колени.
– Сейчас он упадет, – говорит Гадди.
Который сейчас час?
Внезапно, безо всякого перехода, Ракефет умолкает.
– Точь-в-точь как было тогда, – кричит, не в силах сдержаться, Гадди.
Кедми останавливает машину.
– Сейчас она наконец замолчала. Она просто не хотела, чтобы я получил свой десерт. А ведь там готовили чертовски вкусно. Может быть, вернемся?
– Ради бога, Кедми, – кричит Яэль. – Давай домой.
– Вы тоже называете его Кедми? – удивленно спрашивает Дина.
– Никому не приходит в голову называть меня по имени. Хотя просто сказать «Израэль» было бы вполне достаточно. Тот парень чертовски хорош… Но почему Цви так над ним издевается, а?
– Выкинь это из головы, Кедми, и поехали уже. Подумаешь об этом потом.
Но хорошее настроение Кедми никто не может испортить. Он весело насвистывает, и тень от машины словно бежит за нами наперегонки по обочине тротуара. Улицы пустынны. Тихий праздничный послеполуденный час. Погода снова, похоже, готова измениться, и в воздухе пахнет дождем. Ракефет сидит, соски во рту у нее нет, широко раскрытыми глазами она смотрит прямо перед собой. В глазах этих нет и следа недавних слез.
– Что с ней происходит? – тревожно вопрошает Яэль.
– Ничего особенного.
– А который сейчас час?
– Времени достаточно, Иегуда, – отвечает Кедми, небрежно держа руль, – чтобы вы улетели от нас на другой конец света. Вы вообще счастливчик. Большинству из нас предстоит закончить свой жизненный путь с Бегином…
– Но разве сам ты не голосовал за него? – в недоумении спрашивает Яэль.
– Это абсолютно ни о чем не говорит. – Он разражается смехом, и руки его, лежащие на руле, исполняют какой-то замысловатый танец.
Квартира погружена в полутьму. Ракефет спит, запрокинув голову. Яэль, похоже, несколько успокоилась.
– Чего она хотела? – размышляет она вслух. – Что с ней вообще происходит? – И с этим она укладывает малышку в постель. Гадди уходит в детскую и тоже ложится, он лежит на спине, положив одну руку на грудь. Вся квартира кажется неопрятной. Грязные чашки для чая. Брошенная на пол открытая сумка Цви. Кедми подходит к холодильнику и достает из него большую плитку шоколада.
– Кто хочет? – предлагает он. – Сладкое к сладкому.
– Мы с Диной побудем пока в моей комнате, – говорю я Яэли. – Она хочет показать мне кое-что.
Яэль и Кедми исчезают в своей спальне. Дина усаживается на мою кровать, сбросив туфли и поджав под себя ноги, отливающие золотом в ее шелковых чулках. Она сидит, выпрямившись, – это видно даже по тени на стене. У меня голова кружится от выпитого вина. Она достает толстую пачку бумаги, исписанную убористым почерком, из своей сумки и, вдруг зардевшись, смотрит на меня.
– Вы будете первым, – мягко говорит она.
– Каким образом? Разве Аси не читал это?
– Нет.
– Нет?.. Но почему?
Она неопределенно пожимает плечами. Странная девушка. Сейчас она похожа на черную свечу, горящую синеватым пламенем.
– Скажи… между вами… что-то стряслось?
– Что заставляет вас так думать?
– Я чувствую это… нечто вроде вооруженного перемирия между вами. За целый день вы не обменялись даже словом.
– Верно. Мы давно уже не злоупотребляем разговорами.
– Но почему?
– Так получилось.
– Могу ли я хоть как-то вам помочь?
– Боюсь, что в этом случае – нет.
– Но сколько… сколько времени вы уже не разговариваете?
– Со среды.
– Прошлой недели?
– Да.
– Я не удивлюсь, если у него все это время настроение не из лучших. После среды. Он ведь посетил вместе со мной в тот день больницу. Там, поверь мне, было совсем непросто. И его вины в этом не было.
– Да. Я знаю. Он рассказал мне, что прямо перед вами поранил себе лицо.
– Он тебе об этом рассказал?
– Да. Я знаю обо всем в деталях. Но дело не в этом.
– Так в чем же?
– Сейчас я не готова об этом говорить. – Внезапно в ее голосе прозвучало нетерпение. – Вы готовы меня слушать?
– Слушать?
– Да. Выслушать то, что я хочу вам прочитать.
– Прочитать? Ах да, ты хочешь прочитать это без свидетелей, верно. Отлично, идея вовсе не плоха. Если ты предпочитаешь такой путь… Прекрасно. Я сяду вот сюда. Как называется эта вещь?
– Пока еще никак. Но сейчас это и не важно… Вы должны только обещать мне, что честно выскажете свое мнение…
Она достала из своей сумки очки и надела их, отчего ее красота только выиграла. И сразу начала читать низким, звучным, чуть-чуть хрипловатым голосом, по мере чтения становясь все более и более серьезной. Взгляд ее не отрывался от текста, а лоб прочертила мягкая, едва заметная морщинка. Проза ее была сложной, предложения длинными и замысловатыми. Ее стиль я назвал бы эклектичным. В некоторых абзацах она употребляла только имена существительные, без глаголов. Описан был иерусалимский вечер, увиденный глазами женщины, секретарши средних лет, возвращающейся домой с работы, устало шагающей по улице; она заходит в банк; все это время мысли ее заняты желанием обрести ребенка. Длинные описательные пассажи, нередко повторяющие самих себя, но отличающиеся по тону, в зависимости от самоощущения героини. Слова многосложные, с тремя, а то и с четырьмя ударениями, что придает тексту определенную музыкальность. Небо за окном становится все более мрачным. А в квартире царит уютная тишина. Дина устраивается поудобнее, подогнув под себя свои стройные ноги, и уже не отрывает взгляда от рукописи, читает она медленно и четко, произнося каждое слово разборчиво, читает, не поднимая головы, словно боясь встретиться со мною взглядом.
– Дина, извини… Может быть, нам лучше зажечь свет?
Она качает головой и продолжает чтение. Я пытаюсь изо всех сил сохранить концентрацию, но… Помимо моей воли существуют мысли о судьбе квартиры в Тель-Авиве. Если Аси не сумеет воспрепятствовать ее продаже, она останется без крова над головой, и вина за это снова ляжет на меня. В доме не раздается ни звука… Но внезапно я слышу чье-то тяжелое дыхание. Оно доносится до меня из-за стены за моей спиной, там, где моя комната граничит со спальней Яэли и Кедми. Неужели там кто-то хрипит? Кедми? Я прислушиваюсь… и застываю. Это действительно он, вернее, они, и они занимаются любовью. До меня доносится голос, и это голос моей дочери… Такого голоса я никогда у нее не знал.
– Что… что… что ты со мною делаешь? Еще… да… да… да…
Сомнений быть не может – это вскрикивает, это стонет Яэль… Ну, что ж, они занимались этим много раз… Я неуклюже поднимаюсь со стула и перехожу на другое место, у окна. Дина бросает на меня недовольный взгляд, я сбиваю ее с ритма, в голосе ее звучит упрек, когда она говорит:
– Вам уже надоело? Или я могу продолжать?
– Конечно продолжай.
И она продолжает, как продолжаются, становясь все более слышными, стоны и тяжелое дыхание за стеной. Но Дине в эту минуту не до чужих страстей. Ее героиня, секретарша какого-то офиса, женщина лет тридцати, кратковременно побывавшая замужем, собирается похитить ребенка и садится в автобус, идущий в новые районы Иерусалима, где это можно проделать, как она полагает, легче всего. Описание места действия более всего напоминает мне район их собственного с Аси проживания. Она обращает внимание на некую женщину с ребенком в коляске и следует за нею в супермаркет. Описание всех действий героини становится все более и более детализированным.
Стоны и скрипы за стеной слышны уже совершенно явственно. Теперь уже стонет и хрипит, словно от удушья, Кедми. Словно там, за стенкой, издыхает животное. Или это все же Яэль? Разве мы все не подозревали, что за ее покладистостью и покорностью таятся, в самых глубинах кроткого ее существа, необузданные страсти? Пусть она не получила даже среднего образования. Стоны и хрип переходят в крещендо. Зрелище, которое лучше не представлять себе. Больше всего я боюсь, как отнесется ко всему этому, если услышит, Дина. Я торопливо пересекаю комнату обратно и приваливаюсь спиной к тому месту, откуда наиболее явственно доносятся звуки. Но она настолько погружена во все, связанное с рассказываемой ею необычной и причудливой историей, что не слышит ничего. Поток слов неостановим. Описание продавцов, продуктов, рекламируемых товаров… В этой неостановимости есть какая-то незавершенность, какой-то перехлест эмоций. И тем не менее талант у нее есть. Вопрос только в том, что в действительности пробудило подобные фантазии? Что вызвало их к жизни?
За стеной я слышал мягкие вздохи Яэли и дьявольский смех Кедми. Дина сняла свои очки и посмотрела на меня встревоженным взглядом. Я почувствовал, что краснею. Она разглядывала меня серьезно, пытаясь, похоже, понять мои передвижения от стены к стене.
– Что-то не так?
– Нет…
– Вам не надоело?
– Нисколько.
Но в голове у меня другое. Не связывай со мной свои надежды, сказал я ей. Я не могу заменить тебе того, кому ты не веришь и не поверишь никогда. Дублер из меня плохой. И вторую свою я не могу любить больше, чем любил первую. Не стоит попусту терять время. Вне зависимости от наличия вины или ее отсутствия. В горле у меня стояли слезы. Хватит позориться!
Женщина в универсаме быстро платит за двухлитровую упаковку молока и спешит к раздевалке, где возле стойки находится коляска с младенцем. Одним движением она вынимает ребенка и спешит наружу к автобусной остановке, где садится в первый же подошедший автобус. Описание неба. Она пересаживается из автобуса в автобус, пока не оказывается на собственной лестнице. Следует детализированное описание лестницы, лестничной площадки, швабры, мусорного ведра. Она входит в квартиру. Кладет похищенного ребенка на свою кровать. Здесь ритм повествования ускоряется, слова теснят друг друга, словно рассказчик задыхается. Что за странная задумка!
Я снова сажусь на стул. Маленький клочок абсорбирующей ваты валяется на полу. Я автоматически поднимаю его и скатываю в шарик между пальцами. Странная история, которую описывает Дина, чем-то задевает меня. Она же продолжает читать, синева ее глаз становится еще глубже, грудь ее в такт дыханию поднимается и опускается, щеки разрозовелись, голос становится все более напряженным и взволнованным. Описание ночи, проведенной женщиной в своей квартире один на один с заходящимся в плаче украденным малышом. Внезапный стук в дверь. Неожиданный визит ее отца, старого зануды в шляпе набекрень в молодежном стиле. С первых же слов я сразу понял, что этому персонажу приданы мои черты. Женщина прячет ребенка в ванне. Она включает радио на полную мощность и в конце концов под разными предлогами избавляется от старика.
Мои пальцы измазаны откуда-то взявшейся слизью. Я рассматриваю их… Гигроскопическая вата превратилась в желе, какое образуется, если раздавить бабочку или червя. Я понял, что произошло. Я раздавил кокон шелкопряда – один из тех, что разводит Гадди. Должно быть, он свалился на пол и затем оказался в моих пальцах. Я вытираю слизь клочком бумаги и выбрасываю его в мусорную корзину.
Но Дина ничего не замечает. Она упрямо продолжает свое необычное повествование. Проходят дни, и женщина оказывается в полной изоляции, как если бы то была не квартира, а тюремная камера, которую она не может покинуть из страха разоблачения. Только глубокой ночью отваживается она выбраться наружу, чтобы в одном из круглосуточно работающих киосков купить молока и самой необходимой пищи. Но дни идут за днями, и никто не разыскивает пропавшего ребенка, и мало-помалу она начинает подозревать, что его никто и не ищет. Постепенно все чаще и чаще ее начинает посещать мысль, что этот ребенок отягощен какими-то наследственными отклонениями… Что он умственно отсталый… Олигофрен, дебил, даун… что он слабоумный. Вот на чем обрывается этот рассказ – странный, необычный, непонятный и запутанный. Возможно, это повествование носит символический характер. Ведь конец рассказа еще не означает конца рассказанной истории. Это, если можно так сказать, конец без окончания.
Снаружи становится темнее. День тоже стремится к концу. Шелестят страницы у Дины в руках, она собирает воедино разбросанные страницы, избегая моего взгляда. Она снимает свои так украшающие ее очки и потягивается, на щеках ее – лихорадочный румянец.
– Вам было скучно?
– Нисколько. Нисколько!
– Тогда говорите.
Медленно, не без смущения, я начал передавать свои впечатления, разбирая особенности произведения, как студент, отвечающий профессору. Пытаясь подобрать наиболее точные слова для возникшиху меня мыслей. Она слушает молча, я чувствую, как напряжена каждая клеточка ее тела, она впитывает каждый звук, каждую интонацию, каждый намек, длинные пальцы ее судорожно мнут краешек одеяла. Я пытаюсь быть максимально честным и потому очень осторожно и бережно выбираю каждое слово… Я поражен… Я хотел бы прочесть сам еще раз… Финал мне несколько не ясен… Замысел просто потрясает… оставляет в некотором недоумении – но, может быть, таков замысел автора… возбуждает целый пласт мыслей… некоторая неопределенность ситуации… но это волнует больше всего. Несколько напоминает детские фантазии, но они оборачиваются такими сложностями. Не могу не отметить излишних повторов, но вместе с тем мастерски введенных и незабываемо точных деталей – корзину для мусора, швабру, тряпки для уборки лестницы…
И в то же время возникает какое-то пугающее ощущение надвигающейся беды… В тот момент, когда появляется отец и она прячет ребенка в ванне… Я испугался, подумав о том, что она готова дальше делать.
Дина заинтригована. Она с интересом смотрит мне в глаза.
– Вы испугались за нее? Как странно. Что заставило вас испугаться?
– Что? – я не хотел говорить об этом, но сказал: – В какой-то момент я подумал, что она решила убить этого ребенка.
– Убить его? – Она ошеломлена.
– Но ты ведь сама на всем протяжении рассказа нигде не посочувствовала ей, правда? Тебе ведь ее не жаль?
– Жаль? Нет… не жалость… но что-то другое… Я должна была подумать об этом. Я подумаю. Спасибо, Иегуда…
И, порывисто поднявшись, светясь каким-то новым светом и явно удовлетворенная итогом нашей встречи и разговором, она обнимает меня, прижимается и крепко целует.
– Я так счастлива тем, что от вас услыхала. Я так боялась.
– Ты боялась меня? Но почему, глупышка?
– Нам будет вас не хватать… очень. Цви был прав…
Я стоял, растроганно поглаживая ее по коротко остриженным волосам. Да, расставание оказывалось куда более тяжелым, чем я думал. Ты сегодня, девочка, сделала меня счастливым человеком.
– Единственный, кого все происходящее не волнует, это Аси.
– О, нет… нет. Волнует, и даже очень. Только он слишком горд, чтобы признать это.
Внезапно она теряет ко мне интерес и едва ли не бегом бросается к своей сумке, перерывает ее и лихорадочным движением достает уже знакомый маленький блокнот, делая в нем какую-то запись. Выглядит все это так непосредственно, словно она играет в какую-то игру. А я гляжу на свои запачканные слизью пальцы, на которые налипло что-то, похожее на крохотное крыло. Иду в ванную и тщательно мою руки. Еще несколько часов, и Наоми станет полновластной владелицей всей нашей квартиры. Теперь, когда она разведена, свободна и вот-вот покинет больницу, ничто не помешает ей еще раз выйти замуж. Откуда пришла мне в голову эта мысль? Почему я думаю об этом снова и снова? Я мою руки неторопливо, тщательно, глядя при этом в мутноватое зеркало: усталое лицо, седые и поредевшие волосы, глаза в красных прожилках. Достав пасту, я чищу зубы. Фантасмагория. Еще несколько часов, совсем немного. Наверное, мне стоило бы побриться, перелет будет долгим. Наверное, Конни вот так же считает часы. Утро уже ушло. Конни… Женщина не первой молодости, ожидающая ребенка. Очень скоро. От меня, который сжег за собой все мосты. Лишившийся наследства. Родина… почему ты перестала быть отчизной? Я выхожу из ванной и прохожу через прихожую, бросая взгляд через открытую дверь на Гадди, который лежит в постели с открытыми глазами со страдальческим видом. Не говоря ни слова, я целую его и возвращаюсь в свою комнату. Дина по-прежнему сидит на кровати, поджав под себя длинные свои ноги в шелковых чулках, очки ее лежат рядом, она перечитывает свой рассказ и, похоже, испытывает от этого удовольствие. Маленькое и очень милое, но уже такое амбициозное существо. Ничем не занятое, нигде не работающее. Не собирающаяся рожать детей писательница. Она полностью занята самой собой, больше ей не нужен никто. Она занята овладевшими ею фантазиями, и сама она фантастична тоже. Я иду в гостиную. Окно погружено в серую муть. Чувствую, что каждую минуту может разразиться дождь. Иду снова в ванную – на этот раз чтобы помочиться. На лицо в мутном зеркале не хочется и смотреть. А чего тебе на самом деле хочется? Пять миллионов как не бывало. Выходя из туалета, врезаюсь в огромную тушу Кедми в майке и трусах, растрепанный со сна, он, распространяя кислый запах, ухмыляется чему-то своему и закрывает за собою дверь.
Возвращаюсь в свою комнату. Дина, все еще погруженная в себя, слишком занята, чтобы уделить мне время. В который раз вытаскиваю саквояж, в который раз достаю свой паспорт и билет и засовываю их в боковой карман. Достаю последние доллары и прячу их в бумажник. Надеваю куртку и шляпу.
– Я скоро вернусь. Скажи Аси и Цви, что я ненадолго…
Несколько юношей и девушек в голубой униформе молодежного движения медленно движутся по направлению к морю. На углу улицы, неподалеку от стенда с наклеенной на фанеру свежей сегодняшней газетой – остановка такси. Я забираюсь в машину, за рулем которой сидит средних лет мрачноватый шофер. Который сейчас час?
Он включает двигатель.
– Э… Погоди! – Я похлопываю его по плечу. – Ты принимаешь доллары?
– А других денег у тебя нет?
– Боюсь, что нет. Но мы посмотрим сегодняшний курс в газете, и ты, клянусь, не потеряешь ни цента.
Тень от такси медленно двинулась впереди нас. А мы спускались к заливу, где и выехали на основную, «север – юг», автомобильную магистраль. Поток машин постепенно становился все гуще. Сам город был тих и погружен в послепраздничный сон, но дороги были запружены отдыхающими. Сначала мы двигались на восток, но у большого перекрестка под названием Чек-Пост дорога резко вильнула и вытянулась по кривой, повторяя очертание побережья, и поток отдыхающих устремился на север – до меловых утесов Рош-а-Никра, северной границы Израиля, откуда рукой подать было и до Бейрута, и до Дамаска. Когда-то. Теперь там пролегала государственная граница и заканчивалось любое путешествие. За все это время водитель не открыл рта и не пытался развлечь меня разговором, что было необычно… Впрочем, может быть, он просто хотел спать. Пролетели мимо индустриальные зоны и дальние пригороды Хайфы. И уже светофоры регулировали скорость нашего передвижения. Я был благодарен молчуну водителю за то, что он не пытался развлечь меня новостями или музыкой из приемника. Слева от меня, на западе, я вижу море – все в кружеве волн под огромным желтком солнца, позади нас четко виден горный хребет, который венчает гора Кармель в зеленой пене деревьев; над всей этой незабываемой картиной величественно плывут полупрозрачные облака, освещаемые розоватым светом. Такие облака, проносится у меня в голове, я мог бы наблюдать сейчас и в небе Миннеаполиса. Автомобиль прибавляет скорость. И вот уже с севера вырастают прямо у нас на глазах величественные минареты Акко. Мы въезжаем в пределы города, то здесь, то там пересекая железнодорожные пути. Движение машин становится еще плотнее.
– Не двигайся через центр, – говорю я водителю. – Объезд справа.
– Но вы-то куда хотите попасть? Ведь справа нет моря. Там только мошав[14].
– Я тебе подскажу. Держи все время на север.
– Но куда – «на север»? На севере – Нагария и Рош-а-Никра. До границы – десять километров. Может, мы едем в Ливан?
Шофер явно поборол сонливость и теперь готов поговорить.
– Ну так куда же?
Я называю ему место.
– Боже! – восклицает он. – И это вы так тщательно от меня скрывали. Это же психушка.
– Я и не предполагал, что это место так хорошо тебе знакомо, – не без иронии замечаю я.
– Знакомо, ты прав, брат. Ты не первый, кого я туда отвожу. И, можешь мне поверить, – не последний.
Такси огибает Акко справа. Нежные пастельные тона, ряды гигантских эвкалиптов, некогда спасших Израиль, обеспечивают теперь местную промышленность сырьем для производства плетеной мебели. Пролетает мимо старая железнодорожная станция, на площадке возле которой в тщетном ожидании пассажиров дремлют несколько допотопных такси, облитых медовым золотом рассвета. Пропыленные улицы, арабы, на своих тележках развозящие горячие питы, машины, в ряд прижавшиеся к тротуару. Редкие перекрестки, от которых ответвляются местные дороги, уходящие в Галилею. Но нам сейчас не нужны красоты Галилеи, мы движемся точно на север. Еще раз пересекаем рельсы, уходящие по направлению к морю.
Солнце то выглядывает из облаков, то прячется в них. Такси замедляет ход. Пробка. Ряды машин жмутся друг к другу, словно овцы. Машина стоит как влитая. А время… Время уходит. Почему мы стоим? Я чувствую, как сильно бьется сердце. Не в силах совладать с нетерпением, я обращаюсь к шоферу, едва сдерживая крик:
– В чем дело?
Он молча кивает, и я вижу, как огромная свора собак трусцой перебегает дорогу, презирая смерть. Машины начинают гудеть, одна за другой – потом десять, потом… Сколько их там? Кое-кто уже двинулся в объезд по обочине. В десятке метров от нас я замечаю столб с указателем – толстая желтая стрела указывает нам местонахождение больницы. АШИТА. Несколько секунд хода – и наш путь свободен. Но собаки – откуда их столько набежало, с задранными хвостами и истекающих слюной, набралось в этом месте? – не дают нам сдвинуться с места.
– Собачья свадьба, – говорит шофер. – Надо ждать.
И все ждут.
Наконец железная кавалькада, набирая скорость, снимается с места. Такси, чуть вырулив из общего потока, подъезжает к уже знакомым воротам. За последние несколько дней я здесь уже в четвертый раз. А ведь еще вчера я был уверен, что никогда в жизни больше сюда не вернусь. Солнце светит прямо в глаза. Прищурившись, я различаю горизонт и гору. Через несколько часов все это станет невозвратимым воспоминанием, уйдет в прошлое. И горизонт, и море, и заросли кустарников, и белые домики на зеленых лужайках.
– Стоп, – кричу я шоферу. – Остановись! – И я хватаю его за плечи.
Он нажимает на тормоз и недовольно бурчит:
– В чем дело?
Но мне некогда пускаться с ним в объяснения, потому что я вижу подъезжающую в этот момент белую машину Кальдерона.
А пока что мы снова начинаем движение, так как шофер снял с тормоза ногу.
– Стоп, я сказал!
Из белой машины, остановившейся возле ворот, выбираются люди. Среди них я узнаю знакомую мне фигуру Цви.
– Ты остановишься или нет?
– Прямо здесь?
– Прямо здесь. Я что, невнятно говорю?
– Но… – Шофер смотрит на меня недобрым взглядом.
– Никаких «но». Стой здесь и жди меня. Через пятнадцать минут я вернусь обратно.
– Я могу подвести машину прямо к палатам. Предыдущие пассажиры всегда требовали, чтобы я въехал прямо в середину этой психушки.
– Это не твоя печаль. Стой здесь и жди. Через пятнадцать минут я вернусь. Самое большее – через полчаса. Можешь меня подождать?
– Нет.
– Почему «нет»?
– Потому что я уже раз пролетел с таким фокусом. Торчал здесь полдня, ожидая, пока появится какой-то тип, которого должны были в этот день выписать отсюда. Насколько мне известно, он до сих пор еще здесь.
– Э-э… брат! Послушай! Я-то ведь не пациент. Я должен просто передать кое-какие документы. Если ты нервничаешь, давай я сейчас заплачу тебе за рейс сюда и за обратную дорогу.
– Другой разговор. Договоримся так – ты сейчас оплачиваешь мне поездку сюда и за ожидание – скажем, за час. Годится?
– Вполне. Ты, случайно, не в курсе, который сейчас час?
Водитель рассматривает долларовые купюры, повернув их против солнца. Интересно, что он хочет в них разглядеть? Я выхожу из машины и большими шагами устремляюсь в поле, оставляя за собой дорогу, пробираюсь мимо ровных рядов брюссельской капусты, иду по мокрой, раскисшей земле, кое-где присыпанной нанесенным с моря песком, стараясь не пропустить дыру в ограждении, о которой мне рассказывали пациенты. Желтоватый солнечный свет окрашивает капустные побеги синим оттенком, я двигаюсь по этому капустному морю направо, в северном направлении, где можно еще разглядеть домики поселения. Трактор тащит прицеп, доверху нагруженный трубами для полива, и с равными интервалами сбрасывает их на поле. За моей спиной огромная моя тень крадется по земле. Отечество… почему ты не хочешь стать родиной? Теперь уже никаких сомнений быть не может – она хотела меня убить. Если бы она только сейчас сошла с ума, я бы остался ухаживать за ней, но она использовала свой приступ только для того, чтобы свести со мною старые счеты. И я ее разочаровал? Что ж, подожди, и ты увидишь, на что я сейчас способен. В это самое время, поутру, Конни в своей сверхсовременной кухне мелет кофе. Беременная женщина, одна-одинешенька, беременная на последних неделях. Стоит мелет кофе, думает обо мне и удивляется, куда я подевался. А я – здесь. Я здесь, и я вернулся, чтобы вернуть себе мое. Я добрался до старой бетонной стены, украсившей себя гирляндами высохших виноградных лиан, вырванных из земли и образовавших живописные завалы, скрепленные внушительным количеством колючей проволоки… Но где же дыра? Я стою у места, где стена закончилась, но и здесь пролом намертво запечатан колючей проволокой и «спиралью Бруно». Я что, заблудился? Пытаюсь продавиться. Но стена только пружинит, внизу нет просвета, а щель заложена древними валунами, оставшимися еще со времен проходившего здесь римского акведука – они встречаются в этой части страны на каждом шагу. Я карабкаюсь наверх, пользуясь, как ступенями, остатками водосборника, больница теперь подо мною. И мне отчетливо видны лужайки и дорожки и даже маленький домик библиотеки, в которой совсем недавно летел по воздуху лист пергаментной бумаги с договором о разводе. Я обернулся и увидел, что черное такси припарковалось вплотную к железнодорожным рельсам впритык к автомобилю Кальдерона.
Надо спешить.
Сумерки – но это не вечер, а тучи, они перехватили солнечные лучи, от которых до земли долетают лишь сверкающие обломки. Но тебе бояться нечего. Ты ведь и не нуждаешься в полном свете дня, ты ведь не новичок в этих краях и должен знать путь и сюда и отсюда. За последние десять дней ты здесь уже в четвертый раз. Надо найти этот пролом. Давай соберись. Подумай хорошенько. Оглядись. Видишь вон там – группа деревьев. Резиновая змея пожарного насоса кольцами распласталась по земле, возле нее кто-то стоит и медленными движениями окапывает маленький погибающий куст – уж не немой ли это великан трудится так усердно? Я прохожу мимо него, но он меня не замечает. Проходи, не медли. Быстрее. Спроси у нее, где бумаги, и добейся от нее отказа от претензии на квартиру. Это дело надо развалить – сделать это следует тому юристу из Тель-Авива. Я нахлобучиваю свою шляпу поплотнее. Дверь в библиотеку открыта, комья грязи совсем затвердели, высохнув. Здесь нет ни души. Тишина. Ощущение возможной опасности. Ароматные запахи весенних сумерек. А вот и ее коттедж. Три года тому назад, когда я впервые навестил ее, дождь лил как из ведра; она сидела, закутавшись во что-то неопределенное, возле керосиновой печки и просила, чтобы я рассказал ей о заснеженной Америке. Это было тогда, когда я обещал, что буду ей писать.
Потихонечку я проник в палату, готовый к любой неожиданности. Ряды кроватей – частью прибранные, частью нет, крошечная, чрезмерно прифранченная леди лет сорока, сидящая на стуле у окна возле огромного чемодана, читала женский журнал. Она взглянула на меня, и по лицу ее прошла судорога. Я приподнял шляпу и поклонился.
– Прошу прощения… Не можете ли вы сказать мне, где кровать Наоми Каминки?
– Извините, но я только что прибыла сюда. И никого не знаю.
Но я уже нашел ее кровать по огромной соломенной шляпе, которая лежала сверху, и поспешил к ее персональному шкафчику. Там были ее платья, ее красный комбинезон и шаль, которую Яэль подарила ей от моего имени. Я открыл тумбочку и первое, что увидел, был обрывок собачьей цепи. Бутылочки с духами, какие-то мешочки, полные таблеток, и тут же завернутые в бумагу письма, которые я ей писал, а поверх всего – соглашение о разводе, белоснежный голубь свободы, и коротенькое сообщение о моем отказе от квартиры в ее пользу, да еще копия доверенности на ведение моих (каких еще?) дел на имя Аси. Два самых последних листа я взял и, сложив, сунул себе в карман. Повернувшись, я пошел к выходу под неотрывным взглядом крошечной леди, не спускавшей с меня глаз.
– Простите…
– Да?
– Как вы сюда сумели попасть?
Я улыбнулся:
– Что вы имеете в виду, спрашивая, как я сюда попал? Вот кровать моей жены, и это она попала сюда.
– Да… Но вам-то разве не нужно было получить специальное разрешение?
– Нисколько.
– Мужчины могут сюда заходить?
– Конечно.
– Потому что мой муж сказал мне, что это невозможно. Наверное, они дали ему ошибочную информацию… Или он не так ее понял.
– Полагаю, что именно так и было.
– Потому что он внезапно оставил меня…
Поднявшись, она подошла ко мне вплотную, обдав облаком крепких духов, и неожиданно прошептала:
– Вы, случайно, не знаете, является ли это заведение религиозным?
– Религиозным заведением? Что навело вас на эту мысль?
– Мы прибыли сюда с такой скоростью. Во время седера у меня случилось небольшое нервное расстройство, и врач по чисто медицинским соображениям послал меня сюда. Но я думаю… Я боюсь, что они послали меня в религиозное заведение. Мой муж – армейский офицер и о таких вещах не знает абсолютно ничего.
– Но что заставляет вас думать, что это религиозное заведение?
– Так оно здесь все выглядит. Эти стены… эти кровати…
– Ну, хорошо… кровати. К религии все это никакого отношения не имеет. Некоторые пациенты могут быть здесь просто под наблюдением. Могут быть религиозными. Могут быть соблюдающими традиции. Но…
– А дирекция? А администрация? Как насчет администрации?
– Никак. Никаких оснований так думать… Это государственное учреждение, больница, находящаяся в ведении Министерства здравоохранения… Это абсолютно не частное заведение…
Она улыбнулась, совершенно успокоившись.
– Извините, – сказал я. – Не скажете, который сейчас час?
– Половина шестого.
Я кивнул ей на прощание, помахав шляпой, а она снова опустилась на стул, потянулась было к своему чемодану, но передумала и нерешительно засунула себе в рот большой палец. Стемнело. Я двинулся по направлению к входной двери. Великан стоял в дверях, замерев, как статуя. В руках у него были вилы. Для чего-то… или для кого? На этот раз он меня узнал. Я развернулся на сто восемьдесят градусов и промчался обратно через палату с ее рядами кроватей, улыбнувшись на ходу расфранченной леди, – она сидела, скрестив босые ноги, и застенчиво посасывала свой большой палец. Я миновал маленькую кухоньку в дальнем конце палаты и выскользнул наружу через заднюю дверь. Новая перспектива. Шум прибоя. Собачий лай. Зеленый домик библиотеки, видный издалека. Плетеный стул среди высоких эвкалиптов у домика библиотеки, где мы были недавно. Или давно? Неподалеку другой коттедж с решетками на окнах, мерцающих мутноватым светом. Сгущающаяся тьма. Я неторопливо бреду в обход лужайки слева от меня, спешить никуда не надо, нагнувшись, я поднимаю с земли лист, жую его, наслаждаясь запахом и вкусом свежей зелени. Ну, вот, я дошел таким образом до южной оконечности забора и двинулся дальше сквозь заросли кустов, обрамлявших заграждение; собачий лай становился все слышнее. Выли все, но один пес, очевидно получивший ранение, выл совершенно жутко. Собак я никогда не боялся, но этот звук поневоле наводил ужас. Бетонная стена закончилась. Вот здесь, совсем рядом, должно было быть отверстие, и я ринулся прямо в кусты, будучи уверен, что попаду к дыре напрямую, но я ошибся, там снова оказалась колючая проволока, а в проломе, затянутом железной спиралью, билось огромное, грязное, волосатое существо, паршивая тварь, пытавшаяся выпутаться из проволочной паутины, вздымая облако пыли. За линией кустов собаки наперебой лаяли, рычали и выли. Человечьи голоса слышны были тоже.
Это Рацио, это он туда попал, это он воет и скребет лапами землю.
И внезапно мое сердце сжалось от сочувствия к старому нашему псу.
– Рацио! – завопил я, перекрывая собачий лай. – Рацио! Горацио!
Пес, опутанный железной сеткой замер и посмотрел прямо на меня. Наши взгляды встретились. Он бешено завилял хвостом. За линией кустарников я расслышал голос Цви, который тоже звал его:
– Горацио! Горацио! Мама… он застрял здесь.
И голос Наоми, донесшийся издалека:
– Где?
Пес лаял в полном неистовстве.
– Да здесь! – яростно закричал Аси. – Здесь!
Пригнувшись к самой земле, под прикрытием зарослей кустарника я слышал их перебранку, освещенный красным светом заходящего солнца.
– Он совершенно точно здесь. Должно быть, он почуял его.
– Отца?
– Он застрял в этой чертовой дыре. Надо его оттуда вытащить.
Над верхушками кустов я уловил, как промелькнули белые волосы Наоми.
– Хватай его за цепь!
– Он сошел с ума. Как его туда занесло?
Я совсем перестал двигаться, глядя на дорогу, змеившуюся далеко внизу, и черное такси, ожидавшее возле железнодорожных рельсов, развернувшееся на восток, туда, где пролегала основная магистраль; вереница машин сворачивала теперь с нее в сторону больницы. Все они оставались снаружи забора, в то время как я вынужден был скрываться внутри, поменявшись ролями.
Пора! Я достал из кармана документы, наскоро просмотрел их в последний раз, а затем с удовольствием порвал на мелкие клочки. После чего вырыл в земле нору, засунул в нее обрывки и, присыпав землей, придавил грудой камней. И почувствовал, как внутри у меня наступил покой. Все, что я должен был еще сделать, это позвонить из аэропорта своему адвокату. Разводу – да. Квартире – нет. На нее сохраняются мои неотъемлемые права. Я вас разочарую? Но разве я когда-нибудь это обещал? Подняв от земли голову, я определил, где я и каким образом могу вернуться обратно. Это было как в детстве – игра в прятки. Я спрячусь у моря. Кто найдет меня после заката? Который час? Времени достаточно. Я нащупал свой билет и паспорт. Они были в безопасности, у меня в кармане. Машины вереницей проезжали через ворота больницы, привозя обратно больных, которым разрешили провести седер дома. Непрерывно то здесь, то там в темных до того палатах зажигались огни. Я снова пересек лужайку, молчаливый великан по-прежнему всаживал свои вилы в землю возле погибшего куста. Похоже, он был совершенно ошеломлен, увидев меня. Я улыбнулся ему. К моему изумлению, на руке у него были огромные часы.
– Который час? – спросил я у него.
Он стоял и смотрел на меня точно в трансе, ничего не отвечая. Я приподнял свою шляпу и отправился дальше.
Голова кружится, но внутри – полный покой. Открываю дверь в палату: элегантно одетая леди радостно бросается навстречу.
– Ах, это вы! – восклицает она. – Я так рада, что вы вернулись. Я не смогла включить свет.
Я щелкаю выключателем, но ничего не происходит.
– Должно быть, короткое замыкание, – объясняю я. – Кто-нибудь придет вскоре и все починит.
Ничего не нужно выдумывать. То, что вы любите, то вы и убиваете. Дух свободен и веет там, где ему вздумается. Ну, хорошо, допустим, я кого-то разочаровал. И что? Мой дух свободен. И он говорит: «Разводу – да. Потере квартиры – нет». Вот так. Мы начнем эту сделку с самого начала. Дано: две женщины. Никак не меньше. Может быть, тебе захочется убить меня снова? Пожалуйста. Я растягиваюсь на кровати Наоми. Возникающие в голове мысли острее клинка. Я отбрасываю в сторону ее соломенную шляпу и протягиваю руку к ее ночным одеяниям. Сорочки, халаты… Последние лучи заходящего солнца бросают отблеск на белизну ее простыней. Я дождусь их здесь.
Жалкая маленькая леди стоит возле кровати.
– Прошу прощения, мистер…
– Каминка.
– Я не могу вспомнить, что вы говорили насчет ужина.
– Ужина?
– Когда его подают? И где?
– Обычно здесь, в палате. Но из-за праздников, скорее всего, сегодня он будет в большой столовой.
Она кивает, сжимая руки.
– Я чувствую себя здесь такой потерянной. Не в силах заставить себя даже открыть мой чемодан. Все вокруг, это место… Я чувствую себя просто больной… и они не позволили моему мужу войти сюда, и он оставил меня здесь… Он офицер, понимаете… он вечно куда-то спешит, а на этот раз ему нужно было срочно вернуться в свою часть…
– Вы скоро ко всему привыкнете. – Я откинулся головой на подушку, мысли мои витали совсем далеко. – Вот увидите, как быстро это случится.
– Но как? – спросила она с безнадежным видом. – Как это может быть?
– Сами увидите. Здесь о вас хорошо позаботятся.
– Доктор мне так и сказал. И я верю, верю. – И она по-детски, доверчиво улыбнулась. – А как вы полагаете, они разрешат мне плавать в открытом море? Я это так люблю…
– Почему бы им не разрешить?
Она задумалась на мгновение, а затем, охваченная новой тревогой, посмотрела на меня с подозрением.
– Но где же ваша жена? Где она?
– Она может появиться здесь в любую минуту.
– А что она из себя представляет? Как вы думаете, мы сможем подружиться?
– Вполне возможно. Даже наверняка. Она очень милая женщина. Вы должны сразу понравиться друг другу.
Внезапно до меня донесся шум приближающихся голосов. Я инстинктивно вскочил и бросился в кухню, где увидел Ихзекиеля, кричавшего кому-то через полуоткрытую дверь:
– Нет его! Я же сказал уже вам – его здесь нет. Вы ошиблись. Это был не он!
Бросившись к кровати Наоми, где я только что лежал, он открыл тумбочку, вытащил наружу половину разорванного металлического поводка и рванулся обратно.
А я вернулся в кровать. Все вещи были перемешаны, спутаны, смяты. Даже солнце запуталось в переплетах квадратного окна, как в паутине. Модно одетая леди сидела все на том же месте, вид у нее был совершенно беспомощный, и слезы лились и лились по ее щекам.
Все это невозможно было осмыслить.
– Почему вы плачете? И что вы вообще здесь делаете?
– Они решили, что я хотела себя убить. Но я не хотела. Я хотела только попробовать. Как это делается… Чтобы испугать их… А они решили, что я хочу это сделать… Что я задумала…
– Так, так… Ну а теперь послушайте… Здесь они о вас позаботятся. И вскоре вы сможете отсюда уйти.
Я не в силах был расстаться с кроватью Наоми, но и лежать на ней мне было неудобно, поэтому я встал, посмотрел на ее соломенную шляпу, лежавшую на подушке, и засунул ее в открытый шкафчик. Если я ее испортил – что ж… Все на этом свете недолговечно. Лучше думай о спасенной тобою в самый последний момент половине квартиры. Половине гостиной, половине спальни, половине кухни и половине ванной. Мысленно представь всю квартиру, поделенную пограничной линией. Сняв с головы фетровую шляпу, я кладу ее на то место, где только что лежало такое же изделие из соломы. Маленькая леди, сидящая в углу, смотрит на меня, приоткрыв рот, но назад возврата нет. Я беру в руки платье Наоми; чистый хлопок, пальцами ощупываю материю и нюхаю: она потеряла свойственный ей пять лет назад запах. Пять лет. Теперь все пахнет иначе. Платье не моего размера и не налезает на меня. Скрипя зубами от злости, я снимаю куртку, поднимаю на вытянутых руках платье и проскальзываю в него, мне неудобно, мне темно, я начинаю бороться с материей, но вот, словно по волшебству, оно облегает меня, будто так всегда и было. Материал крепкий, чистый хлопок. В этот момент я вижу охваченное ужасом маленькое личико в углу. Губы шевелятся в тщетной попытке что-то произнести.
– О… нет… нет… – слышу я наконец. – Вы пугаете меня… Зачем вы… Ох, не надо… Не пугайте меня, пожалуйста… Почему мне никто не сказал, что вы тоже больны?
Что за чушь она несет? Я перевожу свой взгляд на себя – поверх брюк, у лодыжки, подол выглядит как-то странно. Я наклоняюсь и закатываю штанины до самых коленей – теперь любой может разглядеть мои голые ноги. Из квадратного окна солнце потихоньку сползло вниз. Я беру мягкую серую шаль и, набросив ее на плечи, гляжусь в зеркало. Женщина в углу, вся дрожа, стонет и ломает пальцы. Вот дура!
– Нет… нет… Не надо… Не надо…
Я направляюсь к двери. Великан стоит там, вяло удерживая свои вилы, прислушиваясь… Машины осторожно спускаются теперь к шоссе. Аси входит в палату, я бегу, передвигаюсь бесшумно, хочу притаиться в углу, женщина следит за каждым моим движением, широко раскрытые глаза непрерывно мигают.
Аси уже внутри, он шарит по стене, нащупывая выключатель. Но где там. История завершена? Но нет, сын мой. Выход всегда существует. Я стою, застыв, в своем углу. Оборки на подоле платья чуть слышно шелестят, а он осторожно продвигается внутрь неосвещенной комнаты и нащупывает на кровати мою куртку. Он останавливается.
– Папа? – запинаясь, говорит он. – Папа?
Я знаю – он чувствует, что я здесь, и не находит в себе мужества продвинуться дальше, но я готов. Ко всему. Убей меня. Я то, что я есть. Дай ей покончить со всем одним ударом. Я сделал все что мог. Одним прыжком я вылетаю из угла, делаю поворот и несусь через кухню к задней двери. На свободу снова. У меня масса времени в запасе, при мне мой билет, мой паспорт, мои деньги. Много денег. И половина моей квартиры. Снова моей. Такси ждет. Я несусь по дорожке, обоняя машины, уже избавившиеся от больных, еще более угнетенных, чем обычно, после целого дня, проведенного среди родных. В женской одежде я проскальзываю меж ними. Неведомое дотоле ощущение: прохладный воздух холодит мои лодыжки. Собаки по-прежнему лают, но жуткий вой прекратился. Рацио каким-то образом освободили, ибо он мчится впереди меня; для меня же самое важное – не потерять дыру в заборе. Но в этот раз я не промахнусь. Я бегу прямо к цели, а за мной в свете луны гонится тень толстой женщины. Моя тень. Ветер все холоднее, облака тоже куда-то бегут. Мы все – символы чего-то. Чего? Я знаю – чего и улыбаюсь про себя. Это то, что доставляет мне удовлетворение. Так неужели подобное ощущение может разрушить человеческую жизнь?
И в ту же секунду я вижу его перед собой. Немой великан молча вырастает на моем пути, словно материализовавшись из тьмы. Он стоит, медленно раскачиваясь, впечатление такое, словно это управляемый на расстоянии робот. Он полностью перекрывает мне путь. Он не мигая смотрит на меня. Они дали ему арабское имя – Муса, но я убежден, что он еврей. Ну, что там у тебя в голове? Я что, тоже разочаровал тебя?
– Наоми… – бормочет он. – Наоми…
Узнал ли он меня или хочет позаботиться о ней? В состоянии ли он различить, кто перед ним? А различив, понять, что происходит? Он бормочет все громче и громче, пока не испускает рык пещерного человека. Сейчас он похож на неандертальца, то, что он видит, непостижимо для него. Он опасен, говорю я себе, надо его как-то успокоить, здесь пригодилась бы шутка, но юмор ему недоступен, и он не в состоянии это вынести. Он страшен в своей одинокой растерянности, может быть, и ему страшно, может быть, это я испугал его, а страх рождает ответный страх, и человек за себя не отвечает. Мне вдруг становится страшно. Я снимаю с себя шаль и бросаю ее на землю, я расстегиваю пуговицы на платье, он продолжает наливаться гневом, приближается ко мне за шагом шаг… Я понимаю теперь, что он просто в ярости. Снять, снять это платье… Но оно не снимается, я в нем застрял. Главное – не поддаваться панике и не показывать своего страха. Это как с собаками. Может, надо подождать, пока он успокоится? Роковой человек. Как рассмешить его? Но пока что он все ближе, он бормочет что-то, он рычит, он размахивает руками – но сознает ли он, что в руках у него вилы? Какая досада, мелькает у меня в голове, какая жалость. Ведь так глупо… А ты бессилен и только понимаешь, что внезапно оказался в ужасной беде…
Последняя ночь
Упала вдруг звезда с неба. Содрогнулся пес Балак, и все его члены охватила дрожь. Закричал он изо всей силы: «Чур не я и не моя семья…»[15]
Шай АгнонВсё?
Начинать?
Сейчас?
Приступаем?
Это последняя ночь?
Я бегу по тропинке на его запах. Меня освещает луна и гремит, волочась за мной, порванная цепь. Все-таки я прорвался в эту симфонию. Как тебе больше нравится – собака или образ собаки? Фантазия или реальность? Или, может быть, пополам того и другого? Отвечай не задумываясь! Барабан или труба? Опера или рэп? Мистика или рационализм? Я пока полаю, чтобы прочистить горло. От первого лица? Или от второго? Можно и от третьего. Исполню любой твой каприз! Только дай мне вырваться на свободу!
Сердце так и колотится. Ошейник стягивает мою шею, и такой же ошейник я ношу внутри своей головы. Этот монолог взрывается внутри моего черепа. Начинать? Записываешь? Вой зверя вмещает в себя всю его душу целиком, она вырывается у него из пасти и, покружив, возвращается в свою конуру, но вот в чем штука – станет ли кто-нибудь слушать? Так начинать?
Я видел сон… Что? Продолжать бежать?
Монолог должен быть… Что? Ты уже давно записываешь? Эй, минуточку!.. Вообще, ты меня извини, но эти твои монологи… ну что за безвкусица? Какое-то лицедейство. Есть у тебя что рассказать – возьми и расскажи просто, от своего имени, как нормальный автор. А то получается, что ты перекладываешь ответственность на других. К тому же это ненатурально. В жизни таких монологов никто не произносит. Где ты видел, чтобы люди одновременно делали и рассказывали о том, что делают, думали и говорили о том, что думают? Смотрели, видели и тут же описывали бы себе, что они видят? К тому же твои рассказчики делают вид, будто не знают, чем все закончится, – сплошное притворство. Что? Отождествляют? Да, я слышал об этом. Теперь, стало быть, ты хочешь превратить читателя в собаку? С превеликим удовольствием. Додумывают? И это пожалуйста. Прилежный читатель это умеет – и за реальность, и за фантазию… Что имитируешь? Поток сознания? Ну насмешил. Если бы кому-то удалось засунуть в сознание микрофон, на выходе не было бы никакого потока – был бы водоворот. Там не пробелы с пустотами, там – бездны. Брызги мыслей оседают на зыбких предметах, звуки, запахи, осколки информации прячутся в памяти, в этой колыбели неорганизованных, беспорядочных чувств. И нет там никаких «резко ответил он» или «лучи солнца окрашивали морскую гладь». Где поток сознания и где реальность? Тебе не поток сознания нужен, а полифония.
Дай-ка я кое-что тебе скажу… секундочку… Это, конечно, не мое дело, но все-таки старик Рацио тоже немного в таких вещах разбирается. Да, я немного понимаю в теоретическом мышлении… Это было в прошлое воскресенье; я еще ничего не знал, только мучился легким предчувствием, в воскресенье, помнишь? Серый и тяжелый дождливый день. Из тумана ко мне выходят две собаки, этакие полуобразованные, грузные серые местные собаки. Прыгают ко мне в конуру, виляют хвостами и приглашают меня прочитать лекцию в местном кружке для собак Восточной Галилеи.
– Вы здесь столько лет и совсем не принимаете участия в жизни сообщества, только иногда по ночам раздираете всем сердце своим лаем. Самое время устроить что-то более позитивное.
В дождь? Вечером? В моем возрасте? Мне еще мой монолог готовить к последней ночи. Но они настаивают.
– По слухам, вы со своей хозяйкой выписываетесь, а мы так и не выслушали вас. Не беспокойтесь из-за дождя, если пойдет дождь, мы организуем для вас корову, вы спрячетесь под нее и не вымокнете.
О чем мне им рассказывать? О проблемах собак, выросших в кибуцах? Или о том, как изменился запах Израиля? Или вообще об образе Балака в романе Агнона?
Нет, нет, ни в коем случае, вот где у меня сидит этот провинциализм. Если уж открывать рот, то ради такой речи, которая будет говорить со всем миром. Манифест о состоянии литературы. Назовем его «Между лаем и укусом».
Ночью я прибыл к ним в одну из пещер Рош-а-Никры, как раз у белой скалы, прямо на берегу моря. Десять кобелей и сучек уже ждали меня, виляя хвостами в знак дружбы и одновременно дрожа от холода. Меня окружили и обнюхали – вынюхали, можно сказать, до дна. Наконец я не выдержал и закричал:
– Займите места!
Я начал:
– Литература в тяжелом положении. У живописи есть будущее, у нее безграничные возможности, у нее всегда найдутся новые материалы. В скором времени краски и холсты будут оцифрованы, и они станут подвижными. Художники смогут пользоваться достижениями химии и получать новые оттенки цвета. То же самое в музыке – в ближайшее время и звук инструмента, и голос, все тоны и оттенки звучания разложат на атомы, и музыку будут играть с помощью лазеров. Но что станется с нашей старой доброй литературой? Можно ли при всем желании, при любом писательском таланте снова возложить на язык старую ответственность? Материал устал – сколько можно его выжимать?
Я двинулся легким шагом и продолжил:
– Я предсказываю оскудение литературы. Молотилка истории все ближе и ближе, она приближается с треском, водитель в кабине уже не молод, он устал, на нем странная каска, у него трубка в зубах, и на губах его играет улыбка. Жатва окончена. Никто и не помнит, какой стебелек был весной – зеленый, истекающий соком, – золотой стебель сорвали, вытряхнули из него семя, и теперь осталась только солома, она рассыпана по голой земле.
– Молотилка изрыгает черный дым, капает вонючим маслом, лязгает и грохочет, собирает солому и оставляет за собой сноп за снопом, слово за словом, строку за строкой, страницу за страницей. То здесь, то там на поле пытаются играть, прыгают со строчки на строчку, начинают сначала, но рутины жатвы не избегает никто. Если бы у кого-то получилась партитура, если бы можно было написать полифоническую литературу, литературу долговременную, многоэмоциональную, многоместную и многомысленную, не лай и не укус, а между лаем и укусом. С ослепительной аурой, дыша полной грудью, и чувствуя полноту жизни. Вот это означало бы новый рассвет для литературы.
Я перешел из светлого участка в тень. Вспомнил, что мне нужно подготовить мой монолог последней ночи, и почувствовал, что слово меня не подведет. Я прыгнул вниз, помочился и вернулся обратно.
– Вопросы есть?
Одна глупая собака встала:
– Мы с вами в этом сумасшедшем доме уже пять месяцев едим несвежую еду. Люди не чувствуют этого, и нет никакой возможности сообщить им. Они что думают, что мы шакалы?
Я наклонил голову и стоял так, пока она не заткнулась.
– Это не моя тема.
Молчание.
– Кто-нибудь хочет высказаться по теме моей лекции?
Один из этих образованцев решился:
– Вы преувеличиваете. А с другой стороны, вы излишне пессимистичны. Мне кажется, с такими вещами надо поосторожнее. Да и заигрываться с этими блестящими игрушками не стоит, а то придется сосать сухие кости. Литература должна быть партитурой символов, а не эмоций, – вот что перевернет мир. Или и ассоциации уже отменили?
– Это я уже много раз слышал, достаточно. Знаю этот теоретический мусор наизусть. Но монолог последней ночи придется пролаять именно мне, а не вам. Мой старый хозяин приземлился прошлой ночью. Нет, я не услышал бы его запаха так издалека, даже если бы был немецкой овчаркой, а я, как известно, не немецкая овчарка. Но я знаю. И мне нельзя терять времени. Где там ваша корова, давайте ее сюда.
Корова высокая, с нее капает вода, ее вывели из коровника, я залез под нее и почувствовал кислый запах молока. Она двигается спокойно, легкой поступью, а я спрятался между складок ее вымени, и так мы идем по широкому полю, шагаем по булькающей грязи, корова стонет и жует солому, а я под ней скулю, и шакалы отвечают нам. Желтоватый свет из дальней бухты своим блеском обещает конец дождя, я слышу запах мокрой земли. Корова гадит переработанной соломой, я чую запах навоза, облизываю кончиком языка коричневую сладость. Дождь заливает ее большие грустные глаза, мы двигаемся с поразительной медлительностью, над нами парит сосущая усталость, я стараюсь держаться между ее крепких ног, чтобы не вымокнуть под горячим дождем. Она печальна, она собирается опуститься в мягкую лужу, и пока она не сделала это, я обнюхиваю ее голову, облизываю ее глаза. Она говорит: мы страшно устали, а я еще и стельная, не возражаешь, если мы отдохнем? Что ж, буренка, отдыхай сколько влезет, а у меня нет времени разлеживаться тут с тобой в грязи. Кантата уже звучит, и меня ждет мой монолог последней ночи – похоже, никто не успел ничего толком объяснить, и финальные уточнения ложатся на мои плечи. Если бы ты слышала мою лекцию, ты бы поняла меня. Ты излишне пессимистичен, и чего ты только волнуешься, нервничаешь чего-то. Я вот ем эту солому и все время что-то в ней нахожу – то зерно, то зеленый стебель, то вообще радиацию. Я не какой-нибудь там взыскательный читатель – буду есть и солому, только бы не испорченную. Впрочем, дождь как раз перестал, беги в свой казенный дом. Дождя действительно нет. Только шепот рек и молчание луж, запах расходящихся туч, а из земли течет свежее весеннее тепло, и воздух дрожит в пронзающих его лучах восходящего солнца. Я быстро двигаюсь на запах своего казенного дома – запах острого сумасшествия. Направляюсь прямо к нему. Охранники за воротами ходят туда-сюда и дрожат от холода. Я приближаюсь так, чтобы нырнуть в щель забора незамеченным, ведь по соглашению с Министерством здравоохранения я тут всегда должен быть на цепи. Я опустил голову, помахал хвостом и легким движением пролез на территорию, но на этот раз поторопился, охранники все-таки заметили меня. «Горацио, Горацио», – они позвали меня, и я подошел к ним. Один схватил меня за ошейник и, не прекращая болтать со своим товарищем, подтянул его. Потом он сказал мне: «Сидеть!» – и я сел. «Дай лапу!» – я дал. Тогда они засмеялись, похлопали меня по спине и отпустили. Я побежал дальше. Скоро я учуял запах утренней стряпни, толкнул сетчатую дверь на кухню, пробежал между кастрюлями, понюхал, чем сегодня будут кормить, и выбежал к мусорке. Я наклонил бак, обнюхал старые кости и съел хлеб, оставшийся от сумасшедших. Уже пять лет я живу на этих объедках, и если бы сумасшествие было заразно, уже точно сам стал бы ку-ку.
Я побежал дальше, по траве, мимо большого камня, под которым давным-давно, лет сто назад, похоронили большую и сильную собаку. Она была страшная, как волк, я чувствую запах ее останков, старый запах. Я немного покопался в земле и полаял. Сумасшедший утренний туман разошелся, я слышу запах гиганта. Можно подумать, он вообще не спит, ходит целыми днями тут со своей метлой. Он заметил меня и застыл. Человек он чувствительный, все время погружен в себя, и я его пугаю, как, впрочем, и он меня. Украдкой я внюхиваюсь в запах его туфель и носков, это запах угля. Хоть бы он погладил меня сегодня, а то давно что-то меня никто не гладил. Солнце уже поднялось из-за гор и потянуло за собой чистое голубое небо. Я стряхнул с шерсти последние капли дождя и забежал в палату. Прошел между койками, мимо туфель и тапок с тяжелым запахом снов, и подошел к ней. Вот она лежит, моя хозяйка, мама, она пахнет мокрыми орехами, ее рука повисла, она тихо дышит, и в ее дыхании я различаю запах болезни. Я вышел через кухню, по дороге схватив с тарелки бисквит, и выскочил на улицу. Прекрасный день. Запах весеннего солнца. Я забрался в свою конуру, пол у меня сырой, на нем лужица, это потому что протекает крыша, – я поднимаю морду и обращаюсь в сторону неба, к большой собаке: дай мне сегодня хороших запахов в изобилии. Я закрыл глаза, свернулся на боку и заснул.
Ну как тебе монолог? Интересно? Стиль нравится? Не слишком приподнятый? Чувствуешь индивидуальность речевого режима? У нас как-то давно наплевали на индивидуальную речь для разных собак, берут всех собак, валят в кучу, стараются сразу схватить суть, а как ее схватишь – не важно, конкретная она или абстрактная, – прежде речи? Как тебе эпизод в пещере? А как я описываю природу? Заметил, сколько разных точек наблюдения? Как думаешь, читатель уже почувствовал себя собакой? Как посоветуешь продолжить? Больше рассуждений или больше действия? У меня есть несколько детских воспоминаний, еще когда я был маленький и жил в Тель-Авиве, а еще мне тут приснился один сон… кстати, надо описать себя, как я выгляжу. Ненавязчиво так оказаться у зеркала и описать отражение.
Что? Бежать дальше? Не понимаю. А, точно, у нас же последняя ночь. Я все забываю. Поцарапался на тропинке о проволоку? Пыль? Кровь? Лунный свет? Понятно. Да, скулю. Разорванная цепь. Лаю? Хорошо, лаю. Гав-гав. Запах хозяина сводит меня с ума. Вся семья носится за ним. Не забыл. Бьет свет автомобильных фар. Да, хорошо, хорошо. Все происходит на бегу. Я чувствую жгучую боль. Да, там будет труп.
Резиновый запах пришел в понедельник после обеда. Сначала меня больше всего заинтересовал мешок с клубникой, от него шел запах Яэли. Гость говорил быстро, его голос прыгал, соблазнял и запугивал, они сидели и разговаривали на скамейке рядом с трубой. А я смотрел издалека, охраняя ее от возможной угрозы. И тут из его сумки вылезла бумага, и до меня донесся запах – тонкий, слабый, но до боли знакомый, он потек по влажному жаркому воздуху. Я вскочил со своего места и тут же побежал к нему, я сбил его с ног, я внюхивался в его одежду, стараясь уловить остатки запаха, этого потерянного запаха на ней, хотя бы следы его. Я был потрясен, я был на грани обморока, сердце колотилось как бешеное. Документ переходил из рук в руки. Неужели это правда? Возможно ли это? Рука берет ошейник, мне подают клубнику, ягоду за ягодой, я глотаю красную спелую плоть, она тает во рту, она безвкусная, я хватаю ее только для того, чтобы хоть чем-то занять свою пасть, и, как-то сам того не заметив, я слопал чуть не целый пакет. Все это время я внюхиваюсь в тот запах. А гость тянет от меня пакет, что-то говорит мне, улыбаясь, но я чувствую, что от него разит презрением, я прыгаю, начинаю лаять в страхе, что он заберет бумагу с запахом. Неужели это правда? Сердце разрывается, гигант позади меня машет своей метлой, и дурацкий человек отпрыгивает, но документ остался, и меня тянет к нему, я бросаюсь – да, это запах хозяина, он вернулся, он еще жив, я подпрыгиваю. Мои чувства берут верх над разумом, и это меня беспокоит. Может быть, надо попробовать второе лицо.
Теперь ты пытаешься схватить бумагу и немного пожевать ее. Но люди разговаривают друг с другом и отпихивают тебя. Маленький очкарик кричит. Он поднимает бумагу вверх, и их спор разгорается с новой силой, а ты крутишься в лихорадке, чувствуя, как волны запаха накатывают и отступают. Ты лаешь, скулишь, тебя ругают и пытаются успокоить, все безуспешно, тебя называют по имени и наклоняются к тебе. «Горацио, прекрати, тихо». Но ты не можешь успокоиться, запах разрывает тебе сердце. Он вернулся! Тебе хочется бежать и искать его по запаху, по следам, по отпечаткам резины на асфальте. (Потому что никто тебя, конечно, к нему не повезет.) И тогда с тобой начинают бороться. Слышны приказы: Сидеть! Лежать! Спать! Ты выполняешь приказы на автомате. Но запах тут же поднимает тебя. Он и есть тут самое важное, неужели она не понимает? Отец вернулся, мой хозяин, я верен этому запаху, я сделаю все ради него. И тогда тебя сажают на цепь, а ты тут же рвешь ее. И они приносят новую цепь, покрепче. К тебе бегут медсестры и медбратья, на тебя наваливается гигант с метлой, ты выходишь из себя, и хозяйка крепко держит тебя за голову. Но этот запах. Тень запаха. Может быть, он уже умер и этот запах идет как бы с того света? Ты лаешь и плачешь, думаешь, что, может, запах резины убил его и забрал себе его запах. Ты срываешься, бежишь, за тобой бегут, ловят и привязывают к конуре, а ты изо всех сил тянешь конуру на себя и ломаешь ее, все равно крыша течет, не жалко, и тогда тебя привязывают к дереву и оставляют, а ты лаешь до хрипоты, до истощения, валишься с ног, а потом опускается ночь и запах пропадает.
А вот и сон. Ты в тель-авивской квартире, день, светло. Ты лаешь, и твой лай вызывает эхо. Посреди комнаты стоит двуспальная кровать, она покрыта старым шелковым покрывалом. Когда ты был маленьким, ты жевал его. И ты залезаешь под него. У тебя получается заползти под покрывало, и в темноте ты находишь старую туфлю хозяйки, рядом с ней твоя старая миска, она пуста и сломана, а вокруг тебя поднимается незнакомый запах – не то козьего навоза, не то сладкого молока, ты лижешь, лижешь, и твое сердце наполняется радостью. Надеюсь, что мой сон понятен. Объяснить или дать читателю подумать самому? Сны в литературе – это вообще-то плохо. Признак слабости. Возникает подозрение, что писатель не справился и теперь хочет онейрическими символами что-то дообъяснить. Но что поделать, если я в самом деле видел этот сон? И между прочим, был ему очень рад. Да бегу я, бегу! Последняя ночь, да, не забыл… Сколько же я бегу в этом монологе!
Во вторник я еще сидел на цепи под деревом. Она тебя забыла, даже воды тебе не принесла. Но ты не жаловался. Я лежал неподвижно и тихо, как глубокая ночь. (Пожалуй, здесь подойдет третье лицо.) Его глаза закрыты, он в глубокой обиде, его нос отказывается нюхать землю. Он не хочет новых разочарований, этот старый уставший пес. На него садятся весенние мухи. За свою долгую жизнь он научился сбивать их на лету, но сейчас он дает им ползать по своему животу, пока им не надоест. Днем он почувствовал от ворот слабый запах семени Цви. Обычно он бежал к нему навстречу, обнюхивал его, звал хозяйку, но на этот раз, привязанный к дереву, он не издал ни звука и даже не ответил на призывный свист, промолчал. Наконец пришел охранник, чтобы позвать ее, и только сейчас она о нем вспомнила. Освободила, подергала цепь, позвала по имени, но он прикинулся больным, в сердце его стояла горечь, и к воротам вслед за ней он потащился еле-еле, хвост повис между лап: он больше не чувствовал дорогого запаха. Потом он ложится со стороны Цви, рядом с незнакомым человеком, от которого пахнет клеем, его глаза налиты печалью. Тогда она подходит к нему, приносит ему воду и еду, но он воротит от них нос, они гладят его, но он не шевелится и наконец встает и возвращается к дереву, ложится там, голова на лапах, и просит у своей души смерти. Если бы исчезла хозяйка, он вел бы себя так же. Он всегда поступает справедливо, объективно. Так прошел вторник, и он сказал своему сердцу: если и дальше будет так же скучно, то придется, чего доброго, отказаться от последнего монолога.
Но ближе к вечеру в среду ветер усилился. Мутную дымку над морем развеяло, и послышался запах горелого кустарника. Она повязала фартук, как в старые добрые времена, сестры проводили ее на кухню, и он увидел, что она печет пирог, и вновь, как когда-то, в руках у нее нож. Спина ее распрямилась, она стала немного походить на себя прежнюю. В библиотеку понесли самовар и стаканы под чай. Друзья в тревоге бродили вокруг, и наконец послышался запах и ее тревоги тоже. И тогда пес поднялся, чувствуя потоки ветра вокруг себя, и когда появилось ее лицо, полаял немного и повилял хвостом. Отчуждение было преодолено. Глаза мои блестят, нос влажный, но я до сих пор ничего не понял, только иду за ней и за запахом ее тревоги по саду между деревьями. Она наблюдает за воротами и ждет автомобильного тарахтения. И ветер крепчает, и запах морской влаги и влажная пыль смешиваются с разных сторон. Я даже не догадываюсь, что мне предстоит, что произойдет, пока все не сваливается сразу, как будто с неба, и запахи, и звуки – все, весь дом, вся семья, запах ткани и запах бумаг, запах сгоревшей резины, и запах твердого сыра, и его, его запах. В эту минуту я почувствовал, что цепь на моей шее натянулась, она с силой притягивала меня к себе, но я уже принял решение. Самое время, чтобы умереть. Это святая обязанность каждой семейной собаки. Все, я отправляюсь на небо, будешь держаться за цепь – улетишь вместе со мной. Я буду бешеным зверем, доисторическим животным, все достижения эволюции отменяются. Я тянусь к небу всей силой своей любви, я лечу, задевая лапами верхушки деревьев. Они уже вошли в ворота и шагают по траве. Он держит за руку мальчика-толстячка, впереди них идут Яэль и Аси, я бросаюсь между ними, захлебываясь лаем, я отталкиваю мальчишку и набрасываюсь на него – это вернулся он сам, это уже не бумага, и он не умер, он живой. Он падает, он удивлен, он вскрикивает от испуга, он не узнает меня, внутри меня рождается крик, но голос куда-то потерялся, и вместо грозного доисторического рыка вышел жалкий скулеж – что если я, наоборот, эволюционировал в человека? Все кричат, узнают меня, и он тоже, он все еще лежит на земле, и рядом лежит его шляпа, но он все-таки называет меня по имени. Своим мягким, хриплым, сладким голосом зовет меня так, как всегда называл меня только он: «Рацио, Рацио». Похоже, что от всех переживаний я практически свихнулся, мне хочется пожевать его, попробовать на вкус, и я облизываю его, облизываю других и снова бросаюсь к нему. В конце концов меня успокаивают. Все обнимаются. Он целует маму. Они потихоньку идут к ее палате, оттуда в библиотеку, и все это время я кручусь между его ног, я прижимаюсь к нему, я возвращаю ему всю не растраченную за это время любовь. За время, прошедшее с того момента, когда он, раненный, упал на кухонный пол рядом со мной. И вот он здесь, он простил меня, и я снова прыгаю на него, и вдыхаю, вдыхаю его запах. В маленьком библиотечном зале вся семья пьет чай и ест пирог. Разговаривают шепотом. В сероватом окне теснятся лица душевнобольных. Задувает сквозняк. Его теплая рука гуляет по моей шерсти. Запахи неловкости, любви и страха текут вокруг меня. И для меня бросают под стол кусок – прямо как в старые добрые времена. Вкус у пирога уже не тот, но я из уважения ем. По библиотеке растекается запах сигареты. В животе свербит, в сердце рождается мысль – не умереть ли вот сейчас, среди них? Мне уже тринадцать лет. Я уже достиг вершины жизни. Дальше не будет лучше – только хуже. И я закрываю глаза. Мои мысли успокаиваются, голова застывает между лапами на холодном полу, все запахи исчезают, даже мой собственный запах. Мое дыхание слабеет, его уже почти нет, лишь чуть слышен отзвук последнего выдоха. Смерть – это очень красиво. Смерть – это и есть верность. Вдруг голоса вокруг меня нарастают, поднимается сильное волнение. Но я продолжаю умирать. И тут все вскакивают со своих мест. Аси стоит посреди комнаты и бьет себя – прямо так, как он делал это в детстве. Старик стоит на коленях, а на столе опять нож. И тогда я восстаю из мертвых и лаю изо всех сил, по всем правилам искусства лая, этого дурацкого искусства. Я не устаю удивляться этой семейке. В воздухе появляется бумага, она разорвана в клочки, я ловлю обрывки и ем их вместе с их запахом. Все встают и выходят, и я преследую их. Предательство, предательство, не может быть, опять предательство. События закручиваются с ужасающей скоростью. Появляется запах резины. Они садятся в машину, и я атакую их. Хозяйка пытается посадить меня на цепь, но я слегка кусаю ее и бегу за ним. Предательство! Предательство! На этот раз во всем виноват я. Он уже в машине, железная коробка проглатывает его, он еще пробует погладить меня, «возьми меня!» – умоляю я, но дверь с силой захлопывают, и машина трогается с места. Нет, только не это! Я хватаю зубами железо. Это ошибка! Машина набирает скорость, я бегу за ней. Он не может снова исчезнуть! Машина двигается тихонько, покачиваясь влево-вправо, и я бегу за ней посреди шоссе. Я вот-вот догоню ее и ухвачу за красный огонек. Из машины гудят: берегись, задавят! Но я уже умер. Чего же вы ждете? И машина продолжает тащиться как будто из последних сил. Я бегу по главному шоссе Акко. Вокруг меня мелькают огни, я бегу по разделительной линии, бегу и бегу. Машина потерялась, я уже бегу за другой, но не останавливаюсь. На перекрестках загорается красный свет, но я не обращаю на него внимания. Я слышу скрип тормозов, вокруг меня давка. Собаки по статистике редко становятся причиной аварий, и тем не менее я слышу вокруг себя проклятия и грязные ругательства. Меня пугают резиновые колеса, они плохо пахнут. Я продолжаю бежать среди домов и стен, я уже ни за кем не бегу, я бегу просто так, я покидаю этот сюжет и пока еще не успел войти в новый. Вдруг кто-то зовет меня по имени. Останавливается машина, из нее выходит Аси, хватает меня за ошейник и тянет на тротуар. Поговори со мной – прошу я его. Домой, домой! Какое домой? Про какой это он дом? Про наш старый дом? Я слышу запах старика, он совсем близко, в приоткрытой двери я даже вижу его шею и мигающий огонек сигареты. Но я даже не могу вилять хвостом, настолько я устал. И тут Аси поднимает палку и подносит ее к моему носу понюхать. Хорошо, нюхаю, дальше что? Он забрасывает ее далеко, в сторону строительной площадки, в темноту, прямо как в детстве. Сейчас я побегу за ней и принесу ему ее, а он встанет на четвереньки и вместе со мной полает. Рычит мотор, мерцают красные стоп-сигналы, я чувствую какой-то подвох с этой палкой. Тем не менее я, дурак, как меня учили, бегу за палкой в сгущающуюся тьму. А он бежит обратно к машине со мной наперегонки. Я шныряю между строительных плит и ржавых мусорных баков, разгребаю лапами вонючие отходы (как же я ненавижу себя за то, что не могу не искать эту палку!) и в конце концов нахожу ее, хватаю зубами, плачу, с моей морды капает, и я продолжаю плакать, грязь и слезы смешиваются, это конец. Я как Балак в романе Агнона, никакого литературоведения не нужно.
Можешь вычеркнуть последнее предложение, если оно тебе не по душе. Хотя мне-то кажется, что иногда текст имеет право позвать на помощь другой текст. Да помню я, помню. Впереди последняя ночь. Я в пути. Снова бежать? Ты же видел, сколько я уже пробежал. Ни один человек тут столько не бегал, сколько я. Ну хорошо. И все-таки. Это мой монолог, я хочу чтобы ты дал мне немного свободы, чтобы я мог разработать собственную стратегию. Да, конечно, главное – не затягивать, но мне важно принципиальное согласие. Чтобы мы договорились насчет композиции. Композиция – это очень важно. За днем следует день, за ночью ночь, правильно я говорю? Некоторые идеи из партитуры возвращаются и звучат снова. Есть во всем этом что-то от традиционной критики. У нас просто нет выбора… Да, короче, короче.
Итак, опускалась ночь среды, я, всеми покинутый, лежал на площадке и вдруг учуял позади себя запахи. Это оказались три пса, три дворняги. Все они были разных размеров, все без ошейников, а около них крутилась молодая, годовалая сука. Они окружили меня и обнюхали.
– Кто вы? – спросил я ослабевшим голосом. – У вас есть хозяева или вы бездомные?
– Мы бездомные.
– И маленькая тоже?
– Она тоже.
Что затеплилось тогда внутри моего существа? Отчаяние, страсть, вожделение? Или все вместе? Я встал на лапы и обратился к ним. Снимите с меня ошейник, нынче вечером я стану бездомным. В твоем возрасте? В моем возрасте. Побуду бездомным столько, сколько мне еще отпущено. Я только что оставил свою семью. В мгновение ока они накинулись на меня, вцепились в ошейник, стали рвать и тянуть полоску кожи, задевая и мою шею тоже, чуть не задушили меня, я уж решил, что вот она настала, последняя ночь. Наконец они порвали ошейник, и он упал на землю, изношенный, иссохший кусок крашеной кожи. Я даже немного пожевал его – в конце концов, за все это время он стал в какой-то мере частью меня. Вот и все. Теперь он не только не вещь – он больше не символ бессознательных ограничений.
А что делают бездомные псы по вечерам? Сейчас увидишь. Я, который посвятил всю свою жизнь людям, никогда не предполагал, что собаки могут так буйствовать. Они носятся за котами, облаивают прохожих, переворачивают мусорные баки, а потом натыкаются вдруг на мула, который тащит за собой телегу, и облаивают его сначала радостно, а потом, когда понимают, что это не большая собака, а всего лишь мул, облаивают просто так. Они забираются в рыбный ресторан у моря и виляют хвостами, стоя у столов, в надежде, что им перепадут какие-нибудь объедки. Они всегда голодные. Они косятся на расположившиеся по скамейкам парочки, безо всякой причины облаивают нищего, а когда нечем заняться, задираются друг с другом. С бесконечной преданностью они бегают за людьми, выходящими из кинотеатра. Они забираются на крепостную стену и воют на луну. Садятся у дороги и облаивают проезжающие автомобили. Они залезают на молодую сучку, она огрызается на них, смотрит по сторонам, и ее взгляд ищет меня.
Холодный ветер, красное небо, гром. Пыль. Песок из пустыни. Редкие капли дождя с неба. Бродячие собаки пропадают и возвращаются, они не сидят на месте. Есть ли у них лидер? Нет такого. Их двигает с места на место коллективное бессознательное, оно не знает сна, и у него нет чувства времени. Это оно заставляет их смеяться, возмущаться, задирать друг друга и вступать в драки. И я почему-то таскаюсь за ними и, хотя не испытываю ни голода, ни жажды, преодолеваю себя, стараюсь схватить еще кусочек объедков. В полночь, когда включаются фонари, собаки мчатся к вокзалу, к путям, где стоят грузовые поезда, – будто ночная птица скользит в темноте, они бегут под усиливающимся дождем к черным вагонам. Я бегу из последних сил и ловлю себя на том, что лаю вместе с ними, – как же низко я пал. Я вижу старый вагон, дверь открыта, я запрыгиваю в него. По полу разбросана гниющая солома, мусор, старые рваные брюки, пустые банки из-под пива, я забиваюсь в угол, трясусь от холода, сворачиваюсь в клубок, хочется спать, но заснуть я не могу. Я вижу пару глаз, зыркающих на меня из темноты. В вагон запрыгивает молодая сучка, исцарапанная, облезлая, ее тянет ко мне, я чувствую это. Она обнюхивает углы, обнюхивает меня и ложится рядом со мной.
И вот наступает утро четверга (ты помнишь этот четверг?). Светает. Дверь вагона вдруг с силой захлопывают и запирают. Слышны голоса людей, и вагон, скрипя колесами, начинает двигаться. Ну что ж, говорю я себе, я теперь пенсионер, пора начинать ездить в поездах. Сколько раз они пытались заставить меня – ни разу им не удалось загнать меня в вагон. Сучка вскакивает со своего места, она потрясена. Она прыгает в истерике и лает.
– Куда нас везут?
Похоже, ей не приходилось быть запертой в четырех стенах, стопроцентно уличная псина. Примитивная, испуганная и злая, прыгает из угла в угол, бросается на стены, наконец я не выдержал и зарычал на нее.
– Держи себя в руках, сучка, хватит. Я тут отдыхаю. Будешь мне мешать – прибью.
Она испугалась, убралась в угол, зажала голову лапами и замолчала, только глаза остались светить страхом и печалью, а вагон катится с оглушительным ревом, качается и дрожит, куда же нас везут, думаю я, мы едем, едем, останавливаемся и снова едем. В щели между досками стен пробивается, мелькая, свет солнца и проникает запах полей и угля. Мы едем, останавливаемся и едем дальше. Дальше и дальше, едем и едем. Часами. И вы называете Израиль маленьким? Уже и свет меняется, из золотистого он становится сероватым, фиолетовым, запах полей сменяется запахом пыли, слышен металлический скрежет и далекий гудок. Куда едет этот пустой вагон, вопрошаю я в изумлении. Я растянулся на гнилой соломе – так, может быть, здесь мне и придется дать монолог последней ночи? Здесь, в товарном вагоне израильского поезда на перегоне между месторождениями фосфата в пустыне Негев? Сучка снова скулит, ее тревога нарастает, она мечется и царапает доски.
– Что ты скулишь?
– Я голодная.
– Да ты всегда голодная.
– И все-таки.
– Ума не приложу, чем тебе помочь.
Она подходит к куче дерьма в углу, обнюхивает ее и пробует на вкус.
– Брось это, не советую. Это человеческое дерьмо, еще подхватишь что-нибудь.
Она отходит от кучи и со страхом смотрит на меня.
– А ты почему не голоден?
– Я ем себя.
Я думаю, что за несчастная выпала мне судьба – быть запертым здесь с этим ребенком, у которого ни документов, ни манер, ни образования?
– Поиграй немного с банками из-под пива, это отвлечет тебя.
Она катает их по вагону, скалит зубы и рычит на них. Полная дура. Между тем тьма в вагоне сгущается, поезд натягивается, звучит гудок локомотива. Ночь наполняется горьким запахом пустыни, сучка приближается ко мне, в глазах ее голодное бешенство, взгляд дикий и страшный. Она облизывается и слегка прикусывает меня.
– Ты что делаешь? – шепотом спрашиваю я.
И тут она прижимается ко мне и ложится на меня.
– Эй, ты что?..
– Что ты делаешь?
Я одним ударом переворачиваю ее на спину и обнюхиваю. Я проверяю на всякий случай: кто она? Кто ее родители? Как бы не заразиться от нее чем-нибудь. Ночь пахнет весной, и кто знает, сколько нам придется провести вдвоем в этом вагоне. Она еще, чего доброго может попытаться прикончить меня, пока я сплю, такие истории не редкость. Я со вздохом залез на нее и достал то, про что думал, что у меня уже этого давно нет. В полночь с четверга на пятницу поезд остановился, и нас окружила глубокая тишина. Я встал и заглянул в щель. Ночь, звезды. Горный воздух – чистый и пьянящий. Где это мы? И она снова начала заходиться и царапать дверь. Я сказал ей:
– Хорошо, хочешь попытаться – попытайся. Только не лай, а скули человеческим голосом, чтобы подумали, что здесь ребенок.
И она заскулила, хотя было похоже не столько на ребенка, сколько на пьяного моряка. Несмотря на это скоро мы услышали шаги и увидели мерцание фонаря, и кто-то кому-то что-то говорил, а мы продолжали скулить на разные голоса. Это оказались охранники, и они пошли искать кого-то, кто мог открыть дверь.
Я сказал:
– Как только дверь откроют, будь осторожна, ласкова, повиляй радостно хвостиком, не груби, подставь голову, будто хочешь, чтобы тебя погладили, только не открывай пасть, и упаси тебя боже показывать зубы. Сиди и вызывай умиление, подавай им переднюю лапу, если попросят, короче, отвлекай их, пока я не смоюсь.
Снова послышались голоса, и мы удвоили усилия, скулили в две глотки. Наконец дверь открылась, и мы тут же выпрыгнули на платформу и стали барахтаться и прыгать от радости, исполнили практически танец живота. Люди хохотали, а потом стали хватать ее, а я ускользнул и спрятался в туалете. Я лизал разлитую на полу воду, смотрел на себя в зеркало и видел в нем толстого, облезшего, седого старикашку с красными глазами, бастарда без роду и племени, или, иначе говоря, единственного представителя своей крайне редкой породы. Но где это я? Я беру ноги в руки, выскальзываю из туалета, прыгаю на пристенок, и вот я уже на дороге. Каменные дома, доска объявлений, влажная ночь. Куда я попал? Я внюхиваюсь в воздух. Холодает. Иерусалим? Что, неужели место монолога последней ночи наконец определено?
Я обнюхал доску объявлений. Запах громоздится на запахе, все объявления написаны от руки разными руками, а еще мешается запах цистерны с водой. Неужели Иерусалим? А вот слышно, как кто-то приближается иноходью, сзади меня обнюхивают. Это молодая сучка. Похоже, она преследовала меня. На шее у нее болтается обрывок веревки. Ночь в запертом вагоне укрепила ее характер.
– Что, не захотела остаться на станции?
– Я не хочу расставаться с тобой… – Она облизывает мою морду.
– Только не говори, что влюбилась в меня. Ты хоть знаешь, сколько мне лет? В моем возрасте уже нет сил на секс. И вообще, еще немного – и наступит последняя ночь, все затихнут и будут ждать моего монолога, моей арии, а еще ничего не готово, ни ноты, ни слова. Я не смогу дать тебе то, что тебе нужно, тебе нужно отцовское тепло, вовсе не то, что ты думаешь, а я не могу заменить тебе отца. То, что произошло в запертом вагоне, больше не повторится, это была случайность.
– Случайность?
– Практически. Во всем виноват запах твоего молодого и сладкого тела. Ну а если ты всерьез влюбилась в меня, тогда иди за мной по пятам, пока это не пройдет само собой. Потому что если ты уйдешь сейчас, то любовь превратится в манию.
– Случайность? Я-то думала…
– Не более чем случайность. Но если будешь хорошо себя вести, могут случиться еще случайности. Только не отвлекай меня в последнюю ночь… Мы прибыли в Иерусалим, и если именно его выбрали для моего монолога, то, значит, надо торопиться. Это роковой город, небольшой, съежившийся, подтянувшийся. Тяжелый город, полный символов. Смутное чувство вины владеет им, и мы до сих пор ищем в нем корень бед. Это жестокий город, особенно к собакам. Не одна собака сошла здесь с ума.
– Ты уже был здесь?
– Нет, только читал о нем в книгах. И если книги говорят хоть что-то о реальности и в них не только фантазии, то я смогу здесь ориентироваться. И не плачь, пожалуйста, вытри слезы.
– Но я умираю от голода.
– Не начинай. Лучше не думай об этом вообще. Здесь нет еды. А если найдется еда, значит, мы оказались не в том месте. Впрочем, тогда ты сможешь найти себе какого-нибудь бестолкового хозяина, и тогда ты никогда больше не будешь голодной.
И медленно переступая четырьмя своими лапами, я двигаюсь вверх по улице. Разгорается рассвет…
Слушай, по поводу описания. У меня нет сил продолжать. Давай насчет Иерусалима ты меня пожалеешь. Это ведь Иерусалим? Смотри, соответствующий стиль сам выбрал тебя. Это коллективное бессознательное пугает, требует – я боюсь потерпеть неудачу. Я не смогу описывать все эти знаменитые места с помощью одних только запахов. Я пойду туда, куда ты скажешь, ко всем этим древностям и красотам, и если Иерусалим действительно выбран для последнего монолога, позволь мне охватить взглядом сразу весь город, как бы с высоты, и я пролаю его всем своим сердцем.
Горацио с молодой сукой побрели по Иерусалиму, исследуя границу между литературой и жизнью. По вершине холма шел поезд. Они облизали утреннюю росу на железных воротах старой мельницы в Ямин-Моше и продолжили путь. Странное здание притягивало их внимание, и они пошли вдоль его стен и шли много часов, пока не поняли, что вернулись туда же, откуда начинали свой путь. За это время на востоке поднялось солнце, ночные облака с их дождями постепенно рассеялись, и в утренних лучах засверкала стена Старого города. Горацио не знал, что это за великолепие открылось перед ним, но тем не менее протянул вперед лапы и немного полаял. Он не был сильно верующим, и все же религиозные чувства дремали в нем. Сучка стояла рядом с ним и не могла прийти в себя от изумления. Но Горацио не торопился войти в старый город, и в нем поднималось волнение. Впервые в жизни он обращался к неведомому – он должен был подготовить свою душу к тому, что должно произойти, и еще накормить малышку. Они потащились вверх по улице и пришли к гостинице «Кинг Давид». Через заднюю дверь они вошли на кухню и подобрали объедки.
Между тем город просыпался. Они прошли от башни ИМКА к улице Керен-ха-Йесод, прошли по переулку Смоленскина, мимо дома главы правительства – как божественно пах там мусор! – потом свернули на улицу Бальфур, обогнули площадь Вингейта, бывшую Саламэ, пошли дальше по Жаботинского до дома президента, понюхали, каков у него мусор. Оттуда по улице Радак спустились в сторону Азы и вернулись к Терра Санта, покрутились около Сохнута и обнюхали его тоже. У Горацио вдруг возникла мысль: а не поменять ли ему семью на нацию, отдохнуть от семейной борьбы в национальной? На улице Георга V в центре города они принюхивались к запаху кофе. По улице Яффо они поднялись к мэрии, заинтересовавшись грустным запахом мэра. Потом пошли по улице Царицы Елены, слушали музыку, доносившуюся из каменного дома, там работал «Голос Израиля», и, побродив немного, почувствовали запах свежих новостей.
Сучка не всегда успевала за ним. Вечно голодная, она запускала свой нос в каждый мусорный бак да к тому же обнюхивала каждое дерево. Горацио был без ошейника, но по его тяжелому и уверенному виду, по его поникшей и серьезной голове всякий признал бы в нем домашнюю собаку, уже по тому, как он зашел бы в дом, вежливо и воспитанно, все двери были бы открыты для него, а на суку набросятся, ее выгонят с руганью, несмотря на ее симпатичную мордашку с белым пятнышком на коричневом лбу и сверкающими глазами. Ну, погладят, но как только увидят, что ласки она не понимает, не привыкла ни к ней, ни к обществу людей, тут же пропишут пинком под зад. Зато иерусалимские бродячие собаки учуяли ее запах и пошли за нею следом, а щенки попытались поиграть с ней. Иногда она пропадала, и он говорил самому себе: слава богу, избавился от нее! Но почти сразу же останавливался, оборачивался и ждал, пока она догонит его. Она прибегала запыхавшаяся, виляла хвостом, таща за собой обрывок веревки, слюна капала у нее изо рта, и она принималась облизывать его морду своим горячим и мягким языком. Влюблена. Он слегка пожурил ее, сорвал с нее зубами веревку, подтер ей слюну, и они продолжили путь. Он думал про себя: нужно поскорее от нее избавиться, а то, чего доброго, влюблюсь в нее, я ведь теперь свободен, а тогда придется заботиться о ее пропитании.
Город очень ему понравился. Холодные камни, древние запахи, сухой ветер пустыни. Стояла нежная весенняя погода. У него все еще кружилась голова от всех событий последних дней. Сколько времени просидел он в сумасшедшем доме, привязанный к своей семье, прикованный на цепь, прирученный, каждый свист и каждое движение приводили его в волнение, он все время прислушивался, не идет ли кто-нибудь из своих, питался по расписанию – и вот он свободен от всего этого. Свобода прохладой овевает его шею. Опять же, он не собирался никуда отправляться – и вот он в Иерусалиме. Можно ли в его возрасте поменять жизнь? Он думал об этом, и мысли путались в его голове.
Была середина дня, когда он вошел в Меа-Шарим, по следам Балака, трепеща и страдая страданиями литературного героя, разглядывая евреев в черных шляпах, которые хлопотали, готовясь к шаббату. Он подумал: надо же, все так и есть. Литература не обманула его, даже запах оказался тем самым.
Оттуда он пошел к Воротам Мандельбаума, а там свернул в сторону Геулы и Тель-Арца. По запахам они поняли, что из одного района они попали в другой. Странная пара привлекает внимание, люди обращают на них внимание, смотрят с улыбкой. По другой стороне холма он решил спуститься к садам в Шаарей-Цедек. Там они нашли опустевший дом, в котором остались только его запахи, а от него уже было рукой подать до комплекса правительственных зданий и тихих и пустых каменных домов. Сука ворчала: что ты все ходишь да ходишь, ничего тут нет, ни еды, ни людей, – но он не отвечал, молча продолжал идти. Ближе к вечеру они пришли к Университету и немного постояли у Национальной библиотеки. Он долго обнюхивал стеклянные двери, и его желтые глаза вместе с душой плакали обо всех книгах, которые он никогда не прочтет. Между тем солнце садилось и сгущалась тьма. Стало вдруг холодно. Усталая сучка, тяжело дыша, терлась об него, пытаясь согреться, и, раз уж он обещал ей еще одну случайность, он выполнил обещание.
В полночь с пятницы на субботу Горацио сказал себе: ну что ж, здесь мы все обнюхали, теперь самое время войти в Старый город. Пройдя вдоль освещенной стены, они подошли к Яффским воротам. Ночной патруль заметил их издалека. От сонливых молодых солдат пахло оружейным маслом, они гладили и ласкали их. Всю ночь они жались к стенам на узких улочках и дождались, пока стали подниматься жалюзи на окнах магазинов и потекли ароматы свежих бубликов, крепкого кофе и сваренных вкрутую яиц. Стали появляться первые туристы. Сучка ела свой завтрак в уличной грязи, и даже он смог проглотить немного. Отсюда начинались паломничества – от церкви к церкви, от мечети к мечети, от синагоги к синагоге. Они стояли в тусклых проемах дверей, вдыхали запах ладана, слушали голоса муэдзинов и шепоты еврейских молитв. Сучка всюду следовала за ним и распространяла запах течки. Погода изменилась, вместо теплого воздуха и мягких облаков на синем небе – холодный ветер, тучи и иногда капли дождя, и тем не менее они оба чувствовали, что движение весны продолжается.
Ближе к обеду они пришли к широкой Стене, волнующей запахами мяты, мха и старых камней, но как только они попробовали подойти к камням, их тут же прогнали. Бесшумная и мягкая походка не помогала: охранники упорно отгоняли их от Стены. Он подумал, что, может быть, если у него будет кипа, то его пропустят, и схватил зубами один из черных бумажных уборов, лежавших на столе неподалеку, но охранник кинулся к нему и больно ударил. Тогда они вышли через Мусорные ворота и пошли за стеной Старого города. Горацио чувствовал себя превосходно и немного полизал камни стен. Они продолжили путь и вошли обратно в город, поднявшись по Золотым воротам на Храмовую гору в сторону большой мечети, где он рассчитывал спуститься обратно к Стене. Рядом с мечетью они увидели будку, которую сторожил охранник-араб. Они проскользнули мимо него, но охранник проснулся и погнался за ними, ругаясь по-арабски. Горацио попытался затесаться между туристами, но войти ему все равно не дали. Он изо всех сил старался быть маленьким и бесшумным, но его все равно замечали и колотили. К тому же пропала сучка, и вокруг поднялась суматоха. Он побежал и обнаружил каменную лестницу, ведущую с площадки вниз, она была закрыта решеткой. Он подумал, что, пожалуй, там, внизу, он сможет принюхаться к коллективному бессознательному. Он быстро скользнул между прутьями решетки и побежал по извилистым тоннелям, старым пещерам, чувствуя запахи древних пожаров, исторических страхов, запахи козьего навоза и подпочвенных вод, – с удивлением он обнаружил, что все эти запахи уже знакомы ему по его снам. Он растрогался от этого открытия, полаял из глубины и продолжил свой бег, пока не достиг новодельной каменной стены. Там он немного поплутал, нашел дорогу назад, а когда он поднялся, было уже поздно – наступил праздничный вечер. Он решил найти пропавшую сучку и нашел ее – старый охранник поймал ее и привязал к своему стулу. Возле нее лежала сухая пита и стояло блюдце с водой. Она сразу почувствовала приближение Горацио и заскулила. Старик встал, погладил ее и уложил снова на землю, даже пощекотал ей лапы. «Мерзкий старикашка», – подумал Горацио. Он немного переждал, потом обошел кругом, подошел к ней сзади и попытался зубами развязать веревку, но старик тут же заметил его, замахнулся палкой и прогнал. Горацио отбежал в сторону, спрятался между двумя камнями и не сводил глаз с сучки, так и оставшейся в проходе между Стеной Плача и большой мечетью. Через некоторое время он увидел, как беззубый старикашка стягивает веревку на ее шее. Горацио залаял изо всех сил: «Беги, а то сейчас превратишься в арабскую собаку и ко всем твоим бедам добавятся еще и арабские!» Старик вытащил нож, Горацио зарычал на него, и старик тоже сердито зарычал, а потом бросил в него нож. Горацио убежал.
Стало совсем темно, улицы опустели. Горацио удивился, какая тишина царит в Иерусалиме на исходе субботы. Он-то привык к исходу шаббата в Тель-Авиве, там он совсем другой. Он выбежал из Львиных ворот в Новый город, он торопился, чтобы позвать на помощь. Но небо было темное, а людей на улицах почти не было. Он был голоден и чувствовал жалость к себе, бездомному. В Меа-Шарим он увидел полыхающие мусорные баки. «Сумасшедший город!» – подумал он. Около полуночи он вернулся на площадку перед мечетью. Сучка все еще была там, на ее шее висела тяжелая цепь. Она спала, а старик, закутавшись в старый плащ, готовил что-то на переносной горелке. Закончив готовить, он разбудил ее и накормил. Она виляла хвостом, растянулась в ногах у старика и перевернулась на спину. Внизу, недалеко, прошли еврейские солдаты. Горацио в изумлении думал: хорошо, что я не влюбился в нее, надо же, какая сволочь, ну и оставайся там привязанная, между двумя лагерями, в вечном конфликте, в историческом парадоксе. И он развернулся и пошел прочь, спустился к раскопкам в Верхнем городе, обнюхал древние камни, нашел в грязи кость собаки, которая была убита в большом восстании, и его потрясенная душа плакала. Этот Иерусалим настоящая мышеловка, как покидают его, как вырывают его из сердца? Кто выведет его отсюда? Взойти на Масличную гору и пойти бродить по пустыне. Нет, пожалуйста, верни меня на запад. Он вернулся на тропу и снова пошел вдоль длинной стены, которую уже больше не подсвечивали, направляясь на север, туда, где остался сумасшедший дом. Какой же это дом, говорил Аси, и действительно, это не дом, там не будет никакого монолога, только плач в темноте. Как в том вагоне грузового поезда. Конечно, вдруг подумал он, поезд. Может быть, он сможет уехать отсюда так же, как приехал. Надо только найти дорогу. Это где-то рядом с мельницей… Он забрался на гору Сион, увидел издали мельницу в Ямин-Моше и поспешил к ней. Поднялся по улице Царя Давида, пробежал мимо гостиницы и оказался у железных ворот театра Хан. Он облизал доску объявлений и вспомнил, как она стояла здесь рядом с ним с порванной веревкой на шее. Я должен был лучше следить за ней, подумал он. Иерусалим поглотил ее. Но вот наконец вокзал, и ворота его открыты, и поезд стоит и ждет его.
«Ну, теперь уж я не заблужусь». Горацио переходит от вагона к вагону, пока не находит один с открытой дверью, проскальзывает внутрь, втискивается под одно из сидений и засыпает. «Все. Утро вечера мудренее, надо отдохнуть». Утром его будят голоса людей – переполох, суматоха, люди давятся с коробками и узлами, можно подумать, все население Иерусалима решило сбежать из этого города вместе с Горацио. Спустя немного времени его находят и криками гоняют с одного места на другое. Никто не знает, чей это пес, его ловят и решают дождаться контролера и передать ему. Прекрасно, думает Горацио, до Тель-Авива я все-таки как-нибудь доберусь. И, свернувшись в клубок, он притворяется, что плохо себя чувствует.
«Достаточно. Дальше я знаю. Так что монолог все-таки будет». Поезд ехал между гор, воздух постепенно нагревался. В окнах мелькало голубое небо. Горацио чувствовал себя мягким и слабым, он вызывал сочувствие. Маленькая девочка погладила его и показала его своей маме, а когда поезд остановился на станции и его стали выгонять из вагона, она расплакалась навзрыд. Так, полумертвый безбилетник, он нашел защиту у маленькой девочки и все-таки доехал до Тель-Авива. Здравствуй, Тель-Авив! Это мой дом! Я вернулся к тебе на руках у маленькой девочки и ее матери, они несут меня. Меня пожалели, я несчастное животное. Воздух в Тель-Авиве влажный, нежно греет весеннее солнце, чудесный полдень, и хотя я не знал этой станции, я на ней ни разу не был, все равно – меня переполняло острое ощущение дома. Здесь мой дом, здесь место последнего монолога, круг замкнется. И это правильно. Я должен найти дом Аси. В одно мгновение я спрыгнул с рук, спасибо за помощь, из благодарности потявкал и побежал по городу. Город стал больше, разросся за пять лет, которые я здесь не был, я даже немного путаюсь в нем, но это приятное чувство. Первым делом нужно найти море, потому что дом рядом с морем.
Я заблудился, конечно, заблудился, но это было радостно. Бездомный и счастливый, я бежал по улицам, смеялся и размахивал хвостом на весь Тель-Авив. Прибежав на берег, я попробовал укусить море и вслушивался в его музыку. Я вернулся домой. Я провалялся на пляже до вечера, раздумывая, как найти дом и не заблудиться. Я разработал метод – прочесать весь пляж, гостиницу за гостиницей, обнюхать все улицы, пройти напрямую на восток, а потом вернуться на западную сторону, к морю, и пойти на север. Но тут Тель-Авив затих. С улиц исчезли автомобили, закрылись магазины, люди стали расходиться из кафе. Я уж решил, не настала ли снова пятница. Что если в Иерусалиме своя собственная пятница? А в Тель-Авиве своя? Может, Иерусалим стал религиозной автономией. Медленно опускалась ночь. Люди в кипах идут по улицам, у них хорошее настроение. Автобусы пропали. Меня охватил страх: мне пришло в голову – может, дом сломали, а вместо него построили гостиницу? Вдруг я увидел знакомое дерево. Рожковое дерево, около которого я всегда задирал лапу, проходя мимо, а рядом с ним магазин, вокруг которого припаркованы машины. Я упал на лапы – здесь даже сохранился мой запах, я отличу его от тысячи других. И тогда глаза мои медленно поднялись, и я увидел дом. Вот он, любимый. Ворота покрашены заново, несколько балконов заделаны новыми окнами из алюминия. Глаза мои поднимаются выше и выше, до третьего этажа. В окнах темно. Где они?
А вот и соседи. Они возвращаются из синагоги, на головах у них кипы. Мальчик уже в форме, а девочка превратилась в соблазнительную женщину, а была совсем малышка – я чувствую, как страх смерти отступает. Но что с ними случилось? Неужели стали религиозными? Когда-то я постоянно находил в их мусоре объедки свинины. А вот и пуделиха с первого этажа вышла на прогулку. Как постарела, ведьма, и тянется в мою сторону, чуть не срывает поводок, аж хрипит от натуги. А вот одинокий старик из дома напротив, у него новая собака, вот он торопится домой, и рядом с ним идет огромный доберман. Сегодня что, какой-то праздник? Не понимаю. Люди идут и идут по улицам, идут друг к другу в гости, я вижу много новых лиц. Старики, которые жили напротив нас, пропали. Может, их взяли в дом престарелых. Вместо них живет молодая семья, и сейчас они встречают пришедших к ним в гости бабушку и дедушку. А где же мои? В квартире все еще темно. Я встаю и брожу по улице. Кондитерской больше нет, из кафе сделали банк, над стеклянной дверью висит электронное табло с цифрами, и в двери я вижу свое отражение. Неужели это я? Да, заметно, Горацио, как ты провел последние дни. Взгляд дикий, шерсть потрепанная, даже в сумасшедшем доме ты выглядел получше. Наконец улица пустеет, в квартирах горят лампы. Может, мои прячутся? Все семьи живут вместе, и только моя семья разбита на осколки.
Я выбрался из своего убежища с поникшей головой. Прошел в дверь, поднялся по ступеням и лег на коврике рядом с дверью. Это моя территория. Здесь пахнет моим домом. Я немного поцарапал дверь, встал на задние лапы и нажал кнопку звонка. Тишина. Где же они? Не может быть, чтобы никого не было. Меньше суток до начала последнего монолога. Он должен произнести его здесь, вернувшись наконец домой, более подходящего места не придумать.
В квартире звонит телефон. Сейчас посмотрим, подойдет кто-нибудь или нет. Телефон звонит и звонит и наконец замолкает. Я лежу, свернувшись, под дверью, голова крепко зажата в лапах. Из соседних квартир раздаются песни. Там что, певцы живут? Когда-то я знал одну певицу. Все-таки сегодня праздник, все празднуют, и только мои где-то заблудились и опаздывают. Я чуть вздремнул, а где-то через час соседняя дверь раскрылась настежь, и на лестницу легко ступил маленький мальчик, как будто вышел кого-то встречать, но, увидев меня, испугался и побежал обратно в квартиру. Послышались возбужденные голоса, вышли его брат с отцом и зажгли свет. И этажом выше тоже открылась дверь, сосед спустился посмотреть на меня и вдруг засмеялся. Меня узнали. Он нагнулся ко мне и погладил. Это собака Каминки, говорит он. Со смехом он пытается вспомнить мое имя. Орфео, Одиссео, Гомеро, Софокло. Видно, тут привыкли подшучивать над моей семьей. Я лежу, свернувшись, и даже хвостом не дергаю. И вдруг дверь внизу открывается и на лестницу выходит старик, про которого я думал, что он пропал. Горацио, говорит он. И тогда я завилял хвостом. Прибежал ребенок и принес мне миску с водой и кусочек мацы. Значит, точно праздник. Праздник освобождения. Я поднимаюсь, лакаю воду и ем мацу, а потом снова ложусь. Все смеются. Дети наклоняются ко мне, чтобы погладить. Я закрываю глаза. Хорошие соседи, не выгнали меня. Я должен подготовить монолог. Я чувствую прилив вдохновения.
Действительно, в голове как будто начинает играть музыка, хвост мотается, как метроном. Сама собой складывается замечательная композиция. Лирический монолог, воспоминание об отцовском доме, сладкая ностальгия. Это будет нежный монолог, монолог необыкновенной красоты, ты еще увидишь, на что способен этот старый пес. Двери вокруг закрылись, певица умолкла, гости разошлись по домам, наступила тишина, и мерцающая тельавивская ночь вступила в свои права. Я без движения лежал у двери, грел ее своим телом, а в мыслях я ходил по квартире и вспоминал. Из кухни в гостиную, на полу ковры, запах книг, забытые воспоминания. Запах утреннего сна, запах мыла. Все удивляются, что я понимаю команды. Сидеть. Лежать. Зимние дни, запах зимы. Запах нефти. За окном умерла птица – запах ее трупика. Ночью я лежу на спине. Запах ссор. Запах страха. Цви, запах его спермы. Запах сгоревших колючек. Запах обещаний. Ты сочувствуешь всем. Любовь переходит в разочарование. Иногда, когда никого нет дома, я лежу на диване и нюхаю книгу. Обед. Мясо варится в супе. Запах обуви. Запах новой женщины в его одежде. Ночью они говорят обо мне. Потом она приносит еще кого-то. Пухлый младенец. Запах пеленок, запах ошибочных суждений. Нож, запах ножа. Запахи меняются. Боится, что будет женщина, и поэтому заводит маленькую девочку. Запах монолога, запах сваренного вкрутую яйца. Я сплю, и мой монолог растекается по лестнице. Запах лестницы. Полоска бледного света проникает через щель в крыше. Запах света. Реальность, смешанная с фантазией. Такой будет монолог.
И тут я слышу за дверью писк, и до меня доносится отвратительный запах. Я просыпаюсь, встаю на лапы – там внутри кто-то бегает. Я приникаю к двери и слышу тихий писк. В квартире крыса. Оскверняет мой дом. Трогает мою миску, ковер, на котором я спал. Они взяли себе крысу вместо меня, и теперь она хочет попасть в мой монолог. Я угрожающе лаю, прыгаю на дверь, принюхиваюсь, принюхиваюсь, и у меня не остается сомнений. Мерзкая крыса захватила мой дом. Я слышу, как она замирает, потом снова бежит, бежит на кухню, прыгает на раковину, падает ложка. Запах обглоданного сыра. Меня захватывает страшное отчаяние. Я с силой бросаюсь на дверь. Отбегаю и атакую ее с разбегу, я колочу в нее лапами, визжу и скулю. Двери других квартир открываются, выходят сонные соседи в пижамах, они глядят на меня с ужасом, пытаются утихомирить меня, но я продолжаю неистовствовать. Спускаюсь и поднимаюсь по лестнице, снова сажусь и бью хвостом из стороны в сторону, как плетью. Все собаки по соседству поднимают лай. Даже пуделиха выходит на площадку и начинает вопить. Горацио, обращаются ко мне, Горацио. Дети начинают плакать. В доме переполох. Я врываюсь в соседнюю квартиру, пробегаю по комнатам, между кроватями, нахожу общую стенку и пытаюсь пробить ее. В меня летят подручные предметы. Пуделиха поднимается на мой этаж и истерично лает. Я набрасываюсь на нее и прокусываю ей ухо. Люди выгоняют меня и закрывают двери. В отчаянии я бегу по улице. Начинается буря, дорога идет вверх, я направляюсь в сторону моря – у меня нет ни семьи, ни хозяйки, только дикая природа. Море спокойное, серое, его поверхность отсвечивает цинком, в воздухе острый запах соли. Я захожу в холодную воду, чтобы смыть с себя грязь, возвращаюсь на берег и вываливаюсь в песке. Потом я убегаю, сам не понимая куда, просто бегу вдоль берега в сторону Египта, в сторону его золотых песков, берег длинный, по нему можно бежать долго.
Я бегу по берегу, я испачкал лапы в луже машинного масла, берег пуст, никого нет, дует холодный ветер и текут по небу хмурые облака – можно подумать, зима вернулась. Запах морских водорослей, запах гнилых досок, сломанные пластиковые ведра, связки ржавых ключей, сгнившее полотенце, рваная резиновая лодка, ломаные плетеные корзины и машинное масло. Я бегу дальше, иногда останавливаюсь, всматриваюсь в даль, пробегаю мимо будки спасателя, забираюсь на его пропитанный солью помост, сажусь спиной к Родине и зову большую собаку: почему я остался один? Раз так, тогда прощайте, я ухожу отсюда. В полном одиночестве. Я перейду на другую сторону. К золотому берегу, полному пальм, растущих из мягкого песка, и мой монолог начнется по ту сторону границы. Этот монолог придет ко мне, рожденный из волн.
Светлеет, ветер становится теплее, и я продолжаю идти. На голубое небо возвращается солнце. По берегу проезжает армейский джип с солдатами, на песке сидит парочка, смотрит на меня и целуется. Израильтяне приходят любоваться морем, как только наступает весна. А вот кто-то бежит в спортивном костюме. Я немного пробежал с ним, а потом снова перешел на шаг. Вокруг растекаются потоки тепла: солнце поднимается по небу, озеро света в голубом океане. Внутри себя я уже давно перешел границу. Пять часов пополудни, крепостные стены утопают в море. Я весь соленый, у меня больше нет своего запаха, а через час начнется монолог, и внутри меня звенит тишина – мне нравится это, это необходимое условие, хотя и не достаточное. Я целиком растворюсь в природе, это будет описание моря в сумерках и больше ничего, просто маленький фрагмент мира неживой природы. Но вдруг меня окружают и обнюхивают псы.
– Это ты? Вернулся? Куда это ты пропал? Как похудел-то…
– Кто вы, друзья?
– Мы бродяги из Акко – те, которые разорвали твой ошейник.
– Вы тоже перебежали в Египет? Удивительно…
– Что ты мелешь? Мы в Акко.
– Акко? – Я засмеялся, поднял голову и увидел знакомую линию берега и понял свою горькую ошибку. Я вернулся к исходной точке. Рефлекс взял верх над волей. Вместо того чтобы повернуть влево, я побежал направо.
– Где малышка?
– Какая малышка?
– Которую ты взял с собой…
– Никого я не брал с собой, она просто за мной увязалась…
– Так где она? Ваш вагон вернулся из Иерусалима, но ее там не было…
– Ее взяли и привязали, какой-то старик…
– Где?
– В одном очень важном историческом месте…
– А ты знаешь, за тебя тут волновались, семейка твоя искала тебя по всему городу.
– Они переживали? Ну что ж, я рад, что хоть раз это случилось, а то обычно переживал и волновался я.
– И муниципалитет тоже искал тебя. На нас из-за тебя охотились. Несколько бродячих собак убили.
– Я прошу прощения…
– Ты не вернешься к своим?
– Нет, что мне с ними делать. Отдохну и вернусь на юг.
– Но тебя там ждут с каким-то монологом…
Я навострил уши. Если до них дошли слухи, стало быть, монолог должен будет состояться там.
– Там? Вы уверены?
– Да, купили билеты тебя послушать. Пойдем с нами…
Они были очень вежливы.
– Куда?
– Идем.
– Что это вы вдруг прониклись ко мне жалостью? Мне кажется, бездомные дворняги так себя не ведут.
– Мы знаем… Но тебя нужно вернуть им… Тебе с нами не по пути… Ты полон чувства вины, мы даже не знаем, из-за чего…
Было пять часов вечера. Дул ветер, погода менялась, и, будто провожая садящееся солнце, сгустились тучи.
Они стали подталкивать меня в сторону города, они будто конвоируют меня, они хотят вернуть меня в сумасшедший дом. В голове у меня пусто. Монолог уже скоро, а у меня нет ни одного слова, даже самого первого. Они ведут меня, словно из жалости, я слышу, как они шепчутся друг с другом, мы выходим на главную дорогу, а вот вокзал, вот толпа приезжих, мы бежим посреди дороги, нам сигналят машины, но что они могут сделать с целой стаей собак, которая движется так, будто это одна большая собака, собаки со всех окрестных районов присоединились к нам, даже лошади ржут и кошки мяукают нам вслед.
Солнце слепит, линия горизонта прячется за горами, строения и деревья кажутся вырезанными из бумаги, двумерными, как будто кто-то специально расставил их, как элементы декорации, а мимо проезжают машины, одна из них черная машина, и в ней едет твой хозяин, он хочет тебя послушать. Я поднимаю голову – действительно, это он, проходит мимо, сильно наклонившись к земле, а вдалеке еще одна машина, белая, и рядом с ней в воротах стоят хозяйка, Аси и Цви. Черная машина остановилась не доезжая ворот, рядом с железнодорожным переездом, и он быстро вылез из нее и торопливо пересекает поле, чтобы подобраться к забору около зарослей. Он снимает шляпу. Запах заговора. Я вздрагиваю. Сердце мое сжимается, и я ускоряю шаг. Солнце начинает опускаться, вдалеке оркестр настраивает инструменты. Время замерло. Солнце повисло. Старик исчезает в кустах, а я, к собственному удивлению, начинаю скулить, и собачий народ вокруг меня присоединяется ко мне. Я бросаюсь вперед, пересекаю дорогу, потом поле, прорываюсь за ним в дырку в заборе, я цепляюсь за проволоку ограды, я застреваю.
Не двинуться ни назад ни вперед. Я чую запах хозяина за оградой, и я рву свое мясо о проволоку, прорываясь вперед. Наконец я понимаю. Последний монолог – это не слово, а дело. Я и есть монолог – моя кожа и шерсть, мое мясо и моя кровь. Литература – это я. И литература ранена.
Мгновенно опускается тьма, потом быстро встает луна, и тьма рассеивается. Аси пытается освободить меня, пробирается ко мне с цепью, удивляется, что на мне нет ошейника, вокруг стоит бешеный лай, толпа беснуется, все ждут последнего монолога, появляется Цви, он несет веревку, Аси завязывает веревку на моей шее, тянет меня из кустов и тащит по земле.
Я смотрю вокруг себя. Вот и ночь. Действительно, ночь, она настала. И я пришел. Это последняя ночь. Все стоят в молчании.
Всё?
Начинать?
Это монолог?
Я не справлюсь.
И вот монолог, он звучит в ночи, он строгий и серьезный, дорожка под твоими ногами убегает назад, в небе виден свет первой звезды, там тяжело дышит большая собака. Она виляет хвостом, она высунула язык, а твоя голова в грязи и спина твоя испачкана кровью. Цепь за тобой гремит, играет свою мелодию. Медные трубы моря, флейта ветра, задрожали скрипки – все вместе звучит симфонией. Это последняя ночь из последних сил, и обратной дороги нет. Ты в ужасе, тебе страшно, ты нервничаешь, ты в ярости – это последний монолог. Лают псы, они возбуждены до предела, их голоса толкают тебя вперед и вперед. Бегут люди. Ты и я. Что они делают? Чего они хотят? Запахи сумасшествия. Вот живая изгородь, стены из кустов, здесь Цви под навесом из листьев прячет маму, я набрасываюсь на нее, облизываю ее руки, узнаю их запах, мама, мама, они его прячут, они боятся его, и все вокруг кричат; папа! папа! – кричит Аси, он бледен, он отламывает палку, Горацио, папа, папа. И я, превозмогая себя, бегу на его запах в кусты. Где он? Где он? Слышен легкий шепот воды, шланг свернулся, как змея, розовая змея на черных листьях, квакают лягушки, я лаю на шланг, мой разум будто стал щенком, который не отличает живое от неживого. Жажда жжет мне горло, я лаю на шланг, я лакаю воду, но Аси сзади яростно подстегивает меня веткой: папа, Горацио, папа, – и он тянет за шланг и отключает воду. Снова свежий и сладкий аромат, и снова проволока, проклятая дырка, я забираюсь на камни и копаю, копаю землю, вокруг разлетаются обрывки бумаги – бумага, бумага и ничего, кроме бумаги. Ведь это же его запах… Но мне кричат. На место, говорят мне, на место, все, хватит. Монолог окончен. Но Аси продолжает хлестать меня, будто я лошадь, его глаза горят, вперед, вперед, я лаю из зарослей, там куча вещей – это ее платье, ее шарф.
Я падаю на передние лапы, из меня вырывается ужасный хрип.
Герой страдает, вместе с ним плачет, выплакивает свое горе кларнет. Хватит, монолог. Я глух, я нем. Больше никаких запахов, кроме смеси козьего навоза, сладкого молока и колодезной воды. Мой глубокий голод и моя неутолимая жажда, моя душа лает, и сухой язык вылизывает кровь.
Сноски
1
Се́дер (ивр. «порядок») – ритуальная трапеза в праздник Песах (еврейской Пасхи).
(обратно)2
Хаса (ивр.) – листовой салат.
(обратно)3
В Израиле в качестве местной валюты в период с 9 сентября 1952 года до 24 февраля 1980 года использовался израильский фунт, называвшийся также израильской лирой.
(обратно)4
Машиах (ивр) – мессия.
(обратно)5
Ладино – язык сефардов, возник в результате длительного проживания евреев в Испании.
(обратно)6
Багрут (ивр) – аттестат зрелости.
(обратно)7
Перевод с испанского Павла Грушко.
(обратно)8
Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь вселенной… (ивр).
(обратно)9
Тот, Кто стоял за праотцов наших и за нас… (ивр.).
(обратно)10
Пасхальная Агада́ – сборник молитв, благословений, комментариев к Торе и песен, прямо или косвенно связанных с темой Исхода из Египта и ритуалом праздника Песах. Чтение Пасхальной Агады в ночь праздника Песах (с 14 на 15 нисана) – обязательная часть седера.
(обратно)11
Элиягу (рус. Илья-пророк) – во время пасхального седера в специально приготовленный бокал наливают вино в честь пророка Элиягу.
(обратно)12
Во время пасхального седера открывают входную дверь для пророка Элиягу.
(обратно)13
Миньян (ивр. счёт) – в иудаизме – кворум из десяти взрослых мужчин, необходимый для общественного богослужения и для ряда религиозных церемоний.
(обратно)14
Мошав – сельскохозяйственный поселок.
(обратно)15
Перевод с иврита Тамар Белицки.
(обратно)






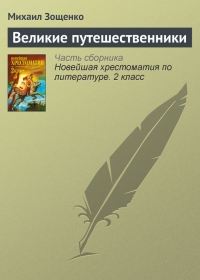
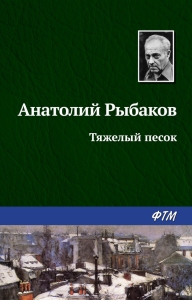



Комментарии к книге «Поздний развод», Авраам Б. Иегошуа
Всего 0 комментариев