Вечное возвращение. Книга 1 Михаил Литов, Людмила Толич
К читателям!
Перед вами повести Забытых писателей. Не простое, не легкое время досталось авторам этой книги… Трагичны и судьбы наших собратьев по перу начала XX века. Призвание и талант не гарантируют никому блистательных успехов и лавровых венков. Зато наверняка обеспечат смятенье душ и боль сердечную.
Они были правдивы и хорошо образованы. Они бились по обе стороны баррикад: «За царя и Отечество!» и «За власть Советов!». Одних расстреляли, другие умерли в тифозных бараках, погибли от голода, не многие пережили жуткое лихолетье и были обласканы властью Советов.
И те и другие писали свои книги на «разрыв аорты», а иначе – какой смысл вообще громоздить слова, прилепляя их одно к другому с завидным усердием?
Нынешний труд составителей сборника произведений Забытых писателей обращен в равной мере к тем, кто любит читать, и к тем, кто пишет… Ведь те, кто «призваны», кому даровано Призвание – в ответе за бесценный дар Божий…
Поистине, наши Забытые «возвращенцы» и век спустя послужат достойным образцом виртуозного владения бесценным русским словом и страстной любви к мучительному литературному творчеству.
Да, «Времена не выбирают, в них живут и умирают…»
Март, 2016
Вступление Из книги «Заметки читателя»[1]
Раздумывая о странностях своего пристрастия к книгам и пытаясь создать некую личную, во всяком случае оправдывающую мои наклонности и даже придающую им силу, философию читателя (а потребность в ней ужасно назрела, если принять во внимание, что я зачитался уже до изумления и никакого разумного выхода, кроме как отправиться к праотцам, из этого заколдованного круга не видится), не могу не вспоминать одного человека, пожелавшего разъяснить мне, что бессмертие души, бесконечность пространства, вечность – все это глупые выдумки, химеры ограниченных умов и пугливых душ.
– А правда, – крикнул он, – в бесконечном творческом самосозидании Вселенной, и люди, сумевшие включиться в великий процесс космического строительства, космического искусства, проживают жизни, переходя со ступени на ступень и приближаясь к совершенству, до тех пор, пока хватает у них творческой силы.
Сам он, этот человек, много пишет о подобного рода созидателях, в особенности о представителях русского космизма, а все это для нас уже тени прошлого, и он хотел бы открыто описывать их нынешнее положение, но сомневается, будет ли это научно в глазах непосвященных.
Поразительное происшествие заставило его от смутных подозрений перейти к знанию о существовании более высоких, чем наш, миров, и состояло оно в следующем. Взяв в редакции свежий номер выпущенного в свет журнала с его статьей об одном замечательном провинциальном философе и мечтателе, он лег дома на диван и, чего обычно не делал, прочитал всю эту статью от корки до корки, прочитал с несколько неожиданным для него волнением, как будто что-то новое и потрясающее, а только закончил чтение – философ уже тут как тут и хотя ничего не говорит, никак даже не материализовавшись, а сообщается все же, присутствует, смотрит проникновенным взглядом.
И сейчас, когда он пересказывал мне этот случай, дрожь пробежала по телу моего приятеля, и чуть ли не встали дыбом его волосы, но это не помешало ему с какой-то практичностью оговорить, что мне, например, нечего рассчитывать как-то здесь присоседиться, тоже пристроиться. Каждому, известное дело, свое, каждый получает после смерти то, что заслужил при жизни, каждый сам строит свое загробное будущее; а иной не получает ничего. На иную жизнь нет отклика ни в одном из уголков бесконечного созидания, и для человека, прожившего впустую, смерть означает не что иное, как бесследное исчезновение.
Я же хочу сказать о том, что маленькая и отрадная вера рассказчика имела все основания стать благостной и исполненной умиления, но он словно немножко помешался, овладев ею, и потому она стала болезненной, резкой и неприятной. А поскольку при этом осталась все равно маленькой, то приняла вид какого-то несчастного и глупого наваждения.
Мой приятель больше не смог просто жить и работать, он теперь уже примеряется, пристрастно, едва ли не придирчиво выбирает, о ком бы написать, чтобы впоследствии встретиться и сотрудничать с угодным ему человеком, а не с тем, с кем возможны недоразумения и сложности. А зачем он рассказал мне свою историю, эту историю своего открытия, не могущего не быть сомнительным в моих глазах? Захотел похвастать, обескуражить меня, поделиться новостью, что у него все хорошо, что он отлично и с завидной ловкостью устроил свое будущее? Но я-то вижу что у него как раз все очень даже нехорошо.
Прежде он, касаясь круга вопросов, и для меня не безразличных, т. е. вопросов литературных, рассуждал вполне здраво.
– Странная выходит штука, – говаривал, бывало, он, – многотысячными тиражами некогда издавали Владимира Козина, а теперь его книги словно корова языком слизала, разве что в специализированных библиотеках сыщешь; или, к примеру, вполне прилично издали в последнее время Алексея Скалдина, Николая Никандрова, а эффект почти нулевой.
Он задавался резонным вопросом: почему выходит такая странность? Почему на людей не производит впечатления явление даже и великой книги? Творческий человек, предполагаем мы, действительно должен мучиться, но у моего приятеля, скрывать нечего, мучение нынче сделалось бесплодным и лишним, бесполезным, и совершенно не понять, почему так.
Раньше он поднимался даже до глубокого, философского, прямо настраивавшего на самопознание вопроса о тайне, заключенной в нем, беспокоился, что в нем за подкладка и начинка такая, что он, не в пример большинству, интересуется всеми этими старыми книжками и, может быть, уже основательно подзабытыми идеями, ночей не спит из-за давно умерших людей, все думает, как бы сделать так, чтобы след, оставленный ими, не остался незамеченным?
Откуда это взялось? Свалилось на него откуда-то или само в нем развилось? Но сейчас впору спросить: куда все это подевалось? В нынешнее время он, нахмурив брови, сосредоточенно перебирает книжки, перебирает имена, сортирует людей и не радуется открытию, а дотошно соображает, достойно ли это, открытое им, наличия, присутствия в его будущем сверхъестественном бытии.
Человек жаждет совершенства, как он его понимает, а оно невозможно, и в результате человек уединено мучается в тесном мирке своих переживаний, своих истерических мечтаний о несбыточном. И это не случайное замечание.
У меня есть своя трепетная, навязчивая, почти что парадоксальная думка, имеется свое индивидуальное мучение. Оно о забытых и полузабытых писателях, о задвинутых в тень или неверно, на мой взгляд, истолкованных книгах. Ну, неверно! – как это может быть? Среди массы истолкований всегда найдется удовлетворительное, лучшее, вполне верное, даже по-своему окончательное. Я выражаю лишь надежду высказать о некоторых книжках не то чтобы нечто совершенно новое и оригинальное, а свое, личное, выделить в них что-то особенно поразившее мое воображение.
Меня почти оставило вымышленное мучение, причиной которого было часто возникающее у прирожденных читателей желание и самому написать какой-нибудь гениальный роман, зато будоражит – и это происходит все чаще, – опрокидывает в некую лихорадку мысль, что я будто бы должен непременно дописать, составить книгу об этих самых несчастных, позабытых, перевранных писателях.
А я ее, можно сказать, давно пишу, все как-то на нее сворачиваю от дел, кажущихся главными, хотя едва ли понимаю, что речь идет о книге и что из всего уже приготовленного действительно можно составить цельный труд. Но как, собственно, это возможно понять? И о каком цельном труде допустимо говорить? Вопросам противостоят вопросы. Цельность? Что это такое?
Или, скажем, опять же вопрос о забытых или неверно истолкованных писателях. Разве не причиной и тут несовершенство мира? Будь мир устроен совершенно, в нем не забывалось бы и не перевиралось хорошее, и я бы не страдал. Но могло ли быть иначе, не так, как есть? Разве не закрадывается тут опасливое подозрение, что когда б мир был устроен совершенным, не было бы и никакой литературы, не возникло бы потребности в ней? А если вдруг так – то для чего же и жить?
Нет, положительно, существовать в условиях Эдема мир абсолютно не в состоянии. Не случайно же ангел света заскучал, взревновал, заозирался, преисполнился нечистотами, был низвергнут и превратился в ангела тьмы. Рядом с необходимостью доброго ощущается равноправная необходимость злого. И это говорит что-то о правоте манихеев.
А рядом с мукой стоит смерть. Она выжидает, подстерегает и если прячется, то не далеко. Так и просится на язык вопрос: да что же вы тоскуете и мечетесь, если неизбежно помрете и вам будет все равно? Или это смерть вас подстегивает, подзуживает, пугает? Если бы я не знал, что меня, в конечном счете, закопают в землю и мне будет все равно, о! сколько бы я всего искреннего и глубокого порассказал о тоске человеческой, хотя бы даже и о собственной.
Ведь на что-то даны мне голова и душа, и надо оправдывать предназначение, отрабатывать дар. Даже приходит сразу мысль, что одна лишь голова, без души, мало на что годится… Наносят, к примеру, на холст мазок, а в нем заключено разве что одно обдуманное понятие; тотчас говорят со стороны, что обдумано не вполне точно и надо немножко переиначить… и в результате ни у кого не получается заполненного холста.
Когда мыслитель и мастер стоял на почве, неполноты быть не могло. Получался заполненный холст даже в случаях слабого и незначительного творчества.
Это соображение о почве наводит на другое соображение, на мысль, что талант дается свыше, как и голова с душой, и человек одаренный это особенно, наверное, понимает в минуты кризиса, когда у него словно все отнимается и он чувствует себя бесконечно жалким, беспомощным и обреченным.
Пораздумав обо всех этих вещах, невольно вскидываешь задумчивый взгляд к небесам. Но вот у меня голова и душа, а я, отскакав и отмучившись некий срок, вдруг перестаю что-либо чувствовать и сознавать – это как же? Зачем? На то лишь дарованы, чтобы я донес их до могилы, где уже ничего не будет? Тем не менее я, сознавая, что со временем перестану что-либо сознавать, продолжаю страдать, тянуть лямку, вытягивать некую свою специальную песнь. И что же это сделало меня таким, какая сила, какие законы? Или, может быть, кто-то сознательно задумал меня именно таким, создал по своему специальному проекту, заложил в меня некую умышленную цель? Да не страдает ли Он теперь оттого, что я ничего не ведаю о Его замысле на мой счет и все мои попытки узнать заведомо обречены на провал?
Забытым нами писателям уже давно безразлично, помнят о них или нет. Ну, представьте себе, даже не тем только из них это безразлично, кто благополучно скончался в своей постели в полной уверенности, что прославил свое имя на века, но и тем, кого лишили жизни насильственно, расстреляли или, может быть, затравили до смерти своими идеологическими выкладками. А мы тут, пока живы, прикладываем палец ко лбу, размышляя о них, сокрушаемся, восклицаем: как же так? почему?
С другой стороны, возможно, что я в этом гуманном, едва ли не восходящем к общечеловеческим ценностям сокрушении дохожу до какой-то личной откровенности, предположим, даже до пароксизма, выкидывающего меня из общего ряда, а где-то уже сидит человек, снисходительно усмехается, ибо он всезнающий специалист или вообще таинственный господин, который все знает вместо всех, чего уже и достаточно. Перед ним мое волнение даже в крошечном и приличном виде выглядит глупо и неуместно, тем более, что он не только знает о забытых, но и знает, что его знание спокойно, величаво и простирается куда-то далеко за границы как бы недоступного мне понимания причин, по которым одних забывают, а других помнят и славят.
Никому не удается жить не так, как он уже живет, и все рассказы о радикальных переменах участи – сказки, заигрывание с судьбой. Один не знает, что есть какие-то забытые писатели, и если мучается, то совсем не из-за этого своего незнания, а другой знает и мучается из-за этого, хотя вполне мог бы найти себе и другой предлог для мучений. Третий вообще вроде бы никак не страдает, но все равно помрет, и если принять во внимание, что его, глядишь, черти в аду обрекут на вечные муки, то повод для беспокойства у него, как ни верти, есть и при жизни.
Нет, что ни говорите, а эта жизнь разнообразна, даже чересчур, зато вот мир, который, может быть, действительно есть лишь наше представление о нем, наоборот, совсем не разнообразен, ибо он – сплошной повод для беспокойства, неудовольствия, раздражения, тоски. И выкрутиться, вынырнуть из этого, раз уж тебе даны голова и душа, совершенно невозможно.
Я, например, хотел бы узнать обо всех несправедливо забытых писателях, всех их прочитать, а разве это возможно? Тоже повод для досады. А как приходится досадовать, когда мою уверенность, что те или иные вполне известные произведения я понял в чем-то лучше, чем даже некоторые маститые критики, разъедает сомнение: да полно, так ли?! Мне, скажем, хочется говорить о литературных процессах с полным и непоколебимым осознанием себя как литературоведа, но какой же из меня литературовед? Опять нехорошо. Если еще вспомнить, что нынче у всякого обозревателя проблем более или менее научного характера примечаний к статье больше самой статьи, а я к своим заметкам за всю жизнь так и не придумал ни одного, то, ясное дело, от всех попутно возникающих негативных эмоций голова пойдет кругом. А жить надо. И мучиться своей думкой тоже надо.
Все это, что я здесь скороговоркой выкладываю, когда-нибудь еще пригодится, еще вольется должным образом в полноту моего умозаключения, что в нашем мире, где не бывает ничего абсолютного, порядок весьма условен и слишком много неразберихи и шатания, все же возможны некие относительные истины.
Разве не истинно, когда мы, ощущая наступающий со всех сторон хаос, не отшатываемся, не круглим в бессмысленном ужасе глаза, а с известной долей мужества, с определенным достоинством продолжаем нашу человеческую игру, держим нашу человеческую форму? Да и самый, скажем, голос литературы, Бог весть зачем испускаемый в неведомое, в пустоту, разве не обретает хоть сколько-то истинности, когда его слышат окружающие, некие ближние, которые, задумчиво склонив голову, минуту-другую красноречиво соображают: ага, вот оно что, а я-то думал…
Но это предварительные замечания, а в каком-то смысле и вводные, на самом же деле мне сейчас следует открыто признать то, в чем я сам уже куда как точно определился: да, неполной будет моя книжка, не удовлетворит она вполне необходимости воссоздания литературы и потребности в неких ориентирах, несомненно ощущаемой читательскими массами, и не обогатится она никогда подробными примечаниями и сносками. И сразу тревожит вопрос: а почему так?
Впрочем, обобщая сказанное, считаю нужным высказаться в том смысле, что я, как ни крути, исповедую государственный интерес. Государство, как все мы имели случай заметить, не проводит политику внедрения в сознание масс замечательных книг, имен, которыми нам пристало гордиться; государство не создает издательств, т. е. просто даже одного издательства, которое бы одну за другой выпускало, по четкому плану, книги, так сказать, нуждающихся в возрождении авторов, сопровождая их пространными сведениями биографического порядка, примечаниями к тексту, подробными, чуть ли не научными комментариями и т. д.
Но государство как таковое, собственно, даже как-то и не обязано знать об этих писателях и книгах. Оно фактически ничего не может знать о них. Вышла бы странная штука: общество забыло, а государство каким-то образом помнит, знает. Как бы это могло случиться? Это было бы уже не государство, а прямо Господь Бог.
Но если я задумал напомнить государству о славных деятелях прошлого и устроить, по мере возможности, так, чтобы в государстве, а не в одной только пресловутой истории литературы, было побольше литературных знаменитостей на слуху, оно имеет все основания взглянуть на меня благосклонно. И это заведомо приятно.
Раньше я, неуемный читатель, не очень-то хорошо представлял себе, куда мне в нашей современности приткнуться с этим моим чтением и каково, собственно, его общественное, гражданское значение, теперь же, готовясь стать не просто потребителем книг, а в некотором смысле идеологом чтения, агитатором, я, по первым впечатлениям, вправе не без оптимизма смотреть в будущее.
Михаил Литов
Петр Слетов
Свобода движения Из книги «Заметки читателя»
Петр Владимирович Слетов (1897–1981) прожил долгую жизнь, отданную, прежде всего, писательскому труду, а список его в разное время циркулировавших по печати произведений, если судить по скупым сообщениям энциклопедических словарей и литературных энциклопедий, отнюдь не поражает размахом. Впервые отметившись в ней в 1919 году, он затем сотрудничал с журналами «Литературная учеба», «Колхозник», «Наши достижения». В серии «Жизнь замечательных людей» помещена им книга о Д. И. Менделееве. Критики заметили писателя лишь после выхода в свет в 1928 году его посвященной событиям гражданской войны повести «Прорыв», о главном герое которой, Стомарове, сам автор впоследствии писал: «Его поведение и поступки – определенно бесчестные – результат своекорыстно-индивидуалистической идеологии, и бесславный конец физической его личности совершенно недвусмысленно толкует идею проблемы бонапартизма».
1958 год отмечен для Слетова публикацией его книги «Шаги времени», а 1977-й – сборника «Заштатная республика», состоявшего из повестей «Смелый аргонавт» и «Мастерство», а также давшего название сборнику романа, – все эти творения выходили одно за другим еще в 20-е годы прошлого столетия и вызвали у тогдашней критики немало полемических замечаний.
Автор предисловия к этому изданию Г. Белая постоянно извлекает цитаты из рукописных материалов писателя, и их обилие наводит на соображение, что в архиве Слетова много оставшегося невостребованным его временем, а еще менее нашим, и тем обеспечена немалая работа будущим исследователям. Приводит Г. Белая среди прочих и такое высказывание: «В то время как имущество наследуется согласно закону или завещанию, культурное наследование происходит по свободному выбору потомками своих предков. Воля вольная принадлежит каждому – избрать ли своим идейным предком монаха, тюремщика или борца за свободу, воина за благо народное. В выборе себе предков постигается… культура…»
Истина как будто очевидная, даже прописная. Но если принять во внимание, что во времена Петра Владимировича выбор предков и наследование им безопаснее всего было производить согласно законам партии и завещанию ее творцов, то невольно напрашивается вывод, что законспирированная в архивах мысль выдает в нашем писателе «культурно несогласного».
Результаты «своекорыстно-индивидуалистической идеологии» видны в поведении многих героев Слетова. В коммунистах города Белоспасска из романа «Заштатная республика» они выразились в довольно-таки комическом виде: эти коммунисты, проворовавшись, спившись и прозаседавшись, решили для покрытия своих грешков объявить подчиненную им округу независимой республикой, в чем мы вправе усмотреть интуитивно выявленную автором и вполне понятную нам причину последующего краха всего российского коммунизма. Впрочем, если уж судить с позиций нашего времени, удивительна не та богатырская легкость, с какой праведный комиссар, явившись в Белоспасск в финале романа, силами небольшого отряда разгоняет предателей народного дела и наводит порядок, а тот факт, что этот роман, многие страницы которого указывают и на сатирический дар Слетова, и на его знание психологии, и на более чем значительное художественное мастерство, так и остался вне поля читательского внимания.
Петр Владимирович Кудрявцев (такова его настоящая фамилия) родился в городе Влоцлавске Варшавской губернии, входившей в состав Российской империи. Его отец свои народнические чаяния и мечтания укреплял в себе, а по мере возможности и в других, частым повторением афоризма Менделеева: «Ученье – себе, плод ученья – людям». Будущему писателю довелось слушать лекции по философии С. Л. Франка – сначала в Петроградском политехникуме, а затем и в Саратовском университете, где они оба оказались в 1918 году. После службы в Красной армии – служил ей и оружием, и пером, в газете «Красноармеец», – Петр Владимирович поступил в Московский университет и изучал в его стенах литературу по Валерию Брюсову, а психологию – по профессору Челпанову.
Очевидно, лучшей по насыщенности общения и творческим свершениям порой для Слетова стало время его пребывания в «Перевале», литературной группе, существовавшей с 1924-го по 1932 год, до партийного постановления «О перестройке литературно-художественных организаций», покончившего со всеми подобными группами и вызвавшего к жизни создание единого союза писателей. «Перевальцы», не устававшие называть себя наследниками русской и мировой классической литературы, отвергали, в пределах разумного, бытовую сторону жизни, или, как говорили тогда, «бескрылый бытовизм», чтобы тем вернее и органичнее, с ни чем не замутненной искренностью обратиться к истокам подлинного искусства.
Но, как и с каких исходных позиций ни манифестируй это обращение, оно заключает в себе прежде всего требование, чтобы в центре творческого созидания стояла фигура безусловно талантливого творца, Моцарта, а не примазавшегося, поднабравшегося ремесленной сноровки или классовой сознательности Сальери. Предваряя закономерный вопрос, скажем, что многие «перевальцы» совершенно несправедливо ныне преданы забвению и отнюдь не случайно именно к этой группе в свое время пристало немалое число писателей, чьи книги исполнены громадностью таланта и только по недоразумению могли быть задвинуты в тень нашими любителями делить писательскую братию по иерархическим рядам.
Повесть же Слетова «Мастерство», описывающая неугасимую враждебность бездарного и морально уродливого Мартино к одаренному скрипичному мастеру Луиджи, – дело происходит в Италии времен наполеоновских войн, и дело это под пером Слетова приобретает характер наследования пушкинскому взгляду на конфликт между Моцартом и Сальери, – по праву считалась многими своеобразным манифестом «Перевала». Однако для противников группы, спешащих обвинить ее в буржуазном либерализме, не только программная для «перевальцев» интерпретация Пушкиным взаимоотношений гения и посредственности, но и сам Пушкин являются чем-то далеким и ненужным, мешающим продвижению пролетариата и пролеткульта к светлому будущему.
Критик И. Гроссман-Рощин писал о поэте, на котором у нас как только не упражнялись в приписывании собственных воззрений: «Пушкин, сам представитель умирающей дворянской знати, сознает неизбежность этой смерти и понимает, что убыль исторического бытия сопровождается убылью бытия и художественно-идеологического. Линия искусства этой знати где-то обрывается, черные тени исторического небытия грозно нависают, и Моцарт – как бы олицетворение этого заката, Сальери – как бы судорожная попытка повернуть колесо истории и отвратить грозный признак исторической смерти». И далее рубит, можно сказать, с плеча: «Моцарт разоблачен. Моцарт в историческом смысле уже только факт, но не исторический факт. Моцарт исторически уже мертвец. История вынесла ему смертный приговор. Поэтому здесь гений и убийство – вещи совместимые, ибо убить Моцарта значить только помочь истории, и тогда: «Так улетай же! Чем скорее, тем лучше!»
Поди ж ты, Гроссман-Рощин вон как ловко уселся попировать на костях ушедших поколений, крепко как взялся перелопачивать муравейник истории и искусства, суд вершить, а тут является какой-то Слетов с проповедью вдохновенного творчества, с воспеванием Моцарта в обличье Лиуджи и проклятиями Сальери, узнаваемом в Мартино. На помощь собрату по критике спешит еще один мастер тогдашней словесности, А. Глаголев, заклинает неразумного писателя в необходимости «быстрейшего и отчетливого» отречения от наследства «моцартианства». Проще и решительнее решила проблему партия, провозгласившая «перестройку литературно-художественных организаций»: «Перевал» разогнали – практически по тюрьмам и ссылкам, по застенкам, откуда далеко не все вышли живыми. Петра Владимировича репрессии коснулись лишь в 1948 году. В 1956-м его реабилитировали.
Не беремся судить, стоит ли повесть «Смелый аргонавт» особняком в творчестве Слетова и можно ли ее причислить к творениям загадочным, главную свою правду ссылающим в междустрочье. Но что она, сюжетом прочно привязанная к событиям 1914 – 1917 годов, вместе с тем претендует на значение актуального и для нашего времени текста, не вызывает сомнений. Если в «Мастерстве» изображены тяготы и ужасы жизни талантливого человека, попавшего в зависимость от посредственности, и это тема тоже, конечно, из разряда вечных, то в «Смелом аргонавте» показан талант не обремененный, пребывающий в свободном парении. Происходит это словно бы беззаботное и несомненно мелкобуржуазное парение Димы Итякова на фоне мировой войны и двух знаменитых русских революций, – и нет ощущения, что тут в очередной раз колючим пером советского литератора бичуется проклятое прошлое. Дима уже тем любезен автору, что талантлив, хотя его талант – он с непревзойденным искусством гоняет шары в петербургской бильярдной – не самого высокого свойства.
Доморощенный философ Поливанов, вменивший себе в обязанность безмятежно наслаждаться игрой этого мастера, так объясняет искусство Димы: «Жизнь – это движение; без движения нет жизни. Старая, избитая мысль; но основных житейских истин не замечают именно потому, что они сказываются на каждом шагу. Димочкин удар, мысль об ударе, звон влетевшего в лузу шара – все это формы одного и того же прекрасного движения. Не облекайте его в формулу – формула нужна для машины, но негодна в жизни; она не научит ходить, а лишь отяжелит походку…» Итяков ненавидит так называемых жуков, для которых бильярд – коммерция и способ надувательства простофиль, он то и дело выступал «общим мстителем, соблазнял жука и дачей форы и крупным кушем», а затем Поливанов говорил посрамленному плуту: «Вы наказаны за грех, страшнее которого нет в жизни, – грех насилия над свободным своим движением».
Хотя философ излагает свои воззрения, главным образом, в бильярдной и касаются они игры, подразумевает он, однако, внутреннюю свободу и независимость от навязываемых миром правил проживания в нем. Удар по шару все же требует расчета, и избежать облечения его в формулу, хотя бы по видимости, можно лишь при условии достижения в игре той высокой степени искусства, на которой вся схема предстоящей партии, возникающая в голове игрока, и неизбежно образующиеся по ее ходу препятствия преодолеваются с легкостью, делающей их как бы несуществующими. А у Димы и нет другого мастерства, нет другого таланта, кроме как «свободно» решать бильярдные головоломки.
Возвещая, что «жизнь – это движение», а мир – не что иное, как цирк, Поливанов в то же время очень хорошо знает, когда ему следует остановиться, отойти в тень, затаиться. Это у него от знания людей, практически отсутствующего у Димы, для которого игра как таковая и стала всем его содержанием. Но именно оно определяет его серьезный и острый взгляд – взгляд игрока, видящего в окружающем не мельтешение теней, а осмысленную расстановку неких сил, хотя при этом вся «внешняя» идеология Димы не поднимается выше мечтаний о рыцарских подвигах в духе романов Эмара, которые он с трепетом перечитывает.
Подчиненный, так сказать, внутреннему взору, он обречен со стороны смотреть на происходящее не только в бильярдной, но и на улицах Петербурга, а затем и Москвы, и подобная личность для твердых и уверенных в себе деятелей начавшейся революции – ничто, пустой звук, «лишний человек». Между тем «лишний человек» способен резко и неожиданно реагировать в конфликтных ситуациях и тем более в роковых обстоятельствах – именно в силу особенностей своего взгляда. Не знаем, что сказали по поводу его необыкновенной и, если уж на то пошло, незаурядной «выходки» в финале повести критики вроде Гроссмана-Рощина, полагавшие, что их, гроссманов-рощиных, революция победила навсегда, но думаем, что ничего хорошего, и вряд ли им показались убедительными вероятные ссылки автора на проблему бонапартизма и «своекорыстно-индивидуалистическую идеологию».
А между тем Дима Итяков всего лишь остался верен до конца свободе движения, и уже читателю решать, насколько он оказался прав в выборе средств для достижения своей цели.
Михаил Литов
Смелый аргонавт
Это было в городе Санкт-Петербурге.
Это было на Забалканском, в бильярдной. Бильярда было три: один похуже и два очень строгих. Сюда заходил хозяин, пан Рыбацкий, как в гости. Наведя порядки в смежном помещении – столовой-кофейне, пропустив главную массу обедающих, ущипнув два раза коленку подошедшей к кассе Ядвиги, любил он взять стакан мазаграна и, тихо посасывая соломинку, подняться на три ступеньки в бильярдную.
Войдя, раскланивался пан Рыбацкий со всеми наклонением головы и потупленным взором и перекидывался «парою слов» с посетителями, сохраняя свои обычные манеры графа в изгнании. Затем подходил к бильярду, где решал искусный маневр Дима Итяков, и всматривался минут пять в игру его партнера. Дождавшись первого неудачного удара по шару, едва не влезшему в угол, облокачивался пан Рыбацкий на борт. Затем эффектно постучав хризолитом толстого перстня по медному канту и тем стяжав общее внимание, оглядывал он победоносно всех по очереди и говорил Димочкиному партнеру:
– Да, вы сделали артистический удар. Это – удар дуэлянта шпагой в сердце. Но… – грустная улыбка, – это вам не кошелка…
Тут с достоинством, перемешав кусочки льда в студеном кофе, отходил он и присоединялся к зрителям, кольцом наблюдавшим поучительную Димочкину игру.
На окнах висели толстые ламбрекены, контрабажуры люстр и бра бросали свой рассеянный свет в воздух, пронизанный табачным дымом и остриями бильярдных киев, скользил беззвучно маркер, собирая по лузам шары, и по временам громко выкликал:
– Шестьдесят три! В двух больших – партия…
Длились классическая пирамидка, карамболь и боте-фон.
В разные дни, разные часы меняла бильярдная свое лицо, как всякое место общественного значения. В ней меняла свое лицо большая холодная столица, кривляясь привычными гримасами. Но основной состав посетителей оставался все тем же: студенты, больше технологи, растворяли в своей среде небольшую группу знатоков и ценителей высокого класса бильярдной игры, сплоченную вокруг Димы Итякова, носившего, как и все фавориты, уменьшительное имя.
Одним заменяла бильярдная неудачную карьеру, другим – негостеприимную науку, третьим – отсутствующую или испорченную семью. Безмолвный ли уговор или святость своеобразных традиций, но личное не всплывало ни в разговорах, ни в поступках. Игра, ее содержание и логика создавали центр, вокруг которого лепились интересы, игра заслоняла все остальное, и лишь в ее плоскости ухитрялись решать вопросы искусства, философские и политические.
Так, естественно, стала бильярдная портиком греческого храма, где жрецами были Дима Итяков и маркер Федор, учителем же философии и теоретиком – журналист Поливанов.
Аудитория завсегдатаев держала мазу за игроков, созерцала, сидя на полужестких диванчиках, и курила. А Поливанов поучал:
– О юноши, о мужи, у нас накурено, но дух витает чистый, ибо мы одни. Вы видите, боги благосклонны к нам: ни одна женщина не омрачает наших бесед под этими сводами. В многоопытной своей мудрости уважаемый хозяин наш Казимир Казимирович не допускает даже к уборке бильярдной ни Ядвиги, ни кого-либо еще из дев и жен, мало-мальски годных к ласкам и битвам Афродиты. Поистине, соблюдая свои интересы, заботится он и о наших, ибо не коснулось нас тлетворное женское дыхание. Что же касается поломойки, то злые языки говорят, что и она двухснастна…
Игроки ходили вокруг бильярдов с киями в руках, в одних жилетах. Дима Итяков играл очередную партию со случайным посетителем, привлеченным замечательной его игрой, шумела отдаленно кофейня, за окнами ночевал Санкт-Петербург. И Поливанова слушали плохо, больше следя за Димой, за каждым его ударом…
Он горбат. Это заметно не всегда, чаще кажется, что он сутул. Он движется среди игроков, он ходит вокруг бильярда с той уверенностью, с тем достоинством, с каким творят общественные обряды под десятками внимательных взглядов привычные актеры разных культов. В лице его, в глазах – спокойное превосходство бесспорной силы, в каждом жесте – та неуловимая и постоянная находчивость, которая присуща мастеру и знатоку, а по временам далекая улыбка смущения. Длинной, прекрасной, мягкой, как у ребенка, рукой он хлопает слегка пана Рыбацкого по плечу.
– Удивительный сегодня партнер у меня, Казимир Казимирович. Он быстр, как барс, он режет неимоверных шаров.
Иронически и чуть самодовольно улыбается партнер его в кителе с молоточками.
– Двенадцатого в угол направо!.. Удивительный партнер у вас, Дмитрий Алексеевич, удивительная калека. Мне нужно брать с вас не пятнадцать, а по крайней мере тридцать очков.
Дима смотрит на стол, как Ганнибал на поле при Каннах.
– Двенадцатого бросаю в тот же угол… Я отдаю вам игру этим глупым ударом, я чувствую. Но, знаете, я говорю себе: неужели…
Рука Димы делает движение, совершенное, как взмах кошачьей лапы, точное и упругое, как ход паровозного поршня. Биток летит по сукну в математическом беге, в орбите его внезапно вырастает двенадцатый шар. Удар – рождение нового для него смысла, и он мчится метеором, сверкает метеором, чтобы погаснуть со звоном в лузе. А биток, на секунду остановившись, мягко отходит назад.
– Восемь в середину…
– Это черт знает что! – возбужденно восклицает молодой студентик в кружке зрителей. – Он от борта через весь бильярд играл его с выходом!
– Мой дорогой молодой коллега, – отвечает ему снисходительно пан Рыбацкий, – Диме сам Левушка дает два очка, а если даст три, то Левушка пропал – пропал, говорю я вам, – и уж были примеры. Это нужно понимать…
Все это дает повод Поливанову придраться к случаю.
– Поистине, – ораторствует он, – здесь, а не в механических лабораториях видите вы храм движения в чистом его виде, где Димочка – жрец и вместе пифия, являющая нам откровения в несравненном своем искусстве. Вы видите – шаров нет. Он ищет глазами и будет играть, очевидно, девяточку, имевшую неосторожность чуть откатиться от борта. Уверен ли он, что положит? Уверена ли пифия в том, что говорит?.. Но – внимание!.. Правильно, чудесно, шар вошел, что и требовалось доказать.
Легкие аплодисменты приветствуют Димочкин удар.
– Что произошло? Каждый из вас, дорогие коллеги, мог бы с точностью формулировать явление. Частный случай молекулярной бомбардировки. Данные: масса шаров, скорость битка, направление движения и коэффициент трения. Димочка, вы, вероятно, понятия об этом не имеете?.. Но попробуйте, о юноши, о мужи, повторить вычисленный Димочкин удар – какой позор ожидает вас, какой стыд…
– Пятерку в угол, – заказывает Дима. – Удар посвящается вам, Кронид Семенович.
Поливанов слегка раскланивается и продолжает:
– Жизнь – это движение; без движения нет жизни. Старая, избитая мысль; но основных житейских истин не замечают именно потому, что они сказываются на каждом шагу. Димочкин удар, мысль об ударе, звон влетевшего в лузу шара – все это формы одного и того же прекрасного движения. Не облекайте его в формулу – формула нужна для машины, но негодна в жизни; она не научит ходить, а лишь отяжелит походку… Верно я говорю, Федор?
– Совершенно справедливо, – отвечает маркер, устанавливая новую пирамидку.
С Димой играли многие без надежды на выигрыш, с уверенностью в проигрыше, из-за одной лишь чести сыграть с ним и проверить свои силы. Так, в стены по существу демократической бильярдной на Забалканском залетали чужие птицы: гвардейцы, одетые в штатское, помещики, у себя в имении включавшие в ежедневный режим пирамидку на собственном бильярде, московские заезжие купцы.
Купцы проигрывали шумно, помногу, чтобы было о чем рассказать; гвардейцы легко и небрежно, подчас на мелок, с расплатой в двадцать четыре часа, в узкого формата конверте, присланном с лакеем в адрес Димы. Помещики – упорно и азартно.
Встретившись, впрочем, со своими партнерами на стороне – в театре, на улице или в магазине, – не мог часто Дима уловить узнающего взгляда: головы если не отворачивались, то слегка приподымались, как бы завидев что-то достойное внимания вдали. Но здесь, войдя в бильярдную, снявши кители, сюртуки, смокинги, все сливались с общей массой игроков, подчиняясь общим законам. Все сходились в одном: уступая, быть может, знаменитому московскому Левушке в выдержке и отыгрыше, Дима, несомненно, превосходил в красоте удара, смелости игры и артистичности ее.
Расходились поздно. Часто, увлеченные затянувшейся борьбой, игроки не хотели расставаться с зеленым полем. Тогда завешивались плотно окна бильярдной, запирались двери, в подъезде гасили огни и играли с риском штрафа до утра. Под утро говаривал присяжный болтун и полуночник Поливанов:
– Вот шары остановились в доигранной партии. Момент статический. Покой, скажете вы? О мужи, покоя нет, покой – это условность, он познается, как и все, из движения… Что такое ритм? Это сходство повторных движений. Что такое статика? Это ритм, заключенный в бесконечную форму… Федор, голубчик, дай пальто!
И все расходились через черный ход. Там ждали извозчики. Поливанов, застегивая потертый бобровый воротник, одолжал у Димы полтинник и трясся на Фонтанку. Дима же – на Лиговку, задумчиво рассматривая бесконечный ряд ненужных на рассвете фонарей.
Он жил в большом доме с черными гербами и орнаментами из знамен, палашей и секир, сплетенных в спокойный и сумрачный знак. Там, на третьем этаже, в небольшой, тесно обставленной квартире, нес он свою вторую, маленькую жизнь, никем не наблюдаемую, а потому полную противоречивых потешных вкусов и слабостей.
Все дело в том, что затянулась молодость, быть может, даже детство. Диме было под тридцать, но выглядел он мальчиком. Будь он чиновником или приказчиком, над буднями его тяготела бы служба, но он был независим даже от круга знакомых, которых в личной жизни не мог найти. Так, не имея нужды в том, чтобы о нем кто-то думал хорошо, не угнетаемый своей двусмысленной профессией, он делал то, что ему нравится, заботясь болезненно лишь об одном: уйти от всяких советов, всяких вмешательств и посягательств на свою личную жизнь.
Предлогов же к этому было множество. В нем была жилка коллекционера, он тратил большие деньги на покупку какой-нибудь редчайшей марки давно исчезнувшего государства. Прекрасные пальцы его искали пути не только к зримым движениям, но и к радости звука; он занялся музыкой, остановившись на странном инструменте – балалайке. Впрочем, возвышаясь над дилетантскими ступенями, владел он им прекрасно. В чтении резче всего проявлялся его вкус: он до сих пор читал Жюль Верна, Густава Эмара; любимейшей книгой его был Конан-Дойль, попутно, впрочем, история войн. Дима никогда ничего не писал, не имея нужды в этом, но он любил, чтобы у него на письменном столе было все, что нужно и что совершенно ненужно. Письменный прибор его состоял из множества различных предметов: чернильницы с тремя сортами чернил, звонком для несуществующего лакея или небывалых заседаний, спичечницы, подсвечников, пресса, пепельницы, стакана для перьев, флакона с клеем, перочистки и еще каких-то совершенно неупотребляемых вещиц. В стакане был большой выбор ручек и карандашей всех цветов. В бюваре – запас почтовой бумаги и конвертов. Настольный календарь, настольные часы, барометр, термометр – все это настолько загружало стол, что пользоваться им для работы было бы невозможно. Все это, впрочем, ревниво поддерживалось в постоянном порядке.
Остальное убранство комнаты соответствовало столу. На полу лежали коврики – отдельно перед диваном с тумбочкой, где были туфли, и перед туалетным столиком. Деловитейший шведский шкаф с книгами, круглый полированный стол с альбомами марок стояли у одной стены. Напротив стену занимали карта всех частей света в виде полушарий и карта звездного неба – для чтения Фламмариона. За ширмой над кроватью висели два скрещенных, как шашки, отделанных золотом и слоновой костью бильярдных кия. Под ними монтекристо, из которого стрелял Дима по утрам в мишени в дальнем углу комнаты. В шкафу хранились бинокль, микроскоп и кинематографический аппарат, развлекавший Диму в иные вечера.
Все это вызывало постоянное насмешливое осуждение со стороны матери, бодрой старушки, курившей по ночам за пасьянсами, вспоминавшей свое прошлое мелкой опереточной актрисы и увлекавшейся Ибаньесом Бласко. Саркастическим взглядом осматривала она слишком солидные костюмы Димы, его трости – был целый набор тростей – и выразительно молчала. С тех пор как существование зиждилось на его выигрышах, она перестала преследовать Диму вечными замечаниями, но в душе, жалея, не считала его ни мужчиной, ни положительным человеком.
Дима и сам часто глухо чувствовал, что зрелость запоздала. Он следил за собой, стараясь прививать себе привычки, присущие уравновешенным, зрелым людям. Его восхищало самоуверенное спокойствие тех, кто умел так веско, как сказал бы Поливанов, «императивно» изложить свое мнение, кто умел с такой подавляющей естественностью играть заметную и пустую роль в жизни, как будто лучше ничего и придумать нельзя. Помимо того, что было наглухо закрыто от Димы китайской стеной общественных условий, мог бы он принять участие в той жизни, где доступ открывался рублем. Но, глядя на этих мужчин, с небрежной внимательностью провожавших своих содержанок под арками ресторанов, на спортсменов, открывших в спорте филиал порядочной жизни, на раздушенные благотворительные базары и даже демократическую толпу в воскресном Павловске, чувствовал Дима, что овладеть этим искусством, этой верой в естественное значение всего, что они делают, он был бы не в силах. С женщиной он не знал о чем говорить; стеклянным в своей наглости официантам не умел без робости дать на чай, шоферу бросить лениво и бархатно: «К Палкину!» Насколько там, среди щелкания слоновой кости, в бильярдной, был Дима прост и находчив, настолько же здесь – натянут и скован. Ему приходилось думать и мучительно решаться на каждое незначительное слово или жест.
Однако, чувствуя себя часто пустым местом в кругу собеседников, лишним спутником случайной компании, он хотел найти хоть ограниченный круг жизни, где был бы он спасен от необходимости придумывать выход из чувства неловкости перед неожиданными искусами. С этой целью он усваивал умышленно то, что казалось ему признаком самодовлеющего равновесия людей: привычку к комфорту, вообще всякие мельчайшие привычки, упорядочивающие жизнь и дающие ей подобие самостоятельности. Он требовал, чтобы у него был собственный столовый прибор, стакан, ложечка, старался о том, чтобы его завтраки не совпадали с завтраками матери, отстаивая и в этом свою независимость.
Вставши в два, надевши серую пижаму, выпивши утренний кофе, садился Дима перед трельяжем и, разложив сложный несессер, брился внимательно, оглядывая себя печальным и ласковым взглядом. Лицо было желтое, ровного цвета: ночная жизнь не приносила румянца, но, будучи привычной, не давала и болезненной бледности. Каштановые волосы расчесаны в пробор, голубые глаза под тонким желтым веком, казалось, видели и сквозь веко.
Побрившись, он разбирал почту. Он получал все центральные газеты, читая лишь дневник происшествий в «Русском слове» да фельетоны Дорошевича, остальное тщательно подбирал в комплекты. Затем брался за балалайку. Играя с увлечением, он аранжировал знакомые мотивы, а там, где память изменяла, попросту фантазировал, будучи незнаком с нотами.
Среди игры он старался уловить, к чему его тянет, и, найдя, осознав свои желания, откладывал балалайку, чтобы перейти к занятиям, вытекавшим из его прямых склонностей: возился над устройством игрушки по рецептам «хитрой механики» или исследовал механизм музыкального ящика.
Часов в пять просыпалась мать. Превративши ночь в день, а день в ночь, она не знала солнечного света, проводила все вечера в чтении и воспоминаниях, ближайшим слушателем которых во время завтрака ее был Дима. Он выслушивал ее, поглядывая на часы, уходил завтракать в свою комнату и там читал или перечитывал, как всегда медленно, какой-нибудь из очередных романов Буссенара. Прочитанное принимал он горячо, оставаясь под впечатлением его весь день, чтению же отдавался не больше часа, а затем, сменив пижаму на пиджак, уходил из дому.
По стрелам улиц, по сырым торцам, под рваными облаками, ехал Дима, привычно дыша каменноугольными запахами столицы, в Гостиный двор. Резко звенели трамваи, у Русско-Азиатского банка стояли глыбы автомобилей, памятники по-разному горячили холодных своих коней, и Екатерина улыбалась улыбкой самовлюбленной женщины над толпой своих любовников. А на углах гранитные городовые правили чинным уличным движением.
Купивши в магазинах, как всегда, что нужно и не нужно, торопился Дима уйти и, отправив с посыльным покупки домой, шел обедать, как правило, в «Квисисану». Здесь встречал его неизменный сосед, отставной земский начальник, балагур и враль Дом-Домацкий, уже хмельной привычным ресторанным хмелем.
– А вот и вы! Прелестно, прелестно…
Он принадлежал к числу тех людей, что стремятся пришедшую-таки после бурной жизни старость и грязь ее омыть в общении с молодежью. Но молодежь недолюбливает их. Недолюбливал и Дима, чувствуя себя жертвой чужой словоохотливости.
– Не угодно ли раков? – угощал Дом-Домацкий, задыхаясь, подавляя кашель, как он называл, «биргустен».
– Благодарю, – пытался уклониться Дима. – А вы?
– Я обожаю раков, но еще больше люблю выдержку…
По мнению Дом-Домацкого, раки плохо действовали на его астму. Лишение было столь велико, что он резко противопоставлял свой возраст тому, когда раки были для него безвредны. Но, будучи даже и здесь, в ресторане, хлебосолом, любил он угощать всех запретным для него блюдом и испытывал при этом острое чувство отверженности. Вслед за этим он отводил душу воспоминаниями о службе в Павлоградском гусарском полку, о том, как умчал некогда невесту своему приятелю графу Н., лез, присасывая золотую верхнюю челюсть, в карман и доставал оттуда грехи юности – мадригалы и объяснения покидаемым любовницам. Скрипели фарфоровые манжеты и воротничок, жировой оплыв шеи готов был пролиться на черный сюртук, таивший в покрое что-то неуловимо военное.
Дима кончал обед, благодушно выслушивая анекдоты в духе кокоток ушедшего поколения, и пил с текущего счета своего в «Квисисане» «Сен-Рафаэль». Затем, согласившись с Дом-Домацким, что смерти своей он дождется не где, как в Санкт-Петербурге, Дима расплачивался, застегивал наглухо свой пиджак и отправлялся на Забалканский.
Было немало в столице перворазрядных бильярдных, где мог бы Дима найти партнеров и оценку высокому своему дару. Но он был верен привычке. Поливанов же говорил, ревнуя:
– Не место красит человека, а человек место. Вы не измените нам, о Дмитрий Алексеевич, это было бы цинично.
Впрочем, иногда, соскучившись, отправлялся Дима с Поливановым наугад в Гавань или на Петербургскую сторону и забирался куда-нибудь в третьеразрядную пивную. Там, в задней комнате, загаженной с лета мухами, на просаленных, залитых керосином бильярдах кривыми расщепленными киями играли извозчики и городская шпана.
Двери в пивную не затворялись, за крайним столиком сидел румяный пивом гостинодворец, и слышно было из бильярдной, как, наклоняясь к собутыльнице своей, говорил он сердечно:
– Не сомневайтесь, я с вами всегда всячески: и сзади, и спереди, и с боков…
Подумавши:
– …и снизу, и сверху.
Войдя, после первой же конченной партии, бросал Дима громко:
– Любому двадцать очков… по сотне!
За этим всегда следовало молчание, шепоты; бывало, за кем-то посылали; Дима ждал, тихонько покатывая желтой, потемневшей кости шар, проверяя дефекты бильярда. Часто во встречной ставке были заинтересованы десять участников, шары на Димочкиной полке подсчитывал и охранял Поливанов, потому что всяко бывало – можно было не досчитаться и увидеть собственный шар в числе шаров партнера, очутившийся там не без злостного содействия. Деньги обеими сторонами торжественно опускались в лузу, доступные общественному контролю.
Игра бывала горяча. Не всегда и не всякому имел право давать Дима такие большие преимущества, но он жаждал борьбы и риска, а выручали его безумная смелость в тактике игры и крупный куш. Кто бы ни был партнер, сотенная ставка для завсегдатаев пивной была велика, над ней дрожали руки и кривил глаз. Дима, от одного прикосновения к кию возвращавший все свое хладнокровие, бил на это и в случае первого проигрыша удваивал куш, – Дима не знал цены рубля не только потому, что крупные выигрывал.
Решал дело первый промах партнера. Если даже до этого он был настроен спокойно, то как же сохранить спокойствие, когда винтом ввинчивался немыслимый шар, а свой, карамболируя, выходил под всю коронку? Это стоило сто рублей.
К концу игры иному зарвавшемуся, понадеявшемуся на свои силы маркеру прощал Дима великодушно весь проигрыш. Но был безжалостен к жукам. Эту породу бильярдных игроков, видящих в игре не призвание, но профессию и лучше всего изучивших ее коммерческую сторону, знал Дима хорошо и ненавидел ненавистью художника к невежде.
Иной раз он мог подолгу наблюдать непонятное ему терпение, с которым поджидает свою жертву жук – коммерсант игры и подчас недурной техник. Дима следил, как, появившись в бильярдной, выбрав неопытного простачка, обыгрывает его жук-гастролер исподволь, незаметно, тщательно скрывая свое умение, притворяясь неловким, бессовестно прося фору. Держась в тени, присматриваясь к посетителям, играя с худшими игроками, долго морочит жук публику, и только мало-помалу ему перестают доверять, после того как половина игроков похуже обобрана им.
Наблюдая жука, Дима удивлялся больше всего той выдержке, с которой тот пуделяет по верным шарам, наивному и грубому притворству, которое не изменяет ему до конца, даже тогда, когда он разгадан всеми, – а это случается месяца через полтора-два. Жук играет теперь уже с лучшими игроками на равных и скоро, сорвав последнее, исчезает из поля зрения. Вот тут-то часто выступал Дима общим мстителем, соблазнял жука и дачей форы и крупным кушем. В этих случаях Дима бил противника его же оружием, так как вдруг, к удивлению жука, обнаруживал богатейшее владение отыгрышем, тем самым, которого не хватало ему на два очка до прославленного Левушки. Жук мог бы по праву сказать, что Дима обычно не показывает отыгрыша.
Жукам говаривал Поливанов в назидание:
– Вы наказаны за грех, страшнее которого нет в жизни, – грех насилия над свободным своим движением.
На что получал зловещий по вложенному пожеланию ответ.
После таких вечеров Дима всегда тосковал, словно жизнь его вдруг представала наблюдению другим своим краем.
– А знаете ли, – доверчиво замечал он, – как все, в общем, паршиво. Я чувствую себя как в карцере, как будто меня не пускают жить… Как щепка в канализации. Ведь это самое большое, что доступно мне: прийти и обыграть несчастного маркера, у которого, смотришь, полдюжины ребят. А мне бы… мне бы… Вот если бы пришло такое же, как на бильярде, чтобы все сшибалось, брызгало в разные стороны, но чтобы все было на самом деле… Вот я бы тогда!.. – загадывал он, мечтательно покачивая головой.
Но Поливанов утешал:
– Полно, Димочка. Спросите себя: кто еще здесь, в столице, живет такой нужной и современной жизнью, как вы? Все роются, как кроты: кто высиживает геморрой, кто бессмысленно вертится вместе с колесом какой-нибудь машины, кто, осатанелый, следит за поплавком своего рубля. Все это тоже не настоящее. Мусор и канализация. Лишь вы один в этом гнусном городе живете праведно в законах движения. Вы – тот праведный Лот, из-за которого пощажено это скопище потерявших корни людей. Полноте!..
Это было в городе Петрограде.
Свергнув вниз бронзовых воинов с германского посольства и утопив их в Мойке, столица зашумела военной гостиницей «Асторией». В витрине фотографии на углу Большой Морской были выставлены новые портреты царской семьи.
Люди обрастали защитным и черной кожей. Появились земгусары.
В бильярдную на Забалканском приходили теперь завсегдатаи ее, внезапно покрупнев и покруглев бритым лицом, уже сменив студенческую тужурку на военный китель, и Казимир Казимирович неизменно встречал их фразой:
– О, и вас уже забрали! Боже ж мой, что это делается… Но желаю вам быть пулковником. И прошу взять во внимания, что для господ офицеров у меня особая скидка.
С фронта приезжали созревшие в страдании люди, оттуда легла красная тень. Героем дня стал раненый офицер. На лица пал отпечаток неугасимой жадности к жизни, как будто злоба войны заставляла больше ценить и больше любить курчавые дни ее.
Женщины стали доступней и в жизни заметней.
Ставки крупней, игра азартней. Дима за полгода выиграл целое состояние.
При виде военных, с их мужеством, подчеркнутым осанкой, формой и налетом грубой прямолинейности, Дима испытывал живой рост зависти и всегдашней отчужденной печали: жизнь, покрепчав, проходила мимо. Каждый раз Дима вспоминал болезненную улыбку, с которой показал свое хилое тело врачам у воинского начальника, и то презрительное безмолвие, с которым его забраковали.
Поливанов же, укрывшись в санитарную форму, рассуждал:
– Конечно, война – изумительный пример движения, сведенного к единству. Но, увы, оно вычислено и взвешено на биржах в долларах и фунтах стерлингов. Желал бы я видеть, с каким кляпф-штоссом влетит чей-то шар в угол, когда эти массы людей, вызванных к движению, поймут, что стоит лишь изменить направление – и все полетит к черту… Вы простите, поручик, это лишь частная беседа под сводами храма движения. В моих статьях я не имею возможности касаться этого.
Но поручик прощал. Поручик, надевши погоны, сам переставал чувствовать себя человеком и жадно хватался за все, что, казалось, возвращало его в привычное это звание.
Казимир Казимирович говорил:
– Бисмарк – это же голова! Вильгельм – это же дьяб-эл! Один начал, другой кончил. У нас, знаете, – голос понижался до шепота, – в верхах не все благополучно: все фоны да бароны…
Казимир Казимирович верхним чутьем угадывал настроение своих клиентов.
В бильярдной все чаще вспыхивали политические споры. Однажды дело кончилось арестом, и лишь много времени спустя стали возвращаться участники его, уже с фронтов, уже полукалеками…
Только гвардейцы вносили с собой иной дух, иные речи.
Но Дима играл со всеми равно, не делая выбора. Однажды он с удовольствием обыгрывал целую ночь подпольщика, волей судеб отсиживавшегося в бильярдной, льстя ему, хваля отвратительный его удар. В другой раз хохотал над пьяной компанией из двух гвардейцев и юнкера Николаевского училища, вломившихся в бильярдную.
Один из гвардейцев, с погонами капитана, держал ботефон. Юнкер, оглушенный вином, как отравленное животное, дремал на стуле. Капитан играл хорошо, радуясь каждому своему удару. Когда же Дима отточенным ударом загонял его шар в лузу, капитан выпивал стакан пива и подходил к стулу.
– Юнкер!..
Тот вскакивал с обессмысленными глазами, но чинный, руки по швам, силясь удержать стойку и уставной наклон туловища вперед.
– Юнкер, что такое традиция полка?
– Традиция полка – это священные правила чести, являющиеся обязательными и нерушимыми…
– Врешь, – поправлял второй гвардеец, – традиция – это священные правила, завещанные нам…
– Традиция – это…
– Дай мне расцеловать твою милую мордашку, – прерывал капитан и усами, омоченными пивной пеной, колол немолодое уже и плоское лицо одутловатого юнкера.
– Ты, Лева, скотинка и замечательный человек, – отвечал юнкер.
– За здоровье государя императора! – продолжал капитан и, опрокинув стакан, возвращался к ботефону, до нового проигрыша, когда Дима, смеясь, вгонял его шар дублетом.
Вернувшись к снова упавшему на стул юнкеру, подняв его в стойку, спрашивал теперь капитан:
– Юнкер, укажите мне парадную форму Ингерманландского полка…
Дело кончилось тем, что, шлепнувшись навзничь на пол и раскинув руки и ноги, юнкер захрапел густым, тембристым храпом, и никакие грозные оклики не могли заставить его вернуться к рассуждениям о долге гвардейского офицера и суде чести.
Безуспешные свои попытки привести его в чувство закончил маркер Федор следующей фразой:
– Они вроде как дохлый шар, который висит над лузой: как его ни ткни, он сам падает.
Дни проходят все более ускоренным бегом. В столице меньше продуктов, больше калек, очереди за хлебом, вереницы раненых.
Подошло время «глупости или измены», распутинского кукиша, полиция обучалась стрельбе из пулеметов, ком войны катился, явно уже управляемый лишь собственной тяжестью.
Дима стал больше гулять. Ему доставляло удовольствие чувствовать под ногами погрязневшие теперь соты торцов. Столичная улица, посеревшая и опустившаяся, таила в себе что-то необыкновенное, как будто, сбрасывая с себя довольство и порядок, вынашивала она небывалые вещи, наполняясь предчувствиями и ожиданиями бунтарского материнства.
В студеный мглистый день увидел однажды Дима, проходя по Измайловскому проспекту, солдат, занятых рассыпным строем. Они лежали на животах, щелкая затворами винтовок, в сапогах с недомерками-голенищами, в молескиновых шинелях летнего образца, в суконных защитных варежках. Один из них, улучив минуту, когда отошел офицер, закутанный в бекешу, отороченную серым каракулем, снял варежку и синей, сочащейся кровью рукой вытер кровь с лица. Офицер, впрочем, тут же вернулся и влепил ему еще два пинка бурковым сапогом. Дима, хрустнув пальцами в карманах ильковой шубы, подошел к хвосту первой попавшейся очереди в какой-то магазин и, по временам взглядывая на продолжавшееся учение, продвигался медленно вперед. Попав наконец в магазин, он понял, что очередь – за сахаром, и купил себе положенные три фунта. Вечером он важно отдал покупку Поливанову со словами:
– Вот тема, достойная вашего толкования.
На что Поливанов отвечал:
– Мы еще об этом поговорим.
С тех пор любопытнейшими глазами смотрел Дима на все, что творилось вокруг: на парады гвардейских и матросских частей, на посольские автомобили, на кучеров собственных выездов, носивших на кушаках над толстыми своими задами обращенные к седоку часы. С изумлением наблюдал он теперь женщин. К ним всегда относился Дима очень издалека и очень ласково, как к детям, которых любят, но не умеют к ним подойти. За ласковостью его скрывалась пугливая робость, выливавшаяся в наружное отчуждение, удалявшее, вычеркивавшее из его жизни тех женщин, к которым мог бы он испытывать не одно лишь равнодушие. Теперь вдруг почувствовал он огромный интерес и уважение к ним, раскрашенным, крикливым и шумным.
В кафе Андреева на Невском однажды задумался Дима о той сцене взятия крепости Гермозильо тремя храбрецами, которую не дочитал он, прервавши чтение на самом интересном месте. Предприятие это безумно, но крепость будет взята – это Дима знал и переживал теперь предчувствие замечательного подвига, которому он будет трепетнейшим свидетелем. Роман Эмара лежал у него в кармане. Задумавшись, рассматривал он припудренную, взбитую, как сливки, толпу, оставив нетронутой лежавшую на столе сдачу. Через плечо его протянулась ручка, затянутая в дешевенькую лайку, и, проворно скомкав хрусткую трехрублевку, исчезла.
Оглянувшись, вспомнил Дима, что в крикливом этом и злобном месте нетронутая сдача считалась условным авансом; увидел девушку с чуть нежно и порочно измятым полным лицом под завитыми русыми волосами и, потеряв нить своих мыслей, улыбнулся растерянно.
Девушка, порывшись в сумке, вытащила пудреницу и, обмахнувши пуховкой лицо, рассматривая себя в зеркальце, сказала:
– Я вчера осталась без кавалера и задолжала вон тому идолу, – кивнула в сторону официанта. – Можно сесть за ваш столик?
Кафе жужжало, горело электричество, несмотря на то что был еще день. Кафе, спрятанное в длинных зеркальных подвалах, хотело жить только ночной жизнью.
Дима спросил пирожных, кофе и с удовольствием смотрел, как девушка с толком, со знанием дела выбирала миндальные и кремовые, хрустя свежими, ровными зубами. Откинувшись затем, она стала болтать о том, как кутила на прошлой неделе с морским летчиком, о том, что с фронта мужчины приезжают как бешеные и что лучше всех все же кавалеристы. Закончила:
– Ну что же, поедем ко мне?
Дима болезненно подумал, как рядом с нею, стройной и мягкой в осеннем пальто, резко выделится его горб, сразу сжался и покачал головой. Она внимательно посмотрела на него и спросила:
– Не нужно?.. Может быть, после?
Порывшись в сумке, она вынула карточку и дала Диме. На ней стояло «Наташа Оглоблина» и адрес – где-то на Охтенской стороне. Дима спрятал карточку в карман, но этот жест ему сказал, что прячет он вместе с карточкой еще полгода или год, и, внезапно побледнев, он решил ехать тут же. И когда он расплатился, а она поняла, что он согласен, то улыбнулась очень просто и счастливо.
Эту улыбку наблюдал Дима всю дорогу, пока они ездили за коньяком, пока лихач мчал их на Охту.
Комната ее была невелика. Половину занимала огромная никелированная кровать, покрытая алым атласным одеялом, напротив стоял небольшой ковровый диван с парой таких же кресел и овальным столом. Сбоку – зеркальный шкаф.
– Это все мое, – сказала Наташа с легкой гордостью, – кроме шкафа, шкаф хозяйки. Я уже год, как ушла из дома.
Дима понял, что дом не был родительским.
Радиаторы излучали темное тепло. Пока Дима раскупоривал бутылки, Наташа обернула лампочку, спускавшуюся с потолка, красной кисеей и заколола булавками плотные занавеси на окне.
Когда она села, Дима уловил ее взгляд, быстро оглянувший его горбатую спину и отвернувшийся, остановившийся на его прекрасных печальных глазах. Тут она улыбнулась снова своей нежной, порочной и простой улыбкой, а Дима с этой минуты почувствовал себя необыкновенно легко и уютно, сразу поверив, что она умеет простить все тягостное и ничего не хочет, кроме того, что есть.
Наташа, одним укусом закусив пол-яблока, села к нему на колени и прижала его лицо к своей пахнущей пудрой через тонкое полушелковое платье груди. Но, заметив, что его детски мягкие руки, обнимая ее, спокойны, а он сдержан, не стала навязчивой и ушла снова на диван.
Здесь она, занявшись собою, стала пить, опять с толком, с видимым знанием вин и алкоголическим смакованием. Опускала в коньяк очищенные ломтики груши и маленьким языком и губами обсасывала их раньше, чем проглотить. Мало-помалу пьянея и раздеваясь медленными, величественными движениями, откинулась на спинку и из полной рюмки, ежась и щекотливо смеясь от холода, полила свой голый живот коньяком, – коньяк сбежал тонкими ароматными струйками.
Дима пил мало, курил голландские слабые, пряные папиросы, голова его слегка кружилась от запаха разлитого спирта, он смотрел на Наташу и слушал ее несвязную болтовню, ее подчас грубые воспоминания. Он решил, что вот об этих женщинах с любопытством и подавленной завистью думают другие недаром, – среди скандалов и насилия испытала не раз Наташа то, о чем лишь мечтают другие: звериную страсть, усложненные пороки, жуть и аромат преступления.
Наташа, побледнев от вина, что стало заметно даже при розовом свете, теперь совсем нагая, качаясь, разгуливала по комнате, вертясь перед зеркальным шкафом, касаясь грубоватым телом холодного зеркала и вздрагивая.
– Теперь, когда у меня своя квартира, я не люблю скандальных гостей, – говорила она, – я люблю таких, как ты, а если хочешь кутить – едем в дом… Ты не скучаешь, миленький?
– Нет, – отвечал Дима, выжимая в рюмку лимон.
Вдруг Наташа, подойдя к столу, налила полный стакан коньяку и, залпом выпив, сказавши:
– На! – бросилась в кресло.
Здесь она быстро сдала. Побледневшее лицо ее стало тоньше и потеряло бесстыдство, крашеные губы разрезали его тонкой счастливой чертой, а полузакрытые глаза, казалось, не смотрели, а слушали о каких-то невероятных желаниях.
Дима заботливо помог ей перейти на постель и, уклонившись от ее рук, оставил ее там в раскинутой позе, покрытую легкой испариной и уже совсем обессиленную. Сам же вернулся в кресло и, вытянув ноги, вынул из кармана и развернул роман Эмара на недочитанном месте.
Развязка близилась. Освободитель Соноры граф де Прэбуа Крансе, заключенный в цитадель, ожидал своего последнего часа. Меж тем, выручая, Валентин Гиллуа с Анджелой и другом своим Курумиллой отважно подготовляли побег… Сраз захваченный повествованием, Дима, волнуясь, вчитывался в строки. Несправедливость судьбы к великодушным заговорщикам так сильно угнетала его, что он готов был бросить книгу, не дочитав. Но в нем жила еще надежда на удачу, хоть в то же время Дима знал, что Сонора не стала свободной. И когда граф де Прэбуа Крансе мужественно встретил смерть – Дима больше не мог: он захлопнул книгу и застыл в глубоком переживании сочувствия и невыразимой печали. Личность Крансе всплывала перед ним во всем своем недоказанном, но таком вероятном величии. Любовь донны Анджелы, преданные друзья, измена гасиендеро, предатель испанец, крушение…
Дима вздохнул. Дымка вымысла и фантазии колыхалась вокруг него, заслоняя окружающее. В этом привычном мире мысли его были невесомы. Легко думалось обо всем. Было несомненно, что есть в жизни герои, что ими движут благородные и великодушные цели. И Дима переставал ощущать себя не одолевшим четырех классов гимназии горбатым недорослем, отверженным завсегдатаем бильярдной, а становился незаписанным участником всех этих прекрасных походов в диких, девственных странах, сообщником тайных их планов, судией жестокости, преступления и насилия…
Наташа шевельнулась, и Дима растерянно оглянулся. Все та же счастливая улыбка блуждала на ее лице. Это разрезало сразу его мысли, и они, как побеги, привитые к иному стволу, налились земными крепкими соками. В ее улыбке было такое веяние жизни и простоты, в Диминой душе столько мечтательного доверия к ней, что все это казалось вне действительности, каким-то краем присутствовал образ донны Анджелы, ушли вся робость и отчужденность бесследно. Когда же она потянула руку, незнакомая сила подхватила Диму. Покачнувшись, он встал, подошел к ней – и прожил с ней безвыходно два дня, причем Наташа, просыпаясь, пила и целовалась с отражением своим в зеркале, а он курил и перечитывал начало и середину романа.
Третье утро пришло резко, как барабанный бой.
В квартире кругом шумели и хлопали дверьми. Наташа, похмельная и растрепанная, едва одетая, где-то в коридоре громко тараторила с хозяйкой. Дима думал, что нужно наконец домой, представлял себе ироническую улыбку матери и чувствовал, что стал теперь иначе ценить и жизнь, и себя, и военную злобу.
Вернулась Наташа другой – оживленной и торопливой.
– Слышал? Там, на Петербургской, фараонов бьют. А они с чердаков отстреливаются… – бросала она скороговоркой, холодной водой умывая свое слегка отекшее лицо и тело до пояса. – Пойдем, миленький… Ты пойдешь?..
Дима вздрогнул и быстро, как будто застеснявшись прихода нежданного гостя, обвел глазами всю беспорядочную комнату, заспанную кровать, бутылки на столе, пепельницу, полную пепла и окурков. Он мгновенно оделся и, оглянувшись еще раз, заметил на столе раскрытую книгу Эмара, захлопнул и положил на окно, с удивлением поймав себя на мысли, что еще вернется сюда…
На улицах было все по-новому. Дали не прятались за скукой расстояния, и широкие петербургские перспективы раскрывались с непонятной откровенностью. Стал виден воздух, обострился смысл существования каждого дома, каждого камня. Дима бежал с Наташей под руку, охваченный неясным огромным ожиданием и сочувствием к тому, что смутно угадывалось в уличной тишине, разрываемой любопытными и возбужденными прокриками бегущих людей. Что-то большое, незримое металось по улицам. Дима искал в каждом встречном ответа, смотря в лицо, в глаза, и бежал все дальше…
Вот по торцам загремела влекомая, как добыча, железная вывеска полицейского участка. Туда, откуда, подшвыривая ногами, бесцельно влекли ее, бросился Дима…
Перед домом стояла небольшая толпа. Окна участка были разбиты. Вороха бумаг и растрепанных дел летели из окон второго этажа. И в первый раз видел Дима алый флаг, не колеблемый в руках нестройной толпы, но твердо, неподвижно укрепленный на камне хмурого здания.
Только через неделю попал Дима в бильярдную. Его встретили как воскресшего. Дима, отдохнув от кия, играл вдохновенно и пылко, развернув весь блеск и совершенство своего удара.
Поливанов после двух сухих кричал петушком:
– Нет, вы подумайте: он был полубогом, а вернулся богом. Почему вы играете триплет, когда у вас на ударе прямой?
Но Димочкин триплет ложился на сукно безупречно, как упавший чертеж.
– Вы помните, конечно, о юноши, – потирал Поливанов свою плешь, – как рады были математики, что пчелы в постройке своих сотов приблизились к математическому решению этого вопроса с точностью в углах до двух минут градуса. И как пришлось потом Реомюру и Кенигу убедиться, что поправку в две минуты следует вносить не пчелам в постройку сотов, но математикам в логарифмические таблицы. Не рискнет ли кто-нибудь научить Димочку, как сыграть заказанный им круазе в угол? Желающих нет?.. Ну-с, тогда вернемся к текущему политическому моменту, сиречь к вопросу о падении самодержавия. Ваше слово, товарищ маркер!
– Да что ж… Они вроде как дохлый шар, который висит над лузой. Как ни пхни его – сам падает.
У Федора, как и у большинства присутствовавших, был приколот к борту пиджака красный бант.
Публика шумела, повторяли слухи о новых политических событиях и рассказы о пережитом в разных частях города. Дима слушал, играя, и ему хотелось быть всюду. Теперь по утрам бегал он, с молчаливой жадностью прислушиваясь к разговорам солдатских групп, ходил по залам Таврического дворца с Поливановым, то под руку с Наташей. В разговорах он не участвовал, но слушал с удовольствием. Только раз, когда разнесся слух о разгроме университета, обмолвился:
– Это хорошо.
На что Поливанов ответил:
– Ого! Вы становитесь сознательнее.
Дима ласково улыбнулся, не возражая.
Однажды, вмешавшись в один из тех постоянных, неопределенного характера митингов, что начинались с утра и кончались лишь глубокой ночью у городской думы, они долго слушали забинтованного контуженного солдата. Солдат убежденно эсерствовал, и косная речь его перебивалась репликами из толпы пестрого состава; вперемежку с шинелями виднелись рясы, котелки и студенческие фуражки. Солдата сменил какой-то почтовый чиновник, призывавший к организованности и порядку.
– Постойте, – внезапно сказал Поливанов, – я им скажу…
Не успел Дима оглянуться, как увидел его уже в середине толпы, над толпой, размахивающего руками и крайне нелепого. Первых фраз не слышал Дима за шумом, а когда шум поутих, то удивился жалкому звуку по-ливановского фальцета здесь, на уличном просторе. Невдалеке одновременно говорил другой оратор; публика, видимо, была раздражена, Поливанова не слушали. С трудом протиснувшись вперед, Дима ловил фразы из пятого в десятое.
– …И не слушайте тех, кто зовет вас к организованности, прикрывая под этим словом топтание на месте. Сейчас пришло время, когда можно и нужно двигаться во что бы то ни стало, куда бы это ни привело. А эта порода людей боится всякого размаха, всякого свободного движения. Действуйте, пока не поздно! Придет время – вас окрутят опять неминуемо, ибо мир ныне живет техникой, а техника движется формулой, и человеку все меньше и меньше места для действий, рожденных из его способности к жизни в движении, каждый шаг его все более обусловлен. Пользуйтесь же временем. Я вижу здесь много котелков – это, конечно, кадеты…
– Болван! – громко сказал тут господин в золотых очках.
– Здесь есть эсеры… Мы услышим и меньшевиков и большевиков… В чем дело? Кого вы убедите словами? Давайте действовать, докажите примером. В первом же магазине, разбив стекла, мы возьмем кумача на плакаты и, надписав все, что нужно: «До победного конца!», «В борьбе обретешь…», «Долой преступную войну!», «Да здравствует учредительное!» – молча пойдем каждый своей дорогой: кто – арестовывать Временное правительство, кто – бить Совет рабочих депутатов…
– Долой провокатора! Довольно!.. – сразу крикнули тут несколько голосов.
– И вы увидите, как это сразу двинет дело… – не сдавался Поливанов.
– Долой! – ревело уже полтолпы.
Но поливановский фальцет, вдруг ставши необыкновенно пронзительным, прорезал шум:
– Каждое законченное, приведенное в исполнение намерение научит вас большему, нежели месяц этого бараньего митинга!..
Тут уже Дима ничего не мог разобрать. Поливанов среди шума безрезультатно открывал и закрывал челюсть, мимикой своей напоминая говорящего на экране киноактера. Затем его столкнули, сбили с него шапку, и Дима видел, как какой-то гвардеец дал ему подзатыльник. Потом все смешалось, а через минуту Поливанов вылетел из гущи толпы навстречу взволнованному и обеспокоенному Диме без шапки, но со счастливым и радостным лицом.
– Должно быть, анархист! – иронически и пренебрежительно крикнул кто-то вдогонку ему.
– И горжусь этим! – огрызнулся Поливанов.
– Вы неисправимы, – сказал Дима, увлекая его за руку. – Что вам нужно?
– Движения во всех его формах, – пьяно отвечал Поливанов.
– Даже тогда, когда оно направлено по отношению к вашему затылку?.. Едемте лучше на Забалканский, я вам всыплю еще две сухих.
Однако неудачное поливановское выступление почему-то заставило Диму дружески-тепло придерживать по дороге руку своего спутника. Дима чувствовал, что заведен в тупик. Ему и самому казалось, что что-то подкатывает под ноги, какая-то волна разливается повсюду, но митинги все стоят, уже по пояс в воде, с неподвижной тупостью и все хотят выдержать неодолимый, но ясный напор.
А жадные серые волны шли с фронта и, встречаясь с заводскими, всплескивали вверх, выбрасывая на трибуны и балконы людей с бешеными выкриками, со всевидящими глазами.
Дима все реже бывал в бильярдной. Он бродил то у особняка Кшесинской, то у дома герцога Лейхтенберг-ского; бродил без мыслей в голове, наслаждаясь видом высокого зеленоватого весеннего неба, отблесками закатов на зданиях дворцов, ночными кострами на улицах, грузовиками, мчавшимися под стальным ежом ощетиненных штыков, и этой особенной широтой петроградских перспектив. Улицы гремели эхом многотысячных толп; Нева из-под мостов плавила свои вскипающие воды навстречу Кронштадту…
Порою Дима переставал понимать, как это случилось, как могла строгая и размеренная жизнь так невероятно раскачаться. В нем еще жило чувство, что в жизни нет и не может быть ничего сверхъестественного, а если и появится что-то чудесное, то стоит вспомнить, что спишь, как сейчас же приходит пробуждение и вместе с ним постылая скука, единственно достоверная в жизни. И Дима не знал – нужно ли протирать неверящие глаза или поверить однажды накрепко и зажить так, как если бы осталось, что мир навсегда околдован сном, полным кривой новизны.
Все же в шумящих толпах Дима чувствовал себя одиноким. Порой он ловил себя на том, что, встретив распевающую на ходу толпу, отороченную каймой приплясывающих и весело орущих ребят, начинал и он подтанцовывать. И, лишь заметив это и вспомнив, как всегда, в смущении о своем горбе, спохватывался Дима и, отравленный, отходил. Легче бывало ему с Наташей. Она, азартная и прямая, всегда с жаром отстаивала тот или иной список, всякий день, впрочем, меняя свои симпатии. Над ней посмеивались окружающие, посмеивался ласково и Дима, но она не теряла задора. А однажды сказала по поводу встретившейся демонстрации:
– Ты знаешь стишки Пуришкевича:
Не видать земли ни пяди…– Тебе не неловко? – усмехнулся Дима.
– Ничуть! Я – жрица свободной любви… Это о вас, о мужчинах… Все вы сволочи!..
И, вырвавши руку, Наташа, разгневанная, подбежала к остановившемуся грузовику, вскочила в раскачивающуюся груду солдат и уехала с ними. С этого дня не видел ее Дима две недели, тосковал. Наташа с кем-то кутила, а вернувшись наконец домой, встретила Диму как ни в чем не бывало, с той снисходительностью, с какой всегда к нему относилась. Но Дима что-то понял и в ближайший же день привез ей столового белья и чайный сервиз. Этим ссора была исчерпана. Дима каждый вечер теперь пил чай у Наташи, а она затеяла принимать всех своих подруг, хозяйничая не без умения, не допуская, чтобы пили лишнее, и сторонясь мужчин.
По утрам по-прежнему гуляли. Но наконец это Диме наскучило – к тому же Наташа сорвалась и впала в запой, – Дима опять зачастил в бильярдную.
Там между тем еще раз изменился состав игроков. Казимир Казимирович, идя навстречу возросшему спросу, расширил помещение, добавил еще два бильярда, и теперь сюда стекалась странная публика. Какой-то армянин с адъютантскими аксельбантами бессменно и крупно играл, избегая сталкиваться с Димой, ему всегда сопутствовал старик, называвший себя отцом, – Дима, впрочем, был уверен, что родство их ограничивалось братским дележом выигрыша, не столько бильярдного, сколько карточного, за железкой, в номере гостиницы, среди партнеров, вербуемых в бильярдной. Вербовать было легко: в столицу хлынула толпа помещиков, отставных крупных чиновников и прочей шушеры, не привыкшей, чтоб деньги, хотя и последние, залеживались долго в карманах. Их жажду проигрыша обслуживали адъютант с папашей и два-три жучка помельче.
Зайдя однажды, скользя рассеянным взглядом по незнакомым лицам, Дима вдруг увидел кудрявого богатыря в расстегнутой синего сукна легкой поддевке, двигавшегося навстречу с протянутыми руками.
– Ага, вот и ты, а мне говорили, что ты сгинул, говорили, что ты комиссаром стал… Сыграем, что ли?
И Грохотов здоровался долго своей твердой рукой подрядчика, нажившегося на военных поставках. Курчавый черными с проседью кудрями, загорелый не столичным загаром, хранил он в лице что-то быстрое, цыганское. И теперь, отвернувшись, смотрел на столы с подавленной энергией.
– Ну, товарищи, ну, сукины дети, что понаделали, – шептал он как будто в забытьи, как будто отвечая Диме на какой-то его вопрос. Кий выбрал быстро, одним взглядом оценив прямизну его, а подбросив и поймав – вес; натирал мелом, ломая, разбрызгивая по полу осколки, и было ясно, что хоть обижен Грохотов смертельно, но имел силы уйти в себя и теперь грозил оттуда, из глубины души, расправиться, когда придет время, по-свойски и подзажать в свой волосатый кулак казнокрада все, что можно будет и что нельзя. Резким взмахом замахнулся он, но ударил осторожно и мягко, слегка лишь разбив пирамидку.
– Играй, Дима, игрушку, бей меня, плута, проиграл я тебе петеньку!
Дима начал нехотя. Его беспокоило что-то; казалось, что беспокоил старик, игравший за соседним бильярдом, жилистый и медлительный, почти после каждого удара отходивший в угол прокашляться и плюнуть. С глухим раздражением смотрел Дима, как он целится долго; мешая пройти – бильярды стояли теперь тесновато, – брезгливо рассматривал нечистую одежду старика и желтые тупые ногти его.
Грохотов играл с прибаутками, но прижимисто. Дима, скучая, отыгрывался и стал больше следить за соседним столом, чем за своим.
На небритом лице старика неподвижно стояли глаза, мертвые для всего, кроме расчета; тихими накатами, бессильными, но методичными, обыгрывал он своего молчаливого партнера. Скоро заметил Дима, что не он один заинтересовался стариком; сидя в углу на диванчике, с него не спускал глаз коренастый, лет тридцати пяти блондин в кожаной с огромным красным бантом куртке.
«Должно быть, держит мазу, – подумал Дима. – Но за кого?»
Старик тщательно целился, чтобы положить в среднюю.
– Не влез!.. Подставил я тебе!.. – горестно воскликнул здесь Грохотов. – Ну, товарищи, ну, паршивцы-сопляки!..
Но Дима вдруг увидел, что сидевший на диванчике блондин встал и крадучись подходит сзади к старику. Дима не успел подумать, что это значит, как все объяснилось: блондин, изогнувшись, наотмашь ударил старика в ухо…
Старик упал на бильярд, схватившись за ухо рукой. Из-под пальцев быстро показалась кровь.
Все остановилось. Сквозь неясный ропот кто-то громко сказал:
– Вот это так ахнул!..
Потом все заговорили. Старик все еще лежал на бильярде, блондин все еще стоял на своем месте и, покрывая шум, спросил ясным голосом:
– Ты знаешь, Сеня, за что?
– Знаю, Андрей Терентьевич, – тихо ответил старик, не меняя позы.
Тем временем все уже столпились вокруг плотным кольцом. Толстяк с глазами навыкате и красной щекой кричал:
– Ты что же думаешь, на тебя милиции нет? Думаешь – революция, так можно людей в общественном месте калечить? А еще бант нацепил, бандит зуев!..
Блондин стоял неподвижно и спокойно, но тут все заметили торчащий из-под кожаной его куртки кончик замшевой револьверной кобуры. Кружок несколько раздвинулся. Блондин же презрительно сказал:
– Вы на меня не кричите, я не собака… Лучше спросите, в чем дело. Сеня, скажи им, – замотал ты у меня пятьдесят целковых золотом или нет?
Старик молчал.
Что толкнуло здесь Диму – он и сам не мог понять. Хрустнув пальцами, как тогда на Измайловском, вытащив из жилетного кармана уже очень редкие в те времена пять золотых, зажав их в кулак, одним движением прорвал он кружок. На миг остановился он перед блондином, трепещущий, тщедушный в своем порыве, и, сразу разжав кулак, влепил вместе с сухим ударом монеты в его щеку. Золотые рассыпались, слабо звеня… Краем глаза заметил Дима, как торопливо забегали руки блондина, нашаривая револьвер. Не ожидая, не раздумывая, он перехватил кий и тяжелой, налитой свинцом рукояткой дважды ударил его по голове. Дальше уже нельзя было двигаться: навалились окружающие, кто вмешался в борьбу, кто бросился поднимать золотые, их разделили, блондина куда-то поволокли, и уже суетился встревоженный Казимир Казимирович:
– Ради бога, ради бога, без скандалу, без огласки… Ай, что за люди пошли, что за публика, просто быдла какие-то…
Дима стоял дрожа, с остановившимися глазами, со взмокшим лбом…
В бильярдной шумели, оценивая случившееся; старик, обмыв ухо, пришел с тем же мертвенным видом, так же методически обыгрывать своего партнера. Грохотов удивлялся:
– Вот ты какой хахарь! Ну и Дима… Только понапрасну – он тебя где-нибудь встретит, товарищок этот. Ты думаешь, у меня руки не чешутся? Но не время сейчас, не время, говорю, играть, дай бог отыграться… И золотые – ты знаешь, какой курс теперь?..
– Дмитрий Алексеевич, это же взломщик, по сейфам работает, – прошептал подошедший сзади маркер Федор. – Его вся Лиговка знает… Недавно из тюрьмы вышел…
Старик уже кончил партию, выиграв в последнем, и принялся за новую, а Дима все еще не мог успокоиться. Наотрез отказался он продолжать игру, и, когда расплачивался, Грохотов сказал:
– Горяч ты очень. По справедливости – ты мне не проиграл, зря отдаешь…
Тем не менее спрятал пятисотку в бумажник.
А Дима, едва сдерживаясь, накинул пальто и выбежал на улицу. Здесь только, севши на извозчичью пролетку, уткнувшись в угол, зарыдал он тихо и безутешно, как если бы, приложив руку к человеку, лишился он какой-то нужной в жизни чистоты.
С тех пор только раз поборол Дима свое родившееся отвращение к бильярду. Это было после того, как целый день накануне он провел на улицах с Поливановым, натыкаясь всюду на разведенные мосты. Группы солдат были как-то замкнуты, недоверчивы, публика немногословна. Видно было, что никто в точности не знал, что делается, все раздражены и хранят про себя догадки и отношение к совершающемуся.
– Давайте плюнем, – сказал Поливанов. – Это не для вас и не для меня. Россия стремится неуклонно к своему Наполеону. Ну и черт с ней, иначе вас сделают конторщиком. А наше дело: вам – играть на бильярде, а мне – быть толкователем вашего искусства. Мы забыли об этом и лезем на улицу. Ну вот и дождались, что улица повернула нам спину. Надо вернуться в материнское ложе искусства, воспитавшего вас. Приходите-ка завтра на Забалканский, да тряхнем стариной.
Так и случилось, что встретились они у бильярда еще при дневном свете.
Со странным чувством взял Дима в руки кий. Тяжесть рукоятки еще живо напоминала о том употреблении, какое неожиданно получила она последний раз. За эти полтора-два месяца Дима несколько утратил технику. Правда, глаз видел очень зорко, рука сжимала кий и двигалась очень твердо, но было ощущение какой-то излишне затрачиваемой силы, несвободы, как будто приходилось бороться с чем-то вязким, выросшим за это время. Однако былое увлечение захватывало Диму. Он играл напряженно, выравнивая удар, партию за партией.
– Вот видите, – говорил Поливанов, – вам вредно забывать бильярд. Вы как-то созрели за это время. Вся моя чуткость к оттенкам вашей игры подсказывает мне, что вы оставили сегодня ваш мальчишеский задор… Не Наташа ли действует так на вас? Ваша мечтательная пылкость нынче похожа скорее на зрелое бесстрашие аргонавта… Хотите, я подскажу? Играйте семерку с выходом под десятого…
И Дима, играя по назначению Поливанова с прилежностью и старанием, вдруг почувствовал желание сыграть какую-то небывалую партию.
Казимир Казимирович, войдя, сообщал всем секрет полишинеля:
– Вы знаете, к Зимнему дворцу подошли броневики… – И не удержался от измышлений: – Полно переодетых немцев!..
Кий затрепетал в руках Димы, как струна. Звонко перебежало по столу упругое щелканье шаров.
– Знаете ли, Димочка, что такое причинность? – проговорил Поливанов. – Это – инерция движения. Если движение выражено прямой, математическим рядом точек… – дублет в середину!.. – рядом точек, то положение точки «б» вытекает из положения точки «а»… Может ли «б» не прийти? Туда же тройку!.. Может, – тут Поливанов лукаво улыбнулся, – если мы помешаем. И это будет покой – отсутствие и отрицание причинности. Не правда ли?
Публика расходилась, бильярдная пустела. Казимир Казимирович ходил тревожный, предупредил:
– Я закрыл вход, кто знает, что может быть. Вы будете играть?.. Пожалуйста, пожалуйста, свои гости… Это просто мои меры, каждый должен быть на своем посту.
Игра продолжалась в пустой бильярдной.
Лишние лампы были погашены. Поливанов, достав из пальто бутылку водки, пил среди игры в углу, в полутьме, закусывая бутербродами, а Дима, забыв о нем, играл как будто сам с собой, удар за ударом завоевывая гибкость, подавленную было косностью, возвращая былое мастерство.
– Я вас поймал, – сказал Поливанов, ероша редкие на плешине волосы, глубокомысленно глядя на стол. – Давно вы не уделяли мне своего внимания. Конечно, что значит для вас, смелого аргонавта, старый и хилый любитель мудрости в неуловимых, текучих во времени форм движения… Скажите, Дима: как ваша матушка?
– Я схоронил ее на той неделе, – ответил Дима.
Голос его взвизгнул в полутьме, и, только лишь поэтому пожалев, что спросил, Поливанов наклонился над озаренным сукном, тихо отведя биток к борту.
Дима же, нагнувшись, взмахнул бровью и взглядом измерил положение шаров – точнее взгляда нет ничего в мире, – измерив, ударил с назначением:
– Восьмерку в угол.
Рванулась восьмерка молниеносно, сгорели под нею два аршина зеленого сукна, со звоном врезавшись в лузу, пропал шар – казалось, это он, пролетев пространства, грохоча, взорвался в Зимнем дворце.
– Стоило отыгрываться, – пробормотал Поливанов. – О смелый аргонавт!
Теперь уже ясно почувствовал Дима, что пришел какой-то перелом: удар вернулся к нему. Дима слегка устал, но голова горела, теплые руки чувствовали малейшую неточность, он, почти не целясь, взял партию с одного кия.
В окна снова глухо и упруго ударили пушечные выстрелы – выстрелы с «Авроры». Окна ответили тихим звоном.
Маркер Федор едва успевал ставить пирамидку. Заметив гибельное оживление, охватившее Диму, он сказал с оттенком профессионального уважения:
– Вы, Дмитрий Алексеевич, как дочь пропиваете…
В самом деле, казалось, что это последняя игра. Поливанов только удивленно покачивал головой. Дима, кончая вторую партию опять с одного кия, остановился перед прямым ударом по висевшему над лузой шару. Ему хотелось одним взмахом раздробить вдребезги кий, вогнать шар так, чтобы либо он раскололся, либо отскочила медная обшивка лузы, и тем закончить партию. Он размахнулся и ударил изо всей силы… Шар сгинул, но кий не сломался, а лишь треснул во всю длину, пробковая наклейка отскочила, и первый раз в своей жизни Дима разорвал сукно на бильярде большим прямоугольным клоком, обнажив черный аспид доски.
Два дня Дима пробыл в состоянии тоскливого беспокойства, пугливого недоумения перед совершающимся, доходившим до него эхом перестрелок и уродливым преломлением квартирных слухов. По ночам не спалось, он гасил огонь и смотрел в окна, закутавшись в тяжелый оконный занавес. Глубокая осень стыла над черными улицами, Дима вспомнил, как шел он один за гробом матери, как с той поры не оставляет его всеобъемлющее чувство одиночества.
Наконец он не выдержал – в восемь утра уже оделся и побрел по туманной, сумеречной Лиговке к Наташе. Еще горели фонари. Дома, как корабли на якорях, недвижно сырели по сторонам. Около Знаменской площади перед подъездом гостиницы стоял одинокий извозчик. Первый человек, которого увидел Дима, был Грохотов, укладывающий чемоданы в пролетку. Дима несказанно обрадовался ему.
– Куда?
– В Москву, милый, в Москву, – ответил Грохотов весело, – она им, матушка, покажет…
Дима повел удивленно глазами.
– Ну да. Ты не знаешь, чем кончилось? На, читай…
И Грохотов вынул торжественно из кармана листовку Временного Совета Российской Республики с призывом о сплочении вокруг комитетов спасения родины и революции.
– Понял?
Дима понял и взволновался глухим, томительным волнением. Сразу встала давно подавляемая мысль – что делать?
– Хочешь, едем со мной, – предложил Грохотов. – Вместе веселее.
Дима раздумывал, а он, схватив его за рукав, шептал горячим шепотом, поглядывая по сторонам:
– Правительство арестовали, блатных из тюрем по-выпустили. Банки прикроют, на днях прикроют. Все, что потом-кровью добыто, народное, говорят, достояние… Ах, черти полосатые!.. Ты деньги где держал? В банке небось? Молодо-зелено… Ну, как же, едем? А то того гляди поезда станут.
– Я не один, – сказал Дима нерешительно.
– Чудак, ты что же думаешь, мы навеки, что ли? Через неделю с хоругвями, с иконами, с колокольным звоном вернемся… Кто у тебя, жена?
– Допустим.
– Женщина? Так бери с собой. Чем больше – тем лучше, веселее. Ты здесь живешь недалеко?
– Она на Охте.
– Далеконько… Ну ладно, садись, доедем…
И, зайдя ненадолго к себе, заперев квартиру, Дима уже ехал на Охту. Грохотов хозяйственно оглядывал улицы, без умолку говорил, желая казаться веселым, заразить своим весельем. Он напоминал цыгана, дирижирующего хором, с печальным видом выкрикивающего зажигательное: «Эй, ходи, молодая!» Какие-то документы из Военно-промышленного комитета помогли сойти за снабженцев, возвращающихся на фронт, и избежать подозрительности патрулей.
Наташу, конечно, пришлось поднимать с постели.
Она не удивилась.
– В Москву? Ну что же, только ненадолго, у меня здесь мебель… Платья тоже не возьму.
Она зевнула и стала одеваться, не стесняясь присутствием Грохотова, разглядывающего ее мимоходом, но с любопытством.
Назад ехали на том же извозчике, Наташа на коленях у Грохотова. Улицы все еще были пустынны, но на Николаевском вокзале было суматошно и тесно. Крупная взятка открыла им путь на перрон. Поезда, отходившие в Москву, были переполнены. Билетов нельзя было получить, да, по-видимому, огромное большинство пассажиров ехало по документам. Тут же составлялись воинские эшелоны, подавляющее количество суетившихся и оравших людей были солдаты и рабочие-красногвардейцы.
Была единственная возможность уехать – это попасть в международный вагон. Но он свирепо охранялся проводником.
Тут выручил опять Грохотов. Необыкновенная легкость, с которой он умел дать взятку, соединялась в нем с правильно взятым тоном, напористым и шутливым. Проводник уступил свое купе, и они уселись втроем в узком пространстве, стесненные обилием каких-то корзин и чемоданов.
Поезд тронулся. Грохотов, немедленно вытащив из чемодана водку, угощал проводника и Наташу. Выпил и Дима, думая все о том же: что грохотов из кожи лезет, чтобы подогреть настроение, неуверенное и пустое внутри.
Было жарко. Наташа, захмелев, визжала; Дима, не захмелев, чувствовал головную боль; Грохотов, усталый, молчал, но сквозь молчание проглядывала в нем та же неугасимая обида, та же незаживающая надломленная энергия.
Коридор вагона был набит пассажирами. На станции не выходили, лишь из окна наблюдая мелкое оживление, тревожную деловитость, вызванную приходом поезда из забурлившей столицы.
Когда настал вечер, зажгли свечу – и стало ясно, как тесно и неудобно будет спать. Наташа злилась, ругалась – зачем и для чего в Москву, на черта уехали, лучше бы сидеть в Питере и не рыпаться. Грохотов затеял с ней жаркий спор, а Дима, крепясь, подумал в первый раз отчетливо: в самом деле, что делать в Москве? Но поезд несся все дальше, купе же было островком света и тепла среди пустынной жути проезжаемых зимних полей, спор укачивался мало-помалу, и Наташа, склонив голову на плечо Димы и уснув, пригвоздила его к дивану.
Ночью, разбудив всех, вошел смешанный контроль, проверявший документы и билеты.
– Кто такие? – не доверяя грохотовским удостоверениям, спрашивал в матросском бушлате, увешанный гранатами минер.
Грохотов пространно объяснял, Наташа, проснувшись, зло прервала:
– Вы что же, мужчина, не видите? Спекулянт, гулящая девушка и бильярдный игрок… Бильярдные шарики из Питера в Москву от революции катятся… Дальше что?
По-видимому, этот ответ удовлетворил минера больше, чем грохотовская запутанная речь. Вернув документы, мельком взглянув на багаж, захлопнул он двери, и до утра их никто не тревожил.
Солнечный день глянул в окно, как будто хотел сказать: «Ну, милые, как живете?» Под солнцем зашевелились вяло пассажиры в купе, как дождевые черви на горячем сухом песке перед тем, как попасть начинкой на рыболовный крючок. Наташа начала с пудры. Эта будничная забота ее наложила отпечаток скуки на весь день. Только часам к пяти, подъезжая к Клину, заволновались.
– Ну вот, скоро и Белокаменная, – приговаривал Грохотов, увязывая чемоданы.
Сердце Димы дрогнуло. Там, где остановится поезд, ждет его то, что было так невозможно в Петрограде, то, что было так пропущено, – осуществление каких-то надежд… Куда-то придет он и скажет: «Дайте мне оружие». Его ни о чем не спросят, не удивятся, дадут тяжелую и жирную от смазки винтовку, дадут тяжелый подсумок, и он, легко вздохнув, победив свою робость, сольется наконец с неповторяемыми днями, с массой этих людей, по-своему правящих путями жизни… Вот что делать…
Поезд подошел к Николаевскому вокзалу. Сдав лишние вещи на хранение, с легким ручным багажом они вышли на темную площадь, изрезанную окопами. Грохотов только тихонько засвистал, поглядывая на красногвардейские патрули у костров.
Публика шла обходом, переулками. Подчиняясь общему молчаливому потоку, двигались и они.
– Началось и здесь, – угрюмо заметил Грохотов. – Надо на Тверскую, обязательно на Тверскую, там у меня в «Дрездене» свой человечек, от него узнаем, как и что.
На Тверскую, однако, попасть не удалось. Пришлось бесконечно колесить, натыкаясь на заставы, обходя проволоку и окопы. Наташа отказалась идти, надо было подумать о ночлеге.
Гостиницы были переполнены. Лишь с трудом разыскали они где-то в меблированных комнатах холодный, нетопленный номер. Улеглись сразу, укрывшись шубами, а когда утром проснулись, во дворе ржал пулемет…
– Ну, скорей, Дима, скорей, – торопил Грохотов, умываясь и фыркая, – время не ждет… Волка ноги кормят!
Холодная вода придала Диме свежую бодрость. Этим утром, этим днем хотелось начать твердый ряд дней. Еще вчерашний вечер покончил с остатком неуверенности, впереди было все ясно. Дима уже чувствовал себя с краю вертящейся воронки водоворота; движение, пока еще медленное, захватило его, но скоро всосет в середину, и Дима отдавался ему с радостным чувством. Жизнь как наново пришла и была дана без всяких условий.
Уходя, Грохотов на минутку остановился в нерешительности – не оставить ли за собой номер.
– Мы не вернемся больше, – сказал Дима, сжигая за собой корабли.
Им удалось быстро выйти из района перестрелки, и они очутились в спокойных сравнительно местах Цветного бульвара.
В тени было морозно, но с крыши капало. Дима улыбался навстречу солнцу и вел Наташу под руку, нежно поддерживая, жалея, что она с ним, что вытащил ее из Петрограда в сумятице отъезда. Но она, видимо, была довольна, чувствуя себя гостьей в принаряженном под солнцем городе. Дима же твердо хотел быть хозяином.
По дороге наткнулись на сцену разоружения офицера. Он стоял, прижавшись спиной к стене, с поднятыми руками. Это уже у Дмитровки. Впереди все громче хлопала перестрелка.
– Дальше не ходите, – пугливо, нараспев предупредила какая-то старушка, – пули летают…
Страстная, однако, была полна народу. Военных не замечалось, перестрелка звучала где-то в стороне, и публика расползлась, как тесто, вылезшее из квашни, по Тверской в сторону пустынной Скобелевской площади, где виднелась цепочка людей возле поблескивающего на солнце орудия.
– Пойдем, может, проберемся, – сказал Грохотов, воровски оглянувшись по сторонам.
Наташа взвизгнула щекотливо и схватила его за рукав. Они стали медленно продвигаться среди толпы, становившейся все реже и реже. В конце, где открывалось свободное пространство торцов, стояло двое одетых в кожаные куртки людей, один из них громко убеждал:
– Товарищи, осадите назад. Назад!.. Говорят вам, здесь стрельба. Хотите, чтоб в вас попало? Чудное дело: мешаетесь зря… Ну, что смотреть? Не видели, как людей убивают?..
Но публика, успокоенная тишиной, не верила и постепенно оттесняла патруль в сторону Скобелевской площади.
Вдруг сверху грохнул выстрел. Патруль моментально исчез, и публика шарахнулась. Сбоку из переулка лопнуло еще два выстрела. Толпа с воем хлынула к Страстной. Давя друг друга, бежали с выкаченными глазами еще за минуту до того спокойные люди.
Дима сразу потерял Наташу и Грохотова. Напрягая все мускулы тела, он остановился, прижавшись к стене углового дома. Улица быстро опустела, и он был уже на виду с двумя-тремя растерявшимися, отставшими зеваками. Со стороны Страстной застучал пулемет, она так же быстро опустела, оставив лишь точки каких-то людей, западавших за тумбы и фонарные столбы. Сквозь грохот выстрелов вдоль по улице протянулись пение и свисты, как будто серпантинные ленты, свистя, разворачивались вместе с полетом пуль.
– Уходи отсюда! – крикнул, перебегая по стенке из подъезда в подъезд, какой-то солдат.
Дима ткнулся вслед за ним, но двери были уже наглухо заперты. Он остановился, переводя дух, собирая силы для того, чтобы перебежать за угол, в переулок. Что важнее всего казалось Диме – это не слышать грома выстрелов, тогда, казалось, не попадет. Он бросился очертя голову – и невредимый проскочил в Леонтьевский переулок. Здесь, осмотревшись, прижимая руку к вздымавшейся груди, он двинулся осторожно, врастая во все углубления стен, попадавшиеся по пути.
Пройдя так три-четыре дома, остановился Дима в сравнительно глубокой впадине ворот, собираясь отсюда двинуться уже в открытую по тротуару, как вдруг переулок сразу ожил перестрелкой. Кто и откуда стрелял – Дима не мог сообразить. Он слышал выстрелы с разных сторон, звон разбитых стекол и, прижавшись в угол, не находил в себе силы высунуть голову.
Внезапно, протопав тяжелыми подошвами, в ворота влетел портупей-юнкер с винтовкой, а вслед за ним полковник с наганом в руке и биноклем, висящем на ремне, перекинутом через шею. Второй юнкер, пробитый пулей, с размаху упал на тротуар, не добежав. Ноги его мерно колотили камень, руки трепетали, и он перевернулся навзничь, стихнув, открыв залитое кровью лицо.
– Ты что здесь делаешь? – строго крикнул полковник, но, поняв все по виду Димы, не ожидая ответа, отвернулся и выглянул наружу.
Сразу грохнули выстрелы, и отбитая штукатурка брызнула о листовое железо ворот.
– Прохвосты! – полковник отшатнулся.
Дима разглядывал его сизый затылок, поросший короткими, с сильной проседью волосами. Полковник повернулся лицом, худощавым, не бритым уже несколько дней, усталым, но молодо выглядевшим под румянцем мороза.
Затем взгляд Димы отяжелел и склонился книзу. Там, на тротуаре, рядом с убитым лежал предмет, привлекший его внимание, – винтовка. Он отводил глаза, но они упорно возвращались к этому стройному телу поблескивавшего оружия. В его очертаниях не чувствовал Дима ни тяжести, ни существа свойств, а лишь угадывал таинственные силы, дающие вооруженному человеку осуществление огромной власти над жизнью другого. Соблазн породниться с ними овладел им безраздельно; он чувствовал себя остро, как никогда, судией людских дел, вершителем судеб этого куска жизни, сгустившегося в уличном бою на Леонтьевском.
И в эти секунды, когда жизнь самого Димы получала последние ускорения, все разворачивалось и росло так быстро, что каждый следующий миг Дима становился новым человеком, совершенно отличным от прежнего.
– Дайте винтовку мне, – вдруг попросил он, наполнившись удивительной решимостью.
– Что? – не расслышал полковник.
– Дайте винтовку мне и скажите, куда стрелять, – крикнул Дима с нарастающей холодной бодростью.
Полковник испытующе взглянул на него, на дорогую шубу, на котиковую шапку.
– Пожалуй… Дорога каждая помощь… И господь вас храни!..
Быстрым движением он подтянул откатившуюся на тротуар винтовку убитого. На рукаве протянутой руки полковника виднелись четыре нашитых полоски галуна – знаки ранений и контузий.
– Цельтесь по окнам серого дома на той стороне, они там. Вы штатский?.. Заряжать умеете?
– Умею, – отрывисто сказал Дима, схватив винтовку.
Он выдвинулся слегка и, увидев в окне второго этажа человека в папахе и бекеше, вложил приклад в плечо. Человек, высунувшись из окна, целился маузером в сторону. Дима спустил курок, и маузер тут же, закачавшись упал, а человек свесился с подоконника вниз головой и руками, как будто ему подавали что-то снизу и он, протянув руки, хотел достать и поднять к себе.
– Молодцом! – крикнул полковник. – Я думал – вы совсем шляпа.
Собственный выстрел и оглушил Диму и отдал сильно в плечо. Дима и отшатнулся, ошеломленный выстрелом, результатом его и терпкой похвалой полковника.
«О смелый аргонавт!..» – вспомнил он с ужасной душевной болью.
Но винтовку крепко держал в руках и ни за что на свете не отдал бы ее…
Вдруг Диме захотелось чихнуть. По старой привычке он поднял руку и сильно нажал верхнюю губу – по правилам бой-скаутов… Действительно, желание прошло, Дима не чихнул.
Прижавшись к стене, он мучительно резко переживал сразу и одиночество свое, и отголосок огромного сострадания к затерявшейся в толпе Наташе, и познанную в этом сухом прыжке винтовки, вложенной в плечо, технику уничтожения…
Между тем кругом продолжали беспорядочно и настойчиво хлопать выстрелы. К глазам Димы тянулись лучи от всех пятен, от всех домов, равно ценные и зримые сразу. Так, углом зрения заметил он на невысокой крыше кошачьими движениями пробегавшую фигуру с красной повязкой на рукаве, но продолжал, несмотря ни на что в отдельности, созерцать как-то всю совокупность того, что было доступно наблюдению, не переставая в то же время следить за фигурой. Винтовка Димы была пуста, и он дрожащей рукой вложил новую обойму, – пули показались ему черными… Когда же солдат припал к трубе, Дима опять поднял винтовку, взгляд его вдруг заострился на куске серого сукна, видного из-за кирпича, он измерил положение взглядом игрока – точней этого взгляда нет ничего в жизни, – подвел мушку. Солнечный отблеск играл на ней, она, поднимаясь, должна была вот-вот заслонить серое пятно, но в какой-то ничем, кроме собственного чувства, не указанный миг Дима спустил курок, – солдат развернулся во весь рост и упал на крыше за трубой.
– Ааа… – завыл потихоньку Дима, осматриваясь.
Теперь только для него стало ясным все, что он сделает сегодня. Он улыбнулся, сначала искаженно, потом в движении своих губ почувствовал что-то напоминавшее ему Наташу, почувствовал, что улыбка его проста и счастлива, как у Наташи…
Тем временем, сделав перебежку, в ворота с новым грохотом ворвались юнкера и поручик с забинтованной головой.
– Двое вперед, за мной! – крикнул одушевленный полковник, взмахнув наганом. – Остальные прикрывайте! Чаще, чаще стреляйте, господа, надо показать, что нас здесь много… За мной!
Юнкера, бросившись наземь, стреляли лежа. Дима, припав на колено, выстрелил по оконным стеклам. Полковник бросился вперед.
Дима проследил его путь до следующих ворот. И когда он оглянулся, готовый скрыться, Дима, рванув винтовку, выстрелил в него навскидку, как бьют птицу в лет. Затем, не чувствуя себя, стремясь безвольно и бездумно вперед, он подбежал к нему – увидеть дело рук своих.
Страшным, внезапно до смерти утомившимся взглядом смотрел на него с земли лежавший полковник, как бы не узнавая. Дима видел, как он медленно целится в него наганом, но не остановился, с расширенными зрачками подходя и вглядываясь в его лицо…
Полковник был строг и честен. Он никогда не играл на мелок, возвращая проигрыш тут же, полностью.
Выстрела Дима не слышал. Только резкая судорога пронизала его затылок. Не дойдя до полковника, он повернул, описал круг, еще полкруга, завертелся волчком, как посланный с оттяжкой бильярдный биток, и, закатив зрачки, упал.
Сергей Семенов
Сергей Александрович Семенов (1893 – 1942), выходец из рабочей семьи, в «Автобиографии» писал о своем пребывании в рядах Красной армии: «Лил свою и чужую кровь. Был почти на всех фронтах…принял под Кронштадтом ледяную ванну и демобилизовался с испорченным правым легким». В своем творчестве Семенов стремился с максимальной точностью, а порой и с полемической заостренностью, отобразить чувства и настроения людей той бурной эпохи. Не избегал описания всякого рода противоречивых и болезненных явлений. Горький писал, что у Семенова «очень оригинальный талант, несколько зависимый от Кнута Гамсуна, – хорошая зависимость, на мой взгляд!» В годы войны Семенов командовал писательским взводом ополченцев. Умер в прифронтовом госпитале от крупозного воспаления легких.
Голод
25 апреля 1919 года.
Я очень люблю Петроград! Из окна вагона уже видны трубы, церкви и крыши, крыши, крыши. И над всем протянулось огромное, дымное небо. Господи, как бьется сердце! Сейчас, сейчас приеду!
Выскочила на перрон и сразу растерялась. Все кричат, бегают, суетятся. У меня с собой немного продуктов. Везу для голодного папы, а у проходных весов, кажется, реквизируют. Вокруг милиционеров столпилась целая куча. Плачут, ругаются. Неужели у меня тоже реквизируют?
Слава Богу! Через весы проскочила благополучно. Господи, как же это? На вокзальных часах уже без десяти шесть! А трамвай ходит только до шести. Мне же далеко!.. В Гавань!.. Успею ли?
Бегу через вокзал и никого не вижу. Толкаю всех без разбора. И чувствую, чувствую, как сзади позорно треплются мои жалкие две косички. Наверное, все смеются. А я еще в шляпке… Еду в Петроград, чтобы служить. Мне уже пятнадцать лет.
Как сумасшедшая, выбежала на Знаменскую площадь. Какие эти мальчишки нахалы! Так и пристают. Барышня, барышня, пожалуйте тележку!
– Ну, вы, оголтелые, пошли прочь! Вишь, барышню совсем закружили.
Поднимаю глаза и благодарю чуть не со слезами.
А лицо простодушное, широкое и румяное. Глаза замечательно добрые. И большая, русая борода. Наверное, не обманет.
– Давайте, барышня, донесу. Не сумлевайтесь, все будет в аккурат… Пожалуйте на трамвай.
– Благодарю вас, благодарю. Мне на пятый номер. Не знаю, куда… Пожалуйста… Господи, куда же вы меня сажаете? Мне же в Гавань!.. А этот куда? куда?
– Скорей, скорей, барышня! Последний прозеваете. В аккурат этот самый!.. На Васильевский!..
Слышу, на площадке говорит кто-то:
– На Васильевский, на Васильевский этот…
Слава Богу, попала. Гляжу, а мужик протягивает руку:
– На чаек-с, барышня.
И, конечно, я покраснела. Всегда, всегда краснею, когда даю кому-нибудь деньги. Вот глупая-то… Сколько же дать этому… товарищу?
Покраснела еще больше и протягиваю двадцатирублевую керенку.
– До… до… довольно?
Господи! Все лица на площадке заулыбались. Поглядывают на керенку в протянутой руке и улыбаются. Конечно, конечно, даю очень много!..
А товарищ вдруг:
– Маловато-с, барышня.
Ах, какой он нахал! И лицо совсем не добродушное, а хитрое. Противная публика смеется еще больше. Господин в пенснэ посмотрел, нахмурился и отвернулся. А товарищ все протягивает руку.
Ищу в кошельке еще керенку, и пальцы дрожат. Господи, все смеются надо мной, а я стою красная, красная. Протягиваю еще одну:
– Сдачи… сдачи у вас нет?
– Нет-с, барышня.
Противный! Он еще смеется. Щурит глаза и смеется.
– Нет, нет… ради Бога, возьмите… не надо сдачи.
Едем по Невскому. Какой он стал печальный, безлюдный. Милый, родной Невский. Говорят, люди умирают на ходу от голода. Господи, как же я-то буду жить? Очень голодает папа или нет?
Уже Николаевский мост. Вот Пятая линия. Сейчас, сейчас.
Звоню изо всей силы.
– Кто там?
Ах, какой сердитый, раздраженный голос! Это – Антонина. Наверное, она голодная. А я почти ничего не везу…
– Тонечка, милая, открой… Это я… я… Неужели не узнала?
С размаху бросилась ей на шею. Целую и плачу. Странно! Почему же я так обрадовалась ей? Она совсем чужая. Жена брата. И нехорошая, черствая. Шея у ней костлявая. И теперь-то она не рада мне. Чувствую это сквозь свои слезы. А все почему-то целую, целую.
– Привезла чего-нибудь?
– Ах, Тонечка, извини, хлеба не привезла. Даже сама всю дорогу голодная ехала. Вот тут в мешке остался еще кусок, да крошки… я сейчас, Тонечка…
А Тонька смотрит тяжело и неприязненно на меня и очень любопытно на мешки. Наверное думает, что мама нарочно ничего не хотела послать из деревни. А у нас ведь и у самих не было хлеба; на одной картошке сидели… Ах, как она смотрит жадно и нехорошо! У меня даже руки трясутся. Лихорадочно развязываю мешки и высыпаю крошки на стол в кухне. Развязываю еще, еще.
– Вот мама прислала немножко грибов сушеных для папы и Шуры… масла немного… да творогу. А больше и для папы ничего нет.
Антонина совсем разочарована, но говорит:
– Ну, ну, нам и не надо. Мы не нуждаемся. Вот только папка голодает. Ворчать будет, что ничего не привезла.
– Как? Вы не голодаете, а папка голодает? Разве вы живете отдельно?
– Да, да… И все это папка выдумал. Ты еще не знаешь, какой он стал скупой! Уходит на работу, а комнату свою на ключ запирает. Словно мы воры. Ну, ладно, пойдем в комнату чай пить.
Господи, как заныло сердце. Разве можно так жить между собой родным? Неужели папочка такой скупой стал? Восемь месяцев не видала его. Если такой скупой, то как-то меня встретит?
Вхожу в комнату, а на кровати сидит Тамарочка. Только что проснулась и в одной рубашечке. Коленочки розовенькие и с ямочками.
– Тамарочка, Тамарочка, ангел мой! Это я, тетя Фея! Узнала тетю? Тонечка, гляди, ведь она – ангел?.. Ангел ведь?..
Я очень люблю Тамарочку. Верчусь с ней по комнате, как бешеная. Вдруг входит Александр.
Увидел меня и как будто обрадовался. Господи, какой он худой и бледный! Я знаю, что он любит меня больше других, а я всегда груба с ним. И я люблю его, но он какой-то забитый и жалкий. Самый старший из братьев, а как-то глупый.
И теперь, как увидела его исхудалое лицо, сразу стало очень жаль. А поздоровалась, как всегда, небрежно и, вместо приветствия, спросила:
– Ты еще на место не поступил?
Я знала, что он смутится. Какой у него убитый вид! Наверное, каждый день донимают его этим вопросом. И я еще… Ах, какая я!.. Бедный, бедный Александр! Он обиделся и ушел из комнаты.
Антонина режет с полфунта хлеба на очень тоненькие ломтики.
– Садись пить чай. Вот только хлеба вчера не успели купить. А так мы не нуждаемся.
Глаза у ней опущены на хлеб и совсем не смотрят на меня.
– Погоди, Тонечка, не надо мне хлеба. У меня ведь на кухне остались крошки, да еще кусок… Сейчас я принесу…
– Да ну уж, чего тут! Ешь мой. Мы не нуждаемся.
– Нет, нет, я сейчас.
Побежала на кухню. Господи, где же хлеб? Кто-то с’ел! Вот тут, тут был сейчас. А теперь нет.
– Тонечка, Тонечка, пойди-ка сюда… Где же хлеб? Вот тут был сейчас, и кто-то с’ел…
Антонина прибежала сердитая.
– Да кто же? Я не знаю. Наверное, Шура…
– Александр? Не может быть! Да неужели он такой голодный? Ах, вот он и сам!
– Ты с'ел хлеб?
Молчит. Но я и так вижу, что хлеб с’ел он. Такой большой… Двадцать пять лет, а губа дрожит нижняя. И жаль, и хочется разорвать его.
– Я не знал. Я думал, хлеб ничей.
– Как ничей? Неужели ты не мог подождать, пока не сядем пить чай? Не стыдно! Не стыдно! Ведь все есть хотим.
– Да много ли его было-то?
– Много не много, а должен подождать.
Александр смутился окончательно. Он не знает, что говорить. Мне жаль его. Но перед Тонькой стыдно, и я кричу на него. И самой стыдно, а – кричу.
Тонька смотрела, смотрела и вмешалась.
– Брось его, Фея. Он в самом деле голодный. Папка его на диэте держит. Ладно, у меня хлеб есть, идем пить чай.
Сердце словно заплакало. И даже на глазах чуть-чуть не проступили слезы. Едва удержалась. Бедный, бедный Александр! Папа его голодом морит. Господи, какой он жестокий стал! Александр даже похудел, и глаза провалились. Как-то я буду жить с папой?
А за чаем Тонька рассказывает. Лицо строит сердитое, а глаза смеются.
– …Уж не знаю, как ты и жить будешь с ним? Очень скупой стал! Я уж не считаюсь куском хлеба, и Митюнчик мой не считается, а он запирает от нас комнату. Воры мы, что ли? А вчера, знаешь, у нас тоже не было хлеба. А у него был. Я зову его обедать к нам и спрашиваю: хлеб, папа, есть у вас? У нас сегодня нет. А он взглянет так зверем: «есть», – говорит. И несет из комнаты большой кусок. Отрезал нам всем по малюсенькому ломтику и опять унес. Так это мне обидно показалось, ты и представить себе не можешь. Разве я и Титюнчик так с ним поступаем?..
Я слушала, а сердце так и замирало от боли, обиды и страха. Ужас, ужас какой! Он и меня будет морить голодом. Скорей бы мама приезжала из деревни. Тонька тоже ненавидит меня. Наверное, она радуется, что рассказывает про это. Ну, да ладно, я буду веселая.
И я начинаю тоже рассказывать. Ах, как я весело ехала! Всю дорогу до Вологды провожал Френев. Френев – мой жених. Мы в Вологде даже поцеловались. Но что это Александр не ест хлеба? И вид у него робкий, словно не смеет.
Вопросительно взглядываю на него.
И сразу Тонька догадалась. Нахмурила свои бровки и говорит:
– Ешь, Фея, и вы, Шура, берите!
Верно, верно! Шура не смел взять без спросу. Фу, как некрасиво он ест! И старается, чтобы не заметили; хочет быть развязным.
Делает вид, что не обращает внимания на хлеб и спрашивает:
– А мама скоро приедет?
– Скоро. А что?
Он жалко подмигивает глазом и чавкает:
– Вот и скоро… Да, да, вот и скоро.
И сам берет еще кусок, еще и еще.
Тонька следит за каждым куском. Даже противно, и жаль Александра. Я говорю ему глазами, чтобы перестал есть. Но вдруг мне стало стыдно. Он, бедный, наверное и сам чувствует, что много ест, да он голоден и не может удержаться, когда хлеб на столе. Слава Богу, он уходит!
Тонька провожает его злыми, карими глазами. Потом смотрит на меня. Что-то она еще скажет?
– …И знаешь, еще… Папка ужас какой неопрятный стал. Овшивел весь…
Смотрю на нее широкими глазами. Господи, еще этого не хватало! Больше не могу делать веселое лицо и кричу возмущенно, прямо в ее вытянутый, острый, длинный нос:
– Что ты? Не может, не может быть!
– Да как, дура, не может, когда раз в месяц в баню ходит. Понимаешь, жалеет денег даже на баню. Ну, они и заводятся. А тут еще голодно. По полу, по стульям так и ползают. Я Тамарочку не пускаю.
Поднимается брезгливое чувство к родному отцу… Фу, фу, гадость! Ни за что не лягу с ним в комнате! Лучше у Тоньки на полу. И как он дошел до этого? Ведь так я буду его ненавидеть.
– Тонечка, милая, я у тебя буду спать. Я не могу с ним.
А Тонька опускает глаза на стол. Страх хватает за сердце. Неужели не позволит?
– Да у нас места нет. Видишь, как все заставлено.
– Я, милая Тонечка, на полу где-нибудь.
– Ложись. Но у нас места нет.
Она опять рассказывает про папу. Двадцать раз повторяет, что он не доверяет родному сыну: запирает комнату. А сам живет впроголодь. И хлеб есть: с завода получает достаточно. Даже запасы скопились, и хлеб заплесневел. Селедки тоже вонять стали. А Александра совсем морит голодом. Если б она его не прикармливала, он ноги протянул бы. И все потому, что он не может получить места. Завтра как будто обещали место младшего дворника в Европейской гостинице.
Вытянула шею и слушаю жадно. Уже не брезгливое чувство, а боль поднимается за папу. Господи, как голод его исковеркал! С восемнадцатого года – голод, голод и голод! Хорошо, что завод опять работает, а то совсем было бы плохо. И по письмам в деревню было видно, что папа изменился. Писал, чтобы приезжали, но между строчек было видно, что не хочет этого. Мама тоже скоро приедет. Как-то мы все будем жить с ним?
Звонок.
Тонька срывается с места. Сразу чувствую свое бьющееся сердце. Оно бьется со страхом. Это – папа.
Бегу за Тонькой на кухню. Она уже отпирает дверь. Гляжу во все глаза, и сердце бьется, бьется…
Входит.
Что-то как будто ласковое пробегает по худому, усталому лицу.
– А, ты приехала? А как мама?
– Да, папочка. Здравствуйте.
Странно, почему же я его не поцеловала? Никогда этого не бывало раньше. Даже когда он руку пожал, сердце зашевелилось от неприятного чувства. У него вши, вши… А смотрит как будто ласково. Только над левым глазом бровь дергается. Как нехорошо она дергается. Да, да, не верю, что у тебя ласковое лицо. Нарочно ты, нарочно… Скупой ты… Александра голодом моришь. И меня будешь. И вши у тебя.
Да, я не ошиблась, и Тонька верно говорила: папа сразу продолжает:
– А у нас Шурка еще без места, вот как мы живем. Ох, Господи!
Обидно стало от этого тона и от этих слов. Ну, конечно, прямо-то ему стыдно сказать родной дочери, так предупреждает обиняками. Ладно, не буду твоего хлеба есть. Скорей бы только на место поступить.
– Папа, идите с нами пить чай.
Это зовет Тонька.
Перед чаем папа вытаскивает из кармана свой хлеб. И мне кажется, он вытаскивает что-то из моего сердца. Оно ноет оттого, что он режет такие аккуратные, тонкие ломтики. Вот отрезал себе… Шуре… А мне-то где? Что же это такое?
А он вдруг говорит:
– Ты, наверное, сыта после деревни? Ведь не голодная же ехала?
Кровь бросилась в голову. Чувствую, что глаза заблестели ненавистью, и прячу их.
– Да, сыта.
– Ну, вот и хорошо. А мы тут голодаем.
Отрезал и завертывает хлеб в газету. Потом убирает в карман.
Смотрю из-под ресниц, как он двигает исхудалыми пальцами, и больно за него, и жаль его, и – ненавижу. Как страшно он изменился! Какими скупыми движениями завертывает хлеб в бумагу. Как неприятно сует его в карман.
– Ну-ка, пойдем спать.
Опять он смотрит на меня как будто ласково, а мне вдруг стало страшно. Спать с ним в одной комнате? Господи, да я боюсь его теперь! И еще эти вши…
– А вы где спите, папочка?
– Да у себя в комнате. Разве ты не была? Пойдем, покажу.
Изумленно взглянула на него. Еще новая черта: лицемерит со мной. Разве он забыл, что комната заперта?
Вошли.
С ужасом переставляю ноги по полу. Наверное, тут все вши. По углам стоят две кровати. Ага, мне, значит, негде.
– Папочка, тут негде. Я не буду беспокоить вас, я лучше у Тони.
– Не валяй дурака, там тоже негде.
– Да я на полу у них устроюсь.
– Говорят тебе: не болтай глупостей. Ложись, где велят.
Тон грозный. Он рассердился не на шутку. Пожалуй, и выгонит. Теперь можно всего ждать.
Мне освободили одну кровать, а сами легли вместе.
Через десять минут папа тяжело и неприятно храпит. Я лежу, уткнувшись в подушку лицом и горько плачу. Господи, Господи! Вызвал меня в Петроград. Говорит, хлеб нужно зарабатывать самостоятельный. Не дал даже окончить пятого класса гимназии. Оторвал от школы грубо, безжалостно. Трех недель доучиться не позволил. В деревню писал, что все на его шее сидят. А какой стал скупой, вшивый, черствый! Александра голодом морит. И меня будет, если скоро не поступлю на место.
Уже засыпая, слышала через стену, как пришел Тонькин Митюнчик. Он мой брат. Ему двадцать лет. Я его не очень люблю.
Потом за стеной долго говорили о чем-то. Упоминали мое имя. Я не расслышала – почему, но сердце сжалось и заныло тоскливо. И вдруг, как плетью по обнаженному мясу, хлестнула фраза, осторожная, но ясная:
– Хоть бы поскорее вшивые убирались. Еще матка приедет, совсем жрать нечего будет.
И сразу завозился спящий папа. Неужели он слышал все за стеной и мои слезы?
А по темноте уже сонно пополз его страшный, глухой голос:
– Комнату завтра запирать не буду… Смотри.
Колючее отвращение забегало по телу. Даже ноги свело, и судорожно стиснули зубы подушку.
Господи, какой ужас! ужас! ужас!..
26 апреля.
А ночью снились голубые сны.
Снился Сергей Френев. Опять провожал всю дорогу до Вологды. Потом прощальный поцелуй после третьего звонка. Бросилась на грудь и бессвязно бормотала:
– Сергей, Сергей, не думайте дурно о мне. Через два года я буду вашей женой.
А он смотрел так нежно, нежно. Поцеловал только в лоб и сказал грустно:
– И ты не забывай меня, маленькая Фея. Не забудешь? Нет?
– Нет, нет, Сергей, никогда!
Он соскочил на ходу. Долго стоял и махал фуражкой. И все во мне играло:
– Он любит, любит меня, почти девочку, с моими маленькими косичками!
Проснулась оттого, что кто-то тянул за волосы.
– Феюсенька, тавай…
Встрепенулась и вижу Тамарочку. Тянет меня за волосы, да и все тут.
Вскочила радостная. Зацеловала Тамарочку и вдруг вспомнила все вчерашнее.
Лихорадочно пересмотрела белье. И в самом деле: две, две… Ну, слава Богу, еще не так много. Тонька, по обыкновению, преувеличила. Скажу ей, чтобы не врала.
На столе лежит ломтик хлеба. Это, очевидно, моя утренняя порция. Однако какая маленькая. С'ела, и, как будто, ничего. Если так каждый день, то будет не особенно сладко.
Оделась и бегу к Тоньке в комнату.
– Ты что же меня напугала? Только две…
– Две? Ну, ладно, покажу после чая.
Я знаю, почему меня Тонька и сегодня угощает чаем: пока я не на службе, мне придется няньчиться с Тамаркой. Она сама служит в почтамте, и у ней то утренние, то вечерние занятия. Митя тоже служит в почтамте. У него занятия утренние. Он уже ушел.
После обеда Тонька ведет в папину комнату. Тамарочка бежит тоже.
– Смотри.
Она не глядя водит двумя пальцами по шерстяному одеялу и через секунду вытаскивает крупную, серую вошь.
– Видишь? Ну, что?
Лицо ее искажается. С сладострастным напряжением в глазах давит вошь на полу.
Я – ни жива, ни мертва. Тонька поворачивается и говорит торжествующе:
– Вот каких кобыл завел.
– Тоня, не надо, не надо, я не могу.
Мы и не заметили, как Тамарочка подошла к самому одеялу. Подошла и кричит:
– Ой, безыт, безыт!..
В три часа Тонька собралась на службу. Уже в шляпке, она что-то долго ходит вокруг меня. Вижу: хочет что-то сказать и не решается. Ага, говорит!
– Ну, оставайся с Богом, береги детей. И вот еще что, Митюнчик никуда сегодня ходить не должен и… если пойдет, спроси – куда?.. И заметь, в какое время.
Говорит, а глаза не смотрят на меня. Куда-то в сторону. Фу, чорт, да она ревнует его! Еще не легче. Как это низко! Я не стала бы ревновать, если бы у меня был муж. Прямо сказала бы: «раз мы различны – разойдемся». Мне противно на нее смотреть, и не знаю, что сказать. А она опять говорит:
– Ну, так сделаешь?
Я тоже не смотрю на нее, но сквозь зубы отвечаю:
– Ладно, ладно, иди.
Ушла и сразу за ней явился Шура. При дневном свете вид у него еще больше измученный, робкий. Под провалившимися глазами тени. Что-то теплое потекло по сердцу. Говорю ему мягко:
– Ну, как твои дела?
Шура посмотрел как-то боком.
– Послезавтра на службу, младшим дворником в «Европейскую» гостиницу.
– Слава Богу. А какую карточку будешь получать?
– Ударную, 3/4 фунта хлеба… Ах, Фея, если бы ты знала, как хочется есть!..
Сказал и нахмурился. Потом отвернулся в сторону. Потом опять посмотрел на меня. Глаза сделались, как у ребенка, – жалобными, просящими. Но где же? У меня самой ничего нет. Наверное, он думает: «привезла хлеба из деревни и спрятала где-нибудь»…
– Да что же я тебе дам? Ничего нет.
– Папа разве тебе ничего не оставил?
– Ничего. Ах, подожди… кажется, что-то видела в кухне на окне. Пойдем вместе, посмотрим.
На окне нашли вареную свеклу и картошку. Обрадовалась страшно, но смотрю: свекла полугнилая, а картошка мерзлая. Ах, папа, папа… Верно Тонька говорила: гноит продукты. Какой скупой! Противно даже. Говорю Шуре чуть не сквозь слезы:
– Да тут, Шура, все гнилое.
Он посмотрел и улыбнулся так, что мне плакать захотелось.
– Да мы и всегда гнилое едим. И этого-то не дает досыта. Смотри, тебе попадет за то, что и это с'едим.
– Ничего, ешь. Я не боюсь его.
– А сама-то?
– Я… я не хочу…
На самом деле я не не хочу, но меня просто тошнит от этой гнилой свеклы и картошки. А Александр ест жадно, жадно… Я… я бы не могла есть такой свеклы…
Через час после того, как ушла Тонька, пришел Митя. Лицо розовое, сияющее и самодовольное. Верно Тонька говорила, что они не нуждаются в хлебе. И как не стыдно, что не помогают Шуре?! Ведь брат же он!
Увидя меня, сказал небрежно:
– Приехала, Феюша?
И все.
Потом, не раздеваясь, походил вокруг меня и осторожно спросил:
– Тоня на службе?
– Да.
– Феюша, мне надо с тобой поговорить.
А я уже знаю, о чем он собирается говорить, и смеюсь:
– Ой, Митюнчик, смотри!..
Он тоже засмеялся. И почему он не чистит свои зубы? Говорит ухарски:
– Ничего не поделаешь, Феюша. «Она» ждет… Так ты скажи Тоне, что я ушел ее встречать.
Он смотрит на меня, как на девчонку. Я чувствую это и вся раздражена, но отвечаю, как девчонка. Сознаю, что не хорошо же обманывать друг друга. Разошлись бы лучше. Но ему говорю:
– Иди, иди, что уж с тобой делать?
А вечером у них разыгрался скандал. Тонька кричала, как бешеная, и приплетала меня:
– Нехорошо, Фейка, нехорошо: не успела приехать – начинаешь врать… Девчонка испорченная…
Я тоже кричала, сердилась на обоих и со злобой топала ногой:
– Я не при чем, не при чем, не при чем…
27 апреля.
Я ошиблась: вчера утром папа оставил на столе не утреннюю порцию, а на весь день. Папа получает по гражданской карточке, как рабочий, 11/4 фунта хлеба, да еще какой-то бронированный паек: 1/2 фунта за каждый проработанный день. Я еще пока не имею карточки, и из этого полуфунта папа уделяет мне кусочек на весь день. Говорит, что больше не может. Сам он обедает в заводской столовой. Я пока обедаю у Тоньки, но она смотрит косо. Еще никогда мы не жили так, чтобы каждый кусок делился. Наверное, все от этого и смотрим так, что готовы перегрызть горло друг другу.
Александр получает в день 1/2 фунта хлеба. Он также имеет столовую карточку. Вечером готовим, отдельно от Тоньки, ужин: селедку с картошкой и свеклой.
Оказывается, та свекла и картошка, что я вчера отдала Александру, была приготовлена на ужин. Папа строго спросил меня: «где она?». И больше ничего не сказал, за то мы все сидели без ужина. Уходя сегодня утром, он запер все на ключ.
Митя обещал для меня найти службу в почтамте. Поскорей бы… Папа напоминает каждый день, что я приехала не баклуши бить, а служить и помогать ему кормить семью.
Господи, как тяжело все это, когда вспоминаю, что надо бы учиться! Лягу спать и плачу…
28 апреля.
Совсем уже примирилась с мыслью, что папа стал скупой, черствый и заботится только о себе, но сегодня он меня страшно удивил.
Вечером принес из заводской лавки фунтов шесть хлеба. Александр весь день жаловался на голод, но ничего не просил. Он знал, что все на запоре. Ноет сердце, а дать ему нечего.
Как только пришел папа, я говорю:
– Ох, папа, как хочется есть.
У папы сразу нахмурились брови, но сказал все-таки:
– Иди, приготовь селедочку.
И сам провожает меня на кухню. Сам отпер шкаф и достал селедку и свеклы вареной. У него этой свеклы заготовлено, кажется, на неделю. И даже сварена вся.
Хочу мыть селедку, а от нее запах. И свекла полугнилая, как вчерашняя.
– Ой, папа, да это все гнилое…
Папа не смотрит на меня и говорит наставительно:
– Не гнилое, а приморожено только. Не бросать же теперь… За все деньги плачено.
Ну, что же? Не бросать, так не бросать. Приготовила, и все сели. От свежего хлеба папа отрезает по ломтику мне и Александру.
Конечно, быстро с’ели. Папа вдруг спрашивает ласково, ласково. Он ведь лишний кусок хлеба дал…
– Ну, что, сыта?
Я чуть не подавилась этим вопросом, так стало противно. Если бы могла, вырвала бы у себя из горла с'еденный кусок и бросила бы ему обратно. Со злобой говорю ему:
– Нет.
А он не ожидал и посмотрел строго, внимательно. Ничего не сказал. Молча отрезает мне еще кусок и завертывает хлеб в бумагу. Александру второго куска нет. Мне стыдно перед ним с’есть лишний кусок. Посмотрела на него, а Александр отвернулся и глядит в окно. Жаль его до слез. Не дотрагиваюсь до своего куска и говорю папе:
– А Шуре?
Александр все еще глядит в окно.
У папы что-то бегает по лицу и не смеет выпроситься на язык. Без слова развернул хлеб и отрезал Александру. Александр, не глядя на хлеб, поспешно взял и ушел на кухню.
Только что он ушел, лицо папы мгновенно изменилось. Он смотрит с какой-то странной укоризной и вместе с тем торжествующе. Не дождавшись от меня выражения любопытства, вдруг вытаскивает из кармана фунта 1 1/2 белого хлеба и показывает мне на него глазами. Потом говорит вслух:
– По карточкам… белый… хороший…
Режет на две части: побольше – себе, поменьше – мне, и все смотрит на меня с торжествующей укоризной. А у меня краска заливает щеки. Хочу сказать: «стыдно, стыдно, ведь сын же он тебе», и сама не знаю, что обезоруживает меня. Ладно, потом я отдам ему половину от своего куска.
А папа как будто угадал мои мысли:
– Ты сыта сегодня?
– Сыта.
– Так давай, я спрячу. Завтра лучше с чаем с’ешь.
29 апреля.
Первое воскресенье.
Александр у нас остается последний день. С понедельника он уходит на службу и жить у нас не будет.
Папа сегодня ушел с утра. И мне кажется, для того, чтобы я не попросила лишний раз есть. Даже обидно и горько от этого. После обеда к Мите пришел гость – Николай Павлович Яковлев. Я его знаю.
Не вытерпела и зашла к Мите в комнату. Ведь Николай Павлович – моя первая любовь. Я любила его два года, пока не встретила Френева.
Господи, как изменился Николай Павлович за эти восемь месяцев! Худой, бледный, глаза красные от малокровия. Голова выбрита совсем гладко. Он мне писал в деревню, что теперь увлекается богоискательством. И голова, наверное, выбрита оттого. А жаль, – раньше у него были роскошные волосы. И голос роскошный тоже. Как хорошо он песни пел для меня…
Теперь лицо у него спокойное, глаза кроткие. И, вообще, стал как-то некрасивее.
Обрадовался мне ужасно. Весь просветлел даже. Трясет за руки и заглядывает в глаза.
– Вы, вы приехали… учиться, конечно? Ну, как жили в деревне? Как Сережа?
Он спрашивает не о Сергее Френеве. Николай Павлович Френева не знает. У меня есть еще брат Сережа, он теперь на фронте. Сережа – лучший друг Николая Павловича.
И сейчас же я растаяла от его участливого тона. Тороплюсь высказать все. И что меня оторвали от ученья, и что я все-таки намерена учиться… Но противный Митюнчик, сияя своей самодовольной, насмешливой улыбкой, хочет срезать меня:
– Какое уж теперь совместное обучение?! Наверное, вовсю флиртуете с гимназистами?! Записочки пишете?
Я знаю его привычку всегда относиться ко мне пренебрежительно, и терпеть не могу его за это. Что я, в самом деле, девочка, что ли? Вспыхнула сразу и наскочила на него:
– И неправда, и неправда… Может-быть, первое время и было, пока не привыкли. А потом учиться все стали. А я… я совсем не увлекаюсь мальчишками.
Вижу, Митюнчик посмотрел на меня ехидно так и спрашивает:
– А кем же ты, Феюша, увлекалась?
Митюнчик и не понимает, что я нарочно вызвала этот вопрос. Для того, чтобы поддразнить Николая Павловича. Ведь не только я любила его два года. Кажется, и он любил меня немножко. Чуть-чуть взглянула на него и нарочно смущенно отвечаю:
– Я… я – только учителями.
Митюнчик во все горло захохотал.
– Ну, еще чище! Я так и знал. Эх, ты, Феюша. Все вы на один покрой шиты.
Николай Павлович тоже чуть-чуть улыбается, и мягко так, хорошо.
– А как же в будущем, Фея Александровна? Думаете учиться?
– О, о, Николай Павлович, обязательно!
И тут Митюнчик с'ехидничал.
– На словах, Феюша, – да, ведь?
– И ничего подобного, вовсе не на словах. Буду, буду, буду.
– Ну, а служить-то как?
Служить как? Я и не знаю как, но милый Николай Павлович приходит на помощь. Сложил руки на колени, и ласково смотрит на меня.
– И служить, и учиться можно. Чего же тут особенного?
Я всегда волнуюсь, когда Митюнчик донимает меня этим самодовольным, небрежным тоном. Всегда как-то теряюсь и не знаю, что отвечать. И с досады чуть не плачу. Спасибо теперь Николаю Павловичу. Выручил. Кричу Митюнчику прямо в смеющиеся глаза:
– И верно, верно Николай Павлович сказал. Буду служить и учиться.
Митюнчик прехладнокровно отвечает:
– Вот как, Феюша.
Достал папиросу, поколотил ее о палец и заговорил:
– Ну, предположим, ты будешь учиться. Окончишь школу второй ступени. Предположим даже, что поступишь в университет. Ну, а дальше что?
– Ну… Ну, дальше буду с высшим образованием. Найду себе призвание. Вот и все.
Говорю и краснею. Николай Павлович смотрит внимательно, а Митюнчик пускает дым колечками и просто смеется.
– Да я тебе и так скажу твое призвание, если хочешь.
– Ну?
– Замуж выйдешь.
Господи, какой он идиот! Я никогда, никогда не выйду замуж. Ах, Френев… Ну, это совсем другое дело. Митька, противный, всегда старается сконфузить перед людьми.
– Не выйду, не выйду… Ошибаешься ты. Нельзя всех женщин мерить на один аршин. Ведь есть же и другие пути.
Митюнчик слушает и глазки прищурил. Откинулся на спинку стула.
– Э, Феюша, уж тысячу лет известно, что женщина, какая бы она ни была… да, вообще, женщина всегда ниже мужчины.
– И вовсе не ниже, вовсе не ниже… В физическом отношении, может-быть, и ниже, а в умственном – никогда, никогда…
– И в умственном, Феюша, и в физическом.
Я знаю, что Митюнчика никогда не переспорить. Он всегда остается прав. И с ним как-то говорить трудно. Кричу со слезами в голосе:
– Как не стыдно, Митя! Какие у тебя отсталые понятия.
Я нарочно переменила фронт, но это также не помогает. Митюнчик спокойно возражает:
– Ничего, Феюша, не отсталые. Самые нормальные. Запомни раз навсегда, что женщина может быть только женщиной.
Николай Павлович во время нашего спора ведет себя очень деликатно. Он все время избегает смотреть на меня. Я понимаю: это для того, чтобы не смутить меня еще больше. Милый он, тактичный, хороший. А Митюнчик грубый. Но я ему докажу.
– Глупо не признавать ничего за женщиной. Я тебе сейчас докажу…
– Ну, ну, Феюша, постарайся, слушаю со вниманием.
– А разве не было женщин – великих людей?
– Были. Так что же?
– Как что же? Разве… разве это ничего не доказывает?
– А сколько их, милая Феюша? Хочешь я тебе по пальцам пересчитаю?
Противный Митюнчик, не спеша, считает и все пускает дым колечками.
– Не считай, не считай, пожалуйста. Я тебе докажу, что вы нарочно держали нас так. Фу, кухня, стряпня, стирка. Гадость какая. Вовсе женщина не ниже…
И вдруг неожиданно вмешивается Тонька:
– Да другая баба в сто раз умнее мужика…
Митюнчик быстро оборачивается к ней и, переменив лицо, жестко спрашивает:
– Уж не себя ли и меня имеешь в виду?
И, не дождавшись ответа, с прежней самодовольной, непогрешимой улыбкой издевается надо мной. Чувствую, как краснеет лицо. Сейчас брызнут слезы. Прячусь за самовар и кричу оттуда:
– Все равно, тебе не убедить, не убедить, не убедить…
– Я, Феюша, и не хочу убеждать. Сознайся, что ты из ложного самолюбия говорила?
– Ничего не из самолюбия… Я знаю тебя: ты ко мне подходишь с общей рамкой… Вот Сережа понял бы меня, а ты…
– Ну, Сережу ты оставь. Вы оба с ним витаете в облаках.
Сережа старше Митюнчика на два года. Он – коммунист и теперь на фронте где-то военкомом полка. Митюнчик не любит, когда ему ставлю Сережу в пример, и всегда говорит, что Сережа витает в облаках.
– Вовсе он не в облаках, а на фронте. Это ты вот не хочешь итти на фронт. Я ему письмо напишу…
– Пиши, сколько влезет.
Николай Павлович поглядывает на нас обоих и то хмурится, то улыбается. Потом он прощается. Говорит горячо и мягко:
– Учитесь, учитесь, Фея Александровна…
И смотрит на меня так сердечно. Да, да, я буду учиться. Пусть папа не позволяет, а я буду. Пусть Митюнчик смеется, а я буду. Сережа тоже говорит, чтобы я училась. Буду учиться и служить.
30 апреля.
Тонька и Митюнчик в самом деле не нуждаются. Не знаю, откуда они берут деньги, но они каждый день покупают хлеба и суп готовят с мясом.
Редко-редко позовут меня обедать. И это называются – родные. Господи, хоть бы мама поскорее приезжала! Страшное у нас житье здесь. Слышно по вечерам, как за стеной Тонька ворчит на папу. А папа делает вид, что ничего не слышит. После закрытия завода, папа жил почти полгода вместе с нами в деревне и приехал в Петроград только недавно, когда завод опять начал работать. Своей квартиры не было, и Митюнчик пустил жить почти из милости. Каково теперь папе? Недаром он так страшно изменился. Может быть, не только от голода? Ничего не может сказать им, – и делает вид, что не слышит. Совсем тряпка-тряпкой стал.
Обидно за него, горько, и ненависть к нему и брезгливость. Скупой стал, черствый, молчаливый, угрюмый. Даже страшно по вечерам оставаться с ним в комнате. Придет вечером молча. Ест тоже молча. Потом наденет свои очки и читает газету. И все молчит. Господи, как ненавижу его в эти минуты! А он, кажется, чувствует мою ненависть. Иногда из-за газеты взглянет так исподлобья и ничего не скажет. Но на сердце сделается нехорошо. И страшно от его тусклых глаз на похудевшем желтом лице. Слава Богу, что сижу в темном углу, и он не видит моих слез.
А иногда замечаю, что он как-будто робеет меня. Явно избегает раздеваться при мне и искаться. Когда застаю его за этим занятием, вид у него пойманного школьника. Сразу поднимается острая жалость, ненависть и отвращение.
А вчера легла и вдруг вспомнила: «еще ни один день я не была сытой после приезда»…
Вспомнила и сразу испугалась почему-то, как никогда в жизни. Лежу, как раздавленная этой мыслью, а она огромная, огромная. И все другие мысли притихли.
Потом сердце заныло, и я заплакала. И, наверное, от слез, закопошились, как червяки, все придавленные, притихшие другие мысли. Забралась от них и от папиного страшного храпенья под одеяло и плачу, плачу…
А утром бросилась к зеркалу. Приехала румяная и бодрая, а теперь стала совсем не такая. Еще румянец на щеках есть, но он какой-то бледный. А раньше у меня был, как красный огонь.
И весь день ходила вялая, ленивая. Не хотелось итти на улицу. До вечера лежала на кровати и читала. И даже не читается как-то. Все думаю о том, что мне придется голодать.
1 мая.
Сегодня – первое мая.
Папа не работает. С утра нацепил на себя новый пиджак и совсем стал как прежний папа. Повеселел весь. И мне от этого легче.
Потом вдруг заметила, что он хочет что-то сказать. Ходит вокруг меня с виноватым видом и поглядывает осторожно. Я, конечно, насторожилась. Заранее приняла обиженный вид.
Наконец, он говорит:
– Ну, ради праздничка можно и пообедать.
Сказал и посмотрел на меня не по-отцовски робко. А у меня сердце сразу окаменело. Говорю с жестокими глазами:
– Вот как. Ведь мы же никогда не варим обеда. Да у нас сегодня и варить нечего.
А бедный папа как будто ничего не замечает и говорит раз’ясняюще:
– В столовую пойдем, на Седьмую линию…
В столовую? Вот тебе и на! Да как же я пойду? Мне неудобно… Там обедают все мужчины…
– Папочка, а в столовой женщины и барышни бывают?
– Экая дурочка. Там целые семьи обедают. Чего же ты беспокоишься?
Вышли на улицу. День ясный, солнечный. Идут рабочие и красноармейцы с флагами и поют «Интернационал». И оттого, что поют, день кажется еще яснее и солнце еще горячее. Лица у всех такие радостные, сильные. Даже папа выгнул вперед свою впалую, сухую грудь. Идет по тротуару и напевает под свой широкий нос «Интернационал». И вдруг я замечаю, что сама подпеваю. Словно никто из нас никогда и не голодает.
После обеда папа спрашивает меня совсем ласково:
– Ну, как – сыта?
– О, папочка, сыта совсем.
Его глаза улыбаются и все еще напевают «Интернационал».
– Тут недалеко есть чайная… Пойдем-ка чайку попьем…
– Ой, папочка, да что вы? В чайную-то! Да там одни мужики.
Он с ласковой досадой возражает:
– Экая ты какая. Чего же тут особенного? В столовую же ходила?
– Нет, нет, папочка, я не пойду.
– Ну, как хочешь. Не с'ели бы тебя там.
Папа поежил острыми, худыми плечами и вытащил из кармана две конфекты. Говорит с виноватым видом:
– Это вот тебе, а это мне. Вчера получил по карточкам.
Сунул поспешно в руки конфекту и говорит:
– Иди… куда? Домой теперь?
– Нет, папочка, я к подруге.
– С Богом. Да приходи не позже девяти.
Ах, папочка, папочка! Наверное, купил конфекту, а говорит – «по карточкам».
Защемило тоскливо в сердце. Точно кто пальцем больно ткнул его. Голод испортил моего папу, голод…
3 мая.
Рада я или не рада?
Вчера Митюнчик пришел поздно вечером. Я уже улеглась спать. Слышу, стучит через стенку:
– Феюша, завтра на службу собирайся… в почтамт, на пятую экспедицию… к Александру Андреичу…
И какая я смешная. Сразу подумала, что у меня еще нет прически, а только две косички. Очень на девчонку похожа. Смеяться будут. Наверное, на службе все – взрослые.
А потом заколотилось сердце от других мыслей. Вспомнился Николай Павлович. Если служить, значит, буду учиться. Раз сама буду деньги зарабатывать, значит, папа ничего не может сказать. Потом отчего-то стало грустно. Немного поплакала. Потом опять думала о своих двух косичках. Решила, что не буду уступать никому, хоть я и девчонка. Не спала почти всю ночь.
Утром вошел Митя. Подозрительно и торжественно оглядел с головы до ног. И вдруг говорит:
– Да убери ты хоть косички-то. Александр Андреич посолиднее просил.
И нарочно сказал таким тоном, чтобы сделать мне больно. Обиделась и покраснела, но промолчала.
А на улице он опять обидным тоном читал наставления:
– …лишнего не болтай, но будь поразвязней, посолидней. Покажи, что ты – уж барышня…
А я сейчас же и показала ему:
От здания почтамта протянута через улицу арка. Окна большие, неуютные такие. И часы висят огромные. Взглянула на арку и почему-то обомлела.
– Митя, Митя, скажи: я не в этом балконе буду служить?
Митя даже плюнул.
– Чего ты мелешь? Это арка, а вовсе не балкон. Соединяет хозяйственный отдел и канцелярию.
Я и сама спохватилась, что спросила неладно, да делать нечего. Молчу и краснею, а в душе смешно, что Митя так рассердился. Неужели он в самом деле подумал, что я такая глупая?..
Вошла в здание, и весь смех пропал. Я всегда робею там, где много людей. А огромный почтамт битком набит. Все бегают, суетятся и оглушительно жужжат. У Мити масса знакомых… На каждом шагу с ним здороваются. Если идет барышня, она поздоровается с Митей, а сама искоса смотрит на меня. Мите стыдно, что он идет с такой девчонкой, и все бежит быстрее. Еще рассуждает о женской самостоятельности… А сам-то? Стыдится идти с девчонкой.
Бегу за ним, чтобы не отстать. По дороге толкнула красную толстую барышню и успела только покраснеть, а не извиниться. Фу, какая я неуклюжая… Отскочила в сторону от толстой барышни и налетела на мужчину с усами… Не успела оглянуться, а Митя уж привел меня в какую-то комнату. До потолка навалены посылки, а за столом сидит Тонька…
– Тонечка, посмотри за ней.
И Митя убежал.
Тонька прежде всего посмотрела, как я одета, а потом мне в лицо. И насмешливо спросила:
– Ты уж не нюни ли собираешься распустить?
– Ой, нет, Тонечка… что ты?
– Смотри, сейчас придет Александр Андреич. Читать наставления будет.
Ужасно боюсь всяких наставлений. Господи, а вдруг не пойму!.. Не примет еще.
– Тонечка, а что он будет читать?
– Проповедь… Нужно быть хорошим работником, служить старательно… Ну, вообще, как начальник…
– А мне что отвечать?
– А ты, дура, подойди и скажи: «постараюсь». Ну, увидишь сама.
Только сказала, а с Митей входит высокий мужчина, с бородой и важный такой. Сердце так и рассыпалось на кусочки. Господи, это, наверное, Александр Андре-ич! Митя велел быть развязной… Слышу голос, как из тумана:
– Вот моя сестра.
Чувствую, что Александр Андреич смотрит на меня, и волосы от стыда шевелятся. Совсем забыла, что нужно сделать. А тут еще противная Тонька над ухом шепчет:
– Да подойди, дура…
Шагнула вперед и так тонко пискнула, что услыхала свой голос и покраснела еще больше:
– Здравствуйте.
А Александр Андреич захватил мою руку и жмет очень энергично, как и следует мужчине.
– …Ну вот будете полезной единицей в нашем громадном организме… полезные работники нужны…
Александр Андреич ушел. Тонька сразу наскочила бойкой курицей:
– И еще такую дуру прямо в канцелярию назначили. И чего ты нюни распустила? Стыдилась бы… Большая уж.
Пришли с Митей в канцелярию. Слава Богу, за столом все барышни и только один мужчина. И тут Митю все знают… Кричат из всех углов:
– А, Дмитрий Александрович…
– Здравствуйте, Дмитрий Александрович…
А Митя – свинья свиньей. Привел меня на середину комнаты и сказал:
– Вот моя сестра. Всего хорошего… некогда…
Чуть-чуть не убежала за ним. Растерялась и гляжу на всех.
Подходит хорошенькая, тоненькая блондинка. Волосы золотистые, пушистые и вьются. Глаза большие и черные, а лицо бледное. Вся как будто приторная…
– Ну, вот, золотце мое, будете у нас служить. Я сейчас покажу работу.
Посадила меня за стол рядом с какой-то черной барышней. Черная барышня сердечно смотрит на меня, а все другие – с недобрым любопытством. Одна, с толстыми губами и надменным смуглым лицом, даже сделала мне гримасу… Вот дрянь-то. Я тоже ей сделала.
Блондинка что-то об’ясняет. Она не знает, что у меня тоскливо ноет сердце. Господи, ни одного дружеского лица! Только черная барышня. Обидно как. И зачем служить, когда я хочу учиться? Теперь надо сюда ходить каждый, каждый день. И, может быть, всю жизнь, до самой смерти…
– Вы меня слушаете?
Поднимаю голову и вижу золотистые пушистые волосы.
– Да, да.
– Вот видите эти полки. На них все лежат книги, по которым будете наводить справки.
Посмотрела на эти полки, а они идут до самого потолка. Господи, как же я буду лазить туда?..
– А книги самим доставать надо?
– Нет, нет, золотце мое, у нас есть мальчик.
В двенадцать часов все побежали в столовую. Столовая здесь же в почтамте. Я не обедаю, потому что нет еще карточки. Чтобы получить ее, надо итти к какому-то уполномоченному нашей экспедиции. Там приложат штемпель и выдадут карточку. Папа велел в первый же день получить карточку. А как я пойду? Ужасно боюсь всяких уполномоченных.
Черная барышня не пошла в столовую. Достала из стола хлеб и ест. Господи, да он еще с маслом… Сразу заныло в желудке. Ведь я сегодня с'ела только маленький кусочек хлебца. Заболела голова. Не думаю ни о Александре Андреиче, ни о золотистых волосах. Не выходит из головы кусок хлеба, густо намазанный маслом, в руках у черной барышни. Как она аппетитно ест. Господи, не смотреть бы хоть. Еще подумает, что я голодная. Ах, на глазах слезы проступили… Пойду в уборную. Не могу смотреть, как она ест. Надо идти к уполномоченному и – не могу…
4 мая.
Вчера так и не могла решиться получить карточки. Сегодня тоже не могла.
А, между тем, вчера вечером, не успела я притти со службы, папа спрашивает:
– Карточку получила?
И смотрит на меня так, как будто свалил с своих плеч тысячу пудов. А у меня закипает жгучая ненависть к его серым тусклым глазам, к худому, изможденному лицу.
– Нет.
– Почему?
– Я забыла.
– Ты забыла? А есть ты не забываешь? У меня весь хлеб для тебя вышел. Сам голодный…
У меня даже зубы заскрипели от злости. Услышала этот скрип, и вдруг стало жаль себя… И это отец? Готов уморить родную дочь? Господи, да что же это такое? Ничего не понимаю. Какой скупой. Какой жадный. Ненавижу, ненавижу, ненавижу…
Это было вчера.
А сегодня утром встала и не нашла на столе обычного ломтика. Он… он не оставил.
Окаменела перед столом. Здесь, здесь должен лежать мой хлеб. А его нет.
Слезы закапали на стол. Комната поплыла, как в тумане. Схватила шляпку и побежала на службу.
На улицах много чужой радости, майского солнца, голубого высокого неба, тепла. Весенний ветерок налетел на лицо, и от этого под глазами почувствовались невысохшие слезы. Все куда-то бегут, торопятся с бодрыми, радостными лицами. И никто на меня не смотрит. Я смотрю на всех, а на меня – никто… Господи, хоть поскорей бы мама приезжала… И куда все бегут? Сытые они, что ли?
Прибежала за час до начала занятий. Никого еще нет. Почтамт огромный и тихий. Никто в нем не жужжит. С балкона второго этажа он совсем, как пустыня. Белый, каменными плитками, пол блестит. Ровный и гладкий, он как-будто раздвинулся, оттого, что никто не бегает по нему.
И сжалось сердце от пустоты, тишины и огромности. Прислонилась к колонке и заплакала.
Вдруг вся насторожилась. Сзади чьи-то шаги. Ах, это идет одинокая барышня, одинокими в тишине шагами. Ни за что не буду здороваться первая…
Первой поздоровалась черная барышня. Встала рядом и молча смотрит вниз. Подбородком мягким, не энергичным, оперлась на ладонь. Стоим и обе молчим.
Девять часов. Почтамт открыли для публики. За дверями, должно быть, ожидала целая толпа. Сверху видно, как ворвались и рассыпались по белому полу, как жуки черные. Даже слезы высохли. Зажужжали, заговорили, затопали. В каком-то окошечке застучали штемпелем. А на сердце стало еще тяжелее.
Что это? Черная барышня что-то говорит…
– Вы, кажется, не расписываетесь в журнале?
– Ах, да… Нет… А разве надо?
– Да, нужно. Он внизу у экспедитора. Высчитают из жалованья.
Вот тебе и раз. А я и не знаю, где он находится. Митя мне ничего не сказал.
Черная барышня угадала мои затруднения. Деликатно предлагает проводить и показать. Какая она симпатичная и хорошая.
По дороге разговорились. Ее зовут Марусей. Вместе вернулись в канцелярию и принялись за работу.
В двенадцать часов в канцелярию прибегает мальчишка и во все горло орет:
– Горох и чечевица… горох и чечевица…
Не понимаю, что это значит, но сразу почувствовала, что я голодна. Ведь утром ничего не ела. Маруся смотрит с улыбкой и поясняет:
– Это в столовой у нас. Обед такой сегодня.
Верно, обед. Как вчера, все сразу побежали в столовую. Маруся опять достает хлеб с маслом. Совсем неожиданно спрашивает:
– Фея Александровна, а вы почему не кушаете?
Маруся спросила и вдруг смутилась. Мои щеки тоже заливает горячая краска. Даже кончики ушей щекочет.
– Я сегодня забыла завтрак…
Маруся держит в каждой руке по куску и не смеет поднять глаз.
– Может быть… может быть, могу предложить вам кусочек? У меня два.
– Ой, нет, что вы? Я совсем сыта.
– Ну, правда, возьмите кусочек, Фея Александровна.
– Нет, нет, спасибо. Я… я не могу взять.
А в горле зазвенели слезы. Сидим обе красные и не глядим друг на друга. И вдруг во рту потекли слюни. Челюсти зашевелились. Стиснула зубы, чтобы сдержать их. И не могу, не могу…
Маруся опять говорит:
– Ну возьмите, Фея. Правда, возьмите. Я не умею просить. Возьмите, Феечка…
Она осторожно положила передо мною один кусок. Вот милая, славная, добрая. Ведь я никогда, никогда не сумею отплатить ей. Как же я возьму? Слезы показались на глазах от голода и от чего-то другого.
– Спа… си… бо… Маруся…
И целый день она помогала мне в работе. Милая, добрая, славная!
5 мая.
И сегодня не могла решиться пойти к уполномоченному за карточкой. И сегодня папа выдержал себя и не оставил мне утреннего ломтика хлеба. Двое суток подряд с утра и до 7 часов вечера ничего не ела. А вечером – гнилая свекла и картошка с селедкой. Когда-то удивлялась Александру, что он может есть гнилую свеклу, а теперь сама ем.
Сегодня пошла на службу, и в первый раз закружилась голова. Дома сразу бросилась к зеркалу и стала рассматривать лицо. Как оно осунулось и какое стало бледное. Господи, папа меня уморит прежде, чем приедет мама.
6 мая.
Наконец, получила карточку.
Теперь каждый день имею полфунта хлеба. Выдают сразу на два дня. Сегодня мальчик принес целый фунт. Тут же его с'ела. Стыдно было перед другими, что с’ела хлеб целиком, но не могла пересилить себя. И все же голодна.
Открыла случайно ящик стола и испугалась. Опять лежит кусок хлеба с маслом. Даже в жар бросило.
– Что… что это, Маруся?
Темно-карие глаза не смотрят на меня, но по движению ресниц вижу, что улыбаются.
– Ничего, Фея.
– Я не могу, не могу…
– Возьмите, правда, у меня есть…
Хлеб лежит в уголку ящика и белеет маслом вкусным и соблазнительным. Смотрю то на этот хлеб, то на Марусю. Из-под густых ресниц у ней что-то перепархивает в нижнюю часть лица. Но она не глядит на меня, чтобы еще больше не смутить. И все-таки тяжело, обидно, горько, а беру. Ведь так мучительно хочется есть. Какая она славная, хорошая. Пожалуй, каждый день будет подкладывать хлеб…
В душе решила, что буду брать только по четным дням.
Папа с каждым днем становится все черствее. Для него огромное несчастье, что запас селедок и свеклы окончательно испортился. Даже он принужден был выбросить. Никогда не пошлет меня в лавку купить чего-нибудь. Всегда покупает сам. Принесет и запрет. Он, кажется, и никому на всем свете не доверяет теперь. Как-то будет жить с ним мама, когда приедет? Ходит мрачный, замкнутый, суровый, как-будто еще больше похудел и высох. Страшно с ним оставаться в комнате по вечерам.
На службу я ухожу всегда без чаю и без хлеба. Но один день, когда в почтамте получаю хлеб, голодаю не очень, другой – очень.
Скорей бы приезжала мама.
8 мая.
Николай Павлович тоже служит в почтамте. Сегодня встретилась с ним в столовой.
На обед в этот день была голая селедка. Все, у кого есть хлеб, едят ее в столовой же; у кого нет – берут домой.
А я, когда еще несла от окошечка, где выдают, чуть не вонзилась в нее зубами. Тороплюсь к столу и держу ее на весу, двумя пальцами за голову. Смотрю, как болтается хвост, а за ушами шевелится и больно от предвкушения. Хочется, хочется есть.
Добежала. Едва-едва счистила кожу и ем из середины, без ножа. Ухватила обеими руками и вдруг вздрогнула:
– Добрый день, Фея Александровна.
Ах, это Николай Павлович! Сразу покраснела до ушей. Стыдно, стыдно, что застал в такую голодную минуту. Вот голодная-то! Без хлеба ест селедку. Прямо зубами.
– Селедку кушаете? А я, знаете, домой возьму. В бумажку вот завернул. А сестра дома приготовит.
Выпустила из рук селедку. Упала прямо на стол. Не знаю, что сказать.
– Ну, как вы живете?
Голос у него ободряющий. Еще горячее внутри от стыда. Он заметил, заметил, что ем без хлеба… зубами…
Говорю равнодушно:
– Ничего, благодарю вас.
– На курсы еще не записались?
– Да знаете, все некогда. Была тут в театрах раза два… На вечере у знакомых… Весело в Петрограде после деревни. Не правда ли?
А сама искоса взглядываю на селедку… Господи, весь хвост еще цел. Даже в середине мясо осталось. Вкусное какое! Так бы все и выглодала…
Но рука пренебрежительно оттолкнула.
– Фу, Николай Павлович, какой сегодня скверный обед. Совершенно есть нельзя. Ужасная, знаете, столовая… А на курсы я запишусь обязательно. Только вот не знаю, на какие.
– Я вам охотно порекомендую.
– Пожалуйста, пожалуйста, буду очень рада.
Из столовой пошли вместе. И всегда он как-то особенно горячо говорит со мной. Почему он так близко принимает к сердцу мое образование?.. Славный он, хороший.
Внутри сплошной огонь: учиться, учиться, учиться… Сначала на курсы, потом университет. Высшее образование. Но пришла в канцелярию, села за стол, и нехорошо заныло сердце. Господи, не придется мне, не придется. Я и без того за последние дни какая-то полумертвая. Апатия постоянная. Дома все время лежу на кровати. Не хватит сил. А впереди не видно просвета…
Выбежала в уборную и заплакала.
9 мая.
Пришла со службы и весь остаток дня лежала на кровати. Странно как! Ни о чем думать не хочется. Даже воспоминания о Френеве скользят по мыслям и не попадают в сердце.
10 мая.
И без того я несчастная, а тут еще свалилось несчастье.
Каким-то образом вчера от столовой карточки, вместо одного купона, отрезали два. Сегодня, значит, без обеда. И хлеб получать только завтра.
Подхожу, как всегда в столовой, к барышне. Подала карточку.
– Вам обеда нет. Пообедали, и опять хотите… По два раза не полагается.
Барышня презрительно смотрит на меня, а я испуганно на нее. Ничего не понимаю. Господи, да она, кажется, обвиняет, что хочу украсть второй обед! Как она смеет?.. Закричала так, что все оглянулись:
– Вы с ума сошли. Как, почему нет?
– Очень просто. Второй раз обедать не полагается. Проходите. Не задерживайте.
И вдруг, наверное, поняла по моему растерянному лицу, что я невиновна. Говорит мягче:
– У вас купона нет. Наверное, вчера отрезали два по ошибке.
Пошла. Барышня, уже с виноватостью в голосе, ворчит вслед, что она не виновата, вчера она не дежурила. А у меня кошки скребут в душе от страха. Весь, весь день буду голодная. Никогда раньше не было такого страха перед голодом. Он сильнее даже самого голода.
В канцелярии по обыкновению спрашивают:
– Понравился, Фея Александровна, обед?
– Фу, гадость какая. Я сегодня даже не обедала. И… и представьте себе: вчера два купона вместо одного обрезали. Хорошо, что такой обед. Совсем не жаль…
Домой пришла ослабевшая до того, что не могла приготовить папе кипяток. Лежу на кровати и в голове пусто, хоть шаром покати. Ни одной мысли не осталось. Даже постоянное озлобление против папы угасло. Закрою глаза и голова тихо закружится. И как-будто устала дышать. Не шевелюсь ни одним членом.
И вдруг, сама не знаю отчего, вскочила и подошла к зеркалу. Смотрю на свое лицо страшными глазами и что-то вот-вот вспомню…
Но смотрела, смотрела, ничего не вспомнила. Опять медленно пошла к кровати.
Пришел папа. Огляделся. На столе кипятку нет.
– Кипяток приготовила?
– Нет.
– Почему?
– Голодная я.
Сразу в лице у него перебежало тусклое раздражение.
– Все мы одинаково едим. Ведь ты обедала?
– Нет.
– Как нет?
И он внимательно смотрит на меня. Чувствую, как от неприятного взгляда слабо закипает ненависть. Неужели же он думает, что я вру? Господи, вот человек-то!
– У меня два купона вчера обрезали.
Видно, что поверил мне. Но рассердился еще сильней.
– Чорт знает, что ты за разиня! Надо смотреть. Так и голову снимут – не увидишь.
У меня нет сил возражать. Отвернулась к стене.
Слышу, как он заходил за моей спиной. Походил, походил. Остановился.
– Ах, и у меня-то хлеба нет сегодня.
Молчу.
Походил опять хлопающими, раздражительными шагами.
– А у тебя самой-то хлеба не осталось?
Сразу повернулась, как от толчка. Заговорила с быстрой ненавистью.
– И вы… вы разве не знаете? Я всегда с'едаю хлеб сразу. Чего спрашиваете?..
– Ну, так вот… Сиди тогда голодная.
Но тон уже не уверенный. Верно, верно! Остановился и с изменившимся, жалким лицом говорит:
– Там у меня… фунта два муки белой. Испеки лепешек. Не я, а как будто истомленное сердце слушает его слова. Но, вместо благодарности, вся схвачена, почти до судорог, безумной ненавистью. Без слова поднялась и иду на кухню. Он, как тень, следует за мною и растерянно бормочет:
– …На пасхе получил… Думал, мать приедет… Порадую белой мучкой. Кипяток-то скипяти теперь…
И странно, – последняя фраза стукнулась в сердце, и нет в нем уже ненависти… Бедный, бедный папа. Ведь не с радости он таким стал. Раньше был добрый, щедрый.
На кухне достал муку и велел замесить. Потом вдруг спохватился:
– Постой-ка, я сам, давай, а то ты всю вывалишь. Даже смешно стало. Взглянула на его расстроенное лицо, засмеялась добрым смехом и ушла в комнату.
А он минут через пять кричит:
– Феюшь, Феюшь, что это больно жидко у меня? Прибежала и разразилась хохотом, каким давно не хохотала. Положил с фунт муки, а воды налил не меньше как для трех фунтов. Сквозь смех говорю:
– Вот Бог и наказал. Теперь ничего не выйдет. Надо всю высыпать.
А папа тоже со смехом:
– Вроть твои на ноги… вроть твои на ноги… на, замешивай сама…
Я уже пеку лепешки, а он ходит вокруг меня. Заглянет небрежно через плечо на сковороду. Понюхает и опять ходит кругом.
И вдруг не вытерпел:
– Феюша, горяченьких-то поскорее… Пеки…
Встретился с моими глазами, и сразу заулыбались он и я.
– Сейчас, папочка, сейчас будут горяченькие…
Но, боже, боже… Какое у него исхудалое лицо. Я и не видела раньше. Височные кости и скулы только, только обтянуты желтой, дряблой кожей. А сам сутулый, длинный, тощий. Рука выходит из обшлага тонкая, тонкая. И синие жилки бегут по бледной коже. А на тоненькой руке огромная ладонь с исхудавшими острыми пальцами. Страшно даже… Ладонь с пальцами широкая, как грабли, и тоже вся желтая, дряблая и сухая… Господи, а усы еще страшнее! Редкие. Слиплись. И почему-то всегда мокрые… Как не замечала раньше? Господи, как жаль папу… И сколько на лбу складок. Крупные, тяжелые. Тянутся через весь лоб. И волосы на лбу просвечивают, такие редкие. А какие густые были. Господи, что же это с ним? Что же? Ах, а глаза, глаза… Как у замученного на смерть человека.
– Ну, ну, давай горяченьких…
– Возьмите, папочка.
– По скольку штук-то вышло?
– По семь, папочка… кушайте…
Господи! Я вся дрожу от ужаса, но делаю веселое лицо. И вместо половины себе взяла только две лепешки, а ему отдала семь. И слава Богу. Не видел, что обманула его.
13 мая.
Опять воскресенье.
Только третье воскресенье живу здесь, а кажется, прошла бесконечность, серая и нудная.
Утром проснулась и вспомнила про папу. Сразу бросилась к зеркалу и долго смотрела на свое лицо. Совсем забыла думать о папе. Потом закружилась голова, сразу обмякла от усталости и слабости в ногах и легла опять.
Лежала весь день то с открытыми, то с закрытыми глазами. Ни о чем не думала.
14 мая.
А как странно я веду себя на службе. Давно уже познакомилась со всеми, но подружилась только с Марусей.
Медленно, медленно тянется время до обеда… Скорей бы обед. Тогда легче будет. Все-таки немного поем. И страшно боюсь, чтобы не заметил кто, что я голодная. Шучу, смеюсь, болтаю, а сердце и желудок ноют. Сосет внутри. Но особенно зло вышучиваю всех, кто начинает разговор об еде. Один любит то, другой – другое, третий – третье. А я смеюсь над ними. Называю их животными, думающими только об еде. А в глубине души сама не знаю, искренняя я в этот момент или нет. Кажется, искренняя.
После обеда немного оживаю. Стараюсь думать о Френеве… Господи, какая я стала бесчувственная. Почему май стал таким серым? Николай Павлович говорит, что нужно учиться. И сама знаю, что нужно. Да, да, сегодня обязательно пойду, запишусь на курсы. Сегодня же вечером пойду.
Но вот я дома. Грязные стены и стертый, крашеный когда-то, пол. Низкие потолки, остатки зимней плесени и паутина по углам. Сразу все стерлось в душе: почтамт и вечерняя майская улица. Загляну устало в зеркало на свое осунувшееся бледное лицо. Теперь каждый день заглядываю. Елена Ильинишна – наша заведывающая – говорит, что я стала интересней. Мне все равно. Ложусь на кровать и жду папы. К его приходу кое-как приготовлю кипяток. Ужинаем вместе. И опять лежу. Потемнело в комнате, и папа уже храпит. А я еще не сплю долго. Смотрю на темный угол, где черной, неясной тенью висит папино пальто, и ни о чем, ни о чем не думаю.
15 мая.
Сегодня на службе срочные работы. Едва выбралась к 11 часам. И с утра без хлеба, на одном обеде из столовой. А обед – суп из овощей и больше ничего. Конечно, вода-водой.
Шаг за шагом плетусь по потемневшей, теплой улице. Кажется, вся переполнена народом. Вспыхивают в полусвете белой ночи огоньки папирос у гуляющих. Жужжат над ухом веселые фразы. Но ничего ясно не вижу, ничего ясно не слышу. Кружится голова, и чувствую с болью бьющееся сердце.
Остановилась на Николаевском мосту и засмотрелась на воду. Облокотилась на чугунные перила всем телом и закрыла глаза. Сразу закружилась голова. И какая-то новая боль над бровями.
Открыла глаза и попала на зеленый сигнальный огонь под мостом. Подальше красный огонь. Господи, взять бы да броситься в воду. Кто пожалеет о такой девчонке? Папа скупой, черствый. Обрадуется, что от лишнего рта избавился. И только. Все равно, может быть, придется умереть с голоду.
Что-то плеснулось внизу. Видно, как на светлой воде пошли круги. Наверное, большая рыба плеснулась. Нет, нет, не могу! Там же рыбы большие. В тело вопьются. И раки еще черные. Фу, гадость какая!.. Не могу, не хватает решимости. Совсем я трусливая. Девчонка совсем. А дома все спят. Митьке с Тонькой никакого дела нет до меня. Папа тоже не встретит. Наверное, храпит уже. Хоть бы самовар кто поставил да чаю приготовил. Никто, никто…
Долго звонилась… Верно, верно: все спят. Никому нет дела до меня. И вдруг голос…
Так и вздрогнула. Еще не ответила себе, чей же это голос, а сердце уж забилось, затрепетало, как безумное.
– Мама, мама, мамочка, это – я, Фея…
– Феечка, родная моя, здравствуй! Здравствуй, доченька…
Судорожно рыдаю у ней на шее. Ах, мама, мама, милая моя мамочка! И сквозь слезы чувствую, что мама встревожена.
– Ну, что ты, Господь с тобой? Феечка, родная моя доченька, что ты? Не плакать, а радоваться надо. Пойдем в комнату.
– Ах, мама, мамочка, как тяжело жить без вас. Я больше никогда не буду жить без вас, никогда, никогда…
– Ну, ну, успокойся, моя хорошая, бедная доченька. Все прошло, все. Садись-ка лучше, покушай.
Господи, а на столе и творог в боченке, и рыжики, и хлеб деревенский. И чай мама приготовила для меня. Ем за обе щеки вперемежку со словами и слезами.
– Ой, мама, скупой какой, черствый он стал. Как тяжело жить без вас. Тонька ругается, ворчит на папу и на меня тоже. Я больше не буду жить без вас…
– …Ешь, ешь, моя хорошая…
– А папа еще овшивел. Это от голода ведь, мамочка?
– Да я уж видела. И ума не приложу, что это с ним сделалось? И нас-то с Борькой встретил: ровно бы и рад, ровно бы и не рад, что мы приехали.
– Не рад, мамочка, не рад. А Борька спит разве? Экий, даже не дождался меня. А как папа-то вас встретил?
– Да так и встретил. Входим с Борькой, а Тоня дверь открывает. Ну, знаешь, сама… она тут сейчас: мама, мамочка, здравствуйте…
– А разве она не заплакала?
– Ну, какое там. Сказала только: «наконец, вы, мамочка, приехали… дождалась», и всего тут.
– Она, поди, вовсе и не дожидала.
– …Ну, так вот, слушай… Раздеваемся мы тут, а он выходит из комнаты. И так это, ровно бы и рад, ровно бы и не рад… «А, – говорит, – мать приехала. Ну, здравствуй…» А у самого хоть бы где-нибудь на лице выразилось. А-то ведь ничего. Уж больно обидно стало, доченька. Да виду не подала. Бог уж с ним!
Из маминых милых глаз текут слезы. Вскакиваю и обнимаю.
– Мамочка, не плачьте, не плачьте.
– Да больно уж обидно, доченька…
Господи, неужели мне еще придется и маму от него защищать? Я сама думала… А что, если он не спит и все слышит?
– Мамочка, а он спит?
– Давно уж дрыхнет.
Мама смешно, смешно махнула своей, словно обваренной, красной от стирки рукой и еще смешнее сморщила лицо. Сломался нос и вся переносица в морщинах… Так и хочется поцеловать. И черненькие, старенькие бровки сломались. А рука у ней хоть красная, но красивая и маленькая. И пальцы тонкие, с подушечками на концах.
– Ой, мамочка, милая, и Шуру голодом морит. Он теперь в «Европейской» гостинице служит. Еще ни разу не был у нас.
– Ну, ладно, ладно, доченька. Теперь будет все хорошо. Раздевайся, ложись спать. Устала поди…
– …А на службе скучно. Александр Андреич – ничего себе, а Зайцев – совсем дурак. Знаете, это его помощник. У меня только одна подруга там. Очень хорошая… Хлеба с маслом дает.
– Спи, спи, моя родная, Господь с тобой…
Мама крестит меня, целует в лоб, а я обхватываю ее мягкую, теплую шею руками.
– Мамочка, милая, как я счастлива теперь.
– Ну, ну, спи с Богом.
– А тут Николай Павлович приходил. Худой такой, бледный, с красными глазами, а хороший. Все говорит: учиться, учиться, Фея, надо…
– Он и всегда был хороший человек.
– И Френев мне писать будет… Вы не сердитесь, мамочка, что мы в Вологде с ним поцеловались. Только один раз, и то я сама захотела.
– Ну, ну, спи с Богом, устала ведь.
– А я скоро, послезавтра, получу первое жалованье. За полмесяца четыреста рублей. Вот папа-то рад будет. Он тут даже на зубной порошок не давал. Я вам буду все деньги отдавать. Не хочу, чтобы ему.
– Ох, дурочка ты моя. Все равно, мне надо у него на расходы брать. Ну, спи, спи с Богом.
– Я, мамочка, его совсем больше не люблю, а вас еще больше люблю.
– Хорошо, хорошо, доченька.
– А разбудите меня завтра в восемь часов?
– Хорошо, хорошо, спи.
– И чай, мамочка, завтра будет?
– Ну как же, разве я провожу тебя без чаю?
– Спокойной ночи, мамочка.
– Спи, моя родная.
16 мая.
Проснулась оттого, что Борька трясет за плечо и кричит в самое ухо:
– Феюша, Фея, Фея, Феюшка, вставай… Я ведь приехал… Ой, мама, Феюшка что-то мычит…
– Борька, милый!
– Наконец! Продрала зенки! Чего дрыхнешь? Ведь я приехал…
А сам, сияя своей рожицей, тянется с поцелуями.
– Ах, мамочка, самовар уже готов! Вот хорошо-то! За всю жизнь первый раз с чаем ухожу на службу.
Чай пью с хлебом. Не маленький кусочек, а ешь, сколько хочешь. И с собою мама дает еще хлеба.
В канцелярию влетела бомбой. Сама чувствую, что на лице глупая, во весь рот, улыбка. Кричу так звонко, что сама удивляюсь:
– Здравствуйте, Елена Ильинишна…
– Здравствуйте, здравствуйте, золотце. Что это золотце так сияет сегодня?
– Ах, Елена Ильинишна, мама приехала.
– А, мама? Наверное из деревни? Привезла чего-нибудь? Да?
– Да, да… Ничего особенного. Рыжиков в боченке, творогу, масла немного, да еще сухарей…
– Сухарей. Вот золотце счастливое… Я очень люблю пить чай с сухарями.
– Ой, Елена Ильинишна, хотите, я вам завтра принесу?
– Ну, что вы, золотце, спасибо.
– Ей-богу, Елена Ильинишна, принесу.
– Нет, нет, что вы за глупости говорите.
– Господи, Елена Ильинишна, да вы должны взять. Раз я вас люблю, вы должны, должны, должны… Все равно не хорошо будет, если не возьмете.
– Ну, ну, золотце, теперь не угощают. Теперь такое время… Все дорого…
– Елена Ильинишна, вы должны. Мне никакого дела нет до времени. Сказала принесу, – вот и все.
– Хорошо, хорошо, идите, золотце, работайте.
Сажусь за стол. Ах, и Маруся… Как она хорошо смотрит! Смотрит и улыбается.
– Ой, Маруся, как я счастлива. И мама сказала, что скоро Сережа приедет.
– А кто такой Сережа?
– Это мой брат. Он в отпуску в деревне был. Ох, умный какой. Ужасно хороший и очень умный.
– А он интересный?
– По-моему, интересный. Высокого роста. Знаешь, лицо такое, смуглое.
– Я люблю смуглых мужчин.
– …Усов и бороды нет. И потом губы у него удивительные, когда улыбается… Вот такая ямочка тут. И улыбка милая, хорошая. Очень симпатичное лицо. Прямо видно, что интеллигентный человек.
– А он образованный?
– Да, он… ну, как все. И потом все на курсах… Английский, немецкий, французский еще знает… И еще, когда на фронте не был, то все заведующий был. Разные там отделы народного образования основывает. И он все поймет, каждого человека. Прямо удивительно, как меня понимает. Всю, всю. Я его безумно люблю.
– А нос у него какой?
– А нос, как у меня… Ой, вру, вру. У меня ведь картошка…
– Нет, что ты, Фея, когда в профиль, у тебя не картошка.
– Да нет, нет, ты не понимаешь. В длину такой, как у меня. Не узкий, не широкий. Так в общем – средний… Ну, русский прямо нос. А вообще-то лицо у Сережи не русское.
– А на кого он похож?
– На французского летчика.
– Ну, как же летчика? Летчики же разные бывают. И потом сколько ему лет?
– Ну, как тебе об'яснить… Я там и не знаю. Двадцать пять или двадцать два, или двадцать три. А брюки – галифе. Высокий такой, и френч еще. Усики только чуть-чуть… черненькие…
– Я бы хотела его увидеть.
– Ой, Маруся. В общем, нельзя назвать красавцем. Ну, да я и не люблю таких, знаешь, парикмахерских усов. И румяных вот таких щек. И ты не любишь?
– Да, я тоже не люблю.
– Он…
Господи, как я заболталась. Елена Ильинишна говорит:
– Ну, золотце, кончили вы? Принимайтесь за работу.
Противная эта Елена Ильинишна. И сухарей давеча нарочно попросила. Разговаривать теперь мешает.
– Ой, Елена Ильинишна, извините, я так сегодня счастлива. И знаете, еще скоро Френев приедет. Ты знаешь, Маруся, я его прямо люблю…
– Ну, хорошо, Феечка, давайте работать. Елена Ильинишна сердится.
– Верно. Давай, Маруся, давай…
А мама приготовит чай, когда приду домой. Господи, как я счастлива. И завтра утром тоже чай. Ах, мамочка, мамочка милая. Ты не знаешь, как я тут страдала… Хорошо теперь.
17 мая.
Сегодня получила первое жалованье. За полмесяца четыреста рублей.
И совсем не рада, когда Тюрин, наш казначей, подал мне бумажки. Противно было класть в карман. Словно они привязали меня к карману. И теперь, когда лежат, я чувствую, что они шевелятся в нем. Папа, конечно, будет очень доволен. Будет говорить, что это первые, самостоятельно заработанные деньги, надо беречь и прочее… Неприятно все это как!
И дома почему-то долго медлила отдавать их папе. Обедаю и ощупываю бумажки. Трудно почему-то для меня сказать, что получила деньги. Наконец, говорю хмуро:
– Вот деньги… получка…
– А-а-а, вот молодец дочка! Сколько?
– Не знаю, считайте сами.
Папа как будто не замечает моего тона. Аккуратно, до противности, свертывает каждую бумажку отдельно и тщательно, ровной кучкой, укладывает в большой черный кошелек.
– …Молодец, молодец дочка. Помни: это твои первые самостоятельно заработанные деньги. Поди-ка, и самой приятно? Хе-хе-хе.
18 мая.
На папу совсем не повлиял мамин приезд. Даже как будто наоборот. Сегодня он нашел предлог и совершенно отделился от нас в хлебном пайке. Отделился… Какое страшное слово, и как холодно от него в душе!
Сегодня должен был приехать Сережа. Я уже надевала шляпку, чтобы итти на службу, когда кто-то позвонил.
Так рано Сережу никто не ждал. Мама пошла открывать дверь спокойно. И вдруг я вся задрожала от ее радостного крика: «Сереженька!».
Не успела надеть шляпу и, держа ее в руке, понеслась на кухню. А Сережа в серой шинели стоит посередине кухни и улыбается.
– Сережа, Сережа, как я рада…
– Не слишком радуйся, сегодня вечером уже уезжаю на фронт.
– Ой, Сережа, а нельзя послезавтра?
– Нет нельзя, Деникин Москву возьмет…
А сам поглядывает то на маму, то на меня, то на Борю и без конца улыбается. Потом, показывая глазами на мою шляпу, спрашивает:
– Фея Александровна на службу идет?
– Да, да, я уже давно служу. Ты не можешь представить, как не хочется итти.
Долго я болтала ему всякий вздор. Он все слушал со своей мягкой улыбкой и шевелил своими румяными губами. А в канцелярии я весь день рассказывала про него Маруське.
Домой шла с тяжелым чувством. Знала, что он уже уехал. Мама встретила с заплаканными глазами. Это оттого, что уехал Сережа… Нет, у ней какое-то особенно расстроенное лицо. Господи, что же такое случилось?
– Мамочка, что с вами?
– Да ну уж, чего?..
Мама с таким видом махнула своей рукой, что сразу заныло сердце.
– Мамочка, мамочка, что с вами, скажите?
– Да вот с батькой поругалась.
Со слезами на глазах мама рассказывает:
– …Да вот из-за Сережи. Как же, право, обидно. Давеча провожала его. Ну, поставила самовар, отрезала всем по куску хлеба. Ну, а хлеб-то и весь. Ему, конечно, оставила его долю. А он пришел и раскричался. Я ему сказала, что нас трое, и все только по кусочку с’ели. А он говорит: «со следующего дня буду делиться от вас. Я, мол, работаю больше всех, хлеба получаю больше всех, а вы будете есть». Ну, что ж мне оставалось говорить? – Делись, – говорю, – Бог с тобой.
И у меня слезы на глазах. Но это не бессильные, жалкие слезы обиды, а гнева и обжигающей ненависти. Утешаю маму, целую, а губы кричат сами:
– Эгоист, эгоист! Бесчувственный эгоист! Ненавижу его! Сережа на фронт едет, а ему хлеба жалко. Маму обидел. Только о себе заботится. Вот он какой, мамочка!.. Я говорила вам…
Вдруг наши глаза встретились и остановились. Какие страшные глаза у ней! В них горит мой собственный огонь. Господи, мы, кажется, будем ненавидеть его вместе.
Дрожь побежала по телу. Отскочила от мамы, забилась в угол и закрыла глаза руками.
Ничего не понимаю, что делается в душе. Но в ней больше всего жгучей, непримиримой ненависти.
19 мая.
Очевидно, про приезд мамы прослышал и Александр. Сегодня он зашел к нам.
Как всегда, несмелый и пришибленный и, конечно, голодный. Просит есть только глазами. Тупой, голодный взор маленьких, полупогасших глаз красноречивее всяких слов. Ему, оказывается, живется очень плохо. Хлеба получает 3/4 фунта в день. На обед жидкая похлебка. Жалованье – ничтожное. Работа тяжелая, физическая: убирать двор и улицу.
Пришел в родной дом. Недоверчиво оглянулся по углам и, выбрав потемнее, сел. Посматривает оттуда на всех жалкими, просящими глазами.
Мама дала ему немного продуктов. Он неуклюже взял и даже спасибо не сказал. Положил себе на колени и держит одной рукой. А сам насутулился еще больше, словно продукты его придавали.
Жаль, жаль его невыразимо. Сердце ворочается, как огромный камень, когда смотрю на малоосмысленное выражение забитого лица, исхудалого и жалкого. И вдруг глаза попадают на его колени… На коленях продукты…
Господи, что это такое? Явственно чувствую, как сквозь жалость поднимается голодная ненависть. Ведь сами же голодаем, а отдаем последнее ему! Еще два-три дня, и у нас все.
Что же, что же это такое? Неужели я буду такой, как папа?..
Легла спать и долго твердила себе, что мне жаль Александра. Потом прислушивалась к сердцу. Господи, все же нельзя отдавать последнее! Сами голодаем.
20 мая.
Продуктов, которые привезла мама, осталось не больше, как на три дня. Сердце сжимается от страха за будущее.
Папа хмуро провожает в наши рты каждый кусок, и я чуть не давлюсь от этого. Но он ничего не говорит. Из своего хлеба не уделяет никому ни кусочка. А получает 1 3/4 фунта, я же только 1/2 фунта, мама 1/2 фунта, Боря 5/8 фунта. Мы трое часто делимся друг с другом. Маме и Боре хлеб выдают из городских лавок и за последнее время с большими перебоями. Хорошо, что я получаю свой хлеб регулярно.
Не знаю, что чувствует мама, но мне кажется, что между мною и ею и даже Борисом протягивается какая-то связь. И эта связь направлена против папы. И папа это чувствует.
Боюсь, боюсь думать об этом.
21 мая.
Собираемся переезжать на другую квартиру. В одной комнате жить четверым очень тесно. Кроме того, переезжать необходимо из-за Тоньки. У мамы с ней каждый день ожесточенная перебранка. Таких грубых и злобных, как Тонька, я еще никогда не встречала. Мне кажется, что она просто завидует нам оттого, что у нас есть продукты… Но ведь они сыты и без этих продуктов?
22 мая.
Все, все…
Доедаем последнюю горсть муки, которую привезла мама. Значит, придется сидеть только на пайке, а хлеба не выдают по карточкам по три-четыре дня.
Господи, как-то будем жить?
Целую неделю каждый день я была сытой, а теперь, теперь?
25 мая.
Квартира отыскалась где-то в Новой Деревне, бесплатная и с мебелью.
Маме страшно не хочется забираться в такую даль. Говорит, что будет далеко ходить мне в почтамт, а папе – в завод. Папа ведь работает на Васильевском Острове, почти в Гавани, как же он будет ходить каждый день к восьми часам утра? Но настаивает сам папа… Во-первых, в Новой Деревне запастись на зиму дровами легче, чем в городе, а во-вторых, легче купить у крестьян картошки.
Но мне кажется почти безумием это переселение почти за город.
От Вани, другого моего брата, который на южном фронте, получено письмо. Обещает прислать посылку.
27 мая.
Голод, голод, голод.
Папа, оказывается, зарабатывает в месяц 1.200 рублей да я еще 800. Каждый из нас получает обед в столовой и, кроме того, хлебный паек. Этого очень мало. Можно в одну неделю умереть с голоду.
Вчера у папы с мамой было долгое мучительное совещание. Как жить, как жить? Решено было каждый день прикупать два фунта картошки и фунт свеклы. Но это стоит двести пятьдесят рублей, и нужно семь с половиной тысяч в месяц. Мама предложила постепенно продавать вещи. Папа страдальчески сжал виски руками и долго молчал. Потом глухо сказал:
– Ну, что ж, мать, – будем продавать. Господи, Господи!..
Потом дрожь пробежала по узкой, длинной спине. Папа поднял голову и посмотрел маме в глаза. Я не видела его глаз, потому что он сидел спиной, но, должно быть, они были страшные. А у мамы текли слезы.
– Как-нибудь, может быть, Бог поможет. Ваня обещает прислать посылку.
Папа безнадежно махнул рукой и стал отсчитывать деньги.
– На, мать, это на завтра, купи, как решено.
Я сидела в углу и все видела. Не плакала оттого, что не было слез. Но Борис в другом углу горько плакал.
Отвернулась и безотчетно, с пустым сердцем, уставилась на наши старые часы, которые могут ходить только тогда, когда висят вкось. Маятник тик-так, тик-так…
Долго смотрела, и слез все не было.
А когда легла спать и с головой забилась под одеяло, они полились. Вымокла вся подушка.
28 мая.
Сегодня мама с утра ушла на рынок продавать свое платье.
У мамы всего четыре платья. Перед тем, как уйти, она разложила их на столе и долго выбирала. Качала головой, вздыхала и утирала слезы. Выбрала темно-синее.
Пошли вместе; она на рынок, а я на службу.
По дороге у меня закружилась голова.
30 мая.
На службе я никогда не показываю, что я голодна. Всегда смеюсь, шучу, болтаю. Но сегодня Маруська вдруг странно посмотрела на меня и спросила:
– И чего ты, Фейка, злишься последнее время?
Я сразу испугалась этого вопроса, но равнодушно подняла глаза.
– И вовсе не злюсь. С чего ты взяла?
Но все хором неожиданно загалдели:
– Злится, злится…
– У нее на лице написано…
– Она влюбилась…
– Фейка, скажи, в кого влюбилась?
А у меня поднимается злоба против них. Обвела глазами их любопытствующие лица и страшным, пронзительным голосом закричала.
– Отстаньте, отстаньте, ради Бога…
Бросила в кого-то пером и выбежала в уборную. Вдогонку еще услышала:
– Вот так золотце…
– Дрянь девчонка…
– Злая…
Господи, они, они не знают, что я голодная.
31 мая.
Сегодня голода не чувствую.
Утром пришла на службу, смотрю – письмо. Конечно, сердце забилось, как безумное. А тут еще и почерк незнакомый… От кого? И вдруг от Сергея Френева?
Лихорадочно распечатала и читаю. Господи, верно, верно от него. Заплакала от счастья. Хорошо, что на службу пришла немножко рано. Никого еще нет, и я перечитываю письмо во второй, в третий, в четвертый раз и плачу на свободе. Перечитывала до тех пор, пока не пришла Маруська.
Бегу ей навстречу и размахиваю письмом.
– Маруська, Маруська, на, читай…
Напряженно смотрю в лицо читающей Маруси. Наверное, она будет поражена тем, как он меня любит. Может быть, и позавидует? Нет, нет. Она хорошая. Не позавидует.
А по лицу Маруси порхает около губ ласковая улыбка, но глаза как будто разочарованы. Наконец, говорит длинным голосом:
– Он тебе, как девочке, пишет… Только-то?
Голос у нее искренний, сердечный, но меня так и захлестнуло от миллиона возражений.
– Ты ничего не понимаешь. Ну, да ты пойми. Может быть, да… Пусть девчонке. Я и так люблю. Ты пойми.
– Да ты, Феечка, не горячись. Я великолепно понимаю. Это юная, чистая любовь. Одним словом, – первая любовь…
– Вот, вот именно первая…
– Ну, а я еще никогда никого не любила.
Маруся говорит печальным голосом, и мне вдруг сделалось ее так жаль. Словно я богатая, а она бедная. Она еще никого никогда не любила. А я несколько раз.
– Полюбишь, Маруся, полюбишь. Вот я… без любви не могу прожить. Я удивляюсь, как ты… Нет, нет… Ведь любовь такое чувство…
Когда собрались остальные, не удержалась и показала письмо Елене Ильинишне.
– Хотите почитать, Леля?
Она взяла с нехорошим любопытством. Читает, а губы все больше складываются в презрительную гримаску.
– Неужели он вас так любит? Вас, такую девчонку?
Чуть опять не закипела, да во-время услышала, как Маруська сказала:
– Ну, наш кипяток сейчас закипит.
Какая эта Елена Ильинишна глупая! Думает, что нельзя меня любить. Наверное, она от зависти.
1 июня.
Страшная новость: с сегодняшнего дня сбавка хлеба.
Сердце словно притихло, когда сказали об этом, а потом заколотилось до боли и отчаянно заныло.
Папе сбавили немного. По гражданской карточке он вместо фунта будет получать в день 3/4. Бронированные полфунта в день остались по-прежнему. А я и мама будем получать только по 1/2 фунта на два дня. Боря 5/8 на два дня…
Как же мы будем жить?
2 июня.
Переехали, наконец, на другую квартиру.
Все дни перед переездом угнетало тяжелое чувство. Казалось почему-то, что в другой квартире умрем с голоду. Но папа упорно настаивал, и мы переехали.
Маме также не хотелось ехать. Но теперь, когда уже совершилось, она бодро хлопочет и устраивает собственное гнездо. Говорит, что очень хорошо, что Тоньки нет с нами. А мне все-таки тяжело. Комнатки маленькие, низенькие. Окна крохотные, и вся она грязная, мрачная. Обои серые, тусклые, со следами раздавленных клопов.
И от этих серых, тусклых стен в душу вползает тоже серое и тусклое.
Сбавка хлеба и то, что папе не урезали бронированный паек, еще больше сплотили нас против папы. Все прячем, прячем в душе свою ненависть, но это не помогает. Мы медленно, против своей воли, травим его хмурыми взглядами, чувствами, мыслями, движениями. Он все больше отделяется от нас.
Мама даже отказалась спать с ним в одной кровати. У него ведь вши.
Но я знаю, что это не вши.
5 июня.
Продаем уже постельное белье. Благодаря этому, имеем возможность каждый день покупать по два фунта картошки, по фунту свеклы или капусты. Вечером мама готовит из этого общую похлебку. Есть ее приготовляюсь с жадностью, а ем с отвращением. Каждый день похлебка, похлебка, похлебка…
Домашняя жизнь опять установилась такая же, как перед приездом мамы. Прихожу со службы и ложусь на кровать. Лежу до похлебки. Поем и опять ложусь.
Часто, как раньше, подойду к зеркалу и долго, без всякой мысли в голове, смотрю на свое лицо. Не вижу ни глаз, ни носа. Белеет что-то бледное, но мысль ничего не схватывает.
И сегодня подошла. И вдруг в зеркале ясно увидела Бориса. Совсем четко отражается, как он лежит на диване. Закинул под голову ручки и смотрит куда-то в потолок. Какой он худенький, бледный!.. Вздрогнула вся и замерла. Боюсь, до ужаса боюсь оглянуться назад и проверить. Может быть, он еще хуже в действительности.
Страшный он какой! Совсем неподвижный. И глаза неподвижные. И вдруг вздрогнула еще сильнее: увидела свое собственное лицо… Такое же бледное и глаза безумные. Это от испуга. Да, да, я испугалась не за Борю, а за себя. Понимаю, понимаю. Боюсь, что умру с голоду. Господи, я совсем эгоистка… как папа!.. Нет, нет, мне и Борю жаль!
Не взглянув на Борю, побежала к кровати и ткнулась лицом в подушку.
Хлеба из лавок не выдают четвертый день. Сидим на одном советском обеде да на несчастной похлебке. Мама все бодрится, но когда вечером пришел папа и сказал: опять нет, – она сразу как-то обвисла, и лицо сделалось пришибленным.
А вчера вечером вдруг заметила, что Борис сидит на корточках в углу и, закрыв лицо руками, плачет так, что вздрагивают острые плечики. Скользнула по нему взглядом и… осталась равнодушной. Не захотелось сдвинуться с кровати.
Отвернулась к стене и задрожала от ужаса. Близко, около самых глаз по стене ползет тощий клоп. Совсем как листик, и едва передвигается.
Какая-то страшная мысль забилась, затрепетала в голове. Хочу ее ощупать и не могу. Зубы стучат. Смотрю на еле двигающегося клопа, как в лихорадке, и ничего не могу понять. Потом вдруг соскочила и бросилась к Борису…
– Боренька, Боренька, ты что плачешь?
Молчит.
– Боря, Боря, скажи скорее… Хлебца хочешь? Папа принесет сегодня.
– Нет. Не хочу. Папа-то полфунта лишних получает на заводе…
Сердце оборвалось и полетело куда-то в пустоту. Потолок заколебался, а в комнате туман, туман… У папы полфунта лишних… Ведь я тоже ненавижу за это…
Повернулась и медленно пошла обратно. Легла к стенке лицом и смутно поняла, что клопа уже не было.
8 июня.
Сегодня, наконец, папа принес хлеб. Сразу за пять дней.
Мамина и Борина карточки прикреплены в папиной лавке на заводе. Папа приносит свою часть уже отделенной от маминой и Бориной. Завертывает ее в бумажку и убирает в шкаф.
10 июня.
Сегодня продали столовую салфетку. Все-таки у нас каждый день бывает похлебка. Без похлебки наверное бы уже умерли. А на службе я все еще стараюсь смеяться, шутить, болтать.
12 июня.
Опять сегодня что-то продали. Я уже не знаю, что? Не слежу. Иногда вспыхивает отчаяние. Поскорее бы кончилась эта мука… Хоть бы умереть, что ли? Кинуться в воду?.. Но, нет, нет, не могу. Еду со службы в трамвае по Троицкому мосту. Нева блестит на солнце. Видно из окна, как стремятся к заливу маленькие, сверкающие волны. Нева красивая, а броситься в нее не могу, не могу.
Господи, Господи! Еще сбавили хлеба.
Я буду получать только 1 /8 фунта в день, мама тоже столько, а папа по гражданской карточке полфунта и своих бронированных полфунта. Ненавижу его, своего родного отца, за эти лишние полфунта. Как же будем жить? А на службе я все еще веселая. Мне даже как-то странно. Чувствую, что под веселостью огромная, тусклая пустота, а язык еще что-то говорит. Часто свои собственные слова слышу, как из тумана, и сама почти не понимаю их. Внутри только стелется смутное ощущение: как бы не выдать себя. Пусть не знают, что я голодная.
А дома даю полную волю своему оцепенению. Весь остаток дня пролеживаю неподвижно на кровати. Угасла вся внутренняя жизнь. В сердце постоянный сумрак. Иногда делаю мучительные усилия и стараюсь думать о Френеве. Последнее письмо было из Москвы. Писал, что скоро придется ехать в действующую армию. После того не было ни одного письма.
Но и мысли о Френеве не возбуждают меня. Ничего, кроме тупой боли в сердце.
Растет только у меня и у мамы, и у Бори озлобление против папы. Мы… мы теперь его обманываем. Родная дочь вместе с матерью обманываем родного отца и мужа, чтобы украсть от него лишнюю картошину. Господи, до чего мы дошли! Какой стыд! Какой ужас!
А всего ужаснее, что понимаю этот стыд не сердцем, а только умом. В сердце ничего не осталось, кроме озлобления к родному отцу.
Прихожу со службы и, пока еще раздеваюсь, Боря торопит меня. От нетерпения трясется лихорадочно. Худенькие плечи передергивает, а лицо совсем старческое. Бессвязно бормочет:
– Ну, Фея, скорей же, скорей…
Это значит, что мама сегодня продала что-нибудь и часть денег утаила. На украденные деньги купила два фунта картошки и фунт той же свеклы и сварила все это исключительно для нас.
Скорее, скорее… Папа придет… Едим торопливо, воровски, с испуганными, нехорошими лицами. Ничего, у него лишние полфунта… Только Боря дрожит все сильнее.
Когда сделали это в первый раз, в глубине шевельнулся слабый стыд. Нехорошо, нехорошо же, нечестно. Разве он не голодный? Он еще так устает ходить за семь верст на работу. И как он страдает. Ведь все видит, все понимает. Господи, но ведь у него лишние полфунта, полфунта…
Но мы уже кончили есть. Ах, как мало! Больше, больше надо. Целую гору. Все с’едим.
Во второй, в третий раз ела без всяких угрызений совести. Только на мгновенье отчетливо блеснула страшная мысль:
– Мы все становимся зверями.
Да, но у него ведь лишние полфунта.
17 июня.
Как-то ослабевает память. Дома забываю, что было на службе, на службе забываю, что было дома. Почтамт – тусклое огромное пятно, и дом – тусклое огромное пятно, и оба эти пятна не сливаются…
Сегодня ехала на трамвае из почтамта и с усилием старалась вспомнить, что же такое хорошее меня ожидает дома? Напрягала, напрягала мысль и вдруг вспомнила:
– Ах, да, мама сегодня хотела что-то продать. Значит, у нас будет своя картошка. Поедим.
Папа как будто чувствует, что мы его обкрадываем, и все тщательнее учитывает маму. Но мама лжет превосходно, а я все-таки трясусь от страха, вдруг он догадается! Тогда уже не поедим лишней картошки.
Господи, не догадался бы только!
18 июня.
Кругом дома, как везде в Новой Деревне, у нас идет балкон. Сегодня, подходя к дому, заметила на балконе чью-то военную фуражку. Она показалась странно знакомой, но не могла сделать усилия вспомнить: чья она?
В доме, видно, заметили, что я вхожу. На ступени крыльца выбегает Борис и кричит:
– Фея, Фея, Сережа приехал, муки привез.
Вместо ответа я схватила его за плечи и яростно закричала:
– Зачем, зачем ты меня обманываешь?
– Ей богу, Фея, правда…
Я снова закричала, но уже другим криком. Оттолкнула Бориса и вбежала в комнату. Правда, правда. Сережа сидит у стола и как-то горько и мягко улыбается, смотря на меня.
– Сереженька.
Бросилась к нему. Судорожно схватила его за руки и заплакала. А он смотрит на меня и говорит ласково:
– Ну, поплачь, поплачь…
Мама глядит на меня и смеется. Боря тоже. Лица у всех сияют. И у меня эти слезы – слезы радости.
Сережа жил два дня. Он ехал куда-то в командировку и заехал к нам. Муки привез немного: всего пятнадцать фунтов, и больше ничего. Но это не важно. Как всегда, его приезд всколыхнул меня до дна. Я с ним говорила без конца о всем: о службе, о Марусе, о Френеве. Два дня я интересовалась всем и жила полной жизнью.
21 июня.
Сережа уехал вчера.
Сразу все пошло по-прежнему. Муку с'ели еще пока он был с нами. В памяти эти два дня пронеслись как яркая кинематографическая лента, и опять все погасло.
Опять похлебка, опять украденная от папы картошка. Все по-старому.
23 июня.
Хлеб выдают с длинными перебоями. Зачастую томят по три-четыре дня без хлеба. А мы все продаем и продаем. Мама говорит, что скоро больше нечего будет продавать.
Как же, как же будем жить?
25 июня.
Чтобы добраться до почтамта, мне нужно полтора часа, да обратно столько же.
Из них на трамвай уходит всего двадцать минут. Но мучительно медленно, шаг за шагом, плетусь от дома до трамвайной остановки, а потом от Михайловской площади до почтамта. Прихожу разбитая, усталая до невозможности. А тут еще надо смеяться, шутить, а то подумают, что я голодная.
И чем дальше, тем труднее становится выдерживать себя. Если бы они знали! Какая мука отвечать такой же шуткой на их бессмысленные, глупые шутки. Ведь сердце болит. В голове пусто. В желудке – тоже.
А сегодня не выдержала. Голод сломал меня.
Пришла особенно усталая. Не могла даже поздороваться. Села за стол и сразу вся обмякла, обвисла. Закрыла глаза руками и положила голову на стол.
Вдруг слабо чувствую на затылке и на спине любопытные, недоумевающие взоры. На затылке даже зашевелился холодок от этих взоров. Наверное, ждут. Думают, что сейчас выкину какую-нибудь штуку. Пусть, пусть! Мне все равно.
Какая безграничная апатия и усталость охватывает меня! Все, все равно. Что это? Голос?
– Фейка, чего дурака валяешь? Работать надо.
Голос точно разрезает апатию и идет издали. Чувствую его как-то странно, точно в полусне. И, точно в полусне, чувствую, что медленно поднимаю голову и начинаю покачивать ею. И чужие, словно не свои слова:
– Хлеба, хлеба, хлеба, хлеба, хлеба…
– Фейка, не валяй же дурака!
– Хлеба, хлеба, хлеба, только маленький кусочек хлеба…
Кто-то тронул рукою за плечо. Смутно вижу золотистые волосы заведывающей.
– Довольно. Работать же надо.
И как-то сознаю, что надо же работать. И где-то, еще глубже шевелится стыд, что не удержалась, но голова все качается. Глаза не отрываются от золотистых волос:
– Хлеба, хлеба, только маленький кусочек хлеба…
Она махнула рукой, а я осталась сидеть с открытыми глазами. Смотрю в одну точку.
– Хлеба, маленький кусочек хлеба…
Потом смутно видела, что Маруська уходила куда-то. Не знаю, когда она опять пришла, но перед мною вдруг кусок хлеба.
Слышу эти слова и хочу что-то вспомнить. Хочу, и не вспоминается. Бессмысленно гляжу на хлеб.
– Фея, ешь.
Откусила кусок хлеба и сразу поняла все. Как тысяча мух, ползет по щекам горячая краска стыда. Встрепенулась, как уколотая. Испуганно смотрю на Марусю, но хлеб крепко зажала в руке.
– Ешь, ешь, ничего, ешь.
И глаза у ней тоже испуганные, но ласковые. И все еще шепчет еле слышно:
– Ничего, ничего, ешь, ешь…
Чувствую, что по щекам текут слезы. Господи, Господи, до чего я дошла? Как нищая, прошу кусок хлеба!
А тут еще рассерженный голос Елены Ильинишны:
– Комедиантка!
Этот голос и явный укор в нем почему-то не возмущают. Но я мучительно вздрагиваю от строгого, возражающего заведывающей голоса Маруси:
– Так не притворяются.
Весь день не смела поднять головы, а домой шла с чувством, что в душе ничего не осталось.
Только – голод, голод и голод…
27 июня.
Хлебные перебои.
Нашей жалкой нормы не выдают четвертый день.
28 июня.
И сегодня папа хлеба не принес.
29 июня.
И сегодня нет. А папа свои полфунта получает.
30 июня.
Хлеба не выдают седьмой день. Каждый день похлебка, похлебка и то, что украдем от папы. Он регулярно получает свои бронированные полфунта, а мы? а мы?..
Сегодня едва дотащилась со службы от трамвайной остановки и сразу легла на кровать. Внутри огромная, серая пустота. Но где-то глубоко в этой пустоте теплится смутная надежда, что сегодня-то, сегодня он принесет за все дни.
Звонок.
Встаю, шатаясь. Неужели не принес? Неужели не принес? И вдруг цепенею от страшного, пронзительного голоса мамы, полного невыразимой голодной муки:
– Опять не принес. Что за анафемская у вас лавка! Скоро с голоду все подохнем!
И глухо слышен папин голос, злой, раздраженный, мучительный:
– Что ты кричишь? Разве я виноват? Я сам голодный. Только на полфунте сижу…
И сразу в страшном голосе мамы безграничная мука и отчаяние сменяются звериной злобой.
– У тебя хоть полфунта есть! Полфунта, полфунта, полфунта, а у нас и того нет!
Я слышу, как она с злобной отчетливостью бросает по слогам это «полфунта». Меня вдруг тоже захлестывает слепая, не рассуждающая злоба. Появляюсь неожиданно в дверях и бешено кричу в жалкое, растерянное лицо папы:
– Полфунта, полфунта, полфунта!.. Вам хорошо говорить! Лишних полфунта есть! Мы седьмой день ничего, ничего, ничего…
Я словно хочу выместить на нем всю накопившуюся голодную злобу. Слова так и сочатся жестокостью. Чувствую, какой страшной ненавистью горят глаза. А мама вдруг подхватывает еще с большим безумием:
– Полфунта, полфунта!.. Хорошо говорить!.. Мы седьмой день ничего, ничего, ничего…
У мамы такое страшное лицо и такие безумные глаза, что я, на миг поймав их, оцепенела. Что же это? Нехорошо, нехорошо. Ему же негде взять. Но это голос рассудка, а не сердца. Нисколько, нисколько не жаль его!
А он стоит перед нами и смотрит, как затравленный зверь. Тусклая мука светится в впалых глазах. Конвульсии искажают серое, исхудалое лицо. Вот мелькнули в глазах какие-то гневные, острые искры и опять погасли. И опять в них только мука и страдание.
Озирается. Обводит, как загнанное животное, мучительным взглядом жену и дочь и, вдруг как-то странно махнув рукой, садится на стул, и опускает на руки голову…
Тоже озираясь на него, мама идет на кухню, чтобы принести несчастную похлебку.
Как я ненавижу, как ненавижу его за эти полфунта!
1 июля.
А папа хлеба не принес и сегодня. Опять повторилась вчерашняя сцена.
2 июля.
Хлеба нет и сегодня.
3 июля.
Тоже нет.
4 июля.
Сегодня папа сказал, что хлеб будет завтра. Свои бронированные полфунта он получает каждый день. Часть с'едает еще в заводе, а остаток приносит домой.
Но ни с кем не делится, а с'едает за похлебкой.
5 июля.
Неправда… Сегодня тоже хлеба не принес.
Мы уже не набросились на него с яростным исступлением, а только молча спросила глазами. Так же молча он ответил тусклым, страдальческим взглядом: «нет». И что-то вроде благодарности мелькнуло у него в этом взгляде, за то, что мы не мучим его. Он не знает, что у нас нет сил для этого.
Сели хлебать все ту же несчастную похлебку. Как всегда, папа вынимает из кармана маленький кусочек хлебца. Это остаток от несчастного полфунта. Удивляюсь, как он может терпеть и не с’есть сразу. Вот эгоист-то! Даже для себя эгоист.
И без того маленький кусочек тщательно режет на еще меньшие части. Потом каждую часть густо посыпает солью. Так солоно он никогда не ел раньше. Чтобы побольше выпить кипятку. Тогда в желудке будет полно.
Нарезал, посолил и разложил перед собою. А Боря не может удержаться и скользит по кусочкам голодными глазами.
Милый, мужественный мальчик! Он еще находит силы отвернуться. Как же! Это ведь папины полфунта. Просить бесполезно. Но он не может удержать слез. Медленно они точатся из глаз.
И вдруг папа молча кладет один кусочек перед Борей.
Положил и избегает смотреть на Борю и на нас. Опустил глаза на остальные кусочки и тщательно уминает пальцем на них соль. Потом усиленно жует хлеб. Но как странно вздрагивают и топорщатся усы на нижней губе! Господи, какие они стали редкие!.. Мокрые, слиплись. И совсем мало волос. А губы совсем бескровные и лицо бледное, сухое, и все в морщинах. А на висках-то, на висках-то! Где же папины волосы? А руки? – страшно взглянуть… А глаза?.. Господи, Господи, бедный папа…
Милый папа, как его жаль. Он Боре дал кусочек хлеба. Ведь он же добрый. Только у него нет.
А Боря, избегая смотреть на кусочек, взял его и бессильно замигал полными слез глазами. Мама говорит дрожащим голосом:
– Ну, ну, не плачь, папа ведь дал…
Все молчим. От нас тянется к папе что-то невидимое и хорошее.
6 июля.
Митя и Тонька ни разу еще не бывали у нас на новой квартире.
Если встречу Митю в почтамте, он смотрит на меня, как на пустое место. Никогда не подойдет поздороваться первым. Никогда не поинтересуется узнать, как мы страдаем и мучимся. А я знаю, что сами они живут хорошо. Почти каждый день едят мясо. Обидно и горько такое отношение. Пусть бы не помогали, но разве капельку участия нельзя уделить?
Но еще больнее встречаться с Тонькой. Эта – совсем чужая. И притом она – дрянной, злой человек. Великолепно знает, как мы голодаем, а встретится, сейчас же начинает рассказывать, как хорошо они живут сами. Пересчитывает за целую неделю каждое блюдо за обедами. Хвалится новыми платьями, ботинками и спрашивает меня, когда мне сделают ботинки, а то у меня совсем разлезаются.
Поднимается нестерпимое желание избить ее до полусмерти. Ударить прямо в ее вытянутый длинный нос и в наглые глаза. Но молчу, стиснув зубы.
А иногда на ее вопрос, как мы живем, отвечаю с веселым видом:
– Ничего. Ваня посылку прислал.
И бывают же такие люди!
9 июля.
Появилось странное ощущение физической легкости.
Чаще всего бывает по утрам. Когда оно не сопровождается головокружением, то делается почти приятно. Совсем не надо усилий, чтобы двигать ногами. Иду по мостовой и не замечаю, что наступаю на неровные камни. Как будто ступаю по пуху или прямо по воздуху. И грудь тогда расширяется, и сердце чувствуется огромное, огромное, но легкое, как воздушный шар.
И приятнее всего то, что я могу вызывать это, когда захочу. Стоит только закрыть глаза и три-четыре раза глубоко вздохнуть, легкость тотчас же появится. Тогда нельзя уже думать ни о чем.
Но иногда оно сопровождается головокружением и приходится сразу садиться. Раз я попробовала лечь в кровать, но кровать как-будто поплыла, и появилась тошнота.
11 июля.
Все чаще к нам заходит Александр. Робкий, худой, бледный и глаза страшные, голодные. Голодный приходит к голодному, чтобы поесть.
И мама никогда не оттолкнет его, всегда посадит обедать. Но только одна мама. Папа косится и смотрит хмуро на то, как Александр ест похлебку. А Александр бесконечно рад и похлебке.
Но я стала еще хуже, еще черствее папы. Прекрасно вижу, отчего хмурится папа и ненавижу его за это. Он… он готов уморить родного сына. Эгоист, эгоист, а еще отец!..
И все же сама с Александром поступаю так же, если еще не хуже. И как-то в одно время и жаль его, и вспыхивает бешеная ненависть за то, что приходит и отнимает от меня лишний глоток несчастной похлебки. Я не смею поднять на Александра глаз и держу их опущенными в тарелку, но все время ворчу так, чтобы он слышал:
– Господи, вот бывают люди какие! И так есть нечего, а тут еще…
Не смею договорить, потому что знаю, как больно Александру. Пусть он делает вид, что не смотрит на меня, не слышит, не понимает. Но я чувствую, как он сгорает от боли, стыда и обиды. Даже ложка пляшет в руке. Но голод сильнее. Он ест торопливо, испуганный и жалкий.
За последнее время Александр повадился ходить чуть ли не каждый день. Видно, что он заживо умирает от голода. Я понимаю это, но не могу переломить себя и… не стала с ним здороваться. Отношусь к нему все хуже и хуже.
Вчера он пришел робкий и жалкий, как всегда. Сделал убогую попытку протянуть мне руку. Я прошла мимо, как будто не заметила.
А сегодня… сегодня скажу ему открыто, что так дольше продолжаться не может. Стыдно с его стороны об’едать и без того голодных. Мы сами умираем медленной смертью.
И он пришел.
Не смея поднять глаз, прошла мимо него на кухню, где была мама и возмущенно закричала:
Неужели, неужели опять пришел?
Мама, конечно, всегда чувствует наше недовольство Александром и страдает и за нас, и за Александра. Я и папа хмуримся и ворчим, а она виновато молчит и не смеет вступится. Но сейчас она решается возразить и все с таким же виноватым лицом:
– Ну, не кричи ты, Господи. Ну, куда же ему итти?
– Нет, нет, нет, это невозможно. Он так будет ходить каждый день.
– Да замолчала бы ты, ради Бога.
– Не хочу молчать, не хочу, если люди не понимают!
Александр неожиданно появился в дверях. С каким невыразимым страданием в тупом лице глядит он на меня! Как ножом полоснуло по сердцу.
Не сказала больше ни слова и прошла в столовую.
Александр все же сел обедать.
13 июля.
Сегодня проснулась и вдруг перед глазами замелькали красные, синие, зеленые пятна.
Испуганно закричала:
– Ой, мамочка, у меня глаза испортились… синее, зеленое… красное…
Закрыла глаза, и опять – пятна. Вновь открыла – пятна стали бледнее.
А мама успокаивает:
– Ну, дурочка, это оттого, что в канцелярии при огне занимаешься.
Верно: пятна скоро исчезли, но в этот день я испытывала такое сильное головокружение, как никогда.
15 июля.
Получила жалованье.
Обыкновенно в день получки является в почтамт и даже прямо к нам в канцелярию несметное количество лепешниц и пирожниц. Они знают, что все мы не особенно сыты и каждая при получке купит лепешку-другую, а то и пирожное. Но я никогда не покупала. Не покупаю и сегодня.
– Фейка, а ты что не покупаешь?
Но как же я куплю? Ведь я украду от мамы и Бори. Они ведь тоже голодные. А есть хочется мучительно. Ишь, буржуйки, пришли сюда с пирожными. Только мучат.
Страшно боюсь, чтобы меня не выдало лицо:
– О нет, я принципиально не покупаю лепешек от уличных торговок.
– Почему же?
– Знаете, очень негигиенично. Бог знает, в каких руках они перебывали.
Я строю презрительную гримасу. И это мне удается легко. Только гримаса несколько иная, – гримаса голода… Ничего… у нас в канцелярии не разберут, может быть, за исключением Маруси. Но она деликатна.
Домой нужно итти все-таки мимо целого строя пирожниц и лепешниц. Лепешки толстые, вкусные. Я больше не могу, не могу. Как хочется есть! А что, если я куплю одну? Только одну: дома не узнают. Скажу, что высчитали в союз. Только одну, одну. Вот эту толстую…
Пройду шаг – остановлюсь. В глаза бросится особенно толстая и выгодная лепешка. Рука лихорадочно задрожит и потянется в карман за деньгами. Во рту отделяются слюни. Но насильно отрываю себя. Ведь мама, Боря голодные… С усилием делаю шаг вперед. Но еще лепешница, и опять особенно толстая и выгодная лепешка. Еще выгоднее той. Как хочется есть!
Куплю, куплю…
Останавливаюсь и сразу нахожу глазами самую большую лепешку. Уже подаю деньги и вдруг опять:
– А мама? А Боря? Что я скажу им? Ведь они тоже голодные… Господи, неужели я такая, как папа?
Быстро прячу деньги и иду прочь. Изумленная торговка кричит вслед:
– Барышня, барышня, аль не хотите?.. Возьмите… вкусные лепешки… лучше не найдете…
Скорее, скорее домой.
17 июля.
Я как-то вошла в глубокую колею ужаса, в котором живу. Больше уже ничто не ужасает. Становится безразличным, что будет впереди. Наверное, придется умирать скоро.
Вчера опять увидела на стене ползущего тощего клопа. И не задрожала, как несколько недель тому назад. А спокойно сбросила со стены и раздавила ногой.
– Так, наверное, будет и с нами… Ну, что же? Не все ли равно?
19 июля.
Бесконечно усталая, сегодня ехала в переполненном вагоне трамвая. Пришлось стоять.
Напротив, развалившись и выпятив вперед толстый живот, сидел какой-то человек. Сразу не взлюбила его лоснящееся не интеллигентное лицо, противные волосы с проседью и отвратительную черную бороду. Особенно эти маслянистые глаза. Так и обшаривают каждую женщину с головы до ног. Гляжу на него с ненавистью. Ишь, жирный какой. И живот толстый. От’елся. А жена у него с рыбьим лицом и худая. Живот тоже большой и пахнет потом от живота.
Смотрю, а человек вдруг начал двоиться… Фу, Господи, что это такое? Два носа и три глаза? И глаза ушли в глубину, сделались большие и смотрят на меня словно из тумана.
Замотала головой, чтобы стряхнуть с себя этот призрак, а глаз уже четыре, и два средних сливаются в один продолговатый… Что же это? что же?
Испугалась и стала протискиваться на площадку, а человек недовольно посмотрел мне вслед.
21 июля.
Опять замечаю, что появляется внезапная ненависть к незнакомым людям. А у меня что в душе, то и на лице. Ненависть сейчас замечают. Странно смотреть, как появляется полуиспуганное, полуудивленное выражение. Человек пугливо вздернет плечами, посмотрит с недоумением и поспешно проходит мимо.
Что же это со мной происходит?
23 июля.
Сегодня, когда уходила утром на службу, меня приласкала мама:
– Бедная ты моя, на себя стала непохожа.
Тотчас же бросилась к зеркалу. Совершенно белое, без кровинки лицо. Но похудела мало. Только слегка выдаются височные кости.
Потом лицо скрылось в тумане и оттого стало невыразимо жаль себя. Бедная я, бедная я, бедная я!.. Господи, наверное умру!..
Шла до трамвайной остановки и плакала. Ехала в трамвае и плакала.
25 июля.
За последнее время просыпаюсь среди ночи и часто плачу. Иногда уже и просыпаюсь с глазами, полными слез.
В такие минуты почему-то ярко припоминаются все мелочи нашей ужасной жизни. День за днем тянется вся жизнь. Бледные, худые проходят папа, мама, Боря, я сама. И на них, и на себя я гляжу будто со стороны. Сравниваю, какими мы были месяц назад и какими стали теперь. И ужас, какого уже не бывает днем, охватывает меня. Судорожно стискиваю подушку зубами и стараюсь заснуть. А сна нет и нет. В комнате темно. Слышно, как во сне вздыхает папа, мучительно застонет Боря, забормочет мама…
Потом наступает рассвет, потом день. Надо подниматься и итти на службу. Сквозь прикрытые ресницы видела, как поднимался папа. Какой он страшный в одном белье! Белая рубашка и белое, измятое со сна, лицо. Глаза впали глубоко и совершенно без всякого блеска… мертвые. Но он расстегивает ворот рубашки, снимает ее и начинает ловить вшей. Господи, совершенный скелет! Странно-белые, круглые, без мускулов, тонкие-тонкие руки. А к ним как-будто приделаны грязные и темные, широкие, как лопаты, кисти… Даже и на руки не похоже. До чего он исхудал! Хоть бы глаза закрыть! Не видеть!
А глаза не закрываются. Смотрю, как прикованная, и боюсь пошевельнуться.
Он ушел. Теперь по сонным, тихим комнатам ходит усталыми шагами мама. Она готовит кипяток. Зачем? Ведь, все равно, хлеба нет. Неужели пить пустой?
Потом потянется день, и, наконец, наступает страшный вечер. Вечер страшнее всего. В комнате тихо. Папа лежит, мама лежит, и я и Боря лежим. Электричество боимся выключить. Блестящая лампочка сияет под потолком. И знаю, каждый лежит, смотрит на эту сияющую лампочку, и о чем-то думает, и медленно умирает. Иногда зазвенит в тишине и в электрическом свете тонкий, прячущийся плач Бори. Никто не утешает. Ни у кого нет сил.
А прекратится ток, – в темноте лежать еще страшнее. Страшно оттого, что знаю: каждый лежит в своем углу и не спит. Каждый лежит в своем углу и умирает. И нет никому до другого никакого дела.
Потом появляется надежда, что, наконец, все уснули. И вдруг в тишине папин мучительный голос:
– Мать, может, еще что можно продать?
Не сразу отзывается мамин голос из другого угла. Проходит минута, другая. Тишина и темнота в комнате как-будто напрягаются, и вот вздрагивает и ползет по темноте мамин страшный шопот:
– Да что еще? Голову свою продать, что ли?
Опять пройдут минута, две, три, и плеснется папин вздох безнадежный, глухой:
– Ох, Господи!..
Только во время обеда, за нашей несчастной похлебкой, мы еще немного живем. Высказываются общие тревоги и опасения. Но скоро не будет и этой похлебки. Значит… значит придется умирать. Не все ли равно!
27 июля.
Что это значит?
Папа сегодня пришел с веселым лицом и, не раздеваясь, остановился посередине комнаты и вытащил газету.
– Ну, мать, радуйся!
Измученным голосом мама спрашивает:
– Что?
И я спрашиваю тоже:
– Что? Что такое?
– Радуйтесь! Вышло разрешение свободного провоза рабочим. Ты, мать, поедешь в деревню и привезешь нам хлебца.
Хлеба, хлеба, хлеба! О, Господи! В деревне у нас еще лежит четыре пуда… Но как поедет мама? Она, бедная, похудела больше всех. Она не доедет. Свалится в вагоне. Пусть едет сам.
Но мама радостно крестится.
– Ну, слава тебе, Господи!
Папа громко прочитывает напечатанное в газете распоряжение. Мы все жадно слушаем. Папа еще раз настаивает, чтобы поехала мама, а я гляжу на его радостное лицо и думаю:
– Эгоист, эгоист, эгоист!.. И тут эгоист! Мама слабее его и может в вагоне свалиться и умереть.
29 июля.
Мама уехала сегодня в мое отсутствие, пока я была на службе. Я никак не ожидала, что это случится так скоро.
Прихожу, как всегда, в шестом часу домой и сразу вижу: в квартире полнейший беспорядок. А главное, на столе брошены три лепешки, и они какие-то необычайно толстые.
– Боря, почему это?
– Уехала мамочка…
Глаза у него мигают, нижняя губа дрожит. Сейчас расплачется. Ему страшно оставаться с папой.
Все это ясно читается на его исхудалом личике. Недаром он так тесно прижимается ко мне, словно ищет у меня защиты против папы. Бедный, бедный мальчик! Сиротинка. Я… я не позволю тебе, эгоист, обижать его…
А вечером эгоист пришел и принес двадцать фунтов картошки. Разложился на полу и тщательно делит на десять ровных кучек. Исхудалое лицо озабочено. По два раза пересчитал картошины в каждой кучке и подсчитал общий итог. Поднимает с полу на меня глаза и говорит угрожающе:
– Смотри, чтобы хватило на 10 дней.
Одну кучку отодвигает в сторону. Она приготовлена для завтрашнего дня. Остальные девять куда-то прячет. У меня взгляд настороженный, злобный. Он не замечает. Подсчитал и говорит приветливо:
– Ну, вот, мама уехала, будем одни поживать.
И вдруг замечает мой злобный взгляд. Сразу тухнет в голосе и в глазах приветливость. Гримаса страдания перебегает по желто-белому, измятому, как тряпка, лицу. Медленно поднялся и идет в другую комнату. Борис, и тот провожает его испуганными, жалкими глазами. И все тесней прижимается ко мне. Я целую его и плачу сама, провожая папу злобным, настороженным взглядом.
31 июля.
Странно мы теперь живем. Папа – сам по себе, мы – сами по себе. Ничто нас не связывает. Напротив, очень многое раз'единяет. Мы совсем чужие…
А сердце ноет и болит за маму. Мама, наверное, упала в вагоне, ей худо, и повезли в больницу. Она уже умирает.
И Боря встревожен. Каждый час, каждую минуту он следит за выражением моего лица. Я спокойна – и он спокоен, я плачу – и он плачет. Сегодня утром он вдруг спросил меня:
– Ой, Феечка, а если мама умерла?
И смотрит на меня испуганными глазами.
От этого вопроса, от его испуганных глаз сердце так и задрожало. Едва справилась с собой и отвечаю спокойно:
– Ну, глупости, – она, наверное, уже скоро приедет.
А вечером у самой прорвалось. Весь день думала о маме и к вечеру вдруг разрыдалась, как безумная. Борис подходит, прижимается и говорит неожиданно:
– Феечка, не плачь. Я знаю, отчего ты плачешь. Ты думаешь, что мама умерла.
– Нет, нет, Боря, просто так тяжело. Есть хочется.
А он повторяет тихо и настойчиво, и прижимается все теснее:
– Нет, нет, я знаю. Ты думаешь, что мама умерла. Не плачь, я знаю, что мы сделаем…
Сквозь слезы целую, прижимаю его и спрашиваю:
– А что, Боренька, а что?
– Мы тоже умрем, Феечка, не надо плакать.
И правда выход!.. Как же раньше-то я не подумала? Раз она умрет, то и мы умрем. Вот и все.
Говорю ему обрадованно:
– Верно, верно, Боренька, только придумай, как мы умрем.
– Я уже придумал. Мы с тобой в Неву бросимся. Тут близко. Только вместе.
– А папа как?
– А папа, наверное, будет жить.
У Бори тон серьезный. Измученные, детские глаза смотрят деловито. Он, он давно все обдумал. Вот молодец-то! Не как я – только плачу.
И вдруг в голову приходят мысли о Сереже, Ване, Шуре. Как же, как же они-то?.. Но Боря, наверное, знает как.
Спрашиваю робко его:
– А Сережа, Ваня, Шура?
И Боря уверенно отвечает. Вижу, что он передумал все тысячу раз.
– Ну, что ж, им будет тяжело, но они взрослые, а мы маленькие. Они могут прожить без нас. Ваня, наверное, поплачет, ну а Сережа поймет. Он умный.
Как он все верно говорит! Да, да, я напишу Сереже, и он не рассердится. Он не должен будет сердиться. Он все поймет…
1 августа.
За Борю все больше появляется какая-то злая настороженность. Смертельно боюсь, что папа будет морить его голодом. Но пусть он только попробует, тогда я… я…
А иногда у самой прорывается против Бори всегдашнее мое беспричинное озлобление. Накричу на него, затопаю ногами. А он даже не огрызнется, не как было раньше. Только замигает большими измученными глазами, да задрожит нижняя губенка.
И сразу вспыхнет жгучее раскаяние. Целую его, плачу.
– Боренька, Боренька, прости меня, прости…
Он опять прижимается ко мне и сквозь слезы отвечает:
– Я, Феечка, и не сержусь. Я знаю… ты голодная, и мама уехала.
Так как теперь Боря почти до вечера лишен чаю, потому что остается дома один, папа каждый день дает ему полтинник. Боря ходит в ближайшую советскую чайную и пьет кипяток. Дают еще конфекту одну.
Но сегодня пришла со службы, и бросилось в глаза, что с Борей неладно. Какое-то особенно истомленное лицо. Даже губы ссохлись.
Спрашиваю:
– Что с тобой?
И, конечно, он замигал и со слезами в голосе:
– Я… я сегодня чаю не пил.
Сразу обострилась против папы злая настороженность. Нехорошие предчувствия заметались в сердце.
– Почему?
– Па…па ска…зал, что не будет больше давать денег. Он сказал, что я не ахти сколько чаю выпью, и трачу деньги только на конфекты. Он сказал, что это лишний расход, и что я могу подождать, пока все не придут…
Слушаю его рыдания и ушам не верю. Даже не ненависть вспыхнула, а огромное, страшное бешенство. Ужас, ужас! Как он смел ребенку не дать полтинника на кипяток! Изверг, настоящий изверг! Так бы собственными руками и разорвала на куски! Вцепилась бы в шею, в глаза, во все, во все…
– Боренька, Боренька, не плачь. Я буду с ним говорить. Я ему скажу. Это чорт знает, что такое! Я ему не позволю, не позволю…
Ожидая его, почти два часа бегаю по комнате. И все внутри кипит, кипит… Скорей бы только он пришел!
Звонок.
Еще он не успел раздеться, а я кричу ему прямо в лицо со всей своей невыразимой злобой:
– Вы… Вы почему ему не оставили на кипяток?
Он весь вздрогнул тихо. Страшное, страшное перебежало по лицу. Потом овладел собой. С угрюмым лицом покосился исподлобья, поверх очков.
– Потому, что это – зря. Все равно кипяток он не пьет. Ему нужна только конфекта… Не умрет. Может и нас дождаться.
– Я… я удивляюсь вам… Как не стыдно, не стыдно, не стыдно?.. Вы были бы рады, если бы мы совсем умерли!.. Да, да, да…
Папа ошеломлен. Прилип ко мне страшными, неподвижными глазами, бескровные, серые губы дергаются и мучительно шевелятся морщины над переносицей.
Потом вдруг как стукнет кулаком по столу:
– Да как ты смеешь таким тоном разговаривать со мной? Не сметь! Замолчи!
Теперь я на секунду ошеломлена, но не испугана. Сжалась вся в комок, точно готова броситься на него. И вдруг опять затряслась от нового порыва бешеной злобы. Выкрикиваю, как безумная, и еще громче его:
– Да, да, вот и смею, смею говорить! Что хочу, то и смею, раз вы так поступаете! Не любите, не любите правды?
А у него порыв схлынул. Опять смотрит не то с недоумением, не то с испугом.
– …Да, да, не любите… Недаром мы с Борисом предчувствовали, что без мамы от вас… вас житья не будет!..
– Ах, Господи!..
Замерла с незакрывшимся ртом. Что это, что это я ему сказала? Неужели он зверь для своих детей? Неужели, неужели?.. Ах, какая я жестокая…
Вижу, как у папы исказилось бледное лицо и конвульсивно дергается подбородок. Ничего больше не сказал.
Но на следующий день оставил Борису несчастный полтинник.
2 августа.
Еще одна странность.
Когда Александр ходил к нам при маме, и мама сажала его обедать с нами, я с бешенством считала каждую ложку с’еденной им похлебки. И папа был на моей стороне. Я это знала.
А теперь?
Он приходит и теперь. Какое у него страшное от голода лицо. Он, наверное, голодает больше нас. Тревожно, робко смотрит по углам. Наверное думает, что раз мамы нет, его никто из нас не посадит обедать.
Сегодня он тоже пришел. Я всю душу вложила, чтобы сердечно с ним поздороваться. Даже его поразила, а сама чуть не заплакала. Но папа бросил угрюмо:
– Здравствуй.
Александр посмотрел на него жалко, умоляюще и, согнув плечи, ушел в другую комнату. Он знает, что без мамы нечего ждать, чтобы его пригласили обедать.
Но я собрала на стол и кричу:
– Шура, иди обедать!
Закричала и вся насторожилась… Что он сейчас скажет? Пусть… Все равно, Александр будет обедать.
А папа вскинул на меня изумленные, встревоженные глаза и шепчет зло:
– Ты что? С ума сошла, что ли?
Я твердо выдерживаю его взор и, не отводя глаз, продолжаю звать еще настойчивее:
– Шура, иди обедать!
Почти с минуту мы прикованы друг к другу глазами. И в сердце одно торжество. Вот, вот тебе, эгоист!.. Не будешь морить родного сына голодом. Он и без того несчастный. Бедный Александр!..
Наконец, папа прячет свои глаза. Он уже не глядит и на Александра, когда тот пришел обедать.
3 августа.
Александр пришел и сегодня.
Встретила его так же сердечно, как и вчера. Он чувствует это. Сел обедать увереннее. Пообедал и сейчас собирается уходить. Но слышу, задержался почему-то на кухне.
Папа по обыкновению лежит в спальне. Я и Боря сидим на диване, прижавшись друг к другу.
И вдруг сердце вздрагивает от необ’яснимого, ужасного предчувствия. Сразу устанавливается знакомая настороженность. Только не могу понять, по отношению к чему она… Господи, что это, что сейчас случится? Задрожала вся. Прислушиваюсь к себе. Ах, это Александр, Александр!.. Он что-то делает на кухне. Он хочет что-то взять от нас! Взять, взять!.. А с кухни не слышно ни звука.
Судорожно оттолкнула испуганного Бориса и стремглав, с замирающим сердцем, несусь на кухню.
Влетела. Он стоит у стола и странно уставился на меня.
Подскочила к нему с безумным, пронзительным криком:
– Ты что здесь делаешь? Что, что, что?
И он смутился. Господи, значит правда, правда!.. Но что, что он мог взять у нас? Что же такое он отнимает у нас?
И вдруг вспомнила, что под столом было два фунта картошки, приготовленной на завтра. Бросилась к столу – картошки нет.
– Украл он…
Звериным прыжком кинулась к нему.
– Отдай, отдай нашу картошку, отдай, несчастный!..
А он как будто окостенел бледным, без кровинки лицом. Страшное напряжение все больше сдвигает брови. Смутно бросилось в глаза, что мизинец на левой руке у него дрожит мелкой дрожью. Губы шевелятся от усилия что-то сказать. Наконец, бормочет:
– Я… я не брал вашу картошку.
Но у меня же страшная, жестокая, огромная уверенность, что он взял. Вою бессмысленно, как зверь:
– Отдай, отдай, отдай, отдай же…
Его лицо искажается все страшнее. Конвульсивное напряжение борется с упорством. Вот упорство установилось. Сердце у меня оборвалось. Вою все бессмысленнее:
– Отдай, отдай, отдай, отдай же…
И вдруг новый прилив бешенства. А! Он украл от голодных! Он, он…
Как разоренная кошка, бросилась к нему и вцепилась до боли в пальцах в его костлявые, твердые плечи.
– Папа, папа, идите же сюда! Александр украл нашу картошку… Скорей, скорей! Уйдет! Отдай, вор несчастный, нашу картошку! Отдай!
Папа прибежал в одном белье, – тощий, худой, страшный, с перекосившимся лицом.
Держу Александра за плечи и кричу папе:
– Папа, папа, он украл нашу картошку! Отнимите! Не отдает он!
Белая фигура папы искривилась. Он трясет оголенными, круглыми, тонкими руками, с огромными кулаками на концах. Даже грязные пальцы на босых ногах искривились и будто впились в пол:
– Мерзавец, отдай сейчас же нашу картошку!
А я кричу еще его громче:
– Папа, папа, я держу его! Обыщите скорее! Скорей, скорей!
Александр озирается, как затравленный зверь, и встречает звериную ненависть. Напряженное упорство в лице ломается. Оно делается жалким. Вдруг медленно вынимает одну за другой картошины из карманов и шепчет еле слышно дрожащими губами:
– Нате, нате, нате…
Повернулся и, с'ежившись, медленно ушел.
Папа даже не проводил его взглядом. Жадно согнувшись, тощий, длинный, весь в белом, он пересчитывает картошины. Потом заботливо прячет их и, уходя, бросает мне:
– Эх, ты, розиня! Так все перетаскает!
А я осталась окаменевшая посередине кухни. Что же я наделала? Ведь он голодный. Голоднее, чем мы. Надо бы отдать… Отдать? А завтра что будем есть? А Борис?
Стою точно в столбняке, и мысли, обжигающие до глубины, проносятся в мозгу. Вдруг все смело, и хлынули бессильные слезы.
Какая, какая я!..
4 августа.
Сегодня от мамы получено первое письмо.
Слава Богу! А то все дни болело сердце: почему она не пишет? Наверное, уже умерла… Неужели такие бессердечные люди, что не известили нас?
И ясно, как в кинематографе, рисуется мама мертвая. Еду в трамвае, а передо мной мертвая мама, с застывшим, белым, холодным лицом. По улице иду – то же. И чувствую, что слезы бегут по щекам. Смутно понимаю, что публика останавливается и обращает внимание.
А на службе Маруська, заглянув в глаза, тоже сердечно спрашивает:
– Еще нет?
– Нет.
Сегодня письмо пришло. Мама пишет, что доехала благополучно и уже послала нам вместе с письмом хлебную посылку. Надеется привезти сухарей, крупы и пуда два муки. Скоро выезжает.
Я и Боря, и даже папа, двадцать раз перечитываем письмо.
Вечером ели несчастную похлебку. Вдруг моя ложка застыла в воздухе. Поглядела на эту похлебку со странным, радостным чувством:
– Скоро тебя не будет!
А папа поглядел на меня и тоже улыбнулся.
Заулыбался счастливо и Боря.
6 августа.
После того, как от мамы получено письмо, за нее я спокойна. Верю, что с ней ничего не случится, что она скоро приедет.
В ожидании посылки, вчера сидела на службе бодрая и радостная, и вдруг в голову пришла ужасная мысль:
– Господи, а как Боря сидит один-одинешенек дома? Ведь… ведь он может утопиться. Ведь он хотел! А вдруг сойдет с ума… Да, да, с ним сегодня обязательно что-нибудь случится!
Заныло сердце от страшных предчувствий. Не могу работать. Сижу, и глаза застилает туманом. А в тумане рисуется яркий, худенький, бледный Боря. Бежит к Неве. Добежал. Постоял с минутку, подумал. Замигал жалко, жалко и вдруг – бух вниз головой.
Не выдержала и отпросилась со службы пораньше. Летела домой, как на крыльях. Когда позвонила, то чуть не разразилась слезами, услыхав за дверью его слабый голосок. Но сдержала себя и равнодушно спрашиваю его:
– Ну, как ты?
– Ничего, Феечка, наверное, скоро мама приедет.
И сегодня утром собираюсь на службу, и опять сердце заныло страшно. Нет, не могу итти. С ним, наверное, что-нибудь случится. Не пойду.
Осталась дома. Все время ни на шаг не отпускаю его от себя. В двенадцать часов сама собрала его в детскую столовую за обедом, дала котелок и вышла проводить до ворот.
Говорю, как мать:
– Ну, Боренька, иди с Богом!
Перекрестила его и стою у ворот. Смотрю ему вслед.
Он слабо помахивает котелочком в руке и тихо идет вдоль забора. И рядом с ним по забору тихо идет тоненькая тень… И вдруг я судорожно ухватилась рукой за ворота.
Какой он худенький, бледный! Только теперь я вижу это. Страшно, страшно и больно в сердце. Идет, и головка мотается на тоненькой шейке. И плечико худенькое, остренькое, выше другого. Ножки совсем, как палочки. Господи, вот бедный, несчастный ребенок! Ведь он тает, тает на моих глазах. Он так не дойдет и до столовой. Вон какая тоненькая тень. Упадет где-нибудь… На улице умрет.
Трясусь, как в лихорадке и жду его возвращения.
Жду, жду, жду.
Да что же это так долго? Упал, упал, конечно… умер. Сейчас побегу искать, искать…
Но вдали – маленькая фигурка. Бросаюсь навстречу. Обнимаю, целую, плачу.
– Боренька, Боренька, да что же ты так долго? Что с тобой случилось?
Он поднял свое старческое, не по-детски сморщенное личико. Говорит встревоженно:
– Ничего, Фея, не долго. Я всегда так…
– Да нет, нет, ты долго… Что с тобой…
Не договорила, потому что Боря смотрит на меня странно, и со слезами на глазах:
– Феечка, я тебя очень люблю. Ты… ты не бойся, я теперь уже не брошусь в Неву. Мама скоро приедет.
Перед приходом папы стала варить картофель. Как всегда, по примеру мамы, украла от двух фунтов одну картошину. Мы каждый день делаем это. Режем сырую на тоненькие ломтики и жарим прямо на плите, поскорее, чтобы не пришел папа, и с'едаем пополам всегда.
А сегодня отдаю картошину целиком:
– На, Боренька, кушай.
И опять он смотрит давешним взглядом. Даже такие же слезы в опущенных к полу глазах. Говорит почти шепотом:
– Нет, Феечка, я не буду без тебя.
7 августа.
Наконец, сегодня получена посылка.
Мама послала ее на мое имя, на почтамт. Получила на службе и принесла в канцелярию.
Сразу же окружили все наши:
– Фейка, Фейка, с чем она?
– Наверное, с пирогами!
– Нет, кажется, с маслом.
– Фейка, вскрой же!
А у меня вдруг пробудилась жадность. Как же! Если вскрою, надо угощать всех. Самим мало останется. Раньше я не была такая. Когда мама приехала из деревни, угощала Лельку сухарями, даже сама предложила. А теперь стала жадная.
Говорю небрежно:
– Ну, какие там пироги и масло. Просто, хлеб печеный, и больше ничего…
Отпросилась от службы и поскорее домой.
Еще только вхожу во двор, а кричу уже в отворенное окно:
– Борь, Борь, иди встречать! Посылка!
Не успела раздеться, а Боря, сразу порозовевший, взрезает холст и бормочет под нос:
– Ой, Фея, Фея, как хочется поскорее!
В посылке три хлебца. Один совсем маленький, другой – побольше, а третий – еще больше. Лукаво смотрю на Бориса и говорю:
– Это мама нарочно так сделала. Самый большой – папе, поменьше – мне, а самый маленький – тебе.
А он еще лукавее возражает:
– Нет, Фея, это просто так испеклось.
Разрезали самый маленький хлебец на три ровных части и с'ели. Папина часть осталась и смотрит на меня, а я на нее.
Искоса взглядываю на Борю, а он уже приготовился и сразу поймал мой взор. Он смущенный, и я смущенная.
Нерешительно говорю ему:
– Давай.
Но глазами говорю в то же время:
– Не надо, не надо! Нечестно.
Он, конечно, понимает безмолвную просьбу, но есть так хочется, и потом… Потом, у папы лишние полфунта.
– Я не знаю. Как хочешь… Давай…
Но я уже справилась с собою. Весело и громко отвечаю:
– Не стоит! Рассердится. А потом… потом он ведь тоже голодный.
8 августа.
На сегодня от вчерашней посылки не осталось и кусочка. Но сегодня опять повезло.
Хлеба по карточкам не давали почти с половины июля. Все нет, нет и нет. А сегодня папа получил сразу за все дни.
Входит с большим мешком за плечами и весь сияет:
– Радуйтесь, радуйтесь, ребятки, хлеба несу за все дни. Ох, устал даже тащивши…
И Боря и я кричим в один голос:
– Сколько, сколько?
– 18 фунтов на всех.
– А нам-то, нам-то сколько?
– Вам 8 фунтов и мне 10.
Вот счастье-то ему – 10 фунтов одному, а нам на двоих 8, и лишние полфунта у него…
Но живо собираю обед. Села и заулыбалась. В руках нож, а на столе передо мной – целый хлебище. И у папы в руках нож. Тоже перед ним хлебище, и папа улыбается ему. Взглянула на Бориса и тот улыбается, потирает ручки и бормочет:
– Поедим хлебца-то сейчас, поедим!
И вдруг замечаю, что в папином хлебище что-то маловато для 10 фунтов. С наслаждением режу свой хлеб и спрашиваю папу:
– Папочка, что-то у вас больно мало? Тут нет десяти фунтов.
Он говорит с улыбкой, совсем как у Бори:
– Да я, дурень этакий, получил хлеб и крепился, крепился, а потом и с’ел фунта с два еще на заводе.
У Бориса тоже вырывается с визгом:
– Ох, и мы сейчас поедим, поедим!..
Папа отрезал себе такой толстый кусок, что я даже залюбовалась. Прямо приятно сделалось, когда вспомнила, какие тоненькие ломтики он отрезал раньше. Господи, если бы всегда так!.. Папа бы не был тогда эгоистом. Хорошо бы было как!
А он жует свой толстый кусок беззубым ртом и говорит с ласковой улыбкой:
– Вот что, ребятки…
Мы оба перебиваем:
– А что, что такое, папочка?
– Да вот что. Вы уж сегодня не жалейте, до сыта ешьте. А завтра-то уж распределяйте. К утру кусочек, и к вечеру кусочек. Вот как я.
– Ммда, ммда, ммда…
За несчастной похлебкой с’ели с Борисом фунта по два хлеба. После обеда папа на радостях посылает в чайную. Против обыкновения нужно взять по две порции чаю и по две конфетки… Ведь хлеба много, и можно много пить чаю…
За чаем измерила глазами папин кусок и свой. Наш уже совсем маленький. Ласкаю его глазами, и хочется еще есть.
С уверенным видом говорю Борису:
– Ну, как, больше не хочешь? Я думаю, на завтра оставим? Да, Боря?
Но Боря говорит:
– Нет, Феечка, еще по маленькому, маленькому кусочку. Мы вкусную тюрьку устроим в стакане. В тюрьке-то меньше хлеба пойдет. Верно, давай, Фея!..
А Фее только того и надо.
– Ну, ладно, что уж с тобой делать; давай, давай…
Режу хлеб. Фу, фу, хотела отрезать по маленькому, а вышло опять по толстому, толстому куску! И всего-то у нас осталось фунта три. Жаль-то как!
Верчу с сожалением свой кусок в руке, а Борису говорю небрежно:
– Ну, уж если есть, так есть, а жалеть нечего. Правда, Борис?
– Ммда, ммда, Фея, правда…
Папа тщательно завернул свой хлеб в бумагу. Встал и говорит:
– Слава тебе, Господи, сытехонек сегодня.
А следом встаем и мы. Показываю Борису на свой живот и говорю с улыбкой во все лицо:
– Борь, у тебя тут полно? Сыт, наверное?..
– Ой, Феечка, сыт… А знаешь, нижняя-то корочка вкусная. Смотри, какая поджаристая.
– Ах ты, плут, этакий! Ну, ладно, давай нижнюю корочку, а теперь все-таки уберем, а то все с’едим.
– Да, да, Феечка, надо убрать.
Папа отяжелел совсем. Не раздеваясь, не сняв даже сапог, лежит на кровати, курит трубку и читает газету. Нет-нет, и взглянет на нас поверх очков, и улыбнется ласково. Мы с Борисом забились в уголок. Без умолку трещим о маме и смеемся от сытости. Через полчаса, час вдруг чувствую, что опять голодна, страшно голодна. Сказать об этом Борису? – нехорошо. Папа завтра даст нотацию. «Вот, – скажет, – большая, не могла удержаться. Хоть бы Борис, – ему простительно»…
Решила, что Борису не скажу и не буду есть хлеба, а только пойду взгляну на кусок в шкафу.
Встала. Нарочно зевнула и иду. А Борис сразу:
– Ты куда?
– Сиди здесь, я сейчас приду.
Смотрит лукаво, улыбается и говорит:
– Ишь, какая, и я пойду.
– Ах, ты дрянь мальчишка! Не проведешь. Ну, ладно, пойдем. Еще по кусочку.
Отрезала и говорю:
– Борь, а Борь, ну и дураки мы с тобою! Весь хлеб с'едим.
– Ой, нет, Феечка, я думаю, что мы очень умные.
И еще лукавее поглядывает на меня.
– Ах, ты, поросенок этакий! Пойдем скорее спать, а-то все с’едим.
– Пойдем, Феечка.
Борька захватил хлеб зубами и странно-лихорадочно заторопился. Раздевается, а хлеб все не выпускает из зубов. Спрашиваю его с удивлением:
– Ты чего так торопишься?
– А знаешь, Феюшенька, я буду в постели лежать и есть хлеб. Правда, ведь хорошо? Лежишь и ешь, а он тебе прямо в горло идет.
Оба забрались под одеяло. Лежим и шепчемся. Хлеб откусываем маленькими кусочками. И вдруг замечаю, что Борис спит, а в руке у него недоеденный кусочек.
Доела и его кусочек. Уже стала засыпать, когда в другом углу заворочался, закряхтел папа. Приоткрыла засыпающий глаз, а папа, в одном белье, пробирается куда-то бесшумно… Господи, да куда же это он? Стало страшно.
И вдруг через открытую дверь вижу, что в столовой он направляется прямо к шкафу. Босые ноги шлепают. Ага! Скрипнула дверь шкафа… Ах, в тишине зазвенел уроненный нож. И за звоном в тишине раздалось:
– Ах, вроть твои на ноги! Дурень я этакий.
Успокоенная, юркнула под одеяло и рассмеялась без злорадства… Ага, и ты не выдержал! А еще нотации читал… Ах, папка, папка!
И в первый раз за все время видела сны. И утром даже могла их вспомнить совершенно отчетливо.
9 августа.
Утром радостно рассказываю сны Борису.
– Представь, Боренька, давно уже не видела снов, а сегодня приснились сразу два Сережи: наш Сережа и Сергей Френев. Как ты думаешь, что это значит?
Боря улыбается по вчерашнему и говорит:
– Наверное, папа опять 18 фунтов хлеба принесет.
А потом подумал полминутки и добавил серьезно:
– Погоди, это я нарочно. Наверное, письмо будет от мамы или нашего Сережи, только не от твоего Сережки…
Я возмущена до глубины души, хотя и понимаю, что он шутит:
– Как ты смеешь так говорить? Он вовсе не Сережка, а Сережа… Сереженька Френев. Он… он будет командовать в Красной армии…
Я чуть не сказала, что он будет генералом, да вспомнила, что у нас теперь нет генералов.
Борис и ухом не ведет. Подмигивает мне глазом и говорит примиряюще:
– Ну, ладно, пусть он там будет, а только, знаешь, давай сделаем тюрьку.
Сделали тюрьку и за тюрькой доели весь вчерашний хлеб. Проглотила последний кусок и вдруг сделалось страшно:
– Боренька, милый, как будем завтра-то?
Боря тоже сидит грустный.
– Понимаешь, Фея, мне не верится, что у нас был вчера хлеб, и что мы сейчас ели. Правда, не верится.
Сегодня у меня свободный день. На службу итти не надо. После самой тюрьки лежу на кровати. Боря сидит на балконе и греется на солнышке.
Вдруг он вбегает радостный и торжествующий. Размахивает письмом.
– Ну, что я тебе не говорил разве? Смотри, письмо. И от нашего Сережи оно, а не от твоего Сережки. Смотри, смотри, на, читай скорей!
Выхватила письмо и в один миг распечатала. Да, от Сережи… Пробегаю глазами первые строчки, а Борис тянет за рукав:
– Читай, читай вслух.
– Да, да, слушай. Сережа в Чернигове…
Еще пробегу несколько строчек, и потом говорю:
– Недавно был в командировке в Москве…
И вдруг я замолчала совсем.
– Фея, Фея, Феечка, чего ты молчишь?
– По-до-жди, Бо-рень-ка.
Господи, что это он пишет? Пишет, что в Москве заходил к Френеву. Перед Френевым лежало нераспечатанное письмо Катюши. Да, да, я знаю эту Катюшу! Это Катюша Ильина. Дальше, дальше… Письмо читали вместе, а Катюша пишет Френеву: «Сережа, я хочу, чтобы вы приехали в Петроград. Слышите: я хочу этого. А хотите вы меня целовать? Хотите? Признайтесь скорее»… Господи, что же это такое?
Слышу, что Боря теребит меня за рукав, а у меня в глазах потемнело, и в сердце тонко колет. Бессильно опустилась на стул и сложила руки на коленях. Пальцы судорожно держат недочитанное письмо. Глаза попали на косые часы на стене. Который же час? который час? Ничего не понимаю… Господи, Господи, что же это?
И вдруг опять сердце словно дернули за ниточку. Больно, больно. Так и стрельнуло. Сразу покатились слезы. Забилась на стуле, как раненая. Потом опять услышала, что Боря тормошит за рукав.
– Фея, Феечка, что такое? Скажи. Фея, Феечка!
– Боря, Боренька! Сергей обманул меня! За что же, за что? Как обидно! Говорил, что вечно будет любить меня! Даже поцеловал в Вологде. И вот, и вот…
– Феечка, это неправда. Не может быть.
Это говорит Боря, но я прислушиваюсь к собственному сердцу, – правда это или неправда? Правда, правда. Он не любит меня. Он любит Катюшу.
И вдруг вскочила, оттолкнула Борю и забегала по комнате.
– А если так… Пусть, пусть! Я сама первая скажу: кончено между нами, все кончено. Он думает, что я буду унижаться. Просить его любви. Никогда, никогда!.. Пусть не думает. Сама первая напишу. Брошу ему в лицо. Теперь вижу: половина четвертого на часах. Не надо, не надо, не надо…
А за мной бегает Боря и сквозь слезы твердит:
– Фея, Феечка, не надо, пройдет, пройдет…
– Нет, Боря, не пройдет, никогда не пройдет… За что, за что? Как ему не стыдно? Лгал. Обманывал. Господи, как обидно!
Неожиданно, как громадная туча, налетела новая мысль и заслонила все другое. Подбежала к зеркалу и жадно стала вглядываться в свое лицо.
– Да, да, я понимаю теперь. Я почти девочка. Катюша лучше меня. А она не виновата, он только виноват. Да, он виноват. Низко, низко с его стороны! Ну, ладно, пусть!.. Ах, Сергей, Сергей, зачем было лгать? зачем обманывать? Если у меня еще две косички, так по-твоему можно обманывать меня. Нет, нет, я покажу тебе. Со мной нельзя играть. Я понимаю твою игру. И нечестно это, нечестно, низко. Ты увидишь, что я не девочка. Пусть косички! Надо было сказать сразу, что нравилась Катюша, а не я… Да, да, да.
Вечером, когда все уснули, несколько раз принималась за письмо, но от слез не могла писать. Слезы застилали глаза и падали прямо на буквы. Пусть! Я его не люблю больше. Я навсегда вычеркнула его из своего сердца. Завтра ему напишу.
Не могла уснуть всю ночь. То плачу, то бормочу:
– Не люблю, не люблю, не люблю.
А все-таки, кажется, я его люблю.
10 августа.
Проснулась, а внутри уже готовы слова:
– Не люблю, не люблю, не люблю.
Забыла, что надо итти на службу. Забыла даже, что сегодня нет хлеба. Села сразу писать письмо. И пишу не на «ты», а на «вы».
«Сергей…
«Не нужно было лгать, я все знаю…»
И вдруг в голову пришло: а что же все знаю? что все? Да, да… Ясно, что он не любит меня.
«… и больше не буду писать вам никогда. Между нами все кончено…»
Кончено? Заплакала над этим словом, но напрягаю силы и пишу далее.
«…Я думаю, вы сами поймете, как мне бесконечно больно и тяжело перенести все это. Но к чему лишние слова? Теперь они бесполезны. Разбитое никогда не будет целым, а только склеенным. Но склеенное – только склеенное. Вы помните стихи, которые я вам когда-то декламировала:
Какою болью сердце бьется, Как долго память мы храним, О том, что больше не вернется, О том, чего не возвратим…«Вот этой болью бьется в этот миг и мое сердце. Но я не девочка, как вы думали. Пусть сердце бьется еще больнее, я вырву из него память о том, что более не вернется. Вырву потому, что я оскорблена, как женщина, потому, что я не хочу жить с этим нерадостным грузом.
«Прощайте, Сергей Френев. Большой ошибкой было с вашей стороны не признавать того, что я женщина. Любите Катюшу, и дай Бог, чтобы вы были любимы ею.
Не ваша Фея».
Письмо уже написано и лежит передо мною. А слезы так и льются. Неужели все кончено? Господи, какое страшное слово «кончено»! Да, да, «облетели цветы, догорели огни». К чему же твои слезы, Фея? Маруся говорит: «первая, чистая, юная любовь». А где она? Нет уже этой любви. В сердце все сорвано, смято, размыто… Навсегда.
Прощай, Сергей, прощай!
Пишу адрес, а на конверт капнула слеза, прямо угадала на слово «Сергею». Оно безобразно расплылось, а я вдруг поцеловала его.
Переменила конверт. Нет, надо взять себя в руки. Не стоит он моих слез… Ах, Сергей, Сергей!
Рука задрожала, опуская письмо в почтовый ящик. Ничего, ничего, – я похоронила его навсегда.
Но плакала весь день, и все казалось, что я его все-таки люблю.
11 августа.
А сегодня приехала мама. Привезла два пуда муки, 20 фунтов крупы и 15 фунтов сухарей.
С полуоткрытым ртом она сидит на стуле и странно устало держит руки. Раскрытые мешки разложены у ног. Видна желто-коричневая, шероховатая мука. Подальше – крупа. Мы все: я, папа, Боря стоим вокруг, внезапно притихшие. Смотрим на эту крупу и муку и никто ничего не говорит. И вдруг Боря тихо зарыдал.
А вечером напекли лепешек, наварили каши, которой не видали полгода, и наелись до тошноты.
14 августа.
Только три дня сыты, а нас никого не узнать. Мы все еще бледные, худые, но мы уже наполнены жизнью. Борька прыгает козленком на своих тонких, как палочки, ножках и поминутно просит «лепешечку». Мама всегда дает, но я вижу, что она старается делать это в отсутствие папы.
Со стола исчезла ненавистная похлебка, но обеденные разговоры не клеятся еще. Вместо них папа предпочитает читать вслух газету.
Появилась привычка каждый день смотреть в зеркало. Нетерпеливо ожидаю, когда опять появится на щеках румянец. С таким же страстным нетерпением наблюдаю за Борей, мамой, папой, когда они поправятся. Прошло три дня, но Боря уже заметно свежее, мама – тоже, а в папе решительно нет никакого изменения.
Страшно делается смотреть на его тощую, сгорбленную фигуру, на его ужасное лицо и тонкие, длинные руки.
И потом эти мешки с продуктами. Они поставлены в столовой, в углу. Я не могу пройти мимо них, чтобы пугливо не оглянуться.
15 августа.
Сегодня за ужином папа удивил даже нас, голодных. За один раз он с’ел около четырех фунтов хлеба, и я видела по его глазам, что с’ел бы еще.
16 августа.
Прибежала на службу бодрая, оживленная, совсем такая, какой чувствовала себя в деревне. И тотчас же затеяла разговор.
– Лелька, а Лелька! У нас сегодня пироги с капустой; а ты умеешь торты делать?
– Ну уж, торты не умею, но зато испеку тебе такое печенье, прямо пальчики оближешь. Я пироги с капустой не люблю.
– А я люблю, и потом люблю очень голубцы…
Болтаю о тортах, о голубцах, а раньше я не признавала таких разговоров. Всегда сердилась и говорила, что это прожорливые разговоры, и что говорить об этом могут только животные.
Но хорошо быть сытой, если бы только не Сергей Френев.
17 августа.
В первый раз за все лето сходила в кинематограф. Пришла домой поздно, часов в 11. Пришла и вздрогнула. За столом сидит Александр и уничтожает целую гору лепешек. Он в неуклюжей красноармейской шинели. Но еще раньше бросились в глаза и больно ударили по сердцу страшные, удивительно тонкие ноги в желтых обмотках и в громадных солдатских ботинках.
Он еще ни разу не приходил после того случая с картошкой. И теперь испуганно взглянул на меня и поспешно сказал плачущим голосом:
– Мобилизовали. Послезавтра на фронт отправляют. Может быть, никогда не увидимся.
И серым, огромным рукавом шинели смахнул слезы. Сразу оторопела в неприятном изумлении. Чего он плачет? Трус, трус!..
В сердце только что вспыхнула к нему жалость, боль, раскаяние за картошку, но этот жест все точно смел. Говорю ему почти сердито:
– На фронт, так на фронт. Сережа и Ваня добровольно ушли. Чего же ты-то нос повесил?
А он отвечает совсем слезливым голосом:
– Да, тебе хорошо говорить, сидя тут дома…
Господи, он замигал, как Борис. Даже нижняя губа так же задрожала. Фу, фу, вот так защитник! Не далеко можно на нем уехать. Не могу видеть, когда мужчина плачет. А если в атаку итти придется? Тогда каков будет? А еще рабочий! Свою власть боится защищать! Кричу ему почти взбешенная:
– Как тебе не стыдно, как не стыдно?
И только, когда он через полчаса уходил, вспыхнула опять к нему жалость. Но и жалость эта презрительная. Не могла принудить себя поцеловать его от души. На прощанье только сказала ему:
– Ну, ладно, иди с Богом, не плачь, да смотри – пиши…
18 августа.
А все-таки я, кажется, люблю Френева. Не могу его забыть. В сердце – горько, обидно…
А усну – вижу его во сне. Целует прямо в губы, и на губах горячо. Слышу даже голос, тихий, ласковый:
– Моя маленькая Фея, ведь ты не забудешь меня?
Да, да, не я, а ты забыл свою маленькую Фею. Зачем было лгать? Зачем обманывать? Я уже не девочка.
19 августа.
Почему папа такой измученный и худой? Ест много, больше всех нас, а все такой же страшный. Я боюсь думать об этом, но каждый вечер его худоба бросается в лицо и думаю поневоле. Но, наверное, пройдет у него.
А я совсем оживаю. Потянуло в театр, в кинематограф. Два раза была в гостях у Маруськи.
27 августа.
От Александра было получено только одно письмо из Смоленска, и с тех пор больше нет никаких известий. В письме он писал, что скоро отправят на польский фронт.
А я знаю, что если бы он был жив и здоров, он бы обязательно написал.
28 августа.
И почему в папе нет никакого изменения до сих пор? Все такой же худой, измятый и желтый. Мы все давно изменились, посвежели, повеселели, а он все так же угрюм и неприветлив. Другой раз ни единым звуком за целый вечер не вмешается в наш разговор. Встанет у печки, сложит руки за спину и куда-то смотрит в потолок.
29 августа.
Посылка, о которой Ваня писал в середине лета, получена только сегодня. В ней оказалось фунтов 12 кирпичей и фунтов 8 крупы, наполовину с песком.
Хорошо, что она не получена в то страшное время. Можно было бы с ума сойти.
1 сентября.
Господи, Господи, скоро продукты будут все! Неужели опять пойдет та же жизнь? Неужели опять похлебка? Но ведь продавать же у нас нечего!
И как странно: чем подавленнее становится настроение дома, тем шумнее и веселее я веду себя на службе.
Часто бываю у Маруськи, чтобы только не оставаться по вечерам дома.
Еще неприятность: от Сережи уже почти три недели нет писем, а раньше он аккуратно писал каждую неделю.
Боюсь думать о всем этом. Жертвую самолюбием и соглашаюсь итти с Маруськой в кинематограф или в театр. А когда-то итти на чужой счет было для меня – нож острый.
2 сентября.
Увеличили хлебную норму. Опять я и мама получаем пол фунта на два дня, Боря – 5/8 на два дня, папа – 3/4 фунта по гражданской карточке и… те же несчастные полфунта. Вспомнила их, и мороз побежал по коже.
5 сентября.
Ужас, ужас какой!
С Николаем Павловичем я давно не встречалась в почтамте, но как-то этого не замечала. А вчера неожиданно говорят:
– Да разве вы не знаете? Он умер еще в июле. Паралич сердца. Говорят, от истощения.
Я остолбенела. Стою и ничего не понимаю. Смотрю на сказавшего и даже его лица не вижу. И вдруг увидела это лицо и поняла все, все. Безумный, какой-то животный страх хватает за сердце… А мы, мы? Мы тоже ведь умрем? Вот только продукты кончатся. Немного уж осталось муки, а крупы нет…
Потом стало стыдно. Спрашиваю:
– Как же так? Почему? Почему?
– Очень просто. Полное истощение сил. Нечего есть было человеку. Говорят, и отец умирает.
Нечего есть было человеку? Как это просто! Да, да, это очень просто. А я то думаю, что голодаю я… Ах, да! Наверное, он тогда и селедку не ел в почтамте только потому, что должен был поделиться с отцом. Милый, дорогой Николай Павлович!
И вдруг я покраснела. В голову пришло, что теперь некому подгонять меня, чтобы я училась. И даже с удовольствием подумалось… Ужас, ужас! Какая я…
Прорвались вдруг слезы. Но, Господи, опять чувствую, что это скорее слезы страха за себя, за маму, за Бориса, чем слезы о Николае Павловиче. Мы… мы тоже, наверное, умрем от голода…
Домой пришла подавленная. За ужином глотаю про себя слезы и не могу сказать, что умер Николай Павлович. Кажется, что все заплачут, такими же слезами, как я давеча. И потом без того все как будто особенно подавлены чем-то. Вдруг мама говорит тихо, тихо:
– Муки только на завтра замесить осталось, и больше нет ничего.
И эти слова точно толчок для меня. Сразу за мамой говорю так же тихо:
– А Николай Павлович умер от голода.
Все опустили глаза на стол и все молчат. Потом Боря беззвучно заплакал, мама перекрестилась, а у папы на лбу страшно задвигались морщины.
Завтра опять похлебка, если есть еще, что продавать.
7 сентября.
Сегодня пошла на службу голодная, а вечером была похлебка.
От Сережи и от Александра все еще нет писем.
10 сентября.
Голод, голод и голод. Все как-то сразу распустились.
15 сентября.
Продавать почти нечего. Вчера опять было долгое мучительное совещание. Решили варить похлебку только через день.
А хлеб дают опять с перебоями. Через пять-шесть дней. Папа получает лишние полфунта.
20 сентября.
Голова кружится. По утрам красные, зеленые, синие пятна. На улицах лица двоятся. Все, все опять так же. Дома по вечерам – мертвая тишина. Вчера ночью проснулась и что-то услышала. Долго старалась понять, что это такое? Наконец, поняла… Плакала мама. Но я не спросила ее, а только отвернулась к стене.
Но всего страшнее папа. Он буквально высыхает и дряхлеет. Придет с работы страшный, страшный. Заохает, закряхтит, пожалуется, что у него пухнут и болят ноги. Но никто не отзовется и звуком. Он… он получает полфунта лишних.
Перед тем, как спать, встанет спиной к холодной печке и руки назад заложены. Стоит часа два-три. Страшно делается от его мертвой неподвижности, от его пустых глаз. Смотрит куда-то в потолок и даже ресницы не шелохнутся.
А потом идет в одинокую постель.
25 сентября.
Или осень наступает, или все померкло от голода. Даже трамвайные вагоны недавно были такими красными, блестящими, а теперь, когда сажусь в трамвай, вижу, что они тусклые, тусклые.
Ни о чем не думается. Только где-то на самом дне шевелится и тонко жужжит беспокойство оттого, что от Сережи и Шуры все еще нет писем.
30 сентября.
У Мити несчастье – заболела Тонька. Он просил маму приехать и похозяйничать. Я ее отговаривала, но она поехала и взяла с собой Бориса. Я, конечно, понимаю, что у Мити можно наесться до сыта. Они все еще живут хорошо.
Шла со службы домой и, по обыкновению, ничего не думала. А подходя уже к дому, вдруг почувствовала в душе страх. Как же я останусь с папой один на один? И зачем я пошла домой? Лучше бы к Маруське ночевать. Теперь не дойти к ней. Но с папой – не могу, не могу…
Пришла домой. Как взглянула на папу, так опять почувствовала то же. Нет, нет – не могу с ним оставаться. Страшно. И тоска невыразимая в сердце.
Пойду опять.
Посидела с полминутки на стуле и отдышалась немного. Потом говорю папе:
– Ну, до свиданья, я пошла.
И сразу вижу, что он тоже испугался оттого, что останется один. Говорит странным голосом:
– А куда ты?
– К Маруське. У ней гости.
Помолчал немного. В мертвых глазах что-то зашевелилось.
– Да полно, не ходи. Устала. Поздно.
Он неподвижно, как всегда, стоит у печки. Как взгляну на него, – так и страшно, страшно. Нет, не могу, не могу.
– Нет, нет, папочка, я пойду.
Ничего не возразил, но отделился от печки и медленно пошел в кухню. Потом возвращается с горшком в руках и говорит. А голос вздрагивающий, чем-то переполненный.
– Ну-ка, полно тебе, не выдумывай! Вот у меня похлебки немного осталось. Поешь-ка лучше, да и с Богом спать.
Успокоился и поставил горшок передо мной. А я поражена. И есть хочется мучительно, и папу жаль, и не могу с ним остаться.
Смотрю жадно на суп. Не выдержала. Жадно ем.
А он успокоился еще больше и поглядывает на меня ласково. И вдруг, с'ев суп до капли, я встаю и одеваюсь опять. Сама чувствую, как жаркая краска ползет по щекам. Но не могу, не могу с ним остаться… Господи, какая я! Бедный папа. Он сразу сжался и смотрит на меня испуганно.
– Ну, до свиданья, папочка.
Ничего не ответил. Постояла с полминутки, посмотрела ему в лицо и… повернулась и пошла. Сделала шага три, оглянулась и даже задрожала от ужаса, стыда и скорби за папу.
Весь как-то опустился, согнулся, и в то же время гордость какая-то в фигуре. А желтое лицо с мертвыми глазами, – как неподвижная, страшная маска. И она тянется за мной… Господи, Господи!
Закружилось что-то в сердце, даже в глазах потемнело. Останусь, останусь. Не помня себя, подбежала к нему и стремительно поцеловала и… вдруг опять слышу свои слова:
– Ну, папочка, я пошла…
И снова он ничего не сказал. Теперь я вся согнулась и ушла. Ушла.
1 октября.
Уже недели две у нас в канцелярии и вообще в почтамте как-то по-особенному все волнуются и радостно чего-то ждут. Все собираются кучками, шушукаются по углам, перешептываются за работой. Прямо противно смотреть на всех. Сижу, молчу, даже не поинтересуюсь, из-за чего они шушукаются и чему радуются?
А сегодня Тюрин, наш казначей, вдруг спросил меня:
– А вы, Фея Александровна, разве не хотите, чтобы белые пришли?
– Пришли белые? Куда белые?
– Да неужели вы не знаете, что Петрограду скоро крышка?.. Юденич наступает…
Ага! Вот почему все шушукаются и перешептываются. И сразу я припомнила, что уже давно смутно слышала, что наступают белые. Только я думала, что не на Петроград, а где-то далеко. Папа ничего дома не говорил. Он уже давно, с того дня, как с'ели последнюю горсть муки, не читает по вечерам газет и ничего с нами не говорит. Белые наступают… Нет, нет, они не возьмут нашего Петрограда!
Говорю Тюрину:
– Ерунда, они двадцать раз наступали и не взяли, и теперь тоже не возьмут.
Вечером спросила папу:
– Правда, что белые наступают на Петроград?
Мама подняла на меня испуганные глаза, а потом перевела на папу. Папа помолчал и неохотно сказал:
– Юденич это. Он и раньше наступал, да опять отступал.
2 октября.
Сегодня немного опоздала. Пришла в канцелярию, а у нас уже все собрались, но никто не работает. Стоят общей кучей и уже не шушукаются, а говорят открыто. И у всех блестящие глаза и радостные лица. И такое зло взяло на эти лица и глаза. Ни с кем не поздоровалась и нарочно села работать. Работаю только одна в канцелярии, а сама прислушиваюсь одним ухом, что они говорят.
А в кучке говорят, что скоро совсем хлеба не будет – все пойдет на фронт, что в Красной армии – все голодные и молодые очень, и поэтому Петроград возьмут. А когда придут белые, хлеб опять будет по три копейки, будет всего довольно, и коммунистам будет крышка.
Прислушиваюсь, и вдруг в душе заползал страх. Господи, ведь Сережа и Ваня коммунисты! Как же, как же? И хлеба не будет. Все умрем с голоду. Нет, нет, не возьмут!
Неожиданно сорвалась с места и бегу к этой кучке:
– Чего вы радуетесь? Все равно не взять, не взять, не взять!..
Все замолкли, потом переглянулись и сразу засмеялись.
– Ха-ха-ха! Фея-то Александровна – большевичка у нас… Нет уж, Фея Александровна, теперь-то будет крышка.
– Ничего подобного, никогда не возьмут!
Отбежала и опять уселась за работу.
А перо так и прыгает в руках. И все кляксы, кляксы, кляксы. Нарочно ставлю.
Вечером, против обыкновения, папа принес газету и читал вслух. Слушали с напряженным, жутким интересом. Особенно мама. И хотя она ничего не понимает в телеграммах с фронта, за то она думает о Сереже и Ване. И Шуре.
7 октября.
В почтамт газеты приносят к двенадцати часам дня. Из всех углов комнаты бросаемся к рассыльному мальчику, чтобы захватить их. Но чаще всех захватываю я, потому что сижу ближе остальных к дверям. Лихорадочно читаю сначала про себя, а потом вслух. Господи, белые все наступают и наступают. Говорят, совсем уж близко.
И все меня называют большевичкой. Никто не знает, что делается у меня в душе. Сама не пойму: хочется или не хочется, чтобы пришли белые. Говорят, хлеба будет много. Сыты все будем. Но Сережа, Ваня!.. Они же коммунисты. Господи, как же это? Неужели придут?..
И у мамы в душе происходит, кажется, то же самое. Сегодня папа читал газету, а она вдруг страшно закричала:
– А чорт с ними, пусть приходят! Все равно уж теперь. Уж какой-нибудь бы, да конец только!..
Какой ужасный крик! Идет из самого сердца. Хотела взглянуть на мамино лицо и не могла. Знаю, знаю… Она долго думала и о Сереже, и о Ване, и о том, что все продано, и что впереди – голод. Все, все это звучало в ее крике. Прозвучало и замолкло. Ей теперь все равно.
А мне еще не все равно. Чувствую это, но не знаю, на что решиться.
10 октября.
Неужели возьмут? Все ближе они наступают и ближе.
Папа пришел сегодня особенно расстроенный. Не раздеваясь еще, говорит:
– Близко они. Пожалуй, дело будет.
Подумал еще с полминутки и опять говорит:
– Вот что, мать. Говорят, расстреливают целые семьи красноармейцев за то, что сыновья на фронте. Ты собери-ка все письма от Сережи, Вани и Шуры и сожги.
Я прерываю его в середине фразы и кричу, возмущенная страшно:
– Вот и глупо будет, вот и глупо будет. Захотят узнать, и так узнают.
Мне хочется кричать ему, что он – трус, трус, трус. Боится писем от родных сыновей. До чего он дошел! И теперь то, когда уж жить-то не для чего даже и мне, он трясется за свою жизнь. Трус, трус! А он отвечает мне встревоженно:
– Чего ты мелешь-то? Как узнают-то?
– Да очень просто. Так вот и узнают. Да, да, да, узнают! Сама скажу им, что я – сестра братьев-коммунистов. Наплевать мне на белых! Пусть меня расстреливают!
И вдруг папа страшно закричал:
– Да не трепли ты языком, пустомеля этакая! Раз говорю, что сжечь надо, – значит, надо…
Но писем все же не сожгли. Решили ожидать последнего момента.
11 октября.
На улицах расклеены телеграммы: «Волосово противником взято». А в почтамте на каждом лице – светлый праздник.
Наша канцелярия превратилась в клуб для всей экспедиции. Собираются с утра и радостно обсуждают новости с фронта. Спрашивают меня:
– Ну, что, Фея Александровна, Волосово-то взято? Будете еще спорить?
Это спрашивает Тюрин. Расставил широко ноги, уперся руками в бока и ждет ответа.
Взглянула в его смеющиеся глаза, и клубком подкатило к горлу судорожное, злое напряжение. Вскочила из-за стола и хотела крикнуть на всю канцелярию, и вдруг крик точно сорвался и упал. Опять опустилась на стул и говорю тихо:
– Мне теперь все равно.
Тюрин насмешливо развел руками.
– Вот тебе и на! Все равно. А кто еще недавно говорил и топал ножкой: «не придут, не придут, не придут»?.. Однако, Фея Александровна, нечего сказать, – тверды вы в своих убеждениях!
Но я опять только повторила:
– Мне все равно.
Он засмеялся и пошел к галдящей кучке.
12 октября.
Слышно уже, как стреляют. Близко, близко.
13 октября.
Стрельба как будто ближе. Не дают давно хлеба. Господи, а Сережа? А Ваня?
14 октября.
Всю ночь не могла сомкнуть глаз.
Лежу и прислушиваюсь. Совсем близко, как ухнет, ухнет… Вздрогнет дом, задребезжат стекла тонко, тонко. Хоть бы попали в наш дом! Пусть, пусть убьют всех. Пусть сюда, под кровать ко мне, влетит огромный снаряд. В комнате сразу пожар. Сразу все затрещит и развалится. Немного жаль папу, маму и Борю. А я сама подставлю голову под какое-нибудь бревно.
15 октября.
Утром все-таки пошла на службу. На стенах домов расклеены новые телеграммы: «наступление противника упорное». Люди стоят, вытягивают шеи к черным буквам и жадно читают. Одни ухмыляются, у других – озабоченные и встревоженные лица.
В канцелярии меня встретили с поклонами:
– Радуйтесь, Фея Александровна. Дождались. Несколько часов осталось.
Перед окончанием занятий вбегает рассыльный мальчишка и радостно орет:
– А мосты-то развели! Мосты-то развели!
И сразу со всех сторон радостный вой:
– Ага, ага! Скоро, значит!
– Испугались, черти!
– Заплясали… Посмотрим.
– Белый хлеб скоро будем есть!
Потом они еще что-то кричали. Я уже не могла понять. Потом долго шла домой и все прислушивалась к выстрелам. Посмотрю в небо, а оно – огромное, и все в тучах. А снарядов не видно. Только падает мелкий дождь; кажется, промочила ноги. Дома мама встречает испуганная:
– Ну, слава тебе, Господи, пришла. Мы уж думали, не убило ли.
Еще хватило сил ответить ей:
– Ну, что вы, ерунда какая. Меня не убьют.
И даже презрительно рассмеялась.
Ночь протекала медленно, а к утру стало почему-то затихать. Сделалось еще страшнее.
16 октября.
Утром мама долго не хотела отпускать на службу.
– Не ходи. Вдруг на Первой линии белые на лошадях раз’езжают. Смотри, папа тоже остался.
Но я пошла. На улицах даже как-то странно без стрельбы. И телеграмм нет. Трамваи не ходят. По улице идут и говорят, что положение неопределенное.
В канцелярии встречают жадными вопросами:
– Фея Александровна, нет ли чего нового? Газет не расклеили?
Мало разговаривают сегодня и не радуются. Ожидают газет, и все притихли. Лелька и Валька даже за работу принялись.
А газет все нет и нет. Уже второй час. Отчего же это? Неужели, неужели?..
Только в два часа влетел мальчишка с газетами. Бросаюсь к нему, успела захватить первая.
Все сразу столпились вокруг меня и торопят. А у меня газета прыгает в руках… Господи, что это такое? «Белые по всем направлениям отступают. Наше наступление развивается успешно».
– Да читайте, читайте!
Голова закружилась. Блестящие глаза, встревоженные лица передо мной стали то вспыхивать, то бледнеть. Но из всех сил кричу им:
– Белые везде отступают! Наши их гонят! Читайте сами.
Упала на стол и закрыла глаза. Как кружится все! Голоса слышатся как из тумана. Это Тюрин.
– И из-за чего дерутся дураки голодные? Послали бы меня, я показал бы, как драться с белыми.
Немного отдышалась. Открыла глаза. Со мной кто-то говорит, а я ничего не понимаю. Вдруг застучали зубы, как в лихорадке. Опять открыла глаза. Красные, зеленые пятна. Потерла рукой лоб, чтобы отогнать, а лоб весь потный. Сразу чего-то испугалась. Никому ничего не сказала и пошла домой.
Шла, кажется, до самого вечера. Помню, что дрожали ноги, и цеплялась за стены домов. А стрельбы не было.
Потом сразу очутилась дома. Мама что-то говорила и снимала с меня пальто. Потом провожала до кровати.
15 ноября.
Целый месяц была больна. Я и теперь больная.
В тот вечер мама меня проводила до кровати и больше ничего не помню ясно.
* * *
…Глаза сразу открывались в середине ночи. Не сама открывала, а будто изнутри кто-то раздирал их. Это уже не ночь, а вечная, огромная темнота. И лежу где-то не на кровати, а высоко, высоко. Свешиваю вниз голову и пристально смотрю вниз. Темнота. Нет конца. Чувствую, что в темноте надо мной все ниже и ниже нависает бесконечное черное небо. А в небе ужасное, черное солнце. Не вижу, но чувствую его. Господи, раздавит!.. Раздавит!.. А в сердце как больно!
* * *
Потом уже в комнате. Проснулась и плачу. Голосок у меня тонкий, тонкий. Плачу и слушаю себя с удовольствием. Да, я в комнате. Вон в углу висит папино пальто. Нет, нет! Не пальто. Это черный монах! Только зачем он без лица и зачем поднимает руки к потолку?
Ах, нет… Не монах. Это черный папа без лица. Он протягивает ко мне длинные, черные руки. Папа, папа, не надо! Это я – Фея! Фея!
* * *
Потом, наверное, был день. Двигались черные папа и мама, и опять у них не было лиц. За то видела блестящее окно, и, кажется, солнце было. Потом как будто опять ночь. Снова кругом все темно. А под потолком, прямо в воздухе, висела маленькая девочка вся в белом. И на подоле у ней капельки крови. Потом опять как будто день, потом опять ночь. Не помню сколько раз.
* * *
Раз проснулась и, не раскрывая глаз, поняла, что в комнате – утро. Сразу услышала мамин голос:
– Хоть бы умирала, если не поправляется! Экая мука-мученская!..
Сердце так и вздрогнуло от знакомой боли. Чуть-чуть не раскрыла глаз, но удержалась. Господи, почему я не умерла? Почему?
Выждала, когда мама отошла, и заплакала.
* * *
А потом было хуже всего. Появился огромный аппетит, а есть было совсем нечего. Никогда в жизни не испытывала такого голода. Плакала по ночам и чуть не изгрызла собственные пальцы.
Хочу умереть, умереть, умереть…
* * *
Вчера в первый раз встала с постели. Закуталась и села у окна. Положила на подоконник руки. Пусто на дворе. Видно, как ветер треплет березу. Пусто в сердце. В голове нет ни одной мысли.
Неожиданно увидела на подоконнике свою протянутую белую, тонкую руку. Вздрогнула вся. Потом поднесла руку поближе к глазам. Тонкая, тонкая и кожа нежная, почти просвечивает. Даже красиво.
И вдруг вспыхнула злоба, безграничная, страшная на всех, на всех. Вспыхнула и потухла. Шатаясь, подошла к кровати и опять легла. Забилась под одеяло и зарыдала, уткнувшись в подушку.
16 ноября.
Понемногу встаю, хожу. Мама твердит, чтобы умирала или выздоравливала. А у меня сил нет совершенно. Поброжу полчаса и опять лежу весь день.
Все безразлично и ко всему равнодушна. И то, что было недавно, и то, что еще будет впереди. Страдаю только от голода, и по ночам грезятся белые булки.
20 ноября.
Все тоже. Сил нет совершенно.
25 ноября.
Мама смотрит на меня и плачет. Все чаще говорит:
– Да умирала бы ты поскорее!
А я иногда совсем не отвечу, иногда скажу:
– Мне все равно.
26 ноября.
Сегодня утром в первый раз вспомнила, что от Сережи давно не было писем. Торопливо спросила маму, были ли от него письма за время моей болезни?
Сразу, без ее ответа поняла, что писем еще не было. Ее серые глаза моментально наполнились слезами, и для меня этого было довольно. Ничего ей не ответила, но сердце начало оживать и наполняться страхом и скорбью живого человека.
А вечером Сережа неожиданно приехал. Но такой же исхудалый и страшный, как мы. Весь оборванный, в обмундировании военно-пленного. Оказывается, он два с лишком месяца был болен тифом и не хотел писать, чтобы не встревожить нас. Во время болезни в госпитале случился пожар, и его собственное обмундирование все сгорело. Хорошо, что не сгорел он сам.
Я по обыкновению лежала, когда он позвонил. Никто не думал, что он, и сердце не дрогнуло, не отозвалось на звонок. И вдруг на кухне раздался голос мамы:
– Сереженька, Сереженька!
В первое мгновенье не сообразила, но Сережа уже входит и прямо направляется к моей кровати. Всю так и затрясло, как в лихорадке. И вдруг разразилась слезами.
Сережа привез фунтов 30 хлеба.
27 ноября.
Сразу стало лучше. Думаю, дня через три-четыре пойти на службу.
Только сегодня заметила, как все похудели за это время. Особенно папа. У него лицо на смерть замученного человека. Мама говорит, что у него страшно распухли ноги.
1 декабря.
Все это время, оказывается, варили похлебку два раза в неделю. Хлеб по-прежнему выдавали с перебоями. Бывали дни, что мама и Боря сидели только на одном советском обеде. Папа всегда получал свои полфунта.
Я не могу даже представить, как они могли жить на этом.
Завтра – воскресенье. Я думаю пойти на службу в понедельник.
2 декабря.
Папа тоже заболел…
Сегодня не пошел на работу, а лежит и стонет:
– Ох, Господи, ох, Господи…
Смотрю на его страшную, костлявую грудь, на пожелтевший лоб, с ссохшимися морщинами и слипшимися редкими волосами; смотрю с спокойно-злобным, усталым любопытством. Да, да, поболей и ты. Я болела и не получала полфунта лишних. И, когда он перекатит на меня свои страшные, тусклые глаза, я равнодушно отвертываюсь.
А в двенадцать часов принесли из столовой Борин и мамин обеды. Ага!.. Папина карточка в заводской столовой. Значит… значит, он будет голодным. И полфунта не дадут.
Все четверо садимся есть два советских обеда. Смотрю, поднимается и папа. Спустил с кровати иссохшие, пожелтевшие ноги. В тусклых глазах загорелись огоньки, как у животного. Искривил тонкие, серые губы и нарочно стонет громче:
– Мааать, дай и мне ложку…
Мама, ни слова не говоря, поставила у кровати табурет и перенесла на него обед со стола. Мы уселись на корточках вокруг. А он?.. Он тоже тянется своей ложкой. От слабости сидит на постели и качается, ложка дрожит в страшной тонкой руке, а тянется, тянется… Мы едим быстро, а он не успевает; я вижу, что он мертвыми глазами стережет этот несчастный суп. Он торопится поскорее проглотить с ложки, а ложка колотится об его зубы, о дрожащий подбородок, суп льется на костлявую грудь, колени, а глаза все следят за тем, что осталось в чашке. Я вижу все это и старая, знакомая ненависть, только какая-то усталая, поднимается к нему. И, кроме того, тоска; хочется плакать. Сама не понимаю: за себя ли, за папу или за всех нас.
А вечером, когда сварили похлебку, он попросил поставить ему на кровать в отдельной чашке. С той же усталой ненавистью и тоской в сердце я принесла и поставила ему тарелку. Он похлебал немного и застонал с диким, животным ужасом:
– Ох, мать, мать, я не могу есть похлебку. Ты бы… ты бы хоть купила яичек, да яишенку сделала. И к чаю чего-нибудь кисленького купила бы…
Я сразу насторожилась в томительном, злобном удовольствии. Сейчас мама покажет ему эту яишенку и это кисленькое! Когда я болела, мне ведь ничего этого не было. Верно, верно!.. Мама даже покраснела от злобной досады.
– Да ты с ума сошел, что ли? На что я накуплю для тебя яишенок и кисленького? Пойми сам.
Но он ничего не может понять. В ужасе бормочет, чтобы продали еще что-нибудь. Смотрит страшными глазами то на меня, то на маму и бормочет. И вдруг закрыл глаза, отвернулся к стене и затих. А через полминутки глухим, усталым голосом пробормотал безнадежно:
– Я так и знал. Нечего от вас помощи ждать. Теперь можно помирать. Господи, Боже, прости нас!
Услыхали этот стон и переглянулись мы с мамой. Но ни я, ни она ничего не ответили папе. А вечером я сама предложила папе чаю:
– Чаю хотите?
– Дааай…
Я подала чай и отдала ему свой собственный кусочек хлеба. Его откуда-то принес Сережа.
3 декабря.
Сегодня в первый раз пойду на службу.
Еще совсем темно, когда я одеваюсь. В углу чернеет папина кровать. Лежит и все так же стонет. Нехорошо на душе от этих стонов. Мама ушла за водой.
Устало оделась и зачем-то подошла к папе. Он не с'ел вчерашнего кусочка хлеба, и чай не выпит. Сам лежит, отвернувшись к стене. Осторожно говорю ему:
– Я пошла на службу.
А он, все так же лицом к стене, заговорил со стонами:
– Ох, ох… Феюша, как ты голодная-то после болезни пойдешь? Возьми хоть мой-то вчерашний кусочек. Не хочу я…
Удивилась страшно. В голову в первый раз за все время пришло, что он заболел по-настоящему. Так же, как болела я. А потом вдруг подумала:
– Ерунда все это! Притворяется.
Он опять стонет:
– Взяла? Иди с Богом… Ох, ох…
– Взяла, взяла, папочка, поправляйтесь… Пошла я…
Вышла в усталом недоумении. За воротами встретила маму. Она возвращается с ведром воды. Согнулась вся, бедная. Едва тащит.
Все в том же недоумении, молча, взяла от нее ведро воды и хотела втащить на лестницу. Не могу… Говорю ей:
– А он-то мне вчерашний хлеб отдал.
Мне кажется, что она сейчас ответит чем-то насмешливым и презрительным, но она говорит грустно:
– Ну, ладно, иди с Богом.
На службе сижу все в том же усталом недоумении. Меня спрашивают:
– Фейка, ты чего нос повесила?
– Ни-че-го, у ме-ня па-па очень бо-лен… на-вер-ное умрет…
Кто-то восклицает с негодующим изумлением:
– Господи, как она спокойно говорит об этом. Прямо удивляюсь на нее.
Потом шла домой и опять промочила ноги. Подумала, что снова заболею. И как-то стала рада. Теперь, наверное, наверное, умру.
И чем ближе подходила к дому, тем больше думала, что теперь умру обязательно. Уже не радость в душе, а усталая злоба против всех: папы, мамы, Бори и даже Сережи.
Дома со злобой сняла сапоги и отбросила в угол. Никому не говорю ни слова. Сережа лежит, мама на кухне, папа стонет. Не заметила, как подошла к кровати. Взглянула и поразилась. Закутан одеялом до самого подбородка. На месте груди одеяло быстро колышется. Голова отвернулась на бок и лежит ко мне страшным лицом. Глаза закрыты, а губы шевелятся, приподнимают слипшиеся усы. Виден висок, и на нем натянута пожелтевшая потная кожа. С головы спустились и прилипли к ней редкие волосы. Господи, глаза открылись и смотрят на меня. Какие они теперь блестящие! Губы шевелятся сильнее и разрывают мокрые, слипшиеся комками усы:
– Феюююша, прииишлааа…
Голова закружилась. Смотрю на него, как в тумане. И вдруг стало радостно: на табурете яичница и стоит бутылочка с чайным ромом. Да, да, мама все-таки купила. Слава Богу! Побежала на кухню к маме:
– Ну, что, как папа?
А мама уже вытирает передником глаза:
– Плохо очень. Утром в больницу ходил советскую.
– Что вы, мама? Как же он один ходил?
– Да, вот один… Некому было. Доктор сказал – очень опасно. Обязательно в больницу надо. Карету ждем «скорой помощи».
– Мамочка, а карета сегодня будет?
– Сегодня обещали. Ведь его в больнице чем-нибудь полечат, наверное.
И она посмотрела на меня чего-то просящими глазами.
– Конечно, мамочка, в больнице ведь лекарства дадут, и доктор каждый день. Там лучше будет.
Я лгу только потому, что этого просят мамины глаза.
Карета приехала в 10 часов вечера. Два толстых санитара в белых халатах вошли в комнату. С ужасом я смотрю на них. Оба стоят на середине комнаты, под самой электрической лампочкой. У одного красное лицо, как большая буква О, толстый нос и густые брови, а другой смотрит еще сердитей, и говорит:
– Ну, мы думали, совсем больной, а этот и сам сойдет.
Мама плачет и одевает папу, а у него дрожит нижняя губа, как у ребенка. Смотрит то на санитара, то на маму и лепечет:
– Да, да, да, я сам сойду.
И вдруг я подошла к страшному, толстому санитару и медленно сказала ему:
– Да, да, он сам сойдет.
И мама подхватывает тоже:
– Да, да, он сам сойдет.
А я, как услыхала мамин голос, вдруг почувствовала, что текут слезы. Убежала в другую комнату. Вытерла и опять пришла. Папа уже совсем одет и тянется к маме жалкими, жалкими, как тогда у Шуры, глазами:
– А… а когдааа приееедете ко мне?
– Завтра, завтра утром приедем. Все, все. Переночуем ночку и приедем. Ты не бойся. Приедем, приедем.
Мне тоже нужно поцеловать папу, а я не могу, не могу. Противные, мокрые, слипшиеся усы…
Санитары тронулись. Голова папы слабо мотнулась и опустилась на грудь. Уже выходят на кухню.
Сердце словно вскрикнуло. Бросилась за ним, чтобы поцеловать. Догнала на кухне. Опять не могу. Вдруг один санитар обернулся и удивленно говорит:
– А разве его никто не поедет провожать?
Ага, ага! Папа только этого и ждал. С усилием поднял голову и смотрит на нас умоляющими глазами. Но санитар, словно что-то прочитав на наших лицах, добавил:
– Ну, да мы его в момент доставим.
Уже уводят. Через открытую дверь слышна возня на лестнице и рыдания мамы. И опять сердце словно вскрикнуло. Проститься, проститься надо. Как безумная, бегу по лестнице. Подбегаю к воротам. Стоит страшная карета. На козлах закутанный кучер, и лица не видно. Только кнут тянется из руки. Папу уже впихивают в карету. Мама трясется от рыданий. Господи, Господи! Надо проститься с ним. Проводить его.
Сунулась в карету, а там темно, темно. В углу сидит черный папа и стонет. И опять не могу проститься. И поехать с ним – ни за что, ни за что!.. Господи, как страшно! Даже задрожала вся. И вдруг, не простившись с папой, не сказав никому ни слова, бросилась прочь от кареты. Прибежала в комнаты и бросилась на кровать. Не плачу, а только дрожу.
Потом пришли мама и Сережа. Стоит папина пустая кровать, и одеяло раскрыто. Все посмотрели на это одеяло и сразу переглянулись. Но никто не сказал ни слова.
Торопливо стали укладываться спать. Лежу и слышу, как переговариваются Сережа и мама:
– Завтра пораньше поедем к нему.
И внезапно я тоже кричу пронзительным страшным голосом:
– Я тоже, я тоже.
Сережа и мама сразу замолкли. Потом оба вместе говорят вздрагивающими голосами:
– Хорошо, хорошо. И ты.
4 декабря.
А утром я проснулась такая бесконечно усталая, что не хочется ехать. Лучше уж, как всегда, пойду на службу. Вижу, что Сережа и мама собираются. Спрашиваю их:
– А мне-то с вами ехать?
И, кажется без всякой цели, они сказали, что с’ездят одни. А я вздохнула с облегчением.
В канцелярии день проходил медленно. С тоской ожидала, когда все кончится. Не могу видеть знакомых лиц.
Потом шла домой пешком. Трамваи не ходят. Нарочно стараюсь промочить ноги и простудиться. Распахнула пальто. Ветер гнилой, сырой, и на улице слякоть. Чувствую, что поднимается тупое наслаждение от того, что, наверное, теперь заболею и умру. Наверное, наверное! Ноги промочены, и в горло надуло.
На Каменноостровском поравнялась с улицей, где находится Петропавловская больница. Пугливо остановилась. Там – папа. Зайти бы надо. Но как я устала, как устала! Не могу, не могу… Пойду.
Почему-то дверь в квартиру, против обыкновения, не заперта. И сразу от этого шаги стали осторожнее. Вхожу тихо… Какая мертвая тишина в доме! И электричества еще нет. Темно. Наверное все сидят в комнатах… Ах, нет, – мама на кухне. Почему же она не шевелится и не встречает меня? Сложила руки на колени и наклонила голову.
Замирающими шагами подошла поближе. Вдруг мама приподняла голову и скользнула по мне взглядом. Какое безобразное, опухшее от слез лицо, и глаза совсем безумные! Посмотрела секунду на меня и опять приняла прежнее положение. А на полу, около ее ног, прикорнул Борис. Он даже не взглянул на меня.
Не решилась ее спросить ни о чем. Вся оцепенела, осторожно открываю дверь в комнату. Сережа лежит на диване ничком и не повернул на мои шаги головы. И его не решаюсь спросить. Прошла мимо дивана и села в углу.
И вдруг Сергей завозился. Сразу вся напряглась, как струна. Он уже говорит:
– Папа умер ночью.
* * *
Не помню, что было за этими словами. Кажется, билась в судорогах на полу и выла, как зверь. Пришла в себя от огромной, страшной боли в сердце. Поднялась на коленях на полу. Да, да, он умер, затравленный нами! Даже умирать в больницу выгнали. Это все мы, мы, мы!.. Нет, это я, я! Я виновата в том, что он умер! Опять упала на пол и уже по-человечески мучительно закричала:
– Прости, прости, папочка милый! Прости, прости!
Кажется, пыталась разбить голову о пол и в безумном ужасе все кричала:
– Прости, прости, прости, прости, папочка милый, милый!..
Надо мной стоял Сергей и тряс за плечо: «пощади маму, пощади», – хрипел он, а я ничего не понимала и кричала:
– Прости, прости, прости…
* * *
Потом сидела в углу и смотрела, как двигалась по комнате мама. Она была без лица… Зачем-то копошилась у стола. Потом будто по воздуху поплыла ко мне:
– Садись обедать…
– А он меня не простил?
– Да полно тебе, дурочка!
Она повела меня за руку и посадила за стол.
* * *
Потом, кажется, спали, а я не спала. Все слушала свое сердце. Оно стучало:
– Не простил, не простил, не простил…
5 декабря.
Мама и Сережа утром пошли в больницу. Я очень хотела пойти с ними и не смела попроситься. Они ушли, а я осталась с Борей. Боря плакал, а я смотрела на него и молчала.
Потом пришли мама и Сережа, а с ними Митя и Тонька. Господи, Митя курит! Достал из кармана два фунта хлеба и денег еще. Подает маме:
– Это вам на мясо.
А потом… потом заложил нога на ногу и курит. И лицо сытое, как всегда. Как он может? Как может? Слышу, он говорит:
– Феюша, я сегодня ничего не пил. Поставь самоварчик.
* * *
А за чаем Митя вдруг спрашивает маму:
– Как же это он скоро так?
У Сережи сурово сдвинулись брови, а мама всхлипнула:
– Да, да, словно пошутил с нами… Вчера свезли, а сегодня умер. И вдруг она запричитала:
– Ах, Митенька, если бы я знала, разве бы я…
И сразу, точно чего-то испугавшись, оборвала.
Я поняла, почему она оборвала. Ага!.. «Если бы я знала». Да, да, и она виновата. Он и ее не простил.
Посмотрела ей в глаза с внезапно вспыхнувшей ненавистью. И она тоже поняла. Я видела, как она жалко смутилась, как задрожала губа и наполнились слезами глаза. Так и надо. Так и надо. Зачем мучили его?
* * *
Вечером нужно было перемыть кухонную посуду. Захватила полотенце и пошла на кухню, но перед дверью остановилась и задрожала в безумном страхе перед мыслью, что одной придется быть в кухне.
Закусив до крови губы, вошла. Кухня крохотная. Все углы ярко освещены электричеством, но в глаза бросилось черное окно. Какое оно черное! Опять задрожала. Повернулась спиной к окну и лихорадочно начала перемывать посуду.
И вдруг от новой мысли зашевелились волосы на голове и стали приподниматься. Там в черное окно смотрит папа. Знаю, знаю. Да, да, он смотрит на меня, на мой затылок. Он не простил меня.
И против воли стала медленно оборачиваться через плечо на черное окно. Неужели, неужели он смотрит в окно?
– Ааааа…
Тарелки со звоном полетели на пол. За окном, в черном воздухе, висит, весь в белом, папа, как подвешенный. Смотрит, смотрит! И длинный какой…
Из комнаты послышался голос. Я, не помня себя, бросилась туда. Митя сидит, заложив нога на ногу, и спрашивает:
– Чего ты орешь там? Поди, все перебила…
– Там… там папа… Он не простил меня…
– Не мели, Феюша, в наш век привидений не водится.
А когда мама хотела положить Митю и Тоню на папину постель, они отказались и предпочли переночевать на полу.
6 декабря.
Сегодня папу хоронили.
С утра пошли в больницу и долго его искали. Ходили в мертвецкую. Там все лежат голые покойники: мужчины и женщины вместе. Набиты на полках, свешиваются ноги, руки. У одного рука большая и широкая, как грабля, и с синими ногтями. А в другой комнате свалены прямо на полу. Куча почти прямо до потолка. Даже ходить нельзя. Наступила на какую-то женщину с огромным, голым животом. А в животе что-то заурчало. Митя ходит между покойников. Дергает их за головы, за ноги. Едва нашли папу.
У мертвого папы тоненькая, тоненькая круглая шейка. Прямо детская. Как увидела эту шейку, так и заплакала. Господи, какая тоненькая шейка!.. Лицо даже приятное и спокойное. Волосы мягкие, как у ребенка, и растрепались все. Опустилась перед ним на колени и стала целовать эти волосы. Какая тоненькая шейка…
Потом положили в гроб и повезли на маленьких саночках. Он легкий. Я никому не давала везти. Везу по улице, а трамвай звонит, и идут черные люди.
Привезли в церковь. Я совсем не плачу, а мама рыдает, даже священник, кажется, посмотрел с любопытством. А папа высовывает голову из гроба, и у него тоненькая, тоненькая шейка.
Поют: «Идеже несть болезни, печали, воздыхания, но жизнь бесконечная»… А почему он не простил меня? А зачем так рыдает мама? Ах, да, да… Он и ее не простил. Потому такая тоненькая шейка. Он тогда просил остаться с ним, а я не осталась. Господи! Уже кончилась панихида…
Вздрогнула и как будто очнулась. Ревнивым взором слежу за мамой. Как-то она сейчас будет прощаться с ним? Подходит, подходит она… Наклонилась… И страшно, мучительно закричала. Смотрю протягивает губы… Господи, какая она!
И тут-то, в последний раз, целует папу не в губы, а в венчик! Как я ее ненавижу!
Слышу Сергей говорит:
– Фея, простись.
Да, да, я сейчас поцелую прямо в губы. Не как мама. Он простит меня. Смутно чувствую, как меня подводит Сергей. Наклонилась над ним, а у него один глаз приоткрыт, и строгая гримаса на губах. А шейка, шейка, Господи!.. Ах, я его поцеловала тоже в венчик. Не могу, не могу в губы. Он не простил, не простил меня!
Как обезумевшая, бросилась вон из церкви. Отбежала и смотрю на церковные двери. Сейчас его будут выносить.
Папу понесли к могиле. Мама идет прямо за гробом и вся сгибается и падает. Но ее держат под руки. И рыдает, рыдает. А я иду издали.
Потом, кажется, все бросали землю в могилу, и я как будто бросала. А потом пришли домой и стали обедать.
7 декабря.
Да, папа не простил меня, не простил.
Поднялась сегодня рано и вышла на службу в 8 часов. Еще темно и в высоком небе блестят звездочки. За ночь выпал снег и пушистыми шапками осел на столбах домовых изгородей. По горизонтальной перекладине тоже обвисла пушистая белая бахрома и синими блестками искрится под звездочками. И белые шапки на темных столбах тоже искрятся. С Первой линии доносится грохот раннего трамвая.
Темным, молчаливым переулком свернула к трамвайной остановке, и сразу заблестели яркие огни вагона. Через освещенные стекла видны черные спины. Взошла на площадку и отшатнулась. Из яркого вагона пахнет мертвецами, как там в мертвецкой.
Поднесла к носу платок, а запах пробивается через платок. Затошнило и закружилась голова. Выбежала обратно на улицу и пошла пешком.
В канцелярии тоже весь день пахло мертвецами. Перед окончанием работ робко спросила Марусю:
– Маруся, здесь ничем не пахнет?
– Нет, а что?
– Да так, кажется, воняет… селедкой.
Обратно ехала в трамвае, тоже пахло. Но дома противного запаха нет.
Ели похлебку молча. Мама тихо и нудно плакала. Я чувствую, что она странно смотрит на меня, когда думает, что не вижу ее. А как взгляну я, она отвертывается. Если она пойдет на кухню, я пристально смотрю на ее затылок тяжелым, ненавидящим взглядом…
Сергей Малашкин
Сергей Иванович Малашкин родился в 1888 году в деревне Хомяково, ныне Данковского района Липецкой области. Его перу принадлежат романы «Две войны и два мира», «Записки Анания Жмуркина» и др. Наиболее известным произведением этого автора является повесть «Луна с правой стороны, или «Необыкновенная любовь»». Умер в 1988 году.
Литературная энциклопедия 1932 года обвинила Малашкина в том, что изображение революционной эпохи дано им «с позиций повышенного и болезненного интереса ко всякого рода темным сторонам и извращениям бытового порядка».
Больной человек
Повесть эту посвящаю Н. И. Смирнову и Е. И. Короткому
…Как волхвом поражённый, Стоит недвижим; на брега Глаза вперив, не молвит слова, И через челн его нога Перешагнуть уже готова. А. ПушкинI
На окраине одного уездного города, почти около самой станции, в полуподвальной пивной было пусто. Только хозяин, небольшого роста, коренастый, с удивительно угловатой головой, закинув за спину руки, прогуливался по залу. Он из-под низкого, грубо-обрубленного лба бледно-зелёными глазками, украшенными белобрысыми веками и бровями, злобно кидал взгляды под столы, стулья, на окурки папирос и цигарок, да то и дело перекатывал через толстую оттопыренную губу хриповатые слова:
– Это… А это…
Тонкий, как жердь, подросток-мальчишка метался по залу и мочальной шваброй вытаскивал из-под столов окурки папирос и цыгарок…
– Скотина, – прохрипел хозяин и взмахнул тяжёлой рукой.
Мальчишка, чтобы не получить оплеухи, дёрнулся под стол и там застыл.
В эту минуту шумно открылась дверь, и вошли два человека. Хозяин мягко прошелестел за буфет, вежливо поклонился вошедшим, и на их приветствие ласково ответил:
– Прошу садиться.
Гости прошли в уголок зала, положили под небольшой столик две корзиночки, сняв фуражки, сели друг против друга и стали обтирать вспотевшие лбы.
– Пётра, – сказал вкрадчиво хозяин мальчику и кивнул головой на гостей.
– Что прикажете? – спросил Пётр.
– Дайте парочку, – ответили оба вместе.
Пётр подал пиво. Хозяин перебирал папиросы в стеклянном шкафу. Канарейка в жёлтой клетке щёлкала конопляное семя и шелуху неизменно выкидывала на пол. Оба человека, глядя друг на друга, молчали. Только одна канарейка нарушала тишину полуподвального зала.
Так прошло несколько минут.
– Выпьем, – сказал один человек другому.
– Выпьем.
– Давно не видались.
– Да, довольно давно…
– Как это мы с тобой встретились, а? Прямо неожиданно. Я тебя считал уже расстрелянным, а ты, на – вывернулся.
Человек тоскливо улыбнулся углами губ, беспокойно взял стакан и, глядя куда-то большими синими глазами, глухо проговорил:
– Выпьем.
– Со свиданием, Андрей.
Стукнулись и залпом опростали стаканы.
– Ну, а как ты, Евгений? – всё так же глядя в сторону, спросил Андрей.
– Я? Да ничего… Ну что мне может сделаться, – ответил Евгений, и его круглое красное лицо расцвело улыбкой, и небольшие прищуренные глазки тёмно-коричневыми вишнями забегали по лицу Андрея.
– Ну, что же, давай ещё, – предложил Евгений и обратился к Петру, – ещё парочку.
– Да-а, – протянул Андрей, – ты всё таким же остался, каким и был…
– Таким, таким, ей-богу, таким… даже немного поглупел, – и снова расплылся в улыбку.
– Итак, за встречу и…
Андрей повернул голову, обежал глазами пивную, несколько минут постоял на сутулой широкой спине хозяина, разглядел с ног до головы Петра и остановился на картине. Картина изображала небольшое озеро, окруженное густым лиственным лесом. На поверхности озера жёлтыми звёздами горели ненюфары, ворохом рассыпанного серебра трепыхался опрокинутый месяц, а вокруг месяца, поднимая голубые струи воды, кружились обнажённые женщины. Было на картине шумно, весело. Из-за дерева на хоровод женщин и на серебро месяца жадно глядела страшная рожа лешего.
– Леший, – прошептал Андрей и задрожал.
– Ты что? – спросил тревожно Евгений и тоже посмотрел на картину. – Намалюют…
– Ты не в партии? – спросил неожиданно и всё так же шёпотом Андрей.
– Нет, – ответил Евгений и, подумав, добавил, – за церковный брак исключили.
– А ты веришь?
– Нет, а так как-то вышло, по привычке…
– А я в партии, – тяжело проговорил Андрей, – и верю…
– В бога?..
Андрей дёрнулся, дрожащими пальцами взял с пивом стакан, жадно выпил, поставил стакан на место, резко и зло уставился на Евгения и долго шевелил губами.
– Это ничего, – сказал Евгений и тоже выпил, – мы народ русский, странный. Мы иногда бога об дорогу, а иногда от чирья молебны служим…
– Да-а, – протянул Андрей и отвернулся, – не в бога, а в чертовщину.
– В чертовщину? – удивился Евгений и расплылся в улыбку. – В чертовщину, говоришь?
Евгений от улыбки перешёл в хохот. Его маленькие глазки совершенно пропали в жирных веках. Он колыхался всем телом. От его тела поскрипывал старый венский стул. Заметалась в клетке привыкшая к шуму пивной канарейка. Хозяин отвернулся от шкафа и, глядя на Евгения, тоже расплылся в улыбку. А Пётр отставлял как-то особенно смешно зад, подёргивал коленками, издавая странные телячьи звуки: бе-бе.
Евгений, чуть-чуть приоткрывая глазки, спросил:
– Так, говоришь, в чертовщину?
Андрей дёргался плечами, схватывая зубами нижнюю губу.
– Ха-ха… – гремел Евгений. – И ты думаешь, я тебе поверю… Ха-ха…
Под синими, глубоко запавшими в орбиты, глазами Андрея бились две тонкие, похожие на червячков, тёмные жилки. Андрей что-то силился сказать, но ничего не сказал, так как в эту минуту отворилась дверь и в пивную шумно ввалилось несколько посетителей. Андрей съежился, вдавил голову в плечи и робко запрыгал жилками. Евгений тоже перестал хохотать. Он вытер платком влажное от смеха лицо, посмотрел на вошедших.
– Да-а… ну и смешон ты, Андрей, ей-богу, – сказал ласково Евгений и наполнил стаканы.
– Выпьем.
– Я и сам не знаю, что такое со мной творится, – ответил Андрей.
– Да-а.
– Вот уж два месяца не даёт мне покоя эта проклятая чертовщина.
– Не понимаю я тебя, Андрей. Ты просто, как я вижу, болен…
– Возможно. Так, слушай, я тебе расскажу. – И Андрей поднял стакан и выпил.
– Наливай.
С буфета что-то рванулось, зашипело и с хрипом закружилось по залу, а потом из хрипа поднялся, зарыдал пропитый женский голос:
Сухой бы я корочкой пита-а-а-лась, Холодную воду бы пила, Тобой бы, мой милый, наслажда-а-а-лась, И век бы счастлива была… …И э-эх…И на этом голос крякнул и затерялся в поднявшемся хрипе.
Кто-то из гостей крикнул:
– А граммофон-то у вас, хозяин, того, подгулял.
– Есть маленько! – ответил хозяин и переменил пластинку.
II
Граммофон хрипел, откалывал:
С ярмарки ехал ухарь-купец, Ухарь-купец, удалой молодец…А под ухарь-купца рассказывал Андрей:
– Жизнь моя, Евгений, после фронта странно потекла, в особенности за последнее время. За это время я нигде не могу найти себе покоя, меня всюду преследует проклятый рок. Меня ничто не удовлетворяет. По ночам я вижу страшные сны, от которых вскакиваю и ору, как сумасшедший…
– И ты веришь в сны?..
Андрей дёрнулся.
– Да. Я даже потерял грань сна и яви. – И он дрожащими пальцами полез в карман френча, достал небольшой клочок бумаги, сложенный вчетверо, и подал Евгению. – На.
Евгений развернул клочок бумаги и прочёл:
МАГАЗИН
ИСААКА ШАПИРШТЕЙНА
______________________
Адрес:
гор. Москва, Кузнецк, мост,
дом №…
______________________
7/IX 1913 г.
ПОКУПКА и ПРОДАЖА
СЕРЕБРА, ЗОЛОТА И БЛАГОРОДН. МЕТАЛЛОВ
СЧЕТ
Господину В. В. Вахмистру.
Проданы серебряные часы
с однонедельным заводом • •
1 шт. 37 р. 30 к.
Деньги получил сполна
за Исаака Шапирштейна
Яков Кроль
Евгений улыбнулся, сложил счёт и подал обратно Андрею.
– Ничего особенного.
На лице Андрея вместо улыбки – искривлённые губы да белизна оскаленных зубов.
– Ничего особенного.
– Конечно.
Андрей нервно задёргал острыми плечами, а по его лицу, в особенности под глазами, затрепетали тёмные жилки. Когда жилки успокоились, Андрей наклонился ниже над столом и мутными глазами уставился на Евгения. Евгений согнал со своего лица улыбку и взглянул на Андрея. Он никогда не видал Андрея таким, как сейчас, правда, он его видал очень редко: в год раз или два, не больше, – это после демобилизации. А до демобилизации – в полку, на фронте, – спали вместе, в одном логове, как любил выражаться Андрей. Сейчас Андрей был особенный. Он находился на грани какого-то неизвестного мира, особого, и в этом особом, неизвестном Евгению мире как-то странно, по-особому он, Андрей, жил. И мир этот был и жуток и страшен. От такой мысли Евгений вздрогнул, тяжело и неожиданно для самого себя выбросил вопрос:
– Неужели? – и вскинул коричневые глазки.
Андрей, держа над столом на тонкой исхудалой шее бледно-серое лицо с мутно-синими глазами и с трепыхающимися тёмными жилками, таинственно шептал в лицо Евгения, обжигая его горячим дыханием:
– Да, да… Это верно… Это было два месяца и один день тому назад…
– Даже и один день? – спросил Евгений и откинулся на спинку стула от горячего дыхания Андрея.
– И один день…
И Андрей заиграл длинными высохшими пальцами над столом так, что на стене запрыгали причудливые живые столбики теней. Они танцевали какой-то жуткий танец и тоже что-то рассказывали.
– Это было ночью, я спал…
– Спал?
«Это было ночью, и он спал», – шептали тени столбиков со стены.
А пальцы Андрея шелестели и похрустывали.
– Слышу, около моей избы остановился кто-то, но никак не могу проснуться и посмотреть, а только слышен стук в окно.
– Здесь живёт Андрей Завулонов, бывший комиссар по борьбе с дезертирством?
Я быстро вскакиваю с постели, открываю глаза и влипаю в окно – никого, только слышу за окном топот и храп лошадей и успокаивающий рык кучера;
– Стой, стой, удалые… р-ррр…
– Кто здесь? – спрашиваю я.
– Я, – отвечает незнакомый голос, – разве не узнаёте?
– Нет, – отвечаю я.
– Выходи, – крикнул он.
Я быстро накинул на плечи пиджак и вышел на улицу. Смотрю – темь страшная, хоть глаз выколи.
– Здорово! Не узнаёте? – спрашивает меня из тьмы голос.
– Нет.
– А вы посмотрите на меня.
Я посмотрел.
– Ну, теперь узнали? – спрашивает он.
– Никак нет, – отвечаю я, – не могу признать.
– Я – вахмистр, – говорит незнакомец и осыпает меня весёлым, немного хриповатым смехом.
– Вахмистр, – повторяю я и думаю: кто бы это такой был? У меня, кажется, таких знакомых не было.
А он, незнакомец, всё весело смеётся и всё громче и громче. И лошади тоже из упряжи рвутся, храпят – вырваться желают. А ночь тёмная, страшная, а в её тьме совы крыльями хлопают да изредка с испуга стон издают: «Ээх! Ээх!» От совиного стона мгла вздрагивает и движет огромными крыльями.
– Так и не узнаёте? – повторяет он. – Ну, ладно, я уж вам скажу: я тот самый вахмистр, которому вы дали покурить.
Тут уж я узнал его и тоже весело рассмеялся:
– Узнал, узнал, – говорю. И предлагаю: – Не изволите ли, мол, ещё закурить?
– Нет, – отвечает он и вежливо берёт меня за руку.
– Так вы будете тот самый вахмистр? – спрашиваю я и ставлю ногу на подножку открытой коляски.
– Да, – отвечает он кивком головы.
– Вы страшно изменились; если бы вы не сказали, что я вам дал покурить, я вас ни за что бы не узнал.
– Вы правы, – ответил он, – я теперь на советской службе служу.
– На советской? – удивился я и повернул в его сторону голову.
– Да, на советской, – ответил он и подтолкнул меня в коляску. – Садитесь, а то поздно.
Я сел. Рядом со мной поместился и он, вахмистр. Коляска, наверное, была старой, подержанной, закачалась из стороны в сторону, заворчала на свою судьбу. И я слышал, как вахмистр даванул её каблуком сапога и как крикнул: «Не скули, скоро сдам на слом».
– Так вы спецом теперь? – любопытствовал я.
– Да, спецом, – промычал вахмистр и толкнул в спину кучера. Кучер дико взмахнул руками, крякнул как-то по-гусиному:
– Га-а! – и лошади взвились на дыбы, рванули и пошли писать по селу, мимо гумён, через сад и прямо на Крутое, – это гора такая у нас есть, – и на большак…
– Как же, эту гору я хорошо знаю: она от меня тридцать вёрст, – сказал Евгений и тяжело завозился на стуле, вытер платком вспотевшее лицо.
Гости, оставив пиво, внимательно слушали Андрея. А Андрей играл, быстро шевелил над столом пальцами, тень от пальцев прыгала и металась на стене. Андрей, жарко дыша, говорил:
– По большаку мы не ехали, а вихрем летели, так, что над нашими головами стоял страшный шум и свист, словно тысячи всевозможных голосов слились в одни поток, и этот поток гнал нас. В ушах стоял гул и свист. Я обратился к вахмистру, а вахмистр, ощерив редкие зубы, подталкивал в спину кучера и что-то рычал.
– Позвольте вас спросить, – обратился я, – что такое так сильно над нами шумит и свистит?
Вахмистр повернул голову в мою сторону, ощетинил, рыжие усы, задвигал редкими зубами:
– Этого вам не надо знать!
– Это почему? – возмутился я.
Вахмистр ещё больше ощетинил усы и заскрипел зубами.
– Почему?!
– Да, – ответил я и тоже повернул лицо в его сторону и оскалил зубы. Вахмистр хрипло рассмеялся, похлопал ладонью меня по колену:
– Простите, – говорит, – я и забыл, что вы герой, и то, что вы дали мне тогда покурить.
И громко захохотал, даванул палкой в спину кучера. Кучер крякнул:
– Га-а! – и лошади рванули, вытянулись – и всё замелькало.
Я чуть было не вылетел из коляски.
– Держитесь! – крикнул мне вахмистр.
Я уцепился за край коляски. Свист и шум далеко остался позади и там жалобно подвывал:
– Вфью… Вфью…
Но вот лошади пошли тише, и шум и свист через несколько минут снова нас нагнал и потоком залил.
– Так кто же это шумит? – спросил я вторично.
– Кто шумит? – переспросил вахмистр. – Ведьмы.
– Ведьмы? – удивился я. – Да откуда они? Да разве теперь водятся ведьмы?
Вахмистр снова рассмеялся:
– Теперь-то? Теперь-то их гораздо больше, – и он поднял голову и указал: – Видите, их сколько!
И, действительно, ведьм был целый рой. Несколько штук пронеслось низко-низко над нашими головами. Одна даже немного задела меня помелом.
– Не поднимайте высоко голову, а то глаза вышибут, – сказал сердито вахмистр.
Я склонил голову, втянул её в плечи, спрашиваю:
– Ведьмы?
– Да, – ответил вахмистр и строго сказал, – тут из каждого села и из каждой деревни по одной штуке.
– Куда они летят? – спросил я.
– Куда?
– Да, – ответил я и ещё раз взглянул кверху, а ведьмы шумят и свистят.
– Осторожнее! – закричал вахмистр. – Летят они никуда: нас провожают. Они сейчас вернутся обратно…
– А мы? – перебил я вахмистра.
– Мы – в Москву.
– В Москву? – удивился я и посмотрел в лицо вахмистра. – Это зачем?
Вахмистр не ответил. Он был в эту минуту страшно задумчив и как-то особенно сверкал глазами.
Мимо нас летели поля, реки, озёра, леса, сёла и деревни, а сколько их пролетело, мне неизвестно.
– Вот и Москва, – промычал вахмистр и стал охорашиваться. – Сейчас въезжаем в Калужскую заставу.
И верно, показались трубы заводов и фабрик и маковки церквей, а главное, трепыхающиеся огни: они то пропадали, то вновь появлялись.
Перед въездом в заставу шум и свист отстал и был далеко позади, и только летело нам вслед прощальное:
– Вфью… Вфью…
Но вот и это «вфью» пропало, и над нами, вместо чёрных лохматых пятен, робко заиграли маленькие точки звёзд, и мы влетели в Москву…
Один из гостей стукнул стаканом о бутылку. Андрей вскинул голову, потёр виски и снова заиграл пальцами.
По стене от пальцев опять запрыгала тень.
Кто-то сказал:
– Тише.
Хозяин пивной вышел из-за буфета и, облокотясь на него спиной и отставив вперёд брюхо, внимательно слушал, и, когда Андрея перебили, он прохрипел:
– Тише!
В пивной было и без этого тихо, разве только нарушала тишину беспокойная канарейка в жёлтой клетке.
Евгений тоскливо обвёл глазами гостей, жирную фигуру хозяина и тоже сказал:
– Тише!
А затем грубо хозяину:
– Уберите птицу, она шумит.
Хозяин не двинулся ни одним мускулом. И только было качнулся в левую сторону Пётр, но, встретившись с маленькими бледно-зелёными глазками хозяина, немедленно восстановил своё первое положение и прошептал, вернее, прошелестел себе под нос:
– Тише!
– Да, пожалуйста, потише, – сказал Андрей и задёргал плечами, а когда кончил подёргивать, заговорил:
– Полетели по Москве.
– К ресторану «Хоровод», – крикнул вахмистр кучеру и толкнул его в спину палкой.
Кучер взмахнул головой и выдавил:
– Га-а!
И мы были у «Хоровода». Я вежливо обращаюсь к вахмистру:
– Товарищ вахмистр, вы знаете, что в Советской России рукоприкладство отменено и, кажется, очень строго карается?
Вахмистр довольно серьёзно посмотрел на меня.
– Ну, как же мне не знать, – ответил вахмистр и засмеялся. – Идёмте.
И мы пошли, оставив тройку и кучера у подъезда.
Отражаясь в зеркалах, мы вошли в ресторан по мраморной лестнице. Не успели войти мы в зал, как к нам подлетело несколько служителей, склонили головы и услужливо, даже более услужливо, чем раньше, в старое время:
– Что прикажете? – и салфетками из подмышек, как веерами.
Вахмистр обратился ко мне:
– Вы что желаете?
– Я? – спросил я.
– Да, – ответил вахмистр.
– Что хотите, мне всё равно!
Вахмистр обратился к служителю:
– Для него, человек, дайте свиную котлету, а для меня приготовьте невинной девушки ухо.
Служитель всколыхнулся, вытянув из фрака тонкую шею, ещё ниже склонил голову и ещё более почтительно спросил:
– Будьте, ваша милость, любезны повторить?
– Болван! – бросил вахмистр и, желая заглушить это слово и рассеять впечатление, громко захохотал.
Служитель ещё ниже склонил голову.
Мы прошли за свободный столик. Сели. Мимо нас приторно шелестели шелками женщины, хищно заглядывали в наши глаза, но когда нам, вернее мне, подали свиную котлету, они, стыдясь за нашу скромность, проходили мимо нас с потупленными глазами…
– Вы, кажется, любите свиную котлету? – улыбаясь и играя небрежно белой перчаткой, спросил у меня вахмистр.
– О, да! – ответил я и стал жевать котлету, а он, вахмистр, откинулся на спинку кресла, закинул ногу на ногу и стал смотреть насмешливо на меня.
Так прошло несколько минут. А когда я съел котлету, вахмистр обратился ко мне:
– Прошу вас, товарищ, Завулонов, запомнить, что вы кушали свиную котлету и были в ресторане «Хоровод».
– Хорошо, – ответил я, – запомню.
Вахмистр вывернул из кармана френча новый советский денежный знак, поднял выше голову и крикнул:
– Человек!
Человек взметнулся с белой салфеткой. И мы вышли.
Сели в коляску, вахмистр толкнул палкой в репицу кучера.
Кучер выдавил:
– Га-а!
И мы понеслись по Москве, промахнули Воздвиженку, Грановскую.
– Вы, кажется, в этом доме жили когда-то? – показывая на 5-й Дом Советов, спросил меня вахмистр.
– Жил, и довольно порядочно, – ответил я и осмотрел на лету дом от фундамента до пятого этажа.
– Кажется, покрасили в розовый цвет?
– Да, в розовый цвет, – ответил вахмистр и закричал кучеру:
– Стой! Стой! Вези меня к Исааку Шапирштейну, на Кузнецкий Мост.
Кучер, не поворачивая головы, возразил:
– Магазин Исаака Шапирштейна закрыт.
– А мы на квартирку заедем, – сказал вахмистр и даванул палкой кучера.
Пересекли улицу Герцена, какой-то неизвестный мне переулок, Тверскую и очутились на Кузнецком.
– Тише! – бросил вахмистр кучеру и обратился ко мне:
– А вас прошу запомнить, как налились жители города Москвы жиром.
Я взглянул. И верно, жир женщин колыхался под шелками костюмов; жир мужчин колыхался под визитками, смокингами, костюмами.
– Вот и Исаак Шапирштейн, – сказал вахмистр, мы быстро вышли из коляски. Вахмистр нажал кнопку звонка, и через несколько минут перед нами распахнулась дверь парадного подъезда, и мы очутились в квартире Исаака Шапирштейна.
Квартира была заставлена мягкой голубой мебелью.
– Вы будете Исаак Шапирштейн? – спросил вахмистр и впился в него глазами.
– Нет, я не Исаак Шапирштейн, а я его законный зять, Яков Кроль.
– Та-ак, – процедил сквозь зубы вахмистр, – так вы говорите, что вы не Исаак Шапирштейн? – И вахмистр ощетинил усы, оскалил зубы. – Та-ак…
Яков Кроль стоял навытяжку. Яков Кроль бегал выкатившимися из орбит яблоками глаз, подёргивал крючковатым кончиком носа: нос у Якова Кроля был на кончике изогнут и походил на нос копчика, – птица такая имеется.
– А где же Исаак Шапирштейн? – спросил вахмистр.
Яков Кроль дернулся и показал рукой на комнату:
– Умер.
И верно, Исаак Шапирштейн лежал в гробу, а около гроба дежурила пожилая женщина и несколько молодых, все они, плача, шептали:
– Яков Кроль – законный наследник… Яков Кроль – законный наследник…
– Нам необходимо, нужно купить серебряные часы и обязательно у Исаака Шапирштейна, – резко и многозначительно сказал вахмистр.
Яков Кроль затанцевал.
– Я могу продать вам часы не только одни, а даже, если хотите, несколько штук. Я, Яков Кроль – законный наследник Исаака Шапирштейна, – и он показал на женщин и сказал:
– Они это самое тоже скажут: что я, Яков Кроль, – законный наследник Исаака Шапирштейна
– Да, да, он, Яков Кроль – законный наследник Исаака Шапирштейна, – всхлипнули в один голос женщины.
– Мне очень некогда, – сказал вахмистр. – У вас здесь, при квартире, имеются часы?
– Есть, – сказал Яков Кроль, и Яков Кроль обиженно пожал плечами. – Ну, как это может быть, чтобы у Якова Кроля, законного наследника Исаака Шапирштейна, для хороших господ не имелось бы часов на квартире! – и Яков Кроль подал коробку с серебряными часами.
– Вот эти, – сказал вахмистр.
– Слушаю, – ответил Яков Кроль и заметался по квартире.
– Только, пожалуйста, напишите счётик для памяти и обязательно с фирмой на счёте Исаака Шапирштейна.
Счёт был написан.
Счёт вахмистр передал мне и сказал:
– Храни на память… о Москве…
– А часы? – перебил Пётр.
– Ты… – прошипел хозяин.
Пётр испуганно закусил нижнюю губу и замер.
– Тише, – сказали гости.
Но Андрей не обратил никакого внимания, сверля глазами лицо Евгения и играя пальцами, он продолжал:
– Ну, всего хорошего, Яков Кроль, – бросил вахмистр, и мы направились к выходу.
– Так вы, гражданин, не забудьте, – крикнул Яков Кроль нам на лестницу, – что я, Яков Кроль, законный наследник Исаака Шапирштейна, умершего ныне ночью.
– Не забуду, – ответил вахмистр, и мы сели в коляску.
– Домой! – ощетинив усы, грянул вахмистр и даванул палкой кучера.
Кучер крякнул:
– Га-а! – и лошади влёт, и снова – жжжиии…
Скрылся Кузнецкий Мост, налитые жиром женщины, мужчины, Калужская застава, трубы фабрик и заводов. Снова замелькали деревни, сёла, небольшие города. Снова послышался над нашими головами шум и свист ведьм, а выше, за чёрными ведьмами, редкие звёзды.
– Вфью… Вфью…
– Радуются, – сказал вахмистр и повернул голову ко мне. – Вы хорошо знаете, что вы, бывший комиссар по борьбе с дезертирством, а ныне просто Андрей Завулонов, были со мной в Москве, обедали в первоклассном ресторане «Хоровод»?
– Помню, гражданин вахмистр, – ответил я и повернул голову к вахмистру. Усы в это время у вахмистра стояли торчком, ноздри, как у загнанной лошади, широко раздувались, а глаза то и дело сыпали искры.
– Вы, Андрей Завулонов, помните, что мы с вами были на квартире Исаака Шапирштейна?
– Так точно, гражданин вахмистр, – ответил я.
– А счёт с фирмой Исаака Шапирштейна у вас в кармане?
– В кармане.
Вахмистр поднял голову, подался от меня немного в сторону, взглянул мимо спины кучера на восток, где должен был в скором времени появиться рассвет, даванул палкой в спину кучера:
– Торопись, скотина!
Кучер дёрнул широкими плечами, выдохнул из груди «Га-а!», шевельнул вожжами, и лошади рванули, и пулями – жжжиии…
И только над нами свист рассекаемого воздуха, да далеко позади тревожный клёкот и шум ведьм.
Вахмистр снова спросил у меня:
– Так, говорите, что счёт на часы у вас в кармане?
Я слазил в карман, пощупал пальцами бумажку и утвердительно ответил, что счёт Исаака Шапирштейна на часы у меня в кармане.
– Хорошо, – сказал вахмистр и захохотал.
Хохотал долго и хрипло. Хохотал и захлёбывался в хохоте, словно гром в далёких облаках. Но где-то пропел жалобно петух, и вахмистр сразу затих, съёжился, только усы ощетинились больше и торчали, как иглы.
– Скотина! – даванул он кучера и, скаля редкие зубы, обратился ко мне:
– Я должен с вами, Андрей Завулонов, распрощаться.
Мне стало как-то сразу нехорошо, а к сердцу подползла какая-то густая жуть и обмазала всё сердце, так что оно чуть-чуть, с большими перебоями отбивало «тук-тук».
– Распрощаться? – переспросил я, – Это как же, не доехав до дома…
– Нет, – сказал вахмистр, – я вас довезу до горы Крутое, до ветел, возле которых ваши Птанские ведьмы по ночам устраивают пляски. Так вот мимо этих ветел поеду я очень быстро, поеду я под самыми ветлами, а вы в это время должны ухватиться за какую-нибудь ветлу и остаться.
– Это как же? – возмутился я. – Разве можно на всём скаку?
– Можно! – засмеялся вахмистр и добавил: – Если этого вы не сделаете, то погибнете.
– Это как?
– Стойте, стойте! – перебил меня вахмистр. – Вы знаете, кто я?
– Вы – вахмистр, которому я дал покурить.
– Нет, я не вахмистр, которому вы дали покурить, – ответил вахмистр, – я чёрт.
Я посмотрел на вахмистра.
– Вы чёрт?
А он мне спокойно:
– Чёрт.
Я ещё раз посмотрел на вахмистра: вахмистр трясся всем своим телом – хохотал. Мне стало жутко. Я почувствовал, как по моему телу побежали стада мелких холодных насекомых, а фуражка поднималась кверху – вот-вот улетит.
– Так вы не вахмистр? – спросил я ещё раз.
Вахмистр ткнул палкой в спину кучера:
– Вот вахмистр.
Кучер гавкнул и показал мне своё лицо.
В кучере я узнал настоящего вахмистра, которому я дал покурить.
– Узнали? – спросил чёрт.
– Узнал, – прошептал я.
Чёрт пододвинулся ко мне, наклонил голову и стал мне шептать в ухо:
– А вы знаете, на ком вы едете?
– Никак нет.
– Вы едете на председателе волисполкома, на секретаре волисполкома и на заместителе председателя волисполкома, – и чёрт показал на лошадей.
– Председатель у меня за коренную.
– Не может быть! – выкрикнул я. – Я вчера ещё только с ним разговаривал о местном бюджете.
– Это верно, – сказал чёрт, – вчера он с вами разговаривал о бюджете, а нынче ночью он удавился в риге на перемёте, а за ним и остальные двое…
Я даже привскочил, замахал руками, закричал:
– Этого не может быть… Что за причина?
Тут чёрт хихикнул, потёр от удовольствия руки и громко сказал:
– Бюджетик пропили.
– Пропили?! – выдавил я и взглянул на чёрта.
– Да, пропили, – ответил чёрт. – Теперь я вот с вахмистром на них и езжу…
Тут Андрей как-то странно прервал свою речь и стиснул зубы.
– Ну? – вздохнул Пётр и вытянулся вперёд к столу.
– Ну? – вздохнули слушатели.
– Тише, – сказал Евгений.
Андрей молчал и только жадно смотрел мутно-синими глазами в одну точку – в лицо Евгения. Возможно, он не видал лица Евгения, а видел мглу и звёзды, и щетинистые усы вахмистра, и его редкие оскаленные зубы, а возможно, он видел что-нибудь совершенно другое, неизвестное Евгению, играл, шелестел сухими пальцами, от которых на стене прыгала столбиками тень, бился тёмными жилками лица и изредка подёргивал острыми плечами.
Так прошло несколько минут.
Все находились в каком-то странно-жутком сне.
Даже канарейка притихла, села на жёрдочку, высунула в решётку головку и посмотрела на стол, за которым сидели два приятеля, и стала внимательно слушать.
Андрей шевельнул губами, облизал языком с губ сухость и накипь и вяло зашептал:
Чёрт заговорил гораздо тише, забеспокоился:
– Вы видите вон то белое пятно?
– Вижу, – ответил я.
– Это – гора Крутое.
– Крутое? – переспросил я и тоже забеспокоился.
– Да, Крутое, – сказал чёрт и, показав на кучера, добавил.
– Нужно вам, Андрей Завулонов, приготовиться… будьте готовы.
– Да, да… – пролепетал я и задвигался в коляске.
Вот и гора Крутое, и знакомые ветлы под горой. Чёрт, не доезжая до горы, даванул палкой кучера. Кучер гаркнул:
– Га-а! – и лошади вздыбились, так что огонь из-под копыт.
От такого бега у меня спёрло дыхание. Я вытянул руки и приготовился к прыжку. Первые ветлы влажными ветвями хлестнули меня по рукам и по лицу. Я как-то странно съёжился, сжался и приготовился.
– Скорее! Скорее! – заметив моё движение, торопил меня чёрт и похихикивал надо мной.
Я остановил сердце и кошкой рванулся к широким лапам ветлы, схватился одною рукою за лапу ветлы и повис было на ней, но воздухом коляски, вырвавшейся из-под меня с ураганной быстротой, подбросило заднюю часть моего тела в сторону, и я, под дикий хохот чёрта и крик кучера, со страшным треском повалился на землю.
– Ну? – спросил кто-то из слушателей. Андрей замолчал, обвёл мутными глазами слушателей, пожевал губами, а потом дико заорал:
– Это верно! Верно! Что вы на меня уставились? – И тут же затих, пожевал ещё раз сухими губами и скучно выплюнул:
– Все трое удавились.
– Удавились?
А Андрей всё так же спокойно и скучно:
– Чёрт на них разъезжает.
В это время дверь снова открылась, и в пивную вошли несколько новых посетителей. Хозяин пивной изменил положение тучного тела, переступил с ноги на ногу и прошелестел за буфет.
Пётр заметался от стола к столу.
Гости застучали бутылками и стаканами.
Андрей молчал. Он, как и во время рассказа, всё смотрел на Евгения, быстро работал пальцами, и его пальцы стучали друг о друга, как костяшки, и шелестели серой кожей.
На стене от пальца прыгала тень.
Евгений находился в каком-то тумане. Евгений вытер вспотевшее лицо, тревожно взглянул на замолкшего Андрея и устало попросил:
– Дайте парочку!
III
Густые сумерки вечера затянули пивную и гостей. В серой мгле вспыхивали глаза, возбуждённо встречались друг с другом. Хозяин пивной повернул выключатель, и серебряный свет наполнил помещение. Люди стали обыкновенными и скучными.
Кто-то из посетителей жаловался на свою судьбу и плакал:
– Эх, Ванько, разве это жисть? Не смотрел бы на неё!
А ему в утешение басил другой:
– Полно, Гришуха, ну, чем плоха наша жисть, а? Это, брат, того… А мне хорошо, можно сказать, само пиво в рот течёт… – и, тряхнув копной рыжих волос, посмотрел на товарища влажными от слёз глазами и сокрушенно добавил:
– Я, брат, жисть люблю, ей-богу, люблю… Она, брат жисть-то, один раз нам всего даётся, а потому пользуй её, сколь хошь…
– Оно конечно, – ответил Гришуха, – жисть – хорошая штука, но она иногда душит тебя, во! Даже прямо невмоготу…
– Оно так, – согласился Ванюха и обратился к хозяину…
– Хозяин, а хозяин?
– Что прикажете? – спросил хозяин и поднял бледно-зелёные глазки.
– Скучно. Заведи-ка музыку… Вяльцеву…
– Вяльцеву… Уж больно баба жалостливая, – сказал Гришуха.
Хозяин завёл граммофон. Граммофон зашипел, захрипел, а потом жалобно запел:
Очи карие, большие…
И медленно завертелись по залу кольцами звуки песни; опустились, поникли головы гостей; приятно затосковали сердца; а думы поплыли, помчались в далекое будущее, – это у молодых. А у пожилых, у которых впереди – ничего, думы поворачивали назад, в недавнее прошлое, и там бережно перебирали всё пережитое, внимательно осматривали его, перетряхивали, не пригодятся ли? А граммофон пел:
Куда вы скрылись, удалились, На век заста-авили страдать…И песнь была тосклива и длинна, а жизнь была ещё длинней и тоскливей. А в этой жизни, за стенами пивной, цвела на окнах серо-зелёная и терпкая на вкус герань; трепыхались на окнах дешевые кисейные занавески: сидя перед этими занавесками, жены занимались сплетнями, судили о соседях, а их взрослые дети под звуки роялей и пианино напевали романсы:
Ваши пальцы пахнут ладаном, На ресницах спит печаль, Ничего теперь не надо нам, Никого теперь не жаль.Так и сейчас в пивной, перед глазами гостей, с песней «Очи карие, большие» плавала, кружилась, куда-то текла современная обывательская жизнь, трудная и непонятная, оторвавшаяся от домашнего быта, развёртывалась, бросалась в глаза перед бутылками пива серо-зелёными цветами плесени. От этой жизни было жутко так, что падало и замирало сердце. И было чего-то жаль. Было жаль какую-то птицу, которая побыла в руках, пощебетала какие-то особенные песни, показала на один миг свои огненные перья и улетела. Да была ли в руках такая птица? Уверяют, что была. И вот об этой самой птице, под песню «жалостливой бабы» за бутылками пива тоскует уездная молодёжь. Под эту же самую песню за бутылками пива тоскуют и пожилые. Правда, пожилые тоскуют не о дивной птице, которая побыла и улетела, а о том, что у них ничего нет реального, ничего нет ощутительного под ногами; они тоскуют оттого, что старое ушло, а молодое не пришло, а если и пришло, то не для них…
– Да, – протянул тоскливо Евгений и поднял стакан с пивом.
– Выпьем.
Андрей вздрогнул, улыбнулся уголками тонких губ. Но из этого ничего не вышло – на губах Андрея была какая-то зелень вместо улыбки, и он тоскливо сказал:
– Выпьем.
– Противная музыка, – сказал Евгений, – всё нутро выворачивает и смазывает гнилью.
– Только смазывает, а у меня давно смазано, – сказал Андрей.
– Неужели ты веришь во всю эту чепуху, что ты рассказал? – спросил Евгений.
– Я?
– Да.
– Не знаю, – ответил Андрей и вытянул шею, задёргал плечами и заиграл пальцами. – Я только знаю одно, что и я держал в руках птицу…
– Птицу?
– Да. А кто держал в руках птицу и упустил её, тот не жилец…
– Это как?
Андрей ничего не ответил. Он только быстро шелестел над столом пальцами и неподвижно смотрел на Евгения. А граммофон всё пел и пел:
Очи карие, большие…
Гришуха с Ванькой плакали, целовались, жали друг другу руки.
– Наша жисть коротка-а… – тянул плаксиво Гришуха.
– Словно волны морские… – подтягивал ему Ванька.
– Словно волны морские… – повторил Андрей.
В это время со звоном упала со стола пивная бутылка. Андрей нервно вздрогнул, повернулся боком к столу, вскинул голову и влип мутными глазами в картину.
– Ааа! – промычал он и тут же затих.
Андрей отчётливо видел, как картина вылезла из тяжёлого старинного багета и легла на пол пивной, а через несколько минут ожила, раздвинула стены пивной, оттеснила слюнявые лица посетителей, а главное – хозяина, зазвенела, запела тёмно-зелёными волнами озера, зашумела лесом, окружавшим озеро. И он, Андрей, почувствовал на своём теле ласковые объятия волн, а на голове и на спине серебряную пыль месяца. Он нырял и плавал в тёмно-зелёных волнах озера, а деревья вершинами пели ему песни. Хорошие песни. А с самого большого дерева рассказывала ему о себе большая птица, та самая, что он, Андрей Завулонов, недавно держал в руках. Но вот кто-то свистнул, и большая птица взмахнула крыльями и взвилась высоко, под самый месяц, покружилась немного под месяцем – это она прощалась с ним и улетела, крикнув:
– Будь здоров!
Андрей вскинул руки, вытянулся и хотел было взвиться за птицей, взлететь, но он не взлетел, а быстро пошёл на дно озера и дико заорал:
– Оооо! Птица! Птица!
Столы, бутылки со звоном покатились на пол. Посетители повыскакивали из-за столов, шарахнулись в сторону, сбились в кучу и испуганно таращили глаза на Андрея. Хозяин тоже выскочил из-за буфета и тоже ошалел. Евгений от неожиданности так и остался сидеть на стуле. А Андрей метался по полу, валял столы, разбивал посуду и всё так же дико орал:
– Птица! Птица! Лови… Лови…
Хозяин пивной опомнился первым, рванулся к Андрею, хватил его за френч пониже ворота, приподнял кверху, тряхнул и поставил на ноги.
– Скотина!
Андрей хрипел:
– Леший… Леший… – и показывал на пол.
– Скотина! – рычал хозяин пивной. – Я покажу тебе лешего!..
Вмешался Евгений.
– Брось…
– А вы заплатите? – оскалив корешки зубов, прорычал на Евгения хозяин пивной.
– Вы разве не видите, что он больной человек…
– Вы все больные, – отпуская Андрея, прохрипел хозяин.
Андрей пробуждался, он возвращался из какого-то жуткого путешествия. Всё его тело тряслось, а зубы стучали. А когда возвратился, почувствовал, что у него под ногами не тёмно-зелёные волны озера, а самый обыкновенный пол, засыпанный осколками тёмного стекла, загромождённый перевернутыми столами и стульями; а над его головой не шум деревьев и не смех лешего, а хриплый скрежет хозяина пивной. От такого пробуждения Андрей вздрогнул и как-то болезненно съёжился, тупо обвёл глазами зал и, подёргивая острыми плечами и покачиваясь из стороны в сторону, медленно направился к двери и вышел из пивной.
Евгений бросился за ним.
– Не надо! – бросил Андрей и скрылся в мглу вечера. Евгений пожал плечами и вернулся обратно.
– Ну? – сверля глазками из-под тупо обрубленного лба, рычал хозяин пивной.
– Заплачу! Скажите, сколько это стоит?..
IV
Граммофон уже больше не орал, а спокойно смотрел трубой в открытую дверь. Хозяин был удовлетворён и приветливо смотрел из-за буфета на гостей.
Пётр, воображая себя взрослым человеком, важно прохаживался от одного стола к другому, перекидывался острыми шутками, анекдотами.
Кто-то из гостей громко рассказывал, как его чёрт катал в телеге, а слушатели громко ржали. К Евгению подошли два человека.
– Здравствуйте, – сказал один, что был помоложе, с едва только пробившимися усиками и с большими голубыми глазами.
– Мы, кажется, с вами знакомы, – сказал второй человек, на вид гораздо старше своего товарища, и, не дожидаясь ответа, бросил:
– Разрешите присесть за ваш столик?
Евгений вскинул глаза.
– Кажется, знакомы…
– Вы не были в штабе главнокомандующего фронтом, товарища Фрунзе? – спросил второй человек.
– Был во время Врангеля, – ответил Евгений.
– Вы помните один случай, когда главнокомандующий Фрунзе и несколько человек его штаба попали не в расположение своих войск, а в махновский полк?
– Да-а?..
И человек, присаживаясь на стул, рассказал, как они влетели в махновский полк и как махновцы забеспокоились и приготовились к встрече. На вопрос главнокомандующего: «Какой это полк?» они отвечали: «Свои», брались за оружие и бежали к лошадям.
– Стой! Стой, товарищ! – закричал тогда кто-то из нас. – Это главнокомандующий всеми вооружёнными силами Украины. – Тогда махновцы вскочили на коней. Главнокомандующий, видя, что дело плохо, в упор выпустил одну обойму пуль из маузера, а другую – из браунинга. В первом ряду махновцев были ранены несколько человек и лошадей. Раненые лошади и люди заградили собой узкую улицу и вызвали замешательство. Воспользовавшись этим, мы бросились в отступление и еле-еле удрали… Главнокомандующий, товарищ Фрунзе, получил несколько лёгких ран, а его адъютант был изрублен в куски. А мы с вами удирали в другую сторону, к лесу… Помните?
– Верно. Так позвольте, вы будете Иванов? – спросил Евгений.
– Он самый.
– Как вы резко изменились, обросли.
– Обрастёшь, брат, – ответил Иванов. – Я теперь хлеборобом заделался. Это мой брат Павел, тоже красноармеец, а теперь учится в Москве в Военной Академии, красным генералом хочет быть.
Евгений посмотрел на Павла.
– Это хорошо.
– Знамо, хорошо, – ответил Иванов и кивнул головой на брата. – Он у меня герой: два красных ордена имеет и три раза ранен… Ну-ка, Павел, перетащи-ка с нашего стола пиво.
– Сюда? – переспросил Павел.
– Да, да. Сюда. Дай-ка, я тобой немного покомандую, пока ты до генерала доползёшь, – пошутил над братом Иванов.
Павел перетащил пиво.
– Вы далеко? – спросил Евгений.
– Я вот его, Павла, провожаю… до Москвы…
– А вы? – спросил в свою очередь Иванов.
– В Москву.
Иванов обратился к брату, показал кивком головы на бутылки. Павел стал разливать пиво.
– Ну, стукнемся!
Стукнулись, выпили.
– Вы хорошо знаете Андрея Завулонова? – спросил неожиданно Иванов.
– Хорошо, – ответил Евгений.
– Где вы с ним познакомились?
– Где? Мы почти с ним на одной койке спали.
– Вот как, – протянул Иванов и переглянулся с братом. – Так, так… Значит, вы его хорошо знаете?
– Вы тоже его знаете? – спросил в свою очередь Евгений.
– Мы-то?.. – ответил Иванов.
– Да.
– Как вам сказать-то, – проговорил Иванов, а затем добавил: – мы с ним, ведь, из одного села.
– Из одного?
– Да, – кивнул головой Иванов и пояснил, – из села Птань.
– Это, что стоит на берегу Красивой Мечи?
– Из этого самого.
– Так это верно, что у вас волисполком удавился?
Иванов улыбнулся. Угреватое лицо с большим мясистым носом, похожим на грушу, стало совершенно красным, а небольшие глазки из берегов толстых, не имеющих растительности, век плескали бледной просинью в лицо Евгения.
– Да, это верно.
Евгений улыбнулся, спрятал коричневые глазки и забарабанил пальцами по столу, потом остановился, подумал, выпил стакан пива и снова забарабанил.
– Так вы говорите, на одной койке с ним спали?
Евгений взглянул на Иванова, спрятал под стол руки и сказал:
– Да.
– У нас имеется слушок, будто бы он пережил страшную историю там, на фронте. Верно ли это?
– Да, – ответил Евгений и вынул руки из-под стола.
– Так вы нам не расскажете ли, что с ним там случилось? – вмешался Павел.
– Да, да… – заговорили другие, в том числе и Иванов.
– Хорошо, – сказал Евгений, – расскажу. – И Евгений осмотрел слушателей, которые подсаживались к нему ближе, взял бутылку, налил один за другим два стакана, выпил, достал из кармана платок и, не торопясь, вытер лицо.
Все внимательно смотрели на Евгения и ждали.
– Я вам расскажу одну историю, которая была в его жизни и которая послужила, по моему мнению, началом его болезни… К этой истории я не прибавлю ни одного своего слова, а также не убавлю ни одного слова рассказчика этой истории. Эту историю рассказал мне и своим близким товарищам, что были в его штабе, сам Андрей Завулонов. Чтобы перейти прямо и непосредственно к этой истории, я должен раньше рассказать в нескольких словах о том, как я познакомился с Андреем Завулоновым. – Евгений умолк и посмотрел на слушателей. – Я думаю, что вы ничего против иметь не будете?
Слушатели ничего не ответили, а только завозились на стульях.
Евгений откинулся на спинку стула.
– Я познакомился с Андреем Завулоновым случайно, можно сказать, при самых неблагоприятных для меня обстоятельствах, при воспоминании о которых у меня и сейчас по телу пробегают ледяные капли. Советская власть перешла от добровольческой армии к мобилизационной. В первую мобилизацию я был взят на службу и был отправлен на один из фронтов. Мобилизованные со мной товарищи разбежались при первой же возможности. Последовать примеру товарищей, при всем моем желании, судьба мне не позволила, и я был отправлен на фронт. На фронте, как принято говорить, тогда было не разбери-бери. Наша дивизия, к которой был причислен и я, при первом столкновении с белыми бросила оружие и в паническом страхе бежала в тыл. Этой дивизией командовал Андрей Завулонов. Какие бы он меры ни принимал, дивизия катилась назад и не принимала никаких боёв, даже при встрече с небольшими разъездами. Андрей Завулонов дал приказ к отступлению. Шли мы четыре дня большой скоростью, так что враг остался довольно далеко позади. Пришли в небольшой городок. На окраине этого города остановились на ночлег, переночевали. Наутро был дан приказ выстроиться. Выстроились. Погода была отвратительная, вместо прекрасного украинского неба было просто, какое-то недоразумение: висели, трепались над головами грязные лохмотья, из которых на нас мелкими каплями сочился дождь. Дул резкий северный ветер, забирался под шинели, неприятно хлестал мокрыми полами по нашим ногам. Мы стояли выстроенные за городом на дожде и на ветру с раннего утра до самого обеда. Многие из нас стучали зубами от холода. Мы прыгали, скакали, вертелись, чтобы разогреться, и матерно ругались на чём свет стоит. Начальство собралось в кучу и было в стороне и тоже бегало, подпрыгивало. Но вот из города показалось несколько конных всадников. Командиры бросились к своим ротам. Фронт был растянут больше, чем на версту. Командиры еле-еле успели добежать к своим ротам. Рота, в которой находился я, была первой к городу. Наш командир выхватил шашку, вытянулся, скомандовал „смирно" и, звеня шпорами, побежал навстречу всадникам.
– Здорово, товарищи! – выкрикнул начальник дивизии.
Мы ответили. За нами прогремели и остальные роты. Нужно сказать правду, здороваться на этот раз мы умели гораздо лучше, чем драться. Крикнули, можно сказать, на славу, так что командиры наши даже веселее забегали:
– Молодцы, ребята! Молодцы!
И было трудно ожидать чего-нибудь плохого, кроме благодарности, но случилось совершенно неожиданное. Начальник дивизии, которого я теперь считаю своим хорошим товарищем и другом, был мрачен и чёрен, как вот этот пол. Он так же, как и непогода, навалился на нас и придавил своей тяжестью, стянул нас какими-то невиданными стальными прутьями так, что мы покорно стояли и следили за каждым его движением. Начальник дивизии, Андрей Завулонов, медленно проехал на левый фланг и, простояв там немного, галопом выехал на правый, где, круто повернув лошадь, заплясал на месте и громовым голосом разрезал тишину:
– Смирно! Первая рота, на первый-второй рассчитайся!
– Первый, второй. Первый, второй. Первый, второй…
– Десятый, – ревел глухо начальник дивизии, – десять шагов, шагом марш!
Десятый выходил и тут же под команду «кругом» поворачивался лицом к нам и замирал. Несмотря на резкий ветер и дождь, несмотря на хлюпанье грязи под нашими ногами, тишина была жуткая, так что я различал все тончайшие звуки ветра, слышал не только биение собственного сердца, но и соседа, стоящего рядом со мною. Ветер пел на разные голоса: свистел, аукал, гукал, ржал жеребёнком, отбившимся от матери, наигрывал на треснутой жалейке.
– Первая рота, по десятому пальба!
«Аррззг», – разрезая свист и шум ветра, хлюпанье дождя и шинелей о наши ноги, ответили лязгом затворы винтовок.
– Пли! – стегнул глухим ударом начальник дивизии.
Раздался залп. Всколыхнулось поле, на котором мы стояли. Дёрнулись мы и куда-то поплыли, а поле, на котором мы стояли, из своего нутра двинуло нам в глаза клубы серого дыма.
– Смирно! От десятого на первый-второй рассчитайся.
Опять на губах запрыгало: первый, второй. Первый, второй. Так дошло до меня. Я выкрикнул: «Второй».
– Смирно! Десять шагов вперёд, шагом марш!
Я закачался из стороны в сторону, но не помню, сколько времени я качался из стороны в сторону, только видел, как ко мне подбежал ротный командир, толкнул меня в спину, и я вылетел вперёд и, не помня никакой команды, повернулся лицом к фронту.
– Первая рота, по десятому пальба!
Лязг затворов отбросил меня в сторону, и я был около начальника дивизии.
– Ваше превосходительство…
Перепуганный командир отрывал меня от земли. А я всё кричал:
– Ваше превосходительство.
– Встать! – взревел начальник дивизии.
– Дааа, – протянул Иванов.
Евгений посмотрел на Иванова, а потом на остальных, вытер вспотевший лоб и налил пива.
– Ну?
– Больше ничего, – сказал шёпотом Евгений. – Разве не видите, что живым остался? – и опростал стакан.
Я быстро вытянулся и говорю:
– Простите, ваше превосходительство (я был старым солдатом царской армии и по привычке несколько раз сказал „ваше превосходительство"). Не дайте умереть позорной смертью.
Начальник дивизии впился в меня зелёными глазами, и я видел, как у него на лице прыгали синие жилки. Так смотрел он несколько минут на меня. Я учувствовал, как от его взгляда леденело моё тело.
– Мерзавец! – проскрипел зубами он. – Вы ещё не знаете, у кого служите и кому. – И, вытянувшись из седла, дал мне пощёчину. И тут же, повернув лошадь, галопом поскакал к городу, крикнув на скаку командирам: – Вольно!
Сколько я простоял, не помню. Я всё время смотрел мутными глазами на начальника дивизии, который, как мне представлялось, уезжая от меня, путался в красных кругах. Я только впоследствии узнал, что эти круги были у меня в глазах. Я только тогда опомнился, когда меня тронул за плечо командир роты.
– Поздравляю, товарищ.
Я посмотрел на командира и пожал его руку:
– Спасибо, товарищ командир.
Поздравляли меня и красноармейцы:
– Благодаря тебе, дальше первой роты не пошло.
Через несколько часов был дан приказ принять боевое положение и приготовиться к наступлению. К нашей дивизии подошли новые части. В ночь мы двинулись в поход. Начальник дивизии со своим штабом ехал в первой колоне. Наутро мы встретились с белыми. Белые совершенно не ожидали, чтобы мы, бежавшие в страшной панике, двинулись в наступление. Завязался бой. Белые напирали. Мы их подпустили почти вплотную и, как обильную жатву, резали пулемётами и залпами винтовок. Начальник дивизии каким-то чудом, словно из земли, вырос впереди нашей роты с винтовкой вместо шашки и, повернувшись к нам лицом, громовым голосом закричал:
– Товарищи, вперёд!
Белые тоже пошли на «ура». Пока мы всколыхнулись, начальник дивизии был уже на несколько шагов впереди нас, и мы видели, как к нему навстречу бежало больше десятка казаков. Я первый вылетел из окопов и очутился впереди командира, а за мной и остальные. Мы с трудом оттеснили начальника дивизии назад, окружили его и бросились на казаков. Завязался штыковой бой…
Евгений снова провел платком по лицу, расплылся в улыбку.
– Вот после этого боя и началось моё близкое знакомство с начальником дивизии, с товарищем Андреем Завулоновым. Я был взят в его штаб, в котором состоял до последнего времени. Сколько было славных дней! Сколько было незабываемых подвигов! Нужно правду сказать, что дивизия Андрея Завулонова делала чудеса на фронте. Перед ней трепетали самые лучшие, отборные офицерские части. Дивизия Андрея Завулонова сдерживала бешеный напор Деникина, но, несмотря на стойкость, она отступала. Организованные войска Деникина катились к центру России. Советская власть вынуждена была переорганизовать Красную армию и двинуть её навстречу белым, что и были сделано. Приехал новый главком, перестроил всё заново. Дивизия Андрея Завулонова была прикреплена к одной армии, Андрей Завулонов был отозван из дивизии и послан в город, близкий к фронту, комиссаром по борьбе с дезертирством. Как сейчас помню, тут же, после назначения, Андрей Завулонов явился к нам в штаб и сообщил о новом назначении. Мы, все тринадцать человек, очень забеспокоились и стали просить его, чтобы он нас взял к себе.
– Я уже это сделал, товарищи.
Радости не было конца. На другой день мы выехали в город. Ехали недолго, и в дороге ничего примечательного не было. В город мы въехали тоже совершенно незаметно. Власти в этом городе никакой не было: она только ещё начинала гуртоваться вокруг дома известного сахарозаводчика. Что было делать? Где было приклонить буйные головушки? В поисках прокружили мы целый день и, не найдя ничего определённого, решили огуртовать на окраине города дом известного купца Тараканова себе под комиссариат. Решено – сделано. Дом огуртовали, купца, в одном сюртуке, – на вылет. К этому моменту и власть огуртовалась в доме сахарозаводчика и взяла бразды правления. Тут и началась работа, а работы, нужно сказать был непочатый край: весь город кишел дезертирами и всевозможными бандами. Я был назначен начальником канцелярии, а он, Андрей Завулонов, пошёл работать по городу и по его окрестностям.
Евгений налил пива себе, Иванову и Павлу, посмотрел на них, показал глазами на стаканы – Выпьем! – Стукнулись. На них глядя, выпили и соседи.
– Дайте ещё по штучке, – заказал Иванов.
– Так вот, – сказал Евгений, – на этом моё личное вступление об Андрее Завулонове кончилось, и рассказывать лично от себя о нём не могу, так как я был тогда, как принято выражаться, канцелярской крысой. А перейду непосредственно к его рассказу. Итак, начинаю.
И Евгений, раньше, чем приступить к рассказу, выпил ещё стакан пива.
Выпили и слушатели.
V
– Простите. Раньше, чем приступить к пересказу истории Андрея Завулонова, я опять должен сказать несколько слов от себя. Во-первых, Андрей Завулонов человек был неразговорчивый, хмурый, или как принято говорить о таких людях, замкнутый. Во-вторых, он любил сумерки, во время которых, не зажигая огня и откинув голову на спинку мягкого кресла, подолгу засиживался и неподвижно синими глазами смотрел в какую-нибудь одну точку, – так почти всегда. Правда, бывали редкие случаи, когда Андрей Завулонов сидел в кресле, похлёстывал себя по ногам тонким хлыстиком. Такие случаи в его жизни были очень редки. За всё время нашей совместной службы я видел его только один раз с хлыстом. На этот раз Андрей Завулонов сидел в своем кабинете, сумерничал. Мы тоже сидели в его кабинете, перекидывались редким фразами, рассказывали анекдоты из борьбы с дезертирством. Помощник Андрея Завулонова рассказал, как он в деревне поймал одного дезертира.
– Входим, – говорит помощник, – в одну избу, спрашиваем: „Хозяин дома?" – Никого. Тишина. Только сверчок откликнулся нам из-за печки. Начинаем осматривать избу, зашли в чуланчик, смотрим – что-то возится в темноте. Мы зажгли зажигалку (зажигалки играли большую роль в нашей работе), смотрим: на постели потягивается баба, молодая, здоровая.
– Вам кого, – говорит, – товарищи?
– Где ваш муж? – спрашивает помощник.
– Не могу знать, – отвечает баба и, отставив заднюю часть тела, важно почёсывает пониже спины.
Нас было двое: остальные были на другом конце деревни. Мы переглянулись. Что-то подозрительное скрывалось в бабе: уж больно спокойна, и жох показалась нам баба.
– Ну-ка, вставай! – крикнул помощник. – Зажигай огонь.
Баба нехотя встала, засветила огонь. В избе ничего подозрительного, только сверчок из-за печки распевает свою песенку.
– Ну, тётка, говори, где спрятан муж?
– Ну, что вы, касатики!.. – завопила баба. – Почём же мне знать-то, где он бывает. Я его, чай, второй годик не вижу… Хоть бы глазком одним сама на него взглянула…
– Неужели в два года так и ни разу не взглянула?..
– Вот те господь, ни разу… – и баба широко взмахнула рукой, перекрестилась.
– Так и живёшь одна без мужа? – переговаривался помощник.
– Что ж поделаешь, так и живу без мужа.
Товарищ помощника сел на сундук, накрытый попоной, и стал закуривать. Баба забеспокоилась.
– Если не верите, можно в сенях посмотреть, на потолке и в закутах.
– Ну, как не верим, тётенька, верим, – засмеялся товарищ помощника. – А ты нам не откроешь сундучок-то?
Видим, от такой неожиданности баба опустила руки, спрятала глаза, а наше желание относительно сундука пропустила мимо ушей.
– И верно, – сказал помощник, – ну-ка, тётенька, открой нам его.
Баба заметалась по комнате, пошарила по печуркам, по полочкам.
– Ну, скоро? – спросил он же.
– Ключ увезла с собой маменька в другую деревню: она уехала в гости к дочери.
– Так у тебя, тётенька, нет ключа? – спросил товарищ помощника.
– Нет, никак нет, – ответила баба.
– Ну, хорошо, – сказал помощник. – Не надо, я и так проверю, – и стал целиться из маузера в середину сундука.
– Раз, два… рраа… – не успел он крикнуть три, как баба взревёт и с ревом на сундук.
– Ha-те вам ключ…
Открыли сундук, а там оказался крепкий детина. Сколько было смеху. До слёз хохотали. Ну, и баба. А какое у ней было спокойствие, когда мы вошли в избу. Как она потягивалась…
Андрей Завулонов улыбнулся, посмотрел на своего помощника и сказал:
– Это что, а вот я вам расскажу случай-то, так случай. Мы все с большим удовольствием:
– Просим. Просим, товарищ комиссар.
– Прикажете зажечь электричество? – спросил я и бросился к выключателю.
– Нет, нет, – возразил комиссар, – в сумерках лучше.
И стал рассказывать.
Вот что он нам тогда рассказал.
РАССКАЗ АНДРЕЯ ЗАВУЛОНОВА
– Вы знаете, товарищи, что я уже второй раз служу комиссаром по борьбе с дезертирством в этом же самом районе. Я работал тогда в небольшом уездном городишке. Городишко был грязный, отвратительный, – вообще, как все города России.
И удивительно, как в России устроено: все города похожи друг на друга. Почти все они стоят на каких-нибудь возвышенностях, а у их подножий бегут со странными названиями речки, даже не бегут, а просто чешутся боками о холмистые берега, покрытые чахлой растительностью.
Так вот и этот город, в котором я работал, стоял на высоком холме. Можно сказать, крепко в него врос. У ног этого городишки бежала шелудивая речонка Гнилушка. Гнилушкой её прозвали, наверно, потому, что она, несмотря на суровые зимы, никогда хорошим льдом не покрывалась, а всегда чуть подёргивалась тонкой плёнкой льда, а потом пряталась под глубокие покровы снега, которыми заманивала в свои омуты прохожих.
В этом городе я просидел около трёх месяцев. Дезертиров была тьма. Всё кишело ими. Приходилось принимать самые суровые меры. Была введена жестокая кара: деревня или село отвечало круговой порукой. За одного дезертира деревни и сёла платили огромные контрибуции. А если не уплачивали, то продавалось всё с корня. Ну, вам это нечего рассказывать, вы это всё хорошо знаете.
Так вот, служил я в этом самом проклятом городишке, работал с отрядом хорошо. В каких-нибудь два месяца несколько домов, не считая местной тюрьмы, – тюрьма в этом городе, нужно сказать, была огромная, не уступала губернской, – были переполнены дезертирами. Кроме того, была поймана и шайка бандитов во главе с атаманом-вахмистром, имя его так и осталось невыясненным, который был тут же немедленно предан суду.
Был назначен суд. На суде я выступал обвинителем. Ровно в двенадцать часов ночи закончил свою речь. Суд ушёл совещаться. В это время я вышел из залы суда в полной надежде, что суд вынесет вахмистру и его двум товарищам смертный приговор, который тут же, после суда, ночью будет приведён в исполнение.
С такими мыслями я отправился на окраину города, к себе в комиссариат. В комиссариате, кроме часовых, никого не было. Я вошёл в помещение, прошёл к себе в кабинет, сел в кресло, открыл портфель и погрузился в бумаги.
Но работать не хотелось: в теле была страшная усталость, оно как-то обвисало, тянуло ко сну. Этой тяжести я не выдержал, отложил портфель в сторону, положил голову на руки и задремал.
Сколько я продремал, хорошо не помню, только слышу: кто-то неистово наколачивает в дверь моего кабинета. Стук всё больше и больше, но я никак не мог подняться. Наконец раскачался, вылез из кресла, открыл дверь, спрашиваю:
– Кто тут?
В кабинет с шумом ворвалась моя машинистка и хлоп в истерику. Я заметался по кабинету, и так и этак её – ничего не помогло. Сбегал под кран за водой, смочил ей виски, влил немного в рот. Через несколько минут моя машинистка оправилась, вскочила, отбежала немного в сторону.
– Что с вами, товарищ Аскольдова? – спросил я.
– Ничего, – прошептала она тихо. – Дайте мне на вас посмотреть.
– Что это значит? – засмеялся я. – Если вам угодно, посмотрите.
Она, Аскольдова, была из довольно богатой семьи: дочь какого-то купца-лесопромышленника. Кроме этого, была и недурна собой: высокого роста, стройная, имела густые тёмно-русые волосы, большие карие глаза.
Она ничего не ответила мне, а только облила половодьем испуганных глаз, рванулась ко мне:
– Бегите, скорей бегите!
Я, отстраняя её в сторону от себя, попятился назад и спросил:
– Не понимаю!
– Бегите скорее! В городе восстание!
– Какое восстание? Я только что, час тому назад пришёл, а вы говорите: восстание. Какое восстание?
– Да, да… в городе восстание… город находится уже в руках дезертиров… они разбили тюрьму…
Я захохотал и тяжело погрузился в кресло и сквозь хохот спрашиваю её:
– Вы что, товарищ Аскольдова, в своём уме?
Аскольдова смотрит на меня и твердит одно:
– Бегите! Скорей бегите!
Я перестал хохотать, встал с кресла, подошёл вплотную к Аскольдовой, по тут же отступил: внутри у меня что-то повернулось, а в уши кто-то шепнул: „дурак, ты посмотри, какая красавица!"
Я обвёл глазами Аскольдову и утонул в её широко открытых, в жутких своей глубиной глазах, и мне стало как-то страшно, и я с кружением в голове снова повалился в кресло. Она подбежала вплотную ко мне и всё так же кричала:
– Скорее! Скорее!
Прошло несколько минут, после которых я быстро встал, резко взял её за плечи, так что голова её, украшенная тяжёлыми косами, откинулась немного назад, а серебряные зубы блеснули из крови губ.
– Я не пойду!.. – бросил я.
– Это как? – испуганно выдохнула она.
– А так… останусь здесь…
– Здесь?
– Да.
– Это зачем?
Я слышал, как её зубы стучали, я слышал, как тревожно работало её сердце, я видел, как поднималась её грудь, и ещё я видел, как горели её глаза.
Тут Андрей Завулонов медленно встал с кресла, вздохнул, нервно дёрнул плечами, прошёлся по кабинету, подошёл к окну, жадно впился глазами во мглу вечера и застыл.
– Да-а… – протянул его помощник.
– Тише, – сказал кто-то из нас.
Мы переглянулись. Андрей Завулонов отошёл от окна, медленно погрузился в кресло и стал продолжать:
– Вам-то что, товарищ Аскольдова? – закричал я.
Андрей Завулонов произнёс эти слова резко, так что мы ещё раз тогда переглянулись.
– Я останусь здесь, и пусть меня расстреляют… Разве я вам нужен, а? – спросил я и насмешливо посмотрел на неё. Она испуганно вздрогнула, опустила глаза, и я видел, как на грязном, заплёванном красноармейцами полу заиграли, запрыгали лучи ее глаз, и мне стало мучительно жаль её. Но эту я жалость сдавил и ещё более насмешливо бросил:
– Скажите, вам приятно играть в подвиг? Вы на каждом перекрёстке будете рассказывать, что спасли комиссара… Нет, этого комиссар Андрей Завулонов не сделает. Он никуда не побежит, никуда не побежит… Да, да… А вам, товарищ Аскольдова, советую поскорее убраться отсюда… Пусть меня растерзают одного.
– Нет, – ответила Аскольдова, – я не пойду, пока ты не уйдёшь отсюда.
– Почему? – спросил я.
Она подняла голову и взглянула на меня. О, как она взглянула! От её взгляда моё сердце заныло и с ноющим гулом потянуло меня в пропасть… От боли я закрыл глаза, закусил губы.
– Почему? – повторил я.
– Разве вы не видите? Посмотрите!
Я посмотрел – передо мной глубокие, тревожные глаза…
– Ну, – спросила она и улыбнулась, – теперь видите?
– Вижу, – ответил я. – Так вы меня любите?
– Да, – послышался тихий ответ.
После этого я, кажется, долго на неё смотрел, и, только когда она умоляюще мне сказала: „Бегите", я громко захохотал, так что сам содрогнулся от своего хохота. Я никогда так не хохотал, да и сейчас не могу. А она, бедняжка, испуганно метнулась от меня в сторону и, как лист, задрожала.
– Любите? – сквозь хохот и слезы спросил я.
Слов её я не слыхал, но глаза её мне говорили, кричали: „да, да"…
– Подите сюда, – сказал я после смеха.
Она робко подошла. Я велел ей снять панталоны и ложиться на стол, – лучшего и удобного предмета у меня в кабинете не было. Она, вместо того, чтобы подойти к столу, упала в кресло и зарыдала.
– Так, значит, сударыня, вы меня не любите? Позвольте мне все ваши фокусы отнести к вашему женскому притворству.
После моих слов медленно поднялась Аскольдова с кресла и дрожащими пальцами, боясь обнажить тело ног, стала снимать панталоны, а затем робко подошла к столу.
– Ну? – всё так же насмешливо спросил я.
Она ещё ниже склонила голову и виновато прошептала: – Я этого ещё не знаю… – и закрыла рукою лицо.
Я погасил огонь и подошёл к ней. Она лежала на столе. Я прикоснулся к её платью, к испуганному телу.
Тут Андрей Завулонов дёрнулся с кресла и замолчал.
– И?.. – кто-то из нас бросил вопрос.
Андрей Завулонов быстро вскинул голову, обвёл нас глазами и злобно выкрикнул:
– Вы что же, думаете, что Андрей Завулонов, комиссар по борьбе с дезертирством, мерзавец. А?
Мы все сразу вытянулись из кресел, склонили головы в сторону Андрея Завулонова, беспокойно забегали глазами, зашипели:
– Что вы, товарищ комиссар, разве…
– Знаю… знаю… Это я просто пошутил. Ведь вы мои друзья. Вы не раз меня спасали от смерти.
Он так расчувствовался, что даже поднялся с кресла, обошёл нас всех и крепко пожал нам руки. Потом опять, сел в кресло и стал продолжать:
– Я её только поцеловал… Погладил волосы и тихо сказал:
– Встаньте.
Она встала.
– Оправьтесь.
Когда она оправилась, я зажёг лампу. Она стояла в углу и плакала.
– Простите! – сказал я. – Мы ещё увидимся.
Она обвила мою шею и поцеловала.
– Бегите… скорее бегите…
– Бежать… – прошептал я и заметался по кабинету. Бросился к письменному столу – заперто, а ключи забыл дома.
– Ты чего? – спросила Аскольдова и тоже заметалась по кабинету.
– Револьвер! Револьвер! – забарабанил я. – Немедленно надо револьвер!
Я и она выбежали из кабинета в канцелярию и там, в канцелярии, в одном из столов я нашёл револьвер и, хорошенько не рассмотрев его, бросился из комиссариата на улицу.
– Она? – спросил тихо помощник.
Андрей Завулонов на вопрос своего помощника ничего не ответил, а только дёрнул несколько раз плечами.
В то время – как сейчас помню – всходила луна, протягивала широкие полотна и через сад бросала их в кабинет. Одно полотно упало на Андрея Завулонова. Андрей Завулонов повернулся к окну, и нам показалось, что он взбирался на луну, пил её приторный запах. Мы долго сидели так. Смотрели на луну, на товарища комиссара и друг на друга.
– Закройте окно, – сказал Андрей Завулонов и резко отвернулся от окна.
Когда я вышел на улицу, тьма была страшная, только снег белел под ногами. Я обернулся назад: Аскольдова стояла позади.
– Скорее… скорее.
Я думал: куда бежать?.. Если побегу через город, то, наверно, попадусь в руки восставших. И я решил бежать в ближайшую деревню. Деревня была от города около восьми вёрст. Правда, другие деревни гораздо ближе к городу, но, чтобы в них попасть, надо было бежать через весь город, а это опасно. И я побежал в сторону от города. Не успел пробежать несколько шагов – слышу, скрипят шаги, мотаются по снегу три тени. Я остановился, спрятался и затих за углом последнего дома. Шаги всё ближе и ближе, и вот уж до меня дотянулись три длинные тени, остановились. Я плотнее прижался к углу и слышу разговоры. По голосу узнал уездного военного комиссара. Вышел из-за угла дома, говорю:
– Это вы, товарищ Александров?
– Я, – ответил мне военный комиссар.
– Бежали? – спросил я.
– Бежали, – ответил военный комиссар.
– Что же теперь будем делать? – допытывался я.
– Я уже не знаю, что будем делать, – отвечал Александров.
Постояли несколько минут, поговорили. Потом направились к реке, остановились недалеко от моста. Красноармейцы закуривали. А мы – Александров и я – стояли, посматривали друг на друга и молчали. А вокруг и над нами тишина страшная. Небо какое-то странное: не то бледно-синее, не то бледно-серое. Даже, можно сказать, не поймёшь какое – неопределённого цвета. Я редко когда видел его таким. А сбоку от нас – месяц, и тоже большой и несуразный, словно ему кто-то обкрошил дубиной края. Всё это – небо и месяц – в городе было незаметно, а только здесь, за городом, в чистом поле так хорошо заметно. В такой тишине мы несколько минут стояли, покачиваясь из стороны в сторону. С правого боку на снегу лениво и нерешительно покачивались ваши необычайно длинные тени. Слышу, что-то в кустах по берегу реки зашуршало. Я прислушался, кто-то идёт. Тогда я стал всматриваться в лунную темноту, – ничего не видно за кустами. Но всё же я решил: кто-то, боясь показаться, идёт за кустами. И верно: вижу, мотнулась тень. Я узнал, что это тень человека. Тень двигалась к мосту. Я тоже бросился к мосту, но не успел, ибо тень раньше нас заметила и быстро перемахнула мост. В этой чёрной тени я узнал вахмистра, которого только нынче ночью приговорили к смертной казни. Я даже ударил себе ладонью по лбу: как же это он мог? И бросился за ним через мост. Военный комиссар и два красноармейца бросились за мной. Вахмистр, пока решал вопрос, как это он мог улизнуть от расстрела, был от меня на расстоянии сорока или пятидесяти саженей, не больше. Меня охватила страшная жажда погони, благодаря которой я всё позабыл: и восстание в городе, и девушку, и даже своё существование. И, не помня себя, я бежал за вахмистром. Вахмистр тоже не давал себе передышки, а удирал изо всех своих сил. Небольшой ветерок, которого, когда мы стояли, было совершенно не слышно, обжигал мои щёки и уши, но я всё бежал и бежал. Расстояние между мной и вахмистром сократилось больше чем наполовину. Я хорошо видел спину вахмистра, широкую и крепкую. Видел, как он от усталости пошатывался из стороны в сторону. Видел, как он то и дело нагибался и на бегу хватал снег и кидал его в рот, чтобы не задохнуться от бега. Я тоже качался из стороны в сторону. Я чувствовал, как билось моё сердце: оно билось огромной потрёпанной птицей. Я чувствовал, что у сердца, как и у большой птицы, широкие крылья, потрёпанные и мокрые. И я ясно слышал, как сердце хлестало по рёбрам моей груди – жик-жик… Но я всё бежал и бежал. И вахмистр всё бежал и бежал. Возможно, и у вахмистра в груди не сердце, а большая потрёпанная птица, которая по его рёбрам тоже хлестала мокрыми крыльями – жик-жик… Но я бежал и бежал. И вахмистр бежал и бежал. И я видел только белёсую мглу месячной ночи. А во мгле ночи видел одну только широкую спину вахмистра, ловил её, кричал: „Стой! Стой!" и неожиданно сам останавливался, хватал кусок снега, жадно бросал его в огонь рта. Вахмистр тоже останавливался, схватывал куски снега – и в огонь рта. Мы оба, чуждые друг другу, бежавшие через смерть к жизни, стояли недалеко друг от друга, жадно и злобно смотрели друг на друга, высчитывали, вымеривали друг у друга каждый вершок в плечах и про себя думали, решали: „кто кого?"
– Стой! Стой! – кричал хрипло я. – Сдавайся! – а сам не двигался с места.
Вахмистр хрипло отвечал:
– Стой! Стой! Сдавайся! – и тоже не двигался с места.
– О, какая мерзость! – отвечал я.
Он в ответ показывал редкие крупные зубы, рыжие щетинистые усы и большие, пылающие злобой глаза.
– Стой! Стой! – хрипел я и поднимал наган. – Стой! Иначе буду стрелять.
Вахмистр выпячивал грудь, хрипло орал:
– Хорошо!
Я наводил наган, спускал собачку, но выстрелов не было.
– Что такое? – выкрикнул я и спрятал наган. – Ты всё равно не убежишь. Я тебя задушу своими руками.
Вахмистр скалил зубы, ещё больше щетинил рыжие усы.
– Ну, иди сюда! Посмотрим, кто кого!
Я рванулся вперёд. Вахмистр тоже рванулся вперёд от меня. Подо мной закачалась земля. И под вахмистром закачалась земля. Из-под моих ног убегала земля. И из-под ног вахмистра убегала земля. Мы не бежали, а нелепо топтались на месте, оттопывали усталыми ногами, а возле нас на снегу подпрыгивали наши огромные тени, откалывали танец. Наши тени походили на этот раз на скелеты смерти. Возможно, что это плясали не наши тени, а два скелета смерти. Мы взобрались на гору. Возможно, гора под нас подкатилась. На горе показалась деревня:
– Ага! – прохрипел я. – Теперь не убежишь. Но вахмистр не пошёл на деревню, а обогнул её и спустился под гору, к реке Гнилушке.
– Эге! – прохрипел я и заплясал по его следу. – Сдавайся, всё равно не уйдёшь! – закричал я ему в спину.
– Это ещё посмотрим! – ответил вахмистр.
Мы скатились под гору, к реке. Месяц тоже скатился с нами под гору. Мы оба едва передвигали ноги. К моему телу прилипла не только гимнастёрка, но и шинель. Месяц тоже едва двигался. Он был весь покрыт тёмными пятнами. Месяц и другие предметы, как мне казалось тогда, двигались с нами вместе. Вахмистр подошёл к берегу, который был в этом месте крутой и высокий. Он бросился вниз и погрузился по плечи в сугроб снега. Вахмистр с большим трудом выбрался из сугроба. А когда я подошёл к берегу, он лежал на четвереньках и по-собачьи лакал выступившую на снег из-подо льда воду.
В этот момент я радостно подумал: „Ага! Теперь не убежит, всё равно подохнет!" Вахмистр напился, встал, вытер рукавом шинели рыжие усы, оскалил редкие зубы:
– Прыгай, чего же стоишь!
– Нет, я прыгать не буду, – ответил я.
– Что же теперь будешь делать? – спросил меня вахмистр и сел на снег.
– Посмотрю, что ты будешь делать? – усаживаясь на крутой берег, ответил я.
– А разве через речку нельзя было перейти? – спросил помощник.
– Нет, – ответил Андрей Завулонов, – там были одни родники, и река никогда хорошо не замерзала.
– Ну, чем же кончилось? – спросил Иванов.
– Да, да, – заговорили остальные.
– Чем? – спросил Евгений и окинул глазами слушателей, а потом стол и бутылки.
Бутылки были пусты.
– Уберите, – сказал Евгений, – и дайте ещё.
А когда Евгений выпил, и выпили все слушатели, он стал снова передавать рассказ Андрея Завулонова.
– Много просидели, а сколько времени – хорошо не помню. Ветерок куда-то спрятался, пропал. И ночь была, как вначале, тихая, крепкая. Мороз, пощипывая за уши, острыми иголками покалывал щёки. На реке похрустывал лёд. На селе изредка тявкали собаки, но так скучно, тоскливо: тявкнет – и молчок, тявкнет – и молчок. А мы, два человека, уставшие от охоты за жизнью, сидели на берегу Гнилушки, дежурили друг друга. А кругом никого, кроме нас, не было. Разве только месяц смотрел на нас своими чёрными пятнами-глазищами, да низкое небо – оно в этот раз было очень низким: – глядело на нас. Мне казалось тогда, что месяц хохотал над нами, корчил в смешные гримасы свою круглую рожу. Хохотало и небо. Хохотало оно хриплым, покашливающим смехом; это мне тоже тогда так казалось. И ещё кто-то прогуливался по Гнилушке и чем-то тяжёлым бухал, пробовал лёд – крепок ли?.. На гул ударов откликалось робкое эхо: „Эх! Эх!" А мы все сидели на берегу: я на самом берегу, а он, вахмистр, внизу, под берегом, у самой воды, спиной ко мне, а лицом вперёд, за реку. Я не знал, что, сидя на берегу, передумывал тогда вахмистр. Но я знал хорошо, что я тогда думал. Всё то, что я тогда думал, я прекрасно помню. А думал я тогда очень о многом, а главное, все вопросы, которые меня толкали на борьбу, я поставил ребром. И нужно правду сказать, что, сидя на берегу Гнилушки, я с этими вопросами был необычайно далёк от земли, – я с ними блуждал выше месяца, в междупланетных пространствах, если не дальше. Я, несмотря на своё скверное образование – я кончил только один класс церковноприходской школы или, как принято в народе говорить, „учился за меру картошки у бабушки Марфы на полатях", – стоял на самых высоких вершинах общественной мысли. И вот оттуда-то, с вершин общественной мысли, я увидал тогда всё своё прошлое, весь свой путь. Но я увидал тогда и путь вахмистра… Да, да, и путь вахмистра… И я познал за что я боролся, более ясно, чем до этого случая… Я с вершин общественной мысли видел море человеческой крови, нет, не человеческой, это я неправильно выразился, а рабочей, мужицкой, моей крови. Эта кровь текла широкими потоками, заливала, пропитывала землю, на которой жил и ещё живу… Да, да, я видел, как текла моя чёрная рабская кровь, я видел, как она смачивала, удобряла землю, и земля, благодаря моей чёрной крови, давала обильные плоды. Но кому она давала плоды? Мне? Нет!
Она давала тому, у кого была другая кровь…
И Андрей, сказав эти слова, обратился тогда к нам:
– Простите, что так напыщенно рассказываю вам. Иначе не могу: нет у меня сейчас простых слов, хотя всё это и сейчас в моём сознании ясно и просто.
И он снова заговорил:
– Я дрожал от радости, от сознания и от победы. И чувствовал, как я поднимался всё выше и выше. От подъёма у меня кружилась голова, а во всём моём теле была какая-то круть, как будто кровяные шарики, изменив свой обычный путь, кружили крутые спирали… Да, да, одним словом, я тогда горел.
Тут Андрей Завулонов снова остановился, перевел дух и тихо, почти шёпотом:
– И вдруг мне страшно захотелось покурить. Вахмистр всё так же неподвижно сидел около воды и всё так же смотрел вперёд, за реку. Под моим черепом быстро повернулась мысль: „Наверное, и вахмистр думал то же самое, что и я. Он, наверное, тоже поднимался на вершины общественной мысли". Но тут же передумал, отбросил эту мысль в сторону, как ненужную. И это, пожалуй, было более верно, ибо вахмистр – человек высокой культуры, даже больше: он вершина многовековой культуры… От такого заключения я неожиданно испугался и посмотрел на вахмистра. И верно, в нём, в вахмистре, в его походке, взмахе его рук, в каждой складке его шинели покоилось всё духовное величие русской культуры. А в нас, ну, хотя бы во мне, разве есть культура? Никакой! А у вахмистра, о! Не только у вахмистра, а в его шинели была и есть настоящая культура… Многовековая культура! Об этой культуре сейчас многоистомными голосами орут „караул" по заграницам.
– Культура! Культура!
И это правильно! Ну какая, например, во мне, чёрт, культура! Никакой. Я просто варвар. Да, да, варвар, какого ещё не знала культурная, человеколюбивая Европа… Да прибавьте ещё к этому чёрную кровь… И получится тип выше варвара… А в вахмистре, повторяю, культура. И вот я – варвар, изверг, – как хотите, теперь называйте, мне всё равно, – гнался за этой благородной культурой и хрипло кричал:
– Стой! Стой! Всё равно задушу вот этими руками…
И я посмотрел тогда на свои руки и, как сейчас, помню, как они заорали мне о своём многовековом рабстве… От их крика мне ещё больше захотелось покурить. Возможно, и вахмистр так думал о культуре, о себе, как о носителе культуры, и обо мне, как о варваре. Возможно, что после всего этого и вахмистру захотелось покурить. О, куда на этот раз девалась культура? Неужели и она по-звериному дрожала за свою жизнь? Но это опять утверждать не берусь. Но всё же возможно. Ведь вахмистр так же, как и я, грешный, на бегу, в погоне за жизнью, чтобы не задохнуться, чтобы не лопнуло его сердце, яростно хватал снег и тут же кидал его в рот. Все его движения были похожи на мои движения. Все мои движения были похожи на его движения. И ему, наверное, так же был приятен снег, как и мне. Но всё же в вахмистре была культура, а во мне – ни капельки… Во мне только текла чёрная рабская кровь… Повторяю, мне страшно захотелось покурить. Я взглянул на месяц. Месяц опустился ниже и тоже был рад: ему тоже захотелось покурить. Я достал кисет, стал распоряжаться, но не успел я закурить, как голова вахмистра повернулась в мою сторону и сказала:
– Товарищ, дай покурить.
Я вздрогнул, посмотрел на вахмистра и сказал:
– Хорошо.
И закрутил две цыгарки.
– Огонь есть у вас?
– Нет, – сказал вахмистр. – Вы прикурите и бросьте мне сюда.
Я так и сделал. И мы сидели недалеко друг от друга и покуривали. Месяц склонился ещё ниже и одним краем касался головы вахмистра и моей и, раскачиваясь из стороны в сторону, тоже покуривал. А мы сидели и покуривали, и дымок, который мы выпускали, был не дымок, а какие-то общечеловеческие ниточки. Они, эти общечеловеческие ниточки, тянулись от меня к вахмистру, а от вахмистра ко мне. Ниточки вахмистра, я не знаю, тревожили ли вахмистра мои ниточки, опутывали ли его сердце всечеловечностью, но его – взбирались в меня, кружились около моего сердца, рассказывали о всечеловеческой любви и о том, что все люди одинаковы. От таких ниточек мне стало неприятно, и я, чтобы порвать эти ниточки, бросил в сторону цыгарку. Смотрю – то же самое проделал и вахмистр. И я тогда подумал: „Наверное, и мои ниточки вахмистру не давали покоя, путали его сердце всечеловечностью". И мне стало страшно, противно за себя, как это я мог допустить такую слякоть… Ведь всечеловечность в наше время – это слякоть, она разбавляет волю, ослабляет боевую силу, а главное – разряжает жажду к победе. А я, ведь, так хотел победить и завладеть жизнью… Да, да… Я страшно хотел завладеть жизнью… И мне за всечеловечность стало стыдно и больно. Наверно, также и вахмистру. И я взглянул на месяц: месяц упал и трепыхался под ногами вахмистра, в луже воды, выступившей из-под снега. Мне показалось тогда, что и месяц хихикал надо мной:
– Мазня! Мазня!
Возможно, что месяц хихикал и над вахмистром и хрипел ему:
– Мазня! Мазня!
Ведь мы оба рвались через смерть к жизни. Ведь мы оба, чтобы не лопнули сердца, хватали на всём бегу снег и кидали его в пересохшее горло.
– Оба! Оба! – хрипел месяц.
Пока месяц хрипел, я снова поднялся на вершины общественной мысли, посмотрел оттуда на нашу грешную землю и кубарем слетел обратно, больно, до крови ущипнул себя за ухо и громко сказал себе:
– Ты ли это, Андрей Завулонов?..
Тут Андрей Завулонов встал с кресла и обошёл всех нас, показывая ухо. Мы все почтительно, по очереди, поднимались, вытягивали головы и рассматривали метину на краешке уха Андрея Завулонова… Мы успокоились только тогда, когда Андрей Завулонов сел.
Острая боль заставила меня успокоиться и взяться за револьвер. Я достал из кармана шинели револьвер, положил его на колени и обратился холодновато-спокойным голосом к вахмистру:
– Покурили, гражданин?
– Да, товарищ, покурил, – ответил вахмистр, и тоже спокойно-холодноватым голосом, а слово „товарищ" было им как-то особенно произнесено.
В слове „товарищ" не было той теплоты, той братской любви, с которой произносим мы, а было что-то холодное и злое. Правда, и у нас теперь как-то слово „товарищ" выветривается, становится не таким, чем было оно раньше, а каким-то сухим, машинным, и веет от него не любовью, а производством. Но у вахмистра оно было ещё хуже.
– Вы долго будете так сидеть? – крикнул я.
– Столько же, сколько и вы, – ответил вахмистр.
– Я требую, чтобы вы немедленно вышли сюда! – крикнул я ещё громче.
– А я требую, чтобы вы спрыгнули ко мне, – громко бросил вахмистр.
Эхо перекидывало по реке наш разговор. Я ничего ему не ответил, и он мне больше ничего не сказал. Он всё так же, не оборачиваясь ко мне, смотрел вперёд за реку Гнилушку. Я взял с колен наган, осмотрел барабан (пуль полно), поднял курок, осмотрел и нашёл не в порядке боёк – подогнулся, отчего не было выстрела в первый раз, когда я целился на бегу в вахмистра. Чтобы исправить боёк, я достал перочинный ножик и отогнул его. Когда привел в порядок боёк, я снова обратился к вахмистру. Вахмистр всё так же сидел ко мне спиною. Вокруг нас было совершенно тихо. Месяц был спокоен и лениво покоился на небе и отражался в воде, выступавшей из-подо льда. Месяц уже больше не хрипел, не хихикал. Только позади нас, на деревне, нарушали тишину своим криком петухи: кричали первые петухи.
– Выходите! – крикнул я решительно. – Буду стрелять.
– Хорошо, – сказал вахмистр, повернулся ко мне лицом, распахнул шинель и выпятил грудь.
Я видел отчётливо ощетинившиеся рыжие усы, редкие оскаленные зубы и широко раздвинутые глаза.
– Сдавайтесь, – крикнул я в последний раз, – буду стрелять.
– Мне всё равно, стреляйте, – ответил спокойно вахмистр и переступил два шага вперёд. – Ваша взяла. Цельтесь только, товарищ, лучше, чтоб сразу было… – И он ещё подошёл на два шага.
– Стойте! Стойте! – закричал я. – Больше ни с места! – И я, не вставая с берега, взвёл курок и с колена…
– И что же? И убили? – неожиданно спросил его помощник.
– Наповал, – сказал Андрей Завулонов.
Я спустился к вахмистру, осмотрел его: он самый. Поднялся наверх и направился обратно. На пути я вспомнил, что в городе восстание, но делать было нечего, и я решил идти на деревню. Когда я пришёл в деревню, стало уже светло. У первого попавшегося мужика я спросил:
– Не видали ли вы тут военных?
Мужик осмотрел меня с ног до головы и, не сказав ни одного слова, показал на небольшой домик. Я направился к этому домику. У домика меня встретил военный комиссар и два красноармейца. Военный комиссар сказал:
– Мы думали, что вы, товарищ Завулонов, погибли.
– Напрасно так думали, – засмеялся я и спросил, – что ж теперь будем делать?
– Обратно, – ответил военный комиссар.
Я посмотрел на комиссара.
– Ведь там же восстание.
– Какое? Никакого там нет восстания! – удивился военный комиссар и широко открытыми глазами посмотрел на меня. – Какое восстание и кто вам сказал?
Я рассказал вкратце, что было у меня в комиссариате с Аскольдовой. Военный комиссар хохотал. А после смеха рассказал – в чём дело. Красноармейцы вели осуждённых к расстрелу. Вести нужно было по Рождественской улице на окраину города, где находится свалка. Когда довели и поравнялись с клубом имени Карла Либкнехта, то в это время в клубе закончилось заседание, и вся масса людей выкатилась на улицу, запрудила собой. Красноармейцы-конвойные, видя, что дело плохо, скомандовали освободить мостовую, но разве можно на такой узкой улице это сделать? Получилось замешательство. Осуждённые воспользовались случаем – и в толпу. Стрелять было совершенно невозможно. Но красноармейцы всё же сделали вверх несколько выстрелов. Получилась страшная паника. Многие приняли выстрелы за восстание. Дезертиры этим воспользовались и бежали.
Комиссар снова захохотал:
– Так это вы наш ответ „бежали" приняли за бегство от восставшего города?
– Да, за бегство, – ответил я.
Комиссар всё хохотал.
– Ну, как ваша погоня?
– Моя? – спросил я.
– Да.
– Увенчалась полной победой.
– Что вы? Так где же он?
Я показал на берег реки.
– Мы тоже одного поймали с крестьянами, – сказал военный комиссар и повёл меня во двор.
На дворе стояла лошадь, запряжённая в розвальни. В санях лежал человек с окровавленным виском, – как выяснилось впоследствии, один крестьянин ударил обухом топора. Человек был крепко прикручен к саням возовой верёвкой. Голова у этого человека была немного откинута назад. Около головы лежала большая краюшка чёрного хлеба, – русский мужик – добрый, – от которой человек, выгибаясь, как червяк, из верёвок, жадно грыз окровавленными зубами. От такой картины меня всего передёрнуло, я отвернулся и вышел на улицу.
– Кажется, этот самый? – спросил военный комиссар.
– Да, этот самый, – промычал я.
Старые, неизвестно каких времен, большие и похожие на музыкальный ящик часы пробили час, всколыхнули хозяина пивной, потревожили дремавшую канарейку.
Хозяин поднялся со стула, тяжело просопел:
– Да-а… Сумасшедший человек… – и медленно прошёл за буфет.
Канарейка почесала острым носиком около хвостика и подвернула головку под другое крылышко; на пол шумно упало несколько семян.
Евгений посмотрел на часы, вытер лицо, выпил стакан пива и обратился к слушателям.
– Вот какие дела-то… Вы в Москву?
– Да.
– Все?
– Все.
– А во сколько поезд отходит?
– Поезд?
– Да.
Слушатели переглянулись друг с другом.
– В семь утра, по-местному, – сказал Павел.
– Так, – протянул Иванов и тоже выпил пива. – По всему видно, что человек развинтился.
– А что же с этой девицей, Аскольдовой-то? – спросил Петька и упёрся глазами в Евгения.
– Да, да, – завозились остальные.
– С Аскольдовой? – спросил Евгений. – Женился на ней. Хорошая была женщина. Дралась против белых не хуже нас…
– Из купцов, и то…
– А так что ж, если в ней сознание…
– Ишь, шкура, – бросил из-за буфета хозяин. Но на него никто не обратил никакого внимания.
– А теперь? – спросил Петька.
– Её расстреляли врангелевские офицеры, а грудного ребёнка посадили на штык и выбросили с третьего этажа…
– А вы… вы-то где были? – дёрнулся Иванов и затопал ногами около стола. – Вы-то где были?..
– Дрались на одной станции.
– Дрались… – протянул безнадёжно и с упрёком Иванов и сел на стул. – То-то он, бедный, покоя не находил дома… Все ребёнка отыскивал… Да этот ещё нэп…
– Много погибло и много больных и физически, в нравственно, многие не выдержали новой политики, развратились, – сказал один из слушателей, по виду из рабочих, – но это ничего… Мы своё дело, начатое Ильичом, доведём… Дело верное, можно сказать… – и шумно опрокинул стакан.
– Правильно! – сказал Павел и крепко пожал ему руку.
Евгений ничего не ответил. В пивной наступила тишина. Дремала беззаботно канарейка, да хозяин бегал бледно-зелёными глазками по столикам, а когда обежал столы, остановился на Петре.
– Закрывай. Развесил уши-то…
Пётр застучал ставнями. Гости взялись за корзинки, за мешки, взвалили их на плечи и направились к выходу.
Евгений, покачиваясь, встал из-за стола и на ходу, подавая хозяину записку, сказал:
– Если придёт к вам Андрей Завулонов, то вы будьте любезны передать эту записочку ему.
И медленно вышел из пивной.
За ним хрипло закрылась дверь.
VI
Москва. Курский вокзал. Бывший комиссар по борьбе с дезертирством Андрей Завулонов, а нынче просто, как его называл Евгений, Андрей Завулонов, вышел из только что подошедшего на всех парах поезда на перрон, и с перрона, с густой, многоцветной толпой, подёргивая острыми плечами, подпрыгивающей походкой скатился по крутой лестнице в тоннель, а оттуда на вокзальную площадь.
Было далеко за обед. С вокзала катилась густая толпа в центр города. На вокзальной площади Андрей Завулонов остановился, улыбнулся уголками губ какому-то человеку, а потом запрыгал синими жилками этому человеку в лицо. Человек переступил с ноги на ногу, переложил облезлый от времени и туго набитый портфель из правой руки в левую, повернулся спиной к Андрею Завулонову и стал как-то странно подёргивать жирным задом. Человек с облезлым и туго набитым портфелем чихал. Андрею Завулонову показалось, что у человека в левой руке не портфель, а второй запасной живот. Андрей Завулонов задёргал острыми плечами и ещё больше запрыгал синими жилками. Синие жилки молодыми червячками запрыгали из-под больших синих глаз и с выпуклого лба… Андрей Завулонов смеялся.
– Хе-хе.
Человек с жирным задом тоже смеялся.
– Хе-хе.
Подошёл трамвай, остановился, вытряхнул из себя содержимое, которое быстро поползло по вокзальной площади. Человек с жирным задом вскинул голову и, оттопырив живот, прошелестел отвислыми влажными губами:
– Тридцать первый, на Арбатскую площадь.
Андрей Завулонов тоже вскинул голову и прошелестел губами:
– Тридцать первый, на Арбатскую площадь.
Человек с жирным задом и с облезлым и туго набитым портфелем в левой руке вошёл в трамвай и сел на лавочку.
Андрей тоже вошёл в трамвай.
Человек с жирным задом открыл портфель, достал из него пакетик, открыл пакетик и двумя пухлыми пальцами достал один леденец, положил его в рот и, убирая пакетик обратно в портфель, повернулся к окну и стал переваливать леденец на нижней, немного оттопыренной губе.
Андрей Завулонов тоже повернулся к окну. У Андрея Завулонова не было портфеля. У него не было и пакетика с леденцами, но всё же Андрей Завулонов зашевелил, зашелестел тонкими бледными губами, похожими на атлас, и даже, подражая незнакомому человеку, нижнюю губу оттопырил немного.
Вошло ещё несколько человек в трамвай. Раздался сигнальный звонок. Трамвай задрожал, рванулся и, слегка покачиваясь из стороны в сторону, загудел пчелиным роем. Пробежали Садовая, Покровка, часть Китайской стены, Лубянская площадь, Охотный. Человек с жирным задом тяжело поднялся и приготовился к выходу. Трамвай остановился, и человек вышел, прошёл мимо трамвая, взглянул, как показалось Андрею Завулонову, ему в лицо; Андрей Завулонов дёрнулся и бросился было к выходу, но трамвай снова загудел, задребезжал. Андрею Завулонову показалось, что этот человек с жирным задом не кто иной, как вахмистр. Недаром он, проходя мимо трамвая, так внимательно посмотрел на него, Андрея Завулонова, и даже подмигнул коричневым глазом:
„Здравствуйте, товарищ комиссар. Не желаете ли вы на Арбатскую площадь, в ресторан «Хоровод» и там под музыку свиную котлету скушать?.."
Андрей Завулонов приехал на Арбатскую площадь, выкатился из трамвая, пересёк площадь и прямо упёрся в парадную ресторана «Хоровод». Он, Андрей Завулонов, открыл тяжёлую дверь, окрашенную в тёмно-коричневый цвет, и вошёл в подъезд.
К нему навстречу бросился швейцар:
– Вы куда, гражданин?
Андрей Завулонов остановился. На его лице снова запрыгали синие жилки.
Швейцар осмотрел Андрея Завулонова от головы до пят и тоскливо бросил:
– Нельзя. Не подают.
Андрей Завулонов подошёл вплотную к швейцару, костлявыми пальцами вцепился в блестящие пуговицы ливреи и весь задёргался, заколыхался от смеха.
– Проходите, ваша милость, – вырвавшись из пальцев Завулонова, испуганно прохрипел швейцар и отошёл в сторону.
Андрей Завулонов, отражаясь в зеркалах, вошёл в зал ресторана. В ресторане было свободно. Большинство столов не занято. Он сел за свободный столик. На него, отражая свет лысинами, взглянуло несколько жирных физиономий. На него взглянуло из-под широких шляп, украшенных страусовыми перьями, несколько пар женских глаз.
К Андрею Завулонову подошёл официант. Официант тоже осмотрел Андрея Завулонова.
– Дайте мне котлету– сказал Андрей Завулонов и положил правую ногу на левую.
– Какую прикажете? – спросил насмешливо официант.
Андрей Завулонов заиграл синими жилками.
– Ну, конечно, свиную.
Опять шевельнулись лысины, колебля свет, опять блеснули из-под широких шляп глаза женщин.
– Слушаю, – сказал официант и отошёл.
Шелестел шёлк. Приятно и нежно звенел хрусталь.
Пело, скользило по фарфору серебро. Цвели жирные физиономии. Играли глаза. Пахло свежими розами.
Андрею Завулонову подали свиную котлету. Он снял правую ногу с левой, повернулся лицом к столу, взял вилку и ножик, разрезал котлету на мелкие кусочки.
– Дайте бутылку пива.
Подали бутылку пива. Андрей Завулонов налил пива в фужер, выпил, а затем прожевал кусок свиной котлеты.
– Вы изволите кушать котлету? – спросил чей-то серьёзный, но ласковый голос.
Андрей Завулонов положил вилку, вскинул глаза: рядом с ним никого не было. Официант был тоже далеко. Лысины и дамы с широкими шляпами были тоже далеко, а главное, были заняты собственным делом. Андрей Завулонов осмотрел стулья, что стояли за его столом, – никого.
– Что бы это значило? – сказал громко он.
– Что прикажете? – метнулся в его сторону официант.
– Ничего, ничего, – ответил Андрей Завулонов.
Официант отошёл в сторону, занял своё прежнее место.
Андрей Завулонов положил ещё один кусочек свиной котлеты в рот.
– Свиную котлетку изволите? – опять спросил этот же голос.
Андрей Завулонов дёрнулся, заиграл синими жилками, осмотрел свой стол, осмотрел несколько соседних столов – никого. Тогда он поднял голову кверху, осмотрел потолок, бронзовые люстры. С потолка перевёл глаза на одну из стен, что как раз была напротив него. На этой стене в тяжёлом багете, украшенном в красный шёлк, находился портрет Ленина. Глаза Андрея Завулонова встретились с глазами Ленина. Андрей Завулонов вздрогнул, вытянулся.
– Простите. Я просто…
– Ничего, ничего, – сказал ласково Ленин и, стараясь выпрыгнуть из тяжёлого багета, завозился.
– Я сейчас, сию минуту, и приду к вам.
И, действительно, не прошло и нескольких минут, как Ленин был уже рядом с Андреем Завулоновым и хлопал его ласково по плечу.
– Ничего, ничего, товарищ Завулонов, не волнуйтесь…
– Мне просто пожелалось свиную котлетку…
– Пожалуйста, пожалуйста… – успокаивал Ленин. – Я подожду… – И Ленин, улыбаясь огненными глазами и стараясь быть незамеченным, сел на стул.
– Вы кушайте, а я посижу…
От неожиданности Андрей Завулонов страшно волновался.
– Я просто, Владимир Ильич, так зашёл… Я больше не буду…
Ленин встал, громко, беззаботно рассмеялся, подошёл к Андрею Завулонову, взял его по-отцовски за плечи и громко сказал:
– Садитесь, зачем оправдываться. Я ведь хорошо вас знаю… Вы ведь когда-то были прекрасным революционером…
Андрей Завулонов сел. Ленин тоже.
– Кушайте скорее, – предложил Ленин. – Как скушаете, так мы вместе и удерём отсюда. – И, наклонившись над столом, прошептал на ухо Андрею Завулонову:
– Ну, надо же мерзавцам повесить мой портрет в кабаке…
– Я готов, – сказал Андрей Завулонов. – Я больше…
– Нет, нет, – запротестовал Ленин. – Вы обязаны всё докушать… Вы ведь за свиную котлету денежки платили, а раз платили, так извольте… Да, да… Так извольте докушать… Я страсть таких людей не люблю, а в особенности революционеров.
– Я, – лепетал Андрей Завулонов, – я…
– Никаких „я"… Мы должны быть материалистами не только на словах, но и на деле… Да, да… Никаких „я"… Разве вы не помните слова многоуважаемого нашего Льва Борисовича Каменева: „Потерянная Советской властью копеечка не улетает на небо, а самым настоящим образом оседает в карман к нэпману…"
И Ленин громко рассмеялся.
– Прекрасные слова.
Андрей Завулонов тоже рассмеялся и стал доедать свиную котлету.
– Готово? – спросил Ленин.
– Да, – ответил Андрей Завулонов.
Ленин взял Андрея Завулонова под руку и повёл его к выходу. Когда они вышли на Арбатскую площадь, стало уже темно. Электрические луны раздвигали мглу вечера.
– Вахмистр, вахмистр! – закричал Андрей Завуло-нов и рванулся за вахмистром.
Но Ленин крепко держал его под руку.
Андрей Завулонов глазами бежал за вахмистром, прыгал на него синими жилками. Андрей Завулонов совершенно позабыл, что рядом с ним стоит его любимый вождь – Ленин. Он бежал и бежал глазами за вахмистром. А вахмистр, как нарочно, остановился на конце Арбатской площади, как раз против Художественного театра, скалит редкие зубы, топорщит рыжие усы, вскидывает коричневым глазом: я жду, мол.
– Вахмистр! Вахмистр! – кричал, дёргался Андрей Завулонов.
Ленин сокрушённо покачал головой, провёл ладонью от затылка до лба и с болью в голосе сказал:
– Вы немного воняете, товарищ Завулонов… Вы на арене нэпа спасовали… Да и на фронте гражданской войны, как я помню, вы изрядно пахли идеализмом… Да, да… Даже порядочно… А теперь совершенно спасовали… Прощайте… Всего хорошего… Вам с рабочими не по пути…
Андрей Завулонов вскрикнул и бросился за Лениным, но тут же остановился и захохотал: перед ним стоял вахмистр, а за вахмистром – ещё вахмистр…
– Здравствуйте! Это вы дали мне покурить?
– Моё почтение! Это вы меня угостили табачком?
Так, здороваясь, кричали вахмистры. Так кричала вся Арбатская площадь.
– Это вы дали мне покурить?
Андрей Завулонов вытянулся и – бегом через Арбатскую площадь на Воздвиженку.
– Ага! – кричали вахмистры. – К Шапирштейну!
– Ага! К Шапирштейну! – кричала Арбатская площадь, а за ней Воздвиженка, улица Герцена, Тверская…
Андрей Завулонов не бежал. Андрей Завулонов летел, даже можно сказать, Андрей Завулонов не чувствовал себя. Андрея Завулонова не было: он весь расщепился, рассыпался на синие жилки и, жилками подпрыгивая, скакал на Кузнецкий Мост, к магазину Исаака Шапирштейна.
– Стой! Стой! – кричали вахмистры.
– Стой! Стой – кричала мостовая.
Андрей Завулонов дико заметался по Кузнецкому Мосту, отыскивая магазин Исаака Шапирштейна.
Магазин Исаака Шапирштейна пропал, провалился.
Вместо магазина Исаака Шапирштейна – другой магазин. И много магазинов. Магазин на магазине: тут магазин Абрама Френкеля, тут магазин Яна Вельможного, тут…
…тут…
…тут… магазин Ермолая Облапина… тут…
…а Исаака Шапирштейна… нет…
– Стой! Стой!..
Андрей Завулонов, изгибаясь и расталкивая перепуганный жир, одетый в шелка, в трико, веером синих жилок метнулся в ярко освещённый подъезд пятиэтажного дома…
– Стой! Стой!
И видит Андрей Завулонов, как подъезд наполняется вахмистрами. Наполнился. И как эти вахмистры, держа под мышками толстые портфели, взбирались к нему по ступенькам всё выше и выше… И он, Андрей Завулонов, всё выше… выше… и… Андрей Завулонов на пятом этаже, нагибается через перила, хохочет в пролёте лестницы.
– Хе-хе. Хе-хе.
А когда вахмистры добрались до пятого этажа и только что было хотели ему сказать:
– Не бойся, мы спецы!
Андрей Завулонов широко растопырил пальцы, приставил их к носу и выставил навстречу вахмистрам, а потом подпрыгнул – и в пролёт…
– Сто-о-ой!
…Но было поздно. Там уж, внизу, на мраморных плитах вестибюля лежало серое пятно, а вокруг него огненным венцом густые капли крови.
Лестница глухо гудела.
…А в этот день по Кузнецкому Мосту и по другим улицам к мавзолею Ленина проходили миллионные колонны рабочих и крестьян.
Михаил Барсуков
Писатель Михаил Барсуков входил в литературную группу «Перевал», почти все участники которой были в 30-е года расстреляны: Воронский, Зарудин, Иван Катаев и др. Много их было. Платонов и Пришвин успели выйти из группы до репрессий и остались живы. В 70-е перевальцев после долгого забвения стали потихоньку издавать, но их уже почти никто не помнил. Судьба Михаила Барсукова неизвестна.
Глеб Глинка, участник «Перевала», а после войны – писатель «второй волны» русской эмиграции, в книге «Перевал. Уничтожение литературной независимости в СССР» сообщает: «В это же время большие надежды подавал Михаил Барсуков, автор «Мавритании» и «Жестоких рассказов», но судьба этого молодого даровитого писателя трагична: год от году, по мере развития тяжелого душевного заболевания (шизофрения), способности его гасли, и даже в первых рассказах Барсукова уже можно почувствовать некоторое нарушение душевного равновесия, что, быть может, и придавало им особый колорит».
Нерассказанная любовь
I
Молодой художник Александр Николаевич Безруков, – или просто Саша, как его часто еще называли, – после гражданской войны и демобилизации поселился в Москве.
В Красную армию Саша попал семнадцатилетним юнцом и пробыл в армии четыре года. За это время он сменил несколько должностей: был и художником полкового клуба, и заведующим его, и политруком артиллерийской части, и инструктором подива по внешкольной работе.
В армии же Саша поступил в коммунистическую партию, но почти сейчас же по окончании гражданской войны из партии его исключили. Произошло это по случайной причине и для Саши неожиданно. Однако достаточного желания хлопотать о своем восстановлении Саша в себе не нашел. В скором времени он даже позабыл о том, что когда-то принимал участие в партийной работе, посещал собрания, слушал множество докладов и выполнял поручения, которые на него возлагались. Художником же Саша был способным и в Москве как-то очень скоро и хорошо устроился. Одна из его картин экспонировалась на выставке группы молодых художников и имела значительный успех. Благодаря этому Саша приобрел некоторое имя, и в заказах не нуждался. Отношения с учреждениями, которые Саша обслуживал, установились у него хорошие – держался он просто, но не без юношеского достоинства, и это в нем уважали.
И Саша был доволен тем, что после долгих мытарств, после неспокойных и трудных лет, ему удалось наконец зажить интересной и сравнительно легкой жизнью. И, может быть, потому, что в годы гражданской войны он почти ежедневно сталкивался все с новыми и новыми людьми и все время находился в человеческой гуще, теперь Саша полюбил одиночество. Он лишь изредка встречался с немногими знакомыми, но прочных и глубоких отношений не завязал ни с кем. Самого же Сашу в среде его знакомых ценили за положительность, за спокойный характер, и только наиболее проницательные угадывали порой в его спокойствии настороженную замкнутость. Женщинам Саша нравился и, чувствуя свою привлекательность, любил хорошо одеваться, был всегда тщательно выбрит и, хотя уже более года прошло с того времени, как Саша демобилизовался, он все еще часто ходил в синем военном костюме, который к нему особенно шел. К этому надо прибавить лишь то, что как Саша ни следил за собой, но на всей его внешности лежал отпечаток то ли грубоватости, то ли некоторой неловкости – чего – сразу нельзя было даже уловить: настолько естественными были в нем эти черты.
На второй год пребывания в Москве Саша занялся работой над большим полотном, темой которого избрал мотив гражданской войны. К тому времени, о котором идет рассказ, большая часть работы была уже закончена, и Саша показывал свою картину кое-кому из знакомых. И всех, кто видел ее, поражало в ней то, что написанные Сашей фигуры, лица, обстановка выглядели необычно мертво и в то же время ослепляли яркими, искусно положенными красками.
Работая над этой картиной, Саша стал жить еще уединеннее, чем раньше, и даже те немногие связи, которые у него до того времени были, как-то сами по себе потерялись и оборвались.
И это было для Саши тяжело. Со временем он стал испытывать в своем одиночестве тупую, гнетущую тоску, по ночам долго не мог заснуть и просыпался к утру с тяжелой, усталой головой. Стараясь преодолеть в себе это гнетущее состояние, Саша в то же время начал с сомнением относиться к своей работе. Он подолгу задумывался над законченными уже эскизами, заново варьировал их, ходил в галлереи и на выставки и, изучая работы лучших мастеров, то восхищался ими, то с раздражением чувствовал покорявшие его влияния.
Бросая работу, Саша бродил вечерами по Москве, не ища ни с кем встреч и успокаиваясь только после долгой ходьбы. И он полюбил даже эти свои странствия по нескончаемым, людным улицам, когда особенно хорошо думалось и в голову приходили случайные, счастливые мысли о дальнейшем ходе работы или, когда время занимали разные мелочи, неожиданные наблюдения, мимолетные встречи.
Иной раз, захваченный внезапным порывом вдохновения, Саша быстро возвращался домой и брался за работу или, оставаясь где-нибудь на бульваре, доставал этюдник и заносил в него то, чем дарила его воображение горячая минута. Если в часы такого бродяжничества Саше становилось скучно, он заходил в какой-нибудь общественный сад, смотрел там кино, наблюдал в антракты публику и, шагая по аллеям или сидя на крашеных, выгнутых скамьях, безостановочно курил. И ночной мир города – его жестяно-зеленые в электрическом свете деревья, серое, стрекочущее мелькание кино, ослепительно сияющие раковины духовых оркестров, дыхание нарядной толпы – создавали у Саши долгий нервный подъем.
А случайные прикосновения женщин, взгляды их темных блестящих глаз, громкий, неспокойный смех безотчетно влекли его, туманили разгоряченную голову.
Саша неспеша возвращался потом по серому асфальту пустеющих улиц, по темным бульварам и, поздно придя домой, ложился спать, не зажигая света. Но сон приходил нескоро. В голове проносились обрывки вечерних впечатлений, вспоминались серые безмолвные фигуры, мелькавшие по полотну экрана, и как будто прямо из темноты пустой комнаты смотрели женские улыбающиеся глаза. Грудь Саши разжигало тогда сладкой тоской, и он радостно пьянел от сонма обступавших его видений. Тишина и темнота, окружавшие Сашу, не рассеивали его воображения. Он лежал неподвижно, положив голову на локоть одной руки, далеко вперед выбросив другую, и не слышал ни своего глубокого шумного дыхания, ни трамвайных звонков, дробных и ускользающих, которые глухо доносились с ночной улицы на пятый этаж дома.
Подчас сладкая тоска, овладевавшая Сашей, становилась мучительной, и он, сдерживая в себе волнение, тяжело и прерывисто вдыхал разогретый воздух, точно хотел, чтобы в нем что-то прорвалось и освободило его от гнетущей тяжести. Не преодолев ее, он потом напряженно вытягивался всем телом и так незаметно засыпал.
Ночь проходила в отрывочных снах. Иногда Саша, едва заснув, внезапно пробуждался и, мокрый от духоты, чувствовал, как тяжелыми, свинцовыми ударами бьется его сердце. И, глядя в темноту сведенными глазами, он с подавленным страхом вспоминал видения снов, то, как его преследовали во сне, и он, оцепеневший от ужаса, не мог двинуться с места. В другой раз Саша просыпался уже без страха, но истомленный жаждой, и шел босой по холодному полу в кухню – к водопроводу.
Летний рассвет наступал рано, и, только к утру забываясь спокойным сном, Саша снова грезил откровенными женскими образами – заполнявшими потом безмерным и хвастливым бесстыдством его сновидения.
Утром, когда комната была полна жарким, слепящим блеском солнца, Саша лениво просыпался, вспоминал миновавшую ночь с чувством недоумения и потом, поднявшись, шел купаться или гулять по бульварам. День проходил как-то незаметно, в работе, в сутолоке учреждений, а к вечеру беспокойство возвращалось опять, работа валилась из рук, и все – и комната, и ее обстановка, и скрытый зеленым абажуром электрический свет, смугло лоснившийся на паркете и оттенявший черноту открытых окон, – все казалось Саше скучным и безрадостным. И только шумевшая внизу улица, глубокая, как дно бассейна, тянула к себе своим аспидным асфальтовым лоском, нестройным потоком голосов и движенья, звоном трамваев и блеском огней.
Саша приписывал свое неспокойное, тяжелое состояние переутомлению – в последнее время он работал очень много – и, еще установившейся со второй половины июня, невыносимо знойной погоде.
И вот как раз в эти дни Саша встретился со своим старым приятелем Сергеем Липецким.
II
Саша и Липецкий не видались больше пяти лет.
Когда-то они вместе учились в гимназии, жили в одном городе и одно время были очень дружны. Общительный, подвижной, со всеми знакомый – Липецкий тогда коноводил в гимназии, редко вылезал из четырех по поведению, но учился хорошо. Он же выпускал литературный ученический журнал, который Саша снабжал рисунками. На работе в журнале они тогда и сошлись.
В первые месяцы революции Саша слышал, что Липецкий вступил в партию, работал где-то в партийном комитете и уже в своей новой роли пользовался общим вниманием.
Теперь они случайно столкнулись на Тверской в июньский полдень, когда весь город, с побелевшими от зноя и как будто нарисованными домами, был залит солнцем.
Встретившись, Саша с Липецким зашли в ближайшую пивную и после получасового разговора вновь почувствовали себя друзьями. И хоть Саша в последнее время избегал встречаться с людьми, но воспоминанье о недавнем прошлом, было ему приятно. И поэтому, должно быть, не прошло и нескольких дней, как Саша собрался поехать к Липецкому на дачу.
Когда в день этой поездки они сошлись в переполненном вагоне трамвая и приехали на вокзальную площадь, было уже довольно поздно, и площадь дымчато голубела в ранних сумерках. Небо – совсем еще светлое на закате – от перистых облачков было разноцветным, и на нем темно вырастало в глубине площади здание вокзала с желтым, светящимся циферблатом часов.
В широкие двери вплывала пестрая толпа. На перроне нельзя было протолкнуться, и в общей суете и гаме тяжело гремели по асфальту багажные тележки. Саша с Липецким только-только успели войти в вагон, как поезд тронулся, загремел по стрелкам мимо бесконечных пакгаузов и, прибавляя скорость, вырвался на простор.
Раскаленный июльским солнцем город остался позади, и мимо поезда поплыли уже по вечернему призрачные, темные кущи деревьев.
В вагоне было сравнительно спокойно. В полумраке, в ритмичном бое колес приходило сонное успокоение.
Липецкий после городской суеты и вокзальной спешки тоже сначала было притих, но, когда отъехали дальше, он, постепенно оживляясь, начал рассказывать о своей жизни за последние годы, о разных встречах, о Крыме, где долго жил перед переездом в Москву. В окно немного надувало – приятно и легко было дышать теплым вечерним воздухом, напоминавшим о темных полях, мимо которых мчался поезд, о их сонном забытьи под звездным небом.
Минут через двадцать пути Саша и Липецкий сошли на дачной платформе, полной людьми, которые серыми тенями двигались и грудились в темноте.
Выходя из вагона, Липецкий окинул взглядом платформу и потом направился, проталкиваясь в публике, к отгораживавшей платформу железной решетке.
– Нюша! – крикнул он, догоняя белевшую в темноте фигуру, и, подойдя к обернувшейся на его голос жене, поздоровался с ней и познакомил с ней Сашу.
Когда вышли на дачную улицу, то уже где-то далеко, за деревьями, мелькали в прозрачной ночной темноте красные сигнальные огни поезда, доносившего размеренный стук колес.
Вечер был душным, и в его духоте темные деревья, обступившие улицу, поросшую травой, казались отяжелевшими и пыльными. И все же после города, приятны были чистый воздух и густой запах берез, мешавшийся со свежим веяньем земли от политых клумб и приторным ароматом цветущего табака.
Пройдя улицу, они вышли на проезжую дорогу, которая пересекала дачную улицу. Дачи здесь широко расступались, и темнота ночи просторно уходила в поле. И хотя солнце давно уже зашло, все еще мглисто пылала земляничным цветом узкая полоска зари.
И чем-то давно знакомым повеяла на Сашу эта заря, сухой настой воздуха, уют желтых дачных огней, сквозивших кое-где в черном кружеве ветвей, близость смутно-белой фигуры, которая шла немного впереди по узкой сухой тропе, серевшей в мраке.
Дача Липецкого была как раз за дорогой, и почти сейчас же за дачей начинался высокий сосновый лес. Перейдя кочковатые, заросшие травой, колеи, Липецкий отворил калитку, и, когда вошли в окружавший дачу небольшой сад, Саша увидел свет на широком балконе и сидевших там людей. После того как Саша и Липецкий умылись, подавая друг другу воду из эмалированной кружки (Липецкий, умываясь, с наслаждением отдувался), Саша познакомился со всеми находившимися на балконе. Двое из них сидели за шахматной доской, четверо остальных играли в карты.
И только здесь Саша рассмотрел Анну Сергеевну – жену Липецкого, поразившую его огромными, блестящими глазами и молчаливой, но живой улыбкой лица.
После Москвы на Сашу повеяла дачная обстановка непривычной тишиной и покоем. Он неспешно пообедал вместе с Липецким и потом они долго, почти не разговаривая, сидели на балконе, гуляли в саду.
Позднее собралась компания итти на озеро. И еще большим безмолвием пахнула за изгородью дачи ночная темнота.
Путь к озеру лежал прямо через лес, встретивший сосредоточенной, чуткой тишиной пустого дома. В тишине жарко пахло сосной, и над черными зонтообразными куполами сосен горели голубые звезды.
В лесу компания разбрелась. Саша шел с Анной Сергеевной и сначала молча прислушивался к тому, как пробегает по густым вершинам глухой ночной ветер. Под ногами, на мягком хвойном настиле, похрустывали сучки и шишки и по этому похрустыванию, да по сумеречно-белому пятну платья Саша узнавал шедшую рядом с ним Анну Сергеевну.
К озеру лес редел, и берег озера с дачной стороны был сухой, поросший до самого леса низкой лесной травой. На берегу серела в темноте сторожка лесовщика. После лесного мрака особенно просторной казалась береговая лужайка.
Озеро было небольшим, но от обступившего его со всех сторон леса казалось глубоким и таинственным.
И глубокое, черное его зеркало отразило алмазные украшения блестевших на небе звезд. Непотревоженная тишь стояла над водой, гладким полем подошедшей к берегам, и когда Саша сошел к самой воде на рыхлый, сырой песок, на него пахнуло запахом гниющих водорослей и ночной сыростью.
У озера Саша и Анна Сергеевна сошлись с остальной компанией и назад возвращались вместе.
Шли теперь по опушке, за которой широко раскинулись темные поля.
Неслышный ветер сухо шелестел в высокой ржи, светлевшей под покровом ночи, а в лесу все так же глухо, точно перед отдаленной грозой, роптали вершины сосен.
Выйдя на опушку, Саша с жадностью вдохнул в себя легкое тепло полевого простора, веявшего запахом сухой земли и полыни.
Потом от опушки, в сумраке которой под светлеющим синим небом словно вылитые из стекла стояли темные деревья, Саша перевел взгляд на Анну Сергеевну и почувствовал на своем лице поднявшееся от сердца тепло.
Спал в эту ночь Саша крепко и спокойно.
Утром его разбудил Липецкий, и он сразу поднялся с постели – бодрый, хорошо выспавшийся, как просыпаются когда в прошлом дне осталось что-нибудь хорошее, о чем хочется поскорее вспомнить. И когда, наспех позавтракавши, Саша вместе с Липецким уехал в город, у него так и осталось в памяти утреннее солнце над дачным поселком, тихие поиюльскому пышные деревья, сырой и нежный запах рассыпчатой резеды на длинной клумбе перед балконом и чуть отсыревшие в утренней росе дорожки.
Анна Сергеевна, собиравшая утром чай на балконе и подставившая Саше для пожатия кисть занятой руки, показалась ему уже давно знакомой. На ней утром были розовые чулки не в тон платью, и это было особенно, по-домашнему хорошо.
III
Утренние поезда шли битком-набитые молочницами и дачницами. Перед окнами вагонов плыли зеленые, солнечные луга, веяло в окна свежими полевыми запахами и на травянистых берегах речек виднелись купающиеся.
Москва же сразу обдала вокзальным шумом, пылью, уличным зноем.
Но когда Саша, приехав трамваем, слез на своей улице и миновав оптический магазин, над которым, поперек тротуара, висело рекламное пенснэ с синими стеклами, поднялся по гулкой прохладной лестнице на пятый этаж и пришел в свою комнату, ему как-то особенно пусто и молчаливо показалось в ней.
Дверь за Сашей захлопнуло сквозняком, и он, сбросив на ходу кепку, прямо прошел к углу, где стоял мольберт. Переставив его вперед, Саша открыл занавеску. По обычному ярко, празднично глянули с полотна краски, но Саше почему-то сразу бросилась в глаза масса недостатков его работы. Усевшись верхом на стул, и опустив подбородок на руки, сложенные на спинке стула, Саша долго и напряженно рассматривал картину.
И теперь впервые Саше показались правильными те отзывы, которые давали видевшие картину его знакомые. «Крашенный картон», – шевельнулось в уме у Саши, но эта мысль не показалась ему, однако, очень досадной, точно то, на что он смотрел, был его старый, давно превзойденный урок. И беспечно, с мыслями о том, как переработает картину, Саша опустил занавеску, подошел к окну и сел на горячий подоконник, куда улица доносила трескуче-дробные звонки трамваев, неспешное цоканье лошадиных копыт, слитный, глухой шум движенья.
За окном над всем пространством города – на крышах домов, на их стенах и в побледневшем небе – ослепительно блестело палящее, полуденное солнце. И Сашу потянуло на улицу. Он вышел в коридор, где жарко шумел чей-то примус, и, пройдя на кухню, попросил Ксению – одинокую, пожилую женщину, убиравшую в его комнате, приготовить ему чай. Наскоро выпив потом один стакан, Саша надел полотнянную панаму и сбежал вниз. И уличный шум сразу заполнил его. Итти по делам Саше не хотелось, он медленно брел по тротуару и ел из бумажного пакетика блестящие черно-лиловые вишни. На Пречистенском бульваре Саша встретил знакомого художника и посидел с ним на лавочке. Потом жаркий и вспотевший от полуденного зноя, он сошел к Москве-реке и долго купался.
Вода была теплая, и только ноги приятно холодели, уходя в щекочущий песок. Из реки хорошо было смотреть на сиявший в солнце город, на огромный и легкий храм Христа Спасителя, на торопливо снующие по набережной трамваи.
Искупавшись, Саша пошел обедать, за обедом с аппетитом ел холодный борщ, жаркое и потом долго не поднимался, осматривая пеструю, по-летнему нарядную публику. После обеда, не зная, куда деть день, Саша сел в трамвай и поехал на пристань. Там он купил билет до Воробьевых гор, вошел на пароход и, дожидаясь отправления, просмотрел газету. А когда винт с глухим плеском заворочался в воде, и пароход мелко задрожал всем корпусом и отчалил от пристани, Саша начал смотреть, как, медленно удаляясь, поплыли в сторону берега. На берегах потянулись красные корпуса фабрик, одноэтажные дома окраин и потом на левом берегу зелеными холмами встал Нескучный сад.
Сидя на самом носу, в тени полотняного с зубчатым бордюром навеса, Саша видел перед собой широкую даль жарко блестевшей реки, скользившие по ее расплавленной поверхности лодки и кички, купающихся, которые, тяжело двигаясь в зеленой воде, подплывали к самому пароходу и качались на его волнах. Пассажиров на пароходе было немного, из машинного отделения доносился глухой, торопливый шум, с тихим звоном вскипала вода у бортов. И все шире развертывалась вокруг парохода зеленая пышность привольных берегов.
Саше, который сидел, положив на железные перила переплетенные руки, казалось, что он никогда еще не испытывал такого полного, ничем не омраченного довольства и никогда еще не смотрел с таким наслаждением на голубой, объятый жаркой дремотой, купающийся в солнце мир.
Саша слез у Воробьевых гор, пошел вверх по зеленому склону и, поднявшись потом по лестнице, посмотрел на Москву. Москва раскинулась перед ним за светлеющей лентой реки во всей своей величавости и шири. В бледно-голубом бескрайном просторе сусальным золотом переливались ее купола, возносились, скрытые призрачной дымкой далей, легкие изваяния радиобашен, мутнел серый аспид и сверкала белизна зданий, лепившихся как кристаллы. Саша долго стоял на горе, прикованный глазами к панораме огромного города и легко дышал жарким воздухом, полным запаха нагретой зелени. Побродив потом по склонам, он сошел вниз, купался и, чувствуя, как снова покрывается каплями пота еще холодное после купанья тело, смотрел на другую сторону, на песчаный сияющий пляж, где светлели округлые, пригибающиеся фигуры купальщиц. Уйдя потом наверх, в тень деревьев, Саша долго лежал, слушая дремотный шелест зеленой листвы и отдаваясь чувству сладкой усталости. Незаметно он уснул, и когда проснулся, солнце было уже на склоне. Несмотря на то, что он лежал в тени, Саша проснулся весь мокрый, но просвежевший от сна, с ощущением бодрости во всем теле и проголодавшийся. Поднявшись на гору, он купил себе бутербродов, выбрал потом в киоске несколько потрепанных книжек универсальной библиотеки и пошел в сад.
Уже в сумерки, когда на улицах зажигались прозрачные в вечеру огни, Саша трамваем возвращался обратно в город. Домой ехать ему, однако, не хотелось, и, все еще не удовлетворенный, он сошел на Театральной площади. Она была залита вечерней жаркой мглой, и на меркнущем хрустально-синем небе рисовались силуэты ее зданий. Необъятно широко, дыша темнотой, выдвигался на площадь Большой театр.
И, сойдя с трамвая, Саша сразу оказался в потоке шаркавшей по асфальту вдоль скверов публики, услышал выкрики продававших фрукты лотошников и увидел поднимавшиеся над головами гроздья шаров, которые просвечивали на электричестве мутно-зеленым и багрово-красным цветом.
Опьяненный только-что миновавшим душным днем и жарким дыханием вечернего города, Саша чувствовал, как сладко плывет его голова и в неясных, волнующих ощущениях назревает тело, рождая жажду горячего веселья, быстрых движений, уверенного обладанья своими, полными неразрешенного наслаждения чувствами.
Вспомнив, что поблизости живут двое его знакомых, Саша решил зайти к ним и, покружив переулками, поднялся по темной лестнице двухэтажного дома вверх.
Он застал своих знакомых дома, они ему немного удивились, но были в то же время и рады, и, хотя Саша давным-давно не бывал здесь, неловкости он не почувствовал. Нашлось много, о чем побеседовать, а к вечеру в квартиру подошел еще кое-кто, пришли две женщины – одну из них Саша здесь же встречал раньше.
С их приходом Саша оживился еще больше: много говорил, смеялся, с интересом слушал других и все ясней видел, как его влечет к этим людям, к женщинам, какими обольстительными кажутся ему их легкие наряды, очертания обнаженных рук, устремленные блестящие глаза.
Поздно вечером все собрались в театр, после театра долго еще гуляли, и Саша вернулся к себе в комнату уже перед рассветом.
Долгий день, встречи, то, что он видел в театре, сияние ночного города разгорячили Сашу, и он лег в постель счастливый, с горящим лицом, со сладким чувством в груди. И когда лег и закрыл глаза, вспомнил темную опушку и сумеречное платье Анны Сергеевны.
Сладкая волна нежно и крепко напружила его сердце, и Саша тогда быстро, все чему-то улыбаясь, уснул.
На другой день он проснулся все таким же довольным, успешно занимался делами. И так у него прошло три дня, пока он не собрался на воскресный день снова поехать в Лидино.
Теперь Саша ехал один, потому что Липецкий уехал накануне, а у Саши субботний вечер был занят срочной работой.
Поднявшись в воскресенье пораньше, Саша побрился, напился чаю, и хотя ехать на вокзал было еще не время, но он сейчас же после чая вышел на улицу и медленно зашагал по бульварам. И как будто впервые видел Саша и эти бульвары, и поутреннему чистые ряды домов, и памятники на площадях – так много радости доставляла ему озаренная солнцем зелень, громкие голоса прохожих, трещание пролеток по мостовой, особое, праздничное оживление улиц.
На вокзале Саше также не пришлось спешить. И с тем же беспечным и легким видом прошел он через высокий зал, над белыми столиками которого темнела зелень искусственных пальм и который в глубине, там где был буфет, блестел мельхиором судков и ваз, вышел потом на перрон и, покупая билет до Лидина, почувствовал что-то как бы окончательное и жгуче-приятное, чего ожидал от сегодняшней поездки.
Поезд, на котором должен был ехать Саша, стоял у открытой платформы, и на солнце жарко сияли зеленые облитые бока его вагонов. Отирая со лба пот, Саша ходил вдоль поезда, слушая несмолкаемый шум и смотрел, как спеша, перекликаясь друг с другом, усаживались за окнами пассажиры.
Саша вошел в вагон, когда увидел вставшего на подножку, перед тем, как дать свисток к отправлению, кондуктора.
В вагоне он нашел место у окна и начал смотреть, как поплыли мимо поезда бесконечные пакгаузы, низкие окраинные улицы и как потом, когда все громче, все торопливей рокотавший по рельсам поезд вырвался на простор, по обеим сторонам его заблестели огромными водоемами низкие зеленые луга. И тогда вместе с чувством тревожного и радостного влечения к чему-то, которое еще на вокзале остро ощутил Саша, его захватило веяние простора, бесконечной свободы, словно грудь его открывалась ликованию зеленых склонов и сквозной голубизне далей. В лицо Саше бил теплый пахучий ветер, и от остроты чувств, от их острой обнаженности приятно кружилась голова.
И только, когда поезд, не останавливаясь, прогремел по стрелкам мимо какой-то полной людьми деревянной дачной платформы, а потом, плавно заворачивая, вышел к прямой линии соснового леса, иссиня зеленевшего на солнце, и когда отчетливей зазвучал бесперебойный, все учащавшийся стук колес, Саше представилось, что поезд, идет слишком медленно, и захотелось, чтобы он оторвался от рельс и с быстротой, роняющей сердце, понесся туда, где далеко впереди черного паровоза и цепи вагонов вставала тающая голубая дымка, скрывавшая дальние леса, низины рек и куда-то все уводящее каменисто-песчаное полотно.
Охваченному на мгновение этим непосильным желанием к ощутившему сладкую невесомость в груди, Саше стало казаться, что он стоит у окна не один, и кто-то, сопутствующий ему, нежно, со скрытой лаской, касается его плеча, всего его тела. И полный волнующей близостью милого видения, не видя полузакрытыми глазами, как по зеленой траве, освещенной ярким солнцем, бежит за вагонами короткая тень, Саша глубоко дышал встречным ветром, и грудь ему все сильнее жгла радостная до слез благодарная боль.
IV
В Лидине Саша пробыл весь день – жаркий, светоносный, полный запахов соснового леса, сухой земли, увядающих на солнце цветов. И весь день хорошее настроение не покидало Сашу, – все радовало его, напоминало ему о былом, обещало что-то.
И вдруг вечером, точно оборвало. Еще только Саша смеялся, оживленно разговаривал, полный жарким волнением, видениями миновавшего дня, как вдруг ему стало тоскливо, тяжело, обступившая дачу вечерняя тишина показалась особенно глухой, затаенной, особенно скучными, обыденными показались люди, собравшиеся на балконе и в повечеревшем саду. И не потому, что у него такое намерение было заранее, а неизвестно почему, соскучившись за день по Москве, – как будто его в Москве ждало что-то, к чему никак нельзя было опоздать, – Саша уехал из Лидина с последним вечерним поездом.
Липецкий и Анна Сергеевна проводили Сашу до платформы, и как они ни пытались удержать его у себя, чтобы он ехал в Москву на другой день вместе с Липецким, Саша настоял на своем.
И все же ему стало еще тяжелей и тревожней, когда к платформе, дыша темнотой неосвещенных вагонов, подкатил дачный поезд. На одно мгновение Сашу охватило было раскаяние, что он не послушался ни Липецкого, ни Анны Сергеевны и не остался в Лидине, но переменить решение было уже поздно. Саша, наскоро попрощавшись и испытывая чувство нехорошей, слепой жути, вошел в вагон.
Из почти пустого вагона, как только поезд тронулся, Саша перешел на площадку и, вынув из кармана папиросы, закурил. Облокотившись на опущенную раму окна, он с новой силой тогда почувствовал, как растет в нем глухая тоска, которую он не может ни выразить, ни преодолеть. Безнадежной, мертвенной тупостью заполняла она его грудь, и как Саша ни курил, закуривая одну папиросу от другой, тоска его становилась все глубже и безмерней, и в ее невыразимой силе скрывалось что-то, что было для Саши, как тягостное ожидание, как предвестие безысходного конца. В окно веяло июльской теплынью, далеко в черном небе шевелились звезды, но Саше весь этот ночной мир казался однообразным и пустым и непонятной казалась и бесконечно далекой та радость, которую он пережил в последние дни и которая сопутствовала ему, когда он ехал в Лидино.
И как будто далекий сон вставало где-то позади голубое небо дня, солнце, дачная зелень, нарядные костюмы дачников, платье Анны Сергеевны с цветной лентой впереди, спокойные глаза Липецкого. И сейчас Саше почему-то хотелось, чтобы всего этого не было, чтобы навеки исчез этот странный сон, нарушивший покой его одиночества и такой холодной, мятущейся тоской наполнивший его грудь.
В окне ярко мелькнул белый свет фонаря, светлая полоса косо проплыла по стенам площадки, и два пассажира, открыв дверь, прошли мимо Саши и сошли на остановке. И Саша, все еще волнуемый мучительным чувством, слыша редкое, шумное пыхтенье паровоза, подумал тогда, что, если бы он тоже сошел сейчас с поезда и лег на холодные и почему-то представившиеся ему хрупкими рельсы. Похолодев от этой мысли, Саша с чувством невольного облегчения услышал пронзительный кондукторский свисток и увидел, как поплыли в сторону станционные огни и постройки. И от силы внутреннего напряжения, которое Саша пережил, он ощутил теперь резкую слабость, в голове у него зашумело, и ему показалось, что уши его открылись внутрь, где тупо и непокорно билось опустевшее сердце. С трудом овладев потом собой и стоя на площадке в ледяном, долгом оцепенении, Саша не заметил, как поезд, минуя пригороды, подъехал к Москве.
Шум перрона рассеял Сашу. Пройдя вокзал и выйдя на площадь, он взял извозчика и поехал по пустынным, безлюдным улицам, в черно-сером сумраке которых светились окна домов и блестели редкие фонари.
И погружаясь в эту привычную, ночную муть города, вдыхая густой запах пыли и гнилостные испарения дворов, которые веяли отвратительной, загаженной жизнью, Саша нервно пересаживался на вытертом, в жирных пятнах суконном сиденьи пролетки и опять без конца курил.
Лошадь ехала медленно, ее подковы стучали с тупым равнодушием и непонятно было то, что она так спокойно и покорно сворачивает из переулка в переулок, проезжая мимо теряющихся во мраке огромных домов, железных оград, пыльной зелени бульваров.
Наконец приехали на ту улицу, где жил Саша. И тогда ему сразу стало спокойнее и с особенно пристальным вниманием начал он рассматривать окна знакомых домов, магазины, мертво блестевшие в ночи вывески.
Извозчик остановился там, где над тротуаром темнело рекламное пенснэ, и Саша, тяжело поднявшись, вышел из пролетки. И сейчас же, едва успев расплатиться с извозчиком, Саша почувствовал, как обманчиво было его минутное успокоение и как трудно ему возвращаться к себе домой, подниматься по этой темной, пустой лестнице – так неудовлетворен был он во всем и так велика была сила какого-то темного, ужасного хотенья, которое с каждым часом все сильней порабощало его.
И неожиданным избавлением Саше вспомнилась в этот момент Ксения, – она уже спала, наверное, наверху, в своей маленькой комнатке, возле кухни. Почему мысль о Ксении показалась Саше такой спасительной, он не знал, но сейчас же быстро поднялся вверх, мимо светлевшей в темноте пыльной сетки лифта и, запыхавшись от быстрого подъема по лестнице, нашел в кармане ключ и отпер квартиру.
Громко захлопнув дверь и не заходя к себе, Саша все так же быстро прошел к комнате Ксении и, постучавшись, вошел к ней.
У Ксении было темно. Кто-то зашевелился на постели.
– Кто там? – услышал Саша знакомый, хрипловатый со сна голос.
И от этого голоса, с сонной безотчетностью прозвучавшего в темноте, Саша словно вновь обрел себя, и ему сразу стало легко и хорошо.
Он ответил что-то и, словно согревающий, животворный пар вдыхая густую темноту дома, плотно притворил дверь и, шатаясь от усталости, но со спокойным чувством в груди, пошел спать.
V
Не разогнав еще сна, Саша лежал утром следующего дня в постели, и чувствовал, как приятно ноет от неизжитой усталости все его тело. Долго не открывая глаз, Саша грезил впросонках прошлым днем, солнечной дорогой, уходившей в поле, дачей Липецких, Анной Сергеевной. И Анна Сергеевна представлялась ему в эти минуты такой близкой, точно она была здесь, полная нежности к нему и той особой заботы, которая казалась Саше безмерным счастьем.
Ярко ощущая сквозь закрытые глаза присутствие солнечного света в комнате, Саша воскрешал в себе какие-то туманные детские видения, когда, пробуждаясь по утрам, он испытывал такой же глубокий покой и когда ему невыразимую радость внушало одно только сознание, что, открыв глаза, он увидит пред собой знакомый стул со сложенной на нем одеждой.
И так полно было для Саши все окружающее солнечным светом, сияющей тишиной, что он, словно кого-то любимого прижимал к лицу подушки и такая нежность созревала в его сердце, что казалось, что-то в нем прольется и всю грудь заполнит живым, разлитым теплом. И уже взволнованный этими чувствами, Саша открыл вдруг глаза и напряженно потянулся, словно сбрасывая с себя облекавшую его пелену изнурительных осязаний и разгоняя свои грезы ярким блеском дня. Потом Саша сел на постель и, радуясь желанию двигаться, стремиться куда-то, быстро оделся.
И весь этот день прошел для Саши как-то незаметно, он побывал во многих местах, успешно работал и даже прискучившая обстановка тех мест, где он обычно проводил дневные часы, не рассеяла теперь его бодрого и спокойного настроения.
Вечером Саша пошел к знакомым, потом крепко спал и на другой день встал с мыслью о том, что он может поехать сегодня в Лидино, так как следующий день был праздничным. Еще с утра Саша позвонил Липецкому. Липецкий сказал ему, что он вечером на дачу не поедет, и убедил Сашу ехать одного.
День этот тянулся томительно долго, и когда Саша, скоротав его работой, дождался обеденного времени, обедать ему совсем не хотелось, и обедал Саша тоже только затем, чтобы убить время. На вокзал он, как и в прошлый раз, пошел пешком, итти ему было легко и весело, и радовало его то, что по тротуарам двигалась масса публики – обгонявшей его, стремившейся навстречу, по-столичному суетливой.
На вокзале, когда туда пришел Саша, горело уже в знакомом огромном зале электричество. Оно поплыло перед Сашиными глазами ослепительным сиянием раскаленных шаров, и весь зал, полный пряным кофейным чадом, плыл, казалось, перед ним, со всей своей темной зеленью, людской сутолкой, жидкой синевой окон.
Темные поля неслись потом мимо поезда, особенной тишиной и мраком веял сосновый лес, приближавшийся к железнодорожному полотну, и Саша, словно он смотрел на поезд со стороны, видел, казалось, черную цепь вагонов, проносившихся по светлеющей просеке, красноватый отсвет топки на шпалах и все полней и напряженней чувствовал стремительный гул движения. И эта сосредоточенность рождала у Саши неясную какую-то, но глубокую веру в себя, точно он владел всем, что сопутствовало ему: и поездом этим, и убегавшими назад темными лесами, как владел он сонмом чувств, живших в нем, в его груди, дышавшей полно и раскрыто.
На дачу Саша пришел, запыхавшись от быстрой ходьбы, и, войдя за калитку, увидел во мраке, скрадывавшем стволы деревьев, в том месте, где должен был висеть гамак, белое, смутное пятно. Издали Саша не узнал Анну Сергеевну, но угадал ее присутствие и, уже различая медленно раскачивавшийся гамак, окликнул ее по имени. Она отозвалась Саше несколько удивленно, и звук ее голоса показался ему в то же время необычно приветливым, спокойным.
– Где же Сережа? – спросила Анна Сергеевна, когда Саша подошел к ней и поздоровался. И, выслушав его ответ, добавила: – Вот хорошо, что вы приехали – я тут умирала от скуки… Обедать хотите?
Саша отказался и пошел принести себе скамейку. И когда он шел с балкона, то с еще большей остротой, чем в первый приезд, ощутил сонную тишину, опустившуюся над садом и улицей, вместе с серым, полупрозрачным мраком, и в этой тишине, в легком волнении сердца, почувствовал то невыразимое, что как бы приблизило его к земле, сделав все окружающее понятным, любимым и в то же время влекущим серой неразгаданностью.
Сидя после около Анны Сергеевны, Саша много разговаривал, смеялся, качал ее в гамаке так высоко вскидывая гамак, что она удерживалась за его руку, и прикосновение ее холодной, как лед, ложившейся на его пальцы, руки наполняло Сашу смятением. Он, волнуясь, и стремясь подавить себя, смеялся тогда над испуганными возгласами Анны Сергеевны, смотрел на нее суженным взглядом и, вместе с тем, словно дышал ею, дышал смутными очертаниями ее фигуры, белевшей в темноте, чувствуя, что жажда близости становится в нем все непереносимей, все острей.
Когда на балконе появился свет, широкими тенями упавший в сад, перешли на балкон. Там кто-то из дачников предложил Саше сыграть в шахматы, и Саша с удовольствием согласился и сел за стол. Но и играя, он со стороны наблюдал за Анной Сергеевной, ловил звуки ее голоса, следил за ее движениями, ожидая, чтобы она подошла к нему, с чем-нибудь к нему обратилась.
Спать в этот вечер легли рано, и когда все разошлись, и Анна Сергеевна вышла на пустой темный балкон, чтобы посмотреть, все ли приготовлено для Саши, тогда его грудь так глубоко наполнила благодарная, чистая радость, точно Анна Сергеевна пришла к нему не как хозяйка, а как близкий человек. Саша с восторгом следил за ее движением, и таким умиротворяющим казался ему ее спокойный голос, что голова его устало кружилась, и все окружавшее его – и темные деревья и теплое дыхание улицы – как будто погружалось вместе с ним в беспредельную бездну молчаливой ночи, чтобы куда-то без конца, в счастливом волнении лететь.
Рано поднявшись на другой день, Саша один пошел гулять в лес, полный еще легкой утренней свежести и солнца, падавшего на землю чистым, светлым узором.
Теперь Саша уже не чувствовал в себе того бурного подъема, какой переживал в последние дни, но так же бодрость и полнота ощущений владели им, точно он впервые шел на этой солнечной, благоуханной земле.
И как все эти дни, Саша, гуляя в лесу, об Анне Сергеевне почти не думал, но весь был полон ею. Она жила для него во всем, что он видел, – и в этом солнечном узоре, и в мягких девственных ветвях сосен, и в голубом небе, светившемся над лесом, и в самом чистом, настоенном среди сосен воздухе, от которого грудь пьянела и ширилась. Именно это ощущение владело Сашей. Он чувствовал, как ширится его грудь и весь он словно растет, становясь крепче и сильней.
Вернувшись на дачу, Саша разговаривал с выходившими на балкон дачниками, сонными еще после ночи, и следил за дверью в коридор, откуда должна была появиться Анна Сергеевна.
Пока пили чай, солнце поднялось совсем уже высоко, день опять становился жарким, и было все так же тихо, как ранним утром, когда Саша гулял в лесу. Саше же день казался особенно ослепительным, и радужно сиял перед ним в слиянном, прозрачном блеске голубизны, зелени, солнечного света.
После спокойных утренних переживаний теперь Сашу как будто несло на волнах, взгляды его стали хмельными и жарко розовело лицо. И словно из странно чувствительных и неподчиненных ему волокон было соткано все тело Саши, так остро отвечало оно на каждое прикосновение, сохраняя в то же время в себе спокойствие большого, напряженного чувства.
После чая они с Анной Сергеевной пошли на вокзал встретить Липецкого, но Липецкий тем поездом, которым его ждали, не приехал. В ожидании следующего поезда решили пойти прогуляться в лес, расположенный по другую сторону платформы. То, что Липецкий не приехал, показалось Саше каким-то особенным предзнаменованием и, входя с Анной Сергеевной в дневной сумрак леса, он почувствовал, как упало и потом, словно спохватившись, забилось с решительной силой его сердце.
Лес повеял в этот момент на Сашу далекими и неясными воспоминаниями детства, будто туманное детское счастье жило в этой густой зелени, в таинственном сумраке, в прикрытии пышных ветвей.
Анна Сергеевна наклоняясь собирала ромашки, колокольчики и еще какие-то синие цветы, росшие высокими свечками.
Сашу, между тем, все сильнее охватывало жаркое, глубокое волнение, случайные прикосновения холодных рук Анны Сергеевны кружили его голову и с каждой минутой его тело все настойчивей теснила какая-то скрытая в нем, физически ощутимая, назревшая сила.
Вместе с тем Сашей овладевал и непонятный, мутный страх: к чему-то неведомому, казалось, уводил этот лес, обвеявший сначала теплом сияющих бликов и свежестью густой зелени, а теперь как будто погружавшийся в глухое, молчаливое смятение, которым была полна золотая, прозрачная сушь солнечных полян.
– Что же вы молчите? – спросила в это время Сашу Анна Сергеевна, кончив разбирать букет и оправляя ладонью сбившиеся волосы.
Этот вопрос рассеял Сашу. Он поднял глаза от узких лаковых туфель, мелькавших в траве, и, освобождаясь от жгучего, овладевшего было им страха, снова радостно, с душевной легкостью и теплотой почувствовал, близость Анны Сергеевны.
– О чем говорить!.. Я счастлив тем, что иду с вами… неожиданно для себя самого сказал Саша.
И так уверенно и просто сказал он это, что Анна Сергеевна подняла лицо и посмотрела на него насторожившимся, испытывающим взор, как бы ожидая, что он скажет еще. Поцеловав тогда у Анны Сергеевны руку, и не видя, как она вдруг побледнела и как потемнели ее глаза, Саша так приблизился к ней, что всю ее ощутил под легкой освещенной солнцем одеждой.
И, уже не сдерживая себя, полный волнующей близости, Саша преодолел охватившее его голову сладкое головокружение и поцеловал губы запрокинутого назад похолодевшего лица.
VI
Приехав на другой день в город, Саша почувствовал, что он весь полон Лидиным, что его ничто другое не интересует и только одно счастливое волнение безраздельно владеет им.
В шуме людных, солнечных улиц чудился Саше дневной сумрак леса, и словно по траве или по упругому хвойному настилу ступал он по размягченному асфальту тротуаров.
Прошел первый день, наступил вечер, утопивший город в духоте синих сумерок, и все не оставляло Сашу ощущение чего-то хорошего, долгожданного, что пришло так внезапно и такой полнотой насытило душу. То же испытывал Саша и на следующий день и после. Он оставил тогда свое большое полотно и начал ездить за город, где работал над пейзажными эскизами и просто гулял, купался, отдавался летнему раздолью. Свою комнату Саша как-то перестал замечать, она наскучила ему и казалась теперь бивуаком, который он вскоре должен покинуть. И где бы Саша ни был, на раскаленных ли, поливаемых водой улицах города, в подмосковных ли рощах, в дачных ли поселках – везде сопутствовало ему все то же неодолимое, радостное волнение, наполнявшее собою и знойное сияние солнца, и густые летние запахи, и зеленое море трав, деревьев, хлебов. И словно желая это волнение продлить и сберечь, Саша не учащал своих поездок в Лидино и встреч с Анной Сергеевной и только все больше отдавал себя в плен невероятной, мучившей его стыдом и страхом мечте.
И лишь когда дурман постоянного напряжения становился непереносимым и грудь уже начинало наполнять тягостное удушье тоски, Саша шел к Липецкому или прямо на вокзал и ехал в Лидино. За то недолгое время, пока он добирался до дачи Липецких, весь мир перекрашивался в глазах Саши, душевный гнет рассеивался и волшебным казался и отдавался в самом сердце волнующий рокот колес.
На дачу Саша приходил всегда возбужденным, много говорил, смеялся – само дыхание его было полно смехом – и готов был целыми ночами не спать, бродить по бору, по темным лесным дорогам. И в этих часах, которые Саша проводил в Лидине, были такие, каких до того Саша и не знал и не думал, что они могут быть, – в эти часы он ходил с безоблачной и как будто все прозревающей головой, и ночью это было или днем, но все блестело тогда в глазах Саши – и воздух, и зелень, и предметы, и ослепленный, пронизанный этим блеском, Саша жил каждой порой наслаждающегося жаркого тела.
Но в конце июля – в это время перепадали дожди, дачные места потускнели, замерли – Саша вдруг из Лидина пропал и не показывался там недели полторы.
И явился он потом туда не в обычном состоянии. От него повеяло каким-то холодком в котором сквозило и смущение и непонятная враждебность. «Что с ним такое?» – подумала Анна Сергеевна, когда Саша равнодушно заметил ей, как она выглядит, и даже не остановился на ней сколько-нибудь внимательным взглядом. И потом Анна Сергеевна видела, что Саша оживленно разговаривал с Липецким, на ее же обращения отзывался коротко и шутил с ней как будто даже с каким-то скрытым нехорошим чувством.
Это и поразило и задело Анну Сергеевну, недолго посидев на балконе, она поднялась и с книгой ушла в сад в гамак. И когда Саша позднее подошел к ней и начал что-то говорить, она не смотрела на него и молча раскачивалась в гамаке, откинув руку с заложенной пальцем книгой. Однако безразличие Анны Сергеевны не было искренним, и она снова с болью отнеслась к Саше, когда он в этот день уезжал и когда при прощании на его губах бродила странная, неприятная улыбка.
VII
Саша же, действительно, переживал в эти дни тягостное, недоуменное чувство, подобное тому, которое его охватило как-то раз, когда он возвращался из Лидина, но более тупое, глубокое и гнетущее.
Но и не только потому это чувство не было для Саши новым. С отрочества, а может быть, еще с детских лет, чуть ли не с тех дней, как он помнил себя, нес Саша в себе мучительный, безымянный недуг, который не причинял ему ни боли, ни ран, но на целые дни затмевал рассудок и вселял в грудь тягостное, доводящее до безумия ощущение мертвенной пустоты.
И когда этот недуг еще в те далекие, отроческие годы овладевал Сашей, он становился нелюдимым, каждое слово его задевало, каждое прикосновение коробило, и самая ничтожная обида так ударяла по нему, что его потом трепало, как в лихорадке. Но как бы Саше ни было тяжело, он только по ночам, или оставшись один, всем сердцем отдавался своей боли, доводившей его до слез, и радовался в то же время облегчавшему его грудь жгучему, вновь и вновь возникавшему страданию.
Много позднее – в первые дни юности – предвестием какой-то несбыточной, но и неизбежной любви стала казаться Саше его душевная тоска, его тайный недуг. Ожидание обмануло Сашу. В первый раз «по-настоящему» он почувствовал любовь с женщиной, которую он встретил лишь однажды и которая поразила его своим распутством. После всего, что Саша с этой женщиной пережил, он испытал муку самого безудержного разочарования и, придя домой, долго, до полного бессилия, до ожесточения плакал и метался на кровати. И на некоторое время Саша перестал тогда чувствовать, то, чем прекрасна была для него жизнь прежде – влекущую загадочность всех ее явлений, их безмерность и полноту. Потом это отупение прошло, но в Саше многое переменилось, и в некоторых своих мыслям и поступках он не только не мог бы признаться другим, но старался скрыть их и от себя.
И вот уже с того времени все Сашины еще полудетские увлечения через восторги первых встреч приводили к какому-то страху, к чувству бессилия перед несознаваемыми препятствиями любви. И словно враждебную, чуждую ему волю несла та, кого Саша только что готов был боготворить: таким упорным становился он потом и даже не во взглядах на что-нибудь, а просто в своих настроениях и желаниях каждой минуты.
Так и теперь после первой поры увлечения Саша снова переживал душевный разлад. Случай отвлек его на некоторое время от Лидина и, когда он потом съездил туда, то убедился, что от прежних его чувств не осталось, как будто и следа и что наперекор стыду, позору своей слабости, он утверждается в состоянии тупого безразличия и злобной подавленности.
Этот внутренний упадок страшно удручал Сашу. Чтобы рассеять себя, и опять стал уезжать из Москвы – куда глаза глядят, лишь бы подальше от людей.
И где-нибудь в поле, в овраге, утомленный ходьбой и жарой, он ложился в кусты, смотрел на тускло блестевшее небо, в прозрачную, темневшую лесами, как будто водную даль, курил и думал, думал.
Дни в первой половине августа стояли чудесные, было знойно, но дышалось легко, и все – и поля в первых стогах, и дальние леса, и отдельные деревья – рисовалось мягко, в особой чистоте и блеске линий, и была в воздухе, в солнечном свете, в красках земли какая-то переизбыточность, золотая теплота зрелости.
Саша особенно любил посещать одно место, сказочное в своей прелести. Поля там широким холмом поднимались к лесу, оставляя внизу долину в пестрых, неярких полосах пашен, черных гнездовьях деревень, синей черноте далекого бора, в остром блеске извилистой реки на скошенном, ровном, как стол, лугу, голубом тумане рощ и в белых, сияющих точках едва видного, на самый горизонт закинутого монастыря.
На этом холме Саша проводил целые дни и так успокаивался там, что и вся его жизнь представлялась ему радостной, спокойной, счастливой.
Но как только он приезжал в Москву и видел ее огни, вознесенные в черноту ночи, ее рестораны, кино, почти по дневному светлые площади с фантастической, роящейся толпой, с виденьями женщин, смятенье снова охватывало Сашу, он вспомнил Лидино, и Анна Сергеевна, представившая перед ним и как бы ощутимая в каждой своей черте, в нежности своих одежд, в тепле своей близости, в очаровании блестящих глаз, в безмолвном обещании, опять влекла, влекла.
VIII
И все-таки, несмотря на отдельные порывы с каждой новой поездкой Саши в Лидино, становилось все ясней, что он лишь стремится поддержать, то чему уже сам не верит и чему должен наступить конец.
Приезжая в Лидино, Саша теперь не только не был оживлен по-прежнему, но и не сохранял той напускной холодности, с которой явился в первый раз после продолжительного отсутствия. Он был удручен и растерян и не мог этого скрыть.
Задевало и волновало Сашу и то, что Липецкий, который и прежде не мог не замечать близости Саши к Анне Сергеевне и относившийся к этому, внешне, по крайней мере, спокойно, теперь начал как будто внимательно присматриваться с этой стороны к Саше и то шутил над ним, то, как будто, сам раздражался.
И все это – случайная насмешка, какое-нибудь замечанье – больно поражало Сашу, он долго потом ходил сам не свой и, предполагая во всех скрытое враждебное отношение к себе, враждебно настраивался сам.
И вот все же Саша в конце концов пришел к тому, что совершенно покинул Лидино и покинул его без решительного к тому побуждения, а просто утомившись постоянной внутренней борьбой.
В день последнего своего посещения Лидина Саша гулял с Анной Сергеевной в поле, и они далеко забрели по дороге, пролегавшей между сжатыми наполовину полосами ржи и еще зеленого сухо лоснившегося на солнце овса. День был прохладный и ветреный, в легкой, прозрачной дали ясно, как осенью, рисовался лес, и высоко вставали зеленые выпуклости холмов. Дорога лежала обметенная ветром и затвердевшая, и вдоль нее шумели густой зеленью одинокие деревья.
Анна Сергеевна шла рядом с Сашей, с развевающимися от ветра полами легкого пальто, в цветном шарфе, в синей шелковой шляпке. Лицо ее от свежести, от ветра порозовело, и из-под полей шляпы как всегда живо блестели глаза.
И неизвестно отчего – и у Саши, и у Анны Сергеевны, в то время как они гуляли, создавалось все более грустное и тревожное настроение.
Отношения у них в этот день были как раз хорошими. Уже казалось перед тем, что они совсем утратили чувство близости, взаимного интереса, как вдруг снова что-то закружило их, и с утра в этот день оба они были оживлены, взволнованы, приподняты.
И вот отчего-то потом и Сашу, и Анну Сергеевну стала точить эта, как будто и сладкая, но и тревожная грусть.
Уже когда они шли обратно, Саша в наступившем вдруг душевном затишьи с особенной ясностью почувствовал близость Анны Сергеевны и ее сегодняшнее, слегка как бы напряженное в своей нежности и оттого еще более прекрасное, ласково влюбленное отношение к нему, почувствовал, казалось, невыразимую остроту собственной влюбленности и, вырвав из полосы стебель овса, перервал его и, называя Анну Сергеевну только по имени, сказал:
– А знаете, Аня, мы с вами больше не увидимся.
И сказал это серьезно и внешне спокойно, как бы о давно решенном.
Анна Сергеевна приняла сначала его слова за странную шутку, но потом увидела, что Саша как-то очень рассеянно смотрит перед собой заблестевшими вдруг глазами, что все лицо его выражает внутреннюю скрытую боль, и встревожилась. Но сумев все же преодолеть себя, она ничего не ответила Саше, только пристальней взглянула на него и взяла его руку.
У Саши, действительно, особенно жгучей стала в эту минуту все время томившая его грустная боль в груди.
И по-особому, по-женски поняв Сашу, Анна Сергеевна не выпускала его руки, а когда он, плотно стиснув рот, отвернул лицо в сторону, подняла его руку и погладила ее своей – в скользкой лайковой перчатке.
И от этого ли ее движения или еще от чего Саша вдруг с досадой подумал о своей слабости, о том, как он должен быть смешон в этот момент, и, почти вырвав свою руку у Анны Сергеевны, зло, с неожиданной для себя самого резкостью сказал:
– Как, однако, глупо все это!
И в досаде он сразу не заметил, что у Анны Сергеевны задрожали губы, и что она, точно опешив на мгновенье, пошла потом все быстрей и быстрей.
В это время они входили уже на дачную улицу, и, только тогда поняв, как он обидел Анну Сергеевну, Саша пережил прилив мучительного раскаяния и такой злобы против самого себя, что на все, кажется, решился бы, чтобы искупить свою вину.
Но уже замелькала сбоку от них решетка дачной изгороди, мгновенная решимость Саши упала и, охваченный отчаянием и страхом, он только внутренне заметался, и сердце его защемила острая, обморочная боль.
IX
Все это произошло в воскресный день, когда Липецкий был с утра по каким-то делам в городе. Возвратившихся Сашу и Анну Сергеевну он встретил на балконе, где больше никого не было.
Поздоровавшись с женой и Сашей, он присмотрелся к их лицам.
– Ты десятичасовым приехал? – мельком спросил он Сашу и, встав со скамьи, вышел зачем-то за женой.
Весь этот день Саша провел в нервном напряжении, чувствуя себя в Лидине лишним и в то же время не решаясь почему-то уехать. Липецкий держал себя с Сашей, как Саше казалось, холодно и если заговаривал о чем-нибудь, то в его словах Саше чудились прямые неприязненные намеки. Особенно тяжелым был обед, когда Анна Сергеевна, сославшись на нездоровье, молчала, а Саша минутами весь холодел от внутренней подавленности, от пустоты.
Ночь Саша не засыпал – ночь была, как и день, ветреная, с веяньем близкой осени – и возвратился на другой день в город разбитым, опустошенным.
Дома Саша, насилуя себя взялся за работу, все разбросал и что-то неприятное сказал Ксении. Однако на другой день он успокоился, решив, что на следующей неделе съездит в Лидино опять.
Тоскливые дни стали проходить для Саши незаметно, Лидино вспоминалось особенно ярко лишь по ночам или в утреннем полусне. И владевавшее тогда Сашей чувство близости к Анне Сергеевне было таким пленительным и жутким в то же время, что он жил в эти минуты одной мечтою скорее увидеть ее.
Однажды, возвратясь домой, Саша нашел на своей двери записку, оставил ее Липецкий. «Заходил, не застал тебя, – писал он, – хочу с тобой встретиться. Нюша сердится». Саша прочел записку еще в коридоре и сразу почувствовал как что-то растаяло в его груди и как блаженно и радостно заколотилось вдруг сердце. Полный неожиданным счастьем, он вошел в свою темную комнату и, подойдя к окну, где еще непомеркнувшей синевой неба ярко светлело зеркало, далеко за сумеречным, призрачным городом увидел красную полосу зари. Она вызвала в его памяти то умиротворенное состояние, которое было у него, когда он в первый раз шел по Лидину, и где-то в темноте ему померещилось белое, смутное пятно знакомого платья. Стало так хорошо, так сладко на душе, что Саша лег на постель, радуясь этой сладости и замирая. И казалось Саше, что рядом с ним лежит та, которую он любит и которая, несмотря ни на что помнит о нем. Потом он заснул.
Проснулся Саша с чувством пустоты, слепо оглядел комнату, увидел поблескивающие в призрачном ночном свете дверцы шкафа, и все окружающее показалось ему безнадежно тоскливым. Он встал, подошел к темному столу, быстро нашел записку, зажег свет и прочел ее еще раз. Потом с внешним спокойствием отложил записку в сторону, почувствовал, что зябнет и, охваченный новой волной мятущейся холодной тоски, понял, что в Лидино больше не поедет.
X
В этот вечер Саша решил рассеяться. «К чорту все!» – со злым вызовом самому себе подумал, он и, все еще борясь с собой, начал соображать, куда бы он мог пойти. И когда мучительное беспокойство снова охватило его сердце, Саша одел шляпу и, уже выйдя на улицу, вспомнил своего школьного товарища Сударикова и пошел к нему.
Еще со школьного времени Судариков был памятен Саше своей удалью, весельем, бесшабашностью. Его не раз исключали сначала из гимназии, потом из реального, потом из технического училища. А вместе с тем он всех поражал своими способностями, когда на него находила благополучная полоса.
Всегда до крайности откровенный с приятелями, волочившийся за женщинами с пятнадцати лет, Судариков со всеми подробностями рассказывал о своих похождениях, ничем не смущаясь, не чувствуя и не сознавая своей испорченности, с наивным восторгом отзываясь о том, что у самых непритязательных из его друзей вызывало отвращение.
И все же в школьные годы Саша часто заходил к Суда-рикову, в его комнату на Поварской, которая так же, как и комната его матери, словно антикварный магазин, до краев полна была остатками уцелевшей помещичьей роскоши – старинными вазами, сервизами, серебром.
Что в Сударикове привлекало Сашу, он не знал, но, поражаясь дурному его пошибу, наглости, наигранному лоску, который Судариков себе привил, он не менее поражался его постоянному кипению, решимости, прямодушию.
Направляясь теперь к нему, проходя по улицам, озаренным блеском вечерних огней, по площадям, охваченным лихорадкой движения, Саша чувствовал, что от силы внутреннего сопротивления, от желания в чем-то побороть себя у него кружится голова, и все невесомей, все легче становится сердце. Сударикова, – с которым Саша не встречался уже около года, – он застал по обычному бодрым и веселым. Весь черный, просмоленный будто, привычно рисуясь стройной фигурой, Судариков с восклицанием «ба! Безруков!» встал и пошел навстречу Саше. Здороваясь, он сильно потряс ему руку, потом взял у Саши шляпу, повесил ее, усадил его самого в кресло и уселся напротив сам.
– Ну, рассказывай же какими судьбами? – спросил он Сашу и подвинул ему раскрытую коробку с папиросами.
Беседа быстро разгорелась. Судариков встал с кресла и расхаживал по комнате, Саша же, наоборот, расселся удобнее, с наслаждением отдаваясь покою, отдыхал от душевной борьбы. И чем больше, – не выпуская изо рта папиросы, накуриваясь до сердцебиения, до щекочущего зуда в груди, – чем больше говорил Саша о другом, не о том, что волновало его в последнее время, тем становился возбужденнее и тем легче и беспечнее чувствовал себя. Слова же Сударикова – то, что он рассказывал о своих встречах, о своем времяпрепровождении, повеяли на Сашу той знакомой ему, шальной жизнью, с которой он сталкивался не раз, но которая прежде больше поражала, чем привлекала его. И теперь ему показалось, что он с головой готов окунуться в эту жизнь, что она именно есть то, что ему нужно, чтобы он мог утишить, утолить свое постоянное волнение.
Глаза у Саши ярко горели, дыхание стало жарким, – они на сегодня же решили с Судариковым куда-нибудь пойти «убить вечер», – и, когда Судариков на телефонный звонок вышел в коридор, Саша встал с места, уже думая, с непонятным и сладким страхом, мечтая о том, к чему его теперь влекло. Подойдя к роялю – единственному, кажется, из того, что осталось в комнате от прежнего времени, – Саша стоя перебрал клавиши и негромко запел.
«Тени двух мгновений, две увядших розы»… решительнее подхватил Судариков, войдя в комнату и с такими же возбужденными, блестящими, как и у Саши глазами, задержавшись у дверей.
Потом, по просьбе Саши он сел за рояль.
Судариков был отличным музыкантом, играл легко, без напряжения, и, снова усевшись в кресло, Саша словно в самом себе почувствовал уверенный, почти с первых звуков возросший до смятения темп его игры. Но вместе с радостным воодушевлением, которое охватило Сашу, острая и сладкая грусть волной ударила по его сердцу.
Чувствуя, как оно сжалось в груди и словно замерло в мятущихся высоких звуках музыки, Саша вспомнил Анну Сергеевну и ему до боли, до слез стало жаль ее – такой скорбной, одинокой, оставленной представилась она ему. И, все более отдаваясь очарованью звучавшего страданьем и силой напева, Саша закрыл глаза и в один короткий миг вспомнил так много, что, казалось, все его встречи, все минуты близости с Анной Сергеевной, все, что в эти минуты окружало их, промелькнуло перед ним. Когда же воспоминанья коснулись голубого, сияющего дня, горячего солнца в зеленой листве, синих свечками цветов и когда словно живое родилось в Саше ощущенье легкой женской одежды и скрытого под одеждой тела, – сладкая боль в груди стала непереносимой, Саша открыл глаза, встал и, словно слепой, пошел по комнате.
Судариков продолжал играть, фигура его слегка раскачивалась из стороны в сторону, и то скрывались, то появлялись вновь ударявшие по клавишам руки. Заметив остановившегося у рояля Сашу, он обвел его взглядом и мельком спросил:
– В настроение попал?
Саша не ответил и, постояв минуту, начал ходить опять, положив руки на грудь и все глубже и глубже вдыхая воздух, и вдруг с облегчением услышал, как звуки разом зазвенели и оборвались. Но Судариков почти сейчас же заиграл снова.
И потом играл еще и еще.
И уже когда Саша начал томиться этим беспрерывным потоком звуков, то бурных, то печальных, но все с той же сладкой болью трогавших сердце, Судариков заиграл вдруг разгульный, плясовой мотив.
Сашу сначала поразил неожиданный переход, но потом он остановился возле окна, откуда наносило сыроватым вечерним теплом, и почувствовал в груди вдруг пробудившуюся напряженную бодрость. Судариков между тем разошелся, начал с присвистом подпевать себе, притоптывать ногами, и во всей его фигуре и движениях рук было то ли неудержимое веселье, то ли непристойная, бесшабашная удаль.
Тень молчаливого ожесточения, лихой злобы медленно легла в то же время на лицо Саши, который в разгуле звуков не мог уже почувствовать ни успокоения, ни тоски.
И только когда Судариков, решительно оборвав игру, бросил: «а теперь айда!», резко отодвинув стул, встал из-за рояля и с шумным звоном захлопнул одну и другую крышки его, Саше опять стало легче, и от вновь нахлынувшего радостно-жуткого предчувствия закружилась, поплыла голова.
XI
В ранний еще вечерний час по тротуарам Тверской двигалась сплошная толпа. Раздавались голоса, выкрики, смех. Из открытых дверей кофеен, пивных доносился гам, отрывочные звуки музыки, пения. Железное уханье трамваев, грохот движения надрывали слух.
Саша шел в самой гуще толпы и, неуверенно ступая, бросал по сторонам сосредоточенный, то и дело угрюмо зажигавшийся взгляд.
За те несколько дней, которые прошли после ночи, проведенной Сашей вместе с Судариковым в ресторане, в катаньи на автомобиле, в комнате у каких-то женщин, Саша вдруг и очень заметно переменился. О Лидине Саша теперь почти не вспоминал – этой своей цели он достиг. Но пьяная ночь все же только разожгла его. И теперь каждый вечер, как только он оставался один, – было ли это дома, на улице, в столовой за обедом, – Сашу преследовали образы того, что он видел, что пережил в ту ночь.
Вспоминал Саша как пришли они тогда с Судариковым в ресторан и как он легко, точно давно ждал этого случая, пил водку, жадно ел острые закуски и долго не пьянел. Вспоминал, как приятно плыли потом перед глазами возбужденные, разгоряченные вином лица, электрический свет, яркая зелень недоеденного салата на столе и весь этот ресторанный зал, полный голосами и звоном.
Вспоминал Саша сумрачное, неожиданно пахнувшее загородным простором шоссе, запахи ночи, парков, садов и рядом с собой, со своим лицом, нагло-веселые, блестящие женские глаза. И потом опять свет, голоса, базальтовый лоск чулок, крупно-клетчатое платье, жаркий, отчетливый шопот над самым ухом и неодолимая близость красно-воскового рта.
Сегодня эти воспоминания, то чувство, которое тогда владело Сашей, с особенной силой возвратились к нему.
И шагая теперь по Тверской, выбирая самые людные места, – и неумолчный гул толпы, и мимолетные видения женщин, и прикосновения тканей к рукам, и осязательную близость чьего-то дыхания – все это он воспринимал в образах своих воспоминаний, своей затаенной мечты.
Улица становилась все шумней. Откуда-то гулко ударило Саше в уши звоном бутылок, возгласами цыганского хора, рядом раздался звучный женский смех, веселая, ловкая пара быстро обогнала Сашу и, перейдя улицу, скрылась в подъезде.
И уже один шум Тверской возбуждал, будоражил Сашу. У одного из углов он остановился, закурил. И в особенности с этого момента, когда Саша пропускал мимо себя толпу, каким-то особенным, скрытым теплом дохнула на него шумная вечерняя улица, и мысли, образы один другого нелепей, стали увлекать его.
И сам еще не зная почему, Саша уже тогда понял, что этот вечер для него не пройдет так как другие.
Но того, что с ним произошло, Саша в этот момент не только не представлял, но и не решился бы себе представить.
XII
Так бродил Саша по Тверской – мимо пестрых витрин, мимо переулков, уходящих в прозрачный ночной мрак зелеными пятнами газовых фонарей, так сидел он в какой-то полутемной пивной, и сам не заметил в пивной ли или еще на улице пришла ему в голову мысль, которая сначала изумила, а потом такой силой желания наполнила его, что Саша как-то сразу, хотя как будто только в воображении, решил то, чему после не мог изменить.
Через несколько минут он уже сидел в трамвае, ехавшем за город, и странным взглядом смотрел в открытое окно, мимо которого неслись тени зданий, площадей, ослепительные диски кино.
Опустевший трамвай, миновав центр, стремительней и легче загремел по улицам окраины, в их черном мраке, рассеянном светом домов и редких фонарей, и потом вырвался на шоссе, по обеим сторонам которого широко раскинулось пригородное село, повеявшее темнотой, сонным покоем, запахами позднего лета.
Саша вынул было из кармана коробку папирос, достал одну папиросу и взял ее сначала в рот, потом сломал и бросил в окно.
Трамвай, все стремительней уносясь в ночной мрак, выехал в поле. Там, на второй остановке, Саша сошел и очутился на деревянном помосте, по одну сторону которого темнела стена соснового леса, по другую уходили, смутно рисуясь силуэтом каких-то бараков в стороне, огороды и поле.
Туда и свернул Саша.
Пошел он по тропе, возле проходившей здесь дороги, пошел быстро, не оглядываясь, смотря безотчетно вперед и по временам чувствуя, как холодит его спину страх.
Вдоль дороги смутно серели редко разбросанные деревья, широко наносило запахом сухой земли, жнивья, вдали в просторе теплой, но уже по всему предосенней ночи, ровными цепями огней переливался город.
Однако Саша едва замечал все окружавшее его. И, может быть, впервые очутившись один за городом, не испытал теперь Саша обычного волнения, той тревожной грусти о безвозвратно прошедшем и радости новых надежд, которые всегда навевало на него с детства знакомое раздолье полей.
В полуверсте от остановки была деревня, в которой когда-то бывал Саша. Теперь он, не дойдя до нее, свернул в сторону и потом вернулся обратно.
По насыпи один навстречу другому неестественно желтые в окружающем их ночном мраке прогремели трамваи, донеслись с остановки голоса, и снова все смолкло.
Без счета выкурив папирос, Саша лег возле какого-то придорожного дерева, и отдаленные огни города снова напомнили ему недавнюю пьяную ночь, которую он так часто вспоминал в последние дни.
В мыслях о ней Саша не заметил проходивших трамваев, не сразу услышал и раздавшиеся со стороны шаги. Потом он, подняв лицо, прислушался. Шаги приближались – кто-то босиком, быстро и мягко ступал по тропе. Саша, – весь ночной мир вдруг просиял в его глазах, – перевел взгляд на приближавшуюся из темноты фигуру. И вот, светло мелькнув в темноте головным платком она поравнялась с Сашей и, не заметив его, тем же быстрым, ровным шагом прошла вперед. В тишине отчетливо, точно было слышно каждое прикосновение ног к платью и земле, донеслись до Саши шаги, шум походки, дыхание.
Саша поднялся не сразу. Он на мгновение углубился в какую-то думу, томительно упало его сердце при звуке удаляющихся шагов, и лишь когда темная фигура начала пропадать во мраке, Саша с тем же чувством неизбежности, которое было у него при первом появлении роковой, приведшей его сюда мысли, встал, на мгновенье, закуривая, заторопился и, остро все видя перед собой, пошел вслед за светлым пятном головного платка.
XIII
После того, что случилось на дороге под Москвой, прошло несколько недель. Перемена, уже раньше происшедшая в Саше, за это время стала еще сильней. Сосредоточенность его, сводившее взгляд упорство искажали порой, старили его лицо.
Раскаяния Саша как будто не испытывал, и воспоминания о недавнем преступлении, казалось, спокойно легло в его душе.
Еще прочней, чем прежде, забыл он и Лидино.
И в то же время Саша возвратился к работе. Он вставал аккуратно в семь часов, пил чай, прогуливался по бульварам и работал потом подолгу, терпеливо и усердно. И ни над чем особенно не задумываясь, ни к чему не стремясь, Саша испытывал в эти дни глухое, непонятное наслаждение жизнью.
Было начало сентября, лето уходило безвозвратно. В солнечном свете, неподвижно лежавшем на бульварах и словно на выметенных только что, просторных тротуарах, было веянье осеннего умирания, тишины.
Но потом хорошая погода вдруг резко оборвалась и пошли дожди. Вечера обливали город блестящей водяной мглой, улицы сразу замерли, опустели. В однообразии этих серых дней сердце Саши опять защемила тревога, он почувствовал себя разбитым, больным и заметался. Надеясь преодолеть свое тяжелое состояние, Саша опять начал жить беспорядочной, мутной жизнью, пристрастился к вину, по ночам и даже днем, когда стекла блестели студенистой влагой дождя, приводил к себе проституток, и потом все окружающее казалось ему наполненным отвратительными ощущениями безудержного, холодного разврата.
Из ночи в ночь Саше снились тревожные сны, разбивали его кошмары. Он просыпался мокрый, с бьющимся сердцем, и комната плавала перед ним в светящемся тумане. Света на ночь Саша не тушил, а только занавешивал его бумагой. И этот желтоватый полумрак, который всю ночь царил в его комнате, стал ему тоже тяжек и отвратителен.
Комнату свою Саша оставлял незапертой и даже нарочно приоткрывал дверь, будто всегда кого-то ждал или боялся быть взаперти. И самым счастливым для Саши стал теперь утренний час, когда он, проснувшись еще в первые минуты синего, мглистого рассвета, или не засыпая вовсе, слышал шаги в коридоре или разговор у соседей. Начинался спасительный день.
Однажды Саша уничтожил свою картину. И сделал он это в спокойную минуту, без ожесточения, без особой нужды. В опустевшей от картины комнате Саша несколько дней чувствовал себя необжившимся, как на новосельи.
И все еще стремясь успокоить себя, Саша все же знал, что он заболевает, что он уже болен.
Как-то вечером, когда еще шли дожди, Саша по дороге зашел к Сударикову. Не застав его дома, он под мелким дождем побродил по улицам, встречая в стеклах витрин, в уличных зеркалах отражение своего непромокаемого пальто и глубоко сидевшей шляпы.
Снова возвратившись потом к Сударикову, Саша заметил, что тот встретил его не так радушно, как в первый раз, и никуда не захотел итти из дома.
Саша избегал встречаться с его недоверчивым и в то же время словно соболезнующим взглядом, что-то мешало Саше говорить, и он боялся, что вот-вот расплачется, от бесприютной, всю грудь изранившей тоски.
И, правда, придя домой, Саша так горько, неутешно зарыдал, точно у него теперь уже навек, отняли что-то самое его любимое и дорогое.
И сквозь слезы, которые его не оставляли всю ночь, Саша с ужасом чувствовал, что он давно уже мертв, что нет в нем ни любви, ни радости, ни сожаления, а одно холодное, как прутья кровати в его руках, беспощадное, непоправимое молчание.
XIV
В начале второй половины сентября снова установились сухие, но пасмурные дни.
И вот однажды в серое, тусклое утро Саша проснулся с чувством только что пережитого ужаса. Проснувшись, он вытер рукой холодный и потный лоб и сейчас же вспомнил свой сон.
Саше снилось, что он стоит где-то неподвижный и парализованный и ему на грудь взбирается большая, рыжая кошка. Она всеми зубами охватывает его горло, и хотя боли Саша не чувствует, но ему кажется, что кошка блаженно, с блестящими, спокойными глазами, как ребенок молоко, пьет его кровь.
И, должно быть, от необычайности этого сна, когда Саша проснулся, все окружающее показалось ему удивительно спокойным и умиротворенным. И этот скудно освещенный зеленовато-серый потолок, и мебель комнаты, и натертый паркет, и особенно этот полированный шкаф орехового дерева, на котором громоздились книги, – все это казалось скованным в своей неподвижности и рождало чувство пустоты.
Саша тупо глядел перед собой и как-то особенно ясно представлял себе самого себя, лежащего на смятой кровати, из-под которой выглядывала дорожная корзина, свое оплывшее от сна лицо и вялую, вытянутую поверх одеяла руку.
Одно из окон комнаты было открыто, и в него нанесло прохладой. Саша обернулся, и ему страшными показались эти окна в серый, чужой, непонятный ему мир.
И подумалось Саше, что вот он живет в шумной, огромной Москве, а где-то там – за голыми полями, за лесами, в которых блуждает бездомный осенний ветер, есть тихий, пыльный городок, с белыми каменными зданьями, с темными сырыми лабазами на Торговой площади и с общественным садом. Саша, бывало, ходил вот в такие же дни в этот сад, слушал, как ветер сквозит в опадающей листве и задувает в щели деревянного летнего кино.
Сад обрывом спускался к реке, и Саша помнит, как еще в детские годы он бегал туда к отцу, ловившему на реке рыбу. В солнечные летние утра уже издали можно было увидать темную фигуру, склонившуюся над удочками, и Саша бегом спускался по обрыву, пока услышавший его топот отец не оборачивался и не давал знак – подходить тише.
Зеленая непомятая трава на речном берегу в ранний утренний час еще поблескивала росой, река лежала голубая – в легком, влажном дыму, и солнце мягко блестело на прибрежных лозах.
Куда ушло все это? Отец Саши умер еще в начале революции. Саша помнит, как он вместе с матерью менял на больном отце белье. Страшно было чувствовать в руках это вялое, скатывающееся тело. А потом в гробу недвижно желтело родное лицо, лишенное жизни и смысла, предавшееся ужасному, непробудному сну.
И вот пережитой тогда глухой ужас Саша развеял вдалеке от дома, на бесконечных фронтах – в солнце, в дождевых ливнях, в бескрайных снеговых просторах. Тогда он вступил в партию, его окружила новая среда, десятки и сотни людей с упорными глазами, громкоголосых, стремившихся куда-то, мелькали возле него, он называл их товарищами, многих, казалось ему, любил, со многими был близок. Где теперь эти люди? Лишь изредка кого-нибудь встречает Саша, и все они теперь кажутся ему совершенно другими, точно прежде они притворялись в чем-то или не знали чего-то, что узнали теперь.
И в этой стране, что сереет за окнами своим бесконечным осенним небом, раскинулся трудовой муравейник, все напрягают силы, многие зажили спокойно, обзавелись семьями и, кажется, раз навсегда предначертали себе путь до могилы. Скучно жить! Неужели и он, Саша, должен жить так, как живут все, и так же, как всем, ему изо дня в день будет дуть в лицо холодный ветер жизни.
Саша глубоко и трудно вздохнул, снова отер пот с лица и почувствовал, как все глубже охватывает его мучительный, безысходный ужас. И он не мог понять, что мучит его и откуда приходит к нему то страшное и роковое, что лишает его спокойствия и медленно холодит сердце.
Стиснув зубы, Саша зарылся холодным лицом в подушку и не выдержал: ему показалось, что около него, действительно, стоит кто-то, кто никогда не проронит ни слова и будет молчаливо и покорно чего-то ждать. Оторвавшись от подушки, Саша сел на кровать и спокойствие окружавших его предметов опять показалось ему странным и необыкновенным.
Лицо Саши было бледно и рука его дрожала, когда он протянул ее за стулом с одеждой. Оделся он торопливо, словно куда-то спешил или спасался от чего-то. И потом он почувствовал себя, как неокрепший больной, которого заставили одеться в неудобное, слежавшееся, странно ощущаемое всем телом платье.
«Все… все пропало», – с какой-то тупой безнадежностью мелькнуло в голове у Саши, и он даже не знал, к чему относится эта его мысль.
Подойдя к столу, Саша выпил зачем-то холодной, противной воды и поморщившись поставил стакан на стол. Нервное напряжение становилось у него сильнее и, прислушиваясь к спящему дому, он хотел уловить хоть один звук.
Но в квартире было тихо, а часы, что лежали на столе, показывали всего шесть часов утра.
Саша прошелся взад и вперед по комнате и потом вышел в сумрачный, сонный коридор. Пройдя в кухню, где на черной плите и на столах разбросана была какая-то посуда, Саша на мгновенье остановился и взял с плиты примус.
Возвратившись к себе в комнату, он разжег его и поставил на него чайник. Потом Саша сел на подоконник открытого окна и начал завтракать. Есть Саше не хотелось, но он одно за другим без хлеба ел влажно-холодные под легко отстающей скорлупой яйца.
На улице только что пошли трамваи и спешили редкие прохожие. Но еще висела над городом утренняя тишина, и улица казалась голой, пустынной.
Позавтракав и посмотрев чайник, Саша подошел к зеркалу. Небритое его лицо выглядело худым и усталым. И Сашу неожиданно обрадовала мысль, что он может сейчас побриться.
И опять он со странной торопливостью начал искать по комнате бритву, кисточку, чашку для бритья. Эта суетливость как будто успокаивала его, и ему даже приятно становилось, что в доме тихо, что день на улице серый, что так напряженно, с ровным тугим шумом горит примус. Что-то очень давно знакомое почувствовал Саша в своем настроении и ему туманно вспомнилось, что когда-то, где-то, давно он так же рано вставал в осенние утра, торопился, радовался своей деловитости, предстоящему дню и тишине спящего дома.
Саша перенес зеркало на письменный стол, стоя разболтал в чашечке мыло, потом подлил в нее еще не вскипевшую, дымившуюся воду и сел на стул. Горячее мыло обожгло щеки, и Саша начал бриться все с той же поспешностью с нетерпением. И когда побрившись один раз, он посмотрел на себя в зеркало, ему удивительным показалось, что это его лицо – так оно исхудало, поблекло, отупело.
И Саше вспомнилась в этот момент Анна Сергеевна, вспомнилась совершенно спокойно, и как будто она на его руке держала свою маленькую и счастливую руку. И Саша почему-то подумал, что Анна Сергеевна не посчиталась бы ни с чем, и он все равно был бы дорог ей и больным, усталым, обессиленным. Ему казалось, что она держала свою руку на его руке и не смотрела на него, занятая чем-то другим, но полная его близостью. Он ждал, что вот она повернется сейчас и скажет ему что-то очень простое, ласковое и разрешающее.
Саша задумавшись сидел около зеркала и чувствовал, что все неясное, что было в его отношении к Анне Сергеевне, как будто сразу прошло. Безысходной жалостью к ней наполнилось его сердце, и ему захотелось сейчас же попросить у нее в чем-то прощенья, приласкать ее, без поцелуев, без прикосновений – одними словами и даже молчанием, которое она почувствовала бы и поняла. «Написать письмо», подумал Саша… «Нет, в письме этого не выразишь».
И уже жутью повеяло на него от этой неотступной близости милого видения.
Саша вскинул голову и посмотрел перед собой. Нет, нет, ничего этого не может быть, это только случайный смутный призрак, который сейчас же рассеется. Но уже оглядываясь кругом и снова услышав шум примуса позади, и увидев перед собой зеркало, Саша продолжал чувствовать на себе ласковую, едва ощутимую руку и всюду видел это безнадежно тоскующее милое лицо.
Саша нервно встал, снова машинально развел мыло и не садясь натер мыльной кисточкой щеки.
Но когда он увидел в зеркале свои глаза, они показались ему странно мятущимися, словно это были глаза какого-то страшного, незнакомого безумца.
Пытаясь удержать взгляд на своем отражении, Саша незаметно для себя в тупом, холодном ужасе отстранял от него лицо.
И подавленный безнадежной, всю грудь охватившей тоской, откинувшись на стуле, Саша вдруг обнажил разомкнутые зубы, словно готовился крикнуть что-то, и, как-то по-особому крепко ухватив бритву, отвел ее в сторону, и в воздухе мелькнуло блестящей тенью ее мучительно-острое, стеклянное лезвие.
Иван Катаев
«Крой, Вася, Бога нет!»
Глава из книги «Заметки читателя»
Ивана Ивановича Катаева, родившегося в 1902 году в Москве и в немалой степени питавшего ее образами свое вдохновение, едва ли следует причислять к сугубо московским писателям. Было бы и не к лицу творцу, взращенному революционной стихией, замыкаться в определенных, хотя бы даже столичных, границах: раз уж раздуваем мировой пожар, масштабу мысли и воображения подобает быть не иначе как вселенским. Между тем нельзя, наверное, не отнести к лучшим в его творчестве страницам те, на которых Катаев увлеченно живописует тот или иной московский пейзаж, для нас уже, как правило, отошедший в прошлое. В повести «Ленинградское шоссе» он предпринимает даже попытку создать некий «абсолютный» образ столицы, нагнетая странный словесный сумбур, в котором не всегда внятно для современного слуха мелькают и императоры, и «Яр», и храм Василия Блаженного, и Уточкин с Ханжонковым. Катаев очень беспокоен, он постоянно жаждет-требует перемен, но беспокойна, известное дело, и Москва, готовая меняться даже тогда, когда этого никто не ждет. В рассказе «Жена» (1927) писатель удобно для себя сливает эти два беспокойства в одно, достигая какого-то как бы интимного сотрудничества с городом в процессе неугомонного переустройства:
«В пустые и сожженные июльские вечера познается особая затаенная предуготовленность этого юго-западного угла Москвы, отграниченного Крымским мостом. Тут можно ощутить всю переутомленную молодость города, заново рожденного, старающегося накопить и безоглядно растрачивающего соки.
Правый берег – витиеватое убожество выставки с выцветающей, как юность, как память азиатских скитаний, голубизной туркестанского павильона…
… Левый берег – скучные насыпи, сточные канавы, захарканные лачуги и неуверенный, качающийся бег двадцать четвертого номера по новым рельсам, проложенным на собачьих костях, бутылочных горлышках и строительном щебне…
… Июльская пыльная застарелая скука владычествует над обоими берегами, над всем этим окраинным миром».
«Предуготовленный» угол нынче далеко не окраина. Быстрота и грандиозность перемен в данном случае удивляет. Катаев дает нам почувствовать не только старину Москвы, но и неотвратимость ее преображения. Нас может раздражать его пафос человека, уверенного, что он живет в необыкновенное и небывалое, великое время, но трудно не признать, сравнивая запечатленное им прошлое с нынешней реальностью всех этих бывших окраин, что пафос имел под собой известные основания.
Критики нередко упрекали Катаева за восторженную лихорадочность его стиля, находя ее искусственной. Но не все так просто. При всем том, что писатель и сам был охвачен энтузиазмом строительства нового мира, а следовательно, не мог быть его трезвым исследователем, дело вовсе не обходилось без внутреннего, не всегда зависящего от умственных выкладок, скорее стихийного, чем сознательного анализа. Эту работу вполне можно проследить по его произведениям, если разложить их в хронологическом порядке. Но творческая жизнь Ивана Катаева была короткой: в 1919 году, находясь в качестве работника политотдела 8-й армии (красной) в Грозном, он напечатал свои юношеские стихи в газете «Красный путь», в 1928-м вышла в свет его первая книга «Сердце», в 1936-м – «Отечество» – последнее прижизненное издание. В 1939 году Катаева расстреляли. Свести воедино все свои разрозненные наблюдения над эпохой, зрело проанализировать ее противоречия, сложиться в литературного мудреца он не успел.
Пафосом Катаев «заболел» на фронтах гражданской. Герой упоминавшегося выше рассказа «Жена», Стригунов, между боями и митингами той войны подкармливался блинами у крестьянской девицы, на которой тогда же и женился. Впоследствии видим его наспех получившим образование и на некоторых партийно-номенклатурных высотах агитирующим за великое коммунистическое дело, и все было бы хорошо, когда б жена не осталась прежней простушкой. Это – мука партийца, новоявленной элитной персоны. Семейная жизнь приобретает трагикомический характер, едва ли кстати украсившись чадом по имени Либкнехт. Юношеские подвиги тех, военных лет «зрелый» Стригунов определяет следующим образом: «измитинговался». А глядишь, помучается еще с опостылевшей женой, так и – страшно сказать!
– изуверится. Из Суздаля, где он учился в гимназии, Катаев отправился воевать с Деникиным. Вступает в компартию и предается мечтам о светлом будущем, о чем позднее, уже в 30-е годы, писал в одном из своих очерков: «Я помню эти мечты. Они были восторженны, высокопарны и туманны…». Герои Катаева весьма часто пытаются сохранить себя в этом состоянии до самого конца, им все хочется верить, что новый мир будет построен еще при их жизни, «года три, четыре от силы, – говорится в том же очерке, – и все готово… Победоносный марш социалистической техники по освобожденным полям. Он провиделся как широкий бравурный и беспрепятственный парад машин, ведомых героическими полчищами коммунаров».
Но, оставляя высокопарную и туманную восторженность своим героям, сам писатель очень рано приходят к трезвым мыслям о необходимости долгой будничной работы и, готовя себя к ней, в 1921 году поступает на экономическое отделение Московского университета. Тут как бы прочное соображение, что не писатель и записной говорун нужен стране, а практический деятель. Но нынешнему книжному червю та эпоха прежде всего дорога именно обилием ярких писательских талантов, и он вправе с удовлетворением отметить, что и карьера Катаева как литератора до поры до времени, т. е. до 1939 года, складывается вполне успешно, с твердой последовательностью. Он один из самых активных участников известной литературной группы «Перевал», ответственный секретарь созданной в 1929 году «Литературной газеты», с 1932-го – член оргкомитета грядущего Союза писателей, а с 1934-го – член его правления. К нему приходит известность. Он не только писатель, но и общественный деятель.
Повести и рассказы Катаева – о вечном: о любви, о брачных союзах, о жизни и смерти, о добре и зле. Их сюжеты вполне обычны, даже, можно сказать, избиты. Но через них, странно извиваясь, как воздушный змей в небесах, проносится авторский пафос, что придает им и своеобразный колорит, и истерическую нотку.
Герой повести «Сердце» (1927) Журавлев тоже начинал с фронтовых туманных мечтаний, а заканчивает свою жизнь в роли крупного хозяйственника поры нэпа, председателем большого московского кооператива. У него врожденный порок сердца, и, чтобы унять внезапно возникающую боль, ему приходится, порой в самых неожиданных местах, принимать горизонтальное положение, отлеживаться. А лечиться некогда, дел по горло. Журавлев видит пороки своего времени, иной раз настолько зорко и остро, что поневоле впадает в уныние и пессимизм. Ведь кругом нищета, воровство, невежество. Но тут же он, как бы одергивая себя и опоминаясь, возвращается к бурным мечтам о скорых и благополучных переменах. Эти переходы от уныния к восторгам носят довольно болезненный характер, с медицинской точки зрения они близки к маниакально-депрессивному психозу, с литературной – только немного не дотягивают до театра абсурда. Пришедшему за помощью приятелю юности, а теперь идейному врагу Толоконцеву Журавлев в откровенном разговоре в этой помощи отказывает, но вышестоящего начальника все же уговаривает помочь лишенцу и его семье.
Однажды, немного выпив у единомышленника, Журавлев по дороге домой почувствовал себя скверно и принял горизонтальное положение не где-нибудь, а в парадной дома, где обитает с матерью и сестрой Толоконцев. Последний, естественно, вскоре появляется. Видя бывшего друга в жалком положении, благородный дворянин тут же решает позвать врача, но, уловив запах спиртного, приходит в негодование и с криком: «Ах ты, сволочь!.. Награбили – и пьянствуете?»… плюет советскому человеку, более того, советскому партийному деятелю в лицо. И, хотя Журавлев вовсе не пьян, как подумал было этот разгневанный человек, нет ощущения, что плевок совсем уж им не заслужен.
Известны такие случаи из дореволюционного прошлого: знаменитый Менделеев накричал на петербургского генерал-губернатора И. В. Гурко, некто из бунтующих студентов публично дал пощечину прибывшему в университет для умиротворяющей беседы министру… Ни для Менделеева, ни для студента их выходки последствий не имели: видимо, генерал-губернатор понимал значение Менделеева для России, а министр ведал, что революционные выступления сопряжены с крайностями и риском. Но для подобного понимания необходим немалый груз культуры, а чтобы Журавлев обладал таким грузом, довольно-таки сомнительно. Вспомним советских начальников, попытаемся представить себе, что кто-то плюет им в лицо… А Журавлев… ну, он не то чтобы просто утирается и уходит, он, скорее, как бы не замечает случившегося. Вернее сказать, автор не позволяет ему заметить. Что же это, если не абсурд?
С одной стороны – острое внимание к недостаткам эпохи, с другой – захлебывающийся восторг, с третьей – не вполне адекватные реакции на резкие проявления действительности. Еще один эпизодический персонаж повести, Чистов, бывший домовладелец, лишенный всех свои богатств и вынужденный ютиться в крошечной комнатенке, настроен весьма недоброжелательно по отношению к новой власти и мстит ее представителю Журавлеву, в частности, покостит у него под дверью. У Чистова коллекция фотографий голых монахинь, с одной из них он, по слухам, вроде как балует. Все поголовно жильцы дома против него и жаждут его выселения, а Журавлев Чистова жалеет. Почему не очень-то понятно. Ведь действительно классовый враг, и к тому же устроил уборную под его дверью… Может быть, потому что против него все, и даже собственный сын Юрка, пионер, сметливый и дисциплинированный малый, который, правда, почти ничего не читает, к огорчению отца, зато отлично усвоил, что буржуев следует вывести подчистую?
Как же выйти из заколдованного круга всех этих несуразностей? А выход подготовлен изначальным замыслом повести: больное сердце. Оно подводит Журавлева, когда Чистов, получивший после доноса Юрки предписание суда о выселении, кончает самоубийством. Журавлев умирает. Другого выхода для своего героя молодой писатель не увидел.
Зато перед героями «Ленинградского шоссе» (1932) подобные проблемы уже не стоят. У них всякие научные и технические заботы, у них проекты сжигания пылевидного угля и мимолетный вопрос, будет ли война с японцами, они бодро участвуют в праздничных демонстрациях и митингах, сносятся по необходимости с заграницей, а продукты берут в спецраспределителе. Умершего отца хоронят, не обременяя себя помыслами о кровной связи с ним. Отец – это отжившее, это темное прошлое, с которым, как им представляется, давно покончено… А ведь страшно узок и убог их мир. Мечты о мировом пожаре, вселенскость, революционный пафос – все это уже пустое, личность, «измитинговавшись», стирается. Перед нами какие-то Передоновы, не поднимающиеся даже до смехотворной веры в недотыкомку. «Кр-рой, Вася, бога нет!» – кричит в начавшемся скандале случайно попавший на поминки беспризорник, и этот «клич» выглядит последним полетом массовой мысли и фантазии, на какую оказывается способной мрачная година тридцатых.
Катаев проследил эволюцию революционного пафоса на коротком отрезке времени. Мог бы он, проживи дольше, стать его мудрым исследователем? Вряд ли, ведь он сам им жил, вполне подчинялся его стихии. Даже очевидный – для нас – процесс умирания этого пафоса, явленный в «Ленинградском шоссе», обрисован скорее бессознательно, чем по хорошо продуманному сценарию, и потому мы не чувствуем, чтобы автора происходящее очень уж огорчало. Нет, Иван Катаев вовсе не был аналитиком, мыслителем, каким ему, наверно, хотелось предстать, когда он ставил перед собой задачу изобразить дух времени и создать величественный, «окончательный» образ Москвы. В этом отношении он, как и подобает слепо верующему во что-то человеку, вполне бесхитростен. В остальном – в главном – большой мастер, замечательный писатель.
Михаил Литов
Ленинградское шоссе
Хоронили старика Савву Пантелеева.
Старик помер не вовремя, в канун Первого мая, в ночь на страстную субботу; два праздника, старый и новый, в этом году пришлись на один день. Едва поспели заказать гроб, – мастер взялся представить к завтрему только по знакомству, благо заведение его было совсем рядом, по этой же стороне Ленинградского шоссе: пантелеевский домишко в четыре окна, потом трактир государственного треста, потом «Продажа овса и сена», и уж тут бойкая белая вывеска: «Торговля разными гробами и венками». Старуха Пантелеева успела сбегать и на ту сторону шоссе, к кладбищенскому батюшке. Савва не раз и не два последние годы ей наказывал: ежели что – хоронить по-церковному. Да ей и самой хотелось, чтобы было пристойно, тихо, хорошо, – как раньше, как всю жизнь провожала в могилу детей, родственников, соседей. С батюшкой уговорились отпевать и хоронить на второй день праздника.
Помер старик Савва от волненья.
Всю зиму не давал ему покоя жилец из-за кухонной комнаты, гражданин Адольф Могучий, известный автор эстрадных куплетов и профсоюзных стишков. Все грозился расторгнуть договор Пантелеевых на аренду дома и прекратить злостную эксплуатацию двоих жильцов в размере пятнадцати рублей помесячной платы с каждого. С нового года, в знак протеста против кабалы, Могучий перестал платить вовсе. После трехмесячных бесплодных переговоров и мучительного раздумья Савва вчинил иск о выселении. Суд в выселении отказал, посчитавшись с документами о заслугах Адольфа Могучего на фронтах искусств, но деньги предложил уплатить и взыскал с ответчика судебные издержки. В отместку Могучий вызвал инспектора из района. В пятницу, в самый разгар предпраздничной уборки, инспектор явился и, руководимый Могучим, обследовал весь дом, от чердака до подполья, выискивая нарушения арендного договора по части ремонта. Разыскать их было не трудно: несмотря на все любовные Саввины гвоздочки, подпорки и планочки, прогнившее деревянное строение год за годом крошилось, как черствы заплесневевший ломоть.
На кухне, среди вздыбленных кверху ножками стульев, кроваво-полосатых тюфяков и потоков вспененной воды, инспектор на гладильной доске, положенной поперек окоренка, составил укоризненный акт. Напрасно Савва, бормоча насчет дороговизны строительных материалов и неисправного платежа жильцов, совал судебный исполнительный лист, свою пенсионную книжку с отметками о тридцатисемирублевом пособии и справку о сорока годах производственного стажа, – все домовые изъяны были неукоснительно занесены в акт, а заключение инспектора и скрипнувший росчерк его вечного пера не оставляли никакой надежды. Адольф Могучий, стоявший подле, вежливо осведомлял со своей стороны, что принадлежность Пантелеева к индустриальному пролетариату более чем сомнительна, поскольку старик в данное время торгует всякой рухлядью на Тишинском рынке, и что все вообще арендаторское семейство находится на грани полного морально-политического разложения. Понизив голос до почтительного шепота, он сообщил, что старший сын Пантелеева за причастность к оппозиции был в свое время исключен из партии и только в прошлом году возвратился домой. Инспектор молча выслушал все это, сложил акт и, щелкнув замочком портфеля, направился к выходу. Могучий, легко ступая ботинками в серых гамашах, кинулся за ним, но на пороге быстро обернулся, показал Савве язык и, погрозив кулаком, скрылся.
Старик весь день молчал. Вечером, притащив, как всегда, два ведра воды с колонки и заложив корму боровку, помещавшемуся в дровяном сарайчике, он улегся спать на своей узкой койке; как всегда, повернулся лицом к стене. Всю ночь в комнате шло движение. Поздно вернулась из кино младшая дочь, комсомолка Зина, и, лукаво косясь в сторону спящей матери, на цыпочках, чуть пританцовывая, прошла к себе за перегородку. Последний сын, Валька, второступенец, хромой от детского паралича, большеротый, с нежными глазами горбуна, часов до двух сидел за столом над «Тремя мушкетерами»; дочитал до конца, долго и неподвижно смотрел прямо перед собой, изредка пошмыгивая носом; отсветы добрых улыбок скользили по его лицу; потом осторожно пробрался к широкому продавленному, в горах и ямах, дивану, повернул поблизости выключатель; не раздеваясь, ничем не покрывшись, свернулся на диване, тотчас же заснул. Среди ночи заплакала во сне шестилетняя внучка Эдвардочка, бабушкина вырощеница. Стариху встала к ней, долго уговаривала, поправляла одеяльце; подошла к дивану, тихонько потрогала Валькин бок и, покачав головой, на минуту зажгла свет, укрыла сына его пальтишком. Под утро, когда тихий апрельский рассвет едва заголубел в окнах, поднялся, скрипя складной кроватью, Алексей, старший, – тот самый, – тоже зажигал электричество, чтобы взглянуть на будильник, – оделся, ушел в свое депо, на Виндавскую дорогу. И всю ночь, когда горел свет, можно было видеть толстый розоватый затылок старика с твердым седым ежиком, всю его крепкую круглую голову – как она лежит спокойно и простодушно, вдавившись в пожелтевшую наволочку.
Утром старуха, поставив в кухне чайник на примус, вернулась в комнату и, как было заведено, окликнула мужа:
– Вставай, Савва, седьмой час.
Старик не отозвался, и она, подойдя к кровати, легонько потрясла его за плечо.
– Савва, пора, вставай.
Уже одно это прикосновение к плечу создало в ее пальцах странное, дикое ощущение неподатливости, полной чуждости. Крупно затрясшейся рукой старуха откачнула на спину это отяжелевшее тело, страстно ощупала влажно-холодную шею, грудь, щеки. Тут она шарахнулась и закричала…
Савва отошел во сне, в безмолвных бурях угрожающих сновидений; потрясенное сердце его на переломе ночи в последний раз слабо толкнуло кровь и застыло.
В девятом часу, зажав в потной ладони три гривенника, Валька уже звонил по автомату из аптеки в город, на квартиру к брату, инженеру. Ему же поручено было оповестить и всю остальную родню.
Пыльное окно, выходившее в сени, раньше было заслонено изнутри высокой спинкой дивана. Теперь диван вынесли, и все съезжавшиеся на похороны, вступая в сени, сразу видели в это окно угол выкрашенного яркой охрой гроба, бумажное кружевце изголовья, узнавали широкое седое темя и за ним отодвинутые незнакомой светлой пустотой выцветшие обои комнаты. Гроб был поставлен высоко и, казалось, вылетал, изголовьем вперед, в верхнее стекло окна.
Небывалой пустотой и светом опахивала комната и тогда, когда, протиснувшись в ее дверь из прихожей, созерцательно замирали у порога. Праздничное яснейшее утро всем размахом небосклона, всей широтой горящего солнцем шоссе легко входило в три распахнутых окна. Отдуваемые внутрь свежим ветерком, колебались кисейные занавески; прозрачные, почти невидимые язычки свечей отгибались назад и опять выпрямлялись, иногда захлопывалась неприпертая створка рамы, и стрекозиная тень на миг застилала желтый солнечный ромб на полу. Улица летела мимо дома, мимо гроба, купаясь в просторах светлого воздуха, настигающе звенела трамваями, шуршала и погромыхивала по асфальту. Ленинградское шоссе уносилось вдаль, вдаль, сквозь дачные пригороды, парки, леса, кочкарник, болота, – на сотни километров вдаль, в туманы севера; всей протяженностью своей оно свидетельствовало о бесконечности жизни, о слитности ее мгновений и частиц. Каждый автобус, который обрушивался, проносясь, в тишину комнаты, как бы увлекал ее за собою восторгом добродушного, запыхавшегося существа.
Савва в новой, белого с полосками ситца, косоворотке и коричневом пиджаке возлежал почтенно, прикрытый по грудь ветхим и мятым парчовым покровом, отражая сияние утра белизной запрокинутого лица. Старческий румянчик на круглых щеках, всегдашние багровые прожилки теперь исчезли, щетинка бритого подбородка ровно серебрилась… Савва был бы вполне благообразен, если бы не губы, выпяченные, будто в капризном ожидании поцелуя.
Слободские старушки любительницы, соседки, забежавшие с сумкой между двумя очередями, толпились поодаль. Один Валька сидел на стуле возле гроба – такой же как всегда, с расстегнутым воротом рубахи, не-подпоясанный; близоруко сгорбившись, он неотрывно читал «Десять лет спустя». Старшие сестры, брат, проходя мимо него за перегородку, трогали его за плечо, проводили ладонью по голове, вполголоса уговаривали оставить чтение, идти с ними: неудобно так… Валька, не отрывая глаз от страницы, молча мотал головой и не двигался с места.
О Вальке же первым делом недоуменно справлялись, входя за перегородку и здороваясь с собравшимися там близкими. Мать, высокая, прямая, заплаканная, с приподнятым от многих деторождений животом, отвечала слабым голосом, грустно и любовно усмехаясь:
– С раннего утра сидит. Не отходит, думает, видно, так надо. А уж почему с книжкой, бог его знает, – наверное, тоже хочет выразить отрицание к религии. – Вздохнув, она говорила извиняюще: – Пускай себе сидит, его не осудят, маленький еще.
Тотчас же на новоприбывших набрасывалась с гневными нашептываниями об Адольфе Могучем вторая дочь, Капитолина, заведующая клубом на кондитерской фабрике, румяная, курносая, в пенсне, в английской кофточке, похожая на фельдшерицу.
Она приехала сегодня раньше других, обнявшись, поплакала с матерью, после чего та повела ее на кухню и боязливо показала объявление, которое Могучий только что прилепил хлебным мякишем к печке. В нем сообщалось, что, за смертью арендатора Пантелеева, дом переходит в ведение жилищного товарищества, для организации какового все жильцы благоволят явиться на собрание, имеющее быть в помещении данной кухни 3 мая сего года в 18 часов. Подписано было – Инициативная группа. Группа эта могла состоять только из одного Могучего. Кроме него и Пантелеевых, в доме проживала еще худенькая полька Мария, презрительная, нищая и всегда надушенная; муж ее где-то за что-то давно и безысходно сидел. Но Мария перед праздниками уехала на побывку в провинцию. Санкцию района Могучий, конечно, не успел получить: учреждения третий день были закрыты.
Капитолина сорвала объявление, ринулась в комнату к Могучему. Куплетист сидел перед зеркальцем и брился безопасной бритвой. Мстительно сверкая пенсне, Капитолина порвала бумажку на мелкие кусочки, развеяла клочки по комнате, натопала и накричала. Могучий пытался вставлять свои «извиняюсь» и «позвольте», но был смят беспощадным напором. Через полчаса он удалился из дому, возбужденно помахивая тросточкой.
– Подлое, подлое самоуправство! – шептала Капитолина, картавя и пылая. – Уморил старика и хоть бы подождал, пока гроб стоит в квартире! Гнусный, пошлый, деклассированный элемент!.. Я этого так ни за что не оставлю, нужно немедленно привлечь его как за уголовщину…
Брат Сережа, молодой инженер и директор научно-исследовательского института, слушал ее, ласково и рассеянно соглашаясь, приговаривал: – Черт знает что! Безобразие! Какая наглость! – Близорукий, как все младшие Пантелеевы, Сережа носил очень сильные очки без оправы; мягкие глаза его глядели из-под толстых выпуклых хрусталин, как из-под воды, расширенные и умоляющие, точно у девы-алконоста. Одетый в заграничное, он – Сережка, Сергей Саввич, московский красногвардеец, комиссар роты связи, рабфаковец – лицом и всем обликом своим, казалось, отплывал уже в какие-то нерусские, невиданные, блестящие края. Расцеловавшись с сыном, мать всплакнула у него на плече. Он смущенно уговаривал, обняв ее подрагивающую спину:
– Ничего, мама, ничего, успокойтесь…
Она тихонько отстранилась, попыталась незаметно смахнуть свою слезу с отворота его лиловатого пиджака, с неосознанным удовольствием посмотрела вниз, на его модные желтые ботинки. Еще два года тому назад Сережа ходил в заплатанной на локтях гимнастерке, в лоснящихся штанах.
Дуняша, Сережина жена, инженер-проектировщик Гипрохима, вошла вслед за мужем вразвалочку, с видом будничным и домашним. Этот дом, и верно, был ей своим: когда была еще работницей, она снимала тут комнату, в которой ныне жил Могучий, здесь познакомилась с Сергеем, сюда они раньше, до того как обзавелись бонной, подкидывали на лето к бабушке своего мальчишку. Ослепительный берлинский джемпер, мужнин гостинец, не мог одолеть Дуняшиной пресненской широты и коренастости. Если бы не серьезность некрасивого, веснушчатого лица, не печаль в крупных, смело глядящих глазах, можно было бы предположить, что минут через пять она ловко пройдется в «барыне», напевая скороговоркой: «Эй, корыто-корыто, много воды налито!» Поздоровавшись со свекровью, Дуняша сказала ей то, что надо; поахала и понегодовала, выслушав Капитолину, и затем увлекла за собой в дальний угол Зину. Здесь она принялась журить девушку – зачем не сумела отговорить мать от церковных похорон.
– Растяпа ты, растяпа! – выговаривала Дуняша. – Вам бы с Валькой поднажать немножко, поагитировать – она бы и отступилась. А теперь изволь выслушивать эту гнусавую комедию…
Зина ужасно кипятилась, еле сдерживая голос:
– Да что вы все на одну меня напали!.. Вот и Капка тоже… А вы все где были? Прикатили, как важные господа, к самым похоронам… Вы бы взяли да приехали тридцатого, поговорили бы с ней, она бы вас больше послушалась… А мы с Валькой, думаешь, не агитировали? Ничего подобного! Мы агитировали, мы доказывали ей, что все дети у нее коммунисты, что отпевать – предрассудок, и так далее… Она твердит одно: «Папа сам так хотел, и нехорошо нарушать его волю…»
– А Алексей что?
– Н-ну, Алексей! – Зина пренебрежительно махнула рукой. – Во-первых, он вернулся в субботу поздно вечером и сильно выпимши. Увидал отца, очень поразился и даже поплакал, но с матерью сказал только несколько слов и завалился спать. А со вчерашнего утра опять на работе, и не знаем, вернется ли сегодня. Кажется, он в поездке…
С пышным букетом тепличной сирени появилась старшая сестра Александра, поэтесса и журналистка, разводка, женщина суматошной и неуютной жизни. Шумя хвостами темного, но модного платья, бросив на стол цветы, сумочку, перчатки, она подбежала к матери, обняла ее за шею и прижалась лицом к ее плечу.
Быстро оторвалась, покивала всем, ища сощуренными глазами в темных кругах свою дочь Эдвардочку, которая уже стояла сзади нее и смирно держалась за юбку. Обернувшись, Александра ахнула, подхватила дочку на руки и принялась бурно целовать ее, тискать, щекотать губами и снова целовать. Обе счастливо хохотали, так что Капитолина на них даже зашикала. Потом из сумки была вынута шоколадная конфетина. Эдвардочка засунула ее за щеку всю сразу, а мать смотрела на дочку влажными глазами и все приговаривала: «Как выросла, какая ты у меня красавица, какая умница…»
Александра не замечала, что девочка, с коротко стриженной головенкой на тонкой шее, худа, бледна и застенчива, что на ней длинное, сшитое на рост новое байковое платьице деревенского фасона. Материнских забот ее в свое время хватило только на то, чтобы родить дочь, придумать ей замысловатое имя и через полгода сдать на попечение бабушки. Деньги на содержание девочки приходили от Александры с Мурмана, с Кавказа, из Ойротии; сроки не всегда соблюдались. Раза три в году Александра приезжала навестить дочь и в такие, как сейчас, минуты, держа свою Эдвардочку на коленях и умиляясь ею, думала про себя, что она все же не плохая и любящая мать и что ей удалось примирить биологические инстинкты с общественными запросами.
Последним из родни приехал Костя Мухин, Капитолинин муж, бригадир с часового завода, коротконогий, начисто лысый парень, при воротничке и галстуке шнурочком, с глазами веселыми и зоркими.
– Явление пятое, те же и Мухин, – провозгласил он так громко и неподобающе, что на него испуганно замахали руками и зашипели.
– А что? – удивился Костя. – Старичок все равно не услышит, а мы тут все люди свои…
Однако он сделал строгое лицо и минут пять потолковал с тещей, сочувственно причмокивая и покачивая головой. Потом обошел всех, каждому сказал что-нибудь поддразнивающее, перед Зиной же просто надул щеки и вытаращил глаза. Капитолина завладела им надолго, в который раз, но с особым жаром повторила про Могучего, искательно заглядывая мужу в глаза и нервно сжимая ему руку. Костя опять почмокал, сказал:
– Вот это типчик, надо ему хвост накрутить, – и звонко поцеловал жену в щеку.
Он усадил ее на кровать и, обняв за талию, принялся отпускать иронические нежности. Они были женаты всего полтора месяца: познакомились в вечерней Свердловке, где учились оба первый год.
В тесной комнатушке за перегородкой стало людно и поневоле шумно, как ни старались понижать голоса. Пантелеевы встречались не часто, а все сразу, как сегодня, чуть ли не впервые за многие годы. Все, с удовольствием переживая родственное дружелюбие, разглядывали друг друга, расспрашивали, втихомолку пошучивали. Семейное сходство как бы реяло в воздухе, осаждаясь то на тембры голосов, то на движение бровей, то на близорукие прищуры. Особенно задерживалось оно где-то в очертаниях округлых щек и в особой нежности подбородков. Дуняша и Костя тоже не выглядели чужаками, будто стихия множественного пантелеевского тела начала перерабатывать и их на свой лад, ласково вобрав в себя и картаво приголубливая.
Наиболее поразила бы постороннего многолицая похожесть всех молодых на добрую, изможденную и старчески красивую мать, а всего больше на того, кто тяжело и неподвижно лежал в соседней комнате. Там в гробу помещался грубый череп, шишковатый нос, оттопыренные губы – приниженность, плебейство. Тут сиял очками интеллект, произносились книжные слова, дышали женские и девичьи горла, теплилась нежная кожа.
И все, что собралось тут, происходило от того, кто лежал там, и сохраняло несомненную похожесть на него: этими-то как раз мягко очерченными, розовеющими щеками – на те, щетинистые, желтые, этими выпуклыми светящимися лбами – на тот, с застывшими толстокожими морщинами.
Пустивший в мир столько жизней, зачавший их в забитости, в алкоголе, кончился. А они, молодые, продолжались: похаживали, вздыхали, украдкой острили.
Это была прочная русская рабочая семья из Западного края, семья, пережившая со своим народом и классом все великие перемены и потрясения двух последних десятилетий. Тысяча девятьсот пятнадцатый год вырвал ее из освоенной почвы и, надолго окрестив беженцами, в телегах и теплушках прогнал через всю грозово помрачневшую равнину, чтобы кинуть в мучной и бездорожный городишко на берегу Волги. Раструсив весь свой деревянный, тряпичный и глиняный скарб, семья вывезла с Запада только склонность к опрятности, мучительную по наступившим временам, только это далековатое «вы» родителям и привычку отдавать детей одного за другим в городское училище. Пока отец приноравливал свои навыки кожевника к ходу паровой мельницы-крупорушки, пока старший сын возил военные грузы по Сызрано-Вяземской дороге, а второй, перебравшись в Москву, чинил потрепанные фарманы и блерио на Дуксе, – две дочки на помочах беженской благотворительности завершали учение, и подрастала младшая. Осенние бури девятьсот семнадцатого и месяцы, помчавшиеся вслед за ними, еще дальше разметали обоих сыновей; первые связные и длинные письма были получены от одного из-под Казани, от второго – из штаба Южной завесы; последнему сыну, ровеснику революции, суждено было нелегкое младенчество. Гражданская война, стихи, союз молодежи, вольность раскрытых, бесконечных дорог разлучили с семьей и старшую дочь; с тех пор она больше не жила дома. Да и сам-то дом скоро во второй раз снялся с места. Двадцать первый год, страшно дохнув из Заволжья азиатской бедой, сорвал семью с якорей и бросил сюда, к подножью Москвы, на слободскую окраину, где Сергей, к тому времени демобилизованный, заарендовал на имя отца этот самый домишко. Настал счастливый всероссийский миг возвращений, свиданий, отдыха, опамятованья; тут и Пантелеевы собрались все сразу под одним кровом, и даже шальная Александра, тогда в шинели, подпоясанной ремнем, заглянула ненадолго. Но встретились только для того, чтобы снова расстаться – накрепко, навеки, отрываемые друг от друга уже не столько верстами, сколько расхождениями судеб. Старики остались с двумя младшими, потом приняли внучку и жили так на Саввино жалование заводского сторожа, последние два года на пенсию, сдачей комнат, на случайные червонцы от взрослых детей, жили робко и неслышно, пока не пришли новые и завершающие перемены: вернулся Алексей, потерявший все, поступил для нового стажа помощником машиниста на Виндавскую дорогу, а через кухню, за печкой, завозился Адольф Могучий.
Пора было выносить гроб. И вдруг обнаружилось, что выносить-то его собственно некому, что народу много, а мужчин только двое: Сережа и Костя. Сестры и Дуняша предложили свою помощь, но мать воспротивилась: не полагается женщинам, непорядок это, лучше попросить соседей. Сережа выглянул в большую комнату; там тоже, кроме Вальки, были одни женщины. Он вышел через комнату и сени на крылечко и остановился там, раздумывая, кого бы позвать.
По шоссе рысцой ехал извозчик. Неожиданно он заворотил лошадь, простукал по настилу и, оставляя полукругом глубокие колеи по еще не просохшей земле, подкатил к пантелеевскому крыльцу. Извозчик, не такой, как ожидалось, без синего балахона, в картузе и брезентовом пыльнике, замотал вожжи на козлах и, вслед за седоком, сутулым человеком в кепке и пиджаке нараспашку, спрыгнул с пролетки. Оба подошли к Сереже, поздоровались, сунув жесткие ладони, а сошедший с козел сказал протяжно:
– Здравствуйте, Сергей Саввич дорогой.
У этого было широкое плоское лицо в пушистой рыжеватой бороде, вид уверенный и благостный, несмотря на малый рост и поджарость. Другой, длинный, с впалой грудью, с серой от седины челкой из-под козырька и без следа волос на подбородке, был хмур и, должно быть, язвителен: уж очень резкие складки шли у него от носа к углам длинного рта.
Оба вошли в дом.
Ни одного из них Сережа не знал. Стараясь припомнить, не встречал ли их где-нибудь, он пошел следом за ними. Бородатый уже крестился перед гробом, высоко занося персты, потом долго и с удовольствием прикладывался к покойнику. Спутник его стоял посреди комнаты, сердито мял в руках кепку, никаких обрядностей он так и не выполнил. Вышедшая из-за перегородки мать шепотом объяснила Сереже: который с бородой, это давний приятель отца и даже какой-то свойственник по сестре, вышедшей замуж под Пензу, живет в Москве, занимается легким извозом. Сережу знает по карточке; а второй – обыкновенный столяр, с ним отец познакомился как-то на рынке, и втроем с извозчиком они раза два выпивали.
Бородач оказался человеком очень полезным и знающим. Сияя ловкими голенищами хорошо начищенных сапог, он сбегал в трактир и срядил там трех возчиков от подвод с кирпичом – помочь донести гроб до церкви. Одного из них усадил в свою пролетку и наказал ехать вслед за гробом.
– Для параду, – пояснил он всем.
Потом потребовал у вдовы шесть полотенец, связал концами попарно и подвел под гроб.
– А ну-ка, молодец, подсоби, – сказал он при этом Вальке, – отложи псалтырь-то.
Валька оторопело взглянул на него, встал и, припадая на одну ногу, пошел помогать.
Двоим возчикам бородач велел снять фартуки, густо перемазанные красным, развел по местам, затем поставил Сережу, Костю, столяра; сам стал в ногах. Во всех движениях его видна была порядливость, истовость, радостная увлеченность своим делом.
Гроб оказался очень тяжел, и Сережа, взявшийся сзади, в головах, почувствовал, что ему неприятна и страшновата эта неожиданная тяжесть отцовского тела. Промелькнула беглая, брезгливая мысль: «Да, много в нем, много всякого в этом теле…» Как бы откликаясь, извозчик сказал впереди:
– Вот и видно, что безболезненно скончался Савва Семеныч, – в весе-то ничуть не сбавил.
«Действительно, – подумал Сережа, – обыкновенно ведь умирающие легчают во время болезни… Дотошная же голова у этого дяди».
Сзади громко заохала, зарыдала мать: гроб осторожно выплывал из комнаты. Мать вела под руку Александра; за ними тронулись остальные.
Из темных сеней, в черной раме настежь распахнутой двери утро виделось особенно свежим и пламенным. Это был четырехугольник расплавленной синевы, весенней чистоты и прохлады. Прошли мимо трактира, мимо понурых, с мордами в торбах, лошадей у коновязи, поднялись к шоссе. Тут задержались немного, дожидаясь удобной для перехода минуты.
Шоссе улетало к Москве гладкой, матово отсвечивающей сиреневой лентой асфальта. Оттуда, навстречу ему, быстро вырастая из точки, мчались машины, солнечные огоньки плясали на стекле и никеле; машины проносились, шипя шинами по песчинкам, ушибая ветром; сирены горделиво и грустно распевали, исчезая навсегда. Перед глазами тасовались автобусы, грузовики, велосипедисты, сверкали железные шины подвод. Боязно было ступить на этот стремительный конвейер жизни: ударит под ноги, качнет, унесет вдаль вместе с тяжелым гробом, с полотенцами…
Поймали нужную минуту, двинулись. С середины шоссе, словно по большой воде, было видно далеко. На миг распахнулась Москва, в дымке, в кучевых облаках, высокая и нагроможденная, как горная страна. Туманная полоса опушки Петровского парка, фасады новых домов, фабрик, строек лезвием перспективы рассекали город до самого сердца. Москва распростерлась бескрайно, застилая половину горизонта; государство вокруг нее, поверхность земного шара были еще необъятней.
Желтый гроб переплывал шоссе наискосок, будто сопротивляясь течению. Подошвы затрудненно шаркали по асфальту. Сереже и Косте, обоим вспомнилось вдруг, что ведь точно так же, мелкими шажками, стараясь не наступать на каблуки передних, шли они вчера в тесных рядах демонстрации; только вчера, там вон, в московских улицах. Еще не была забыта телом уютная усталость от многочасовых скитаний по солнечным мостовым, веселой толкотни, ребячливого баловства и пения во всю глотку; еще держался в ушах разнобойный, обрывочный гомон оркестров, шумы и шорохи толпы, резкое дуденье пионерских труб; еще сегодня утром счищали с ботинок первую весеннюю пыль гулянья. А уж куда-то далеко завалилось вчерашнее: не в прошлом ли было году?
Дуновениями ветерка иногда подносило Сереже сбоку теплый, сладковатый и непристойный запах. Когда понесли, он даже не сразу понял, откуда это, и только на улице, поняв, неприязненно покосился на кисейку, приподнятую носом отца. Но больше-то пахло пригретой землей, свежестью, пылью, близким летом – близостью того, чем отдает в душный день московская окраина: немного известкой, немного москателью, лопухами, кровельным железом, крапивой, ночным дождем. За насыпью шоссе, у ларьков, стояли хвосты за пивом. Земля пошла утоптанная, с крепко вбитой в нее подсолнечной лузгой.
Миновали тополевую аллейку, голую еще, но уже обвеянную чем-то почти незримым серовато-зеленым, подошли к церкви. На паперти ожидали поп и дьячок; они торопливо и не в лад запели, священник, с лицом толстым и отечным, в темных мешках, замахал кадилом. Дьячок, необычный, похожий на педагога, чисто выбритый, в круглых очках, в воротничке, пел серьезно, старательно округляя рот; глаза его внимательно и прямо смотрели сквозь очки на стоявших с гробом. Про него было известно в приходе, что он человек научный, недавно прибыл из Соловков и поселился на колокольне.
С нарастающим изумлением смотрел Сережа на эту незамысловатую церемонию. Никогда не вспоминавший о церкви, он и не предполагал, что так глубоко отвык, так отдалился от нее. Не то чтобы в ту минуту им овладели антирелигиозные мысли, – просто само зрелище было уж очень внежизненно, нарочно: этот сумрачный, тяжелый и, видимо, больной человек в золотой обертке конусом, пускавший синие дымки, и другой – серьезный, очкастый, тянувший непонятную заунывную песню. Через этих двоих – все, что стояло за ними, все, что помнилось с детства, – полутемное логово храма, образа, земные поклоны, чаша с причастием, – все представилось как нечто совсем уж несусветное, древнеисторическое; в сознании возникли слова: «жрецы», «ассирийцы», «культ».
Вероятно, и Костя Мухин чувствовал что-нибудь схожее, потому что он наклонился над гробом к Сереже, загадочно шепнул:
– То-ма-гавки!..
И, хитро сощурив глаз, покрутил головой.
Между тем поп и дьячок попятились с паперти и, как бы приглашая следовать за собою, вошли внутрь. Гроб понесли за ними. В церкви, как и помнилось Сереже, было сыро, прохладно и темно, хотя и в решетчатые окна и особенно сквозь распахнутые врата – в высокое окно алтаря входил все тот же яркий день. Гроб водрузили на помосте, и Сережа с Костей тотчас же вышли наружу, за ограду, где дожидались все остальные, кроме матери и Александры. По уговору между детьми, Александра, пока отпевают, должна была оставаться с матерью. Бородач на минуту вышел, отпустил возчиков, привязал лошадь и, всходя на паперть, сказал понимающе:
– Побудьте, побудьте, граждане, только не расходитесь далеко, я вас тогда покличу…
Спутник его, молчаливый столяр, поставив гроб, тоже вышел и, к общему удивлению, больше в церковь не возвращался. Размахивая на ходу длинными руками, он пошел по дорожке от ворот. Спустился в ближний овражек и растянулся на спине по склону, надвинув кепку на глаза.
Валька, как только унесли гроб, достал из-под рубахи все ту же толстую книгу, торопливо перелистал, нашел место, уселся на цоколь ограды читать.
Дуняша с Зиной, обнявшись, прохаживались по тополевой аллейке, увлеченно разговаривали. Зина только что окончила техникум химиков-нормировщиков и на днях уезжала на работу в Березники. А Дуняша в прошлом году как раз участвовала в проектировке Березниковского комбината, недавно ездила туда. Чувствуя себя пожилой и опытной, улыбаясь на Зинину молодость, запальчивость, нетвердость в формулах, она объясняла ей схему аммиачного процесса, рассказывала, как на заводе с жильем и кормежкой, что там за люди.
Сережа и Костя присели на ограду, закурили, жмурясь на солнышко. Капитолина смирненько подсела к мужу, положила ему голову на плечо. Он рукой, в которой держал мундштук с папиросой, обнял ее за шею.
Поговорили о вчерашней демонстрации, – кто кого видел на Мавзолее, – о смерти старика, о погожей весне, о маньчжурских делах. Костя спросил беспечно:
– Ну, ты как сам думаешь, Сергей Саввич, не придется нам с тобой опять шинельки надевать, грузиться – сорок человек, восемь лошадей?..
Сережа ответил, исправно подумавши:
– Черт его знает… Почему-то кажется мне, на этот раз не придется. Пронесет стороной… Но это я, конечно, только на полгода, на год загадываю. Что дальше будет – темна вода. Сам знаешь, замешано круто…
– А небось не хочется? – поддразнил Костя.
Сережа навел на него сияющие хрусталины очков, улыбнулся за ними.
– Да как тебе сказать… Оно бы не вредно, собственно, старые годы вспомнить… Времена замечательные, лучше не было… Но только, понимаешь, вот сейчас, именно сейчас как-то уж совершенно… не с руки. Я даже не говорю о всей стране, – для меня лично: пока свою проблемку до конца не дотяну, ни о чем больше думать не могу…
– Какую такую проблемку?
– А вот о чем я тебе говорил: насчет сжигания пылевидного угля, зачем я в Штеровку ездил.
Костя засмеялся.
– Одну проблемку дотянешь, другая навернется. Это, брат, знаешь ли, у тебя надолго… Воевать-то все некогда будет. Я, конечное дело, тоже не в кусты, если что, однако и у меня свои проблемки есть…
Он помолчал, потом легонько хлопнул жену по колену:
– Ну, а вы на что рассчитываете, Капитолина Саввишна?.. Если бы, например, вам в солдатках сейчас остаться?.. Как вы на этот счет?.. Или погодить еще немного?
Капитолина умиленно усмехнулась и крепче прижалась щекой к его плечу.
На паперть вышла Александра, поманила рукой. Позвали Дуняшу с Зиной, вошли в церковь. Там извозчик уже хозяйственно заколачивал крышку, гулкие стуки плашмя ударялись о своды и откликались под куполом. Гроб понесли теперь, кроме мужчин, Капитолина с Зиной и еще вывернувшийся откуда-то малый лет пятнадцати, смуглый, чернявый, вроде чистильщика сапог, с очень яркими красными губами. Поп и дьячок шествовали впереди.
На спуске в овражек, отделявший церковь от кладбища, быстро подошел сбоку угрюмый столяр, глухо сказал: «Пардон!» – и перенял лямку у Зины. Пошептавшись с матерью, Зина помчалась домой – взять привезенные Александрой цветы.
Грузно, с опаской прошли по жиденьким мосткам через ручей на дне оврага. Здесь было тихо, застенчиво; склоненные ветлы обещали к июню сыроватую зеленую гущину, косой закатный луч сквозь ветки, столб пылевидной мошкары над ряской. Ручей слабо шелестел, колебля отражение черных досок, подмывая крохотной волной заржавленную консервную банку. На припеке, у самой воды, уже прорезались острые стрелки травы, крапива, какая-то трилистная мелкота. За оврагом, на огородах, окруженных колючей проволокой, чернели вскопанные гряды. Лето, новое лето подступало к Москве, к этим капустным задворкам, – с утренним щебетом птиц в сияющих кронах, с запахом укропа и пыльным подорожником на тропинках.
Кладбище было молодое, песчаное, по соседству с редкой тонкоствольной сосновой рощей. В просветы между стволами виднелось широкое поле, серебрились вдалеке рубероидовыми крышами коттеджи нового поселка; от полотна Окружной дороги, из-за черных лесов Покровского-Стрешнева наплывали горами белые облака. Не обложенные дерном холмики грелись на солнце. Все было голо, отчетливо, пустовато – ясной, смертельной пустотой ранней весны. С запада все сильней подувало ветром. Священник и дьячок бормотали и пели свое, извозчик часто крестился и кланялся, молодежь смотрела в сторону, показывая, что она тут ни при чем. Мать стояла впереди всех, у самого края открытой могилы. Спина ее, в длинном старомодном саке, была пряма, отлетали, шевелились концы праздничной черной кружевной косынки. Она первая, когда пришло время, нагнулась, захватила в горсть желтого сочного песку и бросила вниз. Старичок-могильщик и малый с красными губами приблизились с заступами, ретиво забросали яму, насыпали горку и старательно, на совесть ухлопали ее по бокам. Подоспевшая Зина раскидала поверху ветки нежной полураспустившейся влажной сирени. Сонный, муругий Савва никогда и не мечтал о таком изяществе и почете.
Священник протянул руку попросту, привычно, бумажки сунул в брючный карман, заворотив полу подрясника. Дьячок подошел со строгим лицом, деньги пересчитал, положил в добротного вида бумажник. Красногубый малый, получив свое, грустно улыбнулся, поскреб пальцем затылок и попросился поесть. Его взяли с собой. По дороге выяснилось, что он из беспризорников, прошел медные трубы, теперь живет при кладбище.
Когда вышли на шоссе, Сережа с Костей завернули в кооператив, купили вина, – так было условлено раньше.
В доме издавна существовал фарфоровый пастушок – большая, грубо раскрашенная статуэтка, убогое обольщение фабричного вкуса девятисотых годов. Как он уцелел во всех мытарствах и скитаниях семьи, – это было чудо. В пятнадцатом году, когда увязывали наспех самое нужное и ценное и уже сотрясали край неба германские орудия, одна из девочек, тайком от матери, сунула пастушка в корзину, – и так он покатил по России. Теперь у него был отбит кончик носа, отскочила верхушка высокого посоха, но пастушок по-прежнему браво стоял на зеленой муравке и, надув малиновые щеки, играл на дудке с золотыми ободками.
Сережа взял знакомую статуэтку, повертел, постучал ногтем.
«Живет еще!» – радостно подумал он и сразу заметил вокруг себя немногие сохранившиеся стародавние вещи детства: швейную машину, тоже вывезенную при эвакуации, – мать ни за что не хотела оставить и долгие годы потом гордилась, что не послушала мужа, – вышитую розанами скатерку на комоде, будильник с музыкой, коробочку, оклеенную ракушками. Все это уже было снова внесено в большую комнату, все замерло на обычных местах, будто и не случилось ничего. Комната, упраздненная смертью как жилье, ставшая на двое суток пустой призмой, голым, гладким вместилищем гроба, вернулась к своему назначению, заполнилась неровностями, уступами, складками, потеплела и задышала.
Позади Сергея ходили, бесстрашно разговаривали, звякали посудой – мать собирала поминальный стол. Сергей поставил пастушка, взял большую фотографию, прислоненную к коробке. И это был след старинных времен: снимались всей семьей в четырнадцатом году, в последнюю весну мира. Две девочки, с распущенными волосами, в белых платьях, стояли по краям с букетами бумажных цветов; на личиках у них застыла испуганная услужливость. Алексей, первенец, в черной курточке городского училища, сидел справа от отца, независимо улыбался, скрестивши руки на груди. Сережа в такой же курточке, послушный, умытый, с проборчиком, опирался на плечо отца с другого боку. Мать смотрела умиротворенно, моложавая, красивая, с прической валиком, в кружевном воротничке, подпоясанная кушаком с пряжкой. Но довольней всех, всех важнее выглядел отец. На нем был пиджак, жилет поверх косоворотки, цепочка, брюки навыпуск. Стриженный ежиком, крепкий, круглый, он сидел напружившись, выпятив губы, гордый тем, что вот он – глава семьи, мужчина, оплот, сколотил помаленьку домок, зарабатывает, не пропивает всего, выводит детей в люди, и вот, в праздник, по-хорошему повел их сниматься.
Сережа рассматривал карточку, забывшись, на миг отождествив себя с этим чистеньким, курносым, зная, что сейчас от фотографа пойдут к тетку в гости, будут чай пить с постным сахаром. И вспомнил: это же прошло давным-давно, ничего не осталось от той, защелкнутой объективом секунды, тысяча лет, огромная жизнь пронеслась, и вот уже этот – в жилетке, круглоголовый – отец – нелепый, теплый, пахнущий дубителями, потом, водкой – он исчез совсем, рассеялся, его не будет больше. И вдруг сообразил: сегодня, вчера, в первый день – ни разу еще по-настоящему не пожалел об отце. Поразило, опечалило известие о смерти, тягостно было зрелище ее – это так. Но ни разу не ужаснулся сердцем самой потере – исчезновению этого человека, отца…
Да и кто, кроме матери, глубоко, тяжко горюет о нем? Кому была заметна и ведома эта неуклюжая жизнь?
Сережа легко вызвал в памяти облик отца – последних старческих лет: как он идет через комнату, свесив тяжелые руки, шаркая ссохшимися, без шнурков, штиблетами с чужой ноги, как нагибается кряхтя и заглядывает зачем-то под кровать. Облик этот тотчас же соединился с представлением о безысходной работе, о непрестанной, темной, пахучей, кропотливой возне с чем-нибудь пыльным, гнилостным, ржавым. Вот он, отец, тащит боровку плошку с размоченными корками, выносит ведро помоев, подшивает разбухшие валенки, метет двор, чистит отхожее… Как будто бы он и не отдыхал никогда, не бывало так, чтобы он сидел сложа руки. Он подобострастно ухаживал за домом, постоянно что-то пилил, приколачивал, уделывал, он неумело и грубо сапожничал, он покупал на толкучке сломанные ходики, будильники, безмены, ламповые горелки, пытался починить и затем продать. Выручка бывала копеечная, да и редко удавался ему ремонт, но старика, видимо, тянуло к механизму, это у него было излюбленное, душевное. Соседи же посмеивались, что Савва и часы, и крышу, и сапог чинит одним инструментом.
Отшумевший свое в зрелые годы, покуражившийся, потопавший на жену, на детей, – к старости он оробел, затих, жил на отшибе и почти безмолвно. Что он думал о детях своих, о новом времени, о политике? Навряд ли кто знает. Может, эти знают – столяр, извозчик?.. Сереже вспомнилось, что отец последнее время стал называть его и старших сестер на «вы», смотрел на них смиренно и почтительно. А ведь когда-то, не глядя, отвешивал подзатыльники…
Но самое-то чудное, жалкое – смерть его… Ведь если верить Капитолине, старик в сущности умер анекдотически, от какого-то фельетонного пустяка, умер, запуганный ничтожеством… Каким же, значит, слабым, незащищенным сознавал он себя, Савва Пантелеев, его, Сергея Пантелеева, отец… Его, Сергея Саввича, предводителя четырех десятков профессоров и аспирантов, авторитетного в наркомате и в райкоме, организатора миллиардных дел, переписывающегося с заграницей, погруженного с головой в государственное, в международное бытие своего класса… До чего же затенен, безвестен отеческий дом его, весь этот крохотный, дряхлеющий мирок, забытая хижина на краю большой дороги.
Первую выпили, помянув, как водится, покойника, говорили приличествующее.
– Легкая кончина, незаметная, дай бог всякому так помереть, – сказал извозчик, огладив усы. – Был ты, и нет тебя.
Все поддакнули, погрустили: верно; смерть такая тихая, – уснул и не проснулся. Ну, конечно, и возраст тоже…
Об Адольфе Капитолина смолчала; не хотелось поднимать разговор при посторонних.
На столе было богато. Сережа с Дуняшей привезли закуски из своего распределителя, первомайские выдачи, мать тоже постаралась из последнего, чтобы справить честь честью; стояли кулич, пасха. Вальке, Эдвардочке все эти роскошные вещи доставались редко, – дети ели жадно. Черномазый беспризорник все, что ни подкладывали ему, слизывал в момент, водку пил, как чай. Скорбное, похоронное быстро отлетало от стола, пили уже за Зинин благополучный отъезд и удачу в самостоятельной жизни, за Александрины литературные успехи. Костя Мухин пожелал Сереже научных побед и чтоб шарик варил, не отказывался. Начинали говорить громче, чем надо, и слушать только себя. Нарастал слитный гомон: голоса вперебой, чоканья, позвякивание посуды.
От выпитой рюмочки, от усталости у матери чуть расплывалось и сияло в глазах, – все набегала и набегала слеза на покрасневшие веки, не застя нежной улыбки внимания ко всему, что творилось вокруг. Она ослабела, но теперь не горевала больше, – тоска отпустила, отлилась от сердца. Легко шли плавные, влажные мысли.
Это была женщина вполне российского склада, и в то же время что-то западное – литовское или германское – покоилось в ее чертах: чистый профиль, прямой тонкий нос при широких скулах, небольшой, но слегка выдвинутый подбородок; седая усталая фея-покровительница из северной сказки. На ней, на ней, конечно, основывалась тяжелая устойчивость семьи, – не на Савве, всегда шатком и запивавшем. Это она охраняла крылом при всех разрушительных переменах, она торопливо сшивала надорванное, она изворачивалась, питала, растила, учила честности и доброте. Восемь рождений, две детских смерти, железная пора войн и голодовок; величайший, никем не замеченный труд существования – не надломили ее, не выветрили светлого любопытства к людям, к событиям. Только здесь, в Москве, на пятьдесят четвертом году она обучилась грамоте, посещая кружок; любила ездить в театр, когда Капитолина доставала ей билеты, и в кино, а дома подробно пересказывала виденное Эдвардочке. Дети знали ее душевный ум и безошибочный такт, чуждый болтливости, назойливости, самодовольства, уважали ее, – за последние годы только она и объединяла всех, стягивала к центру. Матери всегда были известны и по-своему понятны поворотные удачи детей, их беды, предприятия, житейские намерения. Через нее и весь стариковский дом как-то прикасался к их молодому мчащемуся миру.
И все же сейчас, глядя сквозь счастливый туман слез на них, на милых детей своих, старуха чувствовала, что дети отходят от нее все дальше и невозвратно, что их шумные дни – с демонстрациями, с самокритикой, с заграницами, с курортами – унеслись далеко вперед от ее медленных маленьких дней. Вот уж она схоронила старика, свидетеля и соучастника ее жизни, и вся глубина прошлого – предвоенная родина, замужество, покупка швейной машины, немцы – все это остается теперь только на ее одинокой памяти, а дети отрываются, отпадают один за другим, и надо с завтрашнего дня собирать в дорогу Зиночку. Она оглядывала каждого из сидевших перед нею и всех вместе, словно провожая взором в недоступные ей лучезарные земли, и было ей отчего-то спокойно и не больно.
Костя поставил свою стопку кверху дном, ссылаясь на почки, Сережа упомянул насчет вечерней работы. Александра, как водилось за ней в таких случаях, навзрыд декламировала «Москву кабацкую».
Алексей показался в дверях неожиданно. Все смолкли. Он приветствовал поднятой рукой, по-пионерски; прошел к столу, тяжело топая яловыми сапогами. Задвигались, весело здороваясь, освободили ему место. Щурясь, он обвел взглядом родню, потер руки, сказал бодро:
– Ну что ж, братцы-сестрицы, налейте беспартийному… Буду догонять.
Что-то неловкое, связывающее сразу натянулось за столом. Напряженно улыбались. Извозчик привстал, радостно и угодливо налил рюмку, расплескал:
– Пожалте, Лесей Саввич, кушайте.
Но Алексей отставил рюмку.
– Этот калибр мне неподходящий, – усмехнулся он. Взял чайный стакан, налил сам доверху.
Мать с первой минуты тревожно следила за всеми движениями старшего сына. На нее как бы пала всегдашняя тень его неустроенности и заволокла спокойный свет души. Она робко попросила:
– Ты, Лешенька, не очень натощак-то. Побереги себя.
Алексей нахмурился.
– Не беспокойтесь, маменька, я не барышня.
Он медленно осушил стакан, сдунул воздух на сторону, присмотрелся к закускам.
– Это что же, все из тайного закрепителя своего натаскали? – спросил он неизвестно кого и подвинул к себе коробку с крабами. Поковырял вилкой, понюхал. – Нет, уж мы лучше селедочкой закусим, по-пролетарски. А это, видно, для сильно ответственных, – воняет как-то уж очень сложно.
Костя Мухин сказал, не стерпев:
– Ты что это, Алексей Саввич, я гляжу, все как-то кобенишься нынче? Не в духе, что ли, или с устатку?
– Почему не в духе? – удивился тот. – Я очень даже в духе. Это вы все молчите чего-то. Полагается так на поминках?.. А то, может, я помешал?..
– Брось, Алешка, вола крутить! – крикнула ему через стол Александра, разрумяненная вином и похорошевшая. – Давай лучше выпьем. Сто лет не видались.
Они чокнулись, выпили. Алексей зажевал, сильно двигая скулами.
– Значит, закопали старичка? – спросил он спустя несколько минут примирено. – Жалко все-таки, безобидный был старик. Пожил бы еще, постучал бы молоточком… Слышал я, будто его жилец наш терроризировал… Как его?.. Ну, обсосок этот… с гетрами?..
Ему никто не ответил. Алексей отвалился на спинку стула, шумно вздохнул:
– До чего же много развелось всякой дряни мелкой в последнее время!.. – И прибавил, рассмеявшись: – Да и крупной тоже… А этому самому Альфонсу, – вдруг крикнул он, – ему недолго брючками дрыгать, я ему вобью голову в плечи, – он резко стукнул кулаком по столу. – Пусть не воображает много… тля несчастная…
У извозчика от восторженного внимания даже пот проступил на побагровевшем лице и лоснился нос. Беспризорник, ухмыляясь во весь рот, ждал, не будет ли чего похлеще. Столяр, по-прежнему безмолвный, мрачно дочищал коробку с бычками. Остальные смотрели на Алексея с беспокойством.
Но он закончил неожиданно вяло, пропаще махнул рукой:
– А впрочем – выпьем… Если все начать в порядок приводить, кулаков не хватит… – И потянулся с бутылкой к Сережиной рюмке.
– Выпьем, профессор!
Сережа смущенно отказался, отговариваясь вечерними делами. Костя положил ладонь на свою стопку, сказал:
– Ни-ни-ни! Почки.
– Ка-кие нежности при нашей бедности! – покривился Алексей. – Костька Мухин тоже в интеллигенты приписался! Эх, вы, мужья государственные… Ну, мы тогда вот с папашей объединимся… Папаша, видать, гражданин простой, безответственный, – бормотал он, разливая, – поддержит беспартийную инициативу…
Извозчик поддержал, столяр тоже, все трое усердно чокались, опрокидывали, бородач уже лез целоваться, вытирая губы кулаком. Дуняша, сидевшая рядом со свекровью, наклонилась к ней, показала глазами на Алексея:
– Перестать бы ему…
Старуха горестно покачала головой.
– Не остановится теперь, – шепнула она. – Я уж знаю. Что отец, что он, – одинаковые.
Говоря это, она думала только про вино, для которого и Савва и первенец его, начав, равно не знали меры. Но памятью долгих семейных лет отец сливался со старшим сыном и в общем, не очень явственном, но мощном единстве, намного превышавшем сходство его с другими детьми. Что тут было? Та же ли неудобная угловатость всего существа, тяжесть в кости, насупленный взгляд или еще что-то необозначимое, скрытое во всей жизненной повадке, судьбе?.. Бывали полосы, – будто и слабело сродство, сходило на нет: в годы фронтовые и потом, когда Алексей работал в профсоюзе, туговато, но все же продвигался на посты; тогда светлел немного, мягчал, накупал книжек, не пил, чуть-чуть было не женился однажды. Зато уж, как заявился прошлую весну домой, – тут оказалось: прямо-таки хлынула в него сплошная темнота отрешенности, незадачливости, одиночества, – то, что было и у Саввы, особенно с беженских времен, только, конечно, у того попроще, поглупей. Он, Алексей, забрел в этот окраинный, насквозь промерзавший за зиму, пахнущий уборной домишко, забрел с дороги, как дезертир, соскочивший с эшелона, без литера и аттестата, и здесь-то, в родительской тишине и скудости, вполне завладела им темная пантелеевская первобытность. Вот и сейчас, тяжеля промеж сестер крупной, коротко стриженной головой, с плохо отмытой сажей на лице, в черной сатиновой рубахе, костистый, небритый, он темнел, темнел, наливался сумрачностью и, хоть примолк, но видно было, что заходит, как туча, и – чуть что – может прорваться всей своей нависшей бедой.
Он был уже трудно и беспросветно пьян.
Прорвался же очень быстро, нелепо и отчаянно, а всему первопричиной был бородатый извозчик.
Среди утомленно стихающего застольного шума Сережа с Костей негромко разговаривали на своем углу, сблизив головы. Незаметно для себя увлекаясь и повышая голос, Сережа начал рассказывать об опытах по переводу автотракторных моторов на сырую нефть. Извозчик повернулся в его сторону, стал прислушиваться. Он тоже был пьян, но весело и хитро.
– А вот объясните мне, граждане, – вдруг прервал он Сережу. – Вы все об автомобилях да об тракторах… И действительно, тракторов вы напустили в деревню большой количество. Прямо треск стоит… А вот что-то не выходит у вас ничего… – И он обвел взглядом стол, ласково улыбаясь.
Все молча смотрели на него.
– Так, может, они и без надобности нам, трактора? – совсем взвеселился извозчик. – Не сопрягается с машиной мужик, неинтересна она ему. Может, оно с коньком и лучше бы вышло? Без шуму, без треску… Идет себе конек, за коньком плужок, за плужком мужичок… Над косогором зорька чистая. И сыты все и рады…
– А у тебя их много было, папаша, коньков-то? – тоже весело спросил Костя Мухин и, подавшись к нему, внимательно облокотился на стол.
Бородач медленно поводил пальцем перед носом, счастливо сощурившись.
– Ты меня щупаешь, милый гражданин?.. Молодой ты, а вдумчивый. На думках всю и прическу потерял. Ну, щупай меня, щупай, вот он я, весь тут. Имущество мое пытаешь? Вот оно, у коновязи, все мое имущество. С постоялого к Трухмальной, с Трухмальной на Каланчевку, двугривенный без запросу… Давай за так до дому подвезу, услужу свойственничку. Меринок, хоть без малого тебе ровесник, да ходкий еще.
– Гладкий, гладкий меринок, – кивал Костя. – Пролеточка вот только совсем развихлялась, бренчит вся, спасу нет. Давно ездишь, что ли?
– Да не сказать, чтоб уж так давно. Сильно подержанная была пролеточка, – это то есть когда перекупил-то я ее.
– А сам, значит, недавно промышляешь?
У бородача опять счастливой влагой блеснули проворные глазки.
– Да уж я тебе докладал, милый гражданин, что не так давно.
– А все ж таки? Года два, что ли, третий?
– Вот поди ж ты! – восхитился извозчик. – Ведь прямо как по картам… Ну, в самую, самую точку!.. На крещенье третий год пошел. Гадай, гадай, парень! С тобой и поговорить лестно, – уж такой ты сведущий.
– Так я ж, папаша, без всяких, не иначе как для поддержания беседы, – ухмыльнулся Костя и под столом толкнул Сережину ногу. – Я слыхал, ты пензенский сам-то?
– Пензенский, пензенский, Мокшанского уезду.
– Вот видишь, почти что земляки выходим мы с тобой. Я сам саратовский. А только почему ж ты, землячок, деревеньку свою покинул, по какой такой причине?.. Или тракторов испугался? Трещат, говоришь?..
Бородач расколыхался блаженным смехом.
– Ах ты, ах ты!.. – умиленно разводил он руками. – Ну что ж это за парень такой!.. Так ведь и бреет, так и бреет под низок… А если я тебе… – он вдруг шатнулся к Мухину и уставился на него с какой-то сонной, соболезнующей усмешкой. – Если я вот так возьму и выложу тебе: покинул, мол, все свое нажитое-доброе и от новых порядков в Москву подался. Что ж ты меня, свойственничек, сразу за химку и с поминок прямо в отделение поволокешь? Или я крепостной какой, чтобы мне ни на шаг от своего наделу? Или я не вольный человек коммунистической республики?.. Ну, как ты со мной распорядишься?..
– Товарищи, он кулак! – выпалила Зина испуганно.
Извозчик быстро обернулся к ней.
– Вот и барышня! – восторженно крикнул он. – Ай да барышня! Скорая какая, – не в папашу. Так прямо и воткнула: кулак… А ты их видала когда, приятная барышня, кулаков-то? Или по бороде признала? На картинках-то у вас не так пишут, – брюхо толще, бровь погуще. А я, видишь, какой легкий… Эх, милые граждане! – сокрушенно вздохнул он. – Молодое, зеленое… Договорилися мы с вами, залезли в темный ельник. Не годится так-то. Все ж таки мы усопшего родителя вашего поминаем. Правильный человек был покойный Савва Семеныч и вечный трудовик. Уж мы с ним такие завсегда други были, сколько пережито, пересказано. А в тяжелые-то года раза три приезжал ко мне с мешочком, так уж я ему и мучки, и картошки, и пшенца… А на обмен что? Так, нестоящее, – башмачки драненькие или полотенчико какое… Просто от мягкой души выручал вашу семейству… Родня, нельзя же… Вот Анна Евграфовна подтвердит, и Лексей Саввич, как приезжали тогда с фронта на побывку, тоже помнят, заходил я к вам в тот раз на квартиру, еще сала свиного ковригу привез, четыре с половиной фунта…
– Как же, Григорий Тихоныч, помним, – поспешно сказала мать, обрадованная, что трудный разговор сходит на вежливое и давнее. – И всегда с мужем добром вас поминали…
– Погодите, мама, – перебил ее Сережа. – Алеша, ты знаешь этого человека?
Алексей сидел, тяжело развалясь на стуле, ковыряя спичкой в зубах. Он сумрачно покосился на брата и ничего не ответил.
– Ну, тогда вы, мама, скажите. Что это за человек? Он тут действительно какую-то ерунду разводит… И крутится очень подозрительно… Кто он такой? Что у него за хозяйство было?
– Так разве же я знаю, Сереженька? – взволновалась мать. – Ведь я у них в селе не бывала никогда, только что папа рассказывал да тетя Дуня… Ну, жили они всегда зажиточно, хорошо жили. А больше что ж я скажу? И давно это было… Ты уж лучше это оставь, Сереженька… Приехал Григорий Тихоныч, помог нам с похоронами… Как бы мы без него?..
Алексей пошевелился, резко двинул стулом.
– Вы что же, – сказал он тихо и хрипло, – вы и тут, на поминках, колхоз будете устраивать и чистку производить? Может, заодно и у меня документы проверите? Вдруг я вредитель какой или селькора застрелил… А вы тут со мной сидите, водку пьете…
– Алеша, как тебе не стыдно! – крикнула Капитолина. – Тебя же никто не трогает, ты сам все время всех подначиваешь. Тут между нами какой-то чуждый тип оказался, а ты, вместо того чтобы помочь нам…
– Ску-чно, ску-чно! – кокетливо запела Александра, зажав пальцами уши. – Завели какую-то канитель. Сережа, Капка, плюньте! Охота вам…
Тут из-за стола поднялся, покачиваясь, угрюмый столяр. Тщательно, как на медицинском рисунке, открыл рот, обнажив длинные желтые зубы, затем произнес раздельно:
– Объявляю, что я есть свободный атеист-анархист, так что мне все на свете безразлично, кроме истины. Но за истину я стою. А п-поэтому, кому надо, пусть знают. Этот субъект с бородой на самом деле есть бывший эксплуататор и хищный собственник. Хозяйство его в корне раскулачено, а сам он заблаговременно скрылся. И сам мне сообщил, будучи в пьяном состоянии… Для меня это не существенно, и я с ним пью и закусываю как свободная личность. Но истина – да здр-равствует!.. – И сел.
– Вот это да, – сказал Костя Мухин в полной тишине. – Молчал, молчал, да и высказался… – И, наклонившись к Зине, шепнул: – Ты, Зинуша, сходи-ка на крылечко, посмотри номер его пролетки на всякий случай.
Зина вышла.
– Ну, что ж, товарищи… – Костя бодро оглядел всех сидящих за столом, с каждым встретившись глазами. – Я полагаю, нам теперь с папашей хлеб-соль делить неинтересно. Придется тебя, землячок, попросить о выходе.
– Костенька, – взмолилась мать, – да что ты!.. Да разве ж можно… Гостя-то, гостя! Ведь он же гость у нас! Григорий Тихоныч! Господи!..
Извозчик быстро гладил бороду, захватывая ее от горла. Взволнованный, приглушенный говор вскипал над столом. Дуняша что-то горячо шептала на ухо свекрови, Капитолина, прижимая руки к груди, доказывала Александре:
– Но ведь это невозможно же! Пойми, невозможно!..
Та брезгливо отмахивалась:
– Ерунда! Скучно все это…
Сережа убеждал вернувшуюся Зину, что раз номер записан, можно и без милиции. Костя стоял на том же, но Зина наскакивала:
– Это примиренчество!.. Мы должны немедленно!.. Это примиренчество!..
Алексей, подперев щеки кулаками, неподвижно смотрел в тарелку.
Извозчик тяжело встал, придерживаясь за краешек стола, низко поклонился хозяйке, сказал степенно:
– На угощении очень благодарны вам, Анна Евграфовна… И за дерзкий указ зятька вашего не в обиде. Человек он молодой, пылкий, и хотя ученый, да, выходит, недоученый. Видно, насчет уважения к старым людям толковать ему сызмальства было некому. А что детки ваши пьяный поклеп прощелыги-голодранца этого с первого слова приняли – значит, уж у них так ухо повернуто. С них небось тоже спрашивает начальство-то, с кем водишься да кого слушаешься. Только понапрасну беспокоются…
– Хватит! – крикнул Костя. – Ты, борода, болтай да не забалтывайся. Насчет отделения беспокоился? Так мы сейчас тебе его адрес покажем…
– Безобразие! – вскочила Капитолина. – Он тут черт знает что, а мы…
Тогда-то Алексей с размаху стукнул кулаком по столу.
– Вы что тут? – прохрипел он с искаженным мучительной судорогой лицом. – Вы что?! – гаркнул он во весь голос, встал сгорбившись и пробормотал изумленно: – Вы опять тут учить, командовать?..
Все стихло, громко заплакала Эдвардочка. Валька, оторвавшись от книги, раскрытой на коленях, смотрел на брата, испуганно мигая.
– Старик! – загремел Алексей торжественно, качнувшись к извозчику. – Открой им всю правду… Я не позволю, чтоб тебе рот затыкали… Мы с тобой люди простые…
– Кр-рой, Вася, бога нет! – крикнул беспризорник.
Сережа вскочил.
– Ты… с ума сошел, Алексей? – сказал он замедленно. – Ты пьян вдребезину… Брось хулиганить, здесь не пивная.
– Пр-рошу меня не учить! – заорал тот. – Профессор сопливый…
Он громоздко двинулся по направлению к Сереже и рукавом опрокинул свой стакан. Стакан упал со стола и со звоном разбился. Все повставали с места. Извозчик не торопясь отошел в сторону, огляделся и на носках вышел из комнаты.
Восторженная ярость потрясла Алексея. Как, бывало, показывал свою мощь и правоту довоенный Савва, – так и он, подняв обеими руками тарелку, шваркнул ее с размаху об пол. И потянулся за другой. Но Сережина рука твердо схватила его руку выше кисти.
Беспризорник прыгал, хлопая себя по бедрам, свистал, кричал:
– А ну, давай, а ну, давай налетай!..
Ослепнув от злобы, Алексей подался вбок, свободной рукой схватил с комода фарфорового пастушка и занес его над Сережиной головой.
В этот миг, подойдя сзади, его позвала мать.
– Леша, Леша, Леша, – позвала она так тихо и грустно, что Алексей обернулся от неожиданности и медленно опустил пастушка.
– Что ж ты так, Леша? – сказала мать. – Ведь сегодня только отца схоронили.
Она взяла у него статуэтку, поставила на место.
Алексей пошатнулся. Обняв за широкую спину, она повела его за перегородку, усадила на Зинину кровать. Он упал лицом в подушку. Тогда она опустилась на колени и так же, как поступала с охмелевшим Саввой и как поступали в десяти поколениях ее бабки и прабабки, стянула с него тяжелые сапоги, подняла его ноги на постель и прикрыла сына одеялом.
За перегородкой слышно было, как скрежещет Алексей зубами, засыпая.
К трамвайной остановке шли невесело, молча. Только когда повстречали возвращавшегося из города Могучего, Костя Мухин не удержался, вытаращил глаза, присвистнул:
– Ух, и стрекули-ист!..
Могучий на ходу оглянулся, презрительно вздернул плечи.
Прощаясь с провожавшими матерью и Зиной, друг с другом, садились в подходившие вагоны, уезжали.
Был праздничный тихий послеобеденный час, все отдыхало кругом, по сторонам шоссе – фабрики, школы, стройки. Самолеты – и те дремали сегодня на прозеленевших луговинах аэродрома, накувыркавшись вчерашний день в городских небесах; серебристые надкрылья их неподвижно и расплавлено горели под солнцем. Нагромождения длинных казарм, бараков, широкооконных мастерских, горбатых ангаров – вся эта таинственная и отрешенная от будней индустрия воздуха отдохновенно молчала, приоткрывая в просветах между строениями деревенскую голубоватую даль с туманной полоской леса и спицы ходынских радиомачт, прокалывающих облака.
На круглом дворе Петровского замка, охваченном подковой галереи, тоже было безлюдно и мирно; франтоватый, парящий и дерзкий дух военной авиации не спорил с потемневшим кирпичом казаковской тяжеловесной готики, знаменовавшей придавленность отечественных и турецких земель под седалищем кучук-кайнарджийского мира, будто под сырым и дородным корпусом самой императрицы. Но словно бы ниспровергая последние руины коронованного бесславья, сметая следы исторической распри, поблизости в сером стройном бетоне стадиона «Динамо» творилась легкая и торжественная работа.
Здесь, на шоссе, еще витала в воздухе пыль всемосковского съезда, от остановки к трибунам бежали запыхавшиеся толпы, по сторонам дежурили шеренги машин. На стадионе шел футбольный матч РСФСР – Украина. Ждали прибытия турецкой делегации.
Амфитеатры чернели народом от гребня до подножья. По длинной равнине стадиона свободно летал ветер; от Волоколамска, из-за трекового виража налезали облака, тени их бежали по равнине, по блеклому войлоку прошлогодней травы, – две, три облачных тени одновременно. В тенях и солнце сновали красные и голубые майки, они сшибались, кишели, рассеивались, всей пестрой сеткой мчались к одному краю площади и, точно отдунутые ветром, катились обратно. Стадион осеняла чистая полевая тишина, амфитеатры сосредоточенно дышали. Только посвистывали судьи, да радиогерольд, прогуливаясь под Южной трибуной со своим ящиком за плечами, пускал в небо гулкие слова.
Вдруг все прекратилось. Майки метнулись, замедлили снование, стали. Герольд провозгласил:
– Сейчас на стадион прибыл председатель совета министров Турецкой республики господин Исмет-паша, с ним чрезвычайный посол господин Хуссейн Рагиб-бей…
… Черные амфитеатры мгновенно заколебались, выросли, осыпались шорохом аплодисментов…
… – и народный комиссар по иностранным делам товарищ Литвинов.
Опять – будто градовая туча, трепеща и подпрыгивая градинами, прошумела по рядам. Оркестр на площадке, блеснув трубами, заиграл турецкий марш, слабый, поспешающий, меланхоличный и сладко зовущий кого-то другого – не их, не эти пятьдесят тысяч людей на трибунах. Амфитеатры подумали и, повинуясь неясному чувству баловной и веселой гордости, вдруг, словно по уговору, опустились на скамьи.
Оркестр окончил марш и, передохнув, ударил по упругой земле, по воздуху, по бетону трибун «Интернационалом». Пятьдесят тысяч снова враз поднялись, выпрямились… Они стояли, слушали, дышали, понимали, что вот они державно и умело принимают гостей из-за моря, утверждают согласие народов, важно отдыхают от великого труда, забавляясь английской игрой в мяч. Турецкая ложа, полная крахмальной белизны, смуглых выбритых лиц, военных седин, гордых профилей, – тоже стояла между двумя пальмами в кадках, смотрела, думала свое.
А Ленинградское шоссе в отголосках медной музыки, в перекликах сирен уносилось все дальше вперед, отдавая круглым вихрям шин свое гладкое выпуклое полотно. Шпалеры черных суковатых лип по-прежнему строились по левую руку. И вдруг оборвались. Возникла павильонная нелепица «Яра», напротив взметнулись на дыбы и застыли кони ипподрома. Начиналась Москва: «Большевик» – старый Сиу, с его кирпично-пряничным фасадом в духе фабричной архитектуры конца века, с парфюмерными ароматами Третьей республики, наступающей на Восток, с седоусыми мастерами-французами, хранившими секреты бисквитного производства и мимоходом щипавшими девушек; и дальше – серые кубы, стекло и плоскости фабрики-кухни; и налево – новый стеклянно-хрупкий корпус часового завода, уплывающий вдаль, подобно гигантскому пароходу, опоясанному палубами.
Тут в обе стороны размахивалось пространство; шоссе взлетало на мост, чтобы стать ребристой брусчаткой Тверской-Ямской; поперечная долина железной дороги, вся в дымах, в изгибах вагонных составов и бело отсвечивающих рельсов, уводила во мглу, на Запад, в Европу; и воротами Европы, памятью всех войн, соседского ненавистничества и страстного родства с нею, воспоминаньем о русских войсках, примаршировавших из Парижа, возвышались белый камень, ржавь и бронза Триумфальной арки.
Ямская подхватывала шинный поток и по прямой, мимо подкрашенных щербатых кварталов, мимо празднично плещущегося кумача и пустых витрин с портретами и бюстами, мчала к Садовой. Шумная площадь с торговым сквером нэповских ночей, с довоенным Зоном и Ханжонковым замедляла движение, на миг пресекала его, отбрасывая мысль в годы и пространства, оставленные позади.
С той крайней и щемящей силой, с какой только могут дома и улицы подступать к сердцу чувством непрерывного скольжения времени, эта часть города, вытянувшаяся вдоль дороги к второй столице, обуревала дыханьем минувшего. Оно сквозило на этих трех километрах и грузностью Екатерины и хищным жеманством Александра. Но всего тоскливей и явственней, – и ощутимей, чем где бы то ни было, – постигалось тут ближайшее, начинавшееся от желтой пыльной мглы и расплющенных трупов Ходынки, от последнего коронационного выезда из ворот Петровского замка, – то, виденное еще живущими ныне, последнее, обреченное, из чьих припухлых, стиснутых манжетами рук была выхвачена история. Это были времена, когда наружный облик мужавшего, собиравшегося жить вечно и впоследствии расстрелянного мира начинал созревать, наливаться мускулами, избыточным семенем, сытым спортсменским румянцем. Здесь отгуляли десятилетия строительного грюндерства, граммофонной Вяльцевой, иммиграции капиталов, кафешантана, усадебных закладных, тучных подрядов, первых моторов к «Яру», сменявших морозные бубенцы, и первых залпов из-за Грузин, от Кудрина. Здесь протолпились годы предвоенной тренировки и торопливой алчбы, – свежая мурава, всколебленная полоумным пропеллером, Уточкин и Габер-Влынский, тотализатор, французские чемпионаты, автомобильные вуали, устрицы во льду, «Ойра-ойра», ханжонковские белоглазые тени на дождящем экране, Макс Линдер, Мацист и тугие ландышевые букетики канунной весны в Триумфальном сквере. Потом – ожиданный и страшный разрыв шрапнели, багровые тучи – и прощальные осенние перроны Брестского вокзала в дожде и гололедице, хаки, ремни, скатки, прапорщики в новых твердых фуражках, земгусары, продрогшие беженцы на сундучках, трамваи с крестами, с ярусами носилок, со ржавыми пятнами на бинтах – к Садовой, и навстречу, к заставе, – все те же жадные влажные глаза из длинного мерседеса, только теперь – из-под белой, до бровей, монашеской косынки…
И – нет ничего, все смыто, растворилось в синей весенней тверди, десятилетия стали прохладным предвечерьем второго мая тридцать второго года, и Ямская, запнувшись, помедлив, просто Тверской пошла к «Известиям», к обелиску с кличущей рукой, пестуя на чутких рессорах судьбы иных людей, новых семей, пришельцев с запада, с юга, с востока, выкормышей предместья, овладевших городом и государством.
Жизнь шоссе, продолженная улицами, замирала на тихой площади, где тускло золотился обод черных часов на итальянской башне, застило замоскворецкий небосклон раскрашенное мордовское чудо с перевитыми куполами, и пирамидальная гробница с двумя часовыми у входа как бы хранила еще на своих полированных уступах все тени и отблески проплывших вчера знамен.
Отсюда до четырехоконного домишка с палисадником, до свежей песчаной горки над Саввой Пантелеевым было двадцать минут прямого, как струна, пути.
Николай Зарудин
Николай Николаевич Зарудин[2] (1899–1937) родом из семьи обрусевших немцев. Его отец, Николай Эдуардович Эйхельман, в начале Первой мировой войны из патриотических побуждений сменил фамилию. В Красной армии Зарудин служил политкомиссаром. По политическим убеждениям – троцкист. Был одним из главных авторов «Перевала», являясь в то же время председателем этого литературного объединения. Главное его произведение – «Тридцать ночей на винограднике»[3]. По обвинению в участии в антисоветской организации приговорен к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян.
Тридцать ночей на винограднике
Sapias, vina liques.
Будь умна, очищай вино.
Гораций, «Ода к Левконое».«В союзе советов происходит борьба разумно организованной воли трудовых масс против стихийных сил природы и против той «стихийности» в человеке, которая по существу своему есть не что иное, как инстинктивный анархизм личности, воспитанный веками давления на нее со стороны классового государства. Эта борьба и есть основное содержание текущей действительности…»
М. Горький, «Правда», 21/V 31.Повествование первое Прошлое выходит на четырех лапах
«Совхоз «Абрау-Дюрсо», бывшее удельное имение, находится на восточном берегу Черного моря, под 43–44 градусами северной широты и 35–37 градусами восточной долготы от Гринвича…»
Энциклопедическая справка.1.
Медведь вышел косматой легендой в долину в позднюю ночь семнадцатого августа тридцатого года. Сверчки и цикады смолкли. Море баюкало ночь, и горы шли над ним к Арарату.
Лето старело. Еще наливались листья и травы, звезды звали страстно жить и надеяться, но темные плески ручьев уже пылали нездешнею свежестью.
Иссякали белые раскаленные дни. На скумпии пробуждались тихие лиловые краски. Созревали бездонные ночи. Никогда кизил не был так красен от ягод. На виноградниках уже давно гнулась проволока, и солнце работало с утра до желтого вечера.
Летучие мыши чертили мудрости: они слышали поступь августа.
Зверь сошел с гор, его бурая шерсть темнела близкою осенью, он брел медленно, слушая ночь, нюхая звезды. На Кавказе молчала земля. Народы спали в аулах и городах. На участках, где сладко синели полные кисти, сторожа думали о новой жизни. Зверь шел долиной, переваливаясь на осторожных когтистых лапах.
Иначе пахли дороги, иначе шуршали сгнившие листья.
Все становилось новым, никогда горы так не менялись. Ближе стучали топоры, опасности приходили нежданно, запахи становились непонятнее. Века изменяли.
Веснами, когда гремели речки и пригревались дни, в лесах становилось сухо, светло, зверь поднимался в горы, бродил перевалами; тогда свистали птицы, шуршали травы, выступали синим прохладным дыханьем подснежники, поднимая мертвые листья. Веснами, с голубыми и красными примулами, расцветал кругом мир, вышедший из-под морей. Леса развязывали листья. Зверь уходил выше и выше; в исходах ночей, обезумев от солнца и горячей, кровавой тоски, он ревел, поднимаясь на дыбы, его жреческий рев, как дым, поднимался из окаменевших эпох. Тогда, на зорях, горы отвечали ему пустотой, – и дальше и глуше уходил он в поисках древнего. Потом бурела весна, стихали птицы, тропы зарастали непроходимо, – а с ягодами, плодами и каштанами, он снова выходил к долинам, где море пахло потопом и араратскими ветками.
И зверь становился еще осторожнее, чуя старое море, сошедшее с гор.
Тишина и тоска.
Тишина на Кавказе – как плод, готовый упасть.
Тах-та-ра-рах! – с холмов издалека покатился огненный выстрел. Медведь слушал. Выстрел шумно раскололся в горах. Ночь, осевшая на меловых хребтах, разнесла его вдаль. В камнях, рассыпавшихся до-юрской формацией, проснулось окаменевшее прошлое. Медведь, поднявшись на задние лапы, быстро повернулся назад и ушел в старую ночь.
Стрелял ночной сторож заслуженного государственного хозяйства советских республик товарищ Жан-Суа Ван-си, выходец из города Пекина. Присутствием своим здесь, в горах, под 42 – 44 градусами северной широты и 35 – 37 градусами восточной долготы от Гринвича, он показует нам дату происходящего: тринадцатый год от второго сотворения мира, не имеющего орографической легенды об Арарате.
Повествование второе Аргонавты по-прежнему плывут за руном
«Абрау» расположено на берегу горного озера (лимана) того же наименования, находящегося в 90 метрах над уровнем моря. Окружающие совхоз горы не очень высоки, но склоны их к озеру круты и удобны лишь для разведения винограда».
Из архивных бумаг.2.
Новорожденное утро, Кавказ, тишина, сквозь дубовые ветки – ослепительный день, летящий в открытое настежь окно нашей веселой земли. Так мир утверждает богатство каждого странника.
… Нас поселили вместе, в комнатах, где некогда жил царский управляющий и где ничто уже не говорит о былой тесноте заглушающей роскоши. Весь дом пустеет канцелярскою гулкостью и блестит прохладою просторных масляных стен. Электрическая лампочка озаряет простор общежития. Свет ее общественно-замкнут, существует сам по себе, и людям, не привыкшим чувствовать себя дома под любым небом, он наверное расскажет об уборной, о тюремной камере, о казарме. В комнате теплеют пять кроватей. Следовательно, будут постоянно новые люди, уют, как я его понимаю.
Мы с Поджигателем почувствовали себя прекрасно в этих местах, сразу завладели ящиками комода и разложили в них свое кочевое имущество. Лирик поместился у самого окна и молчал целый вечер. Кажется, ему не по себе: бедный Овидий чувствует себя словно под скифской вьюгой. Но я не хочу что-либо сказать этим: мне тридцать лет, я давно понял, что не настолько богат, чтобы позволять себе бедные суждения о людях.
Первый вечер под новыми звездами.
Мы улеглись рано, из окна тянуло прохладным черным югом, трели сверчков и оркестр цикад вливали в холодок ночи живое серебро.
Поджигатель давно размотал грубые обмотки, его огромные солдатские башмаки оскалились на полу. Хорошо бы сунуть туда славный подарок: добрые феи, рождественские гуси и чудаки дядюшки мерещатся в такие скитальческие вечера. Из уюта белой теплой норы, где отсыпается человек, поднимаются детские, наивные думы о близком, родном мировом тепле. Они то отдаются в дальних отзвуках жизни колесами старого кэба, громыхающего ночными улицами, то запевают диккенсовским сверчком, то гулко стучат дверным молотком в западной части моросящего туманом Лондона. Может быть, то мерещатся сосны Норвегии, дым дровосека, глухая зима со следами белок, одинокий дом и седая дама, вяжущая чулок у окна. Много приходит чувств в общежитиях, на фронтах, на вокзалах. Но все это чепуха! Отлично засыпать вместе с людьми большой бесконечной дороги. В скитаниях, странствиях, вдали от привычных чувств и знакомых лиц, заброшенный в мире, задушевно перебирает человек детские чувства…
Дремлет огромный, переполненный мир – в домах, гнездах, норах и берлогах. Нет смерти, холода, вьюг, бездорожья. Земной шар, как заяц, свернулся в морозе пространств и шевелит пушистыми ушами… Тепло. До рассвета нескоро. Длинна, ах, длинна непроглядная ночь! Так засыпал, думаю я, Амундсен, забравшись в спальный мешок на Северном полюсе. Я спал так же счастливо на вокзалах, примостившись на подоконнике, над желтым дымом солдатских стихий, засыпал я отлично на полках для багажа под Царицыном, в поездах прифронтовой полосы, у костров, рядом с мертвецами, в бараках больниц, чорт знает где. Это был лучший уют в жизни. Важно знать, что ты находишься в мире, рядом с людьми. Уют только там, где нет бегства от тысяч тебе подобных. Так я понимаю жизнь.
Должен признаться, меня всегда интересовало то, что прочно скрыто за окнами… Зачем люди прячутся в комнаты? Они теряют самое ценное, они кончают день, маленький год жизни, где они навсегда изменились, и засыпают – без взгляда товарища, без веселья детского дружества. Кто мне расскажет, как укладывается спать человек, известный всем, а поэтому не известный никому? Быть может, он презабавно стаскивает носки, он, как зверек, заботливо прочищает пальцы на ногах, у него никелированная кровать с ужасными шарами, спальные туфли стоптаны набок, и он болтает жене всякие глупости?
Я доволен, что множество дней провел в общежитиях и кое-что видел. Я вполне разделяю взгляды Поджигателя на преобразование жизни. Я видел, как он раздевался: у него тощая грудь, белье с бедными больничными завязками, а он хочет поджигать Европу, переселять буржуазные кварталы, истреблять апельсиновые абажуры, – и не приемлет ничего украшающего, ибо ждет нового стиля.
Мы улеглись рано в наш первый кавказский вечер. Я сказал:
– Спокойной ночи, Поджигатель! Спокойной ночи, Овидий!
И они заснули отлично, мои добрые друзья, хотя сверчки кричали всю ночь напролет.
Утром меня разбудили голоса и смех, похожий на лошадиное ржанье. Я увидел перед собой бодрого человека с красным лицом, в солидных золотых очках. С ним явился дежурный телефонист управления, которого мы видели вчера. Фамилия его, кажется, Родкевич, он запомнился мне тишайшей улыбкой и приязнью. Он втащил в нашу комнату огромный ковровый баул и поставил на пустую кровать, как раз против меня.
– Константин Степанович, – заорал на него краснощекий приезжий, – премного благодарствую!.. Клопов у вас здесь не полагается? Ха-ха! – засмеялся он, отирая пот с лица. – Славно, славно!.. Ну-с, так. Позвольте… А это… что такое?
Он уставился на меня и бесцеремонно обвел наши постели широким ораторским жестом.
– Молодые люди… Как? Еще спать? Спать сейчас, когда я на перекладных гнал сюда, за тридевять земель? Молодые люди! А! (Знаю, все знаю: литераторы, художники, публицисты – цвет поколения…) – И вдруг краснощекий чудак, замахав руками, накинулся на Родкевича: – Кон-стан-тин Степа-нович! Да, что же это такое? Непорядки! Разбой-с!.. Нет-с, молодые люди, вставать, вставать немедленно! Сию же минуту вставать!
Он окатывал лысину телефониста потоком выспавшегося довольства. Восклицательные знаки летели, как стрелы. «Профессор, профессор…» – услышал я сквозь туман пробуждения. Константин Степанович улыбался служебною скромностью, краснощекий бурно и стремительно катил на нас лавину утреннего оптимизма.
– Боже мой! – стонал он, кидаясь к окну. – Смотрите на эти горы! Совсем как у Пушкина: «Да, хороши они, кавказские вершины…» Чудесно! А как сказано! А? Хороши, хороши… Мы осмотрим их досконально. Ха-ха-ха! – он хохотал и восторгался всем своим сочным телом.
Голова Поджигателя испуганно поднялась с подушки. Овидий недоуменно и зло протирал глаза.
Чудак громыхал природой, хохотал, осматривал нас в упор через выкаченные жабьи очи, голос его звучал над самым ухом велосипедным гудком. Натуженное сиреневое лицо его выдавливало мутную синеву опытных, холодноватых глаз. Где-то я слышал этот круглый, упитанный голос… Профессор наворачивал в моих ощущениях упругие велосипедные педали, толстый зад его еле поспевал за льющимся солнцем спицами, он катил через Кавказ из невообразимых времен, где существовали портные «штатского и духовного платья», пышно росла бузина, закаты опускались с колокольным звоном в лопухи, а чай пили в чесучевых пропотевших пиджаках. Профессор поспевал, догоняя времена. Не запомнил ли я этот голос с митинга, где голосовали за Учредительное?..
Но эта сила средней уравновешенной жизни!.. Она сильнее всего в велосипедистах. Какая неопровержимость, бьющая струей рукомойника!
Так. Профессор ходит по комнате, как важный белый гусь, снисходительно озирающий мир с высоты гладкой, перышко к перышку, шеи. Он смотрит на свет желтый, мутный графин (все графины от старой России желтые), щупая добротность одеяла на моей кровати, быстрооко определяет социальную значимость ботинок и клетчатых портянок Поджигателя. Щегольские полуботинки Овидия его, повидимому, мало интересуют.
– Так-с, так-с… – продолжает он, протирая очки. – Ну, вот мы и в Абрау – жемчужине-с пролетарского государства… Я очень рад познакомиться, – он делает приветственный бархатистый жест в голосе. – Тем более с представителями литературы, мысли. Хорошо-с, очень хорошо-с! Надеюсь, осмотрим все достопримечательности вместе… Ну-с, так. А теперь – будем завтракать, Константин Степанович? А? Конечно. Всякий живет ради своего маленького куска масла…
Чудак открывает баул, вытаскивает хлеб, ножи, вилки, банки из-под какао, бутылку с молоком. Он говорит без умолку, намазывает хлеб маслом и медом, облупливает яйца и сострадательно к самому себе пережевывает и глотает, раздуваясь лягушкой. Он питается неспе-ша, с задушевной грустью к собственной бренности. Подобные вещи прекрасно уживаются с надсоновской поэзией и ездой на велосипеде.
Мы одевались, а профессор, отпустив Константина Степановича, развертывал подробную дислокацию своих жизненных планов. Знаем ли мы, что сало достигает восьми рублей? Известно ли нам, что его жена страдает нефритом? Познали ли мы действие ветров и циклонов на урожайность?.. Он закидывал нас перекрестным огнем, и мы позорно отступали перед этим натиском жизненной правды.
– Интеллигентщина! Оторванность от жизни! – громил нас профессор. – Жиры, жиры – в них половина жизни… Ай-я-я-яй! – качал он головой. – В наше время не интересоваться подобными вещами!
Овидий мрачно молчал: он не переносил углубления в личную экономику. Упоминание о сале вызвало на губах Поджигателя подозрительную усмешку. Ни слова не говоря, он хладнокровно шнуровал ботинок лохматой веревкой.
Чудак продолжал питаться.
Над нами летели ветры и циклоны, первобытные почвы на глазах насыщались продуктами разложений и выветриваний. Профессор пишет научную работу: его интересует соотношение климата и производительности виноградных лоз, характер их изменений под влиянием норд-остов. Он приехал осмотреть виноградники, выяснить кривые, установить все данные о ветрах и о бурях, полюбоваться, захватить несколько бутылок вина… Кстати, не знает ли Поджигатель твердых цен на шампанское? Нет? Из этого еще не следует застенчивое молчание, – нет, и еще раз нет. Профессор рад встрече и полон интереса к широким вопросам общественной мысли, он чрезвычайно польщен знакомством и надеется получить будущие труды. Хотя он и не читает современных писателей: «Ах, Пушкин, Пушкин! Можно ли писать после него?» – но он обязательно прочтет и будет обязан признательно. И он, конечно, проведет эти дни с нами, как с людьми партийными…
Пауза.
В окна влетал день с дубовыми ветками, с воздухом ядовито-ярким, – как аптечные шары, налитые купоросом. В окнах опрокидывались вверх горы, и синие шапки их падали вниз.
Мы оделись, закусили черствым хлебом, вымылись студеной водой, а профессор пошел в уборную. Он встретит нас в парке у фонтана. Мы собираемся и приводим в порядок постели.
– Что это за чучело? – спрашивает нас красивый Овидий, завязывая малиновый галстук. Белая рубашка с отложным воротом сидит на нем ослепительно изящно. – Анальная личность. Не пишет ли он романа о первой любви к трактору? Надо будет вывести его на чистую воду, – и он раздумчиво смотрит в зеркало.
Внизу, на площадке у здания утро охватило нас ослепительной силой. Кругом леса спорили с небом, озеро, восходя сиянием, спорило с солнцем, жар страстно боролся с прохладой. В управлении уже стучала машинка и звонил телефон. Профессор ожидал нас у фонтана и смотрел молитвенно. Горы смело кидали, ловили и уносили даль, совхоз выхватывал из сине-зеленых скатертей красные и белые клочья. Вопиющий беспорядок лесов, холмов и кустарников торжественно возносился перевернутой вверх дном, затаенной мечтой великого живописца. Красиво? Я, право, не знаю. Кавказ давно изуродован красотой, сегодня он перечеркнул лазурным карандашом всех учителей чистописания. Но профессор стоял изваяньем и любовался.
– Швейцария! – произнес он торжественно и вечно. – Русская Швейцария… Да, мы не умеем беречь и ценить красоту.
Аминь.
… Мы сходим по каменным лесенкам вниз. Винное царство дает о себе знать рядами бочек, уставленных перед зданием столового подвала.
Прекрасный день! Разогретые кусты еще посылают нам остатки прохладной ночи, полной аптекарских запахов. На меловых дорогах день пылит сухие, потрескавшиеся башмаки. Кругом, со всех сторон, по склонам толпящихся гор виноградники квадратами, рядами и треугольниками наступают на здания. Они раскидывают батальную картину петровских времен, – я уже видел это утро с теоремами полков, полки выстроены друг против друга живыми кусками и стоят во фрунт. Сражение застыло вечно.
Тишина, тишина. Караульные будки перекликаются по холмам яркими крышами. Колючая проволока окружает полки. «Вход на виноградники запрещен» – красуется на объявлениях, прибитых к столбам. Погреба вин стоят, как военные тайны, окруженные маятниками караулов.
Мы поднялись в горы, озеро давно скрылось внизу, виноградники, протянутые на серых россыпях плоских камней, кончились. Сухая, каменистая дорога то черпала сырую прохладу глубоких провалов, то обмахивалась шершавыми ветками от солнечной духоты высот. Необозримо простиралась даль. Лето, полное загара, трепетало на листьях, и сойки срывались с дубов и грабов, разламывая тишину на стеклянные осколки.
Овидий беззаботно ощипывал кизил, нагибавшийся по бокам дороги.
Жизнь упоенно и сладко играла, прыгая с гор в голубые пропасти. Перевал уходил вниз. Мы спустились в ущелье, под сень лапчатых листьев. Обмытые гладкие камни, разбросанные весенними потоками, лежали сухими руслами, непроходимые заросли ползучих растений заплетали вокруг тропинки. Но где же профессор с его морской фуражкой, играющей лаковым молодцеватым козырьком? Где наш суровый учитель и якобинец?
Мы взбираемся на отвесную солнечную вершину, висящую в небе зеленым мохнатым чудом. Камни цепляются за наши подошвы, кизильи ветки обжигают шею шершавым щекочущим зудом, и в груди сердце задыхается остановками жизни. Овидий тщетно зовет Поджигателя, ему вторят лишь гулкие пропасти. Едва-едва, откуда-то с самого неба, до нас долетает слабый ветерок крика…
Это они. Мы лезем выше и выше, и наконец на гладкой скале, обращенной в нежную высь, среди пустоты и прозрачности мы видим двух людей, затерянных в благовесте ослепительной силы пространств. Мы приближаемся к ним, тропинка поднимается все круче и круче, – последний кустарник, скользящая плита каменной плоскости, – и широчайшее, необозримое ослепляет глаза…
Мгновенно, чудовищной лазурной вспышкой, искрометным током пронзается мир. Простор вскидывает крылья, слагает их вместе, ахают горы, испуг их подхвачен воздухом, простор бледнеет, как смерть, срывается в пропасть и вдруг разверзается кипящей пучиной. «Ах!» – только и успевает воскликнуть он и исчезает…
Море принимает жизнь и похищает глаза.
Море.
Скала приготовилась к прыжку. На нее с небрежных грозных высот катится второе небо, не останавливаясь ни на миг, галлюцинируя блестками.
Поджигатель сидит, погруженный в камни, в его очках отражен голубой свет. Он сидит, упершись локтями в худые колени, окатываемый мировыми волнами и дуновениями, и добродушно морщится, конфузливо улыбаясь.
Море, море, море… И еще, и еще… Оно идет, переливаясь через края земли, журчит солнцем и музыкой вод. Оно затопляет небо, благоухает светом и примиряет даль с берегами. Там, внизу, камешки, как дети, заняты разноцветной игрой.
– Какая красота! Какая красота! – не слышит ничего профессор, сняв картуз и меланхолически сложив руки на животе.
Он покачивает головой, сожалея всех, кому недоступно прекрасное. Мы стоим и молчим. Неслыханный ветер обвевает лицо ясною свежестью.
Молчанье. Тысячи пауз.
– Вы не видели… китайца? – вдруг спрашивает Поджигатель, и я удивляюсь, как жалок и тщедушен его голос. Он поднимается с камня, худое тело его кажется застенчивым. Он словно расстается с прекрасной вечностью и выходит из ее вод, корчась от человеческих глаз. – Китайца Жан-Суа? – переспрашивает он. – Мы встретили его у виноградников.
– Нет, мы не видели китайца.
– Да, да, – оживляется профессор, не отрывая лица от сияющей кипени. – Презабавный азиат! Нацбольшинст-во, так сказать. Ну-с, так… Но дальше, дальше, молодые друзья!
Мы медленно спускаемся вниз, к долине. Поджигатель идет рядом с Овидием, голос его крепнет. Я слышу обрывки его фраз: он рассказывает Овидию о китайце, говорит, что его зовут Жан-Суа Ван-си и что он – ночной караульщик на виноградниках Магеллатовой Короны. Я слышу, что Директор называет китайца Чжан Цзо-лином… Но когда же был разговор с Директором? Мы только что приехали… Я слышу, что китаец – кандидат в члены окружного комитета партии, что это один из лучших активистов ячейки. Поджигатель передает Овидию какие-то любопытные новости и уже шепчет таинственно. Ну что же, пусть это будет так.
Я улавливаю лишь тяжелое пыхтение профессора. Мы внизу. Долина несет зеленый поток в крутых берегах и впадает в чашу синего морского марева. Утро уже нагрелось. Лето спит на горах, раскинув полные краснеющие руки в кизиловых браслетах.
Повсюду на серых участках молодых виноградников лежат годовалые винные кусты, еще не научившиеся вставать и ходить. Они греют под солнцем свое робкое зеленое детство.
Профессор вдруг останавливается.
– Э-ге-гей! – кричит он неожиданно зверским голосом. – Э-ге-ге-гей! – и неуклюже бросается бежать, размахивая руками.
Впереди, на ровном каменном поле из аккуратных шиферных плиток стадами кудрявых барашков пасутся младенческие кусты винных лоз. Все поле кишит полосатыми планетами. Они раскатаны по всей долине и блестят навощенным глянцем.
– Арбузы! Арбузы! – кричит на ходу профессор и повторяет свой призывный дикарский крик.
Мы еле поспеваем за ним. Из соломенного шалаша, курящегося дымом, едва доносит слабое ответное эхо.
Так кто-то есть. У профессора прекрасное верхнее чутье. Зеленые, белые и бутылочно-черные шары лежат на земле глубокомысленными плеядами, полосатые твари занимаются от безделья философией. Арбузные головы саркастически морщат сферические лбы, протянув тонкие, как змеи, черные китайские косы. Они полны кантианства и, по-видимому, имеют крохотные ручки и ножки, как это и подобает метафизикам.
Но это пустяки по сравнению с прелестью жизни, когда начинаешь хлопать рукой по их гулким и прохладным головам. Ого! Они отдаются сочувственным треском, их красный ночной холодок, спящий внутри, стоит лучших страниц шахматной мудрости.
Мы – в раю метафизиков. Высокая девушка с голыми длинными ногами идет к нам из шалаша. За ее плечами тонко чернеет ружье. Профессор уже расположился на горячих камнях и бренчит цепочкой с ключами и замысловатым немецким ножом. Там все есть – я рассматривал – и пила, и штопор, и ногтечистка. Славная штучка! Нам никогда не приобрести такой.
– Садитесь, садитесь, – говорит нам профессор с хозяйской небрежностью. – Начальству всегда полагаются арбузы. Тем более, нам, из Москвы. Здравствуйте, милая! – обращается он к сторожихе. – Как у вас насчет арбузов? Нам нужно самых красных и спелых. В Москве ими очень интересуются. В самом деле, – обращается он к Поджигателю, – это чрезвычайно интересный опыт использования молодых виноградников… Выберите-ка нам, милая, штучки четыре.
Девушка немного смущена. Она смотрит на Овидия и улыбается.
– Выбирайте сами, – говорит она, забавно растягивая голос, – какие вам понравятся.
Она медленно перебирает по земле стройными ногами и утирает губы. Поджигатель сконфужен, он что-то бормочет. Профессор не заставляет себя ждать, вместе с Овидием они бродят среди философских голов и поднимают с земли их гулкие мудрости. Девушка неспеша направляется к Лирику. Так. Все идет, как полагается. Я сажусь рядом с Поджигателем. Какие-то неясные чувства бродят в груди.
…Все очень просто в мире, дорогой учитель! Мне очень дорога ваша застенчивость. Мне хотелось бы сказать вам несколько слов… Смотрите, Овидий уже разговаривает с караульщицей. Ему весело, он не находит ничего особенного в арбузах, принадлежащих государственному хозяйству. Напрасно и вы боитесь за чистоту этических принципов. В этом нет ничего особенного. Что значат несколько арбузов по сравнению с вечностью? Но дело не в этом. Я узнаю в вас чистоту поколения, наши молодые годы, традиции нашей армии. Целомудренность заревых, окутанных дымом преданий годов смотрит на меня из ваших обмоток и воинственных брюк. Но вам наплевать на стиль, брюки вошли в обиход с комиссарских времен в пехотной дивизии. Смешной и дорогой друг! Я никогда не признаюсь вам, что завидую вашей дружбе с Овидием. Я полюбил вас за высокую чистоту, за трезвую широкую радость вашего оптимизма. Но мне не по себе, когда вы слишком много внимания отдаете жизнерадостному мальчишке. Смотрите, он бегает от арбуза к арбузу, он смеется всем существом, и я знаю, что за это его любят женщины. Кстати, он уже заигрывает с девушкой и отнимает у нее ружье. Я хорошо знаю их, лирических поэтов! Ручаюсь, что он с удовольствием будет купаться с ней в море, обниматься и сидеть голышом на берегу, болтая всяческий вздор. Это будет, дорогой Поджигатель. Смотрите, они уже прижимаются друг к другу, он нашептывает ей на ухо… «Ишь, какой вредный!» – говорит она, но не отстраняет его руки. Они гогочут, как молодые лошади, – что им до высоких мыслей! А у вас в комнате на Сретенке ничего нет, кроме сырых стен, книг и пыли на протоколах нескончаемых заседаний. Газетные статьи ваши читают, готовясь к докладам. Товарищи говорят о вас, ласково усмехаясь, и я что-то не видел женских писем на вашем столе. Это грустно. Но я люблю вас именно за все это. Я знаю, что вы всегда жили и радовались счастью других. Дорогой учитель, когда-нибудь я напишу о вас самую дорогую для меня книгу. Но сейчас я буду молчать…
Я молчу. Я не произношу ни одного слова вслух. Истома мыслей и воспоминаний кружится в теле. Поджигатель улыбается: Овидий бежит вприпрыжку и тащит в объятьях вселенную, пудовый полосатый арбуз, нащелканный девушкой. «Арбуз будет самым красным, – думаю я: – девушки не ошибаются, они узнают все, не забираясь вглубь. Она выбрала один, этого с избытком хватит Овидию… Пускай профессор, лиловый, как резиновый надутый черт, тащит четыре»…
Мы лежали, ели арбузы и смотрели в блаженное ласковое небо. Быть может, это были лучшие мгновения жизни. Никогда еще день не шептал у самого уха таких голубых нежностей. Море синело вдали блеклым заревом, и ветер приносил к щекам пушинки прохлады.
Мы глотали сладкий арбузный холодок, выплевывали косточки, а девушка пришла и положила ружье на землю. Она сидит на корточках, смуглота ее щек размазана арбузным соком. У нее маленькие ловкие ступни. Когда она улыбается, во рту сверкают ровные белые зверьки.
– Аня, хочешь арбуза? – спрашивает ее Овидий, улыбаясь. – Ее зовут Анной, – поясняет он нам.
Она смеется и отрицательно болтает головой, повязанной красным платком. Я был совершенно прав: в глазах ее просвечивает зеленая тина бесстыдства, кожа ее наверное очень нежна, – сквозь грязь она теплеет розоватыми пятнами. Конечно, я не ошибался. Тем более, ее зовут Анной. Это – самое строгое и самое неверное имя. Но как вам нравится вся эта идиллия?
Мы едим арбузы, и я спрашиваю Овидия, – он сидит, как ни в чем не бывало:
– О чем это вы говорили с Анной, уважаемый сэр?
– Ах, да! – Овидий, захлебываясь в арбузной корке, обращается к нам: – Товарищи, вы знаете, – глаза его блестят, – сегодня ночью здесь был медведь и переломал штук тридцать арбузов. Понимаете, медведь! Да ведь это, чорт его знает, какая прелесть! Я сам видел: он раскалывает их, как орехи.
– Мед-ведь? – мычит профессор. – Не может быть. Неужели? – и он режет своим ножом третий арбуз.
Девушка прыскает и закрывает рот крепкой запачканной пятерней.
– Вот чудные какие! Да он у нас каждую ночь шляется. Сколько переломал!
Она смотрит на нас любопытно и снисходительно.
– А вы не боитесь? – спрашивает ее Поджигатель чрезвычайно серьезно.
– Че-го? Да чего ж их бояться? Шкодит и шкодит… – и она прыскает снова, опять закрываясь рукой. – Мы ведь не московские! – говорит она бойко, нараспев, лукаво освещаясь глазами.
Грудь ее упруго ищет выхода из-под ситцевого бедного платья. Она вся свежа и неподатлива, как арбузная корка.
Поджигатель смотрит на нее, хмуря брови. Он всегда смотрит так, когда разговаривает с женщинами. Овидий довольно расцветает под взглядами девушки.
– Я приду к тебе караулить, Аня, – говорит он: – Мы с тобой будем пугать медведей. Хорошо?
– Че-го? Ишь, выдумал! Да ты испугаешься. – Она склоняет голову набок, и я замечаю, как хороша ее шея, необыкновенной чистоты. – До свиданьица! – говорит она, поднимая ружье и закидывая его за плечо. Она поворачивается, как будто совсем равнодушно. – Приходи есть арбузы! – неожиданно кричит она Овидию, и мы снова видим ее лицо в розовых пятнах.
Овидий посылает ей воздушный поцелуй. Она уходит, высокая и светлая, как день.
– Славная девушка, – произносит профессор и недоуменно смотрит на арбуз свинцевеющим взглядом. – Да-c.. Ну, вот мы и поели.
Он весь покрывается легкой грустью. Я разглядываю ее тайный смысл. «Ну, что, собственно, нужно человеку?» – грустят глаза профессора. И легкая отрыжка покрывает российскую послеобеденную философию дымкой элегии.
Полминуты.
– Что нужно человеку? – кричу я, вскакивая и вытирая рот. – Что нужно человеку, неисправимый Овидий?
– Человеку нужно, – в тон мне выкрикивает сразу смекнувший Лирик, – кусочек хлеба, да каплю молока… да это небо, да эти облака! Тра-та-та-та…
Профессор ничего не понял, и мы пошли дальше долиной Дюрсо, обнявшись с Лириком и разговаривая о медведях. Овидий часто оглядывался назад: там, вдали от соломенного шалаша поднимался слабый синий дымок.
А Поджигатель ковылял за профессором в своих огромных стоптанных башмаках.
Повествование третье Вино создает добродетели
«Северо-западное побережье Кавказа представляет собою одну из лучших в мире местностей для разведения виноградников. На юго-западных склонах Кавказа открыта новая Калифорния для вина.
Из докладной записки начальнику округа агронома Ф. И. Гейдука. 1870 год.– Все оберегли. Ничего не отдали. Все под наганами отстояли – все драгоценности наши: золото чистое, бруллианты…
Заслуженный рабочий Абрау А. Н. Фокасьев. 1930 год.4.
Сегодня я впервые увидел Директора. Он стоял, как военачальник, окруженный свитой, поддергивая широкие серые штаны и почесываясь под мятой сорочкой, приподнятой добродушною силой спящих грудных мускулов. Он чрезвычайно любезен с профессором. Две свободных запонки у его степной шеи и забавный картузик не говорят ничего. Этот человек видывал виды, в нем ленивое простодушие полководца. Они всегда обманчивы в жизни, – нас не проведешь, товарищ Директор. Где есть сила и уверенность, там разговаривает любезность…
Поджигатель имеет возле него вид начальника штаба при командующем войсками. Он ласково представил меня и шутливо отрекомендовал «как марксиста». Директор перебросился со мной несколькими словами, подмигнул Овидию и, хлопнув Поджигателя по плечу быстро поднялся по лестнице. Спина его мелькнула осанкой волжского грузчика. И вся свита потянулась за ней. А у профессора долго не сходила с лица удовлетворенная элегическая улыбка. Он заметно повеселел и говорил таинственно: они, собственно, давно знают друг друга и встречались в центре на специальных комиссиях; сегодня у них был длинный разговор; Директор прекрасно ориентирован в вопросах местного виноделия; в известных пределах, конечно… Профессор подчеркнул последние слова. Он жалеет, что прежде у них бывали кое-какие разногласия…
Лицо профессора туманилось дымовой завесой. Я ее заметил сразу: тут что-то есть, велосипедист заметно сбавил ход сегодня у лестницы управления, шины слишком мягко и вяло шуршали по гравию. Мне показалось даже, что никелированный руль завилял из стороны в сторону. Профессор взял педали только в вопросе о норд-остах. Здесь я заметил, как он стал обдувать нас ветром быстрого хода, а Директор – почесывать пах, поддергивая широкие брюки. Но и это показалось мне внушительным: Директор на этих холмах стоял, как Наполеон под Аустерлицем.
Я вышел к виноградникам в самый кипящий жар, когда солнце слепило до черноты. Хорошо бы встретить здесь китайца Жан-Суа, но я слышал, что он работает на другом участке. Он караулит Магеллатову Корону – виноградные сады, искусно посаженные в честь последнего императора на плоскости покатой горы. Там виноград поспевает ранее всех – синие, белые, розовые и дымчатые сорта Пино, созвездья букета шампанских бутылок. Они первые покатятся с каменных дорог к прессам шампанского подвала. Фролов-Багреев, профессор химик и шампанист, приезжает на-днях из Краснодара. Директор послал ему телеграмму: я сам читал ее у разговорчивого почтаря, похожего на станционного смотрителя.
Совхоз живет, как армия, переходящая в наступление. Старик Ведель не выходит из подвала до самого вечера. Я его видел несколько раз: он проходит по утрам из своего домика, окруженного галлерейкой, ранее всех. Овидий уже свел с виноделом близкое знакомство и рассказывал о нем, полный обычного восторга.
– Это замечательный тип демократа! – говорил он. – Вот пример истинного артистизма человека труда. А внешность! Он носит рабочую кепку с достоинством великой фамилии. Осанка его напоминает старых охотников за сернами из Шварцвальда…
Овидий наговорил много и, конечно, не забыл упомянуть о себе. Он бросил это вскользь, как всегда: в семье винодела дамы говорили не только о вине…
– Вера Ивановна страшно мила! Она сконфузила меня до красноты, говоря о сходстве с молодым Байроном…
Так, так! Мы приглашены все к Эдуарду Августовичу. К моему удивлению, Поджигатель казался очень довольным. Я знаю, что он чрезвычайно щепетилен в общении со старыми специалистами.
У входа на боковую дорогу меня остановил часовой. Он валялся на камнях между виноградными кустами, читая потрепанную книжку. Ружье его лежало здесь же.
– Стой! – крикнул он грубо, поднимаясь с земли. – Чего тебе здесь нужно? Шляться на участке не полагается.
Промедленное замешательство.
– Как… шляться? – пробормотал я, изумляясь. – Вот у меня пропуск. Пожалуйста! Здесь есть печать и подпись директора Яшникова.
Я совал ему удостоверение под самый нос.
– Ну, что? Видите: «Раз-ре-шается свободный проход по всей территории совхоза и виноградникам…»
Часовой медлительно рассматривал бумажку. Он повернул ее несколько раз во все стороны с настойчивостью упрямца, верящего только самому себе. Его сожженное зноем лицо глянуло на меня старыми боевыми степями и пехотным полком. Такие падучие глаза мне приходилось видеть у конвоиров, принимавших пленных офицеров и никогда не доводивших их до штаба дивизии, несмотря на самые суровые приказы.
Малый вертел пропуск с холодной насмешливостью.
– Ну? – спросил я его. – Видите подпись Директора…
– Директор! Директор! – буркнул он, небрежно складывая пропуск. – Чего он там написать может? Мы и без него все это знаем. Им там легко любезности разводить. Сказано вполне категорически: родного отца к ягодам не подпускать. А ты мне пропуск! Пущай Директор сам тогда за меня становится.
– Так как же быть… товарищ?
– Чего «товарищ»! Нечего нам тут разговоры разговаривать. Сюда – не по ягоды приезжать. Тут народ с утра до вечера спину гнет… Государственный интерес. А ты мне с про-пус-ком! Теперь каждый сам должон сознание иметь.
Он перекинул ружье за плечи, пыльные скулы его подергивались, в глазах играла черная батрацкая непримиримость.
Я собрался уходить. Ничего не поделаешь, этот парень доверяет только себе… Но его книжка… интересно, чем может он заниматься, валяясь целый день на раскаленных плитках камней?..
День кипел и сиял, как никелированный самовар, зелень листьев вздувалась синими пузырями ожогов. Сухая жажда валялась на виноградниках, высунув каменный шершавый язык.
Я поднял с земли развихренную, выгоревшую от солнца кипу страниц, прочитал заголовок… Вот оно что! Парень совсем не склонен заниматься беллетристикой.
– Что же, на агронома, стал-быть, прицеливаетесь?
– спросил я, аккуратно складывая книжку и кладя ее обратно на камни. – Здорово!
– Там видно будет, – ответил он сухо. – А по виноградникам ходить, товарищ, нечего. Можете после кому хотите жалиться.
– Ладно, – сказал я совсем дружелюбно. – Дело совсем не в этом… Я не собираюсь никому жаловаться. До свиданья!
Я отправился домой. Парень проводил меня взглядом исподлобья, одергивая серый дырявый пиджак. Я оглянулся несколько раз: он стоял неподвижно, бритое, заросшее пыльной щетиной лицо его бугрилось куском черствой земли. Мне показалось, что он хотел что-то крикнуть вслед. Быть может, мне нужно было упомянуть в разговоре о Жан-Суа? Он тоже караульщик. По этой профессиональной линии мои шансы могли бы подняться.
Но я упомянул несколько раз фамилию Директора и намекнул на возможность между мной и им не только служебной близости. Это – совершенная глупость. Все переменилось в мире. Имя Директора для караульщика – только упоминание о той воле, за которой следят здесь тысячи глаз. Караульщик был прав: нечего кичиться знакомством с Яшниковым, – он сделал то, чего должна добиваться эта воля, он довел ее до логического конца. Они всегда любезнее всех – директора и полководцы, но поправка караульщика – это смысл революционной демократии. Караульщики и прочие парни в дырявых пиджаках всегда вносят в жизнь и историю окончательные поправки. Так вода и ветер, помогая солнцу, быстро довершают великие дела созидания и уничтожения. Они творят эти дела коротко и беспощадно.
Жалко лишь одно: мне не удалось обойти весь участок. Сегодня каменные его стены смотрят как раскаленные бастионы, солнце палит из всех пушек, и черные ядра их носятся в глазах назойливыми мухами. В тяжелом блистающем зное солнечные красные лучи идут на приступ, – они давно раскрыты Тимирязевым как творческие революционные армии, – ослепительный натиск их развевает над полками облеченные в пламень трудовые знамена. Это – великолепная музыка, это – чудодейственный день!
Сегодня солнце салютовало виноградникам сто и одним выстрелом.
6.
…Утром, самой сладкой и мечтательной ранью я видел сон, болезненный бред отрочества. Все еще спало, Поджигатель свернулся лисьим клубком, постель Овидия была пуста. Прозрачная тишина. Я приподнял одеяло, чуть раздвинул тяжелые веки: предо мной распахнулась комната, белые стены, как страны великих пустынь… Я приоткрыл дневной мир, опустил глаза вниз и тотчас захлопнул ресницы, остолбенев от изумления.
Женщина! Голая женщина! Она стоит прямо передо мной бездной бесстыдства, приподняв полную белую ногу. Ослепительно черным хлыстом тело ее рассечено пополам. Тяжелая нависшая масса складок кидается на меня влажной мягкостью. О, обвисшая материнская доброта готтентотки, курчавая знойность Африки!
Жен…
– я осторожно высовываю угол сознания -
…щина…
– разнимаю один глаз -
и вижу:
Она висит надо мной, как бред детства, могучие бедра ее едва не касаются моего лица, она поднимает ногу все выше и выше – и вдруг выпрямляется, опуская руки.
Она! Она!
Она стоит босиком на полу, разложив «Правду», орган Центрального комитета партии. На белом, невероятном в потрясающей реальности, полушарии ее туловища, над мышастой, закопченной подпалиной, запеклась огромной изюминой коричневая родинка. В ней пшеничная сытость, благодушие, легкая грусть, воля и спокойствие самоуверенной жизни.
Я поднимаю глаза выше. Женщина смотрит задумчиво, тянется к свету… Но, боже мой, что это? На лице ее скромно опущены золотые очки, щеки ее лезут лиловой щетиной…
Профессор?!
Да, да, это – он. Но что он делает, что он делает? Он сжимает мягкие, невероятные руки матроны, высоко поднимает голову и марширует, пришептывая: «Раз-два, раз-два…»
– Спокойнее, спокойнее, – говорит он сам себе и выступает как римский солдат, гордо поворачиваясь по квадрату комнаты. – Больше дыхания! Раз-два, раз-два… Быстрее, быстрее, – повторяет он и начинает резвиться: он носится по комнате, как бес, он начинает даже напевать, подпрыгивая и хлопая себя по мягким частям, он чуть ли не касается моего носа и проносится вихрем. – Солнышко, солнышко, – напевает он бабьим голосом, – выгляни в окошечко, ти-та-та, ти-та-та… Осторожнее, осторожнее – это вредно для почек… Выше ногу, раз-два, раз-два… – и он начинает плясать, потрясывая задницей, старый чорт.
Видали ли вы когда-нибудь что-либо подобное? Он переходит в исступление, он не удовлетворяется всем этим, сейчас он пронесется коридором, – вихрь переходит в бурю. «Держись! – говорю я себе. – Он опрокинет стол, он не остановится ни перед чем, такие способны на все, начитавшись Бальмонта». И профессор кружится над моим носом, вытанцовывая голые вальсы…
Все было тихо, все спали, никто ничего не видел. За окном прогудел гудок, и мы встали, как ни в чем не бывало. Практиканты давно побежали вниз, к подвалам, профессор ушел по делам: он уезжает сегодня в двенадцать часов.
– Очень жаль, – сказали мы с Поджигателем, здороваясь. – Оставайтесь еще. Скоро сбор винограда, самое горячее время… Куда вам спешить?
– Что вы, что вы! – профессор замахал руками. – Я не один. – Он обворожительно-интимно рассказал о жене, извинился: – Положение обязывает… – хотя он, конечно, непрочь, но… – и он разводил руками. – Мы воспитаны совсем иначе… Пока, пока! – кричал профессор, приветствуя нас поднятой рукой и исчезая в дверях.
Он побежал хлопотать о вине, оно нужно ему для памяти. Я видел из окна его торопливость: он бежал, как большой раскормленный заяц.
Так. Он уехал в полдень, обвешанный рогожными кульками.
Мы встретились вместе только к вечеру, в столовой. Овидий пришел туда раньше нас и ждал за столом, любезничая с практикантами. У него поразительная общительность и умение сходиться с людьми с первой же встречи.
Конечно, он сидит обнявшись со стриженым Сергиевским и напевает ему свои обычные рассказы, которые я знаю достаточно хорошо.
– Ба! – закричал он, бросаясь к нам: – куда вы испарились, сонливые черти? Вы просыпаете лучшие дни и не знаете, что творится на свете. Видали ли вы профессора? Он уехал – мы сейчас провожали его на машину. Садитесь, садитесь, – я взял для вас ужин и ожидаю вас целую вечность… Я соскучился и ужасно рад вас видеть. Ей богу, я тосковал о вас всю ночь… Я притащил вам замечательный арбуз.
Мы сели. Поджигатель серьезно поздоровался со студентами, и принялся за суп. Овидий болтал нам всякий вздор; я заметил, что он необычайно оживлен, галстук его сбился на бок, у него вид гимназиста, выдержавшего экзамен. Зрачки его глаз разошлись застывшим девическим испугом, темный блеск их напитался ночными потемками. Да, я согласен с ним, что арбуз действительно замечательный на вид.
– Где вы пропадали? – спросил его Поджигатель, хмурясь. Он оглядел юношу как будто искоса, но меня не проведешь: этот взгляд скользнул по лицу Овидия сухостью тревожных материнских губ. – Рубашка ваша вываляна, точно вы сидели в угольной яме!
– В самом деле? – Овидий весело рассказал нам о виноградной ночи. Он познакомился с китайцем, и они караулили вместе у Магеллатовой Короны, за озером. – Вот они, – обратился он к студентам, – знают этот участок: там лучшие шампанские сорта… Знать его – это очень важно для моей книги.
Его необходимо знать, – повторил он несколько раз, и студенты сочувственно кивали головой. Китаец подарил ему замечательный арбуз и рассказал много интересного.
Овидий сообщил нам, что его поражает серьезность, с какой здесь относятся к вину, и необычайная преданность всех рабочих виноградникам и виноделию. «Наша Абрава» – произносят здесь, и это звучит непередаваемой гордостью. Совхоз видывал виды. Удельное имение, коронованное орлами, оказалось революционным гнездом, и лучшие его люди, ценившиеся на вес золота, не пошли по стопам титулованных хозяев. Тут отгремели, прошли грозные дни, немало ночей простояло, застыв у пулеметов, и легенды Абрау, перестав быть легендами на карточках ресторанов, вдруг опахнули горы хаосом новых бурь…
– Да, – рассказывал нам Овидий, – китаец Жан-Суа знает многое. Напрасно вы прячетесь под одеялом и просыпаете жизнь. Я провел прекрасную ночь, и мы бродили по императорской короне, отпугивая медведей. Они приходят с гор и тревожат товарища Ван-си, караульщика, имеющего, звание кандидата окружного комитета партии… Да, да, не смейтесь! Медведи шляются кругом, когда вы спите и видите дурацкие сны.
Он ловко перевел разговор и замял вопрос о перепачканной сорочке, как истинный лирический поэт. Мы ели арбуз вместе со студентами и хвалили китайца. У сына великой желтой расы опытный глаз: я давно не пробовал такой розовой влажности и не ощущал такой блаженной усталости после ужина. Голые упругие корки мы сложили рядом, друг с другом. Арбузный сок стягивает щеки, делает их шершавыми. Я пошел мыться к озеру, напевая про себя. Гудок давно прогудел, озеро чокалось с небом.
Когда же мы получим следующий арбуз от китайца Ван-си?
7.
Вода, ветер, солнце… Палящий жар уже устает, рабочие лучи спускаются с гор на море, и красный сияющий садовник мира приникает лицом к зеленой, играющей студеными всплесками прохладе. Семь часов вечера. Разве случайно то, что все украшающее лик земли идет суровыми шагами и бренчит садовыми ножницами?
Обрезанный весенний сад беден, нищ, вопиет нежностью и жалостью, апрель смотрит сквозь бедность редких стволов пустотой разгрома. Но садовник доволен, садовник не знает гуманности, он усмехается боязливой руке, опускающей ножницы. Это дерево долго росло, – думает он: – слишком много цветов, розовой нежной шелухи, аромата. Много птиц совьет здесь гнезда, оно загремит песнями… «Дайте пилу, – говорит он, – его нужно убрать. Я не люблю разрозненных мелких яблок с их жалким кислым вкусом старины… Кроме того, оно затемняет других».
И дерево падает, вздыхая старым помещичьим парком. Не правда ли, что в пустом обрезанном саду имеется кое-какой мировой смысл? А в стальных ножницах, обагренных светлой душистой кровью, говорит жестокий закон совершенствования.
Не стоит ли помогать этой работе, вопреки соловьям, любящим шорох запустений и гниющую сырость запрятанных дупел?
Песни птиц любят буйный рост: там смерть расправляется с лишним. В этом большая правда, но этого мало. «Этого мало, – думаю я. – Большие поэты творят вторую природу, они расчищают заросли чувств и выбирают несколько почек, они знают, что делают, свистя холодными ножницами разума… Если это не так, то яблоки их кислы».
Семь часов вечера. Сумрак ласкает душу. Виноградные сады остывают на каменных глетчерах, как на кафельных плитках печей. Случайная звезда перебирает лучи.
Половина восьмого. Сверчки начинают «Дунайские волны», а суровый винодел и садовник Эдуард Ведель ожидает нас на веранде. Мы ведь литераторы, и мы входим в дом, как сардинские принцы. На Овидии прекрасная шелковая сорочка.
Винодел играет в шахматы на галлерейке, спящей, как тусклое ожерелье на шее пахучей и редкой старины. Он поднимается из-за столика, усталость его нависших и гордых век выпрямляется, его широкие плечи садовника дышат на нас домашностью. Он произносит несколько хороших фраз, изобличающих привычного хозяина. Он играл в шахматы с одним из старых рабочих.
– Этот дом очень дряхл и назывался когда-то «Виллою роз», здесь был великокняжеский охотничий домик, но все это было давно… Сейчас, как видите, роз нет, многое стало иначе. Да, были странные года, и бог знает, как все это сохранилось.
Он кивает головой, кутается в пальто. До нас долетает прохладный ветер музыки и шелестит в саду.
Знаем ли мы легенду об Абрау?.. Он записал ее много лет назад, когда был молод. Он – один из пионеров края, Абрау поднималось при нем, виноградники росли на его глазах, он пережил второе сотворение мира и защищал подвалы с винтовкой в руках… Чего только не было! А зеленые… Знаем ли мы Савгочука, Гиля, командира Савченко? Дача Хартамазиди, отряды «Террор», «Гром и молния», побег всей тюрьмы из Новороссийска… Чего и говорить! Было!
– Всего было, – машет рукой винный рабочий, с решимостью выставляя в разговор бритую челюсть под черными, цвета японского лака, глазами. – Тут зайчики в глазах играли, не то что… Вы вот спросите, сколько раз Эдуарда Августовича под расстрел водили? – он смотрит на нас победоносно. – Да, шалишь, он, брат, у нас не струсит… Ни бутылки! И кончено. Офицеров одних в Абрау было… Чего уж и говорить! Герой! Все это богатство в сохранности государству передали.
Он машет рукой, собирается уходить. Старики, видно, частенько просиживают часами за шахматами: бритый человек с большим и впалым лицом Эразма Роттердамского уходит запросто, без суеты и неловкости прощания.
Ведель медленно курит и смотрит в ночь.
– Товарищ Ведель, – спрашивает его вдруг Поджигатель, – а вы не в обиде на советскую власть? Я слышал, тут было множество директоров, они не всегда соответствовали назначению… Да и вообще вино в наше время…
И Поджигатель смотрит круглыми выпуклыми очками в упор на винодела. Может быть, это бестактный вопрос? Не хочет ли он внести сюда обстановку партийного комитета? Но Поджигатель знает, что делает.
Винодел понимает жизнь, он сажал виноградники, он понимает, что революции сродни садовые ножницы. Плохие директора? Сколько угодно! Но Абрау… мог ли он когда-либо оставить Абрау? Его приглашало итальянское правительство, он мог бы покинуть Россию, за этими стенами сидели белые генералы и ждали от него советов… Это уже старая история, но и тогда он знал, что делать в таких случаях. Об этом хорошо помнят партизаны, приезжавшие к нему ночью и получавшие кое-какие сведения. Было дело… Он добродушно смеется. Его имя знала хорошо аристократия. Эдуард Ведель! Мог ли он быть красным! «Но там осиное гнездо, в этом проклятом Абрау. Зеленые хитры, как дьяволы: они знают все, и напрасно офицеры переговариваются с телефонной по-французски… Дача Хартамазиди парит в горах, офицеры отказываются ехать в штаб Духонина, туда не заманишь колючим холодком шампанского.
Сколько было примеров!.. А эти ночи, черные, как наведенное дуло, пугливые, как грянувший выстрел, и отчаянный, страшный крик, раздирающий в кровь и клочья тишину, когда волокут по лестнице красивого раздетого юнкера… Артиллерии! Туда нужно пушек, побольше легких скорострельных пушек! Нужно разбить с гор проклятую дачу, размести змеиное гнездо и залить глотки красной черни купоросом… Абрау? Не кажется ли вам подозрительным этот высокий суровый старик, слишком гордо носящий голову? Он слишком якшается со своими подчиненными, но впрочем… чорт его знает!..»
– Я расскажу тольке, – он выговаривает так именно: «тольке», – один случай…
Эдуард Августович пускает клуб дыма.
Половина десятого. Мир распелся кругом и бредит мерцаньями. Старый Ведель рассказывает нам разные случаи, и мы сидим, погруженные в тихую черную ночь. Веселые голоса распахивают сад: кто-то идет и поднимается по лестнице. Овидий вскакивает со стула и кидается навстречу.
– Вера Ивановна! – кричит он восторженно. – Мы вас за-жда-лись! Я привел всех друзей. Посмотрите на них и скажите, разве я не был прав?
– Мы так рады, мы так рады!
«Вилла роз» пропадает, под звездами склонилась столовая, Вера Ивановна смотрит сквозь седую жизнь темноглазым девичеством, английским языком, маленькой хрупкостью восторженной матери; лампа в столовой старомодна, буфет стар и беден, железная кровать с чистой домашностью, как святость; Эдуард Августович огромен, силен, к его морщинам плечо к плечу прижалась семья и смотрит любовно на нас блестящими глазами… Бутылка рислинга. Конечно, мы не отказываемся. Стаканчики, называемые в губерниях «лафитными», плещутся зеленоватым «шестьдесят три», забегающим из горлышка и перегоняющим короткое бульканье… Старое вино! Оно обжигает осенней свежестью, буйно благоухает пригорелым, обвяленным солнцем, нервно дышит искусством тонкого замысла.
– Белые вина, – говорит винодел, медленно пережевывая глоток, – больше употребляют люди мыслительного труда. М-да-м… Рабочие пьют больше красные. У нас в Абрау, я это замечал, преимущественно ценится каберне. М-да… Только несколько глотков, и вы гарантированы от желудочных заболеваний. Это – лечебное средство, его действие главным образом физиологическое. За ваше здоровье!
Поджигатель пьет старое вино, как уксус: он ничего не понимает в букете, он полагает, что это дело не столь важно. Но почему все же он относится с таким уважением к нашей беседе? Он сидит молча и не роняет лишних слов. Не задумывается ли он над смыслом этих живых стаканчиков? В них десять лет чудовищно быстрой жизни. В них спят неведомые силы, собранные искусством поколений садовников и виноделов. В них кое-что прибавлено фронтовыми ночами.
Вера Ивановна сидит рядом с дочерью, обнявшись, совсем как с подругой. Половина двенадцатого. Мы чокаемся в последний раз и уходим. Кругом попряталась ночь, поднялся легкий ветер, и фонари раскачивают поющие кусты и ветки.
Вино создает добродетели, революции сродни садовники и поэты, – соглашаетесь ли вы со мной, Неунывающий Друг?
Повествование четвертое Стихии заявляют о себе
«Со времени появления первых окрашенных ягод ранних сортов и до начала сбора, на виноградниках никаких работ не производится, и они только охраняются».
«Летом почти ежегодно бывают более или менее сильные ливни, которые в течение короткого времени несут массу воды в овраги и речки. Изредка бывает град…»
Жизнеописание «Абрау».– Офицера – народ испорченный: они, как звери, сами свою жизнь не щадили. Когда человек рабочий, он работу любит – самого себя любит, семью свою любит, весь народ бережет.
Заслуженный рабочий «Абрау» А. Н. Фокасьев.8.
Зной висел в этих безмятежных днях, как синяя виноградная кисть. Сегодня день еще ярче, каменные россыпи виноградников обжигают листья, и воздух жужжит мириадами нагретых мух. Это – послеобеденный сон лета. Дело уже почти сделано. Созревающий покой клонится дубовой веткой, висящей, как плеть, от тяжести желудей.
Покой и мир. Сладкий сок созревания, винная тяжесть бочек. Бондарь Бекельман обложился сухими коричневыми стружками. Рубанки, раскаленные добела, жарко шаркают по ровной клепке, и молотки стучат, набивая обручи. Старые бочки гулко катятся по каменным плитам, с них обивают фиолетовый винный камень, их чистят, моют, обжигают пламенем закисшие, трухлявые щербоватости, оглаживают стальными лезвиями, прилаживают новые бока и днища, обтягивают полосами железа – и они выстраиваются одна возле другой, руки в бок, важно выпятив свои круглые десятки, двадцатки и сороковки ведер.
Покой и мир. Герб этих дней: резные дубовые листья с парою желудей и кабанья щетина старого мастера Бекельмана. Он восстает из свежих толстозадых бочек, из кислой тишины подвалов багровым лицом, колючими усами и хриплым смехом веселого трактирщика; он бродит весь день и пенится грубыми шутками, мокрый рот его дышит лиловым вином; из него идут пузыри, натура его не терпит шпунта, – не мешало бы ему прикрыть солдатские усы виноградным листом. Так поступают с молодыми бочками, когда их распирает веселый дух вина: они исходят и гудят пеной, и липкий мокрый лист служит им предохранительным клапаном. Но прочь с дороги, дубовые ветки и кабаньи головы средневековья! Оловянные кружки давно отошли в область сказок, нет трактиров, увенчанных «Тремя голубыми щуками», у пылающих очагов не греются проезжие ландскнехты в плащах. Не мешало бы быть поосторожнее старому бондарю со своим языком, способным из топора сварить суп. Все изменилось: старина разлетелась, как дым. Где вы увидите подвалы, заплетенные мхом, с паучьими гнездами из плесени и ядовитых грибов? Где вы увидите старые бутылки, покрытые пушистой коркой, насиженной столетней пылью, которую боятся тронуть и хранят, как святыню? Где вы увидите мастеров, горланящих песню и пьющих прямо под бочкой, увенчанной лаврами? Не вам ли снятся они, бравый Бекельман, когда вы проходите, насвистывая, руки в карманы?
Мох старины? Но виноделы смеются над такими дурацкими вымыслами. Асфальт и цемент борются с сыростью, по резиновым шлангам бежит вода, смывающая плесень, серные газы душат гниение, а электричество качает сквозняки, прогоняющие старину, как призраки. Винные духи, где ваши романтические плащи? Виноделы стали походить на аптекарей, в подвалах чистота больницы, вино рождается на стерилизованных простынях. Бочки лежат одна на другой, – это дортуары веселых здоровых детей, – они вымыты содой, ощупаны искусными лекарями, в них спит, живет и играет детство листьев, света и воды, в них зреют мудрость и зло, страсть и забвенье, счастье и отчаянье, бунт и распад. Только один Бекельман – как гравюра на дереве. Он горланит песни цеховой дружбы, он целует всех прямо в губы и хлопает по плечу.
– Я старый слу-жи-вец! – подмигивает он Овидию. – Хе… Старый кадет… А? Кто сказал, что Бекельман ставит плохие бочки? Хе-хе… Бекельман умеет работать. Ему не нужны деньги, он не есть жадный… Что ему нужно? – хрипит старый бондарь. – Хе-хе… Только спокой. Поработать, рыбку половить – и ладно. У него не лопаются глаза на чужое добро… Что говорил ему Директор? Хо! Он не боится никого. У него кроме восьми деток нет ничего, – зачем ему деньги? Он мастер, он знаменитость там, где бродит вино…
Он смеется, выкатывая глаза, и гордо идет в бондарную. Это может плохо кончиться: нам рассказывали о нескольких предупреждениях. Правда, он замечательный мастер, бочки его знают Массандра, Дербент, Кахетия, но все же это веселье не приведет к добру… Овидий напрасно передает Веделю свои соображения о бондаре. Я знаю все его мысли: это романтический вздор, вредный для производства, и я не сомневаюсь, что винодел выслушивает его только из любезности. Что может думать Овидий?
– Демократия – краснорожа, как солнце. Она палит добродушной дружбой, целуется и поет на улицах. В ней, в грубоватом пожатии ее руки – спасение мира. Мы задыхаемся от холода, – говорит Овидий, – и Бекельманы греют нас душевным гостеприимством, они приносят свой теплый дом на улицы, они отапливают вселенную…
Это – все в его подлинном стиле. Ну, а дальше?.. Конечно, у Овидия хватит и на продолжение.
– Революция, – бросает он слова на ветер, – неужели революция, созданная руками Бекельманов, не получила прав разрешить им быть самими собой, свистать песни и попивать винцо за веселой работой? Старина Бекельман! Седоусый друг! Ты орешь на собраниях, душа у тебя проста, как ветер, руки твои покрыты рубцами, ты выносишь все горести из бедного дома и хохочешь над мальчишками, поучающими тебя из комсомольских книжек… «Щенки! – кричишь ты добродушно. – Поживите с мое! Для вас стал плох Бекельман, выпивший по случаю работы? С каких это пор детки стали делать мне замечания? Хо-хо! – орешь ты на всю улицу. – Я, правда, выпил, но много ли у вас убавилось? Плохи ли стали бочки старого мастера? И почему Директор улыбается, подписывая мне выговоры? Деточки, неужто винцо мы делаем только для званых обедов?»
Это – вредная ерунда, интеллигентщина, милый Овидий! Производство не терпит индивидуализма, и дело вовсе не в красной роже, сияющей солнцем. Вы не правы, хотя я великолепно понимаю, что вы хотели сказать. И правы ли вы, что мы задыхаемся от холода? Не ищите тепла, дружбы, уюта так, как их искали столетиями, – их нет во всем том, что не слилось в поток мирового смысла. Мне говорят: не стало дружбы, нет гостеприимных рук, нет бескорыстных глаз, отданных одному. Очень хорошо, – отвечаю я. – Порошинки собраны в мировой заряд, он вспыхнул планетным пламенем, мечта обуяла всю жизнь, дружба соединяет народы, смысл стал красотой, уют отдан улицам, полям, корпусам фабрик и плотинам, замыкающим реки. Пора сделать уютным весь мир, украсить его, как огромный освещенный дом, пусть люди поживут в нем полным хозяином. Я думаю, что человек предназначен именно для этого. Народы будут запросто приезжать в гости друг к другу, на такой вечеринке будет поинтереснее, чем в двух комнатах Ивана Иваныча, с раскрашенным граммофоном в углу. Какие встречи, какие знакомства! Какое веселье! Кто может сейчас веселиться вдвоем и ждать, чтобы мгновение остановилось? Чепуха. Может быть рано говорить вам все это, Овидий?
Нет, время пришло говорить о красоте смысла. Вы сказали о холоде, о сумрачности лиц, о редком смехе… Дорогой! Негр на московском бульваре – это океан огромной любви, это песня мировой нежности, это истомившиеся уста миллионов, протянутые через континенты, это величавая дружба, – надо уметь только это почувствовать. Вместо маленького рябого сердца Марьи Ивановны послушайте запыхавшееся, идущее в бой сердце человечества. Страстные глаза мира полны гнева, восторга, упоения и участия…
Я знаю, что ответит на это Овидий: он безнадежен и доволен собой.
– Ужасный эгоизм! – вспыхивает он сразу. – Я считаю, что абстрактные люди – преступники. Они успели согнать с жизни ее самые простые улыбки. Для меня пушкинская няня дороже ваших несуществующих уютов. Бекельман – красный день пролетариата. Я люблю людей, а не идеи о них.
– Ну, и отлично! Разговор окончен.
Покой и мир вокруг. Каждый из нас бредет по своим делам. Каждый из нас имеет здесь своих друзей.
9.
Когда мне становится скучно и голова начинает кружиться от жарких деревьев, я спускаюсь с горы и ищу кочегара подвала столовых вин Придачина. Он неизменно сидит у дверей кочегарки, заложив ногу на ногу, и, как крот, смотрит на солнце.
Двери его владений раскрыты настежь, окна кочегарки слепы от полдня, в ее сумраке спотыкаются лучи и реют столбами световой пыли. Оранжевые мазутные бреды стекол переливаются всеми оттенками спектра: в кочегарке мутно, она перемазана маслом, она шипит и топится в серой золе, как мертвый товарный паровоз, лишенный бега и мелькания полевых цветов.
Придачин сидит на дубовом обрубке и смотрит в мир единственным глазом; он довольно и хитро копошится своим бельмом под кожаной фуражкой и курит, насыпая табачную крупу в длинные колпачки из газетной бумаги. Покой и мир разлиты в его существе. Котлы подмигивают ему из медных старинных окуляров, старчески дрожа черными стрелками… Шесть атмосфер. Это очень немного, но вполне хватает, чтобы парить старые бочки и выполнять кое-какие работы несущественного значения. Три раза в день он открывает пар и командует гудком. Женщины тогда будят сонных мужей, и прекращаются всякие сны. В час дня кочегар поднимается, как метр-д-отель, и вежливо приглашает к обеду. Ровно в пять он закрывает подвал и останавливает человеческие руки. Тогда снимаются фартуки, а Эдуард Ведель медленно спускается к дороге, ведущей к «Вилле роз». Это очень внушительно: винодел идет, как сам Ной, под серой демократической кепкой. День закончен, можно поужинать в столовой за тридцать пять копеек, посидеть у кооператива и посудачить о разных делах. Кочегар проходит к себе в казарму на «Птичий участок», важный, как неразрешенная загадка. Иногда его можно видеть в лавке: он покупает всякую ерунду. Я встречал его и в клубе, где раз в неделю показывают фильмы о великих страстях.
– Что это за чудак? – спрашивал меня не один раз Овидий. – Не знаете ли вы, почему он надут, как петух? Он носит свою особу и огромный нос, точно важный пэр – меховую мантию. А его борода! Это напоминает гнома, раскачивающего фонарик… Занятый субъект! Вообще здесь все преисполнены важности. Чорт его знает что! Я заметил, что он всегда один…
В самом деле, он никогда не скучает в собственном обществе и нисколько не похож на веселого Бекельмана. Но я полюбил посещения кочегарки, хотя мне не удалось выудить там ни одного лишнего слова. Очевидно, Придачин занимается философией и тайно пишет какой-нибудь труд о смысле человеческого счастья. Может быть, это и так: сейчас можно ожидать чего угодно, а сидеть целыми днями у горячих котлов и улыбаться – что-нибудь да значит.
– Так… – говорю я, усаживаясь на табурет. – Скоро поспеет виноград. Я думаю, что это прибавит вам работы. Не хотите ли закурить? Это – кавказские папиросы. Берите, берите… Я должен извиниться: они немного затхлы и неприятны на вкус.
Я начинаю болтать о всяких пустяках. Не находит ли кочегар, что скучно жить одному в сорок лет и что гораздо лучше иметь жену и гулять с ней под ручку?
– Вы подумайте, – говорю я, закидывая в муть кочегарки блестящую удочку, – как было бы это хорошо!
Я рисую перед ним блестящую картину довольства и радости, но кочегар смеется и качает головой.
– Нет! – восклицает он. – Н-нет… Дай еще закурить.
Когда он смеется, из черной пакли его бороды смотрит бес. У него редкие зубы, похожие на кабаньи клыки.
Он смотрит на меня подозрительно: бес делает какие-то тайные знаки. Придачин довольно сосет папиросу и мусолит ее красными толстыми губами. Его нелегко вывести на чистую воду.
Я спрашиваю совершенно равнодушно:
– Довольны ли вы своей жизнью? Не скучно ли вам? Есть ли у вас друзья и знакомые? Скажите, по крайней мере, как ваше имя и отчество? Мне нужно все это знать: я хочу записать ваши слова… Видите, – я вынимаю записную книжку, – я беру карандаш. Я буду слушать вас очень внимательно…
Я сделал все, чтобы возбудить в кочегаре тщеславие. Я говорил о газетах, о прекрасной фотографии, отпечатанной посредине текста, о тысячах читателей, я тонко намекал на возможность славы. А что скажут в Абрау? В читальне под деревьями парка, где на столах мерцают журналы и газетные полосы… Как будут шептаться! Что будут говорить! Не правда ли, об этом стоит задуматься?
– Н-нет! Н-нет! – смеялся от души кочегар. – Я тебя знаю: ты такой. Ты скажи сам, как меня зовут, догадайся.
Он хитро подмигивал бельмом. Таинственность была его капиталом, я это отлично видел. Он чрезвычайно доволен. Я вижу, что он считает вполне понятным, что им интересуется вся страна. Он поднимается с обрубка и ходит передо мной, распушившись важным индюком. Башмаки его дырявы и стоптаны, шнурки на них отсутствуют, штаны его поражают, как перепутанные стропила строящегося здания: это загадочная система заплат, обличающая смелость одинокого мужского творчества. Боже, что это за штаны! Это – безумие портновской иглы и вдохновение мастера, гордо пренебрегшего старыми приемами. Кусок мешочной ткани пересекает их сзади, как запасная ферма моста, поддерживающая весь замысел сложной конструкции. Он пренебрег всем, и любая женщина отступила бы перед хаосом этих заплат, громоздящихся, как горы Кавказа. Каждый день он кладет новый смелый мазок. Он доволен собой и не заботится о мнении других. Быть может, я думаю, что его котлы – простая штука? Один из них в действии. Он подходит к нему, как батрак к безмолвному родному быку, и я вижу, что он хочет поразить меня фамильярностью обращения с этими сложными вещами, о которых гласят инструкции надзора на стене кочегарки. Там говорится очень много, пункты инструкции жестоки, они говорят о страшной силе пара и стали; надо держать ухо востро: один промах – и правила безопасности полетят в бездну, к дьяволу, чудовищным взрывом несчастья. Придачин открывает выпуклую дверцу топки и пылает в раскаленных смерчах гудящего ада. День сразу темнеет за пыльными окнами, электрическая лампочка наверху еле светит желтым зрачком. Дверца хлопает, он берется за кран водоизмерителя, поворачивает рукоять…
Оглушительным вскриком, визгом и свистом взлетает пар. Котел прыгает вверх жужжащим воем и уносится в белых тучах. Пшшш-жжик!.. – выключает он рукоять, и пар крутится в воздухе, рассеянно оглядываясь на черный котел, и краны клокочут брызгами.
– Ви-дал? – говорит кочегар и поворачивает торжествующе огромный нос в синих угрях.
Я сижу совсем уничтоженный. Это действительно сильно. Вж-ж-ж-шшш-жик! – прыгает опять котел, и вулкан бешенства закрывает кочегара, стоящего в преисподних клубах с торжеством дьявола.
– Это еще полдавления! – говорит он довольно, закрывая краны, и мы сидим, опять мирно беседуя.
Время бежит незаметно, обгоняя солнце.
– …Александр. Вас зовут Александр Яковлевич! – говорю я. – Александр – величественное имя… Яковлевич – это поправка вашего батрачества, смягчение холодной классичности первого имени задушевностью народности… Александр Яковлевич, правильно?
– Н-нет! Н-нет! – прыгает восторг кочегара. – Н-нет!
– Нет? Сейчас… Вас зовут… Сейчас, сейчас… Вас зовут Владимир Кузьмич. Нет – Михаил Иванович… Михаил – разящее имя, меч, поднятый над головой, жестокость во имя истины.
– Н-нет! – гордо бросает Придачин.
– Петр! Петр! – кричу я. – Вы не отвертелись! Именно Петр – строитель, кузнец, плотник… Вас зовут Петром Александровичем. Вы труженик в заплатах. Александр – наполняет вас эпосом, дает вам героический щит, поднимает вас, как статую… Неужели нет? Я придаю такое значение именам… Ну, хорошо, вас зовут Георгий Владимирович.
– Н-нет! – окончательно добивает меня кочегар. – Ничего ты не знаешь. Дай закурить, тогда скажу.
– Пожалуйста, пожалуйста!
– Меня прозывают… – довольно растягивает время кочегар, закуривая. – Ну, как ты думал? Ты только ничего не записывай, а то не скажу… Иль-я Пав-лов При-да-чин. Понятно?
Илья Павлович. Бог ты мой! Пожалуй, это самое подходящее, об этом нужно будет подумать… Илья. Кто был Ильей? Илья Мечников, Илья-громовержец… «Илья» приставлен к имени человека, претворившего мир в бурю и все бури – в дело. Это – хорошее имя, оно просто, как добрый кусок дерева в руках мастера, но ведь и дерево может дать буйный огонь. Это – верное, не обманывающее имя: оно мудро и народно, но и жестоко и справедливо. Оно грохочет громом и проливает светло-зеленый дождь. Илья. Это имя пригрето на завалинке человечества солнцем мудрого опыта. Но Павел? Что я могу сказать о Павле? Я не вполне осознал и уловил запах звуков этого имени. Имена, как цветы – это запахи характеров и смысла людей, они – как заглавия книг. Они не случайны, уверяю вас!
Илья Павлович Придачин – звучит очень солидно, – не потому ли кочегар носит заплатанные штаны с таким довольством и гордостью? Доволен ли он своим положением? Об этом мы говорили не раз. Он вылез на обрубок дерева у дверей кочегарки из темной оттаявшей земли и прошлого мрака, он обогревает себя, как весенний крот, и купается в лучах солнца. Сорок лет жизни: он никогда не имел кровати и никогда не получил ни одного письма. Ни одного письма в жизни – мне становится жутко… Ни одного! Годы уже в прошлом, они разрыты маленькими когтистыми лапами и темнеют сырой могилой, – он смотрит вверх слепыми глазами: разве не пахнет воздух, слетающий с подсохших листьев, фиалковым корнем? Он один в мире. Лучи трезвонят в окна кочегарки. Может быть, он до сих пор лежит между колен забитой жизнью батрачки, выброшенный судорогами к свету и обтертый навозным подолом, в соломе коровьего сарая, сорок лет тому назад?
– Жить можно, – говорит он важно и торжественно. – Плоховаты харчи, но мне хватает. В казарме спокой, у каждого койка и матрац – не то, что раньше. Службу, например, взять: полное уважение…
Котлы – тонкая штука, но для него сущая ерунда.
Он дожидался этого места сорок лет. Ему весело. Не всякий раскусит его положение, и он не будет кричать и бить себя кулаками в грудь, как мастер Бекельман.
– Ты меня не проведешь, – говорит он. – Чего ты там записываешь? – Он доволен жизнью и не желает соваться в газетные листы. – Ты такой… – говорит он. – Я тебя знаю. Я и сам читаю газетку, как там международная агитация идет, – он грозит пальцем и подмигивает. – Нечего заниматься пустяками! Есть дела поважнее его.
Покой и мир. С важностью вытаскивает он часы, завернутые в тряпку, встает.
– Шанкер на семи камнях! – говорит он о часах гордо и медленно.
Он идет за котел, берется за проволоку. Необычайное довольство и торжество разлиты на его лице. Он смотрит на циферблат, тянет проволоку вниз и долго и торжественно стоит, маленький, в серых масляных лохмотьях, когда наверху, в огромном сияющем мире, уходящем ко всем странам, над красной высокой черепицей цветет трепещущее облако пара, гудит, свистит заунывным звоном и бежит по горам и виноградникам медными вещими звуками, чтобы неожиданно и недоуменно оборваться и стихнуть.
– Видал? – говорит он. – Это тонкая штука.
– Да, да, – повторяю я. – Лично я не способен на это.
Мы расстаемся. Он идет обедать, надутый, как петух, а я ищу своих друзей. Я доволен, я счастлив, я так рад, что попал в эти места.
– Что у вас сегодня такой странный вид? – спрашивает меня Поджигатель, беседующий с Директором. – Может быть, вы нездоровы?
– Нет, все идет хорошо… Здравствуй, Директор!
Мы идем обедать. Овидий и Поджигатель рассказывают мне последнюю новость: приехал художник из Ленинграда, известное имя, вместе с ним девушка, его сестра. Овидий находит ее чрезвычайно милой. Я молчу.
– Что случилось с вами? – тормошит меня поэт. – Что вы молчите?
Что случилось со мной? Ничего особенного. Просто я задумался над некоторыми вещами, а Эдуард Августович угостил меня в лаборатории стаканчиком старого каберне.
10.
Солнце сошло с ума, и все перевернулось.
Поджигатель целыми днями сидит в рабочкоме, ходит с Директором и выступает на собраниях. Нас двое: Овидий и я, – мы решили дать себе отдых. Все равно, вечером мы услышим все новости и узнаем, как идет мировое сражение. Совхоз живет, как виноградный лист, он шелестит под звездными ночами, набирает сил, днем он ослепительно-спокойно отдает себя жару и солнцу.
Дни созревания: они накалены, как белый кусок железа в полутемной кузнице. Дни сияют, черный взлетающий молот кует их с утра до вечера, я вижу его ровные удары, и в глазах и в сердце полыхают закопченные, темные молотки. Я с трудом переношу этот зной. Камни дуреют от блеска, кусты винограда кипят зеленою пеной, мутное озеро шипит в каменных берегах.
В зное есть величайшая скука, время накаливания тяготит, как ожидание боя.
Сорок градусов. День нестерпим. Графин в столовой блестит, как безумие космоса, фикусы на столах убивают буднями. Когда же цикады начнут итальянское каприччио? Мне вспоминается степь, станция Алтата, вагоны, сухие, как спичечные коробки, рыжая копоть паровоза и босые ноги пехоты, обжигаемые пылью. Дохлый верблюд валяется у пыльных акаций. «Воды, воды!» – кричат горячие рельсы и шпалы, закапанные мазутом. Какая скука ожидания! Дальше, дальше… Последняя станция, взорванная позавчера, пустые дома и солоноватый воздух, кишащий зелеными мухами. Конец света: рельсы разобраны, комендант в матросской фуфайке обвешан бомбами, у него только пятнадцать красноармейцев, они валяются у изгороди, два пулемета торчат на крыше, сломанная водокачка висит в палящем солнце… Паровоз уходит обратно. Седой, как лунь, машинист дает полный пар. Покачиваясь и неистово крутя шатунами, развевается паровоз и головешкой пропадает в степи. Вагоны стоят, от них пахнет купоросом, лошади ударяют копытами в деревянную обшивку. Сорок градусов.
– Идиотство! – бормочет командир, огромный полковник, с приставкою «бывший», в широченной гимнастерке без пояса, звякая шпорами. – Товарищ комиссар, имейте в виду, я не отвечаю за приказы штаба дивизии. Полевые гаубицы – есть полевые гаубицы. У противника превосходная кавалерия. Комендант располагает лишь двумя люисами, связи нет никакой… Прошу вас собрать дивизион и объяснить положение красноармейцам.
Боже, какая жара! Мухи жужжат сумасшествием, вся станция завалена внутренностями животных: части били и свежевали скот прямо на путях, все колодцы завалены падалью. Комендант в этом пекле вторую неделю, он обречен, связь случайна, провода разрушаются ежечасно… Он равнодушно отдает распоряжения, пушки с грохотом скатывают на перрон. Смертники – лихие бойцы, ухарски обнявшись, гуляют по станции. На них чертовские засаленные шлемы с красными звездами. Я запомнил одного франта: папаха шире плеч, перетянутая красной лентой, свисала живым черным бараном, соломенные кудри на лбу его пылились мириадами гнид. Он ходил с гармошкой и снисходительно посматривал на желтые ремни, свежие гимнастерки и хрустящие английские седла… Орудия слаженно гремели с платформ, орудийные начальники при шашках и кобурах бряцали железными шпорами. Парень насмешливо трогал меха. Он смотрел на ловко подпоясанную регулярную часть, как ленивый философ на светскую женщину, сверкающую обаянием.
– Эй, кобылка! – крикнул ему артиллерист второй батареи, усатый щеголь и весельчак из Самары. – Котелок потерял! Держи штаны шире – кашей угощу. Ишь, расслюнявился, сытый чорт!
Парень нехотя останавливается; он равнодушно перебирает лады и зевает огромной степной скукой: ему лень отвечать, лень дожидаться смерти. «Ужасы войны – это развлечение, – говорит его насмешливое спокойствие. – Ожидание неизбежного висит, как зной, скука и пыль, – это и есть ужас». Ему лень подтянуть штаны, прореха их расстегнута, а ему наплевать. Дни идут здесь невыносимо медленно, пехоте лень колотить вшей, все спят. Чем хуже и безнадежней, тем ленивее поднимается рука, тем слаще слушать ночную опасность, бродящую у заборов дулом лихой казачьей винтовки.
В войне побеждает тот, кто находит мужество проснуться вовремя, застегнуть брюки, вычистить сапоги. Армии разлагаются от праздности, тоски ожидания, от предсмертной спячки. Но этот зной! Он жужжит, как далекая станция, и наводит на воспоминания. Папаха и лента… Где-то его лихие крестьянские кудри? Потерять чувство страха, спать под пулями – значит погибнуть. Казаки рубили таких храбрецов полупрезрительно. Я думаю, что парень не избежал такой участи. Его вели к забору, щелкая затворами, а он зевал и почесывался, не произнося ни одного слова. Огромная голова его ткнулась в землю равнодушно, – в ней было порядочно крестьянского фатализма и солдатских вшей.
Я вижу, что Овидий с трудом переносит подобные дни. Он перестал бриться, несколько дней мы не получаем арбузов от его друга китайца Жан-Суа, сорочки Лирика больше не поражают свежестью. Даже Поджигатель сделал ему замечание: он по-прежнему печется о мальчике и заботится о его галстуках, как влюбленная жена. Это потешно. Пара довольно курьезна. Наш разрушитель имеет вид санкюлота, хотя бреется аккуратно через каждые два дня. Впрочем, есть еще одна странность: он обращается с книгами необыкновенно осторожно и не терпит пятен на страницах, загнутых углов и помятых обложек. Педантизм его в этом отношении неиссякаем. В бедной каморке, заваленной газетами, я видывал редкие экземпляры в прекрасных переплетах. «Золотой осел», Жан-Жак Руссо, несколько томиков Шекспира и стихи Верхарна – это что-нибудь да значит. Книжная полка – единственное богатство Поджигателя, и не какая-нибудь, а шведско-американская, из красного дерева. Двести пятьдесят рублей! Она стоит, как белая ворона, и блещет тиснеными корешками и чистыми стеклами. Это случайная покупка. Он написал брошюру о китайских событиях, он оправдывает полку успехами на Востоке и позволяет себе роскошь чуть продвинуться в область культурного стиля. Быть может, китайский пролетариат подтолкнет его на дальнейшее. Нельзя же спать, в самом деле, на какой-то геометрической загадке из железных ржавых прутьев, доставшихся ему с жилищным ордером из МК.
Но Овидий… Его поведение наводит на размышления. Вряд ли он сумел бы выдержать пехотную скуку обреченной станции. Он перестал ухаживать за собой в дни ужасного зноя и предпочитает валяться на кровати, с книгами из местной библиотеки. Он дошел до ерунды и читает роман весом в десять фунтов, какую-то безнадежную хронику с фотографиями влюбленного в себя и безвкусного автора. Это уже последнее, тут недалеко до парня с расстегнутой прорехой, – я боюсь, что Лирик ожидает от жизни только бенгальских огней и может дойти до ленивой храбрости.
– Боже мой! Как насобачились писать! – вздыхает он, ворочая пружины кровати. – Вы подумайте, я прочитал только сто страниц. Неужели не будет дождя? Я задыхаюсь в этом пекле, мне надоело все, и я не могу больше шляться по виноградникам!
Почему уехал художник? Он появился как сон, сестра его опахнула нас лесной прохладой, она прозвучала как влажный колокольчик… Ее зовут Люся, вы подумайте: Люся! Они поехали за вещами в Новороссийск и исчезли, как и все в жизни. Ах, – он страдал, словно от зубной боли и читал роман, забывая о деле, – ах, они не вернутся! Мы погибнем от скуки.
Он перестал ходить в «Виллу роз» и записывать изящные новеллы старого Веделя. Он не восхищался более вином и его тайнами. Зной перевернул все, шум жизни был неуловим, и ночи не приносили ему никакой прохлады.
11.
Директор вывесил приказ на дверях управления, категоричный и отрывистый, как манифест военного времени. Сбор винограда начнется через несколько дней. Всякие отпуска прекращены. Заведующий шампанским производством, профессор А. М. Фролов-Багреев, прибыл и вступил в исполнение своих служебных обязанностей. Секретарем управления совхоза назначается тов. Д.Петухов.
Это тонкая штука – создавать вино. Я вижу Директора повсюду. Он ругается с технической частью и шоферами; каменщиков нужно бросить на ремонт дорог, автомашины должны быть готовы для сбора; он собирается заменить подводы и рессорные линейки механической силой; он громит кооперацию за хвосты у лавки и столовой и пускает в ход словарь Даля, целиком, прибавляя к нему новые словообразования. Солнце поднимается рано, заседания идут непрерывно. Директор устраивает их на ходу, пробегая по каменным лестницам с горы на гору. Он хватает свои дела прямо за шиворот, свита еле поспевает за грубияном, высунув языки. На нем ночная сорочка, ворот ее расстегнут.
– А-а-а!.. – кричит он, увидев кооператоров. – Вот вы где, голубчики! – и он осаживает бег, громоздясь шестипудовым гневом и тяжестью степных мускулов. В карих глазах его полыхает украинская ночь. – Здравствуйте!.. – и он закладывает кулаки в бока, окидывая снисходительно приближающихся молодых людей молчаливой паузой. – Как пожи-ва-ете? Как выспались?.. Ну, вот что, друзья мои… Прекратить! – вдруг кричит он, наливаясь багровой краской. – Слышите? Прек-ра-тить! Я тебя, Бронштейн, за решетку посажу. Я тебя предупреждал бросить эту лавочку. Ты что, на Дирек-то-ра пошел? Бардак у меня под видом кооперации устраиваешь? Это кто тебе арбузы по руб-лю продавать позволил? Контрреволюцию среди рабочих разводить, а?! Разгоню всех! Камня на камне от вашего рундука не оставлю!.. Ч-что? Церабкооп установил? Да я вас всех…
Он ударяет по молодым людям волжской баржей, бросает их вниз, топчет своей волей и топит в истории.
– В последний раз! – дышит он тяжело. – Ты, Бронштейн, имей это в виду…
Свита раздумчиво и деликатно смотрит в сторону виноградников.
Директор еще бушует, но все медленнее, медленнее. Его гнев постепенно стихает.
– Смотрите, не подкачайте с питанием, – беседует уже с отдышкой Директор, – бросьте эту автономию. Кооперация – не для наживы. Продавать – пятнадцать копеек арбуз на круг. Никаких надбавок! Распоряжение Директора – и кончено.
Он зевает, смотрит вверх, поддергивает брюки. Картузик его глядит насмешливо. Мгновение – и он, и свита, и кооперация катятся по лестнице. Бронштейн хохочет и, разводя руками, жужжит на ухо Директору. Он тонок, как библейская лоза, туркестанская тюбетейка придает ему шутовской вид.
– Нет, вы подумайте, – говорит он, подделывая голос под жаргон, – что вы только говорите, Директор!.. Разве государство не может сделать верного дела? Ва! Это я гарантирую. Даю честное слово!
Директорский голос скатывается вниз. По лестнице медленно поднимается Эдуард Августович, величественно передыхая на площадках.
– Яшник! Ах, этот Яшник! – качает он головой, подсмеиваясь.
– Чудак! Вот чудак! Вы знаете, – он тяжело дышит, – они сходят с ума со своими планами… Да.
Мы закуриваем.
Планы… Ведель не научился их составлять за сорок пять лет. Он, очевидно, забыл свои записные книжки…
– Вы знаете, – говорит он, останавливаясь, – мне припоминается один год. Управляющий тоже составил планы: все было очень хорошо, мы приготовились к виноделию, процент сахаристости был достаточен. Хе-хе… – смеется он. – Подул ветер – и все планы остались на бумаге. Тольке один дождь и немного града… Когда идет брожение, мы привыкли смотреть на термометр: это очень важно. Нужно быть аккуратным, молодое вино легко простуживается: небольшой северный ветер – и надо закрывать двери. Подвал – это как инкубатор для цыплят. Можно погубить хорошее вино. Я боюсь, как бы не повторилась такая история… Но этот веселый Яшник! Ах, добродушный чудак!
Он качает головой и смеется от души, чуть горбясь и клонясь седой головой в кепке. Куда направлюсь я? Быть может, я отправлюсь с ним в подвал? Он с удовольствием покажет мне прессовое отделение… Подготовка к виноделию идет, но он сомневается в приказе Директора. Никто не может отвечать за небо, в этом районе солнце и дождь чрезвычайно капризны. Он говорит о знаменитом норд-осте.
– Он вовсе не так страшен, как вода, – говорит винодел, – это наш дезинфектор. Хе-хе, – подсмеивается он, – этот ветер устраивает славные штуки…
Знаю ли я, что он срывает со всех якорей морские пароходы и прекращает уличное движение в городе? Правда, здесь он несколько слабее, но осенью озеро штормует, как океан, и ему трудно сидеть в подвале, слушая мелкий дождь и грохот волн, плещущих за горами. Осенние дни темны, все спит глубоким сном, и ни один поэт не является сюда за грязью на сапогах и дождем на шляпе. Скучная пора! Но летом норд-ост радует винодела и хорошо служит доброму вину: без него грибок мильдью не оставил бы в покое дождевые виноградники. Он помнит хорошо тысяча девятьсот десятый год. Дожди шли, как из ведра, росы падали обильно, этот мильдью не давал никому покоя. Бордосская жидкость смывалась мгновенно, рабочие выбивались из сил, мильдью охватывал огромные площади, и в конце концов бедствие надвигалось, как грозовая туча.
– Хе-хе! Французские специалисты утверждали, что урожай погиб. Во Франции при таком заражении машут рукой. Но хорошо то, что хорошо кончается. Норд-ост в течение суток приостановил ядовитые полчища, мильдью исчез, вино десятого года было превосходным по тонкости и свежести вкуса… Я сделал отличное вино, – повторил Ведель. – Десятый год оказался счастливым… В моем деле мало писать бумаги в рабочком и выступать с докладами на собраниях. Нужно иметь хорошую память – подругу опыта и не забывать заглядывать в записную книжку…
Солнце, вода, ветер. Кругом зной, сиянье. Солнце – как бред тифозного…
12.
Ее зовут Светланой Алексеевной. Она приехала. Жизнь ворвалась, как ветер, в наши знойные стены, ее голос опахнул нас студеной погремушкой водяного колокольчика. Овидий был прав: в ее имени – сочный стебелек, белая ночная роса, запах месяца в сыром луге. Художник приехал с севера, она – его сестра, и они оба будут жить рядом с нами.
Они сидели здесь, говорили. Два желтых чемодана, складной мольберт, полированный ящик, рамы с холстами. Живописец в клетчатом костюме, галстук его сбит набок, волосы на ровный пробор, свисают чолкой ко лбу. Ему или семьдесят или тридцать лет: когда он смеется – он помятый беззубый дядюшка, двух зубов у него нет… На кого он похож? Быть может, на американца… Нет, брюки сидят у него мешком. Это – наш, русский живописец, имеющий сестру, при виде которой Поджигатель подобрал босые ноги и незаметно завернул их в одеяло.
В ней ничего исключительного. Разве мы не видели прекрасных женщин, Неунывающий Друг? И разве они созданы иначе, чем мы? Все очень просто в мире, и смешно волноваться, когда приезжает девушка, у которой лицо белее, чем у других, а когда она поднимается от чемодана, в подколенных ложбинках разглаживаются нежные синяки, подобные теням под утомленными глазами. В этом нет ничего удивительного: несколько вен, здоровый пульс. Пусть Овидий находит здесь млечное мерцание звезд, – мы с вами видели подобные тениссные туфли, платье с лукавой скромностью, волосы, щекочущие шею певучими прядями, и эту походку… Но Поджигатель спрятал красные ноги и проделал хитрый маневр с большой ловкостью. У него был достаточно растерянный вид.
Мы поговорили о разных вещах, о любезности Директора. Честное слово, Люся смотрела на нас с любопытством.
Живописец подмигивал нам с Овидием.
– Братцы мои, – разводил он руками, – ничего не понимаю! «Купаж», «ассамбляж», «дегоржаж»… Чорт его знает! Когда же будет выпиваж? Нельзя ли сегодня же приступить к дегустации?.. Молчи, молчи! – накинулся он на сестру. – Она хуже, чем жена, не дает дыхнуть… Мы выпьем по бутылочке, скромно. Нельзя же приступать к работе, не раскусив, чем она пахнет. А кроме того… ты знаешь, что такое дегустация? – он поднимал палец и щурился всем лицом. – Это тонкая штука! Это тебе не пьяный Аристарх. Аб-ра-у сто пять-де-сят че-ты-ре!.. Рюмка. Все стоят с карандашами. Тишина, бонтонность, торжественность… Буль, буль, буль. Льется. Что вы скажете, милсдарь? Как вы находите букет? Не отдает ли он пригорелой резиной? М-да-м, м-да-м, м-да-м… Никакой закуски! Одни сухари. Тут, братцы мои, чисто научная работа, культурность, полная световая гамма… Ас-самбляж, купаж, верниссаж! Ты, Люська, поживешь на Шампанеях и научишься понимать, что наливают в бутылки… Ках! – кашлянул вдруг Живописец. – Ках!
Он схватился за грудь, и беззубое добродушие его рта спрыгнуло в темную страдальческую гримасу, рука искала платок. Удушающие удары кашля поднимали и бросали ровную прядь волос.
– Беги, откашляйся, – живо откликнулась Люся. – Я тебе говорила! Видишь…
Живописец, согнувшись, кинулся за дверь. Там захрипело, забилось. Я никогда не слышал такого ужасного кашля, – казалось, что грудь человека разрывают предсмертные судороги.
Девушка сидела спокойно, ее щеки дымились розовыми пятнами, она смотрела на золотые ручные часики.
– Две минуты, – сказала она, внимательно трогая левой рукой гладкие волосы у лба. – Он кашляет три.
– Это ужасно! – с неподдельной тревогой произнес Овидий. – Быть может, позвать доктора?
Она не ответила. Ресницы ее покоились на часах. Она смотрела вниз, как женщина, кормящая ребенка. Грудь ее поднималась простотой жизни.
– В самом деле, – сказал я, – быть может…
Но я вовсе не хотел сказать этого.
Живописец кашлял третью минуту, грудь его плакала. Поджигатель забыл о красных ногах, он скинул их на пол, штрипки его галифе висели грязными прачечными тесемками. «Ага! – думал торжествующе я. – Поколение понимает друг друга. Фронты, голодовки, разбитые вагоны – вы говорите одним языком, вы нас сбиваете вместе. Мы не можем спокойно смотреть на часы, когда кашляют сгоревшие годы и говорят нам одни и те же слова. Здесь мы одни, нечего думать о кустарниках юности. Недаром Поджигатель бледнеет и протирает очки, а Овидий говорит о докторе. Когда выбирают одного из дружного стада, все остальные слышат каждый стук обреченного сердца…»
– Могила! – бормотал Живописец, показываясь из дверей и вытирая рот. – Двести граммов мокроты ежедневно.
Он поднял чемодан. Люся смотрела на него и улыбалась. «Пустяки! – говорили ее глаза. – Поправишься. Поменьше пей и слушайся свою милую сестру. Тебе вырезали девять ребер – и это в конце концов сущие пустяки…»
– Ну, братцы, покедова… Люська! Забирай мольберт.
Живописец отправился в свой уголок Осоавиахима, крикнув на прощание о дегустации.
Мы помогли девушке отнести мольберт и холсты. Поджигатель вспомнил о своих ногах в последний момент.
– Простите! – произнес он угрюмо. – Я не успел надеть ботинки.
– Не верьте ему! – закричал Овидий. – Дома он всегда ходит босиком.
– Ну, и что же?
– Не слушайте, не слушайте! – к моему удивлению вдруг солгал Поджигатель и начал городить какую-то ерунду о сандалиях… Какие сандалии? Мы первый раз слышим. Девушки все насмешницы, – я уверен, что она все увидела, и совершенно напрасно Поджигатель отодвигал под кровать запотевшие, в зеленую клетку, портянки, служившие ему носками. Но она добра. Два карих золотых ободка вокруг темных зрачков искрятся, лицо ее серьезно.
– Какие пустяки! Вот еще! – сказала она. – Я не придаю этому никакого значения. Мы ведь будем друзьями, не правда ли?
Они ушли. Вечером четвертая кровать оказалась занятой: с нами будет жить вместе товарищ Петухов, винный секретарь, который сразу же получил наименование Винсека. Узел стягивается все крепче, мы знакомимся все с новыми и новыми людьми, каждый из них достоин стать украшением памяти, каждый вечер прибавляет новые темы для славных бесед. Зной оснастил энергию Директора, остались последние дни перед сладкой ослепительной жатвой. А в нашу дверь по утрам стучится легкая прохлада руки с золотыми часиками, и кашель Живописца покрывает голос, которому удивляются сами нетерпеливые губы.
– Можно?
Она влетает восемнадцатью столетьями нашей эры и признается в полном невежестве перед ораторами коммуны. Но она соглашается почти со всеми и спорит только с одним Овидием, вспыхнувшим в этих днях снежными сорочками, синими галстуками и носками, легкими, как паутина. Да, мы бреемся с самого утра. Поджигатель по вечерам произносит речи. Художник сидит с бутылкой вина и пережевывает его глотками, подражая Веделю. Он успел подружиться с Бекельманом. После обеда они вместе хрипят и кашляют, отпуская непристойные шуточки. Наступила веселая жизнь. Планета вращается бешено. Времена перепутались. Мы живем снова в старой теплушке и, раскачиваясь, трясемся на фронт. Вспоминаются славные дни. Достаточно сказать, что Овидий перестал говорить о стихах и повторять свои излюбленные строфы из Тютчева. Это – чудесный признак: стихи не скроются никуда и пригодятся в замедленные минуты. Сейчас же грохочет жар, термометр поднимается за сорок, – разве плохо, когда в подобные дни люди проявляют активность и чувствуют себя превосходно в коммуне, учрежденной в угловой комнате управления совхоза «Абрау-Дюрсо»?
Шире дорогу! Пусть шумят эти благословенные вечера. Звезды выпали, как млечный снег, сверчки начинают работу. Скоро будет вино. Все по кроватям – пять друзей: цвет и надежда своего поколения. Электрификация – путь к коммунизму, зажигайте лампочку. Окна открыты настежь. Садовники ложатся спать, молодежь веселится под музыку, звуки оркестра плачут в горах, знавших щиты Эллады. Пусть грянут речи, пусть начнет Овидий импровизацию ради двух невнимательных глаз, пусть говорит поколение, прожившее молодость в тифозном бреду. Скорей, Поджигатель! На сцену, Вин-сек!
Она слушает внимательно и говорит всем, кроме Овидия, свое: да, – ее голос звучит, как дерево темновишневой скрипки.
13.
Планета обвешана виноградом, она готовится скинуть старую шкуру и размять полные бока, увенчанные созревшими листьями. Идет новолуние. Бондари стучат молотками и купают мозолистые руки в дубовых стружках, кружащихся в запахе старинной мебели. Есть отчего горланить Бекельману и по вечерам пить бургундское, ценою рубль сорок копеек за литр. Таких мастеров поискать, – за ними придется съездить в Германию. Кооперация открыла новый ларек, куда по утрам в деревянных чанках привозят первый виноград, распределяемый по классовому признаку.
Хозяйки ругаются в очереди, как разъяренные усатые тигрицы. Идет настоящий бой. Спекулянты пользуются случаем: в городе самый плохой виноград продают по полтора рубля. Пятнадцать копеек кило! – объявил Директор. Это – себестоимость. За штампованный кружок серебра вы получаете груду синего рая, прорывающего веселый колпак измятой газеты. Виноград привозят с каменных гор. Рессорные линейки провожает солнце. Кисти запыленного синего мрамора прыгают на ухабах тяжестью изобилия. Есть от чего кружиться длинным полосатым осам и клейко жужжать под прилавками. Пятнадцать копеек кило! Солнце мечет в чаны синюю тяжелую икру, продавцы еле успевают отвешивать ее, заваливая медные весы туго набитыми знойными связками. Есть для чего приезжать сюда рыночным гиенам, живущим на пустырях старого мира.
Усатые тигрицы из семейных кухонь сторожат их злобным рычанием. Над виноградом стоит неистовый гвалт, люди толкутся, как рой, шея Директора появляется среди этих страстей и командует направо и налево: он раскидывает свирепую толпу и пробивает локтями дорогу к здравому смыслу.
– Ай, бабы! – кричит он. – Беда мне с вашими юбками… Батюшки! – он зажимает уши и машет рукой. – Прекратить! Немедленно прекратить! Где кооперация?
Тюбетейка Бронштейна возникает шпилем громоотвода, карие ночи директорских глаз ударяют молнией. Начинается потеха. Директор бьет несокращенным Далем и освежает обстановку громовыми раскатами… Тигрицы жмурятся. Директор ворошит их полосатые спины и оглаживает их шерсть широкими мужскими шутками. Они хохочут – и превращаются в задорных, видалых женщин.
– Беда! – качает головой Директор. – Вот и попробуй с ними социализм проводить… Бронштейн, я предупреждаю тебя второй раз…
Простое дело! Это – только продажа раннего сорта португе, плохого для вина и скинутого со счета урожая костяшками бухгалтерии. Не лучше ли нам отправиться к Придачину и потолковать о более важных вещах? Сегодня зной прыгнул вверх, солнце, как манометр, подрагивает черной стрелкой. Илья Павлович сидит на обрубке и дожидается счастливых мыслей. Он не всегда оглашает их, но это и понятно: не всякому стоит раздавать собственные приобретения. Он прав и доволен своей правотой – это и есть подлинное счастье. Когда я вспоминаю те безмятежные дни, я спрашиваю себя: кто самый счастливый на земле, пущенной лететь в ледовитых пространствах пестрым волчком? Если сейчас ночь, он спит в казарме на деревянной койке, покрытой соломенным матрацем; единственный глаз его закрыт, нос важно перевалился набок. Он самый счастливый на планете: этой койки он не имел тридцать с лишним лет.
Если сейчас день, он, конечно, сидит в кочегарке и поглядывает на котлы, раздумчиво заворачивая папироску. Он смотрит важным хозяином: котлы, как ленивые быки, медленно пережевывают дрова, он щурится и говорит с ними, переносясь в прошлое.
– Васьк! Васьк! – бормочет он, похлопывая асбестовые трубы. – Ишь ты, сытый! Хо-хо! – Он поворачивает кран… Ш-ш-ш-жить!.. – брыкается пар. – Баловать! – гаркает кочегар, довольно улыбаясь и закидывая рукоять. – Ишь, старый чорт! Разлежались тут у меня! – и он возвращается на свое место посматривать, как перед его носом моет бочки седочубый Кулик, сморкающийся в фартук, прямо из времен Запорожской Сечи…
Сейчас день. Один котел мертв: «Маруська» спит, завернувшись в пепел. В кочегарке топка оптимизма: дух Придачина с гудком облетает горы, солнце прибавляет тени у столбов дороги. Ровно в час мы ожидаем Люсю в купальне на озере. Вода сверкает нестерпимым тяжелым блеском и перебирает расплавленное олово легкого ветерка. Зной мертв.
…Она пришла с глазами, разогретыми солнцем. На ней нет ничего кроме платья и купального костюма – этот легкий шаг и простая откровенность. Ничего замечательного. Эти белые руки и шея, грудь, приподнятая удивлением: неужели это я? – этот изгиб, уже чуть ленивые бедра, походка, струящая шершавую нежность девочки в быстром весельи колен вниз, к выпуклой длинной стройности, обутой в желтые ремешки.
Ничего исключительного. Она пришла и сказала всем телом, что это – она. В этой девчонке не было ничего особенного. Просто она, смеясь сдернула белое платье, откинула сплетенные из полосок кожи туфли и стояла, как белая песня…
Но почему безмолвствует коммуна? Почему до сих пор нет Поджигателя. Даже Овидий неловко молчит и смотрит в зеленую воду, куря папиросу.
– Ну! – крикнула она. – Чего же? Долго вас прикажете ждать?
Купальня сквозила девичьим телом, бревна и доски мутно шевелили тенистую прохладу, солнце лазило по лесенкам вышки, поскрипывая досками.
Овидий начал раздеваться первым.
– У нас происшествие, – сказал он Люсе, стаскивая сорочку: – сегодня пропали портянки Поджигателя, то есть, я хотел сказать… носки. Прекрасные носки в зеленую клетку! Была целая история.
– Неужели? – обернулась тревожно Люся. – Господи, вот бедный! Ведь он совсем не заботится о себе.
– Да, – продолжал Овидий, – это совершенно верно. Но дело в том, что ему подложили две крахмальные салфетки. Настоящие столовые салфетки. Мы никак не могли догадаться, в чем дело.
– Ну, и что же? – оживилась она. – Он остался доволен?
– Не совсем. Он пришел в ярость. Мы хохотали до упаду.
– Бедный, бедный!
– Ничего, – успокоил ее Овидий, складывая свои пожитки, по армейской привычке, в узелок. – Он пустил в ход эти салфетки. Конечно, они не заменят ему тех, но он проносит их до социализма, честное слово!.. Ну, я готов.
Он прыгнул и выпрямился в голубых трусах, загар сыпался с его перевязанных плитками мускулов коричневой пылью. Да, наша молодость еще не прошла! Над коленом его – серая стянутая яма от пулеметной пули. Жаль только, что мальчик слишком живет собой. Он был добровольцем, юность его перегоняет воспоминания, но он все равно не уйдет от нашего брата. Да и девушка ни разу не посмотрела на его мужество… Поджигатель в салфетках! Она смеялась. О, вероломный друг, ты не пощадил нашего учителя ради красного словца! Надо же было развеять застенчивость поколения, не раз раздеваемого санитарками в окровавленных приемных походных госпиталей… Дорогой учитель, вы не придете сюда, вы не рискнете купаться перед девушкой и разворачивать перед ней узловатые ноги, завернутые в прекрасное столовое белье. Вы еле плаваете, ревматизм отравляет вам жизнь, вчера вы жаловались опять на старые боли… Что же, тут ничего не поделаешь, нас хватит на другие радости… Ого! Овидий хочет прыгать с вышки, он кричит: «Люся! Люся!» – а она и не думает смотреть. Рубашку в брюки, ботинки вниз, трусики мои благополучны, сейчас и я присоединяюсь к другим. Так… Так…
Вода взорвалась. Овидий пролетел сверху, как снаряд из гаубицы. P-раз! Девушка прыгнула в сторону и мелькнула оперенной античной стрелой, только ее и видели. Она поплыла, лицо ее превратилось в рожицу. Ха-ха! Овидию достанется торжество пустого места. Он вынырнул, закипев водой, и закричал… Ее нет, ее нет, любуйтесь на нас, дорогой Овидий!
Девушка лежала на спине вдали, ее мало заинтересовала акробатика Первой конной, она плыла, расплескивая жидкое солнце, и наслаждалась своим гладким телом.
– Очень хорошо! – сказал я Овидию, скользкому и обтекающему как угорь. – Это класс. Вы сделали прекрасный прыжок. Ха-ха! Жалко, что здесь нет московских дам.
Лирик оставил меня без ответа. Ни слова не говоря, он полез на вышку. Он собирается прыгать еще.
– Вот чорт! По-нимаешь, – подмигивал мне Винсек, снимая колючие милицейские сукна, – боевой. Нам такие шкеты попадались. – Он цыкнул слюной и полез к сапогам. – По-нимаешь…
Он качал головой, сросшиеся брови его топорщились, как всегда, пренебрежительно, веснушки презрительно лезли на лоб. Я с любопытством разглядывал это раздевание. Товарищ Петухов православно пыхтел над голенищами, он выходил из-под своих галифе и гимнастерок белым банщиком. Как он не испечется при такой нагрузке? На нем, помимо всего, грубое белье с желтыми костяными пуговицами, толстые носки. Он хозяйственно стаскивал эти принадлежности и восстал наконец потным исподним чудом, бледным, как мужицкая поясница. Красные свалявшиеся пучки шерсти торчали из-под его подмышек. Я никогда не видел такого обилия веснушек: спина и грудь его кишели рыжими созвездиями. Ах, Винсек! В его оттопыренной кривой губе проглядывали шаги уездных канцелярий, мужичьих революций… Он смял папироску, как писарской картуз, седлом, и цыкал сквозь зубы с удивительным искусством.
Вода шлепнулась и ударила фонтаном: Овидий пролетел опять.
– Другая баба, как змея, – продолжал Винсек, задирая бровь выше другой, – по-нимаешь? – Он держал руку козырьком, папироской вниз, нога на ногу, цыкая и наклоняясь вбок. – Одна все ходила ко мне в угрозыск… Придет – шляпа, сумочка, одеколон. «Я вас люблю, я вас люблю!» Товарищ у ней туфли спрятал. Потеха! Я их всех глубоко презираю… Придем – так покажу карточку. Такая гадюка была!
Он бросил папироску и, сплюнув, растоптал ее пяткой.
– Не-навижу! – сказал вдруг он резко. – Кто меня жалеет? Мы с товарищем ее в номере заперли, а платье в окошко выкинули… А ее после ко мне и привезли. Они – все хамки. «Данечка, Данечка!..» Поиздевались мы над ней с товарищем… Гляди, Овидька опять лезет. Чу-дак! Вот дурной! Так все нервы расшибить можно.
Он с любопытством поглядел вверх. Овидий упал метеором, перевернувшись два раза в воздухе. Это был полет птицы, сломившей безумные крылья. Девушка выходила на берег и поправляла волосы, повернувшись спиной к озеру. Мальчик вынырнул и поплыл к ней, ровно выгребая плавниками, косыми и быстрыми, как у акулы.
– А чего на них смотреть! – продолжал Винсек, раздирая глазки с пятнами йода, распущенного в сером, грязном холодке. – «Данечка!» Она, хамка, все переносила… Пришлет письмо, а мы с товарищем самую грязную ругань напишем и обратно ей в конверт запечатаем. Понимаешь?.. Опять приходит, приносит всякую закуску. «Не могу забыть», – говорит. И платочек из сумочки. Ребеночка от меня хотела. «Папа… мама…» Подумаешь! Ненавижу все это я! «Папочка!» Да я своего батьку сапогами бы затоптал за то, что он, стервец, на мне удовольствие получил… Она меня за это и жалела. Понимаешь? А товарищ – дурак, взял да на ней и женился… Застрелить бы их вместе! А еще, хамка, письма мне присылает. В номер, где мы ее голяшкой держали, плакать ездила. Вот змей!
– Да, – пробормотал я изумленно, – действительно…
Винсек поднялся, сложил руки по швам и, гаркнув, упал в воду, раскорячившись в воздухе солдатским орлом. Так прыгают в воду в стране оводных сенокосов и пойм, прикрывшись ручкой пониже живота и торопливо перемахиваясь мелким крестиком в развалке бега, мелькнувшего с примятой травы телесной испариной.
– С головкой! – загоготал первозданно Винсек, выныривая поемной Россией, со лбом, залепленным конскими волосами. – И-го-го!.. – он ухал, пускал пузыри и плыл зажмурясь, по-собачьи поднимая голову.
Мы уходили в водяные потемки, пахло травой, солнце поднималось со дна и бурлило, как зельтерская вода, – мы вылетали вверх, и зной был холоднее парной ласкающей глубины.
Солнце купания. Овидий пригрелся с девушкой и вытянулся на камнях золотистой ящерицей. Кругом опрокинулись в самое дно горы и холмы, тополя у берега стоят рядом восклицаний, черепица построек и камни стен обычны и сухи, как выгоревший в витрине газетный лист. Ни капли свежести. Никакого волнения. Виноградные участки мертвы, вода сверкает весенним осколком, вспыхнувшим в груде пыльного мусора, она режет день, как стекольщик стеклянные листы алмазом. Нет, это не заокский жар сенокоса – с лазурью стрекоз и с бураком в кустах, пахнущим теплыми, мокрыми кувшинками. И Винсек – совсем не косец, несмотря на низкую бледную поясницу… В озере раковины, рыбы и паукообразные твари, кипящие в глубине геологических катастроф; в нем – серный мрак сошедших морей, камни с отпечатками Каспия, закаменевшие хребты и ребра из вод Малой Азии. Так рассказывал Ведель. Тут плавают сардины, а пресная вода лишь старость прошедшего, лишь усердие родников и дождей.
Мы купались в ванне, обмывшей детство каменной древности. Эту водицу попивают медведи, помнящие первое сотворение, от их шкуры тянет пещерой, морды их нюхают старые, доюрские камни… Овидий и его друг Жан-Суа сторожат по ночам их бурые бока. Говорят, что берданка китайца бьет очень верно пулей, это очень приятно слышать: я уважаю бьющее точно оружие… Овидий, Винсек, Поджигатель, веселый художник! Я скромно присоединяю себя к этой компании. Мы тоже жили в пещерах своего времени, – пожалуй, мы тоже в некотором роде медведи первичной эпохи, и мы помним второе сотворение, разлившееся гибелью, – оттуда вышли не все, уверяю вас, далеко не все: произошла хорошая чистка, и не раз выпускали голубей за масличной веткой. Но где ваш партбилет, дорогой Овидий? Где ваши партизаны, уголовный розыск и женщина-змей, товарищ Винсек? Почему Живописец не заботится о разобранных ребрах и плохо знает свою сестру, попивая вино в компании с Бекельманом? Художник малевал десяток лет, плакаты его били не хуже берданок, – при чем тут вино, созидаемое для украшения мысли? У них заплетаются языки, они бурчат непристойные шутки, расхваливают собственные таланты и ругают секретарей, проводящих кампании. Это – совсем не по душе Поджигателю, напрасно они не щадят его внимания и участия, это совсем не по его душе…
– Гейдельбергская бочка! – орет Бекельман. – Мастера придется искать в Германии.
– Ренуар, Манэ! – хрипит Живописец. – Это не Бродский, подлизывающий фотографию… Я бросил плакаты. Я хочу красок. Довольно этих разговоров и болтунов, не умеющих поставить линии! Их не повезут в Париж на верниссаж революции. Пей, Бекельман! Мы положим их всех на обе лопатки!
Они пьют и поют, они успокаивают себя криками. А сестра смотрит на часы, когда Живописец харкает восемнадцатым годом и забывает плакаты. В чем дело, зачем так пить, Живописец? Разве дело в обидах? Ваши девять ребер? Это не так плохо, дело касается одной московской улицы. Трах! Трах!.. – лопалась она от выстрелов, снег бежал за черными людьми, и вы проходили в пальто с мехом котика, решившим все дело. Дело все в котике, уверяю вас. Трах-та-ра-рах! Вы кинулись бежать, вы прыгали через сугробы, возвращаясь ночью, нарисовав четыре плаката, – вы прыгали через свое творчество, а оно дернуло вас по плечу и рвануло к земле… Ваш плакат крикнул вам: «Стой!» Он дохнул снегом и ночью. Пара глаз, черных, как смола, приклад и плечо с дымным сукном, три слова: «Падай, замри, гад!» Вы упали – и это очень хорошо. Солдат бил через вас, вы лежали, как мешок, на бруствере и защищали всем телом стрелка революции. Двадцать минут… Двадцать пять… Винтовка дергалась по вашему туловищу, и жестянки обойм лезли в лицо, огневые хлысты невидимо щелкали снег, пули вскакивали и лопались по тротуарам, клочья белого дыма вихрились, перебегая сугробы. Tax! Tax! Tax!.. Улица бежала вперед, солдат ткнул вас прикладом и стрелял прямо с колена. Тени метались вдоль стен, они поднимались, согнувшись, и снова падали. «Катись, гад!» – крикнул вам солдат и с криком «ур-р-ра» вдруг бросился вперед, дергая на ходу затвор. И все тени, как кошки, кинулись с ним на перебежавшую мрак огненную трескотню. Трах-та-та-трах! Живой плакат, рисованный вами, стоил девяти ребер, вырванных гнойным плевритом, но все дело в котике… Это случайность. Но это стоит всех лучших картин, всех Ренуаров, ибо ваша артистическая кисть увидела живую Музу. Она встала из ночи огнем вдохновения. Вы послужили ей с пользой, смею вас уверить. Поджигатель полюбил вас именно за этот рассказ…
Но поколение – что я могу сказать о его судьбах? Оно купается в озере, Живописец попивает вино, лишь один Поджигатель командует с Директором. Овидий лежит с девушкой и рассказывает ей о медведях. Жалко, что он не может сказать ей несколько слов… Не думает ли он, что каждая эпоха имеет своих пещерных праотцев?
Солнце купания высоко стояло над нашими головами. Когда мы возвращались домой, девушка много смеялась и рассказывала о себе. Она проста и обыкновенна и совершенно не интересуется прошлым. У тополей мы встретили бондаря с лесом длинных тростниковых удилищ. Он захрипел и, закивав головой, кинулся обнимать Овидия.
– Двадцать пять рублей! – хохотал он. – Скажи художнику, что я не пожалею и тридцати. Зачем мне деньги? Пусть нарисует Бекельмана у маленького лиманчика… Пойдем, пойдем! – тащил он Овидия. – Будем сидеть и ловить рыбу, вот таких вот… Хо-хо! У меня есть кое-что в корзинке.
– Нет, – сказал Овидий, – я иду сегодня ночью на Магеллатов участок к Жан-Суа. Это необходимо для моей работы.
– Идите, идите! – сказала ему Люся. – А то вы много бездельничаете. А мы сегодня вечером соберемся вместе.
– И пойду! – сухо произнес Лирик.
14.
Шире дорогу! Пусть шумит благословенный вечер коммуны. Одного нет: он ушел караулить ночь. Четверо собираются в комнату окна раскрыты настежь. Девушка сидит на кровати Овидия и внимательно слушает. Сумерки прильнули к деревьям, – такая тишина, что слышно, как звезды, просыпаясь, протирают глаза. Послезавтра начнется резка шампанского винограда, земля обалдела от духоты, вечер задохнулся и лежит без сознания. Сегодня – пятнадцатый вечер коммуны под председательством Поджигателя. Идет разговор, Живописец рассказывает анекдоты.
На часах у девушки стрелки подвинулись за римскую цифру десять. Практиканты репетируют спектакль. Один из них забежал к нам и спросил Овидия. Это Сергиевский. Они дружат и всегда шушукаются в столовой. У студента стриженая голова – умный ежик, неутомимость, размахивающая руками.
– Идет гроза! – закричал он нам. – Барометр упал к буре. Директор рвет на себе волосы.
– Ничего подобного, – встревожился Поджигатель. – В четыре часа мы получили справку со станции…
Он бросился к окну и лег на подоконник. Белые уши салфеток торчали из-под его обмоток.
– А вот увидите! Ну, бывайте…
Студент побежал вниз, двери хлопали за ним точно в огромных пустых залах. Слышно было, как в телефонной, рассыпаясь, дребезжат звонки.
Поджигатель лежал навзничь, его черные сухие волосы потрескивали от напряжения. Трюк… трюк… трюк… – удалялись и приближались сверчки. Одинокий выстрел и собачий вой, распадаясь шумными безднами, покатились и скрылись вдали. Не Овидий ли приветствует коммуну? Я слышу часики Люси: они карабкаются лапками по лесному растению и шелестят – улюсь, улюсь, улюсь…
– Ч-чорт! По-нимаешь? – грубо прыскает Винсек, равнодушно задравший липкие сапоги на железо кровати. – Вот пума! Ты бы очки снял, а то не увидишь. Гроза, подумаешь!
Он повернулся на бок и предпочитает дрыхнуть. Поджигатель оглянулся и снял очки.
– В самом деле, – сказал он недоуменно, – очки всегда мешали мне в жизни.
Он грустно смотрел на меня с девушкой. Я тихонько гладил ее руку. Разве есть что-либо предосудительное в этом? Улюсь, улюсь… – шелестели золотые часики. Наш учитель имеет без очков грустные, одинокие глаза. Нет, ничего не слышно в мертвой неподвижности деревьев.
– Паникерство! – добродушно косился на нас Поджигатель. – У студентов слишком велика биологическая зарядка. Они балдеют от двадцати лет…
Он бормотал что-то под нос и уселся за стол рядом с Живописцем. Тот недоволен вечером: с какой стати терять время всухую?
– Чорт с ней, с этой биологией! – говорит он. – Признаться, я мало смыслю в теориях.
– Очень напрасно.
– Может быть. Но это скучно.
– Слышите! – обращается ко мне Поджигатель. – Они заодно с Овидием. Ну, продолжайте…
– Валяй, валяй! – подкрикивает Винсек, не поворачивая спины. – Мы люди необразованные.
– Совершенно правильно. Я посылаю все эти «биологии» к матери в штаны!
– Замечательно!
– Вот вам и замечательно! Мы создаем ценности и не горланим на собраниях. Называйте это «биологизмом», чорт с вами! Без нас вы одуреете со скуки.
– Старо, старо! Вы отстаете по крайней мере на сто лет.
– Ого-го! Пусть так. А кто будет делать вам вино – Яшников или Ведель? Пусть найдут мне Бекельмана: за ним придется скатать в Германию. Что, скажете, он плохой мастер? Или его заменят секретари в ремнях, надутые, как лягушки? Ваши кадры живут на всем готовом, задрали носы и не хотят мыть бочки, подметать полы и учиться владеть, как следует, шваброй! Слава богу, нам порассказали об этих бездельниках… Мы учились иначе, среди нас не было Шибаленкова, мы не произносили речи, а растирали краски… Спросите-ка, знают ли, как делать вино, молодые люди в ремнях, рассуждающие о всяких «измах»?
– Ничего! Мы примемся за них как следует.
– Мы слышим это двенадцать лет. Сплошные «измы», топтание на месте…
– Как? Что вы сказали? Ну, уж это позвольте!..
Поджигатель вскочил, слова его резали, как бритва.
– Самокритики! – распорол он лезвием дряблое сукно голоса художника. – Требую самокритики! Коммуна загнивает и теряет классовое чутье… Кто будет делать вино – спрашиваете вы? Мы топчемся на месте и разводим бездельников? Бекельманы – соль земли?
Он рассек вопрос опытным взмахом и распластывал ткани с ловкостью хирурга. Он говорил о таланте и точности мысли, он бил Живописца, как фронтовой комиссар, всаживая фразы без промаха одна в другую, не боясь окровавить смысла, он поднимал над коммуной знамя, изодранное в сражениях.
– Стойте! Стойте! – крикнул я ему. – Это, кажется, ветер, это – начало грозы. Стойте!
Шелест темной ночи летел уже в окна, небо вздрагивало от лиловых зарниц. Улюсь, улюсь… – пело на руке у девушки.
– Нет! – ударил, как ветер, Поджигатель. – Пощады нет, – отвечает коммуна. Слово имел талант, слово получают массы. Что говорить о грозе? Она сопутствует мысли, но она развевает волосы богине анархии. Она поднимается с вод, лежащих в печальном рабстве, она возникает с болот и несется безумьем, объятая пламенем. Ниже, трава! Падайте ниц, деревья! Окна на ставни, скорее замки на запоры, и лампадки к иконам! Пусть грохочут проклятья и в гримасах молний разбегаются темные призраки. Бешеный мрак настигает планету, тяжелеют цикады, места и отчизны будут не узнаны. Сейчас заревет дождь, хлопанье грома смешается с ливнем, сонмы ничтожных капель хлынут восторгом освобожденья… Слышите? Это подобно взрывам истории!
Чугунный удар грома прянул на крышу, небо мигало и подпрыгивало в пляске, удар дребезжа скатился, продавливая железные листы. Деревья и кусты бежали в ужасе…
Стихло.
– Валяй! Валяй! – заворчал Винсек спросонья, почесывая бок.
– Вы, говорите – талант? Вы хотите цвести, как куст после грозы, вы хотите быть сами собой и отделаться от истории легкой свежестью? Краски, говорите вы?.. Вот слышите! Это – гроза. Это – история, собравшая тучи, она шумит, как вулкан. Сейчас она пронесется над миром и грянет орудиями… Но это еще биология, говорю я… простите за образ. Да, да, к чорту таланты, если они отделываются красками. К чорту биологию, если она говорит, как стихия! К чорту грозу, если ее не принять в провода и канавы и не подтянуть ей горло железною гайкой! К чорту мысли, если они сверкают, как молнии, и сжигают людей, чтобы они светили наряднее! Космы анархии – в крепкий кулак. Все в оборот, все на строительство, все на восстание! Вино, картины, любовь… Мы отошлем их в Европу.
Пусть они поднимают там кровь пресыщенным, пусть изысканный вкус призывает их к праздности, краски дурманят сытостью, нежность обрубает крылья смельчакам. Пусть те, кто командует в жизни, больше думают о себе, чем о будущем. Да здравствует среднее, говорю я, среднее, голодное по великому! Прекрасное среднее, составленное из миллионов. Это – великолепная машина с тормозами для спуска из бездны отчаянья. Да здравствует экспорт! Я предлагаю вывоз инстинктов. Пусть завывает джазбанд под лощеным цилиндром. Нельзя ли вывезти любовь в упаковке, с лентой из белого шелка: «Made in U.S.S.R.»? Пусть там вздыхают, пусть плачут, пусть чокаются на свадьбах. Больше шелка и кружев, больше нарядов! – это вспыхивает, как порох. В могилу тех – кто не слышит железных шагов истории!.. В могилу, в огонь, – история идет с циркулем и счетной линейкой!
– К стенке! – захохотал Винсек. – Чудак! Кто же будет делать детей? Мы все передохнем через пятнадцать лет.
Вольтова дуга, шипя и дрожа, сомкнулась между небом и черными углями гор. Фиолетовый дым клубил мутные желтые тучи, молнии, потрескивая, слетали с их гребешков, рев водопада шел прямо на нас, и парк бежал, как прибой, накатывая пену листьев и расплескиваясь зелеными холмами.
– Деревня! – крикнул ему Поджигатель. – Мелкая буржуазия! Да, да. До тех пор, пока мы не превратим грозу в лабораторию и не заставим инстинкты накаливать лампы смысла. В армиях нет жен и женщин…
– Чушь! – заорал Живописец. – «Измы», голые «измы». Радикализмы, анархизмы, онанизмы!
Окна вспыхнули, волосы Поджигателя встали дыбом – и с вихрем, выбросив звон стекол, мигнув ослепительным озером, кипевшим в беспамятстве, подбросив горы в тысячной доле светового сознания, тысячепудовый удар вколотил в землю огненный выстрел, с треском разломив эхо ущелий и размешивая рев водяной стены мерными громовыми вспышками…
– Социализм, – разносило голос Поджигателя, – есть организованное на вечный радостный бунт человечество. Движение, без идеала покоя… Бесконечное совершенствование форм! Смерть голодной стерве – анархии!
Поджигателя смыло торжествующим ревом. Живописец кричал – слов его нельзя было разобрать. Часики смолкли. В доме хлопали двери, телефонный звонок на миг ворвался в тяжелый потоп – и… все пропало в мерной громаде шума, кипящего водяной канонадой и хлынувшего сквозь мировую плотину, сорванную бурей.
Вода падала, забивая деревья, кизильи ветки прыгали, стреляя черными ягодами; мгновенно мутная ночь покатилась с гор, гоняясь с камнями, переливаясь через канавы и стены; она лилась, грохоча, потоками, ветер качал дождевые стены, и озеро, мутно шипя, непроглядно бросало волны, сталкиваясь с ливнем, – и полночь до самых краев переполнялась пучиной…
Мало кто спал в эту ужасную ночь. Ровно в час сила ветра достигла десяти баллов. Море катало пудовые камни, шум его слышали виноградники. Оно плескалось до самых туч, таща верстовые сети прибоя, набитые галькой, вываливая их на берег, студено шлепаясь о скалы и грозно, неотвратимо утаскивая грохот, обвалы, буханье обратно во мрак. Оно то исчезало в косматом гуле, то полыхало магнием, разверзаясь на миг в отвратительном желтом дыме, искаженном бессмысленной судорогой, где волны швырялись неистовством слепого фанатизма.
Шквал виноградников бешено несся вниз, смывая драгоценные почвы. Проволоки были надуты, как паруса, широкие листья липли к тяжелым кистям, прикрывая их нежное тело, участки, знавшие мудрость столетий, боролись за свою жизнь.
В половине второго все близкое государству стояло у окон. Молнии били не переставая, ночь, как летучая мышь, металась в небе, покрытом ворчаньем потоков, громовые тучи перестреливались в упор. Коммуна сосредоточенно следила за боем. Один Винсек спал на кровати, бормоча свои мрачные сны.
– Вот, – сказал Живописец, – это талант! Это достойно Матисса.
– Ужасная сила! – поправил его Поджигатель. – Вот так мы возьмем Капитолий, горящий Капитолий старого мира. Но сколько это будет стоить Яшникову!
– Валяй, валяй! – хрипел Петухов, ворочаясь на кровати.
И только одна девушка блестела глазами. Она молчала, прижимаясь к моему плечу.
Через минуту гроза перешла в рукопашную. Металлический гул прошел по холмам пулеметной очередью, за ним еще, еще – и ледовитый оглушающий треск, захватив верстовую полосу, стал выбивать листья и жо-луди, раскидывать кизил, колотить крыши и окна и молниеносно, хрустя и попрыгивая, молотить участки, сдававшиеся без боя. Шестьдесят четыре тысячи пудов, надежда тридцатого года, расстреливались на месте. Град повис безнадежной седой гибелью. Вино гибло. Мало кто спал в эту ужасную ночь…
На квартире у Директора нет лишней обстановки. Ему легко двигаться и легко жить. У него спокойная, ровная жена, вдумчивая полная дама, – кажется, акушерка по профессии. У нее легкие белые платья с вышивкой, – такие носили в губернских городах, – они словно из кисеи, которую вешают на окна.
Директор грузно расхаживал по комнате в одной сорочке. Он задыхался от ливня и вымок до нитки, возвращаясь с рабочего комитета. Он разбудил жену и слушал грозу, лениво лохматя голову, меряя углы тяжелыми шагами и куря папиросу за папиросой.
– Вот ч-чорт! – говорил он. – Климат, нечего сказать! Связался я с этим вином… Как там хотят – выправлю дело, а там – на степь. Душно мне здесь. Ох, душат меня здесь эти горы!.. Слышишь?.. – он тревожно прислушался. – Град! Ах, чорт бы его подрал!
– Да ты не волнуйся. Постой…
Они слушали. Рев нарастал. Окна, как пузыри, вздувались мертвыми вспышками, и гром зверино ворочался на горах, раскалываясь отдаленными звуковыми плоскостями и еще сильнее подхлестывая неистовство рухнувшего вниз, налитого содроганиями океана. Кругом, во мраке, за стенами, над крышей, звонко цокая в залепленные стекающие стекла, глухо ревела и секла тишину белесая ледяная стихия.
– Град! – застонал Директор. – С голубиное яйцо… Плакали мои виноградники! Буду звонить Веделю…
– Что ты делаешь? Ведь убьет!
Директор, не отвечая, вертел эбонитовой ручкой.
– Эдуард Августович? Вы не спали?.. Отлично… Да, да, чорт знает что такое!..
Ведель стоял у аппарата, накинув пальто. Между ними падала стихия. Директор сидел развалясь, вытянув волосатые ноги. Жена его лежала белым, полно изогнутым вниманием. В трубках потрескивало и жужжало.
– Алло! Эдуард Августович? Можно ли что-нибудь предпринять для спасения урожая?
– Ничего. Я думаю, это не захватит всех участков.
– Боюсь, что не так… Слышите, какой гром?
– Слышу. Если будет дождь и ветер, это поможет. Нужно, чтоб выщелочило…
– Что? Алло!
– Вы-ще-ло-чи-ло! А то начнется брожение раздавленных ягод.
– Как? Вы говорите – брожение?
– Да, брожение.
– А если произвести опрыскивание?
– У нас не хватит аппаратов, товарищ Директор.
– Ах, чорт возьми! Ну, ладно… Так вы говорите – до утра?
– Утро вечера мудренее. Не нужно составлять заранее планов. Я ведь вам говорил…
– Вы составили его лучше всех, Эдуард Августович. Да, да, это так… Ну, хорошо. Подумайте, как там насчет брожения…
– Я уже думал. Теперь и у меня есть кое-какой план. Я припомнил один случай, хе-хе… Это было в старое время… Алло! В трубке жужжит и трещит – ничего не слышно. Алло!
– Спите, Эдуард Августович. Я вас побеспокоил.
– Нет, нет, я очень рад… До свидания!
– До свидания… Молодец старик! – сказал Директор жене, вешая трубку. – Он бурчит-бурчит, а во всяком деле всегда первый.
– Ложись. Ты совершенно измучился.
Директор только махнул рукой. Град распрыгался по стеклам, со звоном отскакивая в черную ночь. Он задумался о разговоре с инспектором Садвинтреста. «Смотри, брат, – сказал тот ему, – не влипни со своей самоуверенностью…» Пустяки! Директор знает партийные директивы. Бумага мертва без диалектики практического действия. Но град… Кто мог его предусмотреть?
Он вышел на крыльцо и еще раз отступил перед бешенством косящего ночь ливня. Он ахнул… Земля тускло брезжила белой мякотью выпавшего льда. Буря плясала в присядку, мириады вытянутых стрел неслись вниз и вскакивали мгновенными брызгами, мир трещал, стонал и гремел, разбрасывая громовые мячики.
На «Вилле роз» всю ночь светилось окно старого винодела.
16.
Наташа Ведель всю ночь просидела в метеорологической будке, читая роман и записывая в журнал отметки и показания приборов. В журнале буря выводила графическую кривую: одиннадцать баллов были вершиной изломанной линии. В мачте свистел циклон, чашки измерителя вертелись в бешеной лихорадке: в них, натужив черные лоснящиеся щеки, дула Африка, средиземные вихри тащили тучи, поднимавшиеся с малярийных болот царственных рек, затянутых папирусом.
На рассвете Наташа захлопнула роман. Гроза обессилела, небо дымилось развеянным пожарищем, и клубы пара летели над горами, закутанными пасмурной влажностью. Будка станции, белые ведра и лесенки сияли, как палуба и шканцы рассветного парохода. Земля сокровенно журчала, горы пели ручьями и потоками: гроза низвергалась шумом и гвалтом мельничных колес, запруживая долины заводями принесенных почв и ликуя в глубоких траншеях звоном возвращенного и перелитого Нила.
Наташа возвращалась домой в тугом брезентовом плаще и только покачивала головой. Ей приходилось прыгать через ямы и рытвины, дорога лежала обсохшим руслом с блестящими горными камнями.
Кругом на десятки километров земля дышала тяжелой теплотой оранжереи. В долине Дюрсо дубовые покатые шапки гор парили в тучах, в кизильих ночных ущельях перелетали дрозды и переговаривались камни. Долина курилась. Она лежала, покрытая мраком. В ее отрогах, куда сливались потемки с вершин, пряталась могильная тишина. Град прошел здесь свинцовой тяжестью. «Игнатенков аул» – место предания, покрытое кустами пино-франа, громоздился по кручам, заросшим проволоками и листьями, отряхиваясь от воды, поднимая отяжелевшие, прилипшие в землю лозы с орошенными, в белых светлых натеках, разбитыми связками ягод. На россыпях камней, лежащих внизу, заворачивались молодыми плантажами в глухие углы отрогов грифельные бахчи; на них, среди зеленых кудрявых барашков годовалых винных кустов, блестели в дыму мокрые шары арбузов.
Шалаш караульщицы прело чернел мокрой сбитой соломой: его пробило насквозь ливнем. На камнях валялось ружье, слабый огонь костра валил синим дымом, возле него на палках сушилось обвисшее платье.
Поднимался рассвет. Земля дрожала в дыму, как грубые камни, распростертые ниц перед кровью закланного агнца. Столбы освещенного дождя изредка пролетали над полями морей, падая косым шуршаньем. С востока шествовал свет. Он поднимался бессмертьем в белых одеждах жизни, простирал блаженные светлые руки и гладил птиц, отряхивавших теплые серые перья. Он прикасался к сумраку, гладил леса, листья осыпались дождями; и все сладко жмурилось и просыпалось, брызгаясь каплями. Да будет свет!
Караульщица стояла нагая, светлые руки мира гладили ее скользкое, опушенное белым сумраком тело. С грудей ее капала вода, они ворочались и теплели, как молодые мокрые поросята. Она нагибалась к огню и выжимала тугой жгут белой сорочки, алебастр ее живота складывался дерзостно. На ней не было ничего кроме платочка, повязанного по-бабьи. Высокие ноги ее в сбитых полусапожках до колен были забрызганы желтой грязью.
Она заботливо выжала жгут. Тонкая мужская сорочка шелкового полотна выглядела жалко. Караульщица разглаживала ее, прижимая к телу, закинув рукава за плечи, – ткань прилипала к ее стоячей, насмешливой груди. Она аккуратно, по-матерински одернула влажные складки и повесила сорочку к огню.
Костер еле тлел. Она задумчиво глядела в огонь, присев на корточки и подперев голову крепкой гладкой рукой. В шалаше кто-то кашлянул. Она проворно вскочила на ноги, прикрыла вздрагивающую грудь красными ладонями, согнулась…
– Аня! – глухо донеслось из шалаша. – Да где же ты? Ч-чорт… тут вода…
– Че-го? – прошептала она певуче, вытягиваясь плечами, жмурясь всем телом. – Не пойду. Небойсь, по московским товарищам заскучал? Ишь, – передразнила она, медленно перебирая ногами, – «во-да»! Вода бежит, – когда-то мельник будет?
В шалаше осторожно шуршала солома.
– А-нечка… – отозвалась ей снова темная сырая глубина караулки. – Да иди же скорее! Мне приснился ужасный сон…
Она улыбалась, подвигаясь все ближе и ближе.
– Ну, чего? – жарко шептала, она, склоняясь плечами в обвисшую колючую мглу, пахнущую сеновалом, и загораживая ее нарядным телом, царапающим разломанные пучки соломы. – Ну, че-го? Замуж меня ведь не возьмешь… Ну, чего?.. Я тебе пуговку к рубахе пришила. Пойдешь домой чистенький, любезненький ты мой… Ведь не придешь больше, не придешь?
Она шептала наивные бабьи слова, горюче вздрагивая телом, по скользким грязным ногам ее ползли струйки воды… В шалаше разгоряченная дождевая ночь заглушала голоса. Она скользнула в его глубину, белые крепкие руки ее шарили в мокрой раскиданной колючести подстилки, она прильнула всем существом к теплому придушенному смеху, поймавшему ее выточенную в изогнутой ложбинке, живую покатую спину твердыми свежими объятиями…
Рассвет поднимался. Он разгонял тучи, сушил обновленные листья, сгонял нетерпеливые ручьи и примирял прибой, отбрасываемый скалами, с мерным шипением убегающей гальки. Крабы шныряли у берегов, перебегая соленые всплески, на морях проходили суда. Сойка голубым паяцем, вереща и крутя крыльями, перелетала с ветки на ветку, забираясь все выше и выше, залетая на кручу, где дуб, обвисающий в бездну, тянул свои жолуди к свету.
Он был пронизан солнцем. Внизу, на лиловом тумане, путями «Арго», поднимая каюты и трубы, дымила экспрессная линия. Все еще спало: спали в судах, спали в селеньях, спали в коммуне с вождем Поджигателем. Свет приходил, сойка кричала песню пробуждения. «Креге-ке-гак!» – скрежетала она. – Родила червяшка червяшку. Червяшка поползала. Потом умерла. Вот наша жизнь… Так говорил философ, умерший от крика восстания. Это ерунда, это чистейшая ерунда… Креге-ка-гак!» – она улетела в поисках пищи.
Солнце подняло щит, обнажая мечи. Внизу, на камнях, арбузы блистали мудростью, их мокрые головы были высокомерны. Двое ходили меж них, одетые лишь в утренний дым. Она распустила волосы, и груди ее вздрагивали от шагов, высовывая смуглые набухшие родинки…
Люди еще спали кругом на горах, потоки пели, катясь в ущельях, росы грелись и превращались в пар. Наташа Ведель вернулась домой и подсчитала грозу. Она была доброй девушкой, но не прибавила ей ни одного балла. Кривая говорила сама за себя. Ее напоили чаем и уложили спать. «Вилла роз» дышала семьей, как том «Войны и мира».
Остается сказать о китайце: его в эту ночь не видели на виноградниках. Неунывающий Друг, вы должны знать это совершенно определенно.
Повествование пятое Возникает веселый запах вина
«Первым созревает лучший, но малоплодный шампанский сорт – красный виноград пино-фран. Небольшая величина гроздей и необходимость собрать весь виноград, при определенных наилучших соотношениях сахара и кислоты, вызывают потребность большого количества рабочих рук. Это самое оживленное время в Абрау. Сбор очень красив: большое количество работниц, приезжающие для погрузки и отвозящие виноград рессорные линейки, кусты, осыпанные зрелыми кистями, одетый в разные цвета лес, и среди них лазоревое озеро семи верст в окружности – дополняют картину».
Жизнеописание «Абрау».– Ваше величие! Ударницы! Надо ударить пятками о камень…
Старший садовый рабочий Феодорович.17.
По рассказам Овидия, Магеллатов участок был разбит этой ночью вдребезги. Лирик рассказывал ужасы: они с китайцем едва добежали до будки, градовая туча настигла их неожиданно, и им пришлось бежать с полкилометра под сплошным потоком ледяной картечи. Молния ударила совсем рядом, они вымокли до нитки, и у него до сих пор болит голова от ледяных ударов.
– Пощупайте, – говорил он девушке, гордо расхаживая по веранде и ероша спутанные влажные волосы, – вся голова у меня покрыта шишками.
Вспомнила ли она хоть раз о нем в эту кошмарную ночь?
Девушка нехотя потрогала его лоб.
– Ничего нет! – сказала она холодно. – Самая нормальная голова… Вы слишком самоуверенны. У меня есть и без вас о ком беспокоиться… Как вы думаете, – оживленно обратилась она к Поджигателю, – можно ли не ругаться с моим чудным братцем? С утра он отправился на этюды, не захватив даже плаща. С этими мужчинами прямо беда! Они – как дети. Совершенно не обращают на себя внимания, а после ноют, клянчут и ругают весь свет… Хотя вы и сами… – она махнула рукой и лукаво оглядела фигуру нашего учителя. – Что это торчит из вашего ботинка? А эта ужасная рубашка! Когда вы, мужчины, научитесь жить?
Она подошла к нему, стала поправлять измятый воротник ковбойской рубахи продолговатыми ручками. Приподнятая грудь ее прижималась к Поджигателю, растерянно и изумленно бормотавшему что-то о сером костюме, который он оставил в Москве.
– Помните этот костюм? – говорил он Овидию через плечо девушки. – Он достался мне от товарища, венгерского эмигранта… Прекрасный костюм тонкой шерсти.
Овидий и не думал вспоминать заграничные штучки. Он получил хороший нос и любовался деревьями, с которых гроза сбила много крепких жолудей, рассыпанных теперь по дорожкам. Поджигатель прочитал нам целую лекцию о грудных заболеваниях. Я никогда не предполагал, что он так внимательно следит за своим здоровьем.
– Ваш брат, – говорил он девушке, – во всем типичный российский фаталист. Он плохо переносит реконструктивный период, он болен красками, он надеется только на себя и думает, что спасение жизни – в анархии природной талантливости. Ему скучно. Он не терпит планирования в искусстве. Природа, по его мнению, позаботится за всех. Но ведь это ерунда! Неужели вы соглашаетесь с ним, товарищ Люся?
– Он много работает, – быстро проговорила девушка, опять поправляя воротник и одергивая его на рубашке Поджигателя.
– Вот так… Я не обижаюсь за ваши слова, но он очень хороший человек. Его картины очень ценят.
– Нас всех очень ценят, – пробормотал Овидий, – а печатают в год по столовой ложке… Однако у меня начинается жар.
– Переоденьте рубашку, что вы валяете дурака! – накинулся на него Поджигатель. – Ценят, ценят!.. Дело не в этом… Я думаю, что ваш брат на опасном пути. Ницше писал о русских солдатах: когда они устают, они бросаются на землю и не двигаются с места, несмотря ни на что. Они могут лежать в грязи целые сутки. Он называл это русским фатализмом. Иногда это неплохо, в особенности в борьбе с интервентами… Я припоминаю англичан: те, не побрившись два дня, теряли всякую боеспособность. Но сейчас – это гибель. Лежать, мечтая о красках, и ждать, пока вас переедет колесо орудийной запряжки, – извините меня, – это значит сгнивать классово. Он говорит о Сезанне, пишет пейзажи… Ах, все это, быть может, и хорошо! Но зачем ворчать на остальных? Зачем сдавать темы эпоса бездарностям и недоучкам? Хорошее дело: они критикуют. Они бросают эпоху и гордо молчат. Бекельман заявил Директору, что сделать бочку, как он, – почище, чем сделать вино. Он – один в СССР, и поэтому может пить на работе и плевать на всех с высокого дерева. Он талант! Бочки его бессмертны. Я сам слышал… «Ударьте их», – хрипел он Директору. – Они поют, как флейта. Вино лежит в них сухое, как день…» Он узнает дерево ухом, ему не нужно ячейки, он просит комитет не беспокоить бондарную… Так ли это? Не прав ли Директор, объявив еще один выговор? А ваш брат…
– Но Бекельман замечательный! – засмеялась Люся.
– Хотя они пьют вместе, и это совсем мне не нравится.
– Что значит замечательный? Мы говорим о строительстве. Пусть бочки будут похуже, без флейт, но их нужны тысячи… Плакаты вашего брата были ценнее Сезаннов, – в них, извините меня, было побольше смысла. На фронте их пробивали пули, а это повыше заштатной тишины музеев.
– Я с вами согласна. Но ведь нужно и то и другое. Я говорила ему, а он ругается… Он бросил плакаты и не признает бытовой живописи.
Поджигатель поморщился.
– Зачем бытовой! Идеи, идеи – прежде всего. Пусть краски служат идеям. «И то и другое» – это старая музыка. Это – эклектика. Быт. Что такое быт? Мы созданы для удара. Пять шестых мира погружены в этот быт и занавесили окна от мировой истории, – быт ходит в спальных туфлях. Вы говорите – быт?
– Ну, пошло! – засмеялся Овидий и махнул рукой.
– Что «пошло»? – вспыхнул Поджигатель, как порох.
– Разве не так? Разве не быт погружает шаги человечества в тишину спален? Разве не он склонял величайшие головы в засаленный капот и задерживал их шопотом ревности в передней истории? Пошлость! – кричал Поджигатель. – Жена верхом на спине Сократа. Прочь ватные туфли квартирок! В казарме событий нужен крепкий сапог… Разве не быт тормозит Германию? Каутский опоздал к революции из-за разлитого супа, он ругался с кухаркой, когда умирали спартаковцы. Кружка пива и сюртук в воскресенье стоят инквизиции пап и российской корниловщины. Разве это не так? А патефоны и радио! Звон в отдаленной кирхе, танненбаум, от которой глупеют здоровые парни и прячут головы, как гуси под крылья. «О танненбаум, о танненбаум! Ви грюн зинд дайне блеттэр…» Пойте, пойте, старые бюргеры! Боров мычит, когда поднимается ножик из бездны, боров идет, ему снится теплое стойло… Кто говорит, что нам нужны пепельницы с серпом и молотом, венки в крематории и елка с советскими ангелами? Пошлость – говорю я. «Мой добрый старый френч», – слышали ли вы такую музыку с белыми кудряшками у пианино и с певцом в кожаной куртке? Или духи – «Площадь Восстания»? Или рецепт из смоленской аптеки с лозунгом: «Чистите зубы – скорее войдете в царство коммунизма». Может быть, аптекари представляют это царство, как магазин Мосторга без очередей в двадцать шестом году? Или еще что-нибудь… Не будет ли оно стоять мягкими стульями, обитыми плюшем с нежными голубочками и белыми лирами? Прочь, говорю я! Давайте огня, и мы зажжем старую рухлядь, ибо сжечь – значит сделать уже половину дела… Быта нет, говорите вы? Чорт с ним, мы обойдемся без быта! Ибо быть ни с чем, значит итти за всем. Пусть солдатам, спящим у костров, снятся моря с берегами, увитыми розами. Пусть в прохладе казарм мечты громыхают винтовками. Сапоги, ружья, походные кухни! Вот великие музы в защитных шинелях. Вернее шаг, громче команда – вот быт поколений, не знавших о пепельницах, вот новые темы, не знавшие отдыха, и ритмы симфоний, не петых в гостиных… Разве это не так? – восклицал Поджигатель. – Разве пейзажи в сусальных рамках можно повесить под самое небо? И что мне толку, что на рояле красиво спит отражение гиацинта! Или крестины в клубе… Прочь бытовое искусство! Быта нет. Пролетариату не надо красного дерева… Скажите, разводят ли на войне горшки с фикусами? Можно ли часовому на посту шептаться с возлюбленной? Я спрашиваю именно вас, дорогой Овидий. Я стою за идеи, прежде всего идеи!
– Это все так, – ответил Лирик, глядя на девушку, – это все так. Пусть приходит поэзия смысла. Но одни идеи не создают стихов… Вы забыли о теплоте человеческой руки. Я хотел бы быть на месте часового, но только с возлюбленной. Мир – это дом, а не казарма. Природа гладит нас, как котят, доброй рукой старушки… Ах я представляю себе этот дом, набитый сундуками, с темными лесенками и комнатами из светлого ясеня, с уголками, где дремлют чистые старики и где пробегают девочки, блестя нетерпеливыми глазками. Они – как мыши, вихры с бантами торчат над их головами серьезными бабочками, под маленькой теплой грудью колотится шаловливое сердце. Мир – огромная семья. Он светит в ночь светлыми окнами. Шторы уже спущены, за стенами улеглись классовые вьюги и спят глубокими синими сугробами. История начинается заново, давно зажгли чистые лампы. Негры играют в куклы, Дарвин с Марксом склонились над шахматами. Француз и немец добродушно спорят о Бисмарке… Батюшки! Он жил триста лет назад. Короли и капиталисты стоят в музеях, как египетские мумии. Все читают стихи. В доме натоплено. Валерий Яковлевич Брюсов танцует с Бухариным менуэт, забавно выводя па и старомодно шаркая штиблетами. Вот входит смеясь человек в пиджаке, щурится на свет, весело смеется в рыжеватую бороду. Толпа детей бегает за ним и упрашивает взять на колени… Дом сияет огнями, всем весело, старики важно курят трубки, грустных людей окружают почетом и вниманием… Боже мой! В стране двести тысяч поэтов, в трамваях только о них разговору, милиционеры сидят в креслах под шелковыми зонтиками… Редактор исчез, как зубр, – мы сами себя редактируем. Вот веселье, вот радость! Мир гудит, как фортепьяно, на фабрики идут, как в театр, надевая лучшее платье, кругом – гибель чудаков, каждый стал самим собой, у меня ровно два миллиона родственников, в десять раз больше знакомых. На шляпе выскакивает автомат, посылающий сам приветствия… Что?! Сегодня гвалт? Улицы черны от народа? Демонстрация? Газеты вопят и вышли в траурных рамах… «Ужас! – кричит мне знакомый. – На Огненной Земле трамваем отрезало палец Электрону Помпилиусу. Ему триста лет. Представьте, в молодости сделаться калекой! Ах, бедный мальчик! Я сегодня брожу, как потерянный… Куда мы идем? Это закат нашего шара. Слышали? – город кипит, валерьянку развозят по улицам в стеклянных цистернах… Бедный, бедный Помпилиус!»
– Снимите рубашку! – хохотал Поджигатель, блистая очками. – У вас действительно жар. Я не советую вам расстраивать воображение.
– Нет, нет, пусть продолжает, – перебила его Люся. – Помпилиус – это он сам, ему давно отрезали один палец. Дайте ему поплакать над собой.
– Ах, так! – Овидий махнул рукой и побледнел. – Это не мои слова, ей-богу, но вы страшно холодны и жестоки. Ну, ладно. Я отвечаю вам и еще кое-кому.
Стучи в барабан и не бойся, Целуй маркитантку под стук, — Вся мысль житейская в этом, Весь смысл глубочайших наук. И Гегель и книжная мудрость — Все в этой доктрине одной. Я понял ее, потому что Я сам барабанщик лихой.– Вот, – сказал Лирик, – философия, достойная преданных учеников. Согласны ли вы, – обратился он к девушке, – с этими лозунгами? Это получше всяких бесплодных отвлеченностей.
– Стучите, стучите! – ответила она. – Но вопрос: найдется ли маркитантка? Я бы не хотела быть на ее месте. Кроме того, я что-то не слышу барабана в ваших стихах… Это – сплошная грусть!
Овидий был уничтожен в это утро, настроение его было испорчено, а девушка не соглашалась больше щупать его голову.
– Переоденьтесь, – говорила она. – Что, в самом деле, за глупости!
На зло ей он проходил весь день в сырой рубашке, а вечером исчез к своему китайцу, – повидимому, жар быстро сходит с лирической головы. На собрании у Директора выяснилось, что Магеллатов участок почти не пострадал от града.
18.
Наташа Ведель не дочитала романа в метеорологической будке, и историю Квазимодо смыл дождь на целую неделю. Дождь заполнял клетки журнала, чертил графические линии, поднимал и опускал ртуть термометра и заносил в записную книжку винодела короткие значки и цифры, отмечавшие всю биографию урожая. Тридцатый год походил на десятый. В голове винодела участки винных кустов лежали, как краски на палитре художника. Солнце и дождь колебали их силу. Север, запад, восток и юг лежали на плантажах тубами света, запаха, свежести и вкуса. Наташа Ведель следила за ящиком красок природы, в лабораториях практиканты проверяли их крепость и зрелость, винодел создавал из них год, как живописный этюд, – он готовил его, как артист, собирающий свет и тона для колорита замысла.
Живописец, имевший сестру, писал этюды на горах виноградников. Он сидел под зонтом и писал холмы, отдельные участки, искал тона. Ему важно было найти солнце и воздух. Он совсем не заботился об остальном.
– Так… – произносил он, щурясь и отходя от мольберта. – Так… Придется переписать небо. – Эта лиловая тень недурна и требует к себе кобальта… Еще мазок… Так… Говорите, не похоже? Вот здесь мы дадим синевы… Мне не важны детали, дорогой… так… – он клал полосы ультрамарина широчайшими мазками, – важно соотношение тонов… Ага, гора уходит вдаль. Так…
Он пятился назад, щурился и бормотал себе под нос. Двое ребят сидели в стороне и глядели в холст, разинув рты. Этюд горланил, как свежая глотка. Художник распластывал сочное солнце, вдохновение зноя грелось под его кистью меловым бархатом. Я и не замечал раньше, что осень подмазала склоны ущелий кустарником кадмия.
– Так… – говорил Живописец. – Этот мазок осветил все. Это – приятная гамма. Краски – как струны: одна звучит от другой… Гора ушла. Она пригодится в картине.
Широкие штаны его висели добродушным мешком. Он стоял, развалясь в воздухе, подняв кисть. Прядь волос беспечно свисала на его коричневое лицо американского бродяги-артиста. Он был истым джентельменом светлоглазой профессии.
Но этюд – не картина, винный год – не симфония букета рислинга номер «шестьдесят три» и каберне номер «сорок четыре». В записной книжке Эдуарда Веделя урожаи годов лежали, как память этюдов. Тон превращался во вкус, свежесть и звук аромата светились пятном колорита. Вино одного урожая зрело двухлетие ночи и дня, твердило о детстве, о быстрых ветрах, о солнечных днях, о громе и дождике, пахнувшем кислой прохладою капель, о том, что холмы зеленее на запад и север, что юг и восток попрятались в бочках золотым блистанием зноя. Двадцать пять лет урожаев рислинга и каберне со склонов Абрау лежали в рейнских зеленых и бордосских черных бутылках коллекции. Дегустаторы в зале, за длинным столом, поставили пятьдесят разных отметок и произнесли пятьдесят разных фраз. Каждая фраза щеголяла стихотвореньем из бальзамических слов, китайской мудростью ощущений и датой биографии лета. Идентичных вин не оказалось: двадцать пять урожаев стояли в бутылках разнообразием человеческих жизней и плескались в стаканчики оригинальными настроениями солнца.
Дегустаторы – не чудаки: они решают судьбу виноделия. Титул вина – его честь, букет его – тонкий вкус выбора с клумб урожаев, где каждое лето качнуло неповторимый цветок. Дегустаторы – артисты языка. Они подбирают тона на вкус, щупают губами краски запахов, жуют колорит солнца, язык им заменяет глаза живописца.
– Композиция, – говорит художник, размахивая кистью, – это, мил-друг, соотношение световых действий. Большие мастера трогают одни струны. Важно дать новый, полновесный аккорд. Линия и рисунок – это только нотные знаки…
Эдуард Ведель – садовник, винодел и дегустатор – следил за солнцем, ветром и дождем и ждал осенних эскизов по записям метеорологической будки и показаниям лабораторий. Винный год кончался дождями, процент сахаристости падал, кислотность гроздей пино-франа после грозы поднялась на три процента, ареометр Боне показывал это сразу, без сложных анализов. Правда, рислинг и каберне снимались последними, до сбора поздних столовых сортов нависали еще долгие дни. В столовых подвалах, вкопанных глубоко в землю, запасы винных годов лежали в тяжелых бочках по этажам, один год над другим; они громоздились в длинных темных склепах, поднимая в темноте круглые дубовые ярусы, обитые железными обручами.
Подвал жил глубокой, потаенной жизнью. Осень свозила к нему груды зеленых и красных пудов благоуханий. Они опрокидывались в покатые окна с цементной площадки, валы фуллуар-агрепуаров, оперенные железными лопастями, плескаясь ремнем с электромотора, жужжа и вереща, отправляли их в пресса. Медная труба вращала струю отдельных ягод, из жерла машины лез поток гребешков, они походили на ветки кораллов в подводном царстве. В подвалах чаны журча принимали работу прессов, сусло стояло, снижая осадки, шланги сосали мутные соки в бочки, их серные недра кипели брожением. Шли дни, недели, в подвалах рождалось вино, сахар рождал спирт, – в бочках, поднимая мокрые листья на шпунтах, бурно кидая пену, роились и царапались благородные дрожжи Штейнберг, ведшие род с тысяча восемьсот девяносто второго года. Дни, недели, месяцы – январь, март, август… Кружась, разлетались лиловые листья, стучали по крышам дожди, белый снег падал, как изумление, таял, и примулы вновь голубели на горах, вновь зарождались листья, и снова на виноградниках пригибались проволоки нового винного года. В прошлом уже загорались зеленые и красные винные звезды – вино проходило переливки, фильтры от фирмы Зейц, его берегли от болезней, охраняли от воздуха, оно дремало в бочках, спускаясь все ниже и ниже под землю, и, наконец, рыбий клей, свернув его мутную бурную молодость в белые хлопья, падал ко дну вместе с ней последним отстоем. Вино проживало год, приходил второй, третий, бочки ложились шпунтом на бок: этюд винного года ждал большой композиции. Вино становилось сортом, Эдуард Ведель заносил в свою книжку значки дегустатора, – весною в столовом подвале наполняли стаканчики, каждый из них говорил за себя. Готовился выпуск стандарта «шестьдесят три» и «сорок четыре» – мировых вин, имевших свою репутацию. В стаканчиках светили пятна солнц и тени облаков, винодел соединял стаканчики: он собирал сложный букет, известный десятилетиями, его вкусовая память ловила родное созвучье. Это – купаж, созданье вкусовой композиции. Стандарт «шестьдесят три» тридцатого года был создан из трех типовых сортов чистого рислинга, из годов: двадцать пятого, двадцать шестого, двадцать седьмого. Года дали полный вкус и букет, но в них не хватало свежести. Десятки комбинаций не приводили ни к чему.
Так мучаются художники.
Десять дней Эдуард Ведель просидел в лаборатории, пробуя года и соединяя их биографии. Были использованы почти все тона, все вкусовые краски, все возможные пропорции. В голове винодела кружились солнечные дни, дожди, виноградные участки, на языке его пели причудливые оттенки запахов, тончайшие эфирные масла, его память воскрешала рейнские образы, тайны знаменитого Иоганнисберга. Букет «шестьдесят три» излучал образ, полный нарядных запахов, волны его расходились в эфире, как излучения радио, они плыли от всплеска нежной освещенной жидкости цвета дождя, отраженного в листьях и в закатном желтоватом солнечном свете, как круги по воде, все шире и плавней, в мягкой задумчивости… Купаж не удавался. Букет не был ассимилирован. Характерный оттенок курящейся разогретой смолки – запах пригорелой резины – возникал слишком пряно, ожог винного глотка не замирал глубоким вздохом дождевой свежести… Может быть, в подвалах Абрау уже не хватает винных годов для жизни его создания? Быть может, утрачен талант?
Шли дни и бессонные ночи создания. Труд наблюдений, память яркая, как молния, где выступают мгновенно все очертания замысла, все связи, и пытка бессилия, темная ночь, где воспаленные чувства кидают горячие зовы и тщетно кружатся в утраченном смысле. Он бродил эти дни, громоздясь могучими плечами, разбитый бессонницей, он поминутно бежал в лабораторию, сливал свои вина, полоскал рот, долго и медленно щуря глаза, брал на язык их прозрачный вязкий и терпкий холод, сплевывал, выливал стаканчики и снова пробовал, в сотый раз, без конца, чтобы к вечеру опять, еле дыша от быстрого шага, отпереть пустое и темное здание и снова сидеть под светом свисающей лампы в глубоком раздумьи… Ничего не выходило: рислинг «шестьдесят три» был утрачен. Он просидел одиннадцатый день в полной апатии. Что толку в легком душистом солнце, шарящем в грудах высохших листьев, что толку в лесах, где весна высовывает голубые цветочные уши? Целая жизнь! Подвалы, подвалы, подвалы – бесконечные бочки вина, дикие горы, где он много поработал мотыгой, первые взрывы, плантажи на новых и новых горах, его первые лозы и опыты, – этот край, прельстивший раз навсегда, эта горечь ошибок и предсмертные муки открытий!
Так возникает искусство.
Он помнит те дни: виноградное солнце в сыпучих холмах, степной ветер, веющий сухими цветами и медом полыни, – далекие дни! Кубанский Кавказ, где с моря приходят теплые тучи и шаги взрывают пески, впитавшие молодость. Разве вы не знаете, что такое «Хан-Чокрок» – ханские колодцы, заросшие темными листьями, привезенными из замка «Шлосс Иоганнис-берг» князя Меттерниха?
В печальном раздумьи он глядел сквозь стаканчик. Эта дикая жидкость, этот зеленый цвет, его старые годы, уроки у солнца и виноградных листьев… Да, да, никто не верил в столовые вина на этих холмах. В богатом именьи сановник и хан пригласил его провести виноделие. Рейнские вина? Он сделает их не хуже германских, они будут легки и бодры, как молодость, свежи, как ветер, и сухи своей крепостью, как свет, пригревающий листья на кольях.
Тысяча восемьсот восемьдесят седьмой год. В имении праздник, знатный хозяин пробует вина, они сияют в освещенных бокалах. «Хорошо, хорошо! – говорит он. – Тонкий вкус, рейнский букет, но это не рислинг. Золото, золото! Дайте зелени, дайте цвет молодого сена».
Далекие дни. Сквозь них проходят раздумья, – кто знает о них? Кто знает, что яблоко апий создало первый зеленый рислинг в России? Все это далеко и смутно и грустно, но яблоко апий висит на земле две тысячи лет: это римский сорт, он пережил всех цезарей, и в зеленом раздумьи ветвей его яблоки спят, покрытые дымкой мудрости. Они загорают на солнце, как девушки, старые римские яблоки апий. Один солнечный день, прекрасное темное яблоко, один лист случайно прижался к теплой, упругой коже, – о радость открытий! День – как сиянье! Там, где лежал случайный листок, остался светлый рисунок – такой, какие бывают у женщин на руках от браслета.
Эти старые дни. Урожай был собран раздельно: вино с южных холмов – светило, как полдень в песках, с северных склонов – оно зеленело, хотя сахаристость его была нисколько не ниже. Ничего, это успех! Пасынки рейнских лоз оставлены в третьем году на четыре листа, прибавилось кудрявого зеленого мрака, все молодые кисти запрятаны в густые тени. «Им распустили кринолин!» – вошло в поговорку. И на Кубани стали пить зелено-соломистое вино.
Так завершают создание.
– Что толку в жизни, когда оставляет талант!
Весь одиннадцатый день винодел провел в отчаяньи, запершись на ключ. Все погибало! Как одинокий зубр в последних лесах, он бродил из угла в угол, курил не переставая, его стаканчики, его язык, отличавший вина без промаха, его память, знавшая все дожди и закаты, – все было брошено. Купаж столового «шестьдесят три», его гордость и репутация, был сорван.
Под вечер, махнув рукой, он машинально налил четыре года: от двадцать пятого до двадцать восьмого и стоял наклонив голову над столом лаборатории. Двадцать пятый! – он отлил глоток в пустую мензурку; двадцать шестой – еще три деленья; двадцать седьмой – еще три; двадцать восьмой… Он поднял мензурку.
– Старость! За ваше здоровье!
Целая жизнь… Она пронеслась в голове, как последний просвет утопающему. Он коснулся губами стекла. Букет рислинга тысяча восемьсот девяносто девятого года дохнул на него музыкой свежести. Он остолбенел. Зеленый вихрь запахов висел в ней, как струя дождика над ситцевым лугом. Тягучий аромат пригорелой резины жужжал басовой струной медвяного зноя: это благоухали чуть запеченные пенки шмелиного солнца, висящего над планетой, жарко трепетали раскаленные бабочки дней. Рислинг номер «шестьдесят три»! Вино было создано. Вся композиция оказалась простой и соединила этюды четырех лет в гармонии, плывшей наивною песней.
Он просидел в лаборатории до полуночи.
– Это не химия, – бормотал он довольно, – это не гейдельбергская бочка. Шестнадцать тысяч ведер – королева всех бочек в мире. Нехитрая штука – разбавлять ее на одну треть молодым вином и держать верный стандарт. Но в наших условиях – поработали бы они, не имея столовой коллекции до двадцать второго года. М-да… Правда, цвет нашего рислинга превосходен… Хе-хе! Где мои кринолины! Сколько труда и волнения, сколько было разговоров из-за этого цвета! И вот наши Абрауские горы заботятся о нем не хуже хозяев: участки у нас на всех румбах, север и запад дают отличную свежесть и зелень… Но в чем же ошибка? Я потерял десять дней, как мальчишка… Посмотрим сейчас по книжке.
Он сидел под зеленой лампой и проверял свою память. За эти дни купажа он похудел на пятнадцать фунтов.
Вот почему Наташа Ведель захлопнула толстый роман и не раскрывала его в течение целой недели. Дожди шли. Но горячее солнце палило не уставая, зной гонялся за влагой, разбитые кисти пахли винным брожением. Виноградники после бури стояли в полном изнеможении. В сухом протоколе, отпечатанном лиловым разбитым почерком старого ундервуда, их драма была дословна запечатлена рутиною слов и короткими столбиками цифр:
«По докладу директора совхоза т. Яшникова и зам. ст. виноградаря т. Буца считать: Град 10 минут, осадки 11,6 мм, град 8 г. Гибель урожая: Дюрсо – 60 %, Птичня – 50 %, Фруктовый – 30 %, Турецкий, половина участка – 20 %, Заозерный – 10 %, Игнатенков аул – 35 %, Озерейка – 50 %. Итого 22000 пудов, 1/3 урожая. 88600 руб. по себестоимости, 265000 руб. по рыночным ценам. Констатировать: прошедший год в практике наблюдений не производился. Мы в связи с этим градом вылетели из плана. Этот град принес совершенно неожиданные убытки, вызвавшие: отражение на качества вина, увеличение расходов на процесс производства и т. д. и т. п.».
Речей товарищей Веделя и Фролова-Багреева в протоколе понять было нельзя: там дело касалось спора о преимуществах порошков извести и серы над дезинфицирующими свойствами сернистой меди. Это был спор старого садовника с европейской химией. Наш Винсек запечатлел его загадочным синтаксисом. Он писал протокол целый день и вечером показал Овидию.
– Ну, брат, – сказал он, тараща и кругля глаза, – понимаешь? Это прямо… – он осмотрелся и прибавил топотом восторженную матершину. – Чорт его знает! Как пошли они насчет купороса… Вот был шухер! Тут черепушку нужно иметь – во! Ну, Ведель, брат, ор-рел! Как это он, сволочь, посмотрит…
Он передал Овидию листки с напускной небрежностью.
– Почитай, – сказал он, – как тут насчет ваших всяких тонкостей? У меня и так от ихней образованности всю башку разломило.
Он ходил по комнате, и я внимательно следил за его бровями: одна из них, топорщась, лезла на лоб, упрямые рыжие веснушки глядели высокомерностью канцелярского быта…
– Ну, как? – спросил секретарь, подходя к кровати Овидия. – Говоришь, плохо?
Но голос его звучал угрюмой надеждой.
Овидий аккуратно сложил тонкие листки вдвое и пригладил их пальцами.
– Видишь ли, – начал он, приподнимаясь с подушки, – всякая оценка относительна… Ей-богу, – обратился он ко мне, – протокол не хуже стихов «Литературной газеты». Тут что-то есть от стиля эпохи, а некоторые фразы пригодились бы для нашего Дома Герцена. Ничего! – подбодрил Овидий Винсека. – Но я думаю одно: ты недолго просидишь у Яшникова…
Они поговорили еще, и я видел, что краска заливает веснушки секретаря и он упрямо комкает тонкие пропечатанные листки. Желтые, цвета коровьего рога, волосы тормошат его голову мальчишеством и лезут на лоб неожиданной дерзостью. Но шея его наводит на размышление: она нечисто глядит красноватой шерстью, налита кровью, мрачные прожилки морщин говорят о злобных обидах и жестокости к себе и другим…
Я боюсь, что Овидий прав. Яшников – государственный ум, – так говорит о нем Ведель. Этот человек не ошибается. А быть секретарем управления – это почище, чем заниматься писанием рассказов и повестей: здесь нужен такт и спокойствие большой композиции.
Винсек резко оборвал разговор о протоколе.
– Сойдет! – сказал он грубо. – Написал – и ладно.
«Абрау-Дюрсо»? Слава тебе господи, у него есть приятели в Москве, один из них в Наркомфине – Сашка, они вместе работали в управлении розыска…
Он улегся спать и долго курил в темноте. Поздно ночью пришел Поджигатель, вернувшийся от профессора-шампаниста. Он пробрался к своей кровати на цыпочках, но башмаки его говорили за себя. Они были у профессора втроем: наш учитель не отказывается от компании художника и его сестры. Кроме всего прочего, они сошлись на понимании Тернера. К моему удивлению, Поджигатель прекрасно осведомлен о творчестве величественного пейзажиста. Я думаю, что он прощает Живописцу споры о биологии за его плакаты эпохи гражданских боев. «Поколение живо! – думал я все эти дни. – Оно крепко держится друг за друга, хотя многие уходят и остаются сзади. Поколение редеет – да здравствует поколение! В ночах фронтов мы теряли отцов и расстреляли глупое детство. В огнях городов мы хоронили отсталых романтиков, мы отправляли их в штаб к товарищу Лермонтову. Там были славные парни, ей-богу, они воображали себя с крыльями Демона, – об этой истории есть хорошая картина у Врубеля. Чувство о них – как медведь, глядящий из мрака пещер нового сотворения…»
19.
Директор, несмотря на грозу и стихийные убытки, не потерял присутствия духа. Приказ следовал за приказом. На виноградники были брошены каменщики со всех построек, были мобилизованы все свободные рабочие и весь конный и машинный транспорт. В управлении с утра до вечера шумно трещала на ундервудах, хлопала дверьми, шаркала ногами и докладывала о себе осенняя пора урожая.
Директор принимал без доклада. Дожди шли, образцовое виноградное хозяйство республик, имевшее мировое имя, стояло за его подписью, он отвечал перед партией и страной за языки дегустаторов. Вино было высшим синтезом. Оно соединяло труд чернорабочего, столетний опыт, огромные знания садовников с тончайшим искусством артистов. За столбиками цифр бухгалтерии стояли люди, еще не получившие смены. Директор принимал всех. Над судьбою вина, под ливнями днями и тучами, стояли виноделы и химики, ремюоры и дегоржеры, бондари и бочкомои, садовники и виноградари.
Директор брал людей в их потенциальной полезности для производства; для него не существовало знаний вне их способности претворяться в дело. Практика зерновых совхозов оказалась умнее объективных цифр академических комиссий. Он был одним из тех, кто доказал это на деле: они били ученых профессоров гектарами и центнерами, они засыпали их зерном по самые зеркальные лысины. Но это вино… Здесь совершенно другое. Тонкий нюх хозяина-практика подсказывал Директору особую бдительность и осторожность. Он пока что познавал только ноты. Он педантично следил за полным использованием клавиш, совхоз лежал перед ним черной громадой инструмента, где лишь искусство решало конечные цели. Он не мог повлиять на самую бурю музыки. Но профессор Антон Михайлович спорит с практиком Веделем: между ними бегала кошка, это явственно чувствовалось. Директор сходил с цифр и докладов, с собраний, комиссий и комитетов прямо в горячий и страстный воздух искусства. Столовый подвал возникал в чистом, величавом и немного скучноватом запахе винной лирики. Она заглушала шаги. Помощник Веделя, Владимир Лилеев, пылал, как Вертер рейнского зеленоватого вина. В шампанских покоях, тоннелях и этажах стучали толстыми бутылками ремюоры, хлопали пробки в отделении дегоржажа, воздух пел и шуршал нарядными шелковыми ароматами ликера. Он встречал неожиданно, как парадокс Анатоля Франса, он звучал остро и насмешливо, как каламбур из «Кола Бреньона».
Рислинг и каберне шли от Ноя – так говорили предания. Чорт с ними! Живописец вместе с Бекельманом распевали подчас хрипловатую песнь, – ее знал и Директор. Она нуждалась в хороших, колосистых голосах семинаристов.
И Ной смиренно говорит: «Творец! Как мне вода претит! Зане в водах погребены Все беззакония земны». По повеленью божьих уст Вдруг вырос виноградный куст. И бог рече: «Блюди его…» Наговорил всего, всего! Как разводить лозу должно И как готовится вино. Зело обрадовался Ной С детьми, кухаркой и женой. Он погреб выстроил потом И бочки ставил там с вином. Боченочек, другой винца Во славу господа-творца Он выпивает иногда Без всякого себе вреда. И, как писания гласят, Лет прожил триста шестьдесят.Стоит ли говорить о преданьях? Их несостоятельность очевидна, но, так или иначе, чистые виноградные вина называются натуральными. Они простодушны, как триста шестидесятилетний старец, окруженный дубовыми бочками. В этом весь смысл столового подвала. Эдуард Ведель исповедует в искусстве простую истину органической мудрости.
– Это не спирт, – говорит он, – это не химия с ее желтой кровяной солью. Я смотрю на вино, как на живой организм.
Зачем мне лекарства, если я не думаю болеть? Хе-хе… – подсмеивается он. – Винодел не имеет секретов. Мой секрет – аккуратность во всем, поменьше химических формул. Все дело только в том, чтобы помогать природе. Вино с примесью и лекарствами – уже не вино. Здоровье, здоровье прежде всего! Французы погубят виноделие со своими гибридами…
Шампанский подвал благоухал ликерами. Профессор Антон Михайлович стройно нес в него по утрам снежную голову лукавой китайской резьбы из желтой кости, по-детски согретую белым подстриженным клинышком. Помощник его, бородатый Василий Васильевич, в могучей толстовке, катил сырой бас, как гулкую бочку, грудь его вздымалась, как погреб, полный толстых питух и хохота. В бондарной хрипел Бекельман. Подвал управлялся Доброштановым – неизменным, добрейшим, в старинных очках с ниточкой, сползавших вниз добродушием, с лицом, как стянутый шрам от язвы желудка. Он сидел у себя в полутьме крючковатой птицей в совином царстве ламп и тоннелей шампанского.
В саду, у шампанского здания, с пихтами, с туями, в запустении роз и одичавших кустарников, в цементной прохладе плескался фонтан, поднимаясь из бронзы, зеленой от времени. Нежно пахли цветы и деревья. Столбик воды взлетал из горлышка скульптурной шампанской бутылки, падал вниз и заливал дождевой искрящейся пылью обезьяну, вылитую из металла. Она обвивала хвостом покатые плечи бутылки в пьяных корчах химеры, вода падала вниз, в царство невинной воды с красноперыми рыбками. В обезьяне сидела душа католической церкви, средневековье, тихие шаги монаха, открывшего в камнях кельи лукавый секрет шампанского.
Шампанский подвал не был подвалом чистых, натуральных вин. В нем хитрый холодный монах добавлял к добродушному Ною пряный и острый яд скептицизма.
В мире давным-давно клонились над бочками ядовитые бородки химиков. Еще Марселей Бертло доказал, что нет живой и неживой природы. Легенда о жизни вина разлетелась, как мифы о прелести бочек, покрытых мхом и плесенью. Тысяча восемьсот шестидесятый год грянул Седаном для виталистов, несших знамена «особой жизненной силы». Химия бралась осуществлять все возможные тайны природы и создавать искусственные существа, подобные естественным, ее не удовлетворял только анализ, она расправлялась со схоластами, падавшими ниц перед великой тайной «сродства». Век проходил в драке, он видел крушение ангелов. В туманном морозе России Пушкин упал в снег, обливаясь кровью… Жандармы везли глухой ночью гроб, покрытый рогожей, в псковских лесах, кидавшихся прочь от кровавых огней факелов. В гробу леденел труп лучезарного синтеза: дитя простодушья и солнца бессмертного разума… Двадцать три года спустя благочестивый Пастер поднял пистолет идеалистической науки и направил его в грудь синтетической химии, срывавшей тайну с теории брожения. Выстрел грянул, но пуля пролетела мимо. Марселей Бертло разбил пистолет виталиста: он доказал ложность биологической теории, считавшей брожение жизненным процессом микроорганизмов. Легенды вина рушились. Деятельность дрожжей как нераздельного живого фактора была опровергнута. Первая стадия спиртового брожения глядела разоблаченной легендой. Превращение сахара в спирт вызывалось растворимым ферментом, инвертином, он производил ту же реакцию и вне организма. Заметки в записных книжках Клода Бернара, найденные после его смерти, подтвердили теорию: искомый фермент был найден великим физиологом. Тридцать семь лет спустя, ровно за десять лет перед тем как палата, без одного воздержавшегося, приняла закон: «Статья первая и единственная. Останки Марселена Бертло и m-me Бертло переносятся в Пантеон», – открытия химика и физиолога подтвердились еще раз, и окончательно. В лаборатории Бухнера фермент, творящий брожение и похоронивший тайну жизненной силы грибка, закрепился блестящими опытами и получил название «зимазы».
Седан виталистической химии был ее полным разгромом. Синтез взошел, как солнце.
Директор совхоза «Абрау-Дюрсо», член коммунистической партии большевиков, пришел арбитром на борьбу двух художников – двух начал, возникавших в подвалах: искусства, желавшего все перечувствовать, и искусства, дерзавшего все познать. Но он был мудрее журнальных критиков, – он, щурясь, смотрел на дело и пробовал вина не из деклараций и протоколов собраний. Что громкие пустые слова! Он мог бы сравнить их, если бы знал, с тезисом Шопенгауэра в его учении о свободной воле. Директор оставил «волю» сознательному действию, он не собирался лезть в сущность упавшего камня и искать там волевых дуновений. Он не был философом, не знал Прашны Парамиты индусов, не постигал себя как Ничто, не представлял себя переходом в вечное истинно сущее и не падал ниц перед покровами Майи. Но он мог бы ответить на этику старой Европы простыми словами: «То, что ведет к правым делам, это и есть истина». Он уважал опыт и практику и брал человека как живую идею: профессор и практик-художник были прекрасным синтезом. Ведель бурчит – пусть побурчит. В деле он – первый. Он против планов, но каждый раз планы его превосходны. Профессор сидел на последнем собрании прямо, он говорил в нос, спокойствие его било всякую раздражительность.
– Известь? Это рутина! – бросил он старику-виноделу. – Мы знаем научно проверенные, совершенные методы.
– Ха-ха! – тот посмотрел на него, как Ной. – Сорок пять сборов на виноградниках – это не шутка, – он отвечает делом, он помнит подобные случаи. – Начну с того, – взял слово Эдуард Августович, – что применение извести в «Абрау-Дюрсо» принадлежит мне. Пускай это будет рутина… Ха-ха!
Он говорил, из его коричневых морщин глядели обиды. Профессор смотрел сухо. Конечно, он напрасно употребил такое слово…
Директор сидел в кабинете и перечитывал протокол на тонких папиросных листках. Он почесывал за ухом и недовольно сдвигал кожу на лбу. У стола заседаний, стлавшего ровный луг зеленого сукна, угрюмо топорщился Винсек, жадно кусавший ногти. Пальцы его в эти дни походили на красные тупые культяпки инвалида.
Директор отвалился в кресло и произнес крепчайшее слово:
– Эх, голова! Чего грызешь руки? Ни к чорту, брат, не годится твое писание! – Он добродушно-насмешливо смотрел на секретаря и щурился. – Ну, чего? Бери. Надо будет переписать заново. Слог, брат, у тебя…
И он дал характеристику этому слогу термином юго-восточной гражданской.
Директор смотрел на спину секретаря сочувственно: он сам писал вольным стилем. Дверь захлопнулась. Он потянулся, могуче расправил грудь и задумался. В окна подуло ветреной свежестью, дождик смолкал. Над холмами крутых виноградников пухлые тучи зияли голубыми провалами.
В кабинет ввалились шумные грязные люди. Дожди выщелачивали разбитые ягоды, брожение их прекращалось. И Директор распорядился немедленно начать сбор.
20.
Дует норд-ост.
Режут виноград.
Женщины, девушки и портовые девки поют песни. Из прессов шампанского подвала уже побежал розовый винный сок.
Все благополучно.
Но нет папирос, и Овидий первый выкинул сигнал бедствия. Быть может, его настроениям помогает и кое-что другое…
Нет папирос – это значит история снова показывает пожелтевшие, сбитые плотно зубы упрямого прошлого. Цыгарка во рту – блаженство бродячей солдатской жизни. Когда приходили черные дни республик, кисеты выколачивались начисто, туда попадал всякий мусор, особенно хорошо трещали в огне сбитые серые катышки шерсти, – откуда только они берутся в бедных карманах скитаний! Может быть, скучно перебирать эти воспоминания? Но они принадлежат нам: огни поколения тлеют в военных потемках беспечной цыгаркой юности. Пусть девушки, выпавшие нам на долю, не знают о прошлом, – я отмечаю дни по прелести табачного дыма… Пришли времена боев, никто меня не уверит в противном. Легкость в душе, тоска, как мост с часовым над рекой, шпалы и рельсы, товарищи в серых шинелях: мы едем, снова едем куда-то, табак взят на учет – верный, преданный дух боевого товарищества. Бывали такие, любившие припрятать тайный запасец: они курили ночью, наглухо прикрывшись сбитой шинелью. Их узнавали по запаху дыма, вагон вскипал возмущеньем. Так попадались хитрые, злые неряхи, жившие скупой и прожорливой волчьей жизнью! Я знал одного: у него водился табак. Это был парень, покрытый сальными шишками, слежавшиеся космы мягкой шерсти вечно пушились на его круглых надутых щеках, источенных черными дырочками. Его ловили не один раз, он сопел и ругался: проклятый писарь хранил сокровище в продавленной жестяной мыльнице. Она была конфискована, и коммуна теплушки курила по выдаче двое суток.
Прекрасные дни! Они пьянили затяжками крепкой крупчатой махорки. Писарь жил одиноко, по вечерам он колотил вшей. В этом он не имел соперников. Милая Улюсь, как вы чисты и спокойны, вы бьетесь ровным голубым пульсом на теплых висках сознания. Я вспоминаю писаря и любуюсь вашим затылком: эта кожа, освещенная нежным вниманием прически, эти кольца волос, как признания вслух. Женщины более всего не любят прошедшего и будущего. «Они – существительные», как говорит один мой приятель, подразумевая себя глаголом.
Я говорю, что писарь изучал своих вшей, как художник. На его шинели болтались царские медные пуговицы, хлястик ее всегда был оборван. Он мог есть круглые сутки и спать, не снимая ботинок неделями. Он наслаждался собой и жил в собственном теле наподобие короля в большом государстве: он разделил себя на участки и слушал возню насекомых, упиваясь чесоткой и карауля передвижения подданных. Неряха часами валялся на нарах и беседовал с потным и пухлым телом: весь его мир уходил под рубаху. Он знал гастрономию и развлекался собственным запахом. У него водился приятель – тонкий землистый парень. Они занимались вшами, не замечая времени.
– Я знаю их нрав, – говорил писарь. – Смотри, они начинают возиться после обеда. Не торопись, дай ей всосаться… Ага, она начинает!.. На южном участке сегодня затишье, они работают вечером… Не шевелись! Мы почешемся после.
Они лежали, блаженно уставившись вверх. Писарь делил себя на фронты: северный, южный, восточный и западный. Северным звались шея, грудь и подмышки, на южном, внизу, копошился главный театр военных действий.
– Ну, как? – спрашивал он приятеля, еле дыша от приятного зуда. – Если одна, лови ее сразу. Они за работой стоят, как свечки, вцепившись в рубаху… Смотри, не зевай!
– Н-нет… – сладостно шептал тонкий. – Сволочи! Они поползли ниже.
– Не ш-шевелись! – яростно шипел писарь. – Дур-рак! Мы поймаем их сразу.
Следовал вскрик, взброс двух тел, рубахи вскидывались кверху, штаны падали вниз… Писарь командовал. Его руки в жабьих буграх бородавок хватали добычу.
Они лежали снова, довольные сами собой. На бумаге возились мелкие серые раки с темными роговыми спинками…
… Его убили на фронте, Светлана Алексеевна, одна залетевшая белая пуля при отступлении, – он так и остался валяться на станции, с банкой махорки в кармане. После мы узнали его орган снабжения: ему присылали посылки из дому, он был сыном дьякона, случайный нежный питомец уезда в рабоче-крестьянской армии. Он был беспощадно осужден после смерти по классовой линии.
Этот писарь вел себя очень хитро в борьбе с насекомыми. Он придумал маневр, чтобы избавить себя навсегда от нижнего зуда. Он вооружился свечей и хотел выжигать южный участок – самое гиблое место солдатской вселенной. Участок вспыхнул, как порох, писарь вдруг затрещал желтым шипящим пламенем, – он был волосатой породы и горел, словно гребень из рога. Коммуна едва потушила пожар его же шинелью. Метод свечи обсуждался в теплушке и не встретил сторонников, – и все же случай с южным участком был результатом смелого замысла, был проблеском творчества. Сейчас он украшает память о человеке, который раздавлен в мире, как платяная вошь.
Но все это – прошлое, старинное прошлое.
… Имя Светлана звучит чистой горенкой с лесенкой наверх, в красных от солнца окошках щебечут зигзаги ласточек, на хвойной заре тропинку зазывают глубокие голоса кукушек. Когда нет папирос, моя дорогая, я чувствую юность. Нет ничего лучше в мире боевого товарищества. Я припоминаю дни, где одна папироска обходила набитые нары в прифронтовом поезде. Я видел красноармейцев, передававших кисет офицерам, дрожавшим от холода у длинной стены пакгауза… Через минуту рванулся бездымный залп – и затворы с лязгом выкинули пустые медные гильзы. Офицеры курили в последний раз. Человек, прячущий свои папиросы, достоин презрения, – таков был завет нашей армии и останется им навсегда.
Нет ли у вас закурить, мой Неунывающий Друг.
21.
– Чай тоже недурен, – говорил в это утро Овидий, – я курил его, помню, в трубке. Он трещит и взрывается, хотя на вкус довольно приятен. Но знаете ли вы траву пресвятой богородицы? Это – чертовская штука. Она идет на покойников, мы курили ее, заворачивая в Правду, – и одно время я даже вошел во вкус. Не попробовать ли нам опять чаю?
Он сидел на кровати и мечтательно болтал желтыми полуботинками.
– Одну папиросу! – молил он Поджигателя: – только одну. Вы можете не давать мне в двенадцать часов. Я даю вам честное слово.
– Нет, – сказал ему твердо Учитель. – Вы уже выкурили свою порцию.
Он не был курящим, один из всех, и хранил обобществленный запас в полторы коробки. Распределение не знало поблажек: Поджигатель не шел ни на какие мольбы, вторая папироса могла появиться не раньше полудня. Овидий стрелял направо и налево, но ресурсы курильщиков таяли с каждым днем, он приуныл не на шутку и целыми днями бродил по совхозу с кавказскою тростью и записной книжкой.
Эти дни! Они купались, как птицы, в налитых дождями лужах, моясь и трепеща в брызгах нахохленными голубыми перьями. Он поднимался рано, искал свою папиросу, кидался в парк, жадно вдыхал свежесть деревьев. Он всегда кидался к жизни в объятия и подчинялся ей с безотчетным восторгом. Кусты, капли дождя, сияющие столпы водяной пыли, падавшие из радуг, горы в глубокой задумчивости, ущелья в сырых потаенных запахах, где спелые ягоды с шорохом срывались в старые, сгнившие листья, – все в этих днях слагало свежие, полные сродства и неожиданной звучности рифмы, как вечное изумление перед чудом раскрытого мира.
Кавказ, древний рай первобытных детей, плескался у моря, светящего осенью. Туманы бродили. Хребты поднимались все выше и выше к востоку, к альпийским цветам, к смертельным утесам, курившим под небом снегами, где пели ключи ледников. Луга умирали, и лето кончалось. Заря приносила мускатные ветры. Сияли вершины и в даль, к лиловым и красным долинам, слетали горные пчелы, жужжа развевались их сонмы – туда, к светоносной отчизне…
Овидий бродил в этих днях, полный смятенья. Этот обрызганный куст – он говорит о дальней весне, о бледных рассветах, о шуме ручьев, о днях, погруженных в цветочную кипень. Кто знает, что горы весной плывут в облаках лепестков, когда расцветает кизил? Кто знает те дни, те тонкие, нежные письма от жизни, как розовый звук, как почерк цветов, как снежный и блеклый листок почтовой бумаги, слетевший с гудящей и грозной от жал мерцающей яблони?
Море стоит среди гор, как царство осеннего света, как голубая чаша, увитая красными листьями. Овидий бродил. Спокойная нежность смотрела кругом, свежее тело земли выступало в смуглых нарядах кустов, опускавших созревшие гроздья. Виноградная осень. Все меньше и меньше дождей, пора просветления, земля жадно дышит, развевая туманы. Не голубое ль вино налито в дальнем ущельи? Долго стоят холодки, утро поет, замирая в позолоте рожка, оно дрожит целый день, как отдаленные звуки… Тропинки в лесу пьют воздух глотками зеленоватого рислинга, – такая созревшая тишь, такая холодная мука пылающих ягод: ночью звезды висят и светят огнями желаний. Кто знает те ночи с голой луной, кто знает те дни?
Земля пробуждает зовы восстаний, любовные руки, полные темной и зрелой крови, срезают с кустов круглые, налитые зноем виноградные кисти. Мечты поднимают оружье, мир созревает, как гроздь, рушится прошлое, звери теплеют от шкур, в шерсти их пушатся осенние звезды. Давят вино. Груди у девушек приподнимаются выше и пахнут тугими яблоками. Ах, виноградная осень! Недаром у гончих собак раздуваются ноздри, планета висит, розовея от пятен вина, вся в сладкой истоме, нагая, на звездной лозе мирозданья. Кто знает любовь, что румянит, как снег, когда пробуждаешься в первое белое утро?
… То было давно, – Овидий бродил по горам, на виноградниках пели девушки, – то было в госпитале, в ретирадной известке огромного здания. Ее звали Полей. Она проходила в горячем бреду, среди ваты и ведер, забрызганных кровью, она прибегала темноглазым участьем. Ее звали Полей…
Море сегодня – лучистый, сияющий взгляд, виноградник – как нежное зарево: тысячи чистых и добрых лиц потуплены вниз, миловидные уши горят от смущенья.
… Он умирал. Обвисала глухая зима. За окнами хирургической дни коченели в сером морозном дыму, воронья обмерзшая стужа разбито махала над голым забором пустыми крылами. Тылы замерзали. С полей курились поземки, гудели столбы, и ветер прорезывал воздух полоснувшею сталью, махом и блеском хватал его до сонных артерий, мороз горячим фонтаном сливался на улицы, – стыли дома, деревья, пути, вокзал в колючих сугробах. Вокзал шипел в древесном чаду, – сырые банные дымы, клубясь, громыхали в заносах, составы подползали к нему в дощатом красном бреду.
Шла вошь, раздувало тифозный огонь, заносило лохмотья мертвецких, в палате метались жгучие белые стены, фронты бормотали о наступлениях. На койках палаты, уходившей в ночь, к одиночеству закапанной известью лампочки, качались искалеченные маятники горящих в жару солдатских агоний.
… Он умирал. Госпиталь жил, как сточная яма фронтов, сбирая болезни и раны. Он подымал корпуса в мглистом дыму испарений, он резал, сшивал, бинтовал, отмывал испражненья. В подвалах его бессонно кипели чаны: там клокотали гнилые лохмотья, тряпки, покрытые смрадом, простыни в чудовищных пятнах; гудели котлы – госпиталь брызгался паром, миллионы цепких ползучих мохнатых существ впивались в шинели, в затертый колючий рай одеял, цеплялись клешнями в складках казарменной бязи, сидели в овчинах, шапках, в зеленых разваленных суконных кипах, остывавших на складах приемной.
Мороз наседал. Госпиталь жил. Он сырел от нечистых паров, истекая карболкой, кровью, гнилою водой, он дымился огромной помойною ямой. В мертвецких, подвалах и кухнях сбегались, роились и кидались от света, как кошки, поспешные жирные тени в длинных и скользких хвостах…
Наверху, в палатах, разлагалось, гнило, хрипело и мучалось столикое мужское тело, оскорбленное ранами, тупой ненавидящей болью, звериным воем операционных, страшным бессилием перед самым простым отправлением. Чистое племя бойцов, приступом бравших историю, молило о подкладном судне. Шло разливанное море конвульсий и судорог.
Госпиталь задыхался. Санитарки и няньки бродили в этом мглистом чаду, как мухи в открывшемся трупе. Они узнавали здесь все, они принимали нечистые стоки подземных канав, зловонно сносивших кровавую похоть истории, начатой пушками четырнадцатого года. Это шуршали юбками равнодушные ассенизаторы смерти…
Овидий смотрел вдаль. Озаренное синее чудо бежало мерцаньем. С кустов пахло кожей земли, ветки тянули к нему прохладные руки, звучали женские песни.
… Он умирал. Она была нянькой, с челкой бульварных волос, с мягкой и вялой грудью под грязным халатом, загаженным рыжими пятнами. Он помнит ее хорошо: она не знала стыда, она помогала во всем привычной рукой соучастницы. Этот позор неподвижности! Она управлялась с суднами, как кухарка на кухне, физиологии жизни она помогала собой, не брезгуя средствами; она определяла жизнь наощупь и ставила сразу диагнозы; она знала мужские тела и жила в них, словно наедине с собой.
Пылал потолок. В жару, изнывая от кризиса, он чувствовал смерть, подушка ворочала темные глыбы, в ночи, качавшей косматые тени, просторы стен расступались степями. Завывала зима, его заносило огнем, – она приходила, он слышал далекий лепет, она наклонялась к нему, держала его воспаленную голову, шептала слова, долетавшие с детства… Он падал во мрак. Белый прохладный сон окружал его голову, пахучий и вялый сумрак ласкался к лицу. Он помнил – она прижимала к его запеченным губам упругий и скользкий сосок груди, лечившей солдатчину.
Вертело в бреду… Она подставляла себя всю к его смертельному жару, – он помнил шершавую руку, бравшую его источенные пальцы, она нестерпимо давила их влажной горячей силой колен, он помнил тугие завязки чулок, бульварную преданность, поруганный зов материнства, чувство подруги, защупанное в мире мертвецких и грязных, с примерзшими бинтами, солдатских сортиров.
Далекая Поля! Один так и умер с рукой, засунутой под ее доброе платье.
У нее было простодушное сердце. Она жила в доме на выселках: ковер с полинявшим тигром, постель, взбитая горою подушек, будильник, считавший медной костяшкой скучный рассвет… Пахло дешевым мылом, жжеными волосами. В окошко лез мертвый сугроб. У фотографий, пятивших к сапогам нелепые сабли, глазки чернелись, словно насиженные мухами.
– Прощевайте! – просто сказала она, вытирая после поцелуя губы. – А я и не знала, что вы из антелигенции.
Все.
Пауза десятилетия.
Море лежало в глубоком обмороке воды, солнца и ветра. На горах пели девушки, обходя ряды проволок и быстро срезая в плоские ящики туманно-синие ветки шампанского пино-франа.
В стихах Овидия, созданных в этих холмах, не звучала дробь барабанщика пролетарских армий…
22.
Сентябрьские дни полны мудрости старой планеты.
Гроза забывалась: дожди и легкий норд-ост сделали свое дело, – старый садовник и винодел Эдуард Ведель оказался прав. И все, что жило по зову подвальных гудков, с утра поднималось встречать урожай. Он тарахтел на рессорных линейках, спускаясь по горным дорогам с широколистных низких садов, пестревших нарядными песнями.
Участки срезались. Мгновенно, в несколько дней они пунцовели. С ночного тумана их сразу кидало в лиловый и красный румянец, – ножницы быстро бежали по горам, – кругом загорались палитры, тяжелевшие красками. Их пылало все больше и больше, они расцветали над озером и двигались к морю.
Там скользила пустота, и даль надувалась под ветром, как парус. Море свежело – далеко-далеко, в страшном безлюдьи махровых серых пустынь.
… Они пели. Они пели так, как поют окраины городов в пустых безглазых кирпичных складах и глухих фабричных стенах, как поют в пустырях портов, как поют беспризорные улицы – без глубокого вздоха, без широких отзвуков, подхватывая припев заунывно, слегка гнусавя и четко выговаривая бойкие жалостливые слова. Они шли по-двое по линиям виноградных рядов – с обеих сторон, наклоняясь по пояс и быстро срезая синие мелкие кисти. Весь покатый и кудрявый от листьев холм пестрел их кофтами, платками и юбками и медленно передвигался кверху, в горящую небом лазурь.
Была особая прелесть в их песне. Виноградник пел, неспешно подвигаясь вверх, в его темных густых рядах, облитых еще купоросной синькой, нагибалась и выпрямлялась песня. Она шла десятками жарких и сбитых набок косынок, сносила вниз полупудовые виноградные ящики, на миг задохнувшись, выкрикивала номер бригады и, опрокинув тяжелый синий шорох кистей в широкие плоские бочки, вновь уходила вверх, сверкая босыми ногами.
– Вторая бригада! – песня, на миг обрываясь, ссыпалась в чан с номером «два», оттертые, полированные виноградные глазки поднимались спелой черной горой.
– Эй, эй! – кричал старший садовый. – Ваше величие! Ударницы! Надо ударить пяткой о камень.
– Це наш ряд, а це ваш!
– Девоньки, глазыньки мои вкусные, а чего больница до нас не пришла?
– Нехай ее! Вин сам у кусту сыдит.
– Просыди там до социализму, проскрыпит до божьеву свету!
– Бабушка, шевели задом! Растопырила графиню-то!
– Эй, эй, ударницы!
– Вторая! – виноград проливался вниз.
– Третья!
Песня опять поднималась вверх. В ее бабьих, материнских, батрацких и девичьих голосах хрипела и простуженно выпевала свой зов портовая улица, дни неумытых, погибших рассветов, прокаженные тени под фонарями позорного прошлого. Она возникала из самых ничтожных, поруганных черт жизни: здесь шевелилось грязное детство, клоаки болезней и лени, липкая ругань, побойная дружба и дикий запойный мрак ночлежных домов. Она выпевала свой зов неуклюже, одна среди всех, в длинных космах волос, в измятом ситце капота с обойными розами. Лицо ее, запекшееся в белесый лоснящийся шрам, глядело, как ужас волчанки. Она пела, на вялых огромных руках ее подмигивали клейма порта: сердце с воткнутой стрелой и надпись, наколотая синими точками: «Отдай якорь». Она пела, как все:
Слово за слово, познакомились, Незаметно дошли до кино… Кругло-ли-цая мне понравилась. Взял билет посмотреть «Знак Зеро» Кино началось, не смотре-лось мне, Не до смотра здесь было Зеро. Тут она ко мне по-до-двину-лась, Точно жаром меня обожгло…Виноградник, уже обрезанный начисто, шел с песней под самое небо. Глубина там синела так ослепительно и ярко, так бездонно, что казалось – дальше не могло быть земли. Отвесная бездна, голубой гремучий огонь мерещились там. Казалось – под куполом, где шипел нездешним мерцаньем спиртовой обмирающий свет, на звездных нитях трапеций застыли мука и ожиданье колоссального цирка… И простодушней сквозило под этим сияющим пламенем то, что, закинув слабые, тонкие руки, висело над вечною смертью; казалось, простой отзвук гарелки несся в словах и бродил этот мир, вертящийся на призрачных проволоках.
Но не понял суд, не поверил мне: «Нужно было, товарищ, смотреть». Вот за губки те, губки алые Мне пришлось заплатить одну треть.Виноградный поток наполнял плоские бочки и похожие на колчаны высокие тарпы. Старший садовый, худой, как Данте, суровоусый, весь в сером брезенте, обгорелый до красноты, под серой, тоже брезентовой кепкой, был источен дождями, зноем и ветрами до ветхости и сухости прошлогоднего дубового листа. За ним стояли двадцать три года работы на одном участке и столько же лет жизни в садовом домике.
– Считаю собственностью, – говорил он о виноградниках, заложив руки за спину. – Когда меня вывезут, пусть забирают…
Он стоял, как пехотный боевой командир на параде, гордящийся пропыленным насквозь лицом. Армия ровных кустов шагала безукоризненным строем, участок сверкал под желтеющим солнцем рядами пригнанных проволок, с широколистных кустов размеренно-точно свисали синие и прозрачно-зеленые подвески.
Садовый командовал шестью бригадами. Песня, сносившая виноградный поток, была соревнованием. План Директора вел ее в бой. Седые толстухи, коричневые, как хлебные корки, резали кисти с неуловимой быстротой, подоткнув юбки чуть не до пояса. Их ноги, в синих отеках вздувшихся вен, степные ноги хозяйственных матерей, яро круглились под присохшею глиной, – они пели громче всех, шутки их задирали всю бабью жизнь словно подол, – то шли ударницы, резавшие языком не хуже, чем ножницами. То шли батрачки многолетних винных садов.
Садовый поднимался среди них невозмутимым спокойствием.
– Эй ты, худая карга! – кричали ему косматые прачки с костлявыми взглядами. – Чего загляделся на бабушек? Али не можешь уже с молоденькими?
– Это еще вопрос, – спокойно смотрел садовый, – старая карга или молодая карга. Это еще вопрос…
Овидий стоял рядом с ним, он чувствовал себя отлично в женском обществе, мудрый лучистый день обволакивал его сердце туманом.
Я кончаю петь, факт вернейший сей, Опасайтесь знакомства иметь…Голоса двух красных платков спокойно и светло сходили вниз. Он медленно отрывал с гребешка липкие матовые шарики, упругие, как мячики, и глотал их терпкий ароматный сок, холодящий во рту. Девушки шли ласково, обе босые, обе в одинаковых чистых кофточках, похожие друг на друга, как участливые молодые телята, переступающие точеными ровными копытцами, – они смотрели с мягкой серьезностью прямо ему в глаза.
– Хорошая песня, – сказал им щурясь садовый, – хорошая песня, деточки…
Когда Овидий спустился вниз, Живописец кончал этюд. Его сестра сидела на земле у мольберта. Несколько женщин с пустыми виноградными ящиками дружелюбно глазели на них, опустив руки. Густые лиловые тени сходили с кустов, на горах затененные синие леса опрокидывали на север темные вечереющие склоны.
Запад витийствовал. Он обращался к долине, поджигал кусты и деревья. В рыжих теплых огнях, светивших кругом, ослепительно встал квадрат виноградника. Обрезанный двое суток назад, он пылал, весь малиновый.
Среди баб, окруженный платками и кофтами, в пестром усталом царстве женских раскинутых рук маленький человек произносил речь. В его круглых очках зажигались оранжевые огоньки, черная голова взме-тенно стояла сухой шапкой волос. Он говорил от имени партии и благодарил за блестящие результаты соревнования. Сдельная плата, введенная впервые, оправдывала себя полностью. Две ударных бригады выполнили задание с превышением на двадцать процентов.
Его слушали внимательно: человек внушал уважение серьезностью. Портовая девка, сидевшая в стороне, медленно качая туловищем, смотрела на него мутными косоватыми глазами. Он говорил о социалистической организации труда.
Ее лицо багрово вздувалось, и на руке, свисавшей мутным и дряблым бессилием, цинично синело клеймо мирового порта, прославленного портланд-цементом и пшеницей. Море, приносившее ей столько лет позорную, гниющую жизнь, катило на горизонт сине-седую пустынную мглу.
Повествование шестое Добродетели приступают к делу
«Выделка шампанского значительно отличается от выделки столовых вин; в «Абрау» оно приготовляется французским способом, т. е. вино, содержащее строго определенное количество сахара, разливается в бутылки и закупоривается большими пробками, прикрепленными к горлышку железными скобами. При брожении, развивающемся от прибавления дрожжей чистой культуры, выделяющаяся углекислота постепенно насыщает вино. При открывании пробки она начинает выделяться, вызывая «игру» шампанского. Чем помещения, в которых находятся бутылки, холоднее, тем процесс брожения идет медленней, но зато углекислота усваивается вином полнее и при раскупорке выделяется медленнее и пузырьками меньшего размера, т. е. получается более тонкая и лучшая игра шампанского».
Летопись «Абрау».– Да разве можно закрыть! Это – наша честь. Мы должны гордиться, что у нас есть шампанское производство. А то Германия и Франция будут говорить, что рабочие не могли удержать то, что было при государю… Это для нас стыд и срам: было у нас все, и мы его потеряли, как распутные сыновья у отца. Мы должны гордиться, что идем вверх и не падаем духом. Это дело великое, хорошее дело.
Заслуженный рабочий-шампанист А. Н. Фокасьев.23.
Опять эта вечерняя музыка в саду…
Я замечаю, что сверчки стали петь редко, пришли холодные лунные ночи. Луна светит, как мертвая слава в безжизненных старых руинах. Свет ее гол и рассудочен, он совершенно спокоен: никто не обманется больше в том, что ночь есть только продолжение дня. Спокоен и я.
Мне уже тридцать лет. С некоторых пор я вышел из узких проулков, где много травы, воробьев и сиреневой суши, где дома слишком близко подходят к глазам. Больше спокойствия: за углом открывается поле и видно дорогу. Она не так далека.
Я замечаю, что стал относиться спокойнее к сужде-нью людей о себе. Болезненность юности, ее вспыльчивость, ее эгоизм – только в этом: люди становятся сами собой, когда узнают целиком, что думают о них окружающие.
Итак, повторяю, спокоен и я.
Мы не бродяги, мы спутники с неразлучной дороги. Мир становится ближе, когда узнаешь, как легко ошибаются люди в оценках друг друга. В тридцать лет навсегда уходишь от глупой обидчивости.
… Салфетки на ногах Поджигателя за эти последние дни превратились в рыжие скользкие тряпки. Вчера он снял их, как всегда, сегодня они исчезли. Они пропали, как та грустная музыка, которая доносилась сквозь деревья с вечерним холодом.
Поджигатель рассержен не на шутку, он смотрит на меня недоуменными грустными глазами.
– Кто-то издевается надо мной, – говорит он сумрачно. – Очевидно, я самая подходящая мишень для бурсацких шуток. Я начинаю сомневаться в человеческой дружбе…
Он смотрит именно на меня. Овидий катается от смеха, глаза его влажны от подступающих слез веселья… Но кто же, в самом деле, проделывает эти довольно неудачные штучки? Смех тут не при чем: у него ревматизм, мы все знаем, что он работает больше всех нас. Он организовал культурное обслуживание работниц по сбору урожая и каждый день ходит в казармы за несколько километров и читает доклады на самые различные темы. Живописец должен организовать кружок по обслуживанию клуба плакатами и декорациями. Овидий, Винсек и я мобилизованы на агитационно-пропагандистскую работу. Это все – дело его рук. Председатель рабочего комитета ныряет своим длинным носом по поверхности воды, как дельфин. Бумаги из комитета стоят огромной запрудой. Партийная организация не сумела до сих пор стать водителем производства. У Поджигателя зоркий и серьезный взгляд, я узнаю в нем привязчивого ко всему, неотступного комиссара пехотной дивизии.
Но он смотрит на меня пристально. Я вижу, что ему тяжело подчиняться логике подступающих мыслей. Он медленно надевает ботинки на голые ноги.
– Не забудьте, – говорит он Винсеку, сухо отводя взгляд от моих глаз, – вам сегодня делать доклад в Магеллатовой казарме… Тему вы получили. Возьмите цифры в канцелярии.
– Ладно, сделаю, – отвечает секретарь и мрачно пыхтит над сапогами.
Поджигатель уходит, он не произносит больше ни одного слова. На столе каждому из нас приготовлены две папиросы. Дверь захлопывается.
– Вот шухер! – подмигивает Овидию Винсек, подпоясывая суконную гимнастерку с оловянными пуговицами на высоком сальном воротнике. – Гамлетом прикидывается, – он потягивается перед зеркалом, зевая длинной и заспанной скукой. – Ну и мурло у меня! – говорит он, зевает опять, замысловато выругивается и собирается на службу. – По-ни-маешь, – его волосы дико торчат во все стороны, – ненавижу я это бабье! Вчера опять гадюка письмо прислала. Зачем ты, говорит, мои письма мужу пересылаешь? А еще им доклады, хамкам, читать!
Он презрительно сплевывает и задумывается.
– Я из-за нее из угрозыска ушел, – говорит он, топорща белесые брови. – Не веришь? Ей-богу!.. Я тебе говорил, – обращается он ко мне, – как мы ее в номерах голяшкой держали?.. А из-за чего? Я на ее жалость сначала поддался, сколько она закуски всякой переносила, вот одеяло сатиновое от нее увез…
Он закуривает и, жадно затягиваясь, смотрит мне в лицо круглыми ненавидящими глазами.
– А из-за чего? – повторяет он. – Презираю их, что они все перенести могут. «Данечка! Данечка!» Я, дурак, сразу ей и поверил… А теперь пишет, зачем письма мужу пересылаю… Да ее, змею, с товарищем застрелить мало!
Он, гад, вместе со мной над ней потешался, а теперь муж… По-ду-маешь!
Странная штука – жизнь. Он сидит на стеганом сатиновом одеяле, шея его упрямо краснеет рыжей шерстью, и он стучит начищенными сапогами об пол.
– Бро-дяга! – говорит ему Овидий, окостеневший от рассказа. – Да ведь это же ужасно!.. Ну, и ты, брат, хорош! Пересылать письма – так издеваться над женщиной…
– Сказал – словно в лужу… – грубо перебивает его секретарь. – Чего ты знаешь? Наслушался я: «Данечка, Данечка, не позорь меня, я невинна…» Погавкал я на нее. «Не-винна»! Подумаешь! А письмо ее я сегодня товарищу отослал. У них опять из-за меня шухер пойдет. Так ей и нужно!
Сегодня вечером ему предстоит делать доклад. Я замечаю, что после разговора о протоколе он переживает мрачное состояние.
Он злорадно и угрюмо клонит неповоротливую шею, поднимается… Мальчишеская головка его пренебрежительно исчезает в дверях.
Мы сидим с Овидием, и он долго рассказывает мне о московских делах, об арбатских проулках…
Он пускает круги за кругами, он переходит к Петровскому парку и останавливается на одном домике, перестроенном из конюшни, с палисадником в душистом горошке. Сейчас он цветет, лиловый, красный и дымчатый… Видал ли я когда-нибудь горошек выше поднятых рук? А несколько яблонь? А глянцево-черный пинчер и превосходные клумбы с левкоями? Все взрощено их старыми руками. Это не шутка – распустить всех детей в новую жизнь, поправить им крылышки и ласково, с легкою грустью смотреть в опустевшее небо. Его старики! Овидий говорит, блаженно уставившись вверх…
Отец – инженер, работает по двенадцать часов, поднимаясь почти на рассвете и возвращаясь лишь вечером, – он раздавал их цветы, политые старой любовью, знакомым приятельницам. Он им не пишет… Но кто его ждет больше всех в далеком грохочущем городе? Может быть, наш секретарь говорит так о женщинах потому, что никто не нарежет ему ножницами, знакомыми с детства, охапку бледных, как подвальные стебли, и сочных левкоев, чтобы поставить в сыновьей комнате? Его мать в шестьдесят лет сияет глазами и мечтает, как девочка… Знаю ли я, что значит жить в нашу эпоху, благословив ту пилу, что подрезывает старое дерево? Его старики распустили всех птиц, гнездо опустело, но это не черствые старые сучья, которых не любят садовники. Там есть еще цвет, – кто не знает старых деревьев, старых песен содружества и трудолюбия в редких розовых лепестках? Их любят залетные птицы, там есть еще добрый привет и сочувствие, а в дуплах всегда найдется ночлег песням нового времени…
– Да, это была семья, – говорит медленно Овидий, – жившая для детей и не помешавшая им ни в чем.
Его глаза влажны, круги ассоциаций расходятся в них все шире и шире. Не нахожу ли я, спрашивает он, что Вера Ивановна Ведель заставляет вспомнить жен декабристов?.. Он полюбил «Виллу роз», она напоминает ему детские годы… Да, да, он согласен со мной, что труд, содружество и дети делают брак прекрасно-осмысленным. Но наше время… Он стоит за полную революцию в отношениях, несмотря ни на что. Женщины так консервативны, а одиночество старости страшно лишь тем, кто не связан с обществом. Семья – это мир. Он нашел ее в классе, идущем на штурм. Он не понимает, почему его так неохотно печатают в реконструктивный период.
– Вас переедет колесо истории, – сказал ему вчера Поджигатель. – Чувства надо перековать на мечи. Художник и вы слишком глазеете по сторонам. Надо смотреть вперед. Машинист на паровозе не любуется нарядным пейзажем и не жалеет бабочек, сидящих на рельсах. Колесо истории беспощадно.
– Ну и что ж! – ответил Овидий. – Если и так, я буду листком, прилепившимся к колесу орудия. Я буду вращаться с ним вместе. Пусть давит! Но для чего, с какой стати ему давить? Я чувствую себя сидящим на зарядном ящике. Когда надо будет палить: орудие выпалит нами.
Несмотря на горячий спор, Поджигатель смотрел на него любовно. Сейчас Овидий качается на легких волнах, расходящихся в даль. Я начинаю смекать, почему наш учитель заботится о его сорочках и галстуках.
– Скажите, читали ли вы «Душеньку» товарища Чехова? – спрашиваю я Овидия.
– Чудесная вещь! Одна из моих любимых. Вы знаете, то, что писала критика о нем, – сплошная глупость и издевательство. «Певец сумерок, чеховский размагниченный нытик»… Какая чушь! Чехов – героическая, страстная женственность в нашей литературе. Он по недоразумению родился мужчиной… Но зачем вам это нужно?
– Так просто. Мне пришли в голову разные мысли…
Овидий смотрит на меня подозрительно. Разговор кончен, и я медленно схожу вниз.
Вечером, когда мы сошлись вместе и Поджигатель, сухо пожав мою руку, сел на кровать, я приподнял подушку и бросил ее на стул. Я всегда делаю так, чтобы откинуть одеяло. Все были в сборе, пустая кровать лежала под взглядами. Я сбросил подушку.
Молчание…
На голубом поле, ярко выделяясь большими красными клетками, лежали аккуратно сложенные портянки Поджигателя. Он увидел их первый и поднял глаза на меня, – в них я прочел глухую боль оскорбления…
Я ничего не сказал, я положил их на стол и вышел из комнаты. Я ничего не сказал, я ничего не знаю, но я чувствую сердцем: салфетки звучали насмешкой. Пусть будет так. Учитель, мой добрый учитель, мой, бесценный друг, я знаю, что у каждого есть свое беззащитное место. Удары в него никогда не прощаются.
Опять эта вечерняя музыка…
Есть непонятная радость не возражать клевете и не бороться со случаем: она, как Скупой рыцарь, злорадно пересыпает золотые богатства, не известные никому.
24.
Адская машина истории неуклонно тикает механизмом, брегетова спираль отсчитывает зубчики колеса, и стрелка медленно настигает римские портики цифр. Все часы согласованы в мире. Маленькое золотое насекомое на руке у Светланы Алексеевны шелестит вечностью, заведенной в звездных пустынях мироздания.
Огромное колесо миров скрипит. Небо пульсирует единством, зубцы колеса передвигают мириады других, и каждое движение трогает осторожную возню сцеплений. Клоп, переползающий стену в доме управления «Абрау-Дюрсо», под 43–44 градусами северной широты и 35–37 градусами восточной долготы от Гринвича, знает время и, когда поднимается солнце, убирается под карниз. Может быть, это добродетельный отец семейства, с отрыжкой и анекдотами, наподобие счетовода из нашей кооперации. Мир ему, пусть убирается к чорту! Мне лень пошевелить пальцем.
Мы не могильщики истории, мы – часовщики. На зубцах колеса, повисшего в бездне, сидит Илья Павлович Придачин и вынимает из тряпки эмалевый циферблат Павла Бурэ. Ноги его качаются между звезд. Он закуривает от луны, плевок его летит между орбит, кружится в притяжениях и попадает в трубу ученого мужа из Академии наук, не занимающегося политикой. Ха-ха! Почтенный мандарин рассылает радио по ничтожной планете.
Мы – часовщики из мастерской Карла и Фридриха, старых мастеров в сюртуках, из тихого переулка, бросающего желтые полосы света на мостовую. Напротив всю жизнь просидел, прочищая колесики, Дарвин. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти… – возились часы на стенах. Бородатый старик разбирал механизмы, настраивая адскую машину. Ночью мы видели его мерцающий лоб с выпуклой зоркостью направленной лупы.
Часы идут к совершенству. Кое-что засорилось в мире и покрывается ржавчиной. В старых замках Англии полночь глухо шипит и ворчит в механизме, аллебарды старинных стрелок стали опаздывать. Глухие удары настигают ночь и пугают мышей. Часы отстают, они просыпают время, история чопорно дрыхнет в кожаном кресле. В Германии они пробили давно, в предместьях – раньше, чем в залах и гостиных Курфюрстендамме. Илья Павлович чистит часы керосином, они идут верно: он не просыпает гудка, кочегарка начинает гудеть, когда старый клоп переползает стену.
Илья Павлович, хитрый как бес, сидит на обрубке и смотрит на солнце. Может быть, он знает, как быстро и верно идут колеса адской машины. Правда ведь, мы просто веселые спутники-часовщики с большой демократической улицы, где поют, убивают, целуются и плачут… Нет, мы висим на зубцах, под самою крышей, над нами уходит даль, под нами дымятся трубы, под нами копошатся букашки-люди. Дайте мне вашу тряпку, товарищ Придачин, почистим до блеска колеса, пора просыпаться, вставать и приниматься за дело. Классовая борьба – это починка часов ради веселых и чистых дней человечества. Пусть же они идут без задержки.
Что-то скрипит… Знаете ли вы, что Франция переживает винодельческий кризис? Подвалы набиты бочками, рынки насыщены, спирт и абсент городов кладут синяки под глазами парней и девушек. Особняки и лимузины фирм требуют законопроектов о спиртовании и химизации виноградного сусла, запрета ввоза, нажимов на рынки. Целомудренность винных бочек так же невыгодна посетителям первых кресел вечерней оперы, как излишняя щепетильность продавщиц модных конфекционов и молодых мастериц, не имеющих права носить прошлогодние юбки. Виноградари разоряются, они не в состоянии бороться с мильдью. Кола Бреньон сидит в кабачке и отпускает острые штуки по адресу отцов государства. Двор его опустел, огни Парижа наводят на мрачные мысли, добрые внуки его до сих пор не возвращаются с Марны. Но он горд и доволен, старый седой ворчун. Кто не читал, что пишет его последний и благородный сын? Если это так, – пишет он, – если это так пойдет дальше, он отказывается от прекрасного старого отечества.
Часы виноградных холмов, часы с кукушками, часы зеленых лужаек с черепицею домиков, часы добродушных женщин в грубых ярких чулках и веселых румяных кюре останавливаются. Прекрасная Франция! Нежный голос из книг, почерк розовых яблонь, неунывающий смех в темноте событий и крови, как старый красный огонь в добром стакане вина… Пусть хороший удар выбьет ядовитый абсент на продажные запонки, и пусть их зароют в землю, когда взорвется машина. Колесо поворачивается, секиры стрелок острее ножа гильотины.
Все связано в мире, друзья, – нам нечего опасаться. Часы не остановятся никогда, их медное быстрое сердце затронуто вечным движением. Илья Павлович знает все это у себя в кочегарке.
Он сидит, как всегда, и важно смотрит вперед. Гудок прогудел. Не находит ли он, что отсутствие табака наводит на мрачные мысли?
– Н-нет, – отвечает он, – ты только все не записывай… Н-нет… Когда молодой хозяин строится, он сначала не ест и не пьет, – кочегар поднимает палец и смотрит внушительно, – он о харче не думает, рубашки новой и обувки не надевает… Я знаю, – подсмеивается Придании, – ты хочешь у меня все выспросить… Еще одну причину запиши: страна у нас сколько лет разбитая была. Ага!
Он торжествующе глядит и с достоинством почесывает голову. Это – блестящая формулировка. Он вполне доволен ясностью своих мыслей, для него пустяки – отвечать заезжему и любопытному журналисту.
– Как вы представляете себе социализм? – спрашиваю я, закидывая его рядом вопросов о смысле человеческого счастья. О чем грезит он в кочегарке? Как разрешает он положения Шопенгауэра о Nihil privativum и Nihil negativum, его теорию о несчастной воле, постоянно стремящейся к счастью и оскудевающей, когда это стремленье достигнуто? Не считает ли он достойным внимания тезис о мировой скуке, когда воля к счастью, обагренная разочарованиями достижений, превращается в постоянное несчастье и приходит к выводу – самое себя отрицать? Это отрицание – подготовка для перехода в ничто – и есть счастье. Как он ответит брюзгливому Шопенгауэру?
Кочегар смеется: хе-хе, он знает все эти заковырки. Он жмурится от довольства.
– Видал? – говорит он, отворачивая полу засаленного пиджака, где стеариново топорщится сорочка в полоску. – Новая! По книжке получил. Хе-хе… – беззвучно смеется он, показывая клыки. – Теперь не то, что раньше. А казарму видал? У каждого койка, матрац, конечно… Жизнь развитие дает, – хитро щурится его глаз: он тоже кое-что понимает. – Выпить тоже ничего, в праздник, конечно, как полагается. Я доволен! – смеется бес в черной редкой бороде. – Пришел в казарму: полный спокой, разговоры… Обуться, одеться, пройтиться с тросточкой, послушать, как международная агитация идет…
Кочегар разговорился, он обращается ко мне сам:
– Ты спроси его, Кулика. Он тебе скажет.
Бочкомой сморкается в фартук, он вырастает высочайшей плоской доской, в седых усах его запуталась последняя прибаутка. Его счастье – в бочках: он полощет их, оттирает содой, парит их темный дуб и находит, что восемь часов работы, отсчитанных заповедью второго сотворения, не вмещают удовольствия от спорой работы. Его приходится гнать из подвала. В праздники он тоже является за своим счастьем, и Эдуард Ведель говорит об этом с теплой улыбкой. Запорожец умрет, если у него отнимут азарт и искусство прачечной для гнутого дуба. Мыть бочки – это почище, чем заниматься исканием истины, считая ее несуществующей. Он вытирает огромные руки, длиннее старинного маятника, с пальцами, как бугристые корни с германской гравюры шестнадцатого столетия.
– Он записывает! – задыхается от смеха кочегар и хватает меня за руку. – Пиши, пиши, он тебе скажет… Запиши, почему он такой мокрый. Ха-ха-ха! – трясется его тело от безудержного веселья. – Он записывает все, что ему ни скажешь!..
– Пиши, – говорит бочкомой, грабастая колени коричневыми лапами. – Значит, цапля и кулык и чайки – это три птицы таки болотны. Вот прылетела цапля до кулыка в гости, а он сыди у воды, конечно. Так она и говорит: «Кулыку, братику, чего это у тебя сыние м…и?» А вин и отвечав: «Цаплюшка-матушка, я всегда на води, оттого у меня сыние м…и». Потом вин-то и говорит: «Прылетилы гости, чорт им рад, сыди на помости у карты играть». Так це же у меня так. Потому и я Кулык.
– Видал? – кричит торжествующе кочегар. – Тонко у него все, как в газетке. Он тебе еще скажет. Слушай.
– Пиши, пиши, – простуженно басит Кулик, лукаво осучивая нитки запорожского уса, – це у меня усе так… Казак иде, козу веде, а она, проклята, не йде. А вин ее ногами, а она его рогами. Да и все… А вин раком и стал.
Придании доволен. Быть может, он прав. Nihil privativum Шопенгауэра и вопрос о воле к счастью разрешаются гораздо проще, чем полагают книги. Бочкомой не бросает слов зря, он в жизни признает только дело. Не подразумевал ли он под козой понятие счастья в толковании философа? Здесь можно ожидать чего угодно, в этой кочегарке с загадками хитрого беса в черной бороде и прибаутками, висящими на седохмурых усах почитателя пареных бочек. Кочегарка – прямо как колба алхимика.
Но когда же взорвется адская машина? Когда же наконец Кола Бреньон выльет проклятый голубой абсент, опаивающий ядами простодушные сердца с холмов, где растут виноградники?
Колесо истории неуклонно подвигает стрелки:
И клоп давным-давно уполз в свою заветную щель.
Надо вставать… Какая-то утренняя светлая истома звучит в теле. Боже, как мил и ласков утренний свет! Сны, как бой старых гулких часов, долго еще стоят неясным звучаньем, трогая легкий гуд сердечных потемок, – они все глуше, неяснее, и наконец совсем исчезает звон, и с высшей справедливостью секунды четко соскакивают с медных зубцов рассудка:
Так-так… Так-так…
Напрасно думают о часовщиках, что это самые мирные люди под солнцем. Их наклоненные головы глубоко обманчивы. Я знал семью одного гравера, резавшего печати губернским присутствиям и медные доски докторам и адвокатам, из улицы, погруженной в заборы всегда вечеревшей провинции. Так мне казалось – там всегда плыл сумрачный звон, огни зажигались рано, зябко летели скелеты галочьих туч… Гравер дал сына революции. Его сын пожирал мир, пахнувший сургучом и сукном полицейских участков, как туберкулез пожирает ослабевшие легкие. Он был румянцем и блеском на впалом и сжатом лице Восстания. Он был – его нет. Но он вечно стоит над страною – остроглазый, весь собранный в тонкости губ, весь как термометр с обезумевшей ртутью, в тонкой и чахлой руке его телефонная трубка и карандаш организатора. Может быть, вы ждете его, старый Кола Бреньон?
В глазах человека, стоящего над вьюжной, нетоплен-ной и голодной страной, грусть страстотерпца, но он кажется стальным изваяньем в черной блестящей коже, с блеском насмешливых неусыпных пенснэ. Он верен и точен, как сталь. Он накален до пыланья классовой ненавистью. Пусть же тем, кто спит в кожаном кресле, под хриплый бой заржавевшей истории, она чудится лохматой гориллой за прутьями клеток могущественной фирмы Гагенбек. Часовщики трудятся неусыпно, в мастерских бессонно клонятся под колпаками зоркие лупы…
Так, так… Я скидываю на пол голые ноги… Ах, я вспомнил, что между товарищами иногда ложатся печальные длинные тени.
26.
Сколько лет Директору? На этот вопрос ответить очень трудно. Быть может, ему больше сорока, быть может, нет тридцати. Овидий находит, что он принадлежит поколению. Очевидно, Лирик делает поспешный вывод из неизменной любезности, оказываемой ему Директором. Этот человек встречает его всегда добродушным криком.
– Эй, писатели и поэты! – кричит он, всегда помножая личность Овидия на всю литературу и приближаясь издали, как вырастающий степной паровоз – с шумом и грохотом. Свита тащится сзади запыхавшимися пыльными вагонами. – Розы-грезы! Птички-спички! – осаживает Директор вестингаузы и хохоча хлопает его по плечу. – Здорово! – Он почесывает грудь, поддергивает брюки. Несколько фраз, умноглазая бодрость. – Пойдем, пойдем! Я иду в шампанское производство, – и Директор дает пар.
До свиданья! До свиданья! Свита быстро мелькает рукопожатиями. Директор уже дымит далеко: встреча с поэзией для него только полустанок.
Может быть, он действительно из поколения? Это надо проверить. Люди хозяйства и портфеля чрезвычайно сложны. Было бы грубой ошибкой толковать Директора по его деловому разбегу и привычке почесывать пах, не смущаясь присутствующих.
Сегодня Директор пролетел один, он растерял свои прицепные вагоны и со всего размаху врезался в кадры. Ревизия его грянула молниеносно. В шампанском подвале, где, потрескивая верхними перекладинами, извиваясь винтовым блеском, опускались круглые давящие покрышки прессов, он возник неожиданно – суровым хранителем винного искусства.
Верхний этаж подвала распахнулся настежь. Поток пино-франа вливался в просторный зал, минуя стеклянную будку, – там столбики цифр в расчерченных графах отмечали работу весов. Чаны с виноградом хватались тележками, и грохот мчал их к прессам. Синий душистый разваленный ворох кистей ложился в машины, дубовые балки их содрогались и сухо отстреливались, когда с огромных дубовых колес, висящих как древние песни колодцев в пустынях, медленно, неуклонно, возникая от неуловимо мелькающих голых мускулов, перебиралась в игру шестерней грозная сила давления и опускалась вниз на бережно уложенную деревянными лопатами груду сочных, тугих, набитых солнцем и сахаром связок.
Пресса скрипели деревянной поэмой виноделия. Они возвышались суровыми балками, как дубовые печатные станки Гуттенберга, как формулы простодушной механики. Лиловый дух бочек витал над цементом высокой площадки, журчавшей мутным розовым соком молодого вина. Виноград проходил четыре давления. Внизу, под террасой площадки его сок сливался в лохани, – десятки ведер мутной розовотемнои жидкости: первая вторая, самая ценная выжимка – «кюве» на языке деревянных поэм. Пресса отпускали зажим, колеса древних колодцев вертелись в обратную сторону, виноград лежал в мореном краснеющем дубе глыбой паюсной черной икры. «Тай» и «ребеж» – третье и четвертое давления, глыбу икры разрыхляли лопаты, опять вертелись колеса, и в пустые зевы влажных лоханей, шланги которых уходили вниз, к отстойным чанам, снова журчала струя все розовее, все прозрачнее, чтобы вконец истончиться фиолетовым ключиком.
Вино рождалось в дереве. Его берегли от железа, от гниения, от плесени. В дубовых тисках собирались ароматы шампанского. Курение запрещалось строжайше. Никто не имел права нарушить покой вина, созерцательную жизнь его младенчества. Вода смывала опасность бактерий скисания: цемент и дерево не должны были знать ни одной оставленной ягоды. Благородные дрожжи Штейнберг, германские расы тысяча восемьсот девяносто второго года, задавались вину прямо в пресса. Профессор Антон Михайлович менял французские навыки. Его микроскоп раскрывал тайны брожения: дикие расы дрожжей, спавших в теплой пыльце матовых связок, развивались одновременно с чистой бурной культурой, – в бочках шла вековая борьба не на жизнь, а на смерть. Профессор бил дикие орды. Он добивался полной очистки вина, чего не достигли французы.
Когда Директор влетел в залу прессов, воздух пылал красными отсветами дуба. Лиловый виноградный туман окутывал смятенное движение тел. Винный рабочий – старая чистая раса хозяйства республик, – ходил, как пожарный в огне: слева – упругие свежие руки сезонных рабочих вертели колеса, – он наблюдал за точностью порции кюве, за укладкой гор винограда, за правильным нарастанием давления; справа, у набитых прессов, парень в матросской фуфайке, с дерзостной стрижкой затылка, весь в ходячей игре плиток и шрамов мускулатуры, качал прибаутками гул полуголой оравы. Орава катила тележки неистово. Низкий, как бык, врастающий головой в самые плечи, черноглазый раскидистый малый, повязанный красным платком на испанский манер, дымил папиросой. Это шумели дикие дрожжи, кадры из Сельхозуча, здоровые глотки, срезавшие все поученья винного мастера крепкими возгласами, – что им было до микроскопа профессора! Они хохотали над святостью винных уставов. Подвальный напрасно кричал и метался в гуле оравы. Он привык к тишине и мраку подземной работы, – недаром лицо его, с бритым впалым достоинством средних веков, казалось нестрашным парню с красной повязкой. Стихия диких, крепких дрожжей побивала культуры профессора. В жизни это было почище, чем в тихих каменных кельях с винными бочками. Дым папирос поднимался столбом. Утром парни спустили в чаны сорок ведер воды, забыв о незапертом клапане. Старик Доброштанов появился в своих добрых очках, с недоуменьем в гнутых, мешковатых коленях, – он прибежал из темной конторки и долго глухо кричал, поднимая руки. Парни смолкали, подсмеиваясь. Они ничего не боялись, пред ними хлопала крыльями слепая птица, седая сова, мудрость Минервы из полночного склепа подвалов. Вряд ли они хотели остаться в мраке этой работы. Мир раскрывался пред ними просторным величием фабрик, прибоем вокзалов, завоеванием светлых зданий рабфаков, дерзостью революционных дорог. Мало охотников было отдать целую жизнь тоннелям шампанского. Что им до тонких букетов и причудливых карликов вкусов и запахов! Что им до ощущений старых артистов! Доброштанов хлопал крыльями, сорок ведер воды возмущали неслыханной дерзостью, он клекотал перед веселыми мускулами, пренебрегавшими винной поэтикой, грозился Директором.
… Директор влетел в залу прессов без приглашения. Парень в красной повязке, кативший тележку, чуть не сшиб его с ног. Орава гудела, папиросы торчали у них из зубов. Директор мгновенно встал, засунул руки в карманы. Он встал, наклонившись вперед, расставил ноги в сползающих брюках, лицо его под козырьком стало темнеть. Он сумрачно ждал, не сводя полыхающих глаз с матросской фуфайки, все больше и больше наклоняя голову. Орава топталась на месте, малый в фуфайке сидел на прессовой стенке, пуская табачный дым. Директор стоял изваяньем, вбирая в себя крики и грохоты, – в зале зыбь голосов плескалась уже случайней и тише, стал затихать рокот тележек, колеса, медленно качнувшись взад и вперед, повисли в воздухе.
Директор вбирал все глаза и глотки, плечи его надвигались напряженным вниманием. Он, как удав, кольцеобразно вбирал тишину, зажимая ее в фокусе темных, сведенных бешенством глаз, – он наводил на фуфайку стоокое дуло общественности. Зал замолчал, и головы дерзкой оравы медленно, но неуклонно, роняя свои папироски, стали поворачиваться в сторону пресса.
– Так-с! – сказал Директор медленно и раздельно. – Вот вы какие, голубчики!
Дерево больше не пело. Парень в матросской фуфайке кидался глазами вправо и влево. Директор устроил засаду: сотни пристальных глаз, как мушки, нацелились в точку, они походили на стоокий телескоп, беспощадно вскрывающий все то, что могло спрятаться от одиночного взгляда. Орава предала парня – он остался один, глаза Директора настигали его раскаленными прутьями.
Директор молчал, черный от гнева. Медленно переступая ногами, он подошел к парню. Тот растерялся, папироса выпала из его рта, он так и остался сидеть с отвисшей губой. Директор поднял окурок, быстро повернулся и бережно выкинул его в решотку окна. Весь зал повернулся за ним и еще раз обратно, в сторону пресса, где сидел растерявшийся серый и сникший человек в полосатой фуфайке. Дикие дрожжи были раздавлены.
Директор, не говоря ни слова, оглядел пол, покачал головой, заглянул в пресс и медленно спустился вниз. Его грузное тело мелькнуло у лестницы.
Он стремглав пробежал второй этаж с отстойными чанами и бочками, курившийся причудливыми пещерными запахами серы, заглянул в ликерное отделение и выбежал к лаборатории, где в небольшом кабинете резиденствовал дух синтетической химии профессора Антона Михайловича. Профессор, замкнутый в кресло у письменного стола, с чистыми, как у ребенка, снежными волосами, опустив угольные сатанинские брови, рассматривал большой рисовальный альбом в профессиональном переплете из серой парусины. Живописец и Овидий, приподняв дегустационные бокалы с округло вогнутыми кверху грушами белого стекла, с некоторой принужденностью рассматривали игру пузырьков, кипящую в золотистой жидкости. Шампанское остуженно щипало горло. Запотевшая, черная как смоль, бутылка, царила над гладью стола. Она спорила за первенство с чернильным прибором серого мрамора с медными точеными украшениями, поражавшими бессмысленностью канцелярского стиля. Так чувствовал Овидий. Художник торжественно упивал бутылку, не теряя лишнего времени. В его альбоме, развернутом тонкими руками профессора, расплывчатый ватман причудливо жил акварельными дождевыми туманностями. Профессор улыбался и пощипывал бороду. Рисунок поражал его неожиданностью, в нем исчезала геометрическая точность знакомого ему годами цементного зала, прессы фантастично клубились телесной мягкостью красок; в рисунке уничтожались фабричность, производственность, социальная значимость строгих движений людей, за осмысленную последовательность которых боролся и он, боролся долгими годами вместе со всеми – с ячейкой, с рабочим комитетом, с непреклонным и грузным Директором.
Орава Сельхозучета особенно пленила акварельную кисть. Малый в полосатой фуфайке дерзостно катил тачку. Пятно его, сложенного из выпуклых бросков мускулатуры, вольного торса было мастерски схвачено кистью. Дымок папиросы ухарски винтился вокруг его головы. Он походил на полубога среди связок лиловых дымящихся тел. Синие виноградные тени плясали на зареве балок и решетчатых стенок прессов, краски мерцали причудливыми отблесками пламени.
– Похож, похож! – засмеялся профессор, любуясь сине-белым полосатым пятном. – Это самый большой бузотер. Но, Александр Алексеевич… я понимаю: это очень эффектно, все очень талантливо, но… ведь у нас не курят! – и он поднял к художнику пенснэ, темноглазые внимательные стеклышки привычного собеседника.
– Поми-луйте! – засмеялся Живописец, превращаясь в дядюшку. – Дымят, дьяволы!.. Ничего не знаю. Дымят, хоть бы хны! Я, милый, сам видел, – он развел руками, пальцы его растопырились в воздухе чудной изумленностью. – Тут, милый, ничего не поделаешь. Парни – во! Огарки.
Овидий засмеялся: художник подмигивал ему на бутылку. Профессор совершенно спокойно рассматривал акварель.
– Хм… – задумчиво произнес он, отводя альбом от глаз и еще раз вглядываясь в рисунок издали. – Вы очень смело подходите к действительности… Любопытно. Кто же курит и безобразничает? Сельхозуч?
– Во, во! Етот самый Сельхозуч.
– Так… Наливайте, наливайте, я сам не пью…
Дверь распахнулась, прервав его на полуфразе. Приподнятая рука Овидия с золотистым опененным бокалом застыла в воздухе. Черные глаза Директора выстрелили в комнату бездымным хлыстом неожиданности. Он задержал мгновенный взгляд на бутылке, шагнул вперед, его «доброго здоровья» исключало всякую дружественность. Рука Овидия медленно опустилась к столу. Профессор бережно положил раскрытый альбом.
Мгновенье.
– Чорт знает что! – Директор гневно раскидывал фразы. – Я принужден буду взяться за Василия Васильевича. Это совершенное безобразие! Полный развал!.. Я был сейчас наверху: грязь, как в свинарнике, папироски в зубах, полная бестолковщина… И это – Сель-хоз-уч! Кадры! Чорт знает… Им наплевать на всех, наплевать на Директора! Меня чуть не сшибли с ног… Да ведь это же банда!
Он тяжело дышал. Овидий переселялся в трезвость мраморной мемориальной доски с чернильницами: медные колпачки их стояли канцелярскими пагодами с высокими точеными монгольскими шариками. «Какая бессмыслица!» – думал он, сосредоточиваясь на их витиеватой ограниченной скуке. Живописец подлил себе из бутылки. Директор громил дезорганизованность трудового процесса.
– Да, да, – спокойно щурился профессор и назвал Директора по имени и отчеству. – Я уже получил сегодня все сведения… Молодежь распустилась. Мне сегодня говорил Доброштанов… Быть может, – он снова произнес имя и отчество, – вы не откажетесь от одного бокала?
– Благодарю. Сейчас не хочу! – подчеркнуто отрезал Директор. – Где Василий Васильевич? Это форменное безобразие! Я разгоню его банду: она развращает сезонных рабочих. Что это у вас? – он быстро взглянул на акварель, сдвинул хмурые брови и пододвинул альбом.
Пауза.
– Этот самый! – вспыхнул вдруг гневно Директор. – Безобразие! Я знаю этого хулигана… Харррош голубчик! Его не рисовать, а гнать с производства нужно!.. Ну, ладно, – Директор небрежно захлопнул альбом, взглянул еще раз искоса на бутылку и выпрямился. – Будьте здоровы!
Он быстро повернулся тяжестью насупленных плеч, хмурое лицо его мелькнуло силой прессового давления. Дверь захлопнулась.
Овидий не сводил глаз с медного шарика чернильницы; вокруг его блеска твердился нелепый куплет, появившийся неизвестно откуда и почему. Шарик чернильницы блестел нестерпимо. Овидий переживал муку молчания. Его давил стыд за опущенную руку с бокалом, чувство неловкости перед одним мимолетным взглядом Директора на бутылку пронзило его существо щемящей детской болью. Директор поразил его собранной воедино, подчиняющей отцовской силой. Секунды растягивались.
– Сурьезный случай, – сказал медленно художник, выливая в бокал остатки шампанского. – Побреют парня на пятнадцатое число… Ну, – он поднял желтый винный хрусталь, – все пропьем, гармонь оставим.
Он медленно выпил бокал. Профессор постукивал пальцами по столу. Глаза его спокойно и остро глядели двумя отточенными графитными кончиками фаберовских карандашей.
– Я должен извиниться… – начал он, поднимаясь.
В это время Директор налетел на его помощника, Василия Васильевича Агапова. Они стояли друг против друга, как два столкнувшиеся паровоза, вертя шатунами. Лицо Директора чернело и казалось невыспавшимся, речь его походила на тяжелый мазутный дым, выбрасываемый давлением на подъеме. Слова его были неопровержимостью блеска начищенной до жара медной арматуры. Василий Васильевич рыхло и серьезно сдавался. Судьба дикой расы, свободной воли и анархии личной ответственности падала и отступала перед выпуклой мощью механизма, подчиненного стрелкам безмолвных часов, нависших с темных громад истории. В мире буйно бродила прекрасная страсть к совершенству. Над Директором властвовал отцовский инстинкт класса. Он содрогал его огромное тело энергией созидания и вставал холодным обликом разума перед жестоким актом рождения. Революционная страсть Директора стояла у изголовья жизни, как вчерашний безрассудный любовник стоит перед женой, давшей ему сына. Он не говорит прежних высоких смутных слов. Он строго смотрит на новое трепетное тело – и уже иные, полные делового значения будни порождены этим криком, еще не научившимся жить и властвовать над собой. Эти будни просты и суровы, как стены больницы, они беспощадным, как власть и пытливость врача, они не знают иллюзий, как взгляд педагога, оценивающего богатство способностей своего питомца.
Директор был беспощаден к близким: он разгромил Агапова. Сельхозуч нуждался в крепких руках, его нужно приучать к настоящей работе. Это – не институт благородных девиц. Не ждут ли они труда без ответственности, легкой работы, как ее понимает невежда? Работа легка и приятна там, где знания и опыт достигают возможности личного творчества. Там, только там есть простор подлинной радости и наслаждениям чести.
Агапов кивал головой. Что значат слова? Директор выражался по-своему: смысл говорил за него. Он хмуро простился и пробежал в бондарную, поддернув штаны. Бондарь Бекельман ходил среди бочек, заросший щетиной, готовый обнять всех – по случаю двух литров бургундского по себестоимости.
Он было кинулся обнимать Директора.
27.
Далекий Неунывающий Друг, я боюсь, что вы ничего не понимаете в шампанском. Его блеск и пышная пена пролиты в старом мире. Я думаю, что вы пробовали его лишь несколько раз, случайно, среди лохматых друзей, и пили льдистый лучистый ток жидкости из чайных стаканов, закусывая колбасой из распределителя. Вы, конечно, не придавали никакого значения этому делу, а в последние годы и вовсе забыли о тонком искусстве вина.
Но прекрасная родина сине-туманного сорта пино-горы Абрау подносят высокий бокал шампанского своей суровой стране. Отпейте глоток. Разве вы не достойны этого созвездия виноградных холмов? Восемь сортов, восемь легенд вошли в музыку вкуса и запаха. Четыре сорта пино – пино-фран, пино-гри, пино-шардоне, пино-блан: темно-синий, блестящий лаком черного дерева; серый; пепельно-розовый, благоухающий, как воспоминание о живости Франции; белый, как горный, светящий зеленью лед. Трамминер – пятый по счету, висящий под самой густой тенью кустов, весь голубой, – он свисает тесной семьей прижавшихся друг к другу поросят у нежных сосцов дремлющей матери. Мелкий, рассыпанный круглыми дымными шариками савиньон, хрустящий на языке мускатным упругим дыханьем. Алиготэ и рислинг – как дань восклицаньям влаги, зеленым потокам и касаньям осеннего ветра. Их восемь братьев, соединенных в вине. Восемь веселых и вкусных слов. Восемь национальностей, восемь республик, восемь делегатов на осеннем съезде каменных гор, восемь решающих голосов на январском совете купажа с дегустацией. Они нераздельны и дополняют друг друга. Тираж разделяет их на бутылки, в каждой вскипает своя биография: ликер и благородные дрожжи творят игристую жизнь. Три года им ждать, опрокинувшись набок, преданных рук ремюора.
Тоннели окружают их шопотом гулкого мрака.
Мелькают весны и зимы…
В бутылке шампанского смысла не меньше, чем в картине Сезанна, и даже Гораций советовал очищать вечно живое вино.
28.
Подвалы шампанского запираются в пять часов вечера. В три часа воздух над горами и озером начинает озираться по сторонам, свежеют краски, стихает жар, и вот уже приходят туманные тени и глубины, покрытые дымкой.
Но день еще крепок. Я слышу бессвязный лепет воды у фонтана, сквозь хвойные ветки ласкается солнце, обезьяньи гримасы, застывшие в бронзе, кажутся мертвым оскалом. Четверть четвертого. Почему ее нет до сих пор? И неужели действительно меня это тревожит всерьез? Буду считать до двухсот: раз, два, три, четыре, пять… Я считаю все дальше и дальше, цифры идут и идут… Какой смертельный, фатальный ужас есть в чувстве пред женщиной!.. Сто девяносто восемь, сто девя-нос-то девять… Осталась секунда, еще… «Двести!» – шепчу я с последней решимостью и слышу шаги за оградой, легкий скрип песка и камней, этот темный язык, не имеющий иероглифов. Секунды, шаги, вечернее слышное сердце…
Какой вздор, какая наивная глупость! Широкая спина Василия Васильевича Агапова поднимается по ступеням шампанского здания. Кудлатая черная голова его с плотной, упитанной шеей поражает прямолинейностью жизненной силы. Его шея вызывает во мне тысячи ощущений. Психологизмы? Я недавно прочел, что это признак мелкобуржуазной природы. Ах, признаков этих так много! Статьи литературных критиков стали напоминать медицинские книги. Овидий смеется и говорит, что наши интеллигенты, принимающие курсы лечения классовой природы, походят на больных, жадно листающих ученые словари, переполненные возможными ужасами. Бедных кидает в пот при виде страшных рисунков, они находят в себе признаки всех болезней и обмирают при виде невинного прыщика. У кабинетов редакторов люди сидят, как в передней «по венерическим»… В повестях и рассказах таятся спирохеты старого мира. Боже, что, если редактор вновь покажет кресты реакции Вассермана! «Редактор должен сидеть в белом халате, – смеется Овидий. – Дайте ему пару гуттаперчевых перчаток, повесьте у входа в приемную плакат с воспаленно-янтарными язвами, с рисунками сыпей, украсьте его достойной надписью: «Мелкобуржуазная природа не позор, а несчастье». Бедные, бедные! Они смотрят с последней надеждой в глаза докторов, ходят за ними покорными толпами, а дома перелистывают спрятанные наглухо книги, худея и облезая день ото дня…»
Овидий поклоняется хирургии. «Погибшие ткани – долой! Но и долой докторов в передниках литературщины! На солнце и ветер – все те, кто еще не стал маниаком! Довольно разглядывать случайные прыщики, крепко прикрывшись на ключ». Быть может, он прав… Но все же она не идет. Она не идет. Минуты ползут, а в сердце есть ложь уверения, что так хорошо, что лучше всего именно так. Прекрасно, что она не пришла. Прекрасно и потому, что есть у Скупого Рыцаря радость приобретенья, бескорыстный восторг художника, перебирающего собственную скорбь, как струю тяжелых и скользких монет. Прекрасно! Я не собираюсь вступать в фаталистический круг старой любви, где мечтательные тридцатилетние люди воображали себя планетами, изобретали женское солнце и начинали вращаться по крошечной орбите, восторгаясь космическим гулом. Ничего подобного! Раз, два, три, четыре… Нужно досчитать только до ста, и тогда все устроится, все будет хорошо… В сущности говоря, вопрос о психологизме разрешается очень просто. «Познай самого себя», – как стара и неверна эта традиционная мудрость! И как ее любят люди, воображающие себя планетами! Дело не в том, что в вас взошло или опустилось солнце, мой дорогой Друг. И сложность жизни вовсе не в личности и не в исканиях героев. Герой исчезает. Героем становится все то, что производит героев. Проста и несложна личность: лучшая жизнь займет не более двадцати строк. Это чудесно. О себе я мог бы наскрести не более трехчетырех фраз. Так просто, так ясно… Великолепно! Нет солнца в небе. Но то, чьим отраженным светом пылает скромная, бедная личность, все то, что создает в нас мысли, поступки и чувства, – вот поэма познанья, вот очень простая истина, Неунывающий Друг! Но здесь сложности больше, чем в малых птичьих напевах личности со сбившимся галстуком. Здесь нужно учиться не у врачей, а у жизни. Так… Я продолжаю. Вошь – герой не менее Фауста. Придании без биографии – больше Наполеона. Светлана Алексеевна…
Здесь я буду считать до двухсот. Я просчитаю, быть может, до тысячи. Но я не хочу утверждать, как доктор в литературном халате, я ничего не скажу о девушке. Я буду считать. Мне приятно считать: сто пятьдесят четыре, сто пятьдесят пять, сто пятьдесят шесть…
– Здравствуйте!
Я обернулся мгновенно, – сто пятьдесят семь… Смятенный обвал мыслей, неожиданность, испуг, какие-то случайные обрывки сознания, удаляющиеся, как фонарики поезда, и оставляющие одинокую пустоту рельс…
– Простите меня ради бога, – сказала она быстро, кладя руки на мои плечи, – я заставила вас ждать.
Она улыбалась ласково, в губах ее розовая, чуть припухлая откровенность по-детски приоткрывала прохладные влажные зубы. Этот незнакомый белый берет, чуть набекрень, янтарь на шее, падающий к груди теплыми виноградинами, эти кольца волос, как юношество, загнутые вокруг головы ореховым чистым сияньем.
Я не люблю янтаря, он кажется мне слишком зрелым, полным пресыщенности старого Востока. Но грозди его дышат на ее белой коже, как сны в колыбели.
– Нет, нет… – бормотал я. – Собственно, я не ждал. Сейчас половина четвертого… Разве это много? Половина четвертого – это такие пустяки!
Девушка перебирала янтарь. Земная кровь ее разгоревшихся щек розовела правдивостью девочки. Она всегда казалась мне освещенной. Сегодня она сквозилась откровенностью дня. Этот свет – словно весенний родительский дом.
Мы сидели на лавке. Она облокотилась на коленки в розоватых, блестяще натянутых отсветах чулок.
Я говорил много, и девушка слушала меня и ласково улыбалась. Я ликовал. Тайна возникала в нашем союзе. Я верил в него уже бесповоротно. Она ищет меня, – недаром я столько лет собирал свои чувства! Я говорил о друзьях, упомянул о Директоре. Поджигатель! Как ей нравится наш Заратустра воинствующего радикализма? Она засмеялась при этом имени, лукаво закрывая глаза. У них завязалась большая дружба, но в этом, я уверен, нет ничего, кроме дружеских разговоров. Я не сказал ни слова о черной кошке, пробежавшей между нами. Последние дни показали, что я был прав: человеческие суждения друг о друге – это постоянная игра свето-тени… Я ничего не сказал нашему Учителю в свое оправдание. Проклятые портянки замешались к нам неведомо как. Вернее всего, здесь пахнет шутками практикантов, среди них есть девушки со стрижеными арбузными головами. Наверное, это они. Об Овидии я говорил много: я полюбил его за женскую, страстную искренность. Как он сумел сохранить все это, пережив долгие годы литературных скитаний?..
– Вы его совершенно не знаете, – убеждал я девушку.
– Я думаю, что он скорее всех нас пройдет реконструкцию…
Не спорю, я увлекался, но я привык говорить о друзьях только самое лучшее. Надо брать центральное в человеке. Личность – семья многогранных кристаллов. Зачем я буду выбирать мелкие? Лучше всего смотреть на основную вершину. Я уверен, что девушка не понимает Лирика, она слишком холодна с ним и слишком иронична. И сейчас, при моих словах, она сделалась серьезной и сухо смотрела в сторону.
– Вы говорите, он очень искренен? – вдруг быстро переспросила она и внимательно взглянула мне прямо в глаза. – Я не думаю этого. Вы… – она на мгновение задержалась. – Напрасно вы думаете, что я его мало знаю, – она подчеркнула последние слова. – Я хочу спросить вас о некоторых вещах… вернее, попросить совета. Глупо думать, что личная жизнь принадлежит только себе. Вот я и решила… Зачем в конце концов прятаться от людей, которых ценишь? Тем более у вас больше знания жизни. Хотя, мне кажется, нужно жить гораздо проще, чем вы… Вы мне все скажете? Да?
– Да, да, конечно, – говорил я. – Все, все, что хотите. Хоть сейчас.
– Нет, нет, только не сейчас… Сейчас вы мне покажете то, что обещали.
В самом деле, тоннели шампанского… Взгляд на часы – четверть пятого: мы успеем посмотреть на процесс ремюажа.
Мы вышли из садика. Странное чувство заставило меня обернуться при выходе: мне захотелось взглянуть на обезьяну.
– Одну секунду, – сказал я. – Дайте вашу руку… Мне хочется, чтобы наш разговор остался навсегда в памяти. Я знаю, что воспоминания всегда связаны с мелочами.
Ее длинная сухая ручка сияла трепетным ласковым жаром. Мы подошли к фонтану. Вода радужно развевалась мельчайшей пылью. Обезьяна сидела на бутылке в бронзовых корчах. Ее острая мордочка гримасничала мертвым оскалом летучей потревоженной мыши.
– Вот, – сказал я, с трудом подыскивая слова, – я хотел бы, чтобы никакой случай не украл вас из моей жизни. Я хотел бы сказать вам, Светлана Алексеевна…
– Нет, нет, ради бога! – умоляюще проговорила она, и я почувствовал мучительную неловкость. – Не говорите мне сейчас ничего. Милый, не сердитесь, я вас очень прошу!
Пауза. Она смотрела на меня дружелюбно, тепло, готовая поддержать при всяком затруднении.
– Я не верю ни в какие случаи, – сказала она твердо. – И зачем создавать фетиши из вещей, хотя бы и для воспоминаний? Нас, женщин, напрасно обвиняют в этих грехах. У меня нет ни одной дорогой для меня вещи. Я не люблю антикваров, библиофилов. Они просто сумасшедшие. И я не хочу запоминать этой противной обезьяны. Пожалуйста не думайте ни о каких случаях. Пойдемте!
Мы вошли под своды шампанского производства. Серый гуттаперчевый мрак охватил нас сразу, в нем тускло свисала желтая усталость одиноких электрических лампочек. За стеклянными рамами полутемной конторки райским минеральным светом благоухал зеленый фарфоровый абажур. День, оставшийся сзади, светился на камнях двора горячим экраном кинематографа, с фильмом, снятым в Каире. В конторке, на острове желтого света, трудолюбиво клонился над книгами старик Доброштанов, очки его висели на кончике клюва. Он сидел, как старый пират у кормы с фонарем в обручах, над которым кружатся мертвые головы бабочек.
В боковом коридоре остро и свежо дули дождевые винные запахи. В тоннелях, уходивших в недра горы, на вершине которой грелся в лучах дом нашей коммуны, дозревало вино в мелких шампанских бочках. Верхний этаж подвала принимал в себя соки прессов, стекавшие сверху. Там, наверху, виноградные кисти прощались с ласковым солнцем и светом, их розовый сок навсегда опускался во тьму. Ниже вино расставалось с бочками, чтобы найти игристую жизнь. Туда, в сырую вечную ночь, после весеннего празднества купажа и разливки, тысячи темных тяжелых бутылок погружались мягким паденьем подъемной машины.
Белая шапочка девушки теплела во тьме. Мы миновали мрак коридора, узкая лестница столкнула нас вместе. Поворот ее головы, глаза, светящие в темноте ласковым блеском, с круглыми бликами бездонных зрачков казались тайной сообщницы, волненьем детской игры.
– Ну? – говорила она, оглядываясь, голосом шопота. – Ну?
– Прямо, прямо, – бормотало сознанье. – Не упадите!
Но голос другой, голос из первых проблесков жизни, – память материнской груди, взгляды сестры, сотни женских мгновений, шорох листьев какой-то весны, и Сашенька с быстрыми ножками в тугих махровых резинках, как первые слезы и жар, как стыд и первая тайна, – голос первых диких кочевий запевал песню вечного спутника…
– Ну? – обернулась она. На меня посмотрела девочка: она поднимала букетик лиловой весны с дубовых листьев, рассыпанных двадцать один год назад, щеки ее пунцовели, и белая полная полоска с резинкой хлестала, как ветка орешника. – Ну? – повторила она и погладила мою щеку – Что с вами? Куда дальше итти? Здесь так темно и сыро…
– Прямо, прямо, – сказал я; в сознаньи моем проснулись подвалы шампанского.
Тусклый цементный покой безлюдно серел глухим коридором. Ненастные, желтые лампочки вращали висячие пятна огней. У выхода лестницы два учебных пюпитра бездельно блестели черным стеклом. Учеников, двух молодых ремюоров, не было. «Странно! – подумал я машинально. – Они обычно работают здесь в это время… Но где же стучит Везарко?» В глазах у меня расплывалась, как пахучий цветок, белая шапочка.
Железные двери тоннелей с кузнечными кулаками запоров были полуоткрыты. Вдоль стен коридора горы бутылок с меловыми значками дышали потным, заиндевевшим холодом.
– Эти бутылки готовы, – сказал я, показывая вдоль стены; голос мой звучал глухо. – Они прошли дегоржаж. Вино очищено от осадка – и получило ликер, в зависимости от сорта: полусухое, сухое, совсем сухое, брют… Вы знаете разницу?
– Нет! – засмеялась она и взяла меня под руку. – Я ничего не понимаю в вине.
– В полусухое добавляют вкусовой сладкий ликер. В сухом его меньше. Брют – это чистое вино. От него никогда не болит голова. Восемьдесят, сорок и двадцать кубиков ликера. Вот пропорция – и весь секрет. Женщины больше всего любят сладкое – полусухое. Здесь оно лежит два месяца. Ликер должен совершенно усвоиться вином. Это – образ счастливого брака.
Она крепко сжала мой локоть. Круги лампочек завертелись пушистыми кольцами. Мы слушали тишину. Шепталась вода, – на земле наверху ликовала огромная жизнь, без конца и без края, – кругом сырой мрак скрадывал звуки. Тук-тук-тук… – изредка долетало сквозь стены. – Тук-тук-тук… – в тоннелях, глубоко под сердцем зеленой горы, заросшей деревьями, травой и цветами, стучали бутылки.
Голос мой вырвался хрипло:
– Пойдемте. Это – Везарко. Он в крайнем тоннеле. Слышите?
Из неизвестности едва доносило шорохи.
– Нет… – она ответила шопотом: – Я слышу, как стучит ваше сердце.
Я слушал.
– Он где-то близко… Стойте, он рядом. Слышите?
Тук-тук-тук… – неуловимо перебегали вспышки отдаленных ударов. Вся моя жизнь качалась между случайными звуками и теплым блаженным плечом.
– Мне холодно, – просто сказала она. – Мне кажется, он стучит вот за теми дверьми.
Железные створки второго тоннеля были прикрыты наглухо. Когда мы распахнули их и вошли, нас поглотил холод вечной арктической ночи. Лампочки удалялись огнями глухой провинциальной улицы, их свет не рассеивал тьмы, тесно заставленной пюпитрами, походившими на двухсторонние наборные кассы. Девушка не ошиблась. Везарко стучал в тупике тоннеля. Он работал один, как всегда, – мощный добряк в пушистых усах над благодушием щек и мягкой гладью подбородка с двойными пухлыми складками. Он откликнулся весело – долголетней работой, выпуклой ясностью глаз, огромный на своих деревянных колодках, в царственном фартуке, с лицом гастронома и руками горнорабочего в державно-спокойных мозолях. «А! – вскидывал он после каждой фразы полувопрос, полувосклицанье. – А?» – округляя лукаво глаза чистой игры и комично шевеля белокурыми прусаками усов.
Красный огонек коптилки, подвешенной на жестянке к пюпитру, жалил чад приглушенного мрака. Ремюор стоял у пюпитра недвижной мощью серого фартука и разговаривал, не глядя вниз, где шестьдесят бутылочных донышек с белыми отметками – все в одинаковом положении – ждали его рук. Руки хватали их попарно, через одну. Бутылки приподнимались из гнезд, неуловимо быстро вибрировали в воздухе, постукивая горлами о дерево, перевертывались парами на одну восьмую окружности и опять до следующего дня застывали в ночи погашенных тоннелей. Ремюор показал девушке бутылку на свет. Мутный липкий осадок хвостатой тенью лежал на стекле: он сполз только наполовину. Везарко давал круглое сотрясение. Чем дальше, тем сотрясение должно было становиться нежнее и нежнее, вибрация неуловимее. Это – встряска на месте, когда хвост заходит уже за плечи бутылки, здесь нужна величайшая осторожность и точность в определении процедуры. Один промах – и муть может подняться вверх, замутить вино, работу придется начинать сначала на долгие месяцы. Девушка взяла бутылку, наклонила – и в тот же момент воздух, стоявший у дна, стрельнул к узкому горлу, буран серых хлопьев закружился в стекле…
– Ах! – испугалась она. – Что я наделала! – Она держала бутылку пробкою вверх, полная извиненья. – Простите, ради бога простите! – Она совсем растерялась, не зная, куда повернуть круглое холодное стекло. – Возьмите ее пожалуйста, – сконфуженно протягивала она бутылку, боясь пошевелить ее живые, ходячие недра.
Ремюор продолжал работу. Его руки клещами хватали бутылки, кисти дрожали, как струны на неподвижности грифа, молоточки стеклянных ударов, отсчитав секунды вибрации, замыкались стуком гнезда.
– Ничего, ничего… – сказал ремюор, цепко перехватывая парные глянцы стекла. – Поставьте ее, она не годится.
Ту-ту-ту-тук… – стучало стекло. Он перескакивал руками по рядам пюпитра, точно пианист по клавишам.
– А?! – говорил он водянистым выкатом глаз. – Это работа. Французы не показывали ничего. Сам винодел говорил: – «Русский должен возить только тачку»… А? Рука должна не шевелиться, все дело в развитии пальцев…
Бутылки, выхваченные из гнезд, вертелись и дрожали в воздухе. Ту-ту-тук… – вздрагивало и стучало стекло. Это было искусство виртуозной скрипичной игры.
Ремюор прошел весь пюпитр, вытер руки о фартук, поправил коптилку. Непроницаемая тишина охватила нас могильным холодом. Звуки исчезли. Казалось, тихонько шипели электрические накалы лампочек, да звонко прорезывал плотный цементный мрак одинокий плеск льющейся где-то воды. Мир иссякал в этих призрачных подземных наречьях.
– Как у вас жутко! – вырвалось у нее. – И как холодно!
Он стоял перед нами, раздвигая широкие усы светлоглазой улыбкой, полный и плодородный своим искусством, похожий на вечного холостяка, понимающего вкус в жизни; ему не хватало трости с монограммами друзей, мягкой шляпы и доходов рантье, чтобы прогуливаться по Большим бульварам и помахивать перчаткой знакомым… Он встал за следующий пюпитр, руки его запрыгали по бутылкам. Стеклянные стуки вновь побежали по тоннелю…
Почему она крепко сжала мой локоть, когда я сказал о ликере? Мы шли обратно, тесно прижавшись друг к другу, ее белая шапочка светлела драгоценным теплом, вправленным в мрак сурового холода. Тяжелые двери закрылись сами. Едва доносило стук, оставленный среди бесконечных пюпитров. Здесь затеплело. Изредка глухой шум человеческой жизни доносился сверху, – тишину словно из таза окатывало плеском дребезжащего гула… Мне стало жаль прошедших минут. Еще полсотни шагов, винтовые круги лестницы – и ее плечо покинет мое, солнечный свет рассеет подземную близость. Я не знаю, что заставило ее согласиться, но она не противилась, когда я открыл крайние массивные двери. Ничто не ответило нашим шагам. Ровные стены уложенных до самого верха бутылок, линия мутных огней, цементный, тускло блистающий потолок, лужи воды под ногами… Мрак нависал бредом исступленного одиночества, он глядел таежным оком самоубийцы, который натыкается везде на отраженья самого себя.
Угрюмый тоннель, схваченный желтыми лампочками, тащил в провал, в старые детские сны и полеты; возникала спираль, ужасающая труба, с нетерпимой сухостью блеска звезды; туда беспощадно влекла какая-то невероятная, прожорливая сила… каплю сверху. Хотелось закрыть глаза и стоять, разговаривая с безмолвьем сухой, чуть припухлой за пальцами, женской руки.
Мы были глубоко под землей, в самом центре горы, одни среди залежей шампанских бутылок. Глаза ее показались мне бездонными, волны тепла расходились от ее вдумчиво-спокойного тела, мне казалось – от пальцев ее кружится розоватый пахучий туман. Огромный сияющий маятник качался над вечерней землей. Мы стояли, закрыв глаза, чуть покачиваясь в ритм тишине, в ритм секундам, пролетавшим неслышно, незримо, мы летели за ветром минут… Где-то далеко, среди трав и вечерней воды мы шли по дороге – неразлучные спутники.
Тишина.
– Боже мой! Что это? – вскрикнула с ужасом девушка, вдруг резко толкая мое плечо и отстраняясь рукой. – Нас потушили! Нас потушили! Слы-шите?
Я открыл глаза. Оглушительная тьма трезвонила в черные колокола. Все поглотила мгновенная пауза. Догадка вспыхнула в моем сознаньи, погасла… Не может быть!
– Я сейчас отыщу спички, – бормотал я, обыскивая карманы. – Это, наверно, Везарко…
Спичек не было. Я вспомнил, что не курил три часа.
– Ну, – прошептала нетерпеливо девушка, – нашли? Пойдемте скорее, я совсем окоченела.
– Держитесь за меня… Спичек нет. Придется итти ощупью. Осторожнее! Давайте руку.
Она держалась за мои пальцы крепким пожатьем. Дикая холодная ночь стояла перед нами. Темнота, перед которой побледнела бы китайская тушь, утратила все. Ничего не существовало. Исчезла и тьма. В глазах еще мерцали фосфорические виденья запечатленного, сфотографированного в прошлом, светлого бытия.
– Пойдемте, пойдемте! – толкала меня девушка.
Мы брели, касаясь бутылок. Тоннель показался мне бесконечным. Я шел по зренью руки, ощупывая темноту, под ногами изредка всплескивались лужи воды. Теплая нежная ручка уводила меня в сияющий мир…
Я брел не в черном тоннеле, глубоко над землей, я брел, как вечный кочевник по старинной дороге; молодые орлы играли в лазурном пламени, стоящем вверху, дул ветер, как свободная горькая воля, и молодо пахли весенние травы.
Мы шли. Табуретка попалась мне под ноги. Темнота не кончалась. Я ткнулся рукой в пустоту: штабеля не было. Неужели мы опоздали? Железная дверь беспощадно откинула руку, я навалился плечом, – она, слабо поддавшись, громыхнула засовом.
Огромная грозная тьма кинулась на меня отовсюду, горы шампанских бутылок, щемящий, пропитанный сыростью холод, бесконечная ночь…
– Ве-зар-ко!.. – закричал я изо всех сил. – Ве-зар-ко!..
Тишина тотчас же жадно хлынула в пустые воронки звуков. Тихо и тоскливо журчала где-то вода. Потом звонкая капля сорвалась в лужу неожиданным восклицанием…
29.
Опять ночь.
Я шепчу… Ноги мои давно перестали чувствовать холод. Слышите, вода медленно стучится в темные лужи. Кудри ваши дышат на мои щеки, вы просыпаетесь… Что вы, что вы! Здесь нет моего друга Овидия, он спит наверху, как раз над нами, или, быть может, он бродит по виноградникам с китайцем Жан-Суа. Это я ощущаю тепло вашей кофточки, это мою руку прижимаете вы и кладете под грудь.
Здоровый волнистый шар, любимая маленькая планета!
Я сплю. Я шепчу. Ветер невиданной искренности дует из новых веков. Я лечу среди холода, мрака. Я совсем невесом от бессонницы. Мы вечно летим среди вечных снегов. Ночь без конца.
Дикая ночь.
Светлая девочка мира!
Беспощадная ночь.
30.
Она вздрогнула, потянулась… Мгновенно весь сон оторвался от моего плеча: она приподняла голову. Я приоткрыл глаза: кругом стоял сырой озноб темноты.
– Вы не спите? – спросила она топотом. – Боже мой, мне так неловко, но я больше не могу… Я больше не могу! Понимаете?
Она быстро отняла руки от моей шеи. Красные вспышки еще мигали в глазах. Ее голос казался сухим, испепеляющим жаром.
– Что? Я извиняюсь за свои руки?.. Не то, не то!.. Ах, какой вы чудак!
Она рассмеялась. Я видел темным непонятным зрением, как она поправила шапочку, как ярко блестят в темноте ее расширенные глаза.
– Ну, – вдруг громко спросила она. – Поняли? – и стала резко и настойчиво тормошить мне волосы, приговаривая: – Не могу! Не могу! Не могу!
Пролетали обрывки сознанья, мгновенья, вспышки. Она наклонилась к моему уху и прошептала одну фразу… Несколько слов, ее голос, теплые сухие волосы, все ее женское существо, милое оправдание жизни, чувство возвышающей близости, – мне вспомнилась Сашенька, десятилетие жизни, Сашенька с ее махровыми резинками над обтянутыми чулками, какой-то необыкновенный день среди светлых деревьев и балка, дующая прохладным ветром с фиалок.
– Разве я виновата, что все так устроено? – прошептала она.
Какая глупость! Подводная бездна пошлости без дурацкой эстетики. В секунду я пережил вновь этот тесный аквариум, я с бешенством выгребал руками, поднимаясь к поверхности, еще, еще один взмах…
– Я боюсь одна! Здесь так темно… – шептала она.
– Пустяки! Я провожу вас! Помните: я ничего не вижу. Я ровным счетом ничего не вижу.
Я взял ее руку. Мы брели в смоляной мрак. Да, да виноград… Мы почти столетие пробыли в этой тюрьме. Я счастливее ее… Черный туман, шорох ее платья… Я держал ее за руку. Мы возвратились обратно, я еле нашел табурет. Эта женская растерянность, тревога, похолодевшие щеки…
– Милая, милая! – шептал я. – Я хочу рассказать вам историю о глупости старого мира. У каждого из нас есть на памяти подобные случаи. Нужно только припомнить и иметь хоть немного смелости. Для этого нужно просидеть одну ночь вместе с милой неиспорченной девушкой в тоннеле шампанского производства. Нет! Нет! Для этого нужно пережить хаос второго сотворения – бездну тифозных ночей, набитые людьми скотские вагоны в степных заносах, фронтовые кочевья и госпитали, смертные дни наступлений, поезда, поезда… Человек там бывал ниже крысы и прекраснее античных богов. Человек заново вышел голым на землю. Легенда о райском изгнании – ничтожна перед новыми Адамом и Евой. Что значит запретное яблоко и первый библейский стыд? Они вышли, прикрывшись листьями фиги. Ха-ха! Их нагота смешна перед наготой мировой правды, открытой в двадцатом столетии. Люди с винтовками содрали все занавески с истории, они увидели нечто, перед чем застывали глаза. История оказалась объевшейся кровавыми потрохами. Она нализалась до тучности… Природу надо подгонять хлыстом. Мы – слова на ее устах? Что же, мы вырвались ужасающим воплем: «Скорее, скорее! Мы не хотим больше умирать в царстве дурацкого рая». «Загоним клячу истории» – это сказано превосходно. Биология сидит верхом на человечестве, – пора перемениться местами. «Сударыня! Хороший кнут изменит соотношения. Извольте слезать!» К чорту философов с исканием сущего! Я бы сводил их в казарму, где спит Илья Павлович Придачин. Представьте себе, он спит на отдельной койке, у него матрац, набитый соломой. Соломенный матрац! Это – философский камень. Уверяю вас, что это именно так. Я говорю не пустые слова, я сам видел его собственными глазами. Я видел стариков, тридцать лет проскрипевших на голых нарах. Тридцать лет! Они вышли из общей казармы грозной толпой. Там жило сорок семейств. Они щелкали зубами, как волки. Это стояло сборище мировой совести, не больше, не меньше. Им осталось немного: несколько лет перед могилой на горном кладбище. Если бы видели, как грозились они земному шару, потрясая костями беспомощных рук! Они не хотят остановки: пять шестых мира – в огонь, если они всю жизнь не имели норы! Тридцать лет, проведенных в зловонном чаду, без своей кровати. Тридцать весен в клопах и в ничтожных дрязгах… Они все, как один, за высшую меру наказания для виновников. Отвечают все, кто мог спокойно любоваться природой, читать хорошие книги и посвящать стихи беспокойным девушкам. К ответу! К ответу! Расстрелять Шопенгауэра! Никаких промедлений! Пусть рушится мир, если существует порядок, что за право на отдельную койку шестая часть света платила Гималаями трупов, полями могил… Они получили койку и матрац, набитый соломой. Для этого пришлось повернуть весь шар, залить тысячи километров кровью. История движется чересчур медленно. Старики, кашляя, потрясали кулаками и грозились в пространство. Они хотят увидать перед смертью свободные светлые здания для своих детей и внуков. Они их увидят… Но что говорить о стыде? Я расскажу вам любовную драму. Да, да, это имеет отношение к винограду… Мы все отлично знаем, что он – мочегонное средство. Нам нечего прятаться от таких простейших вещей. Адам давно уже позабыл о листе с божественной фиги. И это – не шутка. Это не пустяки. Пускай Европа хохочет над койкой Придачина: матрац из соломы потряс все дворцы. Адамов лист не меньше его по значению… Такой разговор возможен только в нашей стране. Но это смешно и потешно: Адам был еще прежним Адамом в этой истории. Сейчас ему далеко за тридцать. Он лыс, как старый потрепанный кондор. Голова его катится в жизни полированным блеском под ударами пролетарского кия. Интеллигент, журналист, сифилитик. Он получил все подарки от прекрасного старого мира.
В городке, где он жил, каланча умирала от скуки над идеальной сиренью. Обрыв тосковал над рекой, в бузине, распускаясь, возилась весна, под томиком Чирикова холодели скамейки. За стенами домиков с шестами скворечников жили-были старики, гимназисты и девушки. Дочь председателя земской управы носила длинное коричневое платье с кружевным передником. Две полных спелых косы ее тяжелели у белой вымытой шейки. От кафельных печек, романов Тургенева и синих фуражек она, в заволоке наспанных щек, теплела, как испуганно-розовый всполох.
Расклеились почки.
Земец говорил о статистике. Воробьи купались у земской управы. Представьте медлительность с книжкой в руке, осанку осьмнадцати лет, волоокую синь под ресницами, звон в облаках, тучи галок, зеленый пух в зябкой четкости парка, студента под ручку в золоте пуговиц, с малороссийским узором на вороте… «Первое счастье, любовь, юность Тарханова!» Весна и даль, оплывающая в глазах, как свеча с натеками стеарина. Адам имел еще шевелюру, приятный басок. Они гуляли над светлой рекой. Тучи-соборы медленно плыли над городом…
Война. Быстрота юности.
Осталось там, на перроне, «прощайте», быстрое «ты» в намокшем батисте платочка, бородатый земец и статистика, махавшие чесунчовой панамой, глупое «ура» какого-то отставного генерала в кожаных калошах, ремни и шинели, вагонные парки и городской мост, заклубленный сырым паровозным дымом. Потом сразу все оборвалось и погрузилось в поля с талыми черными пашнями, с грачами и низкой обветренной далью, уходящей в небесный сквозняк. Россия… Окна в грязных подтеках снегов, проверка билетов, хлопанье двери, – и все уже сносит вагонным гулом, и грустно до слез смотреть на березу, навзрыд заглядевшуюся в холодную лужу весны… Российская чушь, губернский идеализм? Пробегают поля, сереют леса, наплывают станции с кипятком, пахнущим баней, черные крыши, – и все дальше и дальше, туда, к окопам, к западным чахлым равнинам, где серьезные русские прапорщики притворяются героями, лихо позванивают шпорами, носят погоны, а втихомолку хранят на груди фотографии из уездных отечеств. Они вспоминали их, как свежесть персидской сирени: в большой белой шляпе мод того времени, с полуопущенным взглядом и чистым профилем над прикрытой наглухо, грустной и гордой шеей… Занимались нелепые слезы, лезла окопная мразь, полесские станции, поля в изорванной проволоке и немецкие Таубе, жужжащие в небе, как ласточки в детстве.
Так и чадил целый год: туманами, шинельными тучами, грязью и вшами, мелким дождем и промозглым снегом – от апреля до июня, до осени, до зимних загаженных месяцев и вновь до окопной весны…
Он вернулся нежданно. Стоял шестнадцатый год. Леса набухали от таянья, по оврагам пробилась желтая мать-мачеха, над городом спешили тяжкие, невеселые тучи. Сырые, истоптанные дождями поля, бараки у станции, обнищавший город под стаями галок… Все было, как прежде, но немного не так. Дочь председателя земской управы лежала в больнице. Адам с золотыми погонами, одуревший от грязи, тоски и полесских туманов, увидел все снова: улицы, красный кирпич тротуаров с первой травой, окна со стеклянными синими ручками, воробьев, статистику, обрыв над рекой, охрипший от крика грачей. В низком здании с обсохшим скучным забором и черными елками настороже (принадлежность кладбищ, купеческих особняков и больниц) он встретил свой затаенный окопный бред. Половики на клейких желтых полах, белые тени у подоконников, – он пронес коридором все письма, всю жизнь, отечество, военную сырость и мрак, все прошлые весны, – сердце его задыхалось от обреченности перед ужасом невероятного счастья. «Можно, можно! – сказал ему улыбаясь врач. – Мы, слава богу, чувствуем себя отлично. Палата двенадцать. Можете итти смело – она одна. Ничего не поделаешь: героям все разрешается…» Он спросил о войне, но подпоручик не слышал. Сухая жара кинулась ему в лицо, Таубе нависал непреклонным жужжаньем над самым сердцем, черный орден на крыльях запечатлелся елкой за окнами. Он кинулся вперед мимо дверей, сестра в белом халате – навстречу – показалась ему лазурным виденьем. Женское, чистейшее, взлелеянное долгим страданьем клонилось к нему отовсюду белоснежными стенами. Окопы подступали к горлу рыданьем. Он распахнул дверь стремительно. Обмирающий холод, тоска, блаженство распахнулись пред ним…
Черный столб дыма, разрастаясь нелепым грохотом, вырос на ровном поле. Таубе висел неподвижно в небе, серебрясь неуловимой надеждой. Взрыв! Он поражен в грудь, безумный грубый толчок сбивает его с ног… Не может быть! Он жив, он жив – ничего не случилось. Он просто смотрит в чистое небо, это – детство, это парит одинокая ласточка… Ничего не случилось… Ему хочется крикнуть, еще не поверить, притвориться мальчиком, где-то далеко в средней России. Не может быть! Он жив, молод, здоров, письма от нее лежат в боковом кармане…
Потрясающий соборный колокол глухо ударял вместо сердца. Вам, бам, бам!.. – беспощадно неслось над всем миром.
Кончено.
Она безобразно сидела на судне. Коса ее, перекинутая через плечо, спускалась к раскрытым коленям. Ужасный совиный взгляд ее с сумасшедшей тупостью раскрывался беспощадностью раны…
Не может быть, не может быть, ничего не случилось! Подпоручик сидел на обрыве, рвал какие-то письма, бродил вдоль реки – до огней, до продрогшего синева-то-опухшего сумрака. Его знобило. Шестнадцатый год стоял на полях, лихорадило даль, кричали грачи, сырое, российское наползало на небо, с вокзала гулко долетали щемящие душу паровозные гудки.
Утром, с первым почтовым, он уехал на фронт, получил Георгия, сифилис, навсегда потерял отечество, мир, город с больницей в черных сторожких елках, письма в продолговатых конвертах, волосы семинарской густоты и фуражку с выгоревшим голубым околышем.
Они встретились через десять лет. Мир успел измениться: обрыв, скамейки, грачи – все провалилось к чорту. Они встретились в другой эпохе, история прогремела над ними, как скорый по железным раскатам моста, когда смотришь снизу и становится жалко, что грохот и дым уже скрылись вдали… Она узнала былое и отвернулась с ужасом, перешла на другой тротуар, плечи ее сгорбились, словно под ударом. Бывший офицер, бывший студент, бывший приятный басок средней России просидел целый вечер в гостинице и что-то писал на почтовой бумаге. «Проклинаю, – писал он, – подлый, похабный мир и всю жизнь! В смерти моей прошу не винить…»
Ха-ха! Вы думаете, он застрелился? Ничего подобного! Он жив и бродит в мире наощупь. Я встречал его не один раз. Он бросил свой город с сиренью и полусгнившими скамейками над обрывом. Он лыс, как асфальт, – бедный Адам, изгнанный из рая. Чушь, чушь, нелепая фантасмагория, но какая драма… вы подумайте, какая непроходимая бездна глупости и какое оскорбление человека! Вы только подумайте!
Молчание…
Она не ответила. Она сидела, обняв мою шею правой рукой. Холод подступал со всех сторон, я чувствовал, как мелкая дрожь сотрясает ее тело. Бедная, бедная! И для чего понадобилось мне рассказывать ей эту дурацкую историю? Острый дождевой запах тоннеля становился невыносимым. Все больше и больше апатичный, моросящий сыростью мрак давил нас тупой беспощадной силой. Я тщетно пытался согревать ее руки: тепло исчезало, иссякали слова. Отвратительным мертвым звоном ныли и стучали виски. Я пробивался в зыбких болотах бессонницы. Медленное, туманное зарево слабо колыхалось в теле. Казалось, растворяется и блекнет мир, тоннель, ощущения слуха и зрения… Прижавшись друг к другу, мы падали в какую-то пропасть, полную снега и таянья, темнота орала на нас неистовым гвалтом грачей… В последний момент я видел потемневший сине-зеленый лед, мы пробирались через вздутую острым весенним ветром хлябь неприютной реки, набирая воду в калоши. Мне хотелось кричать: впереди, дымясь железной студеной глубью, ходко неслась в свинцовых потемках полынья. Мы брели прямо в нее. Тающий снежный туман, половодная муть, распаренные красные лозины кустов, – сумасшедшие кружились грачи, трогался лед, кусок обнищавшей навозной дороги вдруг оторвался, заворачиваясь черными вешками, и все с ужасным треском, обжигая тело мгновенным тоскливым холодом, провалилось вниз, – и сразу подхватило безвольным мягким осязаньем воды, забурлило в ушах и, безвозвратно скрывая небо, грачей, лед и тощий кустарник, потащило ко дну…
– Сашенька, Сашенька! – крикнул я, сжимая ее руку, вздыхая в последний раз, чувствуя, как уже крутит, переворачивает мое тело, как пропадает жизнь, разрывает грудь и слепой полыхающий удар поражает меня потрясающей силой.
В тоннеле ахнули стены… Стеклянный раздробленный треск, мешаясь со звоном, посыпался где-то рядом. Что-то отхлынуло… Тоннель несся половодьем темной реки. Меня сразу вырвало из нарастающего рева воды.
Она вскрикнула, руки ее больно сжали мою шею. В сознании четко падали звуки. Медленно, обтекая бутылки, переговаривались с цементным полом струйки и капли жидкости. Трезвон темноты доносился явственней. Я просыпался.
– Взорвало бутылку, – сказал я, с трудом преодолевая застывшие губы. – Ничего особенного. Это бывает. Давление доходит до десяти атмосфер.
Вокруг снова смыкалась тишина. Сердце девушки билось учащенно. Она прилегла на мою грудь в полном отчаяньи.
– Неужели на земле еще ночь? – спросила она слабым голосом. Часы на ее руке бесполезно шелестели секундами. – И который теперь час?
– Скоро, скоро… – успокаивал я ее. – Везарко пьет уже чай и собирается на работу. Ваш брат еще спит. Овидий уже возвращается от своего китайца. Он приходит всегда в шесть часов и ложится спать.
– Да, да, – покорно шептала она, – мой брат еще спит… Вы пожалуйста ничего ему не говорите. Я не хочу, чтобы кто-нибудь знал о сегодняшней ночи. Хотя… – она задержалась на мгновение, выпрямилась, голос ее зазвучал тревогой: – Ведь нас все равно откроют. Это будет ужасно! Конечно, это пустяки, но все-таки ужасно неудобно.
– Ерунда. Нас никто не увидит.
– Вы думаете?
– Тоннель отопрут в шесть. Доброштанов сам каждое утро открывает двери и зажигает свет.
– Если бы так… Тогда все замечательно, – сказала она успокоенно. – А впрочем, ерунда! Но я совсем замерзаю. Господи, ваши руки, как лед…
Она опять положила голову на мое плечо.
– Что это за китаец? – спросила она устало. – Вы должны мне рассказать. Я так много слышала о нем. Я кое-что скажу вам, когда мы выйдем из этого ужасного подвала. И еще… вы никогда не будете вспоминать… что было… Милый, я вас очень прошу!
– Хорошо, хорошо! Но мне тоже хочется сказать…
Она зажала мне рот холодной рукой. Я ощущал, как быстро подвигаются ее ресницы. Она прошептала несколько фраз мне на ухо: что-то о Мегеллатовой Короне, об Овидии несколько быстрых фраз. Я ничего не понял из этих многозначительных слов.
– Я страшно счастлива! – сказала она. – Ах, вы ничего не знаете, не знаете…
Она сказала еще – но что? И что я знаю, в конце концов, о Жан-Суа? И при чем тут Овидий? Она счастлива… Да, да, и я тоже. Но этот черный поток… Меня укачивало ленивым сумраком, я уже не понимал слов. Вяло, не сопротивляясь, я погружался в безразличное забытье. Поток затопил весь тоннель, меня снова сносил студеный весенний мрак, опять раздирающим гвалтом орали грачи, и туманная, напитанная водой, снежная мгла полыхала ознобом… «Я люблю вас!» – огненной рекламой зажглось у берега, но мгла потопила слова, все стало ложью – жизнь, тепло, нежность, желанья. Я безвольно опускался ко дну, в холод, усталость, покой. «Русский фатализм!» – крикнул мне Поджигатель, окутанный пламенем, но я исчез в мутной бездне, перестав нуждаться в спасении…
31.
Свет пришел неожиданно…
Я шнурую ботинки, голова моя затекает тупой холодящей болью отчаянья. Ничего не случилось. Комната озарена предвечерним солнцем, в окно по-прежнему врываются листья, четкая даль, проясненные звуки. Сегодня опять засветит холодная лунная ночь.
Шум жизни так ровен и беззаботен. Так всегда чудится после несчастья. Я выпрямляю спину. Один шнурок остается висеть незавязанным. Я сижу на кровати и смотрю в одну точку. Все ясно. Стена неопровержима. Винсек лежит, задрав ноги, и курит папиросу. Дым ползает над ним голубым драконом, выпрямляется длинными волокнами и медленно тянется к окну. Ничего не случилось особенного. Сейчас, как бывало, по коридору прозвучат голоса, придет Поджигатель, стуча ботинками и добродушно убеждая в чем-то Овидия. Они всегда возвращаются так: я слышу нарастающий шум голосов, – один спокойный и глуховатый, другой необузданный, прерываемый хохотом… Овидий смеется как девушка, смех его прыгает через какой-то ручей, в гремучем плеске, с камня на камень. Дверь распахнется – их голоса откроются, как окошки на улицу, и сразу все расплывается в теплом гвалте и оживлении, и даже Винсек перестанет криво топорщить брови. Овидий оглушительно хлопнет его по плечу, бросит свою неизменную трость, кинется на кровать, и пропадут холодные стены, хлынет наша Москва, ровно засветит уютная лампочка – веселый вскипающий шум братской молодости… Сейчас Живописец постучит как обычно в дверь, «валяй, валяй» – крикнет ему Винсек, – «заходи!» – и Поджигатель бросится поправлять одеяло на кровати. «Братцы!» – расплывется, хрипло подкашливая, художник, а за ним одно высокое, неожиданное, как восклицанье синицы в опавшем лесу: «Можно?», – и совсем неизвестное, созданное из жизни, смеха и бодрости, войдет, перекинув купальное полотенце через плечо…
Нет. Ничего не будет. Если б можно вернуть все это! Я смотрю в одну точку. Пустая звенящая боль еще затопляет комнату и смывает лучистый воздух окна. Все ясно. Может быть, просто был сон? Винсек непреклонно молчит. Так…
Лампочка вспыхнула неожиданно, мы спали под ее светом около часу. Потом мы вышли, и нас никто не заметил. Да, да, мы проснулись, дверь мышеловки была приоткрыта.
Но почему у нее сразу переменилось лицо? Она шла быстро, посмотрела враждебно, она не позволила даже поправить ей шапочку.
– Забудьте об этой глупой ночи, – сказала она холодно, – вы меня поняли вовсе не так…
Ах да, старичок Фокасьев. Мы встретили его у каменной лестницы. Он передал мне свои бумаги, несколько листиков документов и справок – они в боковом кармане.
– Тут все геройство! Вся жизнь! – восклицал он, поднимая палку. – Как я простоял в тоннелях…
– Нет, нет, я не потеряю, – говорил я, – не беспокойтесь.
Я теперь хорошо знаю, что значит шампанское производство…
Этот свет за окном… боже мой, он разбил последнюю смутность надежд!
Она подобрала юбку.
– Мне нужно вам кое-что сказать. Я не люблю неясности и недоговоренности, – заговорила она, усаживаясь на скамейку. – Кроме того, вы обещали дать мне дружеский совет…
Тупая стена. Молчаливая комната. В масляной краске есть что-то неопровержимое, будничное, холодное, как прожитая жизнь. Теперь, собственно, нечего терять. Это неплохое положение, чего мне волноваться? Я наклоняю голову и снова шнурую ботинок. Круглый скользкий шнурок расплывается жгучим нависающим блеском. Я больше не жду Поджигателя. Я не забуду его расширенных глаз, когда мы встретились в саду на площадке. И он тоже? Ха-ха-ха! Он бормотал, глядя на девушку, и повторял одно и то же:
– Ваш брат не спал всю ночь. Мы искали вас повсюду. Я так беспокоился, поверите ли, я так беспокоился…
Он смотрел с ужасом на ее белую шапочку, перемазанную черными полосами.
– Пустяки! – смеялась она: – Мне было очень весело. Мы караулили вместе с Жан-Суа виноградники.
Опять этот китаец!
Она торопилась. Я не сказал ни слова. Зачем мне было говорить что-либо после разговора у скамейки? Поджигатель сгорбился и так остался стоять, когда мы поднимались по лестнице.
Какой-то заколдованный круг. Мы взошли на верхний этаж, она протянула мне руку.
– До свиданья! – сказала она. – Не сердитесь за мою откровенность. Я думаю, что мы навсегда останемся самыми большими друзьями. Не правда ли? Я всегда буду помнить наш разговор. Я так счастлива, счастлива! – проговорила она, задохнувшись. – Ведь это же в первый раз. И я так тронута вашей любовью к нему… Почему у вас такой странный вид? Дайте, я поцелую вас на память, – сказала она быстро.
Она обняла меня за шею крепко-крепко… Кто-то кашлянул сзади. Он появился из двери, когда что-то недоступно-горькое, как юность, подкатило к моему горлу. Ее душистые влажные губы… Она засмеялась, посмотрела прямо ему в глаза, не смутилась и быстро захлопнула дверь. Винсек спускался по лестнице, я стоял на площадке и бессмысленно смотрел ему вслед. Шаг, еще шаг, он дошел уже до второго пролета… Какая нелепость, чушь, ерунда! Я бросился к перилам. Он ничего не видел, он не может ничего подумать, он не имеет никакого права.
– Вы не видели Овидия? – крикнул я ему, перегибаясь вниз.
Так, так… Овидий еще не пришел от китайца. Стало быть, мы караулили вместе. Замечательное совпадение! Но Винсек… Я вижу до сих пор его запрокинутое кверху лицо, рыжее от веснушек, круглоту его глаз с озорной восхищенностью. Все понятно и ясно. Но, быть может, я ошибаюсь? Он лежит на кровати и молчит. Очевидно, он ничего не заметил. Да и не все ли равно? Она любит Овидия с первых же дней их встречи. Как я ошибался!
Стена наступает на меня масляной краской. Блеск ее разоблачает последние остатки нелепого сна. «Дорогая, дорогая! – еще шепчется дальний мрак. – Светлая девочка мира!» Я выпрямляюсь. Ботинок завязан. Ничего не осталось от прошлого.
Глупость, сплошная чушь! Она будет его женой. Никто об этом не знает. Она просила моего совета, и я его дал. Конечно, конечно! Зачем себя спрашивать? Он из поколения. Разве я могу что-либо сказать против одного из пяти? Завтра они встретятся, я знаю их место, славный глухой уголок в кизиловой чаще. Там создается лирика, ха-ха, недаром Овидий с гордостью показывал мне свой лесной кабинет. Он написал там четырнадцать стихотворений. Четырнадцать стихотворений! Мне хочется хохотать над собственной глупостью… А глаза Поджигателя! Тело мое сотрясается от веселья, мне легко и просто, я поднимаюсь с кровати. Пусть все идет своим чередом. Я не скажу ни одного слова.
– Как дела? – спрашиваю я Винсека, потягиваясь и зевая. – Чорт его знает, я проспал до самого вечера.
Он поворачивает голову и смотрит на меня, загадочно щурясь.
– Дела?.. Что сажа бела, – говорит он спокойно и сплевывает на сторону. – Пойди, пообедай, – продолжает он, снисходительно улыбаясь. – У тебя и так всю ряшку стянуло.
– Пустяки! Как Яшников?
– Чего? – он приподнимается и ерошит волосы. – Носится, как оглашенный. Перепиши да перепиши! Они все здесь белены объелись. Понимаешь?
Он рассказывает последние новости и происшествия. Практиканты недовольны совхозом, они жаловались Директору на Веделя: тот заставляет их мыть бочки и выполнять все работы наравне с рядовыми рабочими.
– По-ни-маешь? – повторяет Винсек. – Поднялся такой шухер… «Мы, говорят, в Москву будем жаловаться. Мы – ви-но-де-лы!» К прокурору хотят.
– Ну, а Директор?
– О! – он вскидывает голову. – Он, брат, может… «Ладно, говорит, расследуем. Хотите, говорит, жаловаться? Сейчас позовем Веделя – выкладывайте при нем все начисто…» Как это он их шаркнет! «Я шептунов за спиною не слушаю. И у меня в совхозе таких разговоров прошу не разводить. А насчет того, что вы виноделы, так это преждевременно. Повремените!» Взял он их в работу здорово!
– Так… Ну, а Эдуард Августович?
– Пришел. Чего ему сделается? Директор при нем все и начал. А он стоит, только кепку надернул, и слушает. Только головой качает. Потеха! «Вы, говорит, виноделы? Вот! – и показывает руки. – Мотыгой копать умеете? Я, говорит, сам горы копал, камни ворочал и сам бочки мыл. Нам барчуков не нужно!» Так и отрезал. «Какие из вас виноделы, если вы бочку порядочно вымыть не умеете?» О, брат, загнал он их всех в бутылку!
– Что же они – согласились?
– Ну! – Секретарь пренебрежительно сдувает пепел с папиросы. – Факт. Ви-но-де-лы! Пусти меня с таким рылом в подвал – что я сделаю?
Он глядит на меня непроницаемыми серыми глазками. Я спокойно выдерживаю его взгляд, он смотрит рассудительно и веско. По-видимому, в голове его нет никаких задних мыслей.
– Ну, ладно! – говорю я, окончательно успокоившись. – Я отправляюсь… Надо сходить к Эдуарду Августовичу.
Мне хочется спросить, где Овидий, но я молчу. Не все ли равно, в конце концов?
– Постой, постой! – кричит вдруг Винсек, когда я берусь за дверную ручку.
Он бросает окурок, поднимается с кровати и, кривя ноги по-кавалерийски, медленно подходит ко мне, заложив руки в карманы. Он нарочно растягивает шаги, я вижу, как торжественно-хищно топорщатся его волосы, а углы губ подергивает загадочная озорная улыбка. Он смотрит восхищенно и приближается ко мне в упор.
– За-ра-за! – дышит он мне в лицо, наклоняя шею. – Думаешь, не знаю?
И он дружелюбно подмигивает, хватая мой локоть жесткой волосатой рукой. В его приближенных, испещренных крапинками глазах я читаю все.
– Ладно, ладно… – бормочу я, с ужасом чувствуя самодовольную мужскую улыбку, раздвигающую мускулы лица, и его взгляд, следящий за мной беспощадным житейским опытом. – Чего уставился? Ничего особенного.
– Валяй, валяй! – грубо наваливается Винсек, щуря глаза и до боли сдавливая мои руки. – Слушай, – вдруг таинственно говорит он полушопотом, – она приходила. Ей-богу! Не веришь? Честное слово! С час тому назад была, когда ты дрых, как зарезанный.
Я вижу, что он смотрит по-своему сочувственно-понимающе.
– Пришла, на тебя посмотрела, – шепчет он сдавленным голосом. – Я лежу, голову под крыло: понимаю, в чем дело. И сразу к Овидьке. «Спит? – спрашивает. – Ах, бедный, бедный!» Поговорили с ним – и ходу вместе. Она тебе одеяло поправила. Ну, я сразу увидел, в чем тут дело… Здорово ты, брат, ее приспособил! Первый сорт!
Он хлопает меня по плечу, о чем-то напряженно думает и начинает грызть ногти.
– Да, – говорит он, вдруг улыбаясь криво и жалко, – вот ты какой, оказывается!
Я бессмысленно молчу. Он неистово огрызает большой красный палец и смотрит в сторону. Губы его кривятся.
– Вам что… – голос его звучит глухо, и я слышу в нем неожиданные ноты. – Вы – люди с образованием… Завидую я тебе, Николай, ей-богу!
Молчание.
– Будь здоров! – говорю я ему. – Только образование тут ни при чем.
– Подожди! – обрывает он грубо. – «Не при чем, не при чем!» Ладно! Ты думаешь, я не знаю, как вы на меня смотрите? Думаешь, такой тип? Чего, неверно, што ли?
Он резко и ухарски поддергивает пояс на вздутой гимнастерке, поворачивается и подходит к своей кровати. В желтом фанерном чемодане, всегда запертом висячим замком, наподобие тех, что неизменны на солдатских затертых сундучках, я вижу вещи, говорящие о скупом одиночестве. Жизнь Винсека медленно раскрывается через слова вещей… Книг нет. Уездное застиранное белье из бязи, с железными пуговицами, черная щетка для сапог, гребень с выломанными зубьями, масляно забитый перхотью. Все сложено аккуратно. Он вытаскивает и ставит на пол круглый будильник с двумя колокольчиками, вынимает огромное, с гранеными по краям узорами зеркало на березовой доске и заботливо отирает его рукавом. Я вижу новенький деревянный пресс с промокательной бумагой, карандаши, ручки… Зачем ему такое количество карандашей? Ах да, он работает в канцелярии… Он стыдливо прикрывает карандаши рукой и вытаскивает из-под ситцевой подушки фотографию в рамке с налепленными ракушками.
– Вот, – говорит он небрежно, и неприятно хмурится.
– Была у меня одна дамочка…
И он сует мне фотографию.
Среди залитых лаком комодных ракушек фотография глядит нелепо-четко. Их двое. Молодой Винсек стоит сзади кресла с вычурной бутафорской спинкой и опирается на мраморную круглую колонну. Перед ним – истощенная женщина в пальто, но без шляпы, с сумочкой на коленях, ноги ее непомерно вылезли из фокуса.
Оба смотрят в разные стороны. Вокруг – пышные клубы облаков, колонна обвита пальмовыми листьями. У женщины глаза – как две маленькие черные гадюки, но рот безвольно-мягок. Волосы ее завиты причудливым коком.
Мне становится почему-то неприятно и жутко. Фотография мертвит сердце, как дешевый венок на кладбище, ей недостает только лент с линялыми надписями и правильных жестяных листочков, скрещенных внизу на манер нагрудного значка. Женское лицо так же предначертано и кажется давно знакомым, как и этот венок.
– Ну, как? – спрашивает в неловком молчании Винсек.
– Ничего?
Он берет у меня фотографию, и в последний момент я успеваю разобрать часть надписи в углу: «…Дуся». Дуся – очевидно, это ее имя. Остальное закрыто рамкой.
– Хорошее, милое лицо… – говорю я и останавливаюсь. – А ты какой молодой!
Я говорю что-то еще, горячая краска начинает заливать мои щеки. Чорт его знает что! Бедняга Винсек!
Он стоит на коленях перед раскрытым чемоданом и сразу оживляется. Я вижу, что мои слова трогают его за самое сердце: руки его плохо слушаются, он вертит никелевый пузырь будильника совсем бессмысленно.
– Так ты говоришь, ничего? – бормочет он, краснея.
– Понимаешь, мне весь угрозыск завидовал, ей-богу! Могу даже письма от нее показать. Одного одеколону сколько я ей перекупил! Бывало, придет: «Данечка, Да-нечка!» А мы с товарищем…
Он вдруг запинается.
– Ладно! – машет он рукой и задумывается. – Слушай, Николай! Как по-твоему… может, ей написать? А впрочем… Хамка она – вот что!..
Он швыряется последней бранью, сует будильник под подушку и молча укладывает зеркало. Оно никак не лезет, Винсек зло и раздраженно давит коленом фанерную крышку, шея его наливается кровью…
Я ухожу.
Я не иду в столовую: право, мне совсем не хочется есть. Сейчас я поднимусь выше, – здесь есть одна глухая тропинка, она навещает холм, заросший кизиловой чащей. Тропа не отвечает шагам, погруженным в плотно уложенный прошлогодний лист. Небольшая лужайка с низким просторным камнем, – здесь Овидий занимается лирикой.
Тишина парит над горами. Никого нет. Она парит час, может быть – два, и в ней, тоскливо журча крыльями, унося звонкие клювы, отовсюду, с затененных лиловых гор над страной виноградников чертят озаренный с запада воздух и проносятся птицы. Щуры пролетают на юг – мне нужно на север.
На север, на север!
32.
Я не знаю, почему, собственно, я вернулся на эту тропу. Давно взошла спокойная лунная ночь. Холодный зеленоватый свет ее, как мировое сознанье, склонен над ночным изголовьем жизни. Дыханья нет. Это почетный караул, не отводя глаз, каменеет в оцепенелом молчаньи, – молчат горы, давно исчезли огни, виноградники выстланы сторожевыми тенями, воздух словно ожидает далекого заунывного крика.
«Вилла роз» с ее семейною лампой осталась вдали. В лунной воде, как в подводном царстве, выходят полипы деревьев, цедится фосфорический свет, громоздятся замки из камней и стен. Вот-вот между ними, жуя зрачками округлых ртов, неподвижно повиснут зоркие рыбы. Только сверчки кричат осенью, изредка бросая пригоршни тоскливых звуковых горошин. Их крики поднимаются со дна, как трели пузырьков через воду аквариума.
Время, когда бродит вино. Трава прижалась к земле. У нас на севере в это время кричат совы, в лунном тумане осторожен камыш, леса бросает в озноб, и слышно тогда, как во сне, сбившись в глушь забытых озер, крякают сторожевые утки. Потому что пора лететь на юг. И никому не хочется оставаться позади уходящей жизни.
Меня провожал Витя, сын винодела, лишь вчера возвратившийся к лампе, под светом которой вся семья собирается к вечеру, плечом к плечу, и смотрит на гостя глазами, полными сплоченности, приязни и трудовой жизни. Эдуард Августович прикрывает их всех своими морщинами. Он добрый и суровый садовник, а Вера Ивановна только его спутница, хорошо помнящая все времена года.
– Когда звенит лопата, – говорила она, – мы все знаем, что это весна. А когда засвистят щуры, нам становится жалко и грустно. Это значит, что скоро опустеют холмы, польются дожди, а все гости разъедутся кто куда.
Дети тоже, вместе с птицами, покидают дом, чтобы учиться. И Витя, друг нашего Овидия, высокий, горбоносый мальчик, ласковый, как годовалый длинноногий сеттер, заглядывающий в глаза, снова уедет пробивать себе жизнь.
Я вышел к тропе без всякой цели. Почему-то мне вспомнилась белая кровать в столовой у Веделей. Она прикрыта пикейным одеялом, аккуратная подушка на ней, бедные железные спинки – как чистота детских дней… У Чехова, наверное, была такая кровать, не иначе. Но у Поджигателя и теперь вряд ли будет пикейное покрывало и подушка, приглаженная домашними заботливыми руками.
Листья совсем не шуршали. Ночь текла тончайшим безмолвием. С неба, с гор, с застывших деревьев источался, струился и плавал кругом неосязаемый, неуловимый свет, излученный с миров. Он касался всего, погружал очертанья и тени в призрачный океан магнитных волн, – где-то на безмерном пути планета неслась в позолоте осени…
Узкий просвет поляны был рядом. Я остановился. Пораженная тьма дохнула неожиданным смехом, словами, лунный свет впереди говорил, смеялся и прыгал… Я вовсе не хотел увидеть и услышать более положенного. Я даже хотел закричать, что слышу и вижу. Но я увидел и услышал все то, что пришлось узнать белому камню.
Мигало в глазах, воспаленный шершавый куст щекотал мое лицо. Я только и видел нестерпимо близкие листья, в отчаяньи рвал с веток продолговатые скользкие ягоды и ощущал их терпкий сок, вяжущий каменеющие губы. Тропинка дымилась луной, текла беспредельная ночь… Потом чужой, враждебный смех снова прыгал, кружась по поляне, кто-то плясал у камня, и я услышал, как дерзко и утомленно смеется женщина, когда сходит на землю голая сентябрьская ночь, ущелья ожидают эхо, теплеет зверь, холодеет стеклянная вода, и хочется ломиться сквозь чащу, ахнуть огнем и громом в лунный выпуклый шар, упасть на колени и прихлебывать из ладоней сквозящий меж пальцев, сводящий с ума зеленоватый свет и бежать без оглядки вниз, царапая руки о ветки, спотыкаясь о камни, слыша кругом нарастающий гремящий вопль беловежских рогов…
Вниз, вниз, вниз!
Ночь, тяжело и хрипло дыша, стояла за мной. Клонились, задыхаясь, деревья. В яркой подводной глубине света недвижно плыли руины.
Ночь… И я крикнул изо всех сил так, как кричал когда-то в лесах. Вокруг, словно давно ожидая, крик подхватили пустые покои, разнесли и стихли. Смолкло… В ответ с виноградников оборвался выстрел и, шипя, собирая на себя, как снежный ком, шумы и грохоты, скатился в ущелье.
Пусть они слышат!
Она стала его женой в эту голую ночь.
Я видел все… Он носил ее на руках и танцовал, как дикий, а она бесстыдно смеялась, обнимая его шею нагими руками.
Сверчки протяжно и громко кричали из холода. Прошел час. Я бессмысленно перебирал какие-то мысли и чувства. Они пройдут по этой дорожке, и я должен увидеть их лица. Конечно, это – простая случайность: я вышел, как и они, отпить свой лунный глоток. Да и кто может спать в такую ночь, когда вся земля обернулась в немом изумлении и словно закрыла глаза в забытьи?.. Я слышал, как дубы роняли спелые жолуди, томились листья и падали ягоды. На вершине горы, обращенной к небу, вытянув сучья, осторожно ступали деревья, – они крались над бездной, легко пробираясь по карнизу сиянья, – везде открывались пути, исчезали пучины и пропасти, безбрежный магнит, не ослабевая, струил свои прозрачные силы.
Овидий появился из пятнистой тьмы неожиданно. Он бежал по дорожке, размахивая руками, пальто на его плечах висело, как плащ. Мы столкнулись лицом к лицу. Лицо его показалось мне мертвенно-бледным, он махал в воздухе чем-то длинным и узким.
– Вы?! – крикнул он мне и вдруг расхохотался, кинулся, схватил мои плечи и, захлестнув скользким, пахнущим холодной резиной пальто, стал кружиться по дорожке, вытанцовывая ногами и задыхаясь от смеха. – Абрау! Абрау! – хохотал он, выкрикивая мне в уши что-то о шампанском, сбивая меня с ног, валя в кусты и целуя в щеки. – Абрау! «Во саду ли, в огороде чорт картошку роет…» Абрау! Ур-р-р-а! Абрау!..
Он, мотаясь как пьяный, вдруг кинулся плясать в присядку, бросился ко мне опять, вытащил на середину и, не дав мне опомниться, перемахнул через мою голову. Упав на землю, он стал кататься в луне, умирая со смеху… В руке у него змеился фиолетовый галстук. Он хохотал, как безумный. Вскочил.
– Не могу! – бормотал он сквозь смех. – Не могу! Ура!.. Понимаете, – тряс он меня за плечи, – мне нужно куда-то бежать… Я иду к Жан-Суа. Мне нужно высказаться. Я должен произнести речь. Мне нужно Жан-Суа… Я погибаю от счастья! Чорт его знает! – бросался он на меня опять и опять. – Я умираю, умираю!..
Он носился вокруг меня, размахивая галстуком, выхватил неожиданно браунинг, – два сухих выстрела огненно хлестанули вверх, еще… Он кинулся бежать вниз, прямо через кусты. Раз! Раз! Он бежал, как зверь, выпуская патрон за патроном – я насчитал семь выстрелов – всю обойму автоматического пистолета…
Все. Больше он не выстрелит. Я подождал десять минут. Ночь давно затопила случайные звуки, так же кричали сверчки, лунный свет недосягаемым спокойным сияньем стоял на земле. Прошла бесконечность – девушки не было. Я пробежал дорожку, поднялся тропой. Те же листья, кизиловый куст, тот же самый туманный просвет поляны.
Она сидела у камня, опустив голову. Я сразу узнал ее платье, то самое, в котором она в первый раз пришла в нашу комнату. Ноги ее прикрывало пальто.
– Светлана Алексеевна! – позвал я ее.
Она не ответила. Мне показалось, что все, – ее наклоненная голова, шапочка, брошенная у камня, ее прозрачная лунная рука у темного лба, – полно отчаянья.
– Это вы? – спросила она тихо, без всякого удивления. – Я так и думала… Может быть, так хорошо. Вы проводите меня до дому.
В молчание вступил свет. Белый, холодный, он сиял здесь совсем обнаженно. Она закрыла лицо руками. Мне показалось, что она плачет. Ноги ее, плотно сложенные под тканью пальто, совсем в больничной позе, были вытянуты, – она вовсе не изменила их положения, увидев меня, – она сидела, не отрывая рук от лица. Боже мой! Неужели она плачет? Горестный лунный свет безжизненно гладил ее гладкие у темени, блестящие волосы.
– Что с вами, умоляю вас, скажите, что с вами?
Я опустился на колени, но она не ответила.
– Это вы стреляли? – спросила она опять слабым голосом, еще глубже опуская голову. – Это совсем не остроумно. А крик? Разве вы имеете право как-либо вмешиваться в мою личную жизнь?
Она говорила медленно, как будто с трудом, голос ее звучал совсем глухо. В самом деле, разве я имею какое-нибудь право?.. Камни больно резали мои колени, затекало тело, ее слова совсем не доходили до меня: все давно украл странный синеватый огонь, пропитавший траву и листья, ее пальто, шею и открытое плечо, блестевшее скользким светом. Где-то совсем близко, из неподвижности зеркального лунного блеска крикнул сверчок, еще… и вновь немота овладела воздухом и лесами.
Я заговорил об Овидии… Стрелял, конечно, не я, – он налетел на меня, как вихрь, перескочил через мою голову, катался по земле, размахивал галстуком и побежал в кусты к озеру, на Магеллатову Корону к своему китайцу.
– Простите меня, – говорил я женщине, неподвижно сидевшей у камня, – но я виновен лишь в том, что случайно увидел… Нет, нет! – поправился я. – Собственно, мне не пришлось видеть ничего лишнего. Я случайно узнал, что вы сидите у камня. Это – нелепое совпадение.
Она молчала. Лишь плечи ее вздрагивали, и голова все теснее и теснее приникала к ладоням.
– Он катался по земле? – спросила она сдавленно.
– Он сшиб меня с ног.
– Неужели?
– Он пел и хохотал, как сумасшедший.
– Неужели?
Она быстро отняла руки, выпрямилась. Лицо ее показалось мне неожиданным – простотой, обыденностью, мирным спокойствием и теплотой. Она смеялась тихим ленивым смехом, она хохотала от души, медленно поправляя волосы, в ее смехе, таком знакомом и близком, не было вовсе этой ночи, с ее высотами пустого океана огня, с ее тенями и руинами, с ее мертвой славой и колдовством.
– Он сумасшедший, – тихо смеялась она, словно любуясь чем-то с тайным торжеством, что-то припоминая, улыбаясь своим потаенным мыслям и заботливо одергивая платье на плечах.
– Да, да, – повторял я бессмысленно.
– Что да? – спокойно переспросила она и снова засмеялась. – Он просто очень искренний и неиспорченный. Какой чудак, боже мой, какой чудак! Я никогда не думала, что мужчины такие забавные… Но где же мои шпильки? Помогите мне.
Она быстро поднялась с земли, не смущаясь поправила платье у бедер.
– Отвернитесь, – сказала она. – Мне надо привести себя в порядок.
Я слышал, как она сосредоточенно помолчала, потом надела пальто, задержалась на миг.
– Пойдемте! – вдруг проговорила она уже у самого моего уха и взяла меня под руку.
Я взглянул еще раз на камень. В траве, теплившейся туманными огоньками, белая плоскость его холодела могильной плитой. В лунной росе куст скумпии блестел жестяными листьями. На ходу я оторвал с него лиловую ветку, девушка не обратила на это никакого внимания, она даже не обернулась к поляне. Обрыв скатился за нами в темный, излапанный лимонными вспышками парк. Мы не сказали ни слова. Кругом, в потемках непроглядных теней, лежал неподвижный мрак, казавшийся глубиною исполинских кулис. Ночь давно разгорелась последним пламенем. Когда в просветах деревьев разрывало тьму, виноградники на горах нависали блеском амфитеатра, – казалось, необозримый застывший Рим дремлет в ложах и ярусах. Впереди площадка с домом нашей коммуны выступала ослепительным куском сцены, неестественно праздничной и напитанной до предела зеленым сияньем. В глубине черных деревьев лунные пятна сидели на ветках тропическими попугаями. Мы вышли на свет из-под громад декораций. Девушка, будничная и простоволосая, снова поразила меня спокойствием, – она целиком была погружена в свои далекие, непонятные мне и, казалось, обыденные чувства.
Ни слова, ни одной фразы… Она засмеялась у самой лестницы.
– Я совсем одурела, – вдруг сказала она. – Скажите, он пошел к своему китайцу? Я положительно начинаю ревновать. Именно сегодня, сегодня! Познакомьте меня с ним, по крайней мере… Он сказал, что это самый близкий человек для него… после меня, конечно… Мой дорогой, я ужасная эгоистка, но я думаю только о нем… не сердитесь!
– Хорошо, хорошо! – бормотал я, помахивая веткой.
Я тупо смотрел на ее лицо: оно казалось осыпанным голубоватой мукой, глаза ее темнели мягко и безвольно.
– Возьмите на память, – сказал я. – Эта ветка оттуда. Она смотрела на вас и знает больше меня. До свиданья!
Она безучастно взяла эту ветку скумпии с лиловыми листьями и стала перебирать их пальцами. Длинные пальцы ее – ее длинные пальцы светились скользким, холодным огнем.
– Здесь паутинки, – задумчиво прошептала она. – Бабье лето… Ну и что ж, я очень рада, что она все видела. Я очень рада! По-ни-маете?
Я слышал, как хлопнула дверь, смолкли шаги. Страница жизни была перевернута, я захлопнул старую книгу еще раз, я прочитал в ней очень простую истину. От всего этого ничего не убавилось в жизни, не стало меньше дорог.
Но мне не хотелось итти домой. «Здесь есть скамейка, – подумалось мне. – Несколько минут молчания, больше спокойствия и выдержки поколения».
Я повернулся. Лунный череп морочил небо, переметнулись деревья, выросла тьма, что-то непоправимое, нелепое, до боли ненужное захватило сердце… Напротив, блестя в темноте зоркими очками, заложив ногу на ногу и раскинув руки на спинке скамейки, сидел Поджигатель. Одно мгновение… Высоты тишины и мертвая слава вновь воцарились над ночью. Я смутно различал черты запрокинутого искаженного лица, смутный уголек папиросы. Волосы Поджигателя, как всегда, стояли изумлением, одна нога его с неуклюжим солдатским ботинком выходила из тьмы на ртутное, фосфорическое пламя.
Последний сверчок удивленно осыпал росу серебристых звуков. Тишина.
Я поднялся по лестнице, хлопнул дверью, засвистал нелепый мотив… Еще одна страница перевернулась в книге, и книга еще раз захлопнулась. Там были слова, несколько строк, вписанных мелким почерком, старинными буквами…
Повествование седьмое Вино бродит довольно бурно
«Полученный в прессах сок стекает в деревянные лохани и, по замерении его, перекачивается электрической помпой на отстой в открытые чаны, откуда, по прошествии суток, сусло (т. е. сок) перекачивается в двадцативедерные бочки, в которые задается чистой культуры шампанская дрожжа. В бочках сок перебра-живает. После осветления молодое вино сливается с дрожжи (осадка) и переливается в другие бочки».
Летопись «Абрау».
33.
Мы вовсе не разучились понимать друг друга…
Кончилось лето. В окровавленных виноградниках бродит голая пьяная баба, летит паутина, в бродильных покоях скребутся когти брожения. Так говорит старинная бургундская поговорка: когда бродит вино и ядовитый прозрачный газ наполняет подвалы, в бочках царапает дубовые стенки веселая кошка. Стоит послушать: она скребется когтистыми бархатными лапками. А над глотками бочек, прикрытых мокрыми виноградными листьями, поднимается розовая липкая кипень. Вино вздувает пузыри и отпускает непристойные шутки. Легко задохнуться насмерть в бродильне, если не знать некоторых вещей… Я сам слушал дикую кошку брожения. Действительно, от нее быстро клонится голова, сердце начинает задувать, как свечу и свинцовая тяжесть сковывает ноги. Притом – последние дни бабьего лета. С утра освещенные ровным и багряным светом, пьянеют леса. Щуры свистят и трепещут в покинутом воздухе. Весь день опустошенная закатная тишина настаивается на благоухающей свежести. Лес пахнет белым вином. Луна приходит рано и уходит в зловещем ущербном пожаре. Время совиного крика, отъездов, отлетов, развязок. Бондарь Бекельман ловит рыбу в прозрачной озерной воде: он выполнил производственный план полностью, никто не может сказать о его работе что-либо кроме похвалы. Бондарь уходит под вечер на озеро с ведром и корзиной. Можно жить: в кооперации наливают без отказу по сходной цене.
Утром с гор возвращается повар. Впереди бежит его умная собака, славное ружье попахивает порохом, а из сумки торчат жирные перепела, отъевшиеся на просяных полях севера. Иногда его жена с цыганскими лукавыми глазами чистит длинноносых ржаво-бархатных вальдшнепов, и тогда мелкие перышки кружатся в воздухе и летят за паутиной. Я замечал, что таково действие лунной осени: все хочет лететь, все стремится в беспечную даль.
Повар имеет коронованный вид.
Все перевернулось в мире: последние цари и короли стали походить лицом на голодных пропойц. Демократия нашей страны могла бы украсить лучшие феодальные замки и лучшие мантии. Таков повар «Абрау-Дюрсо», таков Ведель. Я не говорю уже о Придачине. Кочегар носит свои лохмотья, как пурпур и горностай, его осанке могла бы позавидовать Палата лордов. Бондарь мог бы украсить Сардинию и Бургундию. Доброштанов побил бы всех Пиев средневековой лепкой горбоносого профиля. Даже сапожник, целый день мусолящий гвозди у тумбочки возле дороги, не уступил бы Абдул-Гамиду. Но это не чудеса. Я случайно узнал, что его шкафчик, залепленный варом и забросанный лоскутьями кожи, вовсе не так прост и обычен, как это кажется. Сапожник стучит молотком над штучкой из красного дерева, хранившей когда-то туалетные вещи самого Короля-солнца. Да, да, был такой король, сиявший над Францией и воображавший себя центром всех тяготений. Шкафчик стоял в королевских покоях, побывал в Версале, история долго носила его по шару, и антиквары заработали на его славе немалые деньги. «Хорошо то, что хорошо кончается», – любит говорить Эдуард Ведель. Кончилось хорошо, не хуже, чем история с андерсеновским оловянным солдатиком, смоченная детскими слезами. Я тоже плакал над ним. Но я не заплачу над шкафчиком. Он достался русскому барину, известному приверженностью к не совсем новым вещам и построившему на берегу моря усадьбу, затененную садом и аллеями из грецких орехов.
Я спрашивал сапожника о его шкафчике, но грустный Абдул-Гамид не оживился при воспоминании об имени российского литератора Каткова. Что ему до Каткова? И что ему до Короля-солнца? Он чинил ужасный башмак с ноги кочегара, а Придачин поставил черную пятку на версальскую штуку и медленно курил, загадочно улыбаясь.
Паутина летела над нами. На широких деревьях с овальными листьями лопалась кожура орехов. Пьяное простоволосое бабье лето опахивало светлый день гусиными крыльями. Мирно грело обедневшее солнце, и сапожник ловко наколачивал заплатку на высокопоставленную подошву.
– Бей крепче, – говорил кочегар. – Мне не нужно, чтобы было красивше… Послюни, послюни! – прибавлял он. – Я тебя знаю, ты дрожишь над каждым гвоздем.
И сапожник растирал слюни на грубой набойке и неистово стучал молотком. Я с любопытством смотрел на голую ступню Придачина, попиравшую остатки галантного королевства. Разваренные в черной прелой грязи, пальцы его ноги заворачивались кривыми ногтями. Это была великолепная картина. Мы беседовали о мировых делах, так как сапожник интересовался политикой. Жена повара развешивала белье у двери своего домика, мелькая голыми смуглыми икрами и лукаво оглядывая вселенную. А после, когда кочегар довольно постучал башмаком о землю, а сапожник поклялся покойным отцом, что работа отлична, мы отправились в дом управления, и Живописец, усадив Придачина за стол у графина, сделал прекрасный набросок… В комнату набралось много народу, и все решительно завидовали кочегару. Он сидел, гордый и довольный, в своем кожаном картузе и не шевелился, когда Живописец, серьезно хмуря брови, быстро чертил в альбоме изящные смелые линии. Все глаза следили за его карандашом, и можно было услышать, как пролетает муха, – такая тишина и такое внимание сошли на кончик графита под рукою известного мастера. И все вполголоса давали дружеские советы Придачину как держаться, и во всех голосах чувствовалась некоторая доля подобострастия. Кочегар явно становился знаменитостью и занял подобающее место в обществе. Так спокойно и просто занимает свое именное кресло в партере театра человек, знающий, что никто не посягнет на его право быть у всех на виду. В этом нет ничего удивительного. Я всегда думал, что это произойдет именно так. Даже Винсек, необыкновенно чистенький и нарядный в этот день, в открытом френче времен военного коммунизма, при вязаном галстуке, сказал ему несколько сочувственных слов.
Через десять минут Живописец закончил рисунок. К альбому нельзя было протолкнуться. Больше всего восторгался Бекельман, появившийся неведомо откуда: он шумно лез к художнику, хрипел и обещался уплатить крупную сумму за портрет у маленького лиманчика.
– Рисуй, рисуй! – тискал он Живописца. – Рисуй старика Бекельмана… ха-ха-ха… как он сидит у лиманчика. Нарисуй ему удочку. Только, чтоб было все видно. Бекельман не любит всяких выкрутасов. Ха-ха! Что ему нужно? Денег? Никогда. Хороших порядков – вот что нужно Бекельману… таких, чтобы все было видно насквозь!
И бондарь шумно обнимал художника. Мастер бочек побрился, лицо его, цвета хорошей ветчины, лоснилось от чувств. Я заметил, что он заметно принарядился, а иногда шушукается с Винсеком. У обоих явно торжественный вид.
Кочегар не сказал больше обычного, взглянув на собственный портрет. Он не выразил даже явного одобрения, а поэтому наступило некоторое молчание: все ожидали его слова и приговора, но он не торопился с выводами.
– Ну, как? – спросил Живописец? – Ндравится? Говори прямо. В своем отечестве не стесняются.
– Нарисуй графин! – вдруг серьезно пробурчал кочегар. – Я хочу, чтоб было по правде.
Бекельман свистнул:
– Ишь ты! Он знает… Я тоже хочу, чтобы с удочкой. Ха-ха! Он понимает, в чем дело.
– Да бросьте, братцы! Что вам графин?
Живописец хохотал, морщась юным и беззубым дядюшкой, спорил, но сочувствие всех оказалось на стороне Придачина. И графин заслужил шумные одобрения, каких мне давно не приходилось слышать по адресу произведений искусства. Живописец не пожалел карандаша и прибавил еще стакан, налитый наполовину водой, и это вызвало снова единогласное восхищение. Придачин был чрезвычайно доволен и веско и сдержанно высказался по существу карандашного рисунка. Торжество его становилось бесспорным.
– Стой, стой, – кричал бондарь. – Он перехитрил Бекельмана, хотя у него и один глаз… Я прибавлю еще пятнадцать, если ты нарисуешь корзину и чайник.
Но это звучало явным подражанием. Придачин уже снял лучшие пенки: слава принадлежала ему. И бондарь напрасно хрипел, прибавляя червонцы. Он дошел уже до полсотни, – никто не верил в такую сумму за праздничные безделушки. А кочегар вышел из комнаты, ни с кем не простившись. Вот каким образом люди приобретают вес, не истратив ни одной копейки.
Когда народ разошелся по домам, Винный секретарь попросил меня и художника иметь в виду сегодняшний вечер. Он уже пригласил бондаря, Овидия с девушкой и Поджигателя. Есть две четверти каберне, кое-какая закуска. Криво усмехаясь, он просил нас не забыть собраться ровно к девяти часам.
Живописец выслушал его озабоченно-серьезно.
– Две четверти? – переспросил он. – Это настоящая постановка.
Он добавил, что охотно пойдет на хорошую дегустацию.
– А что – подмигнул он. – Празднуешь, что ли? Или так просто, за ухо?
– Так просто… – мрачно ответил секретарь.
Мы обещались быть во-время.
В два часа Директор пригласил всех в дегустационный зал шампанского подвала на доклад германского инженера и какой-то комиссии. Что это за комиссия – пока он держит в тайне. Конечно, после мы обязательно явимся к Секретарю в положенное время. Наше поколение еще не разучилось понимать друг друга. Я спокоен за нашу дружбу. Я молчу обо всем, я волнуюсь лишь за Овидия… Китаец Жан-Суа очень интересует Светлану Алексеевну. Да я и сам не могу сказать о нем ничего определенного. Существует ли он вообще? Конечно. Где и как? Я знаю одно, что он происходит из города Пекина. И я знаю еще одно: арбузы стали тяжелыми, как ядра, они разрываются под ножом с треском и брызжутся студеным сахаром. Что же я могу добавить?
Над нами летят щуры. На виноградниках голая пьяная баба позднего лета вычесывает из длинных волос серебряные репьи и тонкие паутины. А в полных бочках скребется бургундская кошка…
34.
Дегустационный залик торжественно окружал зеленое сукно официального стола высокими спинками стульев. Коллекция шампанских бутылок всех стран, уставленная на дубовых полках, и витрина Абрау в центре – единственное, что говорило о его назначении.
В два часа дня Директор занял председательское место. Собрались почти все. Ждали профессора Антона Михайловича, показывавшего комиссии отделение прессов. Эдуард Августович старательно свертывал махорочную папиросу, насыпая табак из жестяной коробки. Его сын, обнявшись с Овидием, оглядывал всех влюбленными глазами. Директор, развалясь в кресле, добродушно подшучивал над Поджигателем, занятым перелистыванием какой-то папки с ворохом подшитых бумаг. Девушка сидела рядом. Никто не смог бы отрицать, что она необыкновенно мила. В зале висела почти вагонная тягота, та самая, когда дорожные люди сталкиваются впервые носом к носу, чего-то ждут и считают себя обязанными вести общие разговоры. Директор и девушка переговаривались весело и просто: в обоих не было и тени боязни показывать себя с любой стороны. Щеки ее стали еще розовее за эти дни: она словно надышалась от быстрого бега, – длинные нежные руки, кольца волос у шеи, ее грудной голос – все оживленно лучилось в свете ее откровенных, широко открытых глаз. Она встала, блестя шелком длинного столичного платья, поправила волосы. Казалось, рядом с грузным, насмешливым Директором поднялся высокий зеленый стебель девичества. И виноделы, и виноградари, сморщенные и молчаливые, как подвальные грибы, смотрели на нее и на веселого Директора с предупредительным вниманием.
Время шло. В дверях появился Живописец с альбомом и подмигнул всему собранию. Овидий прыснул, виноделы и виноградари заулыбались, один Поджигатель еще мрачнее нахмурил брови. Художник, шумно отдуваясь, пролез к Веделю. Поколение, за исключением Винсека, присутствовало на собрании полностью. Через минуту весь зал толкался возле Директора и тянул головы, чтобы взглянуть на портрет Придачина. И когда комиссия с профессором во главе поднялась по лестнице, слава кочегара достигла наивысшего давления. Эдуард Августович смеялся от души. Я заметил, что он несколько раз подчеркнул принадлежность кочегара к столовому подвалу и был чрезвычайно доволен успехом рисунка.
Общее оживление.
Комиссия вошла в нагроможденный шум и смех. Директор заметил новых людей не сразу, но это нисколько не уменьшило его находчивости. Он захлопнул альбом, чрезвычайно дружески поздоровался с инженером и представил ему всех присутствующих, каждого отдельно, начиная с Эдуарда Веделя. Старый винодел с достоинством склонил могучую, высеребренную сединой голову. Инженер, солидный и округлый, как фетровый котелок без единой пылинки, купался в румяных улыбках, в подчеркнутом демократизме расстегнутого сиреневого пиджака, в полированном крахмале белья. Лиловая упитанная шея его свободно вращалась в тугом зажиме воротничка. Он постоянно обращался к личному секретарю – русской девушке, остриженной по-мальчишески, законченной в стиле геометрического чертежа, с продолговатыми и подведенными глазами и великолепными пальцами в розовых каменных ногтях. Из инженера, как из радиатора, полыхала широкая жизнерадостность, за его плечами стояла фирма, добросовестная германская система чертежных столов, зеркально-дубовых бюро, заводов, сошедших с гравюры, где шарообразные деревья на рюмочных ножках строились шпалерами у ровных кубиков с трубами, дымили поезда и автомобили развозили винодельческие машины, выкрашенные прохладной красной и зеленой краской. Личный секретарь инженера возникал в этом традиционном пейзаже, стоявшем эмалевой маркой на изящных машинах, как блеск столика ремингтона, заполированного до последнего винтика. Немец обращал к ней предупредительную любезность патрона. Казалось, что фирма Зейц более всего занята ее вышколенным девичеством, шелковой юбкой и ее воспитанной надменностью, привыкшей к безупречным бумагам с выгравированными синими столбиками строк.
Директор представил всех, не исключая Светланы Алексеевны. Инженер отечески пожал ей руку, немного задержав в своей – пухлой, очень белой, с рыжеватыми волосами и тяжелым обручальным кольцом. Девушки встретились глазами: личный секретарь – холодно-любезными, сестра художника – широко приветливыми. Они окинули друг друга мгновенным взглядом, и в том и другом просквозил критический яд, и та и другая улыбнулись и выпрямили грудь, взгляды скрестились, как две шпаги на поединке, но в спокойной приветливости было больше иронии и силы. Вторая победила мгновенно. Первая не ожидала встретить здесь этой свободы над стилем, который давался ей непрестанной заботой и постоянной настороженностью. Ее уже достаточно избаловали шопот и взгляды, сопровождавшие ее юбку, чулки, модные туфли и длинные глаза в поездках по дальним углам грубоватой страны.
Личный секретарь инженера сразу перешел на военное положение. Щелкнул замочек замшевого портфеля, граненые камни пальцев открыли плоский томик портсигара. Она закурила, далеко относя папиросу и пуская тонкие кольца дыма. Поражение становилось ясным: она предпочла стоять у окна. Я видел явное торжество в глазах Овидия. Он тоже следил за боем. Личный секретарь отошел на заранее приготовленные позиции.
Собрание началось. Директор сочными мазками положил первые очертания мысли… Правительство рабочей страны отнюдь не собирается свертывать виноделие. При наличии единого плана, могучей централизации средств и научно обоснованного руководства виноградарство стоит перед небывалыми возможностями. Пятилетний план намечает и в этой области громадное строительство. Совхоз «Абрау-Дюрсо» развернет на дремучих горах двести га новых площадей. Его задача – стать действительным рассадником знаний и опыта для всего края. Одновременно, в шестидесяти километрах отсюда полностью осуществляется винодельческий гигант-совхоз «Джемете». Впервые в отсталой и анархически-крестьянской стране вводится электрифицированное винодельческое хозяйство. Его преимущества очевидны. Правительство не ставит вопроса о прекращении выделки первосортных марочных вин. Страна не знает тех кризисов, которые переживает винодельческое хозяйство Франции, поставившей проблему перевода части виноделия на изготовление безалкогольных продуктов. Но развивая культуру чистого виноделия, Наркомзем СССР и Садвинтрест одновременно ставят перед собой задачу широчайшего использования винограда как высокопитательного пищевого продукта. Виноград должен стать привычным и доступным блюдом в каждой рабочей семье. С этой целью, привлекая научный и практический опыт Европы, мы начинаем строительство первого в СССР завода пастеризованных и консервированных продуктов из винограда. В дальнейшем возможен перевод значительной части наших виноградарских хозяйств на эту продукцию полностью…
Директор говорил, заложив руки в карманы, раскачиваясь, наводя горячие степные глаза то на Веделя, то на немецкого инженера, то на второго докладчика из комиссии, заваленного папками. Иногда он повторял фразу, заколачивая ее, как гвоздь в дерево, шумно выдыхая тяжесть решительных слов и снова поднимая голос. Фразы его складывались шагами веселого грузного силача, спокойно приближающегося к драке и на ходу засучивающего рукава. Он весело и открыто, глядя прямо в глаза инженеру, говорил о социалистической культуре, о кризисах Европы и преимуществах советского строя. Немец весело улыбался и сочувственно кивал головой, – он отлично понимал по-русски. Фирма довольно сияла его налитым, отлично упитанным жилетом, подстриженным в мелкий ежик затылком и быстрыми пухлыми пальцами. Инженер казался добряком; одни мясистые, настороженные торчком уши и горбатый короткий носик под властным навесом бровей говорили о собранной силе и твердости. Он слушал Директора почтительно-вдумчиво, словно с легким комизмом по отношению к себе, предупредительно оглядывая лица присутствующих. С таким видом на глухой станции пассажир спального коричневого вагона, осторожно пробравшись по залитым нефтью путям к высокой громаде кипящего с глухим звоном паровоза, заговаривает с машинистом, повиснувшим в окне из черной стали, и смотрит на него с панибратством спутника по поезду.
Директор закончил речь обращением к специалистам совхоза о недопустимости какого-либо пессимизма в отношении чисто винодельческой работы. Не может быть речи о свертывании работ столового и шампанского подвалов. Всевозможным слухам на эту тему он советовал не придавать никакого значения. В заключение, он поддернул свои широкие штаны и почесался, как всегда, не смущаясь торжественной обстановкой. И германский инженер вновь сочувственно закивал головой.
– Ну, будем продвигать вопрос, – быстро произнес немец, отпирая огромный роскошный портфель, набитый бумагами. Стеариновые манжеты его веерообразно выкинули на стол блестящие кипы прейскурантов, альбомов и проспектов, таких же накрахмаленных, как его воротничок. Фирма Зейц сияла на меловой бумаге безупречной солидностью, она пронесла сквозь войны и кризисы подавляющую аккуратность и чистоплотность. Рослые, обутые в шнурованные ботфорты люди на фотографиях походили на альпийских стрелков. Они довольно держали в руках совершенные орудия фирмы, управляли автоматическими плугами, поворачивали рукояти машин. Гидравлические прессы, отмоечные машины для бутылок, помпы, шланги и воронки, десятки и сотни предметов внимательной ко всему техники, среди подстриженных садов, напоминающих цветочные клумбы, открывали заманчивый, полнокровный мир. Прейскуранты инженера методично убеждали, как «Система здоровья» доктора Мюллера с ее неопровержимыми рисунками упражнений. Казалось, стоит только приобрести эту книгу – и все остальное сделают сами эти обнаженные позы, предусмотренные на каждый день. Инженер тасовал проспекты и альбомы с ловкостью опытного банкомета. Фирма играла крупно. И крупье загребал внимание, как стопки золота и кипы бумажек. Мгновенно зеленый стол дегустационного зала превратился в карточный. Инженер сразу сбросил добродушие и тасовал козырь за козырем. За ним, вырастая из ловких манжет, из румяных щек, из глянца воротничка и сиреневой ткани костюма, мгновенно поднялись трубы мощной индустрии, старый Зейц с его акциями, банки и кризисы, фабрики и заводы, конкуренция и прибыль. Инженер, спокойный и молчаливый, разбрасывал свои карты, его горбатый короткий носик, как зоркий беспощадный клюв хищника, был приготовлен к удару, уши ловили каждый шопот. И сразу в зале крепко настоялась тишина. Шелестели прейскуранты, клонились головы. Карты инженера переходили из рук в руки.
Эдуард Августович нервно крутил махорочную папиросу, просыпая на стол желтую сухую крупу. Альбомы инженера потрясли его до глубины души. Даже Директор, ероша волосы, проглядывал меловые листы и одобрительно покрякивал. Папироса старого винодела никак не поддавалась пальцам. Немец замечал все.
– Разрешийть? – любезно обратился он к виноделу, вынимая из портфеля щегольскую коробку, выложенную серебряной фольгой. – Это прекрасные папиросы.
Ведель, бережно высыпав табак из мятой бумажки в коробку, осторожно взял плотную папиросу с позолоченным ободком. Его огромные руки из мореного дуба встретились с бледно-пухлыми; он внимательно осмотрел сигаретту с желто-медовым табаком и закурил. Хозяйскими знаками инженер просил всех остальных последовать его примеру. Никто не отказывался. Директор, не отводя глаз от прейскуранта, взял две: одну он заложил за ухо. Только Поджигатель и Овидий не притронулись к нарядной коробке, и Лирик, сидевший напротив немца, сухо отказался на его второе личное обращение, демонстративно свернув из писчей бумаги огромный колпак и насыпав его крупой из жестянки старого винодела. Он закурил последним и наполнил весь зал запахом жженой бумаги и вагона бесплацкартного поезда. И я видел, как сестра художника несколько раз бросила на него взгляд, полный ласковой и спокойной насмешливости. Я видел многое: между ними кипел оживленный разговор, хотя они почти не смотрели друг на друга. Только несколько женских взглядов, несколько махровых солнечных лучей… Так они смотрят своей спокойной силой, уже познав уязвимые мужские слабости. Так они смотрят на осторожно ступающего сенбернара, забавного в покорности лохматых и прирученных сил.
Говорил русский докладчик комиссии. Нос его, походивший на веретено, вылезал за пределы всех норм, положенных тонким понятием «молодой человек». В остальном – своими провинциальными поповскими волосами, грубоватой застенчивостью и чрезмерным западничеством в галстуке и канареечно-зеленом жилете – он, как стрелка компаса, то колебался на загадочного телеграфиста, то брал курс на фотографа, привыкшего к светской жизни в масштабе округа. Молодой человек проводил политику и нежно склонял голову, явно охорашиваясь деловитостью. Он называл инженера «уважаемым Эрнестом Эдуардовичем». Собрание то погружалось в прейскуранты, то замирало на хрустящей кальке с чертежами будущего завода желе, пастилы, пастеризованного сока, то блестело на полированных манжетах фирмы Зейц. На подвалы Веделя и профессора Фролова-Багреева надвигались горы жестянок, витрины с пирамидами банок желе и виноградного варенья. Где-то в дымных цехах заводов, обсаженных круглыми деревцами, уже обтачивались из болванок железа и стали части станков и машин, где-то в столбиках цифр соединялись в одно целое напоры истории, законы экономики, политика и революция, все складывалось, расчленялось, превращалось в слова, а слова – в заказы, поездки, командировки, собрания… Жилет молодого человека присоединился к истории, длинные волосы его сложились из тысячи бытовых, классовых, экономических и прочих причин. Громада жизни растекалась мельчайшими ручьями, превращаясь в человеческие страсти, чудачества, привычки и чувства. В дегустационном зале они вновь входили в общее русло. И манжеты инженера, и кряхтение Директора, и канареечный жилет, как капли под микроскопом, раскрывали весь кишащий борьбой разноликий классовый мир. Банка будущих консервов из винограда начиналась из мировых катастроф, международных связей, из тысячи страстей и волнений, из мириадов молекулярных частиц отдельных человеческих жизней. Собрание слагало идею, молекулы и инфузории носились в ней подобно каплям в потоке реки. Их нес мощный поток, они составляли его водяные массивы. Жидкость бродила. Директор вводил в жизнь чистые расы дрожжей так же, как это делал профессор в бочках шампанского производства. А Овидий и девушка трепетали в этой игре сияний и блесток, в этой борьбе столкновений, возникновений и противоречий, наслаждаясь безмолвною близостью.
Она поправляла волосы, опуская глаза на грудь, выпрямлялась, и глубокая ямка под ее нежными гладящими пальцами на выпуклом шелке вздыхала прохладой. «Какой ты забавный и нетерпеливый! – говорило это движение. – Неужели ты не видишь, что я совсем, совсем твоя?.. И пожалуйста не кури так часто…»
Он сидел, тесно обнявшись с Витей, гладил его плечи, что-то шептал ему на ухо… Глаза молодого Веделя светились мальчишечьей преданностью, его большие взрослые ладони на девичьих кистях рук покрывали пальцы поэта. Это означало совсем другое: Овидий носил кого-то на руках, он падал на колени, слезы и смех мешались у него пополам, как в школьничьей драке. Ему всегда не хватало обычных жестов и слов.
Так говорили они между собой, пока слова не получил инженер. Первая же фраза заставила всех вытянуться.
– Очень приятно приветствовать, – начал немец, почтительно вставая, – русских специалистов в таком замечательном и прекрасном обществе. Я горжусь тем, что получил честь говорить здесь от имени германской техники. И я горжусь еще более, увидев вашу прекрасную постановку и попробовав ваше удивительное вино. От имени фирмы Зейц позвольте прежде всего передать мое восхищение и благодарность за сердечный прием. Зейц сказал мне, что Северный Кавказ – лучшая страна для изготовления виноградного сока…
Он произнес несколько любезных фраз, обводя присутствующих широким взглядом. Директор смотрел в потолок, папироса за ухом придавала ему лукавый вид. Инженер перешел к делу. Его сжатая, энергичная речь жестикулировала в тесном ободе деловой логики так же свободно и уверенно, как белые пухлые кулаки в узком зажиме манжет. С необычайной легкостью и силой он слагал деловые расчеты в точность чертежа, обнаруживая пристальное внимание и зоркость к новой обстановке. Фирма Зейц была превосходно ориентирована во всех нуждах России: она предлагала весь громадный опыт своей техники для нужд нового общественного строя. Страна намечала пути, бросала песок насыпей, прокладывала просеки. Инженер клал на дороги ровные блестящие рельсы. Казалось, деловые расчеты фирмы вполне укладывались на эти новые, вырубленные из дикой тайги народных сил, только что брошенные шпалы. С ошеломляющим цинизмом специалист входил во все детали новой системы, свободно допуская любые изменения европейских принципов. Фирма находила сбыт. Она, так же как предприятия военной индустрии, готова была вооружить своим превосходным оружием любой континент. Инженер предлагал новые гидравлические прессы. Он говорил об их достоинствах и недостатках, сравнивал их с изделиями фирмы Мабиль, признавая крупнейшие достижения французского машиностроения. Зейц работал на принципах полной откровенности, с простотой, похожей на ту, с какой щебечут кокотки высшего полета, не желающие иметь в своей щепетильной практике никаких излишних сцен кроме тех, что входят в их ясное сознание законной необходимости; все остальное, относящееся к поэзии, они охотно допускают, не придавая ему в то же время существенного значения… Инженер вырос и воспитался в институте превосходной технической проституции.
Суровые виноделы и виноградари сидели на своих стульях, как старики на танцовальном вечере. От гидравлических прессов они розовели, как девушки. Инженер закончил речь изящным спичем: фирма не утратила женской обаятельности и остроумия, немец снова обратился к личному секретарю, играя глазами и снова превращаясь в любезного патрона. Он не забыл и сестры художника.
Несколько вопросов, оживление виноделов, седые громады Веделя, исчерпывающие ответы фирмы… Собрание блеснуло живой ответной речью профессора. Директор выхватил папироску из-за уха и махнул рукой. Официальная часть дня закончилась. Немец оживленно хлопотал, пожимая руки, добродушно, с лукавым комизмом оглаживая живот, его тучный зад, обтянутый безукоризненным пиджаком, казался спиной толстого аббата после причастия. А русские виноделы, с лицами времен Возрождения, молчаливые и чопорные, смотрели на него с осуждающей степенностью. Комиссия, светская, полная блеска и красок, двинулась к выходу. Мы простились. Девушки еще раз скрестили мечи, и я видел опять два воинствующих взгляда. Личный секретарь с торжеством прижался к локтю в сиреневом пиджаке, и перед дверью патрон, разводя руками, оказал ему все почести фирмы. Сестра художника выбрала локоть Овидия и стояла в толпе, подняв к Лирику близкие счастливые глаза. Их уже не видел Поджигатель. Его шевелюра, стоящая сухой грудой пепла, мелькнула на лестнице рядом с длинноволосым веретеном в канареечном жилете. Эдуард Ведель с достоинством показывал сыну германские прейскуранты, а Живописец хрипел и кашлял ровно три минуты в углу, у витрины с бутылками, походившими на осанку предпоследнего императора в низкой полицейской шапочке и кушаке околоточного. Так кончилось это собрание. В окно я еще раз увидел комиссию: Директор хлопал инженера по плечу и хохотал на весь двор, комиссия спешила осматривать горы и море. Сзади всех, за стройным, с чистой, как волосы ребенка, сединой профессором, серьезно ступал Поджигатель. Старичок Фокасьев, стоявший сбоку, возбужденно кланялся, прижимая руку к сердцу.
35.
Эдуард Августович пригласил нас четверых на обед, и мы провели на «Вилле Роз» остаток дня до позднего вечера. Я никогда еще не ел жаркого из дикого кабана и никогда не пил такого тонкого белого вина. Светский день пронесся, как бал. Семья вспомнила молодые годы: старики сидели торжественно-грустные, и я видел горечь в морщинах заслуженного садовника. Да, да – эта комиссия… Она привезла неплохие вести, и очень хорошо, что у нас взялись за виноград. Прекрасное будущее русских гор! Он полагает, что именно у нас города свободных машин будут окружены виноградными лозами, их светлая кровь должна вспаивать молодость и здоровье. Виноградный сок будут пить, как воду: у нас хватит солнца и юга на все глотки веселой демократии. Но значит ли это, что его тонкое искусство, его винные бочки доживают последние дни? Не он ли является непримиримым врагом спирта и пьянства? Он твердо уверен, что культура вкусовых ощущений наряду с уничтожением социальных причин навсегда изгонит кабак и позорную водку. Читали ли мы статью о смерти заслуженного профессора Бордосского университета Ксавье Арнозан, всю жизнь изучавшего действие вина на организм человека? Он может подтвердить выводы ученого целиком: красные натуральные вина – драгоценный нектар.
Винодел поднял стаканчик за чистое солнечное виноделие против спирта, гибридов и фальсификаторов. И поколение пило старое каберне «сорок четыре», и даже Живописец клялся, что никогда не притронется к изделиям Госспирта. А его сестра, розовая, как шиповник, обнималась с Наташей и сияла кольцами волос у стройной и подвижной шеи. Никогда ее глаза не блестели так оживленно и грудной голос не ломался так хрупко и неуловимо, точно луч в хрустальной призме. Она уничтожала Овидия своей насмешливостью и спорила с ним из-за каждого пустяка. Даже Вера Ивановна вступалась за бедного Лирика, но девушке все было мало: она добиралась до самых чувствительных мест. Лукавство ее не имело предела, – в конце концов, она дошла до китайца. При его имени Живописец бросил анекдоты и прислушался.
– Что это за ночной фрукт? – захрипел он, тараща глаза и обращаясь к Веделю. – Он замутил все головы и отбивает у меня сестру… Ей-богу, я сверну ему шею! Они, – он показал на меня, – пропадают у него целыми ночами.
Все засмеялись, а Люся начала расхваливать Жан-Суа.
– Он страшно милый! – сказала она. – И не советую тебе с ним связываться: он очень сильный.
– Сильный! – Живописец подмигнул Вите. – Слава тебе господи, у меня еще наберется дюжина ребер. – Он поднял стакан: – За Арнозана, силь ву пле ассамбляж!
Он зажмурился и выпил, пережевывая глоток.
– Арнозан – не дурак, – бормотал он, наводя на сестру притворно страшные глаза, – натуральный мужик… Люська, я тебя выдеру за китайца! Имей это в виду.
Она только смеялась, но я видел, что Овидию вовсе не нравился этот разговор. Он тщетно пытался свести его к литературе, но Наташа Ведель рассказала нам о Жан-Суа новые подробности. Оказывается, он пользуется исключительным успехом, и с его именем связано несколько крупных семейных драм.
– Я этого не знала, – удивилась Люся. – Вот как! Теперь я понимаю, почему вы завели с ним такую тесную дружбу.
И она еще раз окинула Овидия насмешливой лаской своих весенних глаз и передразнила его поющим голосом.
Мы поднимали стаканчики и пили вино. За окнами уже стоял лунный свет. Все шло прекрасно. Но мы вспомнили приглашение Винного Секретаря и спохватились, когда полная ночь уже взошла неподвижным светом, а в теле звучали бархатистые знойные струны…
Мы покинули виллу, прошли чащу ореховых деревьев. Да, история с китайцем может окончиться очень плачевно… Обернувшись назад, я увидел, что это так. Девушка, тесно прижавшись к Овидию, несла запрокинутое белое личико у его плеча, в ее измученных длинных ресницах не осталось и тени насмешливости. У них уже не было ни слов, ни вопросов, у них не было и ответа. Это я видел.
Я видел их один миг, – и отвел глаза. Ее лицо показалось мне искаженным и неподвижным. Никто не имел права смотреть на них в эту ночь. Они шли медленно, отстали, и вскоре мы остались одни. И Живописец напрасно ругался и кричал, окликая свою насмешливую сестру. Одни сверчки отвечали на крик, безмолвная светлая ночь струилась вокруг, холодные камни блистали лунными кратерами, и деревья неестественно спокойно застывали в причудливых формах холодеющей лавы…
В парке мы услышали голоса и шум, кто-то кричал истошным голосом. Нижний этаж управления ярко светился открытыми окнами. У лестницы я увидел пригнувшегося человека без фуражки, он метался в полосах света, перебегая между деревьями, как старый кабан, застигнутый облавой. Я сразу узнал мастера Бекельмана. Он кинулся к нам, тяжело дыша и сопя, и я увидел, что чугунное под луной лицо его перемазано кровью. Бондарь обдал нас запахом винного перегара, хрипел, колол мои щеки жесткой щетиной усов, – ничего нельзя было понять из его таинственного возбужденного топота. Но Живописец сразу стал серьезным. Я услышал упоминание о милиции, что-то о Секретаре, что-то о Директоре. Бондарь шатался, на его губах пузырилась пена. Крик в окнах затих, в телефонной спорило несколько голосов, затем неожиданно снова кто-то начал кричать и петь, а Бекельман снова яростно кинулся в черную тьму деревьев. Он носился вокруг дома, припадал к окну, он отвечал, как матерый зверь на крик своего собрата, угодившего в добрый волчий капкан. Из дверей управления вышел милиционер при нагане с длинным шнуром, и с ним – молодой секретарь ячейки в юнгштурмовской форме, перетянутой ремнем. В руках комсомольца сверкали пустые бутылки, подмышкой у него торчала четверть. Милиционер резким движением бросил окурок, – их молчаливость и быстрые шаги не предвещали ничего доброго.
– Фьють! – свистнул Живописец. – Выпили и закусили!
Он проводил милиционера опытным взглядом и прищурился.
– Завинчено здорово, – сказал он просто. – Тут без губы не обойтись. Факт! А Бекельман-то, Бекельман!
«Спасай, говорит, товарища»… Раз мильтон был – дело кончено.
Бондарь носился в лунном свете под окнами и отчаянно жестикулировал, призывая нас на помощь. Крик из окна все нарастал: кто-то горланил пьяным, сбивающимся голосом.
Мы быстро поднялись по лестнице. В телефонной на лавках сидел народ. Константин Степанович на своем обычном месте, у доски аппарата, конфузливо смотрел в одну точку, положив локти на стол. На полу коридора, у раскрытой двери, вниз лицом, уткнувшись в лиловую лужу какой-то омерзительной каши, лежал Винсек. Я сразу узнал его по праздничному френчу светло-зеленого цвета. Вязаный галстук, как мокрый фитиль, опускался из-под его шеи к выпуклым натекам жижи, разлитой повсюду. Он дико и гнусаво орал, вздрагивая от рвотных конвульсий. Все молчали.
– Так… – медленно произнес Живописец. – С днем рождения, стало быть.
Ему никто не ответил. Константин Степанович стыдливо отвернулся к окну.
– Ну, чего ж… – пробормотал художник. – Надо его перетащить на кровать. Дело житейское.
– Не трожьте! – сухо сказал ему кто-то. – Товарищ арестован.
Под окном послышалось нечто вроде рычания. На лавке засмеялись.
– Тоже! – зло отозвался опять говоривший. – Взрослые дети, а позорит себя и семью. Не знаю, чего с ними няньчиться!
Четко рассыпался телефонный звонок. Мы поднялись наверх. В комнате коммуны кислый, тошнотворный запах мутно кружился среди нагроможденного хаоса стульев, разбитых стаканов и раскиданных повсюду скользких арбузных корок. Поджигатель с двумя практикантами, засучив рукава, сгребали мокрый мусор с клеенки стола в свертки из газетной бумаги. Наш Учитель имел добродушный и сконфуженный вид: как выяснилось, он присутствовал при самом финале вечеринки. Винсек напился до потери сознания и бил все, что ни попадало под руку, он не пощадил и Бекельмана. История уже облетела совхоз, сам Директор был на месте происшествия. Судьба бондаря и Секретаря предрешена: завтра они оба будут уволены со службы.
Поджигатель, к моему удивлению, рассказывал совершенно спокойно. Завтра парторганизация и рабочком поставят вопрос о полном запрещении продажи вина на территории совхоза. Он добавил несколько слов о Бекельмане: профессор Антон Михайлович слишком интеллигентски либеральничает в отношениях со своими подчиненными. Бекельмана следовало давным-давно уволить за пристрастие к вину во время работы.
Практиканты молча продолжали уборку. Один из них вытащил из-под стола разбитый и помятый будильник. Я как будто видел его в фанерном чемодане Секретаря несколько дней назад.
– Здорово! – сказал практикант, рассматривая изуродованные пузатые часы с продавленным никелем. – Вот бугай! Что он, топором их колотил, что ли?
– Вещи нужно собрать в чемодан, – распорядился Поджигатель. – Вы, ребята, сложите их вместе, и давайте кончать этот свинарник.
Под нашими ногами хрустели осколки стекла, сахарный песок и какие-то камешки… Да, это был настоящий праздник. Винсеку исполнилось двадцать восемь лет. Я и не подозревал, почему он с утра надел воротничок с галстуком и френч времен военного коммунизма. Мы не сумели оценить во-время его многозначительное молчание. Но это уже конец. Даже в графине, пробка с которого исчезла неизвестно куда, плавали желтые, отвратительные, как скучный рассвет после распутной бессмысленной ночи, окурки.
Мы очистили стол и снесли вниз груды мокрого мусора. Один Живописец стоял в стороне и сумрачно глядел в окно. Когда принесли швабру и я стал подметать пол, пришел Овидий. Он уже знал все: сейчас при нем Секретаря пронесли вниз. Лирик бурно сожалел Петухова и валил всю вину на поколение. Бондарь Бекельман караулил шествие в кустах и снова пытался отбить безжизненного Секретаря от милиции. Он рыдал, как ребенок, и проклинал товарищей, которые оставляют друга на произвол судьбы. И, конечно, бондаря довольно резко попросили убраться восвояси.
Так кончился этот день. Слушая Овидия, я продолжал действовать шваброй. На полу, среди осколков стекла я нашел раздробленные раковины и клочья плотной бумаги с серовато-грифельным глянцем на одной стороне. Я собрал несколько клочков: это были остатки фотографии, на которой молодой Винсек стоял возле колонны в облаках и пальмовых ветвях, а в роскошном кресле с резными украшениями, наподобие тех, что украшают катафалки, сидела дама с коком и глазами, как две маленьких горячих гадюки. На одном из клочков уцелело полголовы, и черный глазок еще смотрел на меня остановившейся жизнью.
Вскоре потух свет. Живописец ушел последним, провозгласив вечный покой профессору Арнозану. Окно зажглось, как волшебный фонарь, лунный глобус излучался нескончаемым сияньем. И странные, тревожные сны без конца уводили меня в далекую, до слез правдивую молодую жизнь…
Вишневые, снеговые сады осыпались на остроконечные крыши, струился свежий кисловатый запах, леса, полные дождевых ландышей, открывали дорожки. Чьи-то ласковые руки ложились на мои глаза и сердечный свет открывал даль, такую широкую и необъятную, что в груди обрывалась жизнь… Ах, это девушка! Она приближалась ко мне в синем весеннем костюме, звала и смеялась, но я не мог двинуться с места. Нестерпимая мука бессилия сковала ноги, губы мои не шевелились. Я тщетно пытался ответить ей, сказать самое главное, но не успел. Огромный китаец с кривой саблей уже гнался за ней, дьявольские глаза его, как щели страшных черных дверей, приближались все ближе и ближе. Она бежала ко мне, я видел слезы в ее лучистых глазах, мольбу, любовь, надежду, и в один момент все перевернулось, она кинулась ко мне на шею, и пронизывающий восторг ее теплоты, свежести, запаха ее волос, миг наивысшей близости – обрушился на меня чудесным ужасом и ударом… Китаец занес саблю и отрубил мне голову. Она покатилась по земле, и я в первый раз за всю жизнь увидал свое лицо со стороны: это катилась голова Овидия с белыми, как мел, старческими волосами. Я вскрикнул, бросился вперед и проснулся.
Потом кто-то больно тряс мое плечо и дышал прямо в лицо. Выпуклая бронзовая рожа с выкаченными глазами висела надо мной. Она показалась мне огромной и страшной. Я слышал хриплое бормотанье, горящий лунный экран на полу наполнял комнату голубоватым туманом.
Бондарь Бекельман грубо тащил меня с постели, прижимая к груди.
– Пой-дем, пой-дем… – горячо и прерывисто шептал он раздутыми губами. – Пойдем, отобьем товарища… Пус-кай увольняют, пускай! Мы разобьем им мор-рды… Они не знают Бекельмана… Они н-не зна-ют…
Он тискал мою шею и ругался, грозя всему миру. Он разбудил всех, и его еле выпроводили домой.
В эту ночь кончилось бабье лето. Секретарю перевалило за двадцать восемь, и во всех бочках, налитых виноградным соком, бурно бродили солнечные силы, превращая кровь зеленой земли в молодое вино.
Не ведьмы ли карябались вместо кошек в бочках старого заслуженного мастера Бекельмана?
36.
Совсем другой ветер опять подул с севера.
Кочегар Придачин по-прежнему делится со мной махорочным коробком. Тучи истории плотно заложили горизонт, письма из Москвы показывают, что нечего развешивать уши.
Прошло два дня. Послезавтра Винсек уезжает навсегда из страны виноградников, он сдает последние дела, а все остальное время лежит на кровати и зловеще молчит. Никто не знает, куда едет этот одинокий человек, уже потерявший общий язык с поколением. Может быть, он снова отправится искать его в далекие степи Казахстана… Бондарь уже не работает. Он занят своими удочками и тоже прощается с золотистыми карпами, хорошо знающими его крючки в течение долгих лет. Но жизнь идет, подвалы шампанского по-прежнему хлопают пробками в отделении дегоржажа. Пришли большие заказы, и хмурый Ничепорчук соревнуется сам с собой. Он дошел до тысячи ста бутылок и побивает рекорды старичка Фокасьева.
Сегодня с утра ветер пригнал хмурые водяные тучи. Они осыпаются мелким дождиком. Порою мне кажется, что кругом не хватает редких гудящих сосен, брусничных болот и серых гусиных косяков, держащих путь против ветра. И озеро, изрытое белыми бороздами, гулко расплескивает бурунную пену.
Овидий получил какое-то неприятное письмо в конверте со штемпелем Государственного издательства. Он изорвал его на мелкие клочки и ушел с Поджигателем, проспорив целое утро на тему об искренности. Поджигатель резко говорил ему, что сама постановка вопроса, как в отношении творчества, так и в отношении личного поведения, является пережитком анархического протестанства ущемленной мелкобуржуазной интеллигенции. Овидий кипятился, как молодой петух.
Я слушал и не проронил ни одного слова. Но Овидий вышел из комнаты с непреклонным видом, запахнувшись в непромокаемый плащ, и вскоре я остался один. Тучи спешили по серому небу, за окном брезжился облитый водой и неприветливый парк, деревья бежали листвой под ударами ветра. А в моем чемодане, открытом в первый раз за все это время, я нашел пожелтевшую московскую газету.
Я просидел все утро, приводя в порядок свои тетрадки и записи. На дворе шелестел мелкий дождик. И я не сразу заметил, как в комнату вошла девушка в сером пальто, забрызганном черными каплями, с непокрытой головой в мокрых, слипшихся прядях волос. Лицо ее, влажное от дождя, показалось мне совсем ребяческим, на ее желтых башмаках налипли комья влажной глины. Она весело и оживленно поздоровалась, и по одному ее взгляду на кровать Овидия я понял, что она пришла разговаривать вовсе не со мной.
– Его нет? – спросила она после некоторого молчания. – Ну, и отлично! Я вам не помешаю, если сяду здесь и почитаю книгу? Сегодня мне что-то скучно, и я больше не могу сидеть под зонтиком и подавать краски своему братцу… Он стал ужасным ворчуном за последние дни. Он ругает Директора за Бекельмана и не хочет ничего слушать.
В ее руках я заметил томик Тютчева. Она сняла пальто, бросила его на постель Овидия, оправила длинное синее платье и, взглянув на меня спокойно и серьезно, села, облокотившись на его подушку. Дождик слышнее шуршал в стекла окна, по небу ползли клубы серо-мраморных туч…
Скучны дождливые, обдутые норд-остом приморские дни на юге. И неровный слезливый свет сквозь подтеки неба на стеклах только сильнее подчеркивает холодную неподвижность масляных стен.
Мы сидели молча. Она изредка поднимала со страниц книги длинные спокойные ресницы и улыбалась мне светлыми глазами, совсем с видом учтивой спутницы по вагону, когда за дребезжащими гранеными стеклами бегут, опускаясь и поднимаясь, проволоки, мгновенно возникают и проваливаются столбы, а вдали заворачивают и кажутся дисками ровные степи…
Вагонный поток четко перестукивался в моем сердце… Она читала книгу, вытянув к полу длинные шелковистые ноги.
В дверь постучали. Она крикнула за меня «пожалуйста», приподнялась. Как-то боком, таинственно, прижимаясь к стене, просунулся Константин Степанович и, разводя руками, смотрел назад, кверху… Явно мужская снисходительная улыбка наворачивалась коль-чиками на концы его тощих подслюненных усиков. Зачесанная лысина его и, словно выпаренная в бане, красная шея в глубоких трещинах, как всегда, сияли довольством.
– Пришли к вам, – произнес он недоверчиво, будто не решаясь впустить кого-то, громко стучащего башмаками. – Проходи, проходи! – добавил он снисходительно в мрак коридора.
Светлана Алексеевна быстро поднялась, выпрямилась и оправила волосы. Мое сердце взлетело и упало ледяным комком: из дверей, тоже боком, показалась высокая женская фигура, повязанная красным платком, вымокшим до нитки, и Константин Степанович, вежливо глядя мне в глаза, посторонился с застенчивым видом.
– Ну вот, – сказал он вошедшей, – привел тебя, как хотела. Спрашивай, кого тебе нужно.
В темном деревенском саке и грубых полусапожках прямо на босые загорелые ноги, в этом бабьем наряде, вроде тех, что привычны нам на пригородных молочницах, она показалась мне непомерно высокой и сгорбленной. Константин Степаныч сбивчиво поглядывал на мокрый узелок в ее правой руке. Я сразу узнал девушку из долины Дюрсо. Левой маленькой красной пятерней она прижимала к груди оранжевую дыню, яркости морозного дубленого полушубка. Зеленые, подводные глаза ее с озадаченным любопытством прямо смотрели в лицо Светланы Алексеевны. Она перевела взгляд на меня, усмехаясь губами.
– Ну как… признал? – спросила она бойко, обнажая два ряда мелких белых зверьков. – А я до товарища с гостинцем… Уж спрашивала, спрашивала, где живут московские, насилу доискалась! Вот он все пускать не хотел.
Она дерзко поглядела в сторону телефониста.
Тот, улыбаясь, заботливо одернул скатерть на столе.
– Им только о тебе и думать! – сказал он, извинительно оглядывая Светлану Алексеевну. – Смотри вот, арбузы прокараулишь!
– И прокараулю – не тебе отвечать.
Телефонист вышел.
Караульщица положила узелок на стол, опустила осторожно дыню и сдернула платок с головы. Смолистые, небрежно заплетенные волосы ее упали на плечи.
– Дожжища какой – страсть! – сказала она, закидывая тяжелый жгут волос. – Ну, здравствуйте! – она протянула мне холодную крепкую руку.
Сестра художника не проронила ни слова: она приветливо поклонилась и прошла несколько шагов до кровати, помахивая концами длинного индигового платья, с тем гордым тактом, с каким проходят расстояние от двери до кресла у белого столика молодые женщины, впервые попавшие к гинекологу. Мы разговаривали, а она листала книгу, изредка поднося белый мизинчик к глазам и внимательно разглядывая свой розовый ноготь. Право, ее очень интересовал этот клочок Огненной Земли на человеческом теле. Караульщица с диким простодушием смотрела все время в ее сторону. Я предложил ей стул. Она сидела, поджав ноги, размахивая своим красным платочком и неподвижно улыбаясь откровенными губами, казалось – нагими, до того они блестели влажно и розово.
Я объяснил ей, что Овидий ушел на собрание в рабочий комитет и вряд ли вернется ранее трех часов. Если у нее есть неотложные дела, я могу сходить за ним. Я употребил неосторожное слово. Какие могут быть дела у тонкого лирика современности с девушкой, караулящей арбузы на бахчах долины Дюрсо? Светлана Алексеевна быстро листала страницу за страницей.
– Ну и ладно, – сказала, усмехаясь, караульщица. – У них делов-то побольше моего… А вы, барышня, чья будете? – спросила вдруг она, не спуская глаз с индигового платья и бледно-серебристых чулок.
– Я? – быстро захлопнула книгу та, вскидывая на караульщицу большие лучистые и насмешливые глаза. – Я его сестра.
И она встала, потянулась, погладив бока нежными руками, наглухо застегнутыми в узкие мягкие рукавчики. Я напряженно смотрел в окно. Унылые водяные тучи со снежными пятнами летели над деревьями, и листва ходила под нордом, закипая волнами глухого шелеста. Караульщица, не сводя глаз с молодой насмешливой женщины, расстегнула свой неуклюжий сак, ленивым движением повела плечами и, словно наедине перед зеркалом, открыла гладкую выпуклую шею с низким вырезом белого ситцевого платья в черных горошинах. Проворный клетчатый кусок ткани соскользнул на ее колени комком шелкового стекла. Это было прекрасное заграничное кашне, выбранное с большим вкусом. Светлана Алексеевна с изумлением смотрела на эту странную девушку: откуда у ней могла появиться такая изящная и дорогая вещь? И она обращается с ней, как с последней тряпкой…
Под бедным саком ее задорное, насмешливое тело раскрывалось, как запах кувшинки, в глазах ее плавали отсветы дремучей тины. Эти глаза по-прежнему смотрели вокруг с неподвижной откровенностью.
Тучи, развеянные ветром, уже прорывались голубыми пропастями. Я болтал всякий вздор. Караульщица развязала бабий вымокший узелок, – там оказались дешевые папиросы и пачки махорочного табаку. Она уже собиралась уходить, замотала вокруг шеи свое кашне и стояла, помахивая красным платком.
Я видел, что на ней не было ничего кроме базарного платья и черного полупальто, блестевшего заношенными металлическими пятнами. И с полусапожек ее на линолеум пола натекали грязные, размешанные с глиной лужи.
– Что же вы будете делать, Аня? – сказал я ей. – Ведь арбузы скоро кончатся. Где вы будете работать?
– Чего кончатся? – наивно переспросила она. – Вот еще! В Москву поеду на фабрику.
– Вы не замужем? – спросила Светлана Алексеевна, искоса поглядывая на ее голые, необыкновенно гладкие ноги. – У вас есть семья, отец, мать?
– Как бы не так! – вызывающе засмеялась караульщица. – Я и сама прокормлюсь, я не беленькая. Мужья-то таких не берегут, кто по шалашам валяется. А мне и не надо!
Она помолчала и совсем уже дерзко добавила:
– Чего мне муж! Кого хочу, того и люблю. Пускай теперь сами наищутся!
Она оглядела еще раз комнату, улыбнулась мне и подошла к окну.
– Чего затворились? – спросила она. – Али замерзли? А мне хорошо, у меня окошек нету… Ну, до свиданьица! Гостинец то ему передайте, – добавила она, протягивая мне руку. – Скажите, мол, приходила… Он знает… А вы, барышня, коли он вам брат, чего не подумайте. Мы ведь – не как московские.
Светлана Алексеевна ничего не сказала, беззаботно кивнув головой. Караульщица вышла, высокая и прямая, сложив руки – рукав в рукав. Через окно я видел ее еще раз: она шла, быстро и ловко ступая по гравию, и среди мертвой зыби ветра, дождевых последних капель, вспыхивающих блестками рыбьей чешуи в косых столбах солнца, она вся, с блуждающими губами, казалась улыбкой ожившей буддийской статуи.
Сестра художника слишком оживленно болтала со мной в этот день. Мы встретились все вместе в столовой, и никогда я не видел Овидия с девушкой такими беспечными и веселыми. Мы курили табак и ели ломти холодной дыни, похваливая долину Дюрсо. Посещение караульщицы прошло почти незаметно, я не сказал ни одного слова, а Светлана Алексеевна встретилась с Овидием раньше нас. Очевидно, и она не приняла этого визита всерьез. Но все же я видел, что она отказалась от дыни. Она не притронулась к ней и попросила Овидия разделаться с куском прекрасного плода, давшего Живописцу хороший повод для разговора о Гогене. Он ругал всю современную живопись и объявил, что собирается ехать к шаманам. Дикари ближе к искусству, чем век индустриализации. Поджигатель не спорил с ним в этот день и добродушно поблескивал очками, а практиканты слушали художника с почтительным вниманием. Портрет Придачина сделал свое дело, авторитет Живописца прочно утвердился в совхозе «Абрау-Дюрсо».
У кооператива мы встретили Наташу Ведель: в ее руках был уже новый роман. Мы разговаривали, а Живописец кашлял в стороне ровно три минуты, пока две девушки, дружно поцеловавшись, болтали на непонятном женском языке.
– Могила! – отплевывался Живописец, покачиваясь.
– Не сыграть бы к профессору Арнозану… Ках, ках! – докашливал он последние секунды. – Шаманы – серьезные мужики. Мы поедем к ним вместе с Бекельманом. Пускай это называют биологизмом.
– Слышите, слышите! – смеялась его сестра. – Он собирается к шаманам, а сам не может без меня сделать и шагу. Имей в виду, что я не собираюсь к дикарям. А шамана я заведу раньше тебя.
Она хохотала и поглядывала на Овидия, стоявшего в своем непромокаемом макинтоше с невозмутимым видом. И Наташа Ведель пригласила девушку на «Виллу роз». Она взяла с нее честное слово и добавила, что не отпустит ее до следующего утра.
Мы вернулись домой, когда ветер совсем разогнал дождь, отдельные помолодевшие тучи озирались в теплой синеве предвечернего воздуха. Косые лучи шарили в мокрой листве, отряхивающей дождевые россыпи, на горах ветер кружил лиловые и красные тени, усталые тени лесов. Норд-ост усиливался. Приближались осенние штормы.
Но я слышал, как Овидий, прощаясь с девушкой, сказал, что он снова идет к китайцу Жан-Суа караулить последние участки пино-франа на Магеллатовой Короне.
И, к счастью, беззаботная девушка не придала его словам никакого значения.
37.
Я сделал все, чтобы Овидий не ушел в этот вечер. Наступала тридцатая ночь нашей коммуны, тридцатая ночь поколения. Еще раз мы лежали на кроватях все вместе и пускали папиросный дым. Овидий братски разделил полученный подарок. Но все мои уговоры не привели ни к чему. Он вытащил свои чемоданы, выбрал лучшую сорочку, повязал изысканный синий галстук и надел серый пиджачный костюм. Очевидно, Жан-Суа устраивает виноградный бал. И Поджигатель, как всегда, заботливо оглядел вероломного друга и посоветовал ему надеть калоши: он сам в дождливые дни морщился от распухающих суставов. Овидий крепко пожал мою руку, я вышел проводить его на крыльцо.
Ветер раздувал желтое вечернее пламя.
– Я вас очень прошу, – сказал я еще раз Лирику, – оставайтесь сегодня с нами… Я уезжаю на-днях. Хотелось бы поговорить… Кроме того, посмотрите, какая погода.
– Пустяки! – засмеялся он в ответ. – Я вас очень люблю, но думаю, что вы никуда не уедете – во-первых. Во-вторых – мне нужно видеть Жан-Суа. Мы караулим сегодня в последний раз.
– Как хотите, но я все-таки вас очень прошу…
– Нет, нет!
Он схватил меня за плечи, обнял. От его свежевыбритых щек пахло одеколоном.
– До свиданья! – сказал он. – Помните, как у Тютчева:
Так здесь-то суждено нам было Сказать последнее прости, — Прости всему, чем сердце жило, Что, жизнь убив, ее испепелило В твоей измученной груди!Он читал свободно и звучно, вдыхая стихи, как воздух, глаза его блестели.
– Вот стихи! – восклицал он. – Это поэт! А дальше, дальше…
Прости… Чрез много, много лет Ты будешь помнить с содроганьем Сей край, сей брег с его полуденным сияньем, Где вечный блеск и ранний цвет…Он схватился за голову, быстро сбежал с лестницы.
– До свиданья! – кричал он на ходу. – Все это ерунда, а вот у меня опять зарезали книгу…
Он крикнул что-то еще и возбужденно легко побежал по дорожке. Ветер трепал его пушистую голову, ровно подстриженную кружком над гордой юношеской шеей.
Когда я вернулся в комнату, Поджигатель добродушно беседовал с Винсеком и советовал ему поступить на технические курсы. Секретарь угрюмо молчал и глядел исподлобья. Завтра в двенадцать часов он уезжает и прощается с нами – быть может, навсегда. Я собрал бумаги и книги, надел старую охотничью куртку.
– Вы что, уходите? – спросил меня Поджигатель. – Я было хотел поговорить с вами по душам…
Он смотрел, ласково улыбаясь, совсем как в старое время. Его клетчатые портянки лежали в неприкосновенности на полу. Маленькое тщедушное тело, завернутое по пояс в суконное одеяло, выглядело трогательным.
– Я хотел было отправиться к морю… Но я с удовольствием останусь.
Мне, собственно, давно хотелось рассказать ему кое-какие вещи.
– Нет, нет! – сказал он приветливо. – Идите. Это мы еще успеем. Я просто прихворнул и немного раскис. А сейчас мы побеседуем с товарищем…
Он решительно просил меня посмотреть шторм на море.
Давно стоял свежий росистый вечер. Тучи снова наползали на горы. На клумбах у старого цементного фонтана, разбитые и ошеломленные водой, шевелились, поднимая стебли, заглохшие летние цветы. Табак уже отцвел. Под сырой зеленой скамейкой светлой тенью белела сухая полоса песку. Уже не осталось совсем летних дождевых запахов. Я сидел под нашим окном, смутные звуки голоса Поджигателя доносило сверху. Дым папиросы мешался с ветром, шипели деревья, сквозь листву мерцала серая рябь тусклой озерной воды. Дом словно вымер. За окнами, закрытыми наглухо, тьма чернела водяными потемками, лишь одно окно нашей коммуны звучало распахнутой жизнью… Я как будто ослышался. Шипели деревья, возникали и смолкали голоса, в налетающих порывах упругого беспокойного шума мне почудились глухие рыдающие всхлипыванья… Не может быть! Ветер расплескивал шум, звуки набегали и откатывались движеньем прибоя, на их гребешках отчетливо нырял и покачивался голос Поджигателя. Кто-то глухо рыдал – так, как рыдают мужчины, с редким, почти собачьим лаем, не отирая слез и не закрывая лица…
Да, да, это – Винсек.
Я вскочил, бросился к лестнице… Наверху захлопнулось со звоном окно, и все смолкло. У двери с натеками водяных полос, сбегавших свежей малярной краской, на меня налетели голоса, шум, мгновенный распах лестницы. Сестра художника едва не сшибла меня с ног. Живописец, в пальто и кепке, ловил ее за плечи, что-то громко и возбужденно говорил и так и остался передо мной со сведенным, полуоткрытым ртом, собранным в морщины старческого бритого детства.
Лицо девушки, с решительными потемневшими глазами, бледное от пудры, на секунду отшатнулось назад.
– Вот! – быстро сказала она, хватая отвороты моей куртки рукой, затянутой в тугую перчатку. – Отлично! Я только вас и ждала. Он мне решительно надоел своим ворчаньем!
Она была в светлом пальто, белой шапочке, на ее лбу между тонкими серпами бровей топорщилась нетерпеливая морщинка.
– Идемте, идемте! – стремительно тащила она меня вниз. – Вы меня проводите до озера. Я буду купаться. Слышишь? – обернулась она к брату, настойчиво подталкивая меня по дорожке. – Пожалуйста не ворчи! Я буду ночевать у Наташи.
– Люсь-ка! – сердито и предостерегающе кричал ей Живописец.
– Нет, нет… Я иду, иду! – отозвалась она высоким голосом, прибавила шагу и быстро повлекла меня вперед, размахивая купальным полотенцем. На миг она подняла голову, и я увидел, как она закусила губы; широко раскрытые глаза ее остановились и наполнились оплывающим блеском…
Она шла, сжимая мой локоть, почти бегом, взглянула мельком на мое лицо и снова опустила голову. Мы продирались сквозь цепкую тропинку, нас осыпало дождевыми ветками, – она ничего не замечала.
– Скорее, скорее! – шептала она лихорадочно, совсем не замечая меня. – Я очень тороплюсь! Нужно обязательно выкупаться, а то будет темно.
Я что-то бормотал, она не слушала, решительно прыгая через камни, не отстраняясь от листьев, хлеставших прямо по лицу, и ни капли не заботясь о туфлях, полных уже воды и грязи. Вечерний дождь падал где-то туманным занавесом, закрывая часть лихорадочно-воспаленного неба. Мы спустились с обрыва. Багровый закат гнал озеро, катившее грязную мыльную пену меж темных, курящихся призрачным паром гор, и берег раскачивался среди неприютных волн, то отходя назад и покрываясь шумом и всплесками, то высовываясь мелькающей глиной, камнями и зеленым дном с гладко прилизанной тиной. Норд-ост усиливался. Он влипал в тело неослабевающей силой, берег, землю, воды, весь мир гнало на запад, нас несло мимо неподвижных облаков, и они оставались сзади, как дикие первобытные берега.
Девушка быстро сбежала к самой воде. Не отвечая на мои слова, с полотенцем, придутым к пальто, она смотрела вперед, через рябую водяную равнину, уходившую под навесы лесистых гор. Лесные гребни их неслись мимо облаков, как и мы; они взрывали распухшее небо острым килем темного хребта, оставляя клубящийся дым. Там, среди лиловых и желтых кустарников кружилась дорога в долину Дюрсо.
Туфли девушки окатывало разливами волн. Я кричал ей, она не отвечала. Я видел, как она, прыгая с камня на камень, добралась до рыбачьих мостков и возилась у лодки, бившейся на воде совсем в Виттовой пляске. Очевидно, у нее есть ключ. Движение… она бросила полотенце, расстегнула пояс и, обернувшись ко мне, замахала руками.
– Идите, идите! – рвало ее голос на клочки фраз. – Я раздеваюсь! – и еще что-то, еще…
И она, уже не оглядываясь, начала стаскивать светлое пальто, подхваченное ветром, ее белая шапочка ныряла поплавком среди пены и волн, и я украдкой видел, все дальше и дальше, как светилась она – одна на грифельно-серой воде, под блеском уходящего запада, под ветром и тучами, на древнем озере, знавшем два сотворения мира. Потом я потерял ее из виду и спустился в котловину виноградников.
Я пошел к морю. Да, я пошел к морю. Я пошел к скалам, видевшим все паруса скитальцев, и долго смотрел на запад. Может быть, я что-то кричал с этих холодных камней, может быть, пел, – в этом не было бы ничего удивительного: море, скалы и ветер, бившиеся сорванным хлопающим парусом, охваченные спешкой, толкая друг друга, обливаясь шумом, свистом и плеском, неслись вперед, на горизонт, заогненный обветренным диким блеском, где свинцовые потемки, серный клубящийся дым, дождевые туманы уже мешались в бестолковой сумятице искаженного хаоса. Внизу что-то ахало, запевало, бухало и после удара откатывалось назад, сталкиваясь с новым ударом… Мелкие задерганные волны, как орудийная прислуга у скорострельных пушек во время боя, кидались в брызги и дым при очередном откате, – и снова удары сотрясали камни и горы, и снова гигантский компрессор откидывал назад упругую косную силу, расстреливаемую береговыми батареями в упор. И все неслось с гибельным бешенством вперед и вперед…
Здесь, на этих скалах Овидий произносил речи к солнцу, обучаясь ораторскому искусству. Он показывал нам жертвенные мессы, он плясал здесь, – и я помню, как девушка смеялась до упада… Но я вовсе не хотел подражать Лирику. Я летел вместе с землей мимо туч. Может быть, я тоже катался по земле, пытаясь перекричать водопад гула, и мои слова уносило во мрак, подгоняемый все сильнее и сильнее, как массы армий, бегущие при отступлении. В ночной темноте, залитой дождем и ветром, море стало ужасным; остатки вечера, разгромленные бурей, бежали без оглядки, все перемешалось в свисте и треске и, слившись в единый темный поток, неслось под уклон, как эшелон, потерявший тормоза и управление и проваливающийся куда-то в пропасть вместе с осатаневшими лентами матросских шапок, сбоку наклоненного паровоза, слившегося в образ гибели.
Меня вынесло из этой ночи, из темных дорог, воя и шелеста, из сечи дождя и веток только к рассвету, когда я, проплутав полночи, оглушенный, разбитый до самых костей, еле нашел свою кровать, скинул с себя все до нитки и, мгновенно заснув, упал снова в неистовый грохот и смятенье. Всю ночь меня несло в непроглядный мрак и гул, и вдруг сразу раскололо вдребезги, разбросало, и наворотив вместо яви груду оскаленных досок, щеп, железа и пламени, кинуло кверху, перевернуло, и за мной, медленно нарастая завесой суставчатого черного дыма, разбитый эшелон мрака вдруг распался, оседая грохотом…
– Где Люся?! Где Люся?! – тормошили меня Живописец и Поджигатель. – Проснитесь скорее и отвечайте: где Люся?
Они смотрели на меня, как укротители на дикого зверя. У художника на сером, известковом лице отваливалась челюсть.
– Где Люся? – крикнул еще раз Поджигатель в упор. – Отвечайте же, чорт возьми!
Он стоял передо мной в одном белье, глаза его непримиримо и твердо чернели в очках, наведенные на мои крошечными ранками зрачков зорко-разъяренных в карем спокойствии. Ему нехватало нагана в руке и оцепенелой шеренги глядящего исподлобья партизанского бунта.
Мгновенье.
Я еле нашел несколько слов. Они прозвучали, как выстрел. Художник сорвался с места и, сразу обмякнув, опустил руки, повисшие обезволенными плетьми.
– Кончено… – глухо сказал он. – Ее нет у Веделя, я звонил только сейчас.
Они переглянулись с Поджигателем. Один красноречивый взгляд, секунда мигнула на зорких очках, и я видел, как кривая судорога замкнула их лица. Поджигатель сморгнул ее в сторону, выпрямился, очки его блеснули ожесточенно.
– Она купалась, – пробормотал он хрипло. – Так… Одевайтесь, оде-вайтесь! – крикнул он вдруг яростно и кинулся к своей кровати.
Он быстро напяливал на себя рубашку, брюки, бросая Живописцу обрывистые фразы. Тот сидел за столом, безжизненно опустив голову на локти. Перепутанные секунды, неловкость спешки и нависшая туча беды – все плясало в сознании, мои шнурки никак не попадали в глазки ботинок. Потом полутемный дом, серый рассвет, хлопнувшая дверь, подхваченные ветром и мелким дождем, смешались в прерывистом дыхании, сгинули, – и сразу низкое дымное небо, ветки кустов надвинулись на меня вперемежку со скользкой глиной и стучащим сердцем…
Мы бежали к озеру, перемахивая через камни и рытвины, Живописец что-то кричал, хватаясь за грудь, но теперь уже было не до него. Обрыв полыхнул, как гром, острым удушьем беспамятства. Грохот свежел. Шторм сбивал накипь к горам: в бурунных потемках, оснащенное рассыпчатыми водяными снежками, каталось и гудело набатом пустынное поле… Лодки не было. Рыбачьи мостки кидались с разбега в брызги и фонтаны, разбегались опять, поднимали черные сваи и вновь проныривали крутые гребни, скрываясь в зеленоватой мути.
Озеро не было здесь особенно широким. Выступающий мыс обрыва закрывал его справа. Оно мчало оттуда волны и ветер, загоняя их в узкий пролив. Перед нами, зажатая в тесные тиски берегов, неслась вода, и дикий сквозняк норд-оста, выдуваемый откуда-то снизу, почти сшибал с ног. В его упругой силе терялись всякие слова.
– Здесь! Здесь! – кричал я Поджигателю, как в трубку междугородного телефона, пробиваясь сквозь резиновый натянутый воздух и тщетно хватаясь за мокрые кусты.
Он понял по моим жестам и бесстрашно катился вниз на огромных башмаках, собирая пудовые навороты глины, в своей клетчатой рубахе, надутой пузырем; волосы его поднялись столбом; на середине обрыва он поскользнулся, сорвался и полетел, мелькая широко раздвинутыми и задранными кверху ногами.
Я нашел его у самой воды, с изодранным в кровь локтем, в рубахе, располоснутой пополам от самой шеи, – он равнодушно протирал очки, глаза его, как зачарованные, смотрели на стену воды, выпукло громоздящуюся и налезающую все выше и выше… Она росла, поднималась, рушилась на берег, заунывно, с глухим шумом неожиданно затопляла камни, прибрежные рытвины – и, отхлынув, снова кидалась вперед… Ветер, казалось, не успевал догонять этот шум, рев и грохот. В тусклом свете холодного утра все мелькало и двигалось, и весь мир, пригнутый, как ветка, бился и трепетал, со всех сторон облепленный затрепанным воздухом.
С обрыва слабым, отдаленным стоном донесся крик… Его подхватило, как одинокую искру в разорванном столбе дыма, и сразу снесло, завертело и забросило вдаль. Мы кинулись по прибрежным камням. То кричал Живописец, похожий на ветряную мельницу, застигнутую бурей. Ничего кроме туч и воды, ничего кроме плеска, брызг, запаха сырой только что освежеванной рыбы и ветра, заполняющего рот, нос, уши и все тело, – ничего и никого на длинной прибрежной косе.
Потом у меня почти не осталось памяти… В камнях, отмытых до глянца половодным размахом шторма, вдалеке от мостков я нашел женскую шапочку, набитую илом и грязью. Я сидел на камнях и терял все… Я несся в рытвинах белых и серых туч, небо махало гигантскими грязными крыльями, кто-то бегал и кричал, бросаясь в прибой, и вода поднималась до самых гор, летела на меня плеском и ревом, – и опять ничего не было кроме мокрого куска шерстяной ткани и невероятного сознания перед тем, что осталось там, в глубинах, на дне, там, куда вдруг утащило последний вечер, лодку и ее серое пальто, в последний раз мигнувшее и навсегда задутое вместе с белой шапочкой неистовой спешкой заката. Исчезли горы, леса и камни. Меня трясло и тошнило от ветра, от холода, от плеска…
Кипела вода, земля отплывала от облачных городов. Косяки туч пропадали из виду. Осенние пестрые горы бороздили их, оставляя дым. Кто-то бежал у самой воды на противоположном берегу, падая, шатаясь и протягивая руки. И в тот же момент я услышал крики, похожие на вопли истязания. Поджигатель, голый по пояс, неистово махал изодранной рубахой, как Робинзон, увидевший паруса на необозримом горизонте. Клочья пестрой ковбойки трепались по ветру, он кричал и носился по берегу, показывая рукой на горы, через поле воды, изрытой огромною пашней, а художник не переставая вторил ему и без устали поднимал и швырял камни, перебегая от воды к обрыву, методично, словно крыса, попавшая в западню, при появлении человека.
Масса воды стремилась, как парус, косо наклоненный до отказа, готовый вот-вот отделиться на воздух. Сквозь этот поток было видно, как женская фигура задержалась на несколько мгновений у груды камней исчезая в береговой пене, затем уменьшилась наполовину, – и в ряби волн появилось другое, серое, вдруг попавшее в самую пляску воды и сразу поглощенное общим движением. Оно то возникало отчетливо, то пропадало. Минута, другая… Лодка вдруг обозначилась на вершине водяной стены, кидавшей ее то вправо, то влево, ее гнало бурей, – и сразу нам стало ясно, что весла, беспорядочно мелькавшие по сторонам, отделяются только случайно, и ее уже сбивает, захлестывает и крутит среди мутных ходячих холмов, возникающих с непонятной быстротой отовсюду и сразу наливающихся свинцовыми буревыми потемками.
Но девушка все же гребла, не замечая ничего, не слыша наших криков. Задувало секунды, минуты, быть может – часы. Мы бежали по берегу за лодкой, сносимой норд-остом к другому мысу, и она была совсем уже близко, саженях в двадцати, на тех водяных горах, шумные обвалы которых доносило сквозь ветер. Осталось совсем немного: десяток минут борьбы, полсотни хороших весельных ударов. Но девушка не видела ничего. На наших глазах черный, как ночь, обрыв воды подкатился под самый борт, лодка провалилась вниз, вырвало весла, и сейчас же рядом вскипела седой вершиной огромная глыба воды и, обрушившись грозным махровым потоком, скрыла на мгновение все… Еще раз лодку выкинуло наверх и вынесло на круглый играющий холм, и, с нашим криком, мгновенно обернулись к берегу – запрокинутый борт, доски скамеек, высокая фигура в синем платье и бледное лицо, устремленное на нас. В лодке не было воды – мы видели это отчетливо. Девушка узнала нас, пошатнулась и, словно вдруг решившись, прижав руки к груди и закинув голову, сама, сама качнулась за борт. Она мелькнула на одну секунду, еще – лодку перевернуло вверх дном и закрыло водой, и я слышал, как крик Живописца оборвался на диком вопле, и видел, как он сунулся к земле, точно лоза за перелетом шашки. Затем впереди, из-за нависшего темного мыса в серый живой поток выкинуло черную стрелку, и чьи-то новые твердые весла подбросило кверху, как распятые крылья, а с камней возле меня полуголый человек кинулся в рев воды, исчез, появился опять и, вознесенный очередным откатом, поплыл уже вне прибоя, часто и неистово шлепая руками… Это был Поджигатель. Его бросало с гребня на гребень, голова его проваливалась вниз, и тогда на месте ее рушилась пена, – он не знал ни одного правила порядочного плавания. И сразу его залило, закачало и разбило оплеухами волн: он стал уходить под воду.
Меня три раза выбрасывало обратно. Я нырнул навстречу навалившимся всплескам и прорезал прибой уже тогда, когда впереди мелькнула только одна голая рука, но меня вынесло на землю. Я нырнул второй раз, насколько хватило дыханья, – надо мной промчалось столетье пещерного шума, звона и гула, – и когда уже застучали черные молоты в голове и безотчетная сила выкинула тело наверх, мгновенное небо и вспышка серой кипящей пустыни перекувырнулись в глазах, и в тот же миг лодка, взявшаяся неведомо откуда, взлетела кверху, ринулась вниз, я увидел бондаря Бекельмана, и зеленая мгла заплеснулась потемками… Я схватил Поджигателя за ногу, и меня сразу потащило вниз, дернуло и мотануло вслед за причудливой тенью, кидавшейся призраком в тусклом подводном мраке. Вода билась, как спрут, глушила голову, разрывала грудь, вспышки сознания красным огнем метались в потемках отчаянья, но мне все-таки удалось вцепиться в длинные волосы якобинца. Одной рукой я выгребал вверх, в моем кулаке, зажатом судорогой, человек еще колотился и дергался, как рыба, попавшая на крючковую снасть.
Потом накатился прибой, меня швырнуло и захлестнуло водой, тело Поджигателя перебросило вперед, и с первым ударом о твердое вернулись жизнь, берег, ветер, стопудовая тяжесть тела. Я тащил свой груз неуклонно, почти не сознавая, где я и что, тошнота сосала в груди, кружились какие-то камни, голоса… Я очнулся от холода и странной легкости. Бондарь Бекельман в охотничьих сапогах стоял надо мной и что-то кричал, летело озеро, ветер, качались камни и горы, голову ломило от боли, тискавшей череп ледяными клещами.
А с обрыва уже бежали люди, кто-то тащил простыню, и я видел, как она взвилась и захлопала над головами толпы, появившейся точно из-под земли вокруг двух длинных неподвижных тел, из которых одно, в платье, черном от воды, казалось изваянной статуей. Живописец осыпал поцелуями тонкие женские пальцы, гладил обедневшие мокрые волосы и говорил одну и ту же фразу: «Люсенька, мы поедем в Ленинград… Люсенька не беспокойся…» Потом кто-то командовал, кто-то кричал, чтобы не клали на землю, их качали, поднимали им руки и делали все, что полагается делать, когда близкие люди отходят в сторону, сидят, забытые всеми, и смотрят неизвестно куда чужими и ненавидящими мир глазами…
Поджигатель очнулся первым. Его закутали в куртку Бекельмана и увели наверх. Девушку качали больше десяти минут. С нее сняли синее платье, тонкую сорочку, туфли и чулки, ей поднимали руки, и я видел сам, как плакал старый бондарь, когда кругом загалдели, радостно закричали и когда он сам, сопя от натуги, растирал ее ноги, руки и грудь чьим-то пиджаком и на чистом, белом, как кость, теле проступили первые полосы жизни.
– Что Бекельман? Лучше бы тонуть Бекельману! – хрипел он. – Деточка моя дорогая! Ах, деточка!.. Это не дело – такой девушке бросаться в воду…
И слезы текли по его багровым щекам, и его добрая голова клонилась жесткой кабаньей щетиной.
Старый бондарь, к счастью, подоспел во-время. Он собирал перед отъездом рыболовные снасти и видел все: ей вовсе не нужно было прыгать с лодки, за которую он ручался собственной головой. Она умела грести и править не хуже его.
В густом чертополохе сумятицы пронеслось это утро. Когда девушку перенесли в больницу и события разъяснились, светило время полудня. Она пришла в себя окончательно, и я вошел в эту белую комнату из мужской палаты, где лежал Поджигатель: кровь непрерывно шла из носа бедняги, он очень ослаб, и его просили не беспокоить.
Девушка лежала неподвижно. Голова ее, с еще влажными волосами, глубоко ушла в подушку, глаза, бессильно полузакрытые в забытьи, не узнавали никого. Какой-то старый, очень поживший человек с растрепанной чолкой на лбу сидел на кровати и тихонько гладил ее слабые длинные пальцы. Я едва узнал Живописца, не повернувшего головы на мои шаги и на мой осторожный шопот.
Тишина светлела от стен, от белой кровати, от заостренных черт лица, погруженного в тени подушки. Потом все оборвалось… Едва я подошел к ее изголовью, как девушка широко раскрыла глаза. Увидев меня, она отшатнулась к стене, неожиданно забилась всем телом и, словно защищаясь, с глазами в горячечном бреду, полная рыданий, ужаса и боли, вытянула руки и закричала отчаянным раздавленным криком.
– Нет, нет! – билась она, обнимая брата, прячась за него. – Не хочу, не хочу… Спасите, Шурик, спасите! Ну, спаси же меня, спаси! – и что-то еще, чудовищное, нелепое, переходящее в плач и бессилие, из чего вырывалось торопливое: – Он… он… он убил меня! Спаси же меня! Нет, нет… Спасите, спасите!
Она рвалась, плакала, хохотала и, пряча голову в плечах брата, как маленькая девочка ночью от грубого кошмара, навалившегося из темных пещер утробного бытия, кричала что-то страшное. Она кричала не переставая. Прибежали сиделка, врач, какие-то люди в белье, а Живописец, с перекошенным от ненависти лицом, вытолкал меня за дверь.
Норд-ост качал землю и гнал деревья… В этот день кончилась дружба поколения, продолжало бродить вино, а из комнаты коммуны в управлении «Абрау-Дюрсо» с десятичасовой машиной навсегда исчезли Винсек и Овидий, оставивший мне краткую записку. В ней было всего несколько строк. «Нет слов, – торопливо плясал чернильный карандаш, – нет и оправданий. Вы знаете все. Знайте и то, что я любил и люблю ее больше жизни. Я запутался, но я был искренен до конца. Не могу оставаться здесь ни минуты, тоска и ужас гонят меня, поймите, что пережито, когда узнал… Может быть, она простит и поймет. Если так, пошлите телеграмму. Я хочу увидеться с вами до отъезда. Сам уехать отсюда уже не могу, не увидевшись с ней… Дорогой, верный друг, добрый философ, прощайте!» К записке он приложил адрес: соседний город, улица, дом…
Пустая комната, ветер за окнами, конец… У себя под подушкой я нашел несколько стихотворений, оставленных мне на память.
Прощай, прощай!
Вечером садовый рабочий с виноградников Дюр-со принес к нам светлое дамское пальто, найденное у бахчей караульщицей. А еще позднее Константин Степанович вошел на цыпочках в комнату и положил мне на стол плотный конверт. Письмо Живописца… Да, да, навсегда…
Конверт выскользнул из моих рук и упал на пол. Я не поднял его. Я поднялся с кровати, прошел коридор, лестницу и постучался в ту комнату, где столько дней дышала и смеялась она. Никто не ответил. Над белой нежной кроватью, прикрытой кружевами, среди военных плакатов и чертежей разобранной винтовки, на изящной полочке, из горла шампанской бутылки свисала лиловыми блестящими листьями засохшая уже ветка скумпии…
Чистая девичья постель. На неизмятой подушке прохладно белело выглаженное белье, тонкое, как паутина. А сверху – прекрасные столовые салфетки, точь-в-точь как те, что вмешались в мою дружбу с одним старым фронтовым товарищем.
Но я не коснулся этого полотна. Я потянулся к ветке. И я оторвал два листка и приложил их к письму – на память о последних днях той отлетной баснословной поры, которая бывает один лишь раз, не возвращается никогда и называется так, как каждому вольно будет назвать.
Повествование восьмое Пробка летит в потолок
«Шампанское Абрау-Дюрсо по своему качеству стало наравне с лучшими французскими марками. В отношении тонкости и продолжительности игры оно также не отличается от лучших заграничных марок, и только встречающиеся иногда дефектные пробки заставляют в этом отношении желать улучшения».
Из доклада.38.
Он был искателем счастья, он бегал за ним по земле и прижимал к груди то, что находил, он был человеком, добрым товарищем, он был из нашего поколения. Но он забыл, что счастье не ищут и что это слово создается из железа, камней и земли твердыми руками и что это самое жестокое слово.
Я повторяю: он был. Я повторяю это, уже слушая московскую ночь.
Он был веселым, смелым, беспечным и делился всегда всем, что имел. Он любил нашу страну, строил много планов, и простые люди хлопали его по плечу. Живой, сердечный смех его стоит в моих ушах. «Здравствуйте! – хочется мне сказать ему. – Я так рад, что вы вернулись опять!.. Мы прежде всего отправимся к Поджигателю. Он тоже во многом ошибался, и я не называю его больше Учителем. Но мы обрадуем его и его нищую комнату… Вот мы опять вместе, я вынимаю из чемодана старую газетку: здесь есть хорошие новости… Далеко, в хвойных пустынях течет великая река, она чиста, как душа нашего поколения. Там нет ничего кроме ветра, кедров и сосен. Мы поедем туда копать руду и уголь, строить плотины, мы поедем создавать счастье вместе с теми людьми, которые осветят и согреют весь мир. По душе они нам. От них, от них, как от чистых строевых деревьев, тянет ветром, простым запахом хвои и смолы. Они знают звонкие слова о жестокости топора, когда в диких лесах жизни начинается рубка. Мы едем вместе: что нам коптеть в жалких спорах о смысле искусства? Давайте же руку, дорогой Поджигатель!»
Да, он совершил преступление, и все же он был настоящим товарищем. И мне хочется сказать ему напоследок, что Арбат нисколько не стал хуже от гладкого асфальта. Он может быть спокойным. Потому что он больше всех нас любил этот город, эту жизнь, что затихает последним звоном трамваев, и даже мокрый снег, летящий на балкон сквозь полночное зарево. И я предлагаю и вам, Неунывающий Друг, выпить со мной за его веселую память из трех бутылок Абрау, того Абрау, куда я, наверное, никогда не вернусь. Потому что я сегодня еще раз прощаюсь с ним навсегда, пью его жизнерадостный сок и мысленно брожу по дорогам прошлого, пожимая руки в последний раз… А в окнах падает снег, и когда я выхожу на балкон и смотрю вниз, надо мной в белесом мутном движении ворочается шум неоскудевающей жизни, размахивается гул ее просторов, и я не чувствую холода, сырости и падающего шорохом безмолвия неба. Я простираю руки туда, за тридевять земель, через поля и леса, через горы, где еще светит лунная ночь. И я снова слышу его смех и вижу непромокаемое пальто, забрызганное кровью.
– Выпьем же еще стакан! – говорю я. – Выпьем за старый совхоз и вспомним товарищей, наших верных товарищей, и простимся…
Он жил, любил, бросался к жизни, смеялся, мы называли его Овидием. Телеграмма о нем шла три дня: он покончил с собой выстрелом в рот на бетонных плитах порта, откуда открыты пути во весь мир. Оказывается, его любили все: так написано в сегодняшней газете. И я опять слышу его смех – смех неугомонного искателя счастья, опять синие горы окружают озеро, и я вновь, как тогда, обхожу всех старых шампанских друзей, чтобы проститься. Вторая пробка летит кверху, секунду студеный дым плавает над черным горлом, пушистая пена поднимается над стаканом, и кругом уже пахнет весенним дождем, отряхнутым с майской березовой ветки.
– За ваше здоровье, мосье Фокасс! Я вспомнил, что вы пригласили меня посмотреть на свою работу. Это – экстренный случай; большие заказы, вас попросили помочь, и вот вы опять передо мной, старый учитель-шампанист, побивавший всех французов мастерством выстрела и рекордами выработки, опять у своего станка в кожаном набедреннике и холщевом фартуке, суровый и торжественный, как никогда… Я принес ваши документы – всю вашу жизнь, ваше геройство – и хочу посмотреть на ваше искусство и сказать «прощай»!
И добрый мосье Фокасс снова выхватывает бутылки из гнезд рессорной тележки, уже с трудом, уже сгорбясь, и хлопают выстрелы дегоржажа, отваливаются ржавые скобки, и чистое освобожденное вино переходит к ликерному автомату. Но там, где стоит его ученик, властный Ничепорчук с выпуклой грудью, вылитой из бронзы под брезентом фартука, выстрелы следуют один за другим, раздражающе точно и верно. Мосье Фокасс кипятится, отстает, руки его не справляются со щипцами, – и я невольно смотрю туда, где мастерство силы, ловкости и уверенности кажется таким простым и естественным. Фокасьев совсем горбится, темнеет лицом, рожки его усов ходят сердито и возбужденно. Он резко бросает последнюю скобку, пена заливает его руки, – и, с неудачным выстрелом, он, не сказав ни слова, быстро уходит наверх…
Прощайте, мосье Фокасс!
Я наливаю еще. Мне хочется еще раз увидеть бондарную и мастера Бекельмана, старого заслуженного мастера, среди молодых бочек, среди теплых дубовых стружек и грома молотков, набивающих обручи. Бочки пляшут уже передо мной и горланят непристойные песни. Бургундские кошки и ведьмы выскакивают из них и пускают лиловые пузыри. Но я не вижу седой щетины и колючих усов, не слышу хриплого смеха и прибауток, не чувствую на плечах грубых ласковых рук, прижимающих меня к добродушной груди. В бондарной тихо. Согнувшийся над рубанком человек не охотно поднимает обожженное зноем, бугристое лицо.
– А! Старый приятель! – бормочу я изумленно, и навстречу мне полыхает черная фронтовая ночь и насмешливо-непримиримый взгляд конвоира, ведущего пленного офицера к штабу дивизии. Он все такой же: с упорными степными глазами, как был тогда, как был на винограднике в нашу встречу, когда я поднял с земли книжку по агрономии. – Так, так… – говорю я. – А я и не знал, что вы умеете делать бочки. Желаю вам от души всего хорошего!
– Раз нужно, значит научился! – отвечает новый бондарь, не отводя от моего лица суровых глаз. Он хмуро сдвигает брови, становится еще непримиримее – и вдруг ласково, точно сплюнув строгость, ухмыляется. – Уезжаете, что ли? – кричит он вдогонку. – Не серчай, если обмолвился… Какой я есть, такой и на словах.
И вновь я вижу мощеный двор шампанского производства, вновь я поднимаюсь по каменной лестнице и оставляю в прошлом старика Доброштанова, мешковато согнувшегося в больных коленях, его очки на самом конце носа и глухой голос, реющий летучей мышью из сырого полночного мрака шампанских тоннелей. И я захожу в сад, где в брызгах фонтана корчится бронзовая обезьяна и вечно падает шопот средневекового монаха. Да, да, я слышал, что девушка в бреду нервной горячки мучается от этих химер, и обезьяна преследует ее сознание, искаженное ночью у виноградников Дюр-со. И я прощаюсь, ухожу наверх и пожимаю руку кочегару Придачину.
До свиданья, противник Шопенгауэра, до свиданья, светлый дух рассветного гудка, облетающего трудовые горы. Да здравствует бодрый часовщик истории, неугасимый смех оптимизма вездесущей страны!
Я поднимаю стакан, хитрый монах туманит мои глаза, но я отчетливо вижу черный картуз, редкую бороду и дымок папиросы, спокойно созерцающие мир из дверей кочегарки.
– Мне очень жаль расставаться с вами, – говорил я тогда. – Но, может быть, вы когда-либо вспомните и пришлете весть о себе…
И опять сердце мое колотится быстрее в груди. Но кочегар смотрит спокойно, он вовсе не собирается заниматься лирикой.
– Мне некогда! – говорит он важно. – Смотри, и ты ничего не пиши. Ты, я знаю, такой…
– Я желаю вам счастья… – бормочу снова я.
Он важно курит и вдруг подмигивает мне с необычайной гордостью.
– Видал? – говорит он торжественно и вытягивает ноги в новых ботинках из дешевой черной кожи. – Таких не найдешь в Москве, – продолжает он. – Ходишь, будто в ахтомобилях… Чего смотришь? Иди, а то опоздаешь, будешь ругаться…
Итак, еще глоток, еще… Снег залепил оконные стекла, поздняя ночь, и стихает шум. Шампанское колышет стены, колпак лампы, но зеленый свет ее ровно горит, как в далеком кабинете Директора.
– За твое здоровье, Григорий Иванович! За пятилетку в три, за двести га, за силосные вышки и электрические пресса!
Он сидит, развалясь в кресле, почесывая затылок, и зевает.
– А! Писатели и поэты! – кричит он весело. – Кто это у вас топиться вздумал? А-ра-пы! Бить вас некому. Штучки – брючки, прозы – слезы…
И он вдруг щурится и говорит необыкновенно сердечно, вдумчиво и серьезно:
– Ну, ничего, ничего… Ты не обижайся! Я понимаю. Все, брат, у жизни вырываем зубами, так и знай. Теперь, если и сон увидал, то глаза пусть будут открыты. Понял? Ты что, уезжаешь, што ли? Ну валяй, дуй до горы! Кланяйся там, кого увидишь в тресте… Да, знаешь, у нас опять…
Он вспоминает свои дела, разворачивается грудью, темнеет и, перелистывая ворох бумаг, вдруг начинает дымить, как горы перед грозой, заволакивается тучами и быстро вертит телефонную ручку.
– Алло! – кричит он яростно. – Это ты? Оч-чень приятно!.. как изволили завтракать?.. A-а?.. Да, да, как изволили завтракать? Хорошо? Так вот я тебе и скажу… Я тебя, так-то твою мать, в три шеи из государственного хозяйства выгоню!.. Молчи, сукин сын! – гаркает вдруг он так, что стекла в комнате начинают звенеть, а в секретариате обрывается стук машинки. – Матерщиной рабочих поливать! Ругаться, как на базаре! Массы на выступления против администрации подбивать!.. Молчи, я тебе говорю!..
И в телефонную трубку обрушивается неопровержимый поток матерной брани и энергии, и Директор тяжело дышит, отирая лицо от багровой краски, его плотная шея разрывает ворот сорочки с распущенным галстуком.
– Безо-бра-зие! – говорит он медленно. – Видишь, что делают. Но я выведу эту ругань из совхоза, выведу! Будь покоен.
А я ухожу из кабинета, ощущая железное пожатье руки, и шум в голове, нарастающий все неуклонней и беспорядочней, сливается в мутный гул. Директор еще кричит, я иду, и меня качает из стороны в сторону, и уже не московские окна, залепленные снегом, надвигаются на меня, не пестрые обои, а горы с бегущими синими и красными кустами, и уже падает вниз, в упругий ветер и клонит набок ревущая машина, сорвавшая с места последние крыши, лица, снежные волосы профессора Антона Михайловича, «Виллу роз» с ее вечерами, семейной лампой, сверчками и морщинами старого садовника, и снова поднимает кверху, забирая спирали дороги, откуда на миг открывается среди веток, лиловых веток прощальной скумпии дача Хартамазиди, глухая легенда прошлого с заколоченными ставнями и мертвыми стенами, парящими в голубой схватке ветра и солнца. Ее захлестывают ветки, я клонюсь в сторону, машину опять обдувает аэропланным ветром, она свистя садится в мягкую бездну спуска, горы бросаются вверх, и рядом с собой я вижу узкие спокойные глаза и желтое лицо… Жан-Суа! Жан-Суа Ван-си! Стройный человек с торсом юноши, глядящий вперед, сказочный винный дух нашего поколения.
Но он спокоен и прост, он не обращает внимания на меня, на ветер, на игру скоростей, на тонкий далекий звук, вдруг пронзающий сердце из далекой уже, оставленной жизни. Пора, пора! Придачин тянет за проволоку, гудок летит через горы и пропасти, через весь мир, он зовет живых и прощается с мертвыми…
Теперь я поднимаю стакан и пью за память Овидия. Я вынимаю из бумажника письмо с двумя сухими листками скумпии и читаю на листке прекрасной бумаги:
«Прошу навсегда освободить мою сестру от каких-либо приставаний…»
Я зажигаю спичку, бумага корчится, и тлеющий адский край наползает все ближе к пальцам, а листки скумпии сгорают быстро, слегка потрескивая. Потом я поднимаюсь, шатаясь из стороны в сторону, хватаю бутылку, и третья, последняя пробка оглушительно летит в потолок…
39.
Прощайте и вы, мой Неунывающий Друг! Прощайте – или вернее, до свиданья… До свиданья! – кричу я вам с балкона, с высоты восьмого этажа, в мелькающую снегом и огнями московскую ночь, уходящую в сырость, темноту и размах нашей страны – от фиордов до теплых морей, от ледяной зимы до вечного лета. До свиданья! – ибо только сейчас я вас видел в упор, и только сейчас мы с вами простились на лестнице…
Расступалась, находила и заворачивалась стенами комната, качался пол, и летела лампа, когда мне послышался звонок и я кинулся в коридор, отворил дверь и повис на перилах над зияньем трубы, утянувшей книзу сетчатый клин лифта. Меня влекло в бездну пролетов, я держал стакан с последним вином и прощался со старым Веделем.
– Довольно, довольно! – шептал я. – Довольно диких дрожжей! Вечная память Ксавье Арнозану! Я никогда больше не вернусь в подвалы шампанского… Поколение бродит, нас распирает от чувств, как винные бочки, и призрачный невидимый яд струится вокруг… Пусть же гибнут дикие дрожжи, пусть сходит вся муть и вылетает к рогатому дьяволу! Да здравствует дегоржаж! Да здравствует очистка вина и память Овидия! Он был искателем счастья, он бегал за ним по земле и прижимал к груди то, что находил, он был человеком, добрым товарищем, он был из нашего поколения. Опустим же в душу культуру чистого разума. Теснее ряды поколения! Смешаем слезы с вином и бросим бокал…
И я бросил стакан вниз, и на миг он сверкнул на лету, как живой искрометный смех, и тотчас погас. И добрый мосье Фокасс, и Эдуард Августович, и благородный профессор, и кочегар, и грозный Директор – исчезли вместе с ним, и кто-то уже другой добродушно окликнул меня, поднимаясь по лестнице.
Это были вы, Неунывающий Друг, вы, и с вами рядом легко, без всякой одышки поднималась молодая русая женщина с лицом оживленной девочки, добрая, с печальными глазами, такими, какие не светят нигде кроме нашей страны. Она прижимала портфель подобранным локтем, другим она тесно прижималась к вам, и оба вы быстро шаркали по ступеням и смеялись.
Вы, вы, вы! Я кричал вам все это, перегнувшись с перил, я смеялся от радости и звал вас обоих в сосновые леса, к величавой реке, где будут жить светоносные машины, где будут стучать топоры счастья и где мы построим дома, похожие на веселые рожи, как говорил Овидий. И вы оба сочувственно улыбались и держали меня за плечи.
– Он совсем пьян! – сказала в сторону она. – Петька, оттащи его в сторону, а то он сорвется.
И вы тащили меня назад, уговаривая и соглашаясь со мной, – и я не запомнил вашего лица, как до сих пор не запомнил глаз своего отца, но я помню, что на шее у вас был ужасный галстук с горошинами, точно такой, о котором Роза Люксембург писала, что он может служить поводом к разводу. Вы оба смеялись, когда я приглашал вас к себе, говорил о шампанском, приглашал выпить на брудершафт и почтить память одного бродяги.
– Так вы против вина? – кричал я вам. – Вы против мосье Фокасса, вы против старого Веделя и против профессора Арнозана? Я отрекаюсь от вас!
– Нет, нет! – хохотала ваша жена. – Нет! Но сейчас стыдно напиваться, товарищ! И, понимаете, скучно и неинтересно, несносный вы человек!
– Совершенно правильно! – добродушно пыхтели вы, борясь с моими руками. – Это уклоны, оп-порту-низм… Ну, довольно! Спать, спать! Вот так.
И вы толкнули меня в дверь, она щелкнула американским замком, и вот я здесь, на балконе, один среди ночи, тьмы и снега, кричу вам слова прощания и бросаю пустую бутылку вниз.
Падай, падай! Лети в ночь, разбивайся о камни! Лопайся стеклянными брызгами! Я выбрасываю тебя прочь, последняя собутыльница. Падай так же, как упал Овидий, чтобы не возвратиться никогда! Падай и потому, что я вспомнил прекрасную сагу, привезенную мной из тех краев, где бывали и мы, где виноград купается в звездном сияньи и где суровые чистые мастера наливают тебя соком вдохновения, труда и разума… Падай, падай потому, что тебя наполняют только один раз, потому что новое зеркальное, как лунный свет, вино может жить только в новом стекле, а в старом, где уже побывали и солнце, и ветер, и воздух уже нет чистой и крепкой поверхности… Падай, падай! Ибо так говорят законы шампанского. В тебе уже появляются незримые тончайшие трещины, роковые морщины, крошечные ущелья, откуда уже ни один ремюор не сумеет извлечь мутные осадки – тот страшный яд, который вновь начинает свою работу, уничтожает прозрачность, сиянье и блеск винного хрусталя. И ни чистые дрожжи, ни труд, ни свободный талант не создадут в тебе новой игры, прозрачной души и тех взрывчатых вечных сил, что затаены в спокойном сиянье. Падай же, падай, старое отродье падай вниз, в хаос тьмы и забвенья, как упал наш товарищ, наш друг, наш поэт, наш искатель счастья, человек нашего поколения!
И последняя пустая бутылка летит вниз, переворачивается среди живого снега и пропадает из глаз в объятьях тревожного мрака.
40.
В эту ночь отлетели последние стаи на юг.
В эту ночь, как всегда, как тысячу лет тому назад и как тысячу лет вперед, в огнях катастроф, в осенней позолоте, в снегах, в тропических грозах, во тьме и солнечном блеске, на незримой лозе тяготений летел нежнейший и древний шар нашей земли. Он кружился в сонме других, – может быть, за ним клубилась звездная пыль, точно так же, как клубится легкое облачко за уходящим поездом. Шар кружился средь гула других, свистя, как снаряд, – может быть он просто был цветным камешком на берегу бесконечного моря, может, он играл, как ребенок, с волной и болтал атласной ножкой под всплесками вечности… Но множество дел, событий, рождений и смертей, исторических драм, начал и концов неслось вместе с ним по одной орбите, и мириады жизней таких же осмысленных, полных и включенных в свои сферы и вращенья, летели под солнцем. И все, до последней песчинки роилось, толкалось у своего фонаря и совершало ослепительный круг.
Глухой ночью, в самый поздний час, неизвестно под какими градусами широты и долготы, далеко в степях Казахстана, в городке, где снег падал на захолустные низкие крыши, постовым милиционером Бирульней в участковое отделение был доставлен человек, покушавшийся на убийство гражданки, проживающей совместно с мужем в одном из домов на улице Парижской коммуны. В темноте милиционер слышал два выстрела, звон разбитого оконного стекла и женский крик. Прибыв на место происшествия, он был поражен необычайной картиной. В полосе оконного света, струившейся длинным снегом, по колени в уличной грязи, стоял человек в куртке шинельного сукна, без шапки, с револьвером в опущенной руке. Почти нагая, в одной окровавленной сорочке, женщина билась у него на груди, рыдала и осыпала поцелуями его голову и плечи, а сбоку мужчина в белье и высоких сапогах растерянно кидался из стороны в сторону, бессмысленно приговаривая:
– Данька! Вот чудак! Своих не узнал, что ли?.. Данька, ах, Данька! Чего теперь будет, Данька?
Чавкала грязь, разносило собачий лай, мутные фонари летели в тысячах лет.
В эту ночь множество происшествий и событий совершилось на шаре.
Земли и воды вездесущей страны мерцали снегами, клубились в песках, бушевали под нордом, шумели лесами и сияли под лунным выпуклым зеркалом. Страна простиралась сказочно – она вмещала все лики, все наречия, все судьбы.
В горах винного Черноморья, у лунного озера дозрела тишина. Лишь капали листья, плескался прибой и вздрагивала, умирая, трава. В эту ночь виноградная осень сошла к самому морю, бродила босая по раздетым лесам, трогала поздние желтые кисти на проволоках и неподвижно глядела на мир стеклянными глазами. И она ласково ворошила бурую медвежью шерсть, оскаливающую густую черную тень на светлой печальной земле.
Ничто не тревожило их в эту спокойную ночь.
Черная тень то вытягивалась, то пропадала. Зверь, урча и сопя, мусолил виноградные лозы, живой глыбой валился наземь – и вдруг встал неподвижным идолом, опустив лапы, и заплясал под луной, высоко подняв каменную морду.
Зверь плясал, прихлебывая лунный свет, потом – замер…
Тишина на Кавказе. Тишина – как тоска, как плод, готовый упасть.
Он слушал. Он знал все голоса земли. И он услышал через моря и горы, как пели третьи петухи на берегах Малой Азии. «Жили-были…» – заунывно пропели петухи. Потом он услышал треск, мертвая тень его вытянулась на земле – и, с огненным взблеском, пронзившим ночь, опрокинувшим тишину и закатный лунный шар, он взревел самой древней тоской, голосами вольных пещер, обвалами до-юрских камней и жертвенным зовом о солнце, освещавшем всеобщие воды потопа. И когда распались последние громы в ущельях, когда осень далеко отбежала в сторону, на желтолицего человека, склоненного у бурой меховой громады, еще глядели издыхающие глаза праотца лунных бродяг, и в черной ненависти их умирало лето тридцатого года.
Открытое письмо виноделу Веделю, проясняющее события
Дорогой Эдуард Августович!
Я ставлю точку и отсылаю вам эти листы – вам, как старейшему обитателю Абрауских гор, одному из седых отцов нашего винодельческого искусства, бережливому суровому садовнику многих поколений рабочих и мастеров.
Жизнь спешит, и ни одно перо не способно угнаться за ее баснословным движением. Совершенно бессмысленно пытаться остановить ее на мгновенье и думать, что хотя бы самый точный и молниеносный объектив способен запечатлеть ее выражение. Такой портрет дня, недели, месяца равнозначащ гримасе мгновенного снимка, где вместо улыбки застыла искаженная судорога и где исчезла жизненная правда, ибо она есть движенье, непрерывное измененье, неустанная игра противоречий. Ее масштабы грандиозны и в протяжении и в объеме. Погоня за тем, «что есть на самом деле», повторяет сказку о Жар-птице, и в руках регистраторов жизни всегда остается лишь несколько смятых перьев, уродливых перьев – не больше, не меньше.
Я написал о том, чего никогда не было на берегах вашего озера. В самом деле, вы никогда не встречали ни яростного Поджигателя, ни вероломного Овидия, вы не видели в глаза Винного Секретаря, Живописца и его миловидной сестры, а старый бондарь Бекельман не спасал девушки, бросившейся в пучину волн ветреным утром в осень тридцатого года. Не существовала и не существует на свете высокая караульщица, как и соломенный шалаш с дымом костра на бахчах долины Дюр-со. Жан-Суа Ван-си спокойно караулил свои участки – и сейчас, наверное, спит, как всегда, с ясной и спокойной душой. Ничего не было. Был превосходный художник и человек – Иван Малютин, никогда не говоривший и не думавший того, что говорил и думал мой Живописец, и, повидимому, был заезжий журналист, мой приятель, любитель поговорить с мастерами вашей профессии. Он внимательно изучал хозяйство совхоза, бывал на собраниях, помогал чем мог, сиживал в подвалах и частенько проводил вечера на веранде «Виллы роз». Если память не изменяет, он был дружен с Директором, А. Н. Фокасьевым, А. С. Доброштановым, с профессором Антоном Михайловичем, с И. П. Придачиным и многими другими. Он сочинил обо всем этом длинную историю и рассказал мне…
Его сейчас нет в Москве, но я запомнил наши ночные разговоры и восстановил их, как умел. Перед отъездом добрый приятель сознался, что многое говорил от себя. «Но, – добавил он, – все же это и есть настоящая правда»… Думаю, что я его понял. Он всегда говорил, что в нем постоянно борется несколько начал, и утверждал, что в человеке всегда живет несколько противоречивых людей. Его слова: «Жизненная удача, счастье, а следовательно жизненная талантливость – утвердить в себе наиболее ценного и нужного своему времени». Под эпохой реконструкции для интеллигента-разночинца он подразумевал прежде всего именно это. Литературную критику он оценивал по способности ее помогать в этой работе. Я помню, он отзывался о ней вообще достаточно резко. Да, чтобы не забыть! Он пропробовал наметить некоторые черты своего поколения и символизировал эти начала выдуманными героями. Рассказ очень прост: жил-был один человек, в его душе сражались эти начала – вот и все. Кажется, так.
Это поколение близко и мне.
На прилагаемых листах я восстановил штрихи его памяти, некоторые мысли и чувства – в меру моих сил и таланта рассказчика. Вы прочтете здесь помимо выдумки, о многих живых и здравствующих ныне людях и, как художник и артист, конечно, поймете, какие трудности мне пришлось испытать, бесцеремонно пригласив их на сцену повествования. Но я полюбил тот драгоценный уголок земли, где живете вы, и, слушая рассказы об искусстве, столь героически пронесенном сквозь бури истории людьми, для которых труд – знамя и честь жизни, привязался к этому имени Абрау-Дюрсо… Признаюсь, странное волнение охватывает меня, когда я встречаю на витринах характерные бутылки и слышу их название.
Наше время сурово к роскоши, но только наше время превратит роскошь в предмет разумной потребности каждого жизнерадостного и неугомонного человека. Что же касается вопроса о вреде табака, – то я согласен, что полезнее всего не курить до головной боли.
Сердечный привет!
Примечания
1
«Заметки читателя» Михаил Юрьевич Литов вдумчиво и терпеливо писал на рубеже столетий – с этой удобной позиции бросал прощальные взгляды на прошлые века и осторожно присматривался к наступающему, XXI-му. (ред.)
(обратно)2
О творчестве Николай Николаевича Зарудина читайте во втором томе «Вечное возвращение. Рассказы».
(обратно)3
Печатается в несколько сокращенном виде. Нумерация глав оставлена неприкосновенной. Ред.
(обратно)








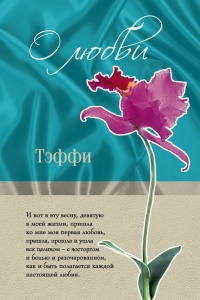


Комментарии к книге «Вечное возвращение. Книга 1: Повести», Людмила Толич
Всего 0 комментариев