Айрис Мердок Механика небесной и земной любви
Iris Murdoch
THE SACRED AND PROFANE LOVE MACHINE
Серия «Азбука Premium»
Copyright © Iris Murdoch, 1974
All rights reserved
© Н. Калошина, перевод, 2017
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017
Издательство АЗБУКА®
* * *
Посвящается Hope Смоллвуд
Мальчик опять стоял на том же месте, и собаки опять молчали.
Пора было задергивать шторы, но Дэвид медлил, вглядываясь в густеющие сумерки. Мальчик стоял под акацией у самого забора между Худ-хаусом и фруктовым садом, со стороны Худ-хауса. Маленькая неподвижная фигурка почти сливалась с полутьмой, от которой мозаично рябило в глазах. Почему-то Дэвид был уверен, что это именно мальчик, совсем еще ребенок, лет восьми-девяти. И что он пристально смотрит на дом. Пару дней назад, примерно в то же время, Дэвид уже видел его здесь, но так же неотчетливо. Странно, что молчат собаки.
Дэвид зашторил окно, включил свет. Идти вниз что-то выяснять не хотелось: все, что осталось по ту сторону плотной ткани, казалось несущественным, нереальным. Апатия и безадресное отвращение, почти не отпускавшие Дэвида в последнее время, мешали сосредоточиться. Он с размаху опустился на стул и окинул рассеянным взглядом груды книжек на полу. Книжки расплывались, как картинка не в фокусе. Дэвид непроизвольно помотал головой, словно стряхивая наваждение, отвернулся к зашторенному окну, трижды моргнул.
Он только что закончил снимать суперобложки со всех своих книг. Сдирая и в порыве непонятного исступления комкая глянцевые рубашки, он бросал их в большую картонную коробку. Теперь коробка стояла наполненная кричаще-многоцветным ворохом, а тома на полу сдержанно поблескивали золотом корешков. Да, так гораздо лучше. Без обложек книги выглядели не в пример более строгими и красивыми – настоящими. Монти – Монтегю Смолл – как-то рассказывал Дэвиду, что он отметил сорокалетие, раздев таким образом всю свою библиотеку. «Книга в обложке всегда чего-то ждет», – сказал тогда Монти. И Дэвид решил, что его книгам не придется томиться в ожидании его семнадцатилетия. Подняв с пола тонкий темно-синий томик, он провел рукой по гладкой поверхности. «Катулл. Оксфорд. Классическая серия. Excrucior[1]».
Болезненные ощущения, так неотступно сопровождавшие теперь Дэвида, не были следствием любовной истомы. Женщины – не считая матери – пока еще не слишком занимали его. Являвшиеся время от времени муки Эроса носили сугубо локальный характер, и он избавлялся от них без восторга, но и без лишних угрызений, когда оставался один у себя в комнате. Конечно, он мечтал о прекрасной Миранде, но в школе для мальчиков, где в основном протекали его дни, Миранды не было, как не было никаких иных предметов любви. Истинная причина терзаний Дэвида выглядела, пожалуй, не слишком вразумительно: его страшило, что он может не стать личностью. Он ощущал себя постыдно бесформенным, как личинка в период метаморфоза, которая уже наполовину выползла из старой оболочки, но по-прежнему тащит ее за собой. Само его страдание и то казалось смазанным и тусклым, безжизненным. Апатия и отвращение губили все.
Дэвид был брезглив. Ему противны были красные собачьи пасти с вываленными языками и то, как мать улыбается при виде своих собак, этой прожорливой слюнявой своры. За столом он поспешно отводил взгляд, когда у отца с вилки, а то и прямо изо рта кусок шлепался обратно в тарелку или когда отцовское лицо, уже после второй выпитой рюмки, начинало багроветь. Внутренние процессы организма, судорожные сокращения скользкой влажной слизи – внушали ужас. Его воротило от парочек, бесстыдно целующихся в кинозале. Будь это возможно, он бы перестал есть, в крайнем случае питался бы одними сухими крошками и в полном одиночестве. Любой намек на нечистоплотность вызывал у него приступ дурноты. Мать облизнула ложку и помешала ею в кастрюле, что-то жирное упало и было растоптано на кухонном полу. Лужайка за домом, вопреки всем материным усилиям, провоняла собаками. Иногда назойливый тошнотворный запах вползал в окна, в такие дни в доме нельзя было спокойно находиться, не то что есть. Да и сами собаки – обычные шавки, взглянуть не на что. Дэвид рано прочел «Собаку Баскервилей» и с тех пор боялся собак. Но в этом, естественно, он никогда никому не признавался.
Сегодня ночью ему снилась огромная голубая рыбина, которая билась в волнах у самого берега. Рыбину швырнуло на Дэвида, исполинская пасть отворилась, и в этот момент он увидел, что задняя часть тела у рыбы вовсе не рыбья: длинные девичьи ноги отчаянно молотили по воде. Дэвид в ужасе проснулся; под окном выла собака. В детстве он часто пересказывал свои сны отцу, и теперь ему казалось, что отец до сих пор разгуливает среди его сновидений – не живет в них, а именно разгуливает и наблюдает, как зритель. Лишь в последний год между сыном и отцом установилось наконец благословенное молчание. Дэвид долго лежал в постели, не размыкая век. Его одолевали сменяющие друг друга видения и лица. Чаще всего возвращалось лицо Христа: оно покачивалось перед глазами, словно нарисованное на тонкой вуали, и сперва поражало своей красотой, а потом постепенно превращалось в ухмыляющуюся маску. Раньше Дэвид не мог жить без молитвы; теперь Христос стал его мучителем. Присутствие вездесущего соглядатая превратилось чуть ли не в галлюцинацию. Зачем в него вбили эту ненужную, нелепую веру, когда он по малолетству еще не мог от нее защититься? И как получилось, что из мирного материнского христианства и необременительного англиканского учения, преподанного ему в стенах частной школы, произросло это тайное рабство, это суеверное подчинение всему самому мишурному и показному, что есть в религии? Искренние и страстные разговоры с Богом давно кончились. Остались бессмысленные ритуалы, от которых пахло чем-то до бесстыдства домашним: матерью, материнскими коленями. Слезливая, нелепая фамильярность – удел божества, лишенного достоинства, строгости, лишенного самой тайны. И как теперь от этого божества избавиться?
Дэвид встал и направился к двери. В большом зеркале, подвешенном к стене по настоянию матери, отразился стройный голубоглазый юноша с длинными локонами. В детстве их называли «льняными», и они до сих пор сохраняли нежный золотистый оттенок. Золото волос, разметавшихся по плечам, – как на картинах прерафаэлитов. Тонкая талия, безупречная осанка, чистота во всем облике. «Я одиночка, – подумал Дэвид, вглядываясь в свои черты. – Всегда буду одиночкой. А скоро, теперь уже скоро я стану мужчиной». Мысленно он произнес это слово так, как можно было сказать «грифоном» или «химерой».
Отражение в зеркале чем-то позабавило Дэвида, и он улыбнулся. Он всегда представлял самого себя в образе возлюбленного апостола.
Харриет Гавендер (урожденная Дервент) тоже видела мальчика, но не во второй раз, как Дэвид, а в первый. И ее тоже удивило, что собаки не залаяли. Когда в сумерках она вышла подышать плывущими над лужайкой цветочными ароматами и послушать тишину, мальчик уже стоял возле забора, отделяющего Худ-хаус от сада Монти; маленькая неподвижная фигурка почти сливалась с темным стволом акации. Харриет застыла на месте, сердце ее сковал страх. Последнее было совершенно непонятно: ребенок из любопытства забрел в частные владения – что тут страшного? Но вдруг вспомнился сегодняшний сон. Ей снилось, будто она у себя в спальне, в постели (но без Блейза), и будто ее разбудил странный свет из окна. Это не сон, сообразила она и встала проверить, что там. Источник света покачивался в ветвях прямо напротив окна: лучезарное детское лицо – только лицо, больше ничего. Оно было обращено к ней, смотрело прямо на нее. Харриет бросилась обратно к кровати. «А если оно приблизится и начнет заглядывать в комнату?» – думала она, натягивая на себя одеяло.
От этого ночного видения, которое выплыло из памяти только сейчас, заломило глаза, как от яркого света, и Харриет поспешно перевела взгляд на темный фасад дома. В окне второго этажа мелькнуло лицо сына. Дэвид не заметил ее, он тоже смотрел в сторону акации. Впрочем, он тут же задернул окно, за шторой вспыхнул свет, и лужайка будто сразу потемнела. Когда Харриет отвернулась, мальчика уже не было. Летучая мышь – легкая, почти бесплотная частичка надвигающейся темноты – бесшумно металась над головой, исчерчивая пространство черными острыми крыльями. Может, то был вовсе не мальчик, а призрак, забредший из другого мира: постоял, посмотрел молча и исчез? А может, он вообще ей примерещился? Глупости, одернула себя Харриет. Мальчик как мальчик, никаких призраков.
Она вышла на середину лужайки, несколько раз глубоко вздохнула. Где-то коротко взворковала одинокая горлица. Роза, склонившаяся над самшитовой изгородью, догорала розовым люминесцентным светом. Черный дрозд, перевоплощаясь в соловья, завел длинную страстную руладу; по вечерам птицы всегда поют гораздо старательнее и самозабвеннее. Днем небо было затянуто облаками, но теперь облака скрылись где-то между верхушками фруктовых деревьев – таких родных, что их можно было видеть не глядя, и небо стало тусклым, тускло-белым, разве что чуть сероватым, уже до утра. Приближалась середина лета, сегодня как раз был день летнего солнцестояния. Ночь летнего солнцестояния, поправилась Харриет. За этой мыслью тотчас явилась другая, тоже приятная, но с горчинкой: время идет. Харриет так любила по-английски неспешную череду времен года, торжественную и печальную, тем печальнее, чем больше воспоминаний накапливалось в душе. Сейчас из памяти выплыли летние вечера времен ее девичества: безвозвратно канувший мир, в котором она ночи напролет танцевала в обнимку с юными лейтенантиками.
У Монти в одном из окон зажегся свет, едва различимый за деревьями. Харриет подошла к забору и всмотрелась. Как там Монти? Что он сейчас делает? Тоскует? Рыдает? Правда ли он так жаждет одиночества? Сердце Харриет изнывало от сострадания, стремясь постичь тайну печального отшельника. Монтегю Смолл, ближайший сосед Гавендеров, занимал Локеттс – так назывался небольшой дом постройки примерно тысяча девятисотого года. Дом был возведен по распоряжению тогдашнего владельца Худ-хауса в дальнем конце его собственного, в те времена весьма обширного земельного участка. Владелец, кстати говоря, сам потом перебрался из старого дома в новый; в результате чуть ли не весь участок – включая и сад, предмет вожделений Блейза, – отошел к Локеттсу, а Худ-хаус был продан отдельно с одной квадратной лужайкой, монументальной самшитовой изгородью и старой акацией в придачу; к этому набору Харриет потом добавила цветочный бордюр и несколько розовых кустов. Было бы гораздо логичнее, не раз сетовал Блейз, сохранить сад за Худ-хаусом. Он был бы естественным продолжением их лужайки, тогда как собственно локеттсовский участок расположен под прямым углом к саду и вообще выходит на другую улицу. На что Харриет обычно отвечала, что, возможно, мистер Локетт (ибо новому дому достался не только фруктовый сад, но и имя прежнего владельца) был человеком не слишком логичным.
Из-за этой сложной конфигурации участка, а также из-за того, что сам Локеттс (настоящая жемчужина ар-нуво) представлял собою интересное, в известном смысле даже значительное строение, для обитателей Худ-хауса всегда было важно, кому он принадлежит. Рядом стоял еще один дом, но его хозяйка – дама почтенных лет, некая миссис Рейнз-Блоксем, – вежливо уклонялась от общения с соседями. (Лично против Гавендеров почтенная дама ничего не имела: так же вежливо она уклонялась и от всякого другого общения.) Когда несколько лет назад Гавендеры вселились в Худ-хаус, Локеттс пустовал. Приезд Монтегю Смолла («того самого», как радостно известил всех Дэвид, знаток по части триллеров) и его эксцентричной красавицы-жены, швейцарки и бывшей актрисы, вызвал у обитателей Худ-хауса вполне естественный интерес. Долго мучиться любопытством не пришлось: Смоллы держались мило и дружелюбно, разве что чуточку индифферентно. Почему-то Харриет показалось естественным, что Локеттс стал именно писательским домом! Монти всем понравился. Харриет пыталась делать вид, что ей нравится и Софи, пыталась даже искренне ее полюбить, но не слишком в этом преуспела: для нее Софи оставалась неисправимой иностранкой. Блейз, тот сразу без околичностей заявил: «Господи, только бы эта женщина не напросилась ко мне в пациентки!» А через какое-то время Монти пришел к ним с изменившимся до неузнаваемости лицом и сказал, что у Софи рак. Последовала полоса отчуждения: Софи не появлялась, Монти всех сторонился. Потом Софи умерла. Это произошло около двух месяцев назад. Монти переживал утрату очень тяжело. «Никогда не видел, – признался Блейз, – чтобы овдовевший мужчина так убивался».
Харриет отвернулась и пошла в сторону дома. С белесого ночного неба на лужайку лился тускло-белый свет. Дрозд завершил свою долгую руладу, вдали уже ухала сова. Зажглась первая звезда – Юпитер, как-то объяснил матери Дэвид. Венера появляется только после двух. Было тихо-тихо, почти как в деревне, в уэльском детстве Харриет. Конечно, настоящий сельский Бакингемшир был дальше, а тут дома тянулись до самого Лондона, и зимними ночами небо над Худ-хаусом окрашивалось красноватым отблеском городских огней. В кабинете у Блейза зажегся свет. Какой это все-таки милый, квадратный, до невозможности домашний дом – Худ-хаус! Покатая сланцевая крыша, стены превосходной кладки со вставками песчаника, высокие ранневикторианские окна – самый старый и самый красивый дом во всей округе. Он навевал на Харриет мысли о морском побережье. Возможно, неуловимое курортное очарование исходило от белых балкончиков с чугунными коваными решетками на втором этаже. Дом был не очень большой, но лучший и самый роскошный из всех, в каких Харриет доводилось жить. В первые годы после свадьбы они с Блейзом о таком даже не мечтали.
Харриет скорее угадала, чем почувствовала бесшумное движение рядом с собой, и что-то теплое, влажное скользнуло по ее руке. Это был черный овчарочий нос Аякса. Тотчас как из-под земли выросли остальные собаки и принялись выражать свою радость – не бурный собачий восторг, но спокойную радость, – подпрыгивая и топчась вокруг хозяйки слаженно и грациозно. Этот собачий кордебалет появился в жизни Харриет, в общем-то, случайно. Собаки (все они принадлежали не Дэвиду и не Блейзу, только ей) жили, разумеется, не в самом доме, а в старом гараже, где Харриет постаралась разместить их со всеми возможными удобствами. В свое время, правда, она пыталась «одомашнить» маленького лохматого Ганимеда, но комнатная собачка из него так и не получилась. У собак, как и у людей, несчастливое детство налагает отпечаток на всю жизнь. К тому же это выглядело несправедливо по отношению к остальным собакам, которых тогда было четыре. Теперь их набралось уже семь: Аякс – восточноевропейская овчарка, малыш Ганимед – черный карликовый пудель, Бабуин – черный спаниель, Панда – полукровка-лабрадор, тоже почти совсем черный, но с белыми отметинами, эрдель Баффи, колли Лоренс и черно-белый терьерчик по кличке Ёрш. Первоначально предполагалось, что все собаки будут черные и у всех будут классические имена, но эта идея быстро себя изжила.
Аякс – он был первый – появился из-за того, что Харриет было не по себе в большом доме, когда Блейз по ночам работал с пациентами (с Магнусом Боулзом, например). В детстве она панически боялась кошек и каждый вечер перед сном тщательно обыскивала свою спальню: вдруг кошка спряталась в каком-нибудь темном углу. Позднее ей внушали страх воры-домушники, бродяги, цыгане. Блейз объяснил ей, что все эти воры-грабители не более чем символы сексуальной сферы, но это замечательное знание ничем ей не помогло, и она по-прежнему, затаив дыхание, вслушивалась в ночные звуки. В конце концов она поехала в Лондон, в Баттерсийский дом собак, и привезла оттуда Аякса, взрослую уже овчарку. Впоследствии это превратилось в привычку. «Стоит тебе только захандрить, как ты заводишь новую собаку», – выговаривал ей Блейз. И все же вызволить из клетки живое существо, жалкое, преданное и прекрасное, – в этом было что-то трогательное, почти животворящее.
– Нет-нет-нет, мальчики, не сюда, – скороговоркой бормотала она. – Вы уже кормленые, так что давайте-ка назад, мои хорошие!..
Захлопнув дверь кухни перед скоплением черных разочарованных носов, Харриет включила свет. Блейз столько раз уговаривал ее переделать все по-новому, но она не соглашалась, и они продолжали завтракать, обедать и ужинать здесь же, на кухне – за дощатым сосновым столом, покрытым красно-белой клетчатой скатертью. Кухня была просторная, несколько сумбурная и темноватая – как раз такая, как хотелось Харриет: все просто, непритязательно и словно пропитано запахами прошлого. Все, что было на кухне деревянного, давно потемнело – не мешало бы и почистить. В раковине скопилась гора немытой посуды; но Харриет лишь скользнула по ней равнодушным взглядом и направилась к лестнице на второй этаж. Как всегда с трудом удержавшись от соблазна заглянуть к сыну, она прошла к себе в будуар – так называлась крошечная, заставленная чем попало комнатка, служившая когда-то гардеробной. В остальном доме царил вкус Блейза, гораздо более строгий и придирчивый. Харриет, у которой сердце болело за всякую живую тварь и которая могла по десять минут кряду обмывать каждый салатный листик, лишь бы не задавить ненароком какую-нибудь козявку или невинного червячка, не задумываясь переносила свое сострадание и на неодушевленные предметы. После смерти родителей основные фамильные ценности перекочевали в лондонскую квартиру Эдриана, но, кроме ценностей, осталась еще масса разрозненных и совершенно бесполезных вещей и вещиц: какие-то с детства хранимые сокровища, медные безделушки и тому подобное ассорти, до которого никому не было никакого дела. Постепенно все это осело у Харриет вперемешку с заморской экзотикой – пестрыми дарами восточных базаров, которые Эдриан с отцом в свое время привозили ей из Бенареса, Бангкока, Адена или Гонконга. Кувшины, подносы, шкатулки, зверушки, человечки, какие-то божки, чьих имен Харриет не знала, – Блейз называл все это «хламом старьевщика», а Харриет ругал «барахольщицей», но втайне все же любовался ее нелепым «анимизмом». Теперь, после смерти Софи, в будуаре появились еще и подарки Монти, втиснутые куда-нибудь в середину или свисающие с углов. Всякий раз, когда Харриет забегала в Локеттс, Монти вручал ей какую-нибудь тарелку, или статуэтку, или подушечку, или вышитую салфетку – будто хотел поскорее раздеть Локеттс догола, лишить памяти.
Стены будуара были увешаны фотографиями и картинами. Последние принадлежали кисти самой Харриет (когда-то она мнила себя художницей): бледные расплывчатые акварели и несколько картин, написанных маслом, – из-за обилия световых бликов, нанесенных старательной ученической кистью, казалось, что краска на них местами осыпалась от времени.
Фотографии были семейные: венчание родителей, венчание самой Харриет, Дэвид маленький, Дэвид постарше, еще старше; Блейз совсем молодой – стройнее, тоньше и как будто резче сегодняшнего; отец в военной форме; брат, тоже в форме; мать, увядающая красавица, для которой «славы победное шествие» обернулось чередой нескончаемых странствий и обманутых надежд. Харриет родилась в Индии, когда ее отец служил в Деолали – преподавал артиллерийское дело в артиллерийской школе. Мать Харриет попала в Индию случайно, приехала в гости к дальнему родственнику-дипломату, чтобы провести в Дели один сезон, да так и осталась. Здесь, на балу, состоялось ее романтическое знакомство с будущим супругом, капитаном Дервентом. В день бракосочетания за их свадебным кортежем шествовал слон под узорным чепраком. (Фотография слона была тут же на стене.) Вскоре после этого будущий отец Харриет был откомандирован в Англию, потом началась война. Капитан (уже майор) Дервент служил артиллерийским инструктором в Каттерике, потом командовал противовоздушной батареей в Уэльсе. Позже его перевели в Вулидж, еще позже в Германию, но выше майора он так и не поднялся. Мать Харриет следовала за мужем из гарнизона в гарнизон, с одной меблированной квартиры на другую. (Лишь под конец ее терпение иссякло, в Германию она уже не поехала.) Был, правда, домик в горах, в Уэльсе, где детям так нравилось. Было вечное безденежье и никакой романтики. Слон с узорным чепраком остался в далеком прошлом. Овдовев, миссис Дервент осела в Ирландии, и в последние годы Харриет с ней почти не виделась. Мысль о матери отозвалась в сердце Харриет привычной нежностью, и из памяти тут же выплыли картинки деревенской жизни: корзина с ежевикой, терн, собранный для настойки, золотистый айвовый джем, сухой вереск под копытцами маленьких пони, запах жимолости, запах влажного сена, ванильный вкус желто-коричневых яблок. Эти воспоминания – такие яркие и в то же время расплывчатые – были очень дороги Харриет. Во всякую свободную минуту нужно думать о людях с любовью, считала она. Особенно о мертвых, поскольку они бестелесны и более живых нуждаются в нашем участии.
Харриет обернулась к голландскому зеркалу в инкрустированной раме (Блейз подарил на Рождество) и слегка поправила прическу. Ее длинные, чуть отливающие золотом каштановые волосы были скручены узлом на затылке. Перед зеркалом круглое спокойное лицо Харриет сделалось еще спокойнее. На ней было длинное – «викторианское», как говорил Блейз, – муслиновое платье в мелкую крапинку. Харриет всегда старалась одеваться по возрасту. Некоторые из ее подруг давно располнели, но по-прежнему воображали себя юными стройными девицами. Харриет села за стол и вскоре почувствовала, как ею овладевает привычная праздная грусть. В такие минуты она казалась сама себе бездумной, безвольной и безмерной – как огромная мягкотелая тварь, недвижно висящая в толще морской воды, или даже как целый необитаемый континент. На самом деле эта бесформенная огромность была формой ее счастья. Такая форма – или матрица, хотя Харриет не пришло бы в голову обозначить ее подобным словом, – есть у каждого из нас. Эту форму наше сознание принимает в состоянии ленивой расслабленности; она может показаться кому-то некрасивой, даже уродливой, но именно она составляет суть нашего счастья. Харриет была счастлива, и дом был счастлив вместе с ней, прогретый ее немного сумбурным, но все же ровным и спокойным теплом.
Конечно, и у нее на душе временами бывало неспокойно – чаще всего из-за Дэвида; или становилось иногда жаль своего маленького загубленного таланта. Но она любила, она была любима, совесть ее была чиста – и этого, при ее характере, было довольно для счастья, для того чтобы ее отношения с текущим временем оставались неспешными и доверительными. Счастье ее выглядело порой грустноватым, но всегда улыбалось. Она любила своего мужа, сына, любила брата и умела смотреть на все жизненные невзгоды сквозь призму этой любви, и невзгоды рассеивались. Иногда она ощущала себя совсем маленькой и ничтожной – «сошкой-мошкой» – и страшно жалела, что не стала великой художницей или не важно кем, но великой. В свое время она училась в художественной школе и вынашивала честолюбивые планы. Но раннее замужество, вкупе с тем обстоятельством, что Блейз никогда не воспринимал ее призвание всерьез, заставило ее забросить кисть. Она была не как все, не похожа на всех, но эта ее непохожесть оказалась настолько частью ее самой, что она считала себя чуть ли не бессовестной эгоисткой. Ей не нужно было преодолевать ни себя, ни жизненные невзгоды, милосердие давалось ей легко, вознаграждалось щедро. Я жуткая эгоистка, говорила она себе, потому я и не стану великой. Что-что, а величие мне не грозит.
Сейчас, впрочем, она размышляла не о себе, а о сыне. Наверное, через это должна пройти каждая мать, думала она. Чудесная близость не могла длиться вечно. Дэвид отдалился сначала от Блейза, а теперь и от нее. Блейз говорит, это естественно, так и должно быть. Самое ужасное, что к нему стало вдруг нельзя прикасаться; и Харриет, для которой прикосновения всегда были важной частью жизни, пребывала теперь в тревоге и растерянности. Дэвид начал уже мерещиться ей – казалось бы, вот он, протяни руку и потрогай, – но нет; ее бросало то в жар, то в холод, и все это очень походило на муки неразделенной любви. Да, все приметы влюбленности налицо. Хочется расцеловать его, обнять, как раньше, осторожно распутать золотые пряди, такие длинные, кошмар, – но нельзя, невозможно! А в этом году он, как нарочно, возмужал, стал такой красавец, и Харриет совсем измучилась. Его загадочная «античная», как выражался Блейз, улыбка наполнилась для нее тайным, чуть ли не эротическим смыслом. Он был теперь высокий, суровый – просто неприступный ангел, хотя внутри наверняка все тот же славный и смешной малыш. Появились какие-то новые привычки, которых она не понимает, вообще ужасно много такого, о чем она ничего не знает и узнать невозможно. Например, раскладывает ли он до сих пор на тумбочке свой перочинный ножик, компас и прочие сокровища, прежде чем выключить на ночь свет? Когда-то мысль о том, что Дэвид молится перед сном за них с Блейзом, была для нее радостью и утешением: увы, собственная ее вера с годами явно ослабевала. Молится ли сейчас? Спросить? Но об этом не могло быть и речи. Харриет знала, что некоторые матери флиртуют со своими взрослеющими сыновьями. Для нее это было абсолютно исключено. В своем новом качестве Дэвид, кажется, обладал новой властью – он умел налагать вето, и Харриет прекрасно сознавала, что ей дозволено, а что нет. Так нельзя, думала она, надо взять себя в руки. Это как конец романа, когда надо прощаться и рвать все нити, одну за другой. Неужели и ей придется все рвать? Нет, нет, просто Дэвид вырос, это естественно, это никакой не конец. Ее любовь никогда не закончится, никогда не потускнеет. Одно плохо: она пока не совсем понимала, как, какой новой любовью нужно теперь любить сына, чтобы не надо было что-то вечно от него скрывать, а ему что-то вечно подозревать и о чем-то догадываться. Харриет уронила лицо на руки. Кто сказал, что «для женщины вся жизнь – любовь»? Как это верно для нее и как страшно.
Блейз Гавендер поужинал с удовольствием. Он любил поесть. Ели спаржу, она так приятно отдавала мочой. За домом Харриет, конечно, смотреть не умеет, но готовит вполне пристойно. Садясь за стол, он был не в духе: перед этим он зачем-то отчитал человека, который приходил снимать показания электросчетчика. Видимо, человек показался ему недостаточно вежливым, и Блейз решил разыграть перед ним деревенского сквайра. Ну и к чему было так распаляться? Впрочем, досадный инцидент быстро стерся из памяти, переварился, как спаржа. Возможно, он просто привык воспринимать всех приходящих в дом как «пациентов» и по инерции стремился поставить их на место. Сейчас он был занят реставрацией японской вазы Харриет. Неторопливо склеивая разложенные на столе осколки, он скреплял их изнутри скотчем и одновременно пытался мысленно сосредоточиться на своей работе с пациентами. Надо сказать, что в целом и то и другое у него получалось. Увы, иногда он ненавидел своих пациентов. Скверно, думал он, мои методы имеют смысл только тогда, когда отношения с пациентами строятся на любви. Что, конечно, чревато осложнениями. Монти как-то обронил в разговоре, что любопытство без любви к человеку или к науке всегда вредоносно. Он тогда говорил о писателе и его персонажах, но Блейз тут же перенес высказывание на свою работу, и оно показалось ему как нельзя более точным. Да, ему нравится его работа, но что ему в ней нравится? Даже если для себя он давно уже ответил на этот вопрос, это не снимало другого вопроса: что делать дальше? Проблема была не в том, что он не умел лечить пациентов. Умел и лечил.
Мысль о Монти вызывала раздражение, хотя человек он талантливый, интересный, это ясно. Но дело в том, что они слишком много успели друг другу наговорить. В царстве животных самцы по большей части сторонятся друг друга и при встрече производят угрожающие телодвижения – просто так, по велению инстинкта. Дрозды в саду начинают топорщить перья, стоит им только издали заметить чужака. Он, конечно, сам виноват, что согласился взять Монти к себе в пациенты. Хотя эта часть их отношений, слава богу, длилась недолго. Он даже не успел разобраться, чего Монти от него хотел. Когда стало ясно, что целимый вот-вот задавит целителя своим авторитетом, Блейз поспешил закруглиться с лечением.
Пока Блейз возился с осколками вазы, как с пазлом (кажется, один кусочек куда-то делся), из памяти выплыл вчерашний сон. Он стоял на лужайке, возле акации, и вдруг кора дерева как-то странно зашевелилась. Блейз присмотрелся: по стволу медленно сползала большая змея. Он с ужасом и одновременно с какой-то тайной радостью следил за ее приближением. Но это была не совсем змея, потому что на спине у нее были длинные глянцевые крылья, сложенные, как у жука. Спустившись по стволу, змея, вернее, существо подползло к самым его ногам, угрожающе приподняло голову, распахнуло огромные крылья и начало бить ими сильно и часто, так что Блейз чуть не задохнулся. Хвост, длинный и тонкий, на конце не толще карандаша, обернулся вокруг одной ноги Блейза, причем нога оказалась женская, потому что во сне он был женщиной. Интерпретировать такой сон было проще простого. У любого человека в душе намешано много всякой дряни. И у него тоже.
Да, в его снах теперь не осталось ни тайны, ни волшебства. Он машинально начинал интерпретировать их, еще не проснувшись. Да и сны пациентов редко удивляли или трогали его. Пациенты давно уже казались ему на одно лицо, все вели себя совершенно предсказуемо и сливались в одну серую массу. Это для Харриет каждый из них был полон тайны, и к каждому она относилась с неизменным благоговением. Блейз в основном принимал пациентов дома, так что Харриет знала почти всех, пусть даже на уровне «здравствуйте – до свидания». Ей бы пошло быть женой директора школы, очень уж ей хотелось с каждым познакомиться поближе, каждому помочь. Разумеется, она уважала главенство Блейза и никогда не навязывалась. Но будь это возможно, она бы, кажется, пришивала его пациентам пуговицы. Такой женщине надо иметь шестерых детей, а не одного, думал Блейз. В свое время его тоже огорчало, что после Дэвида у них больше никого не было. Харриет страдала, хотя и не вполне осознанно, от избытка невостребованной любви, как кормящие женщины иногда страдают от избытка молока. Она чувствовала в себе огромные запасы любви, и то, что этими запасами могли пользоваться всего два человека – муж и сын, – не давало ей покоя.
Некоторые пациенты лечились у Блейза годами и в известном смысле могли сойти за детей. Они уже «прижились», и избавиться от них было бы теперь не так просто. В последнее время Блейз начал собирать их в группы и готовить к ответственному моменту окончания лечения – как бы к перерезанию пуповины. Для него прощание со старыми пациентами означало заманчивую, и не только в финансовом отношении, возможность взять новых. Правда, теперь и новые уже не были окутаны для него девственным покровом тайны, прошли те времена; зато хоть какое-то разнообразие. У каждого из пациентов, нынешних в том числе, была своя идея фикс, своя «причина», которая, по их разумению, привела их к специалисту. Но за этой причиной нередко скрывался целый ряд других причин, о которых бедняги даже не подозревали. Стэнли Тамблхолм испытывал непреодолимый страх перед собственной сестрой. Анжелику Мендельсон снедала ревность, причем предметом ее любви были члены королевского семейства. Морис Гимаррон считал, что он совершил тяжкий грех против Святого Духа. Септимуса Лича тяготил нереализованный писательский талант. Пенелопа Биггерс не могла спать, так как боялась, что впадет во сне в летаргическое состояние и будет похоронена заживо. Хорас Эйнсли (который раньше был личным врачом Блейза и по сию пору пользовал Монти) страдал хронической неспособностью принимать решения из-за иррационального чувства вины. У Мириам Листер дочь была одержима мыслью об убийстве, и Блейз лечил ее через мать. Джинни Батвуд была озабочена проблемой сохранения собственной семьи. Нельзя сказать, чтобы Блейз вовсе не прислушивался к тому, что пациенты говорили сами о себе. Он хорошо помнил урок, преподанный ему одной дамой еще в начале его практики. Дама никогда не снимала перчаток, поскольку на руках у нее, по ее словам, были стигматы. Лишь после нескольких встреч Блейз догадался попросить ее снять перчатки – и оказалось, что у нее действительно стигматы. Что не помешало ей впоследствии благополучно пройти курс лечения от истерии.
Блейз прекрасно сознавал, что не обладает достаточной квалификацией для той работы, которой занимается. Теперь у него накопился солидный опыт, и он уже не боялся допустить какой-нибудь непростительный ляпсус. Однако, хотя он не говорил об этом никому, кроме Харриет, и то полушутя, причем она каждый раз горячо возражала, сам он в известном смысле расценивал свою практику как шарлатанство. Дело в том, что у него не было медицинского образования. В Кембридже он изучал философию и психологию, защитил диссертацию по психоанализу, после чего преподавал психологию в университете в Рединге. (В первый год преподавания он и познакомился с Харриет на одной танцевальной вечеринке.) Свой собственный метод лечения он применил когда-то впервые в рамках довольно рискованного эксперимента. Насмотревшись на других специалистов в этой области, он решил, что у него должно получиться лучше, – и, возможно, не ошибся. Разумеется, ему нравилась власть, как и всем, кто выбирает полем своей деятельности людские души. И разумеется, он сознавал, что погружение в чужие страдания имеет больше отношения к сексу, чем к альтруизму или научному интересу. Но и эти вопросы его давно уже перестали беспокоить. Просто, подобно священнику, он научился купировать боль, грызущую изнутри, которая может искалечить человеческую жизнь, даже если объективно никакой трагедии нет. У него был на это особый талант. И особая сила. Спрашивается, откуда в таком сильном и талантливом человеке столько растерянности и недоверия к самому себе? Ведь глупо воротить нос от своего дела только из-за того, что оно наконец стало легким и доходным.
Когда мысль о том, чтобы оставить практику и идти учиться на врача, явилась впервые, Блейз отверг ее как нелепицу, как тайный план самоистязания, возникший из комплекса вины, притом к делу не относящейся. Отказаться от стабильного дохода, обречь себя, в его-то годы, на долгую экзаменационную тягомотину, на тяжкий труд, на покорность чужому мнению? Ну уж нет! Налицо знакомое (по историям его же пациентов) стремление немолодого человека устроить себе очистительное испытание – любой ценой. К тому же отец Блейза был в свое время преуспевающим врачом – тут уж все сыновние мотивы видны как на ладони. Однако навязчивая идея возвращалась снова и снова, Блейз даже стал ее побаиваться. Конечно, учитывая характер его работы, ему полагалось знать много вещей о мозге, о нервной системе – он их не знал. Выходило, что он окружен тайнами со всех сторон. Однако время шло, и постепенно ситуация прояснялась: вместо стремления повысить свой профессиональный уровень на первый план все определеннее выступало стремление к радикальным переменам. В последнее время – по разным причинам – он перестал читать, перестал думать. Ему нужна была серьезная интеллектуальная встряска.
Теперь ему уже казалось, что само его увлечение этим чарующим, зачарованным, совершенно отдельным миром психоанализа было с самого начала обусловлено одной только его собственной внутренней потребностью. Многочисленные «школы» были для него как волшебные сады – в каждом свои деревья и цветы и своя планировка, каждый обнесен собственной высокой оградой. К пациентам Блейз подходил как прагматик, а еще точнее, как эмпирик в простейшем смысле этого слова. Он просто внимательно следил за тем, какой метод «сработает», и старался с точки зрения здравого смысла объяснить, как именно он «сработал» ad hoc[2]. Его давно уже не заботило, к какой школе принадлежит он сам, как не заботила научность или ненаучность собственного подхода. Когда-то он порывался написать обо всем этом серьезную книгу, но порыв давно иссяк. Время от времени он записывал какую-нибудь мысль, которая едва тянула на статью, позволяя Харриет, коль скоро для нее это так важно, по-прежнему верить в существование «книги». Его же теперь волновали другие, более серьезные вопросы. В результате опыта, и собственного и своих пациентов, он постепенно утрачивал веру во все «базовые» теории о человеческой душе. Он мог успокоить пациентов словами о том, что «жизнь штука длинная» или что «надо принимать себя таким, каков ты есть», и от его слов они переставали корчиться в муках вечной вины. Но для него самого все эти, как он их некогда определил, «поверхностные явления морали и свободы» оставались запутанным клубком. Как будто он, вместе со своими пациентами, нашел для себя убежище в иллюзорном и, при всех его страхах, комфортном мире. Но, научившись в этом мире избавлять своих пациентов от проблем, он так и не избавился от них сам и принимал необратимые решения по старинке, вслепую. Возможно, он просто до смерти устал – от копания в человеческих душах, от самого себя, от собственных уверток и уловок; и точно так же, как некоторые, устав от мира, обращаются к Богу, так он желал теперь обратиться к науке.
Когда он заговорил об этом с Харриет, она не все поняла, но преисполнилась самого горячего сочувствия. Блейз сознавал, что им, может быть, придется продать Худ-хаус и жить какое-то время гораздо скромнее, чем они привыкли, сознавал, что Харриет будет нелегко. Долгие часы его больничного рабства (в душе он и воспринимал их как рабство, как своего рода послушание) превратятся для нее в еще более долгие часы одиночества. Однако ей больше всего на свете хотелось, чтобы он был счастлив и чтобы он смог себя реализовать. В сущности, она жила его желаниями. Теперь она уже представляла себя «женой доктора». Да, ему здорово повезло. В юности он и представить не мог, что женится на совершенной неинтеллектуалке. Но зато вся ее чуткость и все внимание были так неизменно нацелены на него, что он вполне обходился и без интеллектуальных бесед. С Харриет ему не бывало скучно, от нее всегда исходило ощущение свежести и сосредоточенной напряженности, но напряженность эта казалась почему-то легкой и естественной – ничего похожего на выверты его пациентов. Харриет дарила Блейзу то, что Наполеон превыше всего ценил в женщине: чувство покоя. Даже ее расплывчатая вера, на которую Блейз и раньше не посягал – надеялся, что пройдет сама собой, – даже она, кажется, сделалась ему теперь необходима. Как и любимый ее жест: она по-особенному протягивала руки ему навстречу, когда он входил в комнату. В целом можно было сказать, что за годы совместной жизни он многому у нее научился, не только милосердию к козявкам и паучкам.
Пока Блейз думал обо всем этом, а также о другом, наступили сумерки, японская ваза наконец-то склеилась, он отодвинул ее и встал. Не зажигая света, подошел к окну. Внизу, у самой кухонной двери, стояла Харриет, спиной к дому. Ее фигура, неподвижная, уже не очень четко различимая в полумгле, была пронизана вечерним покоем и сама будто добавляла покоя летнему вечеру. Харриет была еще красива той «романической» красотой, которая когда-то представлялась ему видением из нездешнего, нравственного мира. Блейз любил даже ее смешные струящиеся платья с широкими поясами, к которым придирчивый эстет наверняка посоветовал бы подобрать стан постройнее. Он перевел взгляд на крону старой акации, потом на темные купы фруктовых деревьев за забором. Монти как будто собирается съезжать из Локеттса. Может, он согласится продать сад? Впрочем, глупости, время ли сейчас думать о таких покупках? Харриет прошла несколько шагов по лужайке, и, конечно, за ней тут же увязались ее питомцы – вон они вьются вокруг нее, целая свора черных привидений. Блейз опустил штору и включил свет.
Скоро время вечернего чтения. Интересно, придет ли Дэвид? Прошлый раз Харриет опять сидела, уставясь на него, надо будет с ней поговорить. И надо поговорить с Дэвидом насчет греческого. И с Монти насчет Магнуса Боулза. Боже, сколько всяких забот. А ему так хотелось дочку.
«– Где Настасья Филипповна? – прошептал вдруг князь и встал, дрожа всеми членами.
Поднялся и Рогожин.
– Там, – шепнул он, кивнув головой на занавеску.
– Спит? – шепнул князь.
Опять Рогожин посмотрел на него пристально, как давеча.
– Аль уж пойдем!.. Только ты… ну, да пойдем!»
Блейз захлопнул книгу. Конечно, и Дэвид и Харриет знали, что будет дальше, – хотя Харриет обычно говорила, что ничего не помнит. Но все равно Блейз любил прерываться на самом интересном месте. Он хорошо читал вслух – по-настоящему хорошо, с чувством, а не то что называется «с выражением». Традиция семейных чтений тянулась из тех времен, когда Дэвид был еще малышом. Они перечитали почти всего Вальтера Скотта, Джейн Остин, Троллопа, Диккенса. Блейз исполнял роль чтеца с удовольствием: наверное, в нем дремал нереализованный актерский талант.
Летом читали в комнате, которую Блейз называл утренней столовой, хотя она никогда в качестве таковой не использовалась, а зимой на кухне. На самом деле «утренняя столовая» служила гостиной (настоящей гостиной редко пользовались по назначению). Харриет уютно устроилась в кресле напротив мужа, с шитьем и коробкой шоколадных конфет под рукой. Она всегда шила во время чтения – в детстве Дэвид как-то сказал, что ему нравится смотреть, как она шьет. Интересно, нравится ли сейчас? Или наоборот, раздражает? Харриет теперь постоянно мучилась подобными вопросами. Из-за Дэвида множество милых мелочей – ритуалов счастливой семейной жизни – было уже поставлено под сомнение. Сейчас Харриет не очень умело штопала обтрепавшуюся манжету на старой мужниной домашней куртке. Куртка вся была пропитана его запахом – не табачным, Блейз не курил, но настоящим крепким и спокойным мужским запахом то ли пота, то ли псины, который невозможно спутать с женским. Харриет ужасно захотелось прижать эту куртку к себе, зарыться в нее лицом, прямо сейчас, – но она давно уже научилась сдерживать свои порывы в присутствии мужа или сына, а тем более обоих сразу.
Дэвид сидел на полу, но не возле Харриет, спиной к ее ногам, как любил когда-то, а поодаль, опустив голову и подложив одну ногу под себя. Время от времени он морщился и по нескольку раз моргал, будто развитие событий в романе наводило его на какие-то неожиданные мысли. Его светлые, спутанные, давно не мытые волосы, вьющиеся на концах, торчали во все стороны как попало. «Интересно, он их когда-нибудь расчесывает? – подумала Харриет. – Ах, взять бы гребень…» Но Дэвид уже поймал на себе ее пламенный взор, и ей пришлось спешно отводить глаза и разглядывать его линялые джинсы, худую торчащую коленку, грязную ногу в сандалии, узоры на ковре. Вздохнув, она отложила иглу.
Тем временем Блейз негромко дочитывал следующую главу, то улыбаясь от удовольствия – он умел ценить хорошую книгу, – то задумчиво хмурясь. Харриет была немного старше своего мужа и в такие минуты, наблюдая за ним, всегда ощущала разницу в возрасте. Какой он все-таки еще молодой. Конечно, не такой красавец, как Дэвид, но сильный и решительный, настоящий мужчина. У него прямые, с рыжиной волосы, всегда коротко остриженные, красноватое лицо с крупными чертами и квадратным подбородком, большой тонкогубый рот и продолговатые глаза – серо-голубые, цвета зимнего моря. У Дэвида глаза были тоже продолговатые, отцовские, только гораздо голубее, а у Харриет – самые обыкновенные, карие. В такие спокойные семейные вечера, когда муж и сын сидели рядом, ее переполняло ощущение счастья и одновременно мучительной тревоги. Жизнь слишком, слишком благосклонна к ней. Харриет снова вздохнула и отправила в рот еще одну конфету. Вспомнился вдруг давешний мальчик под акацией. Она даже чуть не рассказала о нем Блейзу, но сдержалась. Блейз решит, что это один из ее «вечерних страхов», и опять начнет доказывать, что все ее страхи что-то означают, когда на самом деле они ничего не означают. А может, мальчика и не было. Почудилось.
Дэвид чувствовал себя скверно, по-идиотски. Начиная с «Ветра в ивах» – а это уже было довольно давно – домашние литературные чтения давались ему с большим трудом. Молчаливый напор обоих родителей – немая мольба, немое принуждение – превратился для него в ежевечерний кошмар. Недавно он пару раз не спускался – и что? Сидел, стиснув зубы, у себя в комнате.
Взгляд Дэвида все время цеплялся за жирное пятно на лацкане отцовского пиджака, отовсюду лез назойливый запах молочного шоколада, который, причмокивая, жевала мать. Ладно, пусть бы жевала, думал он, только бы не смотрела на меня глазами влюбленной девицы. Разумеется, Дэвид нежно любил своих родителей, но в последнее время они стали так действовать ему на нервы – хоть вой. Сбежать бы от этой семейной идиллии куда подальше, забиться в какую-нибудь дыру и подохнуть там с голоду. Хотя понятно, что если бы его послали учиться в пансион, дом казался бы ему раем. Поднявшись наконец, Дэвид невнятно буркнул: «Спокойной ночи» – и ушел к себе. Потом он еще долго прислушивался к звукам, которые, вообще говоря, нечасто долетают до посторонних ушей: к вечерней беседе супругов. А в детстве приглушенные родительские голоса так утешали его; по вечерам, засыпая под них, как под журчание знакомого ручейка, он чувствовал себя хорошо и спокойно.
– Как ты замечательно склеил вазу, совсем ничего не заметно, спасибо тебе.
– Хорошо, что Дэвид пришел.
– Я вот думаю: что он так все время моргает?
– А я думаю: что он свои космы не подстрижет? Или хоть помыл бы их, что ли.
– Он говорит, что отпустит бороду, как только будет что отпускать.
– О господи.
– А что это значит, когда люди так моргают?
– В переходном возрасте – обычный тик.
– Он за ужином ничего не съел. Как ты думаешь, может, у него anorexia nervosa?[3]
– Девочка моя, тебе надо читать меньше всякой ерунды в воскресных приложениях, вот что я думаю.
– Не трогай его пока с этим итальянским, пусть сам разберется, что ему нужнее.
– Нет уж, бросать греческий я ему не позволю. А итальянским, если ему так приспичило, пускай занимается в свободное время.
– Кстати, Андерсоны приглашают нас завтра вечером в гости.
– Завтра вечером у меня Магнус Боулз.
– Ну вот, опять. Разве нельзя его хоть раз перенести?
– Ты прекрасно знаешь, что именно его нельзя.
– Он столько лет лечится, что, по-моему, пора бы уже и выздороветь. Во всяком случае, ты мог бы встречаться с ним пореже.
– Трудно сказать, что будет, если Магнус выздоровеет, – заметил Блейз. – Он живет только своими навязчивыми идеями.
– Жаль, что он не может больше заниматься живописью.
– Ну, с красками он возится и сейчас.
– Ты объяснял мне про краски – они символизируют какую-то гадость?
– Дерьмо они символизируют.
– Фу, как все вульгарно в этом подсознании. И он так и ползает по комнате на коленках, ощупывает вещи?
– Что делать, он окружен божествами, приходится им поклоняться. Представь себе, кругом одни святыни. Родись он в другое время, его самого возвели бы в святые.
– Бедный.
– Первобытные люди все поголовно жили в окружении своих маленьких грозных божков. Католики до сих пор так живут.
– Конечно, ты думаешь, что религия – вообще навязчивая идея.
– Глупости, девочка моя, никогда я такого не думал и не говорил. Религия – очень важная вещь. Просто она не совсем то, чем кажется. Как и большинство важных вещей.
– Мне очень хочется как-нибудь познакомиться с Магнусом. Я почему-то уверена, что могу помочь ему почувствовать себя нормальным человеком.
– Вот-вот, женщины всегда мечтают сделать из гомосексуалистов нормальных людей.
– Ах, я же не о том! Просто прибралась бы у него в комнате, поговорила бы с ним о живописи. Он же иногда передает мне приветы. Значит, он немножко думает обо мне.
– Возможно. Я даже не исключаю, что ты единственная женщина, которая для него существует. Но стоит тебе один раз с ним встретиться – и я после этого уже не смогу ему помогать. Одним словом, это невозможно.
– Мужчина, с которым невозможно встретиться, – это даже романтично. Но все равно, мне жаль, что он все время один. Нет, правда: он же, кроме тебя, никого не видит. Днем спит, по ночам бодрствует, и все время его мучают какие-то немыслимые страхи.
– Если бы ты знала, сколько людей мучаются такими же немыслимыми страхами. Но все же у большинства получается вести нормальный образ жизни.
– Ну, у них получается, а у него нет. Просто им повезло, их не преследуют бесконечные видения. А ему все время мерещится какая-то несуразица, да?
– Епископ с деревянной ногой. Ходит и ходит за ним, как крокодилица за Хуком.
– Забавно. По-моему, такого я бы не очень боялась. Но эти его последние галлюцинации, будто он убил свою мать, а из трупа проросли побеги и превратились в молодую девушку, – ужасно, да? Или будто он отрезал себе палец, помнишь? Ты ему доказываешь, что не отрезал, вот же она, рука, все пальцы на месте, – а он все равно не верит! Нет, он из всех твоих сумасшедших самый сумасшедший. По-моему, его надо лечить электрошоком или чем-нибудь таким.
– Ради бога, Харриет, я сам разберусь, как его лечить.
– Ну хорошо, хорошо. Просто он такой несчастный.
– Не факт. Он, конечно, все время находится в состоянии сильного беспокойства – но дело в том, что он сам не верит во все это до конца. Просто ему кажется, что его должны наказать за какое-то преступление, которого он не помнит, и заодно за то, что он его не помнит. Но в целом это обеспечивает ему этакое приятное возбуждение, а его вещепоклонничество как бы помогает отсрочить наказание.
– Он все такой же огромный?
– Еще бы, так обжираться.
– Ох, как я ему сочувствую. Передай мне, пожалуйста, конфеты. Тебе надо опубликовать его историю болезни, по-моему, это что-то исключительное. Дорогой, а никак нельзя убедить его встречаться с тобой в какое-нибудь приличное время суток?
– Нельзя. Он абсолютно ночное существо, даже внешне похож на лемура. Только к вечеру немного оживляется.
– Ну да, сам оживляется, а тебя за полночи доводит до изнеможения. Эти пациенты из тебя все соки высасывают.
– Или я из них. Послушай, давай оставим Магнуса в покое, а?
– Хорошо, хорошо. Я позвоню Андерсонам. Ну уж нет, без тебя я к ним не пойду. Он же мечтает поговорить с тобой на профессиональные темы, а она вообще ужасно странная, мне с ней не по себе. Кстати, они и Монти звали. Но он отказался.
– Жаль. Ему пора выбираться из скорлупы, больше видеться с людьми. Заглянешь к нему завтра?
– Да. Такое горе.
– Скорбь по умершим – как долгая болезнь, он должен бороться, чтобы выздороветь. А ты ему полезна.
– Надеюсь. Как думаешь, он не наложит на себя руки?
– Монти? Нет, что ты.
– Он такой несчастный, печальный. Похож на растерянного Арлекина, который не знает, куда ему идти и что делать. И одновременно на священника – вроде того сумасшедшего пастора из одной его книжки, помнишь? Только пасторской шляпы не хватает. Хорошо бы он начал опять писать.
– Думаю, он уже до смерти устал от своего Мило Фейна.
– Все равно, не каждому дано придумать героя, которого все знают. У нас в супермаркете даже продаются «детективные наборы Мило Фейна».
– Что ж, дело доходное.
– Жалко, что у нас нет телевизора. Сейчас как раз идет очередной сериал про Мило Фейна. В газетах пишут, что Ричард Нейлсворт в роли Мило просто великолепен.
– Нет, девочка моя, нет! Никаких телевизоров. Тем более что творения Монти нам обоим с тобой не слишком нравятся.
– Ему я никогда этого не говорила.
– И не надо. Про себя автор может сколько угодно знать, что он ничего не стоит, но знание знанием, а самолюбие самолюбием. А у Монти все сюжеты похожи один на другой, во всяком случае последние.
– Да, знаю. Мило превращается в моралиста, а жертва непременно приходится убийце матерью, которая бросила его в детстве, или еще кем-нибудь. Я все думаю, почему Монти никак не напишет нормальный человеческий роман?
– Не может, вероятно. К тому же за нормальный столько не заплатят. А когда начинаешь зарабатывать большие деньги, это входит в привычку.
– Да, а он еще и жену себе нашел обеспеченную. Говорят же: деньги к деньгам.
– А не была бы она такая чертовски обеспеченная, из нее, глядишь, и получилась бы приличная актриса.
– Блейз, милый, так я поговорю с Монти?.. Ну, ты помнишь. Насчет того, чтобы занять у него денег.
– Боже упаси! Пока ничего не решено.
– Ты все время так говоришь, я чувствую, что это из-за меня. Думаешь, я не захочу быть женой бедного студента? Но все совсем не так!
– Знаю, моя хорошая, – сказал Блейз. – Ты все вынесешь, никогда меня не бросишь. Знаю – и благодарю тебя от всей души. Но это серьезный шаг, мы должны еще подумать, решить…
– Я уже решила. Я за.
– Но ты сама говорила, что это безумие.
– Естественно, я очень удивилась сначала, вот и сказала. Но я имела в виду, что это хорошее безумие. Надо решаться, а Магнус Боулз и компания пусть ищут себе другого избавителя.
– Какая ты у меня храбрая!..
– Никакая не храбрая. И не думай, что это жертва с моей стороны. Мне в жизни нужно только одно – быть рядом с тобой, смотреть на мир твоими глазами. Другой жизни, других глаз у меня нет.
– Родная моя…
– Хочешь, я поговорю с Монти насчет сада?
– Но нельзя же занимать у него деньги и одновременно покупать сад!
– Ага, значит, насчет денег все-таки можно?
– Нет пока, мне еще надо подумать…
– Не забывай, у меня ведь есть ценные бумаги, а может, тебе дадут грант.
– Все, моя хорошая, спать, спать!..
– Ладно, ухожу, раз ты уже не можешь меня видеть. Только не сиди всю ночь над своей книгой, обещаешь? Смотри, за окном еще не совсем стемнело. Как все таинственно в сумерках…
Монтегю Смолл проснулся от непонятного звука. Что-то в доме? Или приснилось? Он сел. О том, что Софи умерла, вспомнилось, как всегда, в первую секунду после пробуждения. Как сверкает сталь, прежде чем клинок вонзится в плоть, а потом – только пронзающая боль, больше ничего. Монти снова прислушался. Тишина. Наверное, это было во сне, понял он, и сон всплыл в памяти.
Он один в чистом поле, кругом ни души, только посреди поля лежит неведомое обезглавленное чудище. Он подходит и видит длинную, стального цвета шею, поросшую редкими черными волосками, видит запекшуюся кровь, зияющие дыры кровеносных сосудов. Огромная уродливая голова валяется чуть поодаль. Монти всматривается в нее и вдруг с ужасом замечает, что сбоку, ближе к загривку, что-то шевелится. Крошечный звереныш, точная копия поверженного зверя, жалобно подвывает, вцепившись в редкую шерсть, слезы из его глаз мелкими жемчужинами скатываются на землю. Неожиданно Монти начинает задыхаться от невыносимого горя. Он тоже заливается слезами и не может остановиться.
Сейчас он сидел с сухими глазами. Странно, он только что рыдал во сне, а в жизни так и не проронил ни слезинки с того дня. Слез не было. Сны стали однообразно гадкими. Ни яркости, ни новизны, как когда-то. Монти пошарил рукой по ночному столику. Стакан с водой, бутылочки с пилюлями от доктора Эйнсли – снотворное и транквилизатор, – часы, настольная лампа. Щелкнул выключателем. Еще нет четырех, но уснуть уже не удастся. Когда мозг спит, сновидения могут, цепляясь друг за друга, окутать его забвением. Но вот нить прервалась, и опять та же пытка – круг за кругом, без отдыха. Бессмысленно переворачивать подушку и делать вид, что сейчас все пройдет. Монти надел часы. Если он забывал снимать их перед сном, ночью они обязательно подкрадывались к уху и его будил оглушительный грохот: биение вечности из детских горячечных снов.
Он встал и набросил халат. Смятая постель осталась за спиной, как змеиная шкура, как сброшенная уродливая маска. От простыней уже воняло. Домработница больше не приходила, он давно ее рассчитал. Как ужасна была Софи в конце, как она цеплялась за него, пытаясь передать ему хоть часть своего страха и отчаяния. Она выкрикивала все эти мерзости, швыряла их ему в лицо, потому что не могла выносить их в одиночку. Ни с кем другим она бы себе такого не позволила. Это должно было вызвать в нем сострадание, даже гордость. Ему следовало принять это ее отчаяние с искренней признательностью как доказательство ее любви. Он же ничего не видел и не слышал, кроме злобных выкриков, и сам кричал на нее в ответ. Их совместная жизнь закончилась чередой бессмысленных раздоров. Перед тем как она умерла, они тоже кричали друг на друга. Он никогда себе этого не простит. И вот наконец вслед за этой пыткой явилась смерть – смывающая накопленную грязь, несущая своей жертве избавление от инквизиторских тисков боли, от злобы людской и Божьей; казалось, хотя бы от этого ему должно было стать легче. Увы, он умудрился лишить себя даже такого условного утешения. Радость, сердцевина всего сущего, ушла из его жизни. Тошнотворные страхи, от которых он так долго пытался отделаться, опять сползались со всех сторон. В иные минуты он и сам не понимал, как можно жить дальше с такой тяжестью в душе.
Монти раздвинул шторы и выключил лампу. За окном медленно разливался холодный тускло-белый свет; в предутренней тишине было что-то пугающее. Прямоугольник газона лежал как длинная унылая простыня, расстеленная для потрошения ритуального агнца. Две большие дугласовы пихты[4] застыли неподвижно, словно боясь расплескать нечто загадочное и потустороннее, переполнившее их до краев. Высокая изгородь из бирючины казалась ровной и гладкой, как стена, все живое и округло-лиственное в ней было смазано той же тусклой белизной. В саду, который тянулся от угла дома в сторону Худ-хауса, несколько пичужек уже нехотя пробовали голоса, звучавшие в тишине резковато и фальшиво. Монти вдруг вспомнил мальчика, которого он видел вчера вечером за забором в конце сада. Мальчик ничего не делал, просто стоял перед Худ-хаусом и не отрываясь смотрел на дом. В какой-то момент у Монти мелькнула шальная мысль, что это Софи. Он все время ждал, что увидит ее. Когда думаешь о человеке постоянно, ничего удивительного, если однажды тебе явится его тень. Интересно только, кто решает, являться ей или нет, – сама тень?
Ему так часто казалось, что Софи рядом, что она нарочно не показывается и дразнит его, исчезая из комнаты в тот самый момент, когда он входит. Скитаясь по дому вместе с ним, всегда недосягаемая, она словно бы продолжала понемногу меняться. Что, если и правда она воплотилась в тень – вечно удаляющуюся, как те смутные тени из далекого прошлого? Какие сны приснятся в смертном сне?.. Если она продолжает существовать в мире своих неведомых сновидений, снится ли он ей? Может быть, ее спящая душа каким-то образом управляет им? Тратит ли она на бесплодные страдания свою ту жизнь с тем же упрямством, с каким тратила эту? Возможно, что мы держим мертвых, как и живых, в плену наших мыслей; возможно, что и они точно так же держат нас. «О чем ты думаешь? – кричала она. – Проклятье! Почему я не знаю, о чем ты думаешь?..» Или это были его слова? Их любовь была пыткой для обоих. Смерть могла бы явить милосердие, положить конец вечному противостоянию – но не положила. Как часто ему хотелось оборвать поток ее мыслей. Прервался ли он теперь, или они по-прежнему извергаются из нее, вторгаясь в его жизнь с изнанки бытия? Волен ли оставшийся в живых прекратить это жестокое и бессмысленное рабство, отпустить на свободу обезумевшую тень? Как сделать это? Да, они любили друг друга. Но что из того? Любовь сама оказалась безумием.
Столько лет он копался в своей душе, «работал над собой» – и вот теперь может наконец полюбоваться на плоды своих трудов. Только любоваться не на что. Он пытался управлять собственными сновидениями, не терял бдительности даже во сне, силился соединить сон и явь. Последнее удалось ему лишь отчасти: сны не сделались более жизненными, зато жизнь стала походить на сон. В известном смысле он достиг цели. Но, как часто бывает, он получил верный ответ в неверной форме. Страхи из сновидений научились свободно вползать в его дневную жизнь, и вместо желанной мудрости явилось новое полчище кошмаров. Духовные поползновения закончились полным крахом. Теперь он чувствовал себя жалким подмастерьем, да и хозяин его был, кажется, невеликий мастер – так, средней руки колдун. Разумеется, тот мальчик под акацией ничем не напоминал Софи – хоть в ней и была мальчишеская, как Монти определял ее когда-то для себя, субтильность. И все же в какой-то миг он со страхом ждал, что она обернется и ее очки сверкнут в полутьме, как звериные глаза. Разумеется, это был просто мальчик, и Монти сразу это понял. Но страх остался. Что, если мальчик услышит шаги и оглянется? Монти развернулся и молча пошел к дому, по дороге машинально скользя рукой по змеиным изгибам древесных стволов. От деревьев исходило ощущение покоя. В Локеттсе его ждал Мило Фейн – холодный, ироничный, усмехающийся над его малодушным бегством.
Разглядывая залитый утренним светом газон, Монти вспомнил про обещанный приезд матери. Миссис Смолл, при всей ее светскости, слишком явно недолюбливала Софи. Она безусловно желала Софи смерти – и, возможно, не все ее тайные желания пропали втуне. Разумеется, нелюбовь двух женщин была взаимной: Софи, со своей стороны, даже не пыталась это скрывать. Со свекровью она всегда держалась как иностранка, будто нарочно растравляя английскую душу истинной леди. Мать Монти причисляла себя к обедневшей аристократии. Она была очень довольна писательским успехом сына и очень недовольна его женитьбой. Софи, конечно, девушка вполне состоятельная, признавала она, но происходит из чуждой и непонятной, «нуворишеской» среды швейцарских торговцев. Миссис Смолл нашла жену Монти вульгарной, а к ее матери с первой же минуты почувствовала неприязнь (взаимную, впрочем). «Создатель Мило Фейна, – всегда говорила сыну миссис Смолл, – может жениться на ком угодно», но под «кем угодно» явно имелась в виду юная англичанка, нежная и благовоспитанная, желательно титулованная, которую свекровь живо приберет к рукам и превратит в младшую союзницу. Хотя, скорее всего, миссис Смолл и в этом случае нашла бы, за что возненавидеть невестку.
Отец Монти, бедный священник, умер, когда Монти было восемь лет. Через неделю после похорон мать приказала сыну называть ее отныне по имени: Лиони – и вместе с этим выспренним и непонятным звукосочетанием в их отношения вошло что-то темное и такое же непонятное. Лиони, в юности мечтавшая стать актрисой (что позже, несомненно, усугубило ее нелюбовь к Софи), после смерти мужа пошла ради единственного сына на жертву, а именно согласилась преподавать дикцию и пение в частной школе для девочек. Она торжествовала, когда Монти поступил в Оксфорд, сокрушалась, когда он закончил его не бог весть как, сокрушалась еще больше, когда он стал школьным учителем, торжествовала, когда он бросил учительство и стал известным писателем, снова сокрушалась, когда он женился на хриплоголосой невоспитанной иностранке. И вот теперь опять пришло время торжествовать. Софи умерла, иностранки больше не было. Лиони не могла да и не особенно старалась скрыть свое удовлетворение; спасибо хоть не навязывала сыну свое общество. В день похорон она благоразумно сказалась больной. Возможно, на радостях ее тянуло танцевать и она просто боялась не сдержаться. Она, разумеется, уже не работала в школе, а жила в кентской деревушке, в собственном маленьком домике, купленном для нее Монти, и разыгрывала сельскую гранд-даму. Теперь, выдержав сообразную обстоятельствам паузу, она собиралась предстать перед сыном в качестве триумфаторши и вершительницы дел. По всей видимости, она пришла к выводу, что первый и самый бурный этап траура (торжества) пора завершать. В последнее время слащавые письма от нее приходили чуть ли не каждый день. Ее интересовало недвижимое имущество (Локеттс), движимое имущество (вещи) и, разумеется, сам Монти. И ах как жаль, что невестка не оставила ей внука! Забеременела только раз, и то кончилось выкидышем.
Приезд миссис Смолл не очень беспокоил Монти. Это было не важно. Он относился к матери с сыновней нежностью, вполне ее понимал и даже сочувствовал. Ее нынешнее ликование никак его не трогало. Смерть так обобрала, обесцветила и обессмыслила его существование, что булавочные уколы жизни на него практически не действовали. Эмоции матери не касались его – он стал неприкасаем. Он ощущал себя неуничтожимым, потому что был уже уничтожен. В последние дни перед смертью жены к нему пришло гадкое чувство опустошенности. Он не мог заставить себя обнять Софи. Не потому (как она думала), что ее болезнь внушала ему отвращение; просто смерть уже завладела ею и чувство необратимой утраты, уже источаемое ее телом, было для него невыносимо. Он слышал, что некоторые могут обнимать и даже целовать своих мертвецов. Он бы не смог. Сознание того, что любимого человека уже нет, перечеркивало для него все. Долгие дни, пока она умирала, он мучился еще и тем, что не мог прикоснуться к телу, в котором, как это ни ужасно, она все еще обитала.
Монти женился поздно; брак был бурным и недолгим. Софи всегда была неисправимой кокеткой, он – неисправимым ревнивцем и строгим судией. Он читал ей нотации. Она заливалась слезами, потом осыпала его бранью. Все кончалось постелью. Так повторялось снова и снова. Огромный, в его представлении, шар их любви часто дрожал и сотрясался, но так и не разбился вдребезги – просто жизнь превратилась в бесконечную цепь ссор, скандалов и попыток «начать сначала». Локеттс тоже был очередной попыткой. До этого они с Софи снимали квартиры в Кенсингтоне и Челси. Софи заявила, что хочет «жить в деревне», и Монти, хотя его самого никогда не тянуло к сельским радостям, ухватился за возможность увезти ее куда подальше. С еще большим удовольствием он запер бы ее на замок или посадил на цепь. Сошлись на компромиссном «полудеревенском» варианте в виде импозантного Локеттса, осененного покоем фруктового сада. Софи осталась довольна домом, но тут же принялась жаловаться на скуку и одиночество. Другие семейные пары как-то умели находить себе общих друзей, создавать целые миры, которые можно обживать вдвоем, – у них же это никогда не получалось. Им даже не о ком было посплетничать. За время недолгого супружества их отношения так и не успели войти в нормальную колею. Софи флиртовала со старыми друзьями, заводила новых, те и другие не желали знакомиться с ее мужем; Монти угрюмо следил за ее успехами, все больше замыкался в себе.
Возможно, думал он теперь (хотя мысль являлась и раньше), его чувство к Софи было слишком сильным и магическим, чтобы как-то вписаться в обычную жизнь. Он влюбился с первого взгляда, как только его старый приятель по колледжу познакомил их на вечеринке. В то время Монти был уже известным писателем, а Софи просто актрисой, притом неважной. Она даже не очень походила на актрису – с виду самая обыкновенная избалованная девица, из богатеньких. Монти и сейчас помнил совершенно отчетливо, какой увидел ее впервые: вот она сидит, плотно сжав колени, чуть подавшись вперед, по-детски держа перед собой маленькую лаковую сумочку; темные глаза сияют самодовольством, вздернутый носик напудрен, продуманный профессиональный макияж выделяет и подчеркивает все, что нужно. На ней простое элегантное платье, на ногах изящные туфельки. Она смеется. Бесконечную самовлюбленность избалованной богачки несколько смягчает трогательное простодушие и впечатление как бы ничейной вещи, исходящее от всей ее фигуры. Все это вместе запечатлелось в душе Монти сразу и навсегда. Такие женщины, как она, никогда не нравились ему и не привлекали его. Он влюбился в нее без памяти и без всяких «нравится – не нравится», просто потому, что ее неповторимое, присущее лично ей и только ей очарование в одну минуту сделалось для него абсолютно необходимым. Обезумев от непомерности всего нахлынувшего, он уже на третий день сделал ей предложение. Софи отказала ему. Он не отступался. Наконец она согласилась. Понятно, что до нее у него были другие женщины, но они не имели значения.
Естественно, он любил ее больше, чем она его. Это как бы входило в брачный контракт, и оба они нередко посмеивались по этому поводу. Ее замужество более или менее объяснялось рядом причин, что она честно признавала. Во-первых, ей как-никак было под тридцать и пора было кончать с затянувшейся ничейностью. Во-вторых, она с чего-то взяла (как не без сарказма замечал потом Монти), что она уже «перебесилась». Ей нравился Монти, нравилась его влюбленность, она безоговорочно доверяла ему и рассчитывала найти в нем опору. Все это складывалось одно к одному и в сумме выглядело вполне убедительно. Для Монти не было никакого сложения и никакой суммы. Он в полном смысле слова жил любовью, магией любви. Теперь, когда Софи уже не было, а магия осталась, ему иногда казалось, что еще немного – и эта магия уничтожит, раздавит его насмерть. В отличие от большинства мужей он так и не смог перейти от любовного безумия к спокойной, глубокой близости: Софи лишила его такой возможности. В замужестве она располнела и начала носить очки с толстыми круглыми стеклами, без которых ее скоро трудно стало представить. И хотя ослепительности у нее явно поубавилось, поклонников стало даже больше. Покоя не было. Она так и не перебесилась.
Софи обрекала его на одиночество. Мило Фейн тоже. Фактически Мило отлучил его от мира остальной литературы: сочиняя без устали, без передышки, Монти почти перестал читать. Софи и Мило – вот все, что ему надо, думал он. Все равно ведь писательство – занятие для одиночек. Монти писал быстро, торопливо, каждый раз надеясь, что следующий роман послужит спасением и оправданием предыдущего. Изначально он намеревался сделать несколько бестселлеров, а потом приняться за серьезное сочинение. Возможно, им двигала и другая цель – доказать что-то собственной матери. Но все эти цели ставились раньше, до Мило. Этот новый герой явил неожиданную живучесть и неискоренимость. Тому, кто, как Монти, привык к сидячему образу жизни, всегда приятно воображать себя человеком дела, это естественно. Однако были и более глубокие и более странные связи героя с его создателем. Многие, если не все мужчины до конца жизни остаются заложниками еще отроческих идеалов и представлений о самих себе. Монти, в детстве прошедший школу безотцовщины и неуверенности в завтрашнем дне, виделся себе фигурой довольно темной, мятежной и «загадочной». В результате уже в Оксфорде, в окружении друзей-радикалов, он считал своим долгом придерживаться, в пику всем, крайне правых взглядов. Прочих смертных – серую безликую массу – он презирал со всей возможной демонстративностью, поэтому диплом всего лишь второго класса, выданный ему по окончании университета, явился для него жестоким ударом. Мило, всегда бесстрашный и удачливый, бьющий без промаха из своего любимого маузера (модель с прямоугольной рукояткой), возник, помимо прочего, с тайной целью вытравить унижение этого второго класса.
В юности Монти разыгрывал из себя некую абстрактно-демоническую натуру, услаждая этим свое самолюбие. Впоследствии, когда уже было поздновато, а может быть, и совсем поздно, он вдруг ощутил себя интеллектуалом. Лучше бы я стал ученым, коллекционером, исследователем, думал он, тогда бы моя жизнь хоть как-то двигалась вперед. Выпавшее ему учительство он ненавидел и никогда не пытался по-настоящему вникнуть в суть процесса. Но тут подоспело «спасение» – явился Мило Фейн, ироничный и разочарованный герой с задатками супермена, удачно, как тогда казалось, воплотивший в себе демонические черты и интеллектуальность самого автора. Поначалу это была своего рода «милотерапия»: через своего пренебрежительно-насмешливого гомункулуса Монти мог критиковать собственные юношеские идеалы и одновременно им потакать. За авторской иронией вообще часто кроется авторский же идеализм, и в том, чтобы его скрыть, заключается, возможно, наиважнейшая функция иронии.
Годы шли, время от времени Монти пытался распрощаться со своим настырным alter ego[5]. В сущности, какую часть себя он материализовал в своем сардоническом герое? Самую жалкую и постыдную, проистекающую из низменного властолюбия – только и всего. Монти чувствовал, что надо изменить себя, надо наложить на себя епитимью. Но Мило вытягивал из него все соки, высасывал дочиста, и казалось, что если отречься от этого нищенского проявления силы, то силы не останется вовсе. Серьезные романы, за которые он брался время от времени, его не увлекали и вскоре разваливались. Он говорил себе: почему бы не сделать небольшую передышку, не написать еще одного Мило? Теперь это было совсем легко. Монти и Мило продолжали напряженно следить друг за другом. Задолго до того, как это увидели критики, Монти начал замечать, как его герой сходит на нет, в прямом и переносном смысле. У Мило началось физическое истощение. Он был худ от природы, хотя мечтал потолстеть. Нажимал на пиво, взбитые сливки, печенье с шоколадом – все напрасно. Сначала Монти использовал этот ход просто так, для забавы, но постепенно худосочие героя стало наполняться каким-то глубинным смыслом. Мило тощал, усыхал, источал все больше язвительности и презрения к дамам, которые тем не менее млели пуще прежнего и падали к его ногам. Со своей неизменной плиткой шоколада и стаканом молока он превратился едва ли не в символ зла, и по мере этого превращения разгулявшаяся фантазия его создателя начала пробуксовывать. Монти предпринял еще одну отчаянную попытку «вытянуть» своего неотразимого двойника, хоть немного очеловечить его и сопрячь с остальным миром. Мило вдруг возжаждал справедливости, проникся сочувствием к жертвам преступности и заботой о юношестве. Но единственным результатом авторских усилий явилась малопривлекательная (и столь же малоубедительная) маска резонерства, которую с прежней насмешливостью носил все тот же прежний Мило, исхудавший до безобразия, но так и не пожелавший обратиться в новую веру.
Долгое время Монти хотел избавиться от Мило, но потом понял, что на самом деле речь идет об избавлении от самого себя: его детище, сулившее ему поначалу спасение, разрослось донельзя и уже почти поглотило его. «Ты, ты и есть Мило Фейн!» – кричала ему Софи со зла, а может, от отчаяния, когда он своими угрозами и нотациями снова и снова доводил ее до слез. Но мир его прославленного героя был так убог, а душа его так хладнокровно и абсолютно пуста, что Монти понимал: он не Мило Фейн. То есть он понимал это умом, но все равно было страшно. Как-то он попытался высказать все это Блейзу Гавендеру – хоть кому-то, хоть одному здравомыслящему человеку. Но Блейз, не слушая толком, перепрыгивая с пятого на десятое, свалил все в одну кучу, связал Мило с Софи, Софи с матерью Монти – и все наспех, все упрощая. Монти, досадуя на себя (дернул же черт уподобиться Блейзовым «пациентам»!), тут же напустил тумана, заморочил Блейзу голову и в конце концов совершенно его подавил. Блейз поспешно свернул свой психоанализ.
Даже в самые счастливые времена супружества (а у них с Софи были такие времена) Монти иногда спрашивал себя, почему он с таким упорством уклоняется от образа покоя (не хотелось обозначать более громким словом), который всю жизнь (во всяком случае, так ему сейчас казалось) был рядом, только руку протянуть. Так было, даже когда он еще учился в Оксфорде и страдал по молодости лет моральным эксгибиционизмом. Даже сами его демоны, каковыми ему угодно было их считать, подсовывали ему тот же образ как единственный способ освободиться от их же власти – если, конечно, он желал освобождения. Образ, однако, не имел отношения к Богу: Бог давно и навсегда ушел из его жизни. Обо всех этих вещах Монти ни разу ни с кем не говорил, тем более с Софи (ей это было бы скучно). Он размышлял о них втайне, когда, сходя с ума от тоски, глядя на страдающую Софи (роль страдалицы плохо ей удавалась), почти с вожделением думал о времени после ее смерти, когда он наконец обретет желанное спасение, – словно смерть Софи сулила ему некий духовный оргазм. И вот это «после» наступило, но как же оно оказалось не похоже на его ожидания! Он рассчитывал жить в своем страдании, как саламандра в огне, – но он не ждал, даже не мог себе представить тупого ужаса ее отсутствия; не догадывался, что скорбь может превратиться в пытку бесцельного и бессмысленного поиска, а о раскаянии не думал вовсе. Зачем, не говоря уже ни о чем другом, он не помог Софи стать хоть чуточку счастливее? Это же было не трудно – разве он не видел? Тогда что он вообще видел? Можно ли быть таким бездарным тупицей? Он рассчитывал найти благословенный покой – а сам по-прежнему чувствует себя осведомителем, хоть и в другом обличье. Как это до оскомины знакомо: он избранник, назначенный богами в жертву, он добровольный предатель, он – тот, на кого падет вина. Что из того, что он изменился, его старые друзья тоже не раз меняли личины, но они, как и он, все те же и все там же.
Он потерял всякое ощущение пространства и времени. Жизнь как будто кончилась, но потребности убить себя не было, приходилось как-то влачить отведенные часы и дни. И посреди всего этого продолжала работать холодная, трезвая мысль. Он даже задавал себе вопрос: не получится ли обратить эту пытку в искусство? Не псевдо-, а настоящее искусство, без Мило Фейна. Но что он может в искусстве? Тешить свое самолюбие – это замечательно, но что еще? Тут же являлся другой вопрос: а способен ли он сейчас избавиться от Мило? И снова выплывала мысль о покое и об избавлении от самого себя. Возможно, он уже слишком старый барс, чтобы переменить свои пятна. Сможет ли он переделать себя? В сорок пять лет. Сможет ли, спасшись от возмездия, достичь того, к чему стремится всей душой? И что вообще ему делать с собой, в самом земном и банальном смысле слова? У Ричарда Нейлсворта, исполнителя роли Мило, вилла на юге Италии, он приглашал Монти у него пожить. Хотя там уж точно на покой можно не рассчитывать. Надо просто перестать писать, думал Монти. Если начать что-нибудь новое сейчас или в обозримом будущем, это будет муть, макулатура. Еще один роман про Мило Фейна – и все, как писатель он погиб. Что тогда? «Стоп, а почему бы снова не пойти работать в школу?» – подумалось вдруг, и эта мысль, зацепившись, стала периодически возвращаться к нему. В конце концов, это единственная работа, кроме сочинения детективов, с которой он более или менее знаком. Он делал ее раньше, вполне может делать и сейчас. Это достойная нормальная работа, а ему ведь надо как-то подключаться к нормальной жизни – или он свихнется окончательно. Потом, позже он, возможно, вернется к писательскому ремеслу. Или не вернется. Сейчас надо просто поставить себя в такие условия, когда он будет вынужден выполнять какие-то обязанности. Не оргазм духа, конечно, но хоть что-то. Мысль эта, пока смутная, время от времени проносилась мимо него в водовороте нескончаемого страдания, и в ней одной брезжил намек на возможность какого-то будущего.
Бледный холодный свет становился резче, но небо еще не заголубело. Монти отошел от окна и, остановившись перед зеркалом, начал всматриваться в полумраке в свое отражение. Он хорошо знал это обманчивое лицо, как будто вечно стремившееся что-то утаить – даже от своего владельца. Небольшая голова, темные глаза с немного уже нависающими усталыми веками, пряди темных прямых волос, слегка посеченных на концах, слегка редеющих. Скоро у него появится настоящая тонзура, и он еще больше будет похож на того, кем иногда себя ощущал. Подозрительное иезуитское лицо. Умное лицо. Лицо холодного мыслителя. Лицо самовлюбленного эгоиста. Лицо человека, который растратил свой талант, изгадил свою семейную жизнь и после этого все еще имеет наглость считать себя бесподобным и исключительным. Глупое, лицемерное, лживое лицо.
Даже Харриет, которой всегда так хочется узнать, о чем он думает, не догадывается, насколько он одержим безумием. Потеря близкого человека – мрак, непроницаемый для посторонних глаз, да и сам несчастный страдалец потом, когда скорбь утихнет и боль пройдет, не вспомнит, как он страдал. Эта боль – только ли боль утраты, или за ней стоит нечто другое, крушение, от которого не исцеляются? Нужно быть мужчиной, сказал он своему отражению и отвернулся. Банальная фраза. Но, может, как раз в этой банальности и кроется его надежда на возвращение к жизни? Вот идет новый день, и он несет с собой новые маленькие заботы и обязанности, о каких раньше он мог только мечтать. Надо встретиться с Харриет. Надо играть роль перед Харриет – тоже своего рода обязанность. Поговорить с Блейзом про этого поганца Магнуса Боулза. Написать матери Софи в Берн, написать своей матери. Все это ему придется сделать. Может, и правда вернуться в школу, зажить наконец нормальной человеческой жизнью? Он взглянул на часы. Боже, еще только половина пятого.
Пора спускаться вниз, решил он и тут же почувствовал, как им овладевает знакомое наваждение, больше всего похожее на плотское желание – бессмысленное, потому что неутолимое. У него была магнитофонная запись голоса Софи, одна-единственная, сделанная перед самой ее смертью. Он тогда включил магнитофон, ничего ей не сказав. Конечно, пленку давно надо было уничтожить, но он все не мог себя заставить. Он медленно вышел из спальни, спустился по лестнице, пересек длинный сводчатый холл, разделявший дом надвое. От гнетущего болезненного возбуждения немного мутило. В маленькой гостиной было еще темно. Он включил настольную лампу, достал из шкафа магнитофон. В голосе Софи запечатлелась вся ее жизнь, вся она целиком. У ее отца-англофила были деловые интересы в Манчестере – Софи тогда проучилась год в пансионе для девочек на севере Англии. Здесь же, в Англии, она начала «выезжать», потом училась актерскому мастерству в Лондоне, успела мелькнуть в бесчисленной россыпи голливудских «восходящих звезд». Все это можно было услышать в ее голосе. Едва заметный франко-швейцарский акцент, чуть-чуть северного прононса, чуть-чуть светскости, легкий, почти неуловимый след пребывания в Америке, совсем уже неуловимый след учебы в Королевской академии театрального искусства. И сквозь все это – невозможное, неистребимое своеволие, оставшееся с ней до последнего дыхания: этот голос был сама Софи, избалованная богачка, ничейная вещь, актриса, кокетка, ведьма, богиня на смертном одре. Монти сел, включил магнитофон и закрыл лицо руками.
«Забери ее, забери, она так давит мне на ноги. Да, вот эта книга, забери ее. Ох. Я хочу выпить капли, меня опять сегодня знобит. Вот там, на тумбочке, дай-ка мне… Да нет же, не стакан, зеркало…»
Из-за двери вдруг донесся тяжелый стук, будто что-то упало на пол. Монти вскочил, выключил магнитофон и замер, прислушиваясь. Снова что-то стукнуло, на этот раз тише. Звуки доносились из маленькой комнатки – «кабинета» Софи, в котором она хранила все, что считала для себя важным и личным, в котором так долго и трудно умирала. Он ни разу не входил туда после ее смерти. Жуткий страх выполз из-под воротника и вцепился в затылок. Монти быстрым шагом пересек комнату, прошел через холл и распахнул дверь.
Горела одна лампа под абажуром. В дальнем конце комнаты, у стола Софи (ящики выдвинуты, в них только что рылись) стоял высокий тучный мужчина с конвертом в руке. Раскрыв рот, он в оцепенении смотрел на хозяина.
– Привет, Эдгар. – После секундного замешательства Монти узнал Эдгара Демарнэя. – Переквалифицировался в грабители?
За несколько лет, что они не виделись, Эдгар погрузнел, погрубел и постарел, но это был все тот же Эдгар, с тем же большим розовым мальчишеским лицом, толстыми губами и шапкой коротких, младенчески мягких волос, только не золотистых, как раньше, а блекло-серых, почти бесцветных.
Эдгар не вымолвил ни звука, лишь взмахнул рукой в сторону двери.
– Это магнитофон, – сказал Монти и вышел из комнаты.
Вернувшись в гостиную, он одну за другой зажег все лампы. Осветилась ниша, выложенная синей, с павлиньим отливом деморгановской[6] плиткой и обрамленная по периметру мозаичным узором: переплетенные стебли чечевицы в серых и шафранных тонах на темном фоне. Очевидно, мистер Локетт пребывал в мавританском настроении, замышляя свою гостиную.
До того как Монти познакомился с Софи, Эдгар Демарнэй был преданным ее поклонником, возможно любовником – последнего Монти предпочел не выяснять. Собственно, Эдгар и был тем самым другом по колледжу, который познакомил их тогда на вечеринке. Все годы замужества Софи Эдгар по-прежнему питал к ней то же безответное (если верить его словам) чувство. Постепенно Монти удалось забыть о существовании Эдгара Демарнэя, тем более что кругом толпилось много других мужчин, внушавших гораздо больше беспокойства.
Эдгар тоже прибрел в гостиную и тяжело опустился на пурпурный диван, удачно вписавшийся в альков с балдахином. На Монти он ни разу не взглянул, сидел, уставясь куда-то в противоположную стену.
– Ну, Эдгар, может, объяснишь что-нибудь?
– Прости, – сказал Эдгар. – Прости. Я услышал ее голос… Это для меня было слишком… До сих пор не верю, что она умерла. А ты веришь?
– Да, – сказал Монти, облокачиваясь о выступающий край чугунной каминной полки. – Я верю. Она умерла. Ее кремировали, получился пепел. Потом пепел развеяли, и ничего не осталось.
– Как ты можешь так говорить, – пробормотал Эдгар. – Как можешь…
– Так что ты тут делаешь? – осведомился Монти. – И с каких пор взял моду вламываться в чужие дома и рыться в чужих вещах?
– Когда она умерла?
– Давным-давно. Несколько недель.
– А… я думал, это было совсем… гораздо позже… День или два. Я ведь только-только из Америки… Узнал сегодня ночью, то есть вчера. И понял, что должен ехать сюда… немедленно. От чего она умерла?
– От рака.
– Долго тянулось?
– Да.
– О господи. Мне никто ничего не сказал.
– А чего ради? Тебя это не касалось. И все-таки ты так и не объяснил, что тебе понадобилось в комнате моей жены. За сувенирчиками пожаловал?
– Вообще-то, – сказал Эдгар, – я искал свои письма.
– Письма?
– Понимаешь, я не собирался вламываться – просто приехал сюда, как только услышал. Был на званом ужине, но когда мне сказали… Я ни о чем таком даже не помышлял, хотел просто подождать на дороге до утра. А что мне оставалось? Я и ждал, ужасно долго.
– Как интересно. И в котором часу ты приехал?
– Где-то около полуночи. У меня, разумеется, и в мыслях не было тебя беспокоить. Я ведь думал, ты в прострации.
– Ошибся, как видишь.
– А потом я вспомнил про свои письма. С тех пор как вы с Софи… как она вышла замуж, я писал ей каждую неделю, ты же знаешь.
Монти не знал.
– Я просто старался поддерживать с ней связь. Хотел, чтобы она всегда знала, где я, чем занимаюсь, – мало ли, вдруг ей от меня что-то будет нужно.
– Как трогательно. Это, по всей видимости, на тот случай, если бы она решила меня бросить.
– Она всегда знала мой номер телефона, – продолжал Эдгар. – Даже если я уезжал на двухдневную конференцию, обязательно сообщал ей, куда мне звонить. Я так радовался, думал, если захочет, она всегда сможет меня найти – будто ниточка между нами протянута. А вчера вечером… мне сказали, она умерла, – и я помчался сюда. Собирался просто стоять на дороге и скорбеть. Даже не знал, были уже похороны или нет… Понимаешь, мне сказали, и я сразу же ушел, ни о чем больше не спрашивал. Почему-то я так понял, что она умерла только что. А потом, уже когда приехал сюда, вспомнил про свои письма. Их были сотни. Она их тебе показывала, да?
– Нет.
– Пусть бы и показывала, я не против, – сказал Эдгар. – Я и не думал делать из них тайны, там ничего такого нет, никакой тайны. Все совершенно понятно. Я просто любил ее, не мог разлюбить. Так и не смог. О господи.
– Все, хватит об этом. Я устал.
– Ты не плеснешь мне немного виски?
Монти достал графин из углового шкафа с цветными стеклами и налил полстакана, не разбавляя.
– Спасибо. Я, видишь ли, подружился с зеленым змием. Тебе налить?
– Нет.
В последнее время Монти не притрагивался к спиртному.
– Я подумал: ну, ты увидишь мои письма – ладно, но я не хочу, чтобы их читал кто-то другой. А письма были хорошие, лучше мне уже не написать. И тут эта мысль: а почему бы мне их не забрать, я же был однажды в доме, когда вы только сюда переехали.
Этого Монти тоже не знал.
– Ну, помнишь, когда ты летал в Нью-Йорк? Я заезжал тогда, и мы с Софи пили чай… в той самой комнатке. Так что я знал, где у нее хранятся бумаги. Вот и подумал: войду, отыщу свои письма и заберу их. И все. Идея, конечно, дурацкая, но ночью, пока я торчал на дороге – один как перст, – мне показалось, что в этом есть какое-то… утешение. Письма же тут, рядом, надо просто пойти и взять – тем более калитка открыта…
– Ну и? Ты их взял?
Монти с тех пор ни разу не заглядывал в ее стол. Он боялся того, что может там увидеть. В самом начале болезни Софи сожгла целый ворох бумаг.
– Нет.
– Тогда извини, что помешал. Иди ищи дальше.
– Что, правда можно?
– Да сколько угодно. А найдешь – убирайся к дьяволу. Я пошел спать.
– Монти, ну у тебя, как всегда, и шутки…
– Выйдешь через сад, как вошел. Спокойной ночи.
Он направился к двери.
Эдгар вскочил.
– Послушай, Монти, ты с ума сошел? Ты же не можешь так просто уйти, бросить меня!
– Это еще почему? Я, кажется, и так был с тобой любезен сверх всякой меры.
– Да, конечно, но я прошу!.. Пожалуйста, не уходи, поговори со мной. Мне так надо поговорить о Софи. Может быть, ты уже… но я еще нет…
– Тебе нужны твои письма?
– Нужны, но… Собственно, если ты их найдешь, ты мог бы…
– Сомневаюсь, чтобы Софи их хранила – этакие тыщи.
– Ну, пусть не все, но некоторые – те, которые ей особенно нравились… Мне как раз очень бы хотелось знать, какие именно она оставила…
– Как ты мне осточертел, – сказал Монти, но сел, не порываясь больше уходить.
Впервые после смерти Софи он говорил с человеком, который знал ее и любил. Была еще мать Софи, но у нее хватало своих забот, она даже не приехала на похороны. Ему хотелось говорить с Эдгаром, и в то же время он понимал, что делать этого не нужно. Когда все кончилось, ушло безвозвратно, какой смысл обмениваться бездарными репликами с жалким призраком из прошлого?
– Она отвечала на твои письма? – спросил он Эдгара.
– Так она не рассказывала?.. Чаще всего нет. Могла иногда черкнуть пару строк. Но ты ведь тоже на мои письма не отвечал. Ты хоть сохранил их?
– Я? Твои письма? Нет, конечно. Вообще не помню, чтобы я их получал. Мне каждую неделю приходят сотни писем. Секретарша ссыпает их в мешок и уносит.
Секретаршу он тоже давно рассчитал, и письма теперь накапливались в холле, в ящиках из-под чая. Правда, Харриет предлагала ему свои услуги, говорила, что с удовольствием все разберет.
– Да нет, ты должен помнить! – настаивал Эдгар. – Я писал тебе такие длинные письма – про Калифорнию, про местную фауну, про все… Тебе наверняка было интересно. А про морских выдр помнишь?
Монти не помнил.
– Помню. Но ты такой же зануда, как раньше.
– Ты тоже не очень изменился. По-моему, у нас и разговор складывается, как раньше. Я налью себе еще виски, ладно? Без него у меня теперь никакое общение не идет.
– Что это за ужин, с которого ты вчера сорвался?
– Званый ужин Общества латинской литургии.
– Кстати, поздравляю с новым назначением. Я читал в «Таймс».
– Спасибо, – сказал Эдгар, глотнув виски. – Вот уж не думал, что когда-нибудь выбьюсь в начальники. Шутка сказать, целый оксфордский колледж! Ну я и не удержался. Хотя потом наверняка буду жалеть, что взялся, – это же время, отнятое от настоящей работы. Господи, какое длинное письмо я написал об этом Софи.
– А я думал, ты навсегда обосновался в Калифорнии.
– Я сам так думал. Это рай для гедонистов, просто жуть что такое… Представь, я там чувствовал себя совершенно… свободно, будто без тормозов. Говорят, все англичане так реагируют на Америку. Про это я тоже писал Софи в письмах. Что я там развратился – не в смысле женщин, конечно…
– Конечно.
– Я ведь пуританин. Я вообще самый несчастный мужчина в Северном полушарии, сперма скоро из ушей потечет… Боже, что я такое несу, будто ничего не случилось… А она… Слава богу, что есть виски. Раньше, без спиртного, я не знал, куда себя деть. А теперь всегда хожу немного подшофе, никто даже не замечает… Надеюсь, не замечает. А протрезвел бы – наверное, волком бы выл… Знаешь, я все время добавляю по чуть-чуть – так и хожу. Хмель для меня как хороший крепкий мост под ногами. Он один меня и держит, без него давно бы уже бултыхнулся головой в омут. Чуть что – стаканчик, и все опять тип-топ. И с работой сразу полный порядок. Боже, какое я ничтожество, какой неудачник… И об этом я тоже писал Софи.
– Представляю, каково ей было все это читать, – сказал Монти. – Непонятно только, зачем ты прибедняешься. «Неудачник». Ты, конечно, всегда любил заблуждаться на свой счет, но теперь-то – ученый с мировым именем, член Королевской академии, ректор колледжа в Оксфорде…
– А я ведь был учеником Бизли! Как вспомню, хочется забиться под ковер и сдохнуть со стыда. Нет, я совершенный ноль, до тебя мне…
– Я-то при чем? Всего-навсего неудавшийся романист.
– Удел художника – лучший из всех возможных, – изрек Эдгар обслюнявленными устами и озабоченно заглянул в свой стакан. – Да, самый лучший. Эх, был бы я писателем! Ну, в общем, ты знаешь, что я имею в виду.
Монти, как ни странно, знал.
– Просто ты лучше меня, – сказал Эдгар. – Всегда был лучше. За то и получил Софи. Ты ее заслуживал – и ты ее получил. О господи!.. Она же умерла. Господи. У тебя есть стержень, вот что. А у меня нет. Я мягкий, весь мягкий, насквозь. Так ничего и не смог в жизни сделать по-мужски. Может, я дебил? Точно, дебил. Я, знаешь ли, как увижу в человеке силу, благородство или что-нибудь этакое – аж лопаюсь от злости. А в тебе вижу и не лопаюсь. Это потому, что в колледже ты был моим кумиром. А помнишь, как ты был у нас «консулом»? А еще помнишь: «Принц, чей оракул находится в Дельфах…» Сколько историй понасочиняли, сотворили целую собственную мифологию, а в центре непременно ты, всегда ты. В юности мы все выбираем себе кумира – и на всю жизнь. Ты мой кумир.
– Чушь собачья, – сказал Монти. – Хотя, раз уж ты сам признал себя дебилом, мне остается только согласиться. Думаю, если что в моей персоне и внушает тебе восхищение, то наверняка именно то, чего сам я просто не выношу.
– Дело не в том, что ты такой «роковой» – помнишь, все называли тебя «роковым юношей»… Во всяком случае, не только в этом. Главное – в тебе есть стержень. Ты можешь думать, можешь придумать что-то новое. Как, кстати, твой Мило Фейн – пишется?
– Нет.
– Знаешь, меня еще ни одна женщина по-настоящему не любила.
– Tiens[7].
– Хотя что удивляться, меня же всегда тянуло к тем, кому я был не нужен. Я абсолютный чемпион неразделенной любви. И с Софи получилось то же самое – с ней как раз хуже всего… О боже. Представляю, что ты сейчас обо мне думаешь…
– Ничего не думаю. Вспоминаю, как мы тебя называли в колледже: Розочка, – сказал Монти.
Эдгар действительно мало изменился. «Дружба со змием», если она вообще была, внешне ни в чем пока не проявилась. Пухлое, равномерно розовое толстогубое лицо по-прежнему поражало младенческой гладкостью. Оставленный годами след был так щадящ, что было даже не совсем понятно, по каким признакам в обладателе этого лица сразу угадывался человек средних лет, а не желторотый студент.
– Да, Розочка, точно. Это ведь ты придумал, да? Но ничего, мне нравилось. Ты вообще тогда ко мне хорошо относился. У меня сохранились все твои письма, еще с тех времен. И письма Софи тоже. Их немного, правда. Я как-нибудь все тебе покажу, хочешь?
– Нет.
– Плесну себе еще, ладно? Знаешь, у меня сейчас такое потрясающее чувство, будто у нас с тобой все как раньше. Помнишь, сколько было говорено о женщинах – хотя ни у кого из нас их тогда еще не было. Как ты однажды сказал: «Laissons les jolies femmes aux hommes sans imagination»[8], помнишь?
– Нет.
– Говорили, говорили – ночи напролет. Женщины, философия… Из-за чего мы там больше всего копья ломали? Ага: «Утверждение о том, что полное избавление от страданий есть благо, не имеет под собой основания».
– Эдгар, тебе пора.
– Да, вот так всегда было в нашей дружбе: я что-нибудь тебе скажу, а ты в ответ – шарах!.. Как ракеткой по волану. Про волан я как-то писал тебе в письме. Я храню все твои письма – а ты? Ах да, ты же говорил, что ты нет…
– Уйдешь ты наконец? – сказал Монти. – Нет никакой дружбы. Припоминаю, раз уж ты сам об этом заговорил, у тебя была когда-то нацеленность на великую интеллектуально-чувственную дружбу между нами – со всякими там устремлениями, ссорами и примирениями, с умными письмами. Только на самом деле ничего этого не было, одни твои фантазии. После окончания колледжа нас уже ничто не связывало. Разве что Софи – но она, как видишь, умерла.
– Как спокойно ты это говоришь… Так, будто принял ее смерть.
– Разумеется, я принял ее смерть. Я вообще имею привычку принимать факты.
– Ну да, ты всегда считал сантименты пошлостью. О господи… Знаешь, я пока летел домой, в Англию, всю дорогу думал, что скоро ее увижу. Просто увижу – а чтобы она мне что-то сказала, такого даже в мыслях не было. Только бы сидел и смотрел на нее, как собака. От радости, что увижу ее, мне чуть дурно не становилось. Она хоть говорила обо мне что-нибудь?
– Изредка.
– И что говорила?
– Так, посмеивалась.
– А… Ну и ладно… Я рад… Хоть позабавил ее, и то хорошо. Вот так я летел домой – и чувствовал…
– Домой – это в тот большой дом, ваше фамильное гнездо? Забыл, как называется…
Но, еще не успев договорить, Монти вспомнил.
– Мокингем. Да, это по-прежнему наш дом. Правда, с тех пор, как мама умерла, заниматься им некому – сестра у меня, как ты знаешь, уехала в Канаду. Но теперь, надеюсь, я сам смогу там жить время от времени, всего-то двадцать миль от Оксфорда. Помнишь Мокингем?
– Да.
Монти особенно хорошо помнил свой самый первый приезд. Он тогда впервые оказался в настоящем большом деревенском доме со строгим распорядком и многочисленными ритуалами. Дом произвел на него впечатление, и Монти приложил немало стараний, чтобы скрыть это от Эдгара.
– Помнишь, как ты фраппировал мою маму тем, что не ходил вместе со всеми в церковь?
– А ты все такой же благочестивый молельщик?
– Вроде того. Во что верую – сам не знаю, но молюсь, молюсь. Без молитвы давно бы уже отправился к чертям собачьим… С молитвой выходит то же самое, но хотя бы не так быстро. Монти, хочу спросить тебя насчет той пленки, что ты слушал… Ты не мог бы…
– Нет.
– Ну не сейчас, когда-нибудь после?
– Нет. Будь добр, уйди наконец. Я хочу спать.
– Прости… Не сердись на меня, Монти.
– Я не сержусь. Я хочу, чтобы ты ушел.
– Я приду к тебе завтра.
– Завтра уже наступило. И приходить ко мне не надо.
Монти встал, раздвинул шторы и распахнул ставни. Солнечный свет сразу же заполнил маленькую гостиную, переливчато-синяя плитка в глубине ниши заиграла голубыми искрами.
– Ну, сегодня вечером?
– Нет.
– А когда?
– Послушай, Эдгар, я рад, что мы встретились, – но встретились, и все, хватит. Как видишь, нам нечего друг другу сказать – если, конечно, не считать разговором это нытье по Софи. У меня нет желания тебя видеть, и я не верю, чтобы ты так уж хотел видеть меня. Буду в Оксфорде – может, загляну. Хотя я там не бываю. Так что прощай.
– Но как же… Но, Монти… – бормотал Эдгар, вставая.
– Иди, иди… Подожди, возьми вот это. – Монти обернулся и снял с каминной полки фарфоровую коулпортскую[9] кружку, расписанную красными розами. – На, забери. Это не подарок. Я просто хочу, чтобы от этого дома поскорее ничего не осталось, как от Аладдинова дворца. Выдаю что-нибудь всем, кто приходит, чтобы унесли с собой.
– О, спасибо… какая красивая… Поставлю ее в своей комнате в Оксфорде. Скажи, Монти, а ты не мог бы – ну, не сейчас, конечно, потом, когда все немного уляжется, – не мог бы ты дать мне что-нибудь из вещей Софи?
– Нет.
– Что угодно, любую мелочь, хоть туфельку…
– Нет!
– Монти, ты пошутил насчет того, чтобы я завтра не приходил, да? Я должен тебя видеть, должен говорить о ней, иначе я сойду с ума. Ты, может, уже привык к мысли, но я-то нет…
– Уходи, – сказал Монти. – Я не хочу тебя видеть. Не хочу. Ты понял меня? Уходи. Пожалуйста.
Он первым вышел из гостиной.
Эдгар побрел за ним, но посреди холла остановился и застыл. Руки его висели вдоль тела как плети, только одна плеть заканчивалась почему-то фарфоровой кружкой. Неожиданно он тихонько заскулил, и тут же все его тело затряслось от рыданий. Лицо из розового вмиг сделалось красным и мокрым от слез. «Невыносимо… невыносимо», – повторял он и продолжал беззвучно трястись, глядя в пол, не вытирая слез.
С минуту Монти разглядывал его, потом прошел вперед и распахнул наружную дверь. Птичий щебет ворвался в дом. Эдгар наконец двинулся к выходу. Все еще плача, он обдал Монти крепким запахом виски и удалился.
Монти поднялся к себе в спальню, снова задернул окно и лег. «Только что Эдгар при мне обливался слезами, – думал он. – Вдруг это поможет, вдруг мои глаза тоже увлажнятся?» Он с надеждой прислушался, но ничего не услышал. Сердце билось ровно и тяжело, голова болела, сон не шел. Было около шести.
– Блейз уехал в город, – сообщила Харриет. – У него сегодня Магнус Боулз.
– А, – сказал Монти.
Он встал и бесцельно подошел к окну. Маленькая мавританская гостиная была пронизана пыльноватым вечерним солнцем, от которого бирюзовые уточки на синих плитках вспыхивали, как драгоценные каменья, а серо-шафранные листья чечевицы светились внутренним жемчужным светом. Харриет, с растрепавшимися шелковистыми каштановыми волосами, в бледно-лиловом платье, восседала на пурпурном диване под балдахином среди пурпурных же лоскутных – шерсть плюс шелк – подушек, как гаремная красавица, мечта султана. Из окна в снотворный воздух гостиной благовониями вливались ароматы сада, тяжелые и лишенные свежести. От голода, от духоты ли Монти немного мутило. Харриет принесла с собой большую шоколадную рыбу в серебристо-розовой бумажной обертке, и теперь эта рыбина (возможно, лосось) лежала на низком столике рядом с пустым стаканом Эдгара. Было снова около шести.
Утром пришло очередное письмо от миссис Смолл, которая, к счастью, пока еще пребывала в Хокхерсте.
Мой милый мальчик!
Думаю о тебе постоянно и приеду уже совсем скоро. О, как мне хочется принять твои муки на себя – пусть тепло моей любви поможет тебе перенести выпавшее на твою долю испытание. Называй это наитием, телепатией или как угодно, но я ощущаю, как сильно ты страдаешь. Мы с тобой всегда были так близки и сердцем понимали друг друга. С какой радостью я бы забрала себе всю твою боль! Увы, это невозможно, но я могу хотя бы разделить ее с тобой. Постарайся обрести покой, мальчик мой, впусти его в свою душу. Я, разумеется, не говорю о смирении, оно было чуждо тебе всегда. Все эти разговоры о «воле Господней» – жалкие утехи для слабых духом, нам с тобой они ни к чему. Покой – вот что тебе сейчас нужно. Не поддавайся своему горю, тогда оно не сломит тебя. И прошу тебя, милый мой, не забывай принимать лекарства, которые назначил тебе доктор. Я так рада была получить от тебя весточку, пусть даже такую коротенькую. В ближайшее время я обязательно тебе позвоню. Я уже пыталась во вторник, но не дозвонилась, – наверное, ты прогуливался по саду. Не решай никаких имущественных вопросов до нашей с тобой встречи – ты сейчас не в таком состоянии. Обо всем этом мы с тобой подумаем вместе, когда я приеду. С нетерпением жду того момента, когда мы сможем наконец обстоятельно все обсудить. Принимая решения, ты сам почувствуешь, что прошло время, а время, как ты знаешь, лечит. Тебе полезно будет переключиться на самые простые практические дела – но не пытайся заниматься ими один, без меня. Главное для нас сейчас, чтобы ты снова мог писать. Вот увидишь, как только вы с Мило двинетесь дальше, тебе сразу станет легче! Мы с тобой вместе решим, как лучше устроить твое будущее, как быть с Локеттсом, так что не забивай себе голову этими нелегкими вопросами до моего приезда. За меня не волнуйся, милый. Твоя мамочка не унывает, у нее полно разных забот. Знаешь, я только что купила себе новое платье! Оно такого прекрасного василькового цвета, уверена, что тебе понравится. Сердце мое рвется к тебе, мой мальчик! Пока же посылаю тебе это письмо как быстрокрылую птичку моей любви. Думаю о тебе всегда, всегда. Знай, что в тот момент, когда ты читаешь эти строки, я тоже думаю о тебе.
Вечно любящая тебя
Лиони.Харриет наблюдала за Монти, гадая, о чем он думает. Между тем мысли его были не о матери. Телефонные звонки Лиони не очень его беспокоили: некоторое время назад он при помощи обрывка проволоки так удачно усовершенствовал звонок своего аппарата, что тот не издавал уже никаких звуков. Монти думал о том, что нужно уничтожить проклятую пленку. Утром он снова ее слушал.
Сегодня Харриет была в Национальной галерее. Такие вылазки устраивались обычно в дни Магнуса Боулза. После обеда Блейз брал ее с собой в город, высаживал у галереи или у какой-нибудь художественной выставки, а сам отправлялся в библиотеку Британского музея – работать в читальном зале. Вечером он ехал к Магнусу Боулзу, который жил где-то в южном пригороде, а Харриет возвращалась домой на автобусе или на поезде. Водить машину она так и не научилась.
В галерее с ней произошла странная вещь. Пока она стояла перед картиной Джорджоне, ею все сильнее овладевало какое-то странное беспокойство. На картине были изображены святой Антоний и святой Георгий, а на заднем плане, в самой середине, – дерево, которого Харриет раньше не видела. Точнее, конечно, видела, потому что много раз смотрела на эту картину. Но она никогда не замечала всей его значимости – хотя в чем была эта значимость, она не взялась бы объяснить. Дерево стояло среди такой ясной, сияющей темноты, среди такого прозрачного душного желтого воздуха, и вокруг него и за ним не было ничего, кроме кучки клубящихся вдали облаков. Загадочным образом объединяя двух святых, дерево в то же время разделяло их, но при этом оставалось само собой и не имело к ним вовсе никакого отношения – непостижимо хрупкое и поэтичное, дрожащее и неподвижное, такое особенное в этот особенный вечер, когда двое святых (какое совпадение) оказались вдруг в одной и той же полосе мрачноватого, но яркого света (откуда бы он мог падать?) и отдельно друг от друга (не замечая друг друга) занимаются каждый своим делом: святой Антоний поджидает двух маленьких мирных – видимо, ручных – бесов, которые робко выползают к нему из радостно искрящегося пруда, а чуть поодаль святой Георгий в жемчужно-серебристом шлеме наседает на такого же ручного и маленького безобидного дракончика.
Дерево так загипнотизировало Харриет, что она не могла от него оторваться. Она не раз пыталась уйти, делала несколько шагов, потом снова бросала взгляд через плечо и возвращалась, будто картина содержала в себе некое чрезвычайно важное лично для нее послание, а она все не могла его уловить. Возможно, дело было в гении Джорджоне, который умел сказать что-то страшно определенное, но сказать так, что вся определенность терялась и тонула где-то в недрах созданного им совершенства формы. Это тревожное неудержимое желание оглянуться Харриет помнила еще с юности, с тех времен, когда ее возили в Лувр, Уффици и в Галерею Академии в Венеции. Последний день перед отъездом, последние минуты перед закрытием, вообще последние минуты любого дня были окрашены для нее пронзительным чувством неотвратимой разлуки и таким же пронзительным беспокойством: она силилась и не могла разгадать какую-то мысль – важную, но всегда слишком невнятную. Однако в последние годы Харриет не бывала в заграничных музеях (Блейз не интересовался картинами), и «синдром оглядывания» давно уже не давал о себе знать. Отчего же опять, именно сейчас, здесь, перед этой картиной? Нет ли тут тайного смысла? Уже несколько раз она удалялась, твердо решив про себя не оборачиваться, – и оборачивалась. Нет, это смешно, думала она, ведь Джорджоне свой, родной, лондонский, к нему можно вернуться в любой момент и смотреть на него сколько угодно. Она даже собиралась рассказать обо всем Монти, но, пока ехала из Лондона домой, впечатление рассеялось, и эпизод уже не казался таким значительным. Рассказывать же Блейзу было по меньшей мере глупо. Он, как всегда, начал бы ей объяснять, каким образом все это связано с сексом.
«Как быстро я привязываюсь к людям, – думала Харриет, разглядывая стоявшего в профиль Монти. – Какой у него правильный нос: такому носу любая красавица была бы рада. И весь он такой правильный, ладный, аккуратный, для мужчины это редкость». У Харриет не было собственного абстрактного мира, кроме разве что мира картин, но картины были для нее «бессловесным», то есть не выразимым словами опытом. «С ними все совсем иначе, – думала она, – с ними я будто где-то „там“, в каком-то отдельном пространстве, будто я уже не я. А на Монти я смотрю здесь, а не „там“ и при этом чувствую себя даже больше собой, чем всегда, будто только что осознала, кто я такая. Как странно: я и картины люблю, и Монти люблю, но так по-разному».
У Монти было всегда одно и то же лицо, лицо созерцателя. У Блейза, наоборот, выражения вечно перетекали одно в другое – смеющееся, сердитое, задумчивое: будто у его лица не было собственной поверхности и из-за этого оно каждый раз становилось частью того, к чему было в данный момент обращено. У Блейза лицо жило; у Монти подсматривало за жизнью – не только глаза, все лицо, казалось Харриет. Лишь изредка оно оживлялось гримасой удивления или озадаченности, а с того времени, как Софи заболела, почти совсем не оживлялось. Иногда он улыбался Харриет бледноватой бесцветной улыбкой, но это было жалкое подобие его прежней, настоящей улыбки. Харриет любила Монти – конечно, не как женщина мужчину, а так, как она любила почти всех, кого имела возможность любить; может быть, чуть-чуть больше, ведь он всегда казался ей очень умным – и очень несчастным. Та, о которой он так скорбит, разбила ему жизнь, думала Харриет.
Монти, со своей стороны, охотно обошелся бы без этих встреч с Харриет. Он просто из вежливости позволял ей приходить и изливать на него безудержные эмоции. И еще потому, что это было так явно нужно ей самой – чувствовать, что она помогает ему, чувствовать вкус его горя. И он продолжал принимать ее и улыбаться ей бледной и жалкой, как она правильно определила, улыбкой, вяло ощущая при этом, что отбывает повинность. Но надо отдать ей должное, она не раздражала его, как наверняка раздражала бы миссис Смолл. Харриет умела молчать, и, хотя ей очень хотелось к нему прикоснуться (взять за руку, например), она все же вела себя достаточно тактично и, после того как он отстранялся, уже не настаивала. От нее – в отличие от матери Монти и в отличие от Софи – исходило физическое ощущение покоя.
«Какой он ужасно аккуратный, – думала Харриет, – и как мне весь день хотелось его видеть. Даже сейчас он надел свежую рубашку, галстук и эти красивые запонки – наверняка нарочно выбрал к моему приходу, раньше я ни разу их не видела. Как он чисто выбрит, с ума сойти, и весь он такой чистый, даже под ногтями вычищено, не то что у Блейза. У Монти ведь отец был священник – возможно, в этом все дело. Он и сам ужасно похож на священника. Странно, он кажется таким маленьким и изящным, хотя на самом деле рост у него вполне приличный. Наверное, это по сравнению с Блейзом, с его чисто мужской неряшливостью».
– Монти, не надо так убиваться, – сказала она, просто чтобы что-то сказать. – Она прожила счастливую жизнь.
– Харриет, умоляю тебя, не говори ерунды. Откуда ты можешь знать, счастливую жизнь прожила Софи или нет. Я сам этого не знаю. Да и какая теперь разница?
– Мне всегда казалось, что Софи…
– Харриет!
Она все время пыталась вывести его на разговор о Софи, ей хотелось слышать, как он снова и снова переживает свою утрату, хотелось – неосознанно, разумеется, – восторжествовать над Софи. Любая женщина торжествует, когда мужчина теряет свою партнершу. В известном смысле Харриет претендовала на освободившееся место. Это не слишком задевало Монти, поскольку было вполне естественно.
– Ты хоть что-нибудь ешь? Что-то у тебя на кухне подозрительно чисто.
– Я питаюсь консервами.
– Может, все-таки разрешишь мне разобрать твои письма?
– Письма от матери я просматриваю, остальные меня не интересуют.
– Но есть же, наверное, письма от друзей…
– У меня нет друзей.
– Ну что ты такое говоришь!
Правду, подумал Монти. Софи удалось избавить его от друзей.
– Монти, я твой друг – пожалуйста, помни это.
– Спасибо, буду помнить.
– Ах, Монти, ну зачем ты так. Лучше разрыдайся… Но не держи все в себе, не притворяйся, будто тебе все равно! Так ты делаешь себе только хуже.
– Женщины всегда мечтают, чтобы мужчины рыдали, а они бы их успокаивали, – заметил Монти. – Уверяю тебя, мне и без рыданий достаточно паршиво. И кстати, я и так веду себя не по-мужски. Будь у меня необходимость ходить каждый день в присутствие, давно бы пришлось взять себя в руки. Но я, как видишь, сам себе хозяин, могу хоть целыми днями предаваться скорби. Это дурно и недостойно. Не мне одному довелось потерять близкого человека, но что ж поделаешь, это как болезнь, как грипп – все равно надо жить. Даже Ниоба отвлекалась иногда от своего горя, чтобы утолить голод.
– Не вини себя так…
– Я и не виню. Я давно уже перестал делить людей на правых и виноватых, мое восприятие чисто эстетическое. Так вот, чисто эстетически – я веду себя как тряпка.
Поднявшись, Харриет подошла к окну и встала рядом с Монти. Под самым окном бабочка с белыми обтрепанными крылышками сражалась с легким вечерним ветерком, пытаясь примоститься на лиловую кисть глицинии. Монти и Харриет молча следили за неравной борьбой. Чуть дальше на газоне три собаки из эскорта Харриет поджидали свою хозяйку, чтобы отвести ее домой – через калитку, как и привели. Из всех собак только Аякс мог перемахнуть через забор фруктового сада, и то Харриет каждый раз опасалась за его мужской орган. Панда и Бабуин, неразлучные друзья, играли в любимую игру: по очереди заваливались на травку, как бы предлагая себя обнюхать, но в самый неожиданный момент вскакивали. Ближе к окну лежал Ганимед в излюбленной позе коврика: морда на земле, все четыре лапы вытянуты; при виде Харриет он несколько раз лениво махнул хвостом.
– Собаки, как правило, стайные животные, только привязанность к хозяину может приглушить их природные инстинкты. Но в твоих, по-моему, сочетается и то и другое.
Рука Харриет отыскала руку Монти и сжала ее бережно, но крепко, как хорошая охотничья собака сжимает челюстями подбитую дичь. Монти улыбнулся слабой, болезненной улыбкой, легонько пожал назойливую руку и отошел от окна. От нежеланного прикосновения его чуть не передернуло. Его плоть скорбела. Харриет вздохнула.
Убирайся, убирайся, думал Монти.
– Харриет, дорогая, думаю, тебе уже пора домой, – сказал он вслух.
– Да-да, конечно. А может, попробуем нашу шоколадную рыбку? Ну, хоть по кусочку?
– Она, наверное, растаяла, – сказал Монти и принялся сдирать обертку, серебристо-розовую сверху, светло-коричневую и липкую изнутри.
– Да нет же, видишь?
Рыба лежала на растерзанной обертке голая и лупоглазая, немного расплывшаяся, но вполне целая. Харриет торопливо оторвала рыбий хвост и отправила себе в рот, пальцы облизнула. Монти подобрал липкий обломок молочного шоколада и сделал вид, что тоже ест. Пальцы вытер свежевыстиранным (не ускользнуло от Харриет) носовым платком.
– А можно спросить тебя еще кое о чем – прямо, без околичностей? – сказала Харриет. – Ты ведь знаешь планы Блейза насчет учебы. Так вот, если мы все-таки решимся и если нам понадобятся деньги, ты не сможешь дать нам взаймы?
– Да-да, конечно.
– А если ты вдруг надумаешь уехать из Локеттса – то есть мы, конечно, надеемся, что этого не случится, но вдруг, – мы не могли бы надеяться, что ты продашь нам сад? Ты ведь знаешь, Блейз всегда о нем мечтал.
– Да, конечно.
– Я понимаю, что это нелепо – просить сразу о том и о другом. Возможно, нам еще даже придется продать Худ-хаус.
– Ради бога, Харриет, зачем вам продавать Худ-хаус? С деньгами все можно уладить.
– Спасибо, Монти, ты такой замечательный. Да, да, уже ухожу. И пожалуйста, поговори с Дэвидом насчет того, чтобы он не бросал греческий, хорошо? Он очень к тебе привязан.
– Это у нас взаимно.
– Как я тебе благодарна, Монти. Я возьму еще кусочек рыбки?
– Это я тебе благодарен. Постой минутку, Харриет, прихвати вот это.
Монти взял большую синюю с белым китайскую вазу со столика в холле и всучил ее Харриет.
– Монти, ну ты что, нельзя же раздавать абсолютно все! Что скажет твоя мама, когда приедет? Такая вазища, а в прошлый раз ты мне отдал то персидское блюдо!..
– Видимая картина медленно распадается на куски, обнаруживая скрытую за ней действительность.
– Не понимаю, что ты такое говоришь!.. Да ты и сам, по-моему, не понимаешь.
Входная дверь отворилась, за ней обнаружился обширный палисадник, где на фоне серой плитки зеленели маленькие островки вероники, лаванды, розмарина, иссопа, сантолины и шалфея; на плитку ложился предзакатный узор из их вытянутых теней. Все три собаки выскочили из-за угла дома и теперь радостно метались между кустиками, задирая лапу над каждым, но почти не задерживаясь, словно участники собачьего состязания «кто быстрей пометит». В центре картины, на полпути от калитки к крыльцу, обнаружился также Эдгар Демарнэй, уже в светло-коричневом летнем костюме и непомерно большом зеленом галстуке. Его бледные младенческие волосы были тщательно прилизаны, в руке он нес соломенную шляпу.
Харриет, только что шагнувшая через порог, посторонилась, чтобы пропустить Эдгара. Эдгар, дойдя до порога, тоже отступил в сторону, прижал шляпу к груди и поклонился сначала Харриет, потом Монти.
– Профессор Демарнэй, миссис Гавендер, – буркнул Монти.
– Собственно, уже не профессор, – не сводя глаз с Харриет, пробормотал Эдгар.
– Спасибо, Харриет. Доброй ночи.
Харриет двинулась к калитке.
Эдгар начал что-то говорить, но Монти не слушал.
– Извини, – тихо сказал он, – но я не шутил. Я действительно не хочу тебя видеть. И слышать тоже. До свидания.
Дверь у Эдгара перед носом захлопнулась.
В гостиную Монти вернулся расстроенный и злой на самого себя. Только сейчас он понял, что совершил непростительную ошибку. Надо было задержать Эдгара, дождаться, пока Харриет уйдет. Он же, по собственной глупости, практически толкнул их друг другу в объятия. Чертыхаясь про себя, он прокрался в столовую, чтобы из-за оконной шторы проследить за развитием событий в палисаднике.
Харриет и Эдгар стояли у калитки, увлеченные разговором. Харриет, как младенца, прижимала к груди большую китайскую вазу. Кретин, какой кретин, ругал себя Монти. Стоп. Получается, что он сам имеет какие-то виды на Харриет? Получается, что так. Но хуже всего, что Эдгар теперь начнет слоняться здесь – Эдгар, олицетворяющий для Монти самую темную и ненавистную сторону жизни Софи. Чего стоят одни эти его бессчетные письма с телефонными номерами! Харриет наверняка проникнется жалостью к Эдгару – с ним ведь так неучтиво обошлись. Ей, как всякой женщине, надо во все влезть, до всего докопаться. Она начнет расспрашивать Эдгара, он выложит все как на духу. У Эдгара появится здесь зацепка – да что зацепка, плацдарм. Эдгар вернется. О, кретин, кретин!..
Эдгар и Харриет вместе неторопливо двинулись в сторону Худ-хауса.
Вернувшись в гостиную, Монти завернул бесхвостую шоколадную рыбину в старую «Таймс» и отнес в мусорное ведро, потом через гостиную вышел на газон перед домом. Воздух был пропитан бархатным вечерним светом, все контуры проступали с особенной, как всегда перед наступлением темноты, четкостью. В неподвижной светло-зеленой листве бирючины высвистывал пронзительную трель зяблик, на деревьях по очереди солировали два черных дрозда и один певчий. Остальные исполнители с нарочитым равнодушием чирикали что-то неразборчивое, создавая общий фон, как оркестр во время настройки. Монти пребывал в раздражении – точнее, он отчаянно и бездарно злился на все и вся. Разговор о купле-продаже сада взбесил его. Инициатором, конечно, был Блейз, не Харриет. Да, типичный Блейз, хамоватый и ненасытный эгоист, которому подавай сразу и то и это. Сворачивая на тропинку сада, Монти чуть не столкнулся с большим черным зверем, лениво трусившим навстречу. Аякс. Монти относился к Аяксу с некоторой опаской, во всяком случае желания «погладить собачку» у него никогда не возникало. «Пшел вон», – буркнул он псу мимоходом; послышалось угрожающее ворчание. Монти, не оборачиваясь, углубился в сад. Он шел по выстриженной тропинке, над которой по обе стороны нависала высокая, тяжелая от росы трава. Штанины тут же промокли, потяжелели. Дойдя до забора, он остановился. Харриет, чего доброго, пригласит Эдгара и в дом. Или не пригласит?
За забором, под самой акацией, обозначился чей-то тонкий силуэт. Дэвид, догадался Монти, но не стал его звать. Дэвид стоял под акацией, безвольно уронив руки и запрокинув голову, и смотрел наверх, в крону дерева. Наконец он медленно побрел к дому, волоча ноги, оставляя в росистой траве длинные смазанные следы. В каждом его движении сквозила слегка стыдливая, слегка наигранная юношеская тоска. Бедный Дэвид, подумал Монти, молча глядя ему вслед, бедный мальчик Дэвид. Где-то залилась лаем собака, потом еще одна. Худ-хаус стоял молчаливый и неприступный, скрывая свои тайны.
Монти отвернулся и пошел обратно. Софи уговаривала его соорудить деревянную площадку в кроне одного дерева в саду, чтобы туда можно было подняться и посидеть вечером с бокалом вина. Не уговорила. Он сказал, что это глупая затея.
Он бросился ничком в высокую мокрую траву.
Эмили Макхью давно уже жалела о том, что успела слишком много порассказать о себе Констанс Пинн. А теперь еще сдала ей комнату. Спрашивается, с какой стати? Может, Пинн ее загипнотизировала? Бывшая приходящая уборщица стала квартиранткой, теперь от нее ничего нельзя было скрыть. Как и раньше. Правда, на нее можно было оставить Люку, что в свое время позволило Эмили выйти на работу. Но работа кончилась, а Пинн осталась. История с работой была такая.
Эмили устроилась очень удачно: по соседству был дорогой пансион для девочек, куда ее взяли на несколько часов в неделю преподавать французский. Пансион был прогрессивной ориентации – «главное, чтобы ребенку было комфортно», – высоких планок никто никому не ставил. Девочек (как в свое время и их родительниц) явно готовили к жизни, полной развлечений. Юные леди ездили верхом, плавали, танцевали, фехтовали, играли в бридж и между делом почитывали что-то из социологии. Экзаменов не было. Иностранные языки считались предметом трудным и необязательным, и Эмили, которая во французском и прежде была не сильна, а в последние годы и вовсе потеряла интерес к языкам и вообще ко всему, держалась только на том, что ее ученицы больше любили «пообщаться», чем «поучиться», знаний же их никто не проверял. Словом, всем все было ясно, но по обоюдному молчаливому согласию уроки спокойно катились своим чередом. Пока наконец однажды не случилось то, чего Эмили больше всего боялась. В классе появилась Кики Сен-Луа, новая ученица, француженка.
Точнее, француженка она была нечистокровная. Ее отец-дипломат был наполовину француз, наполовину корнуоллец, мать – испанка из Андалусии. Кики одинаково бегло, хотя не всегда грамотно, говорила по-английски, по-французски и по-испански. Одна такая Кики может отравить жизнь любому учителю: любимица всего класса, красавица с развитыми не по летам формами, привыкшая верховодить, не привыкшая подчиняться и, хуже всего, умная. Эмили, хоть и сознавала опасность, поначалу почувствовала невольную симпатию к новой ученице – да что там, чуть не влюбилась в нее, даже надеялась в скором времени обратить ее в свою союзницу. Этот план с треском провалился. Оценив все преимущества своего положения, Кики не замедлила ими воспользоваться. Произношение Эмили вызывало у нее приступы буйного веселья, а скоро она к тому же научилась презабавно копировать ее английский акцент. Когда Эмили делала ошибки, что случалось теперь гораздо чаще, Кики поправляла ее с самым серьезным видом, будто она учительница, а Эмили ученица. Класс визжал от восторга. Поначалу Эмили просто злилась, но потом ей стало по-настоящему страшно. Она все чаще заигрывала со своими ученицами, шла на любые уступки. На дисциплину и порядок пришлось махнуть рукой. От «учебного процесса» не осталось даже видимости. Каждый новый урок оборачивался бенефисом Кики. Учителя соседних классов жаловались, что из-за шума невозможно работать. После нескольких предупреждений директриса, так и не разобравшись в ситуации (объяснять Эмили не решилась), попросила ее больше не выходить на работу. При всей унизительности ситуации Эмили все же почувствовала немалое облегчение: наконец-то кошмар кончился.
О том, чтобы утаить все это от Пинн, не могло быть и речи. Тем более что Пинн, с подачи самой Эмили, теперь подрабатывала в том же пансионе, занималась какими-то бумажками. По слухам, неплохо справлялась. Успехи подруги вызывали у Эмили смешанные чувства. Когда ее учительская карьера оборвалась так бесславно, она взяла Пинн в квартирантки – отчасти из материальных соображений, отчасти потому, что Пинн была ей полезна. Она лучше Эмили умела находить общий язык с Люкой. Она также гораздо лучше готовила, ей как будто даже нравилось возиться на кухне. С ней Эмили могла обсуждать самые странные подробности своей жизни, поскольку Пинн все равно была в них посвящена. И потом, она все-таки была подруга. Эмили не учла только одного, а именно что ей самой придется теперь все время терпеть эту посвященность. Впрочем, при всем своем нескрываемом любопытстве, Пинн вела себя на редкость тактично. С новой работой («Я теперь птица-секретарь», как она говорила) Пинн заметно изменилась, притом в лучшую сторону. У нее появились очки – последний писк – с узкими удлиненными стеклами, медно-рыжие волосы всегда были стильно подстрижены, даже ее платья выглядели так, будто были куплены в дорогом магазине. Дома она часто напевала себе под нос какой-нибудь бодрый мотивчик. Эмили, потеряв работу – а с момента ее увольнения прошел почти месяц, – ходила целыми днями в одних и тех же старых брюках и водолазке. Теперь у нее было меньше дел, но уставала она гораздо больше.
Люке было восемь. Слава богу, ночное недержание недавно кончилось. При рождении (крестить ребенка не стали) мальчика назвали Льюком, но со временем имя как-то само переделалось на итальянский манер. Люка был проблемой Эмили, ее тайной непреходящей болью. Когда он был совсем малышом, она любила его как одержимая, постоянно обнимала, тискала, трогала, ни на минуту не оставляла в покое. Так они и жили, вечно в обнимку, как два зверька в одной норе. Она и сейчас любила его не меньше, возможно, даже больше; но в какой-то момент, года два-три назад, с ним начало происходить странное. По мере пробуждения сознания в его глазах стало все чаще мелькать выражение озадаченности. Он стал отстраняться от матери и вырываться из ее объятий, не лепетал по-детски, как раньше, и плакал теперь гораздо реже. И главное – Эмили даже не смела об этом думать, так это было ужасно, – почти перестал с ней разговаривать. Иногда ей казалось, что он немой. Когда она о чем-то его спрашивала, он либо вообще не реагировал, либо объяснялся жестами. Но если вопрос задавала Пинн, он отвечал. И в школе, вероятно, тоже что-то говорил. Правда, в классе он был последним по успеваемости, но никто еще не объявил Эмили, что у нее ребенок с отклонениями или умственно отсталый.
Читать он до сих пор не научился – но в дрянной школе, куда он ходил, было полно нечитающих детей. Много времени, как и Эмили, проводил у телевизора. Они могли часами молча сидеть перед экраном, потом она тихонько поворачивала голову в его сторону и обнаруживала, что он смотрит на нее, а не в экран. «Ты что, Люка?» – но Люка вместо ответа отворачивался. Программы смотрели все подряд, без разбора, и Эмили понятия не имела, много ли он из них понимает. Сам он, естественно, никогда ей этого не говорил и почти никогда, даже во время детских передач, не смеялся и не улыбался. После школы он не играл с другими детьми; Эмили подозревала, что он их боится. Если она спрашивала, не хочет ли он пригласить на чай кого-нибудь из друзей, он отрицательно мотал головой – и все. Зато он всегда умел найти себе занятие и хотя бы в этом отношении не был «трудным» ребенком. Чем он занимался, когда они не смотрели телевизор? Этого Эмили не знала. На улице играл сам с собой, бывало, что исчезал надолго, потом появлялся. Дома много сидел у себя в комнате, за закрытой дверью, или подолгу возился с котами, которых в доме было два: рыжевато-персиковый с серыми разводами Ричардсон и Билхем или, в обиходе, Бильчик – маленький полосатый котик с белым брюшком и в белых носочках. Оба были кастрированы и потихоньку жирели. Люка подбирал одного из них и часами носил на руках. Ребенок питал явный интерес к миру насекомых, у него в комнате было даже что-то вроде зоопарка из жучков, паучков, мокриц и прочих букашек, которых он притаскивал с улицы и держал в маленьких коробочках. Спасибо, хоть не живодер уродился, думала Эмили.
Она не раз пыталась убедить Блейза съездить в школу и выяснить наконец, что там у Люки с учебой. «Тебя они не отфутболят, – говорила она. – Мне самой туда нечего даже соваться. Иди ты, пускай они увидят, что у ребенка есть настоящий отец, который ходит при галстуке и может нормально изъясняться». Блейз, однако, в школу не торопился. «Люка нормальный ребенок, – говорил он. – Будь что не так, нас бы давно известили». Конечно, Блейз беспокоился за свою, как он говорил, «безопасность» – и это было понятно. Но Эмили подозревала, что он просто боится: а вдруг окажется, что Люка все-таки не совсем нормальный ребенок? «Может, его надо лечить», – говорила Эмили. «Лечить – от чего?» – спрашивал Блейз. На самом деле в школе царила такая безалаберщина, что вряд ли даже хорошая учительница смогла бы вовремя распознать у своего ученика умственную отсталость. Тем более что вид у Люки был совершенно нормальный, даже приличный. Лицо с квадратным подбородком, как у Блейза, темные, почти черные волосы и синие, как у Эмили, глаза. С физическим здоровьем проблем не было, а в те минуты, когда он сосредоточенно следил за какой-нибудь мошкой или мокрицей, он вообще производил впечатление очень умного ребенка.
Эмили только что вышла из ванны. Она не страдала избытком чистоплотности, но в те дни, когда приходил Блейз, обязательно принимала ванну. Когда-то ему нравилось, чтобы она встречала его лежа в ванне. Потом этот маленький ритуал отпал, как и многие другие. Но все равно ей сейчас приятно было чувствовать себя чистой. От ее кожи исходил едва уловимый дух ароматической соли для ванны. Только изо рта пахло дурно – во всяком случае, так ей казалось, когда она пыталась принюхаться. Вчера дантист сказал ей, что надо удалить три коренных зуба, а на все передние надеть коронки. Придется ставить много мостов. И вся эта «коронация» выльется в сотню фунтов, а то и больше. Теперь надо как-то сообщить об этом Блейзу. А заодно поставить в известность обо всем, что пока от него скрывалось. Что Пинн теперь живет у них. Что с сентября плату за квартиру опять повышают. И еще – этого он пока тоже не знал – что ее уволили. Она решила сказать ему, что ушла с работы сама: во-первых, это казалось ей менее унизительным, а во-вторых, можно было использовать этот ход в интересах нескончаемой кампании, которую Эмили вела против своего возлюбленного.
Сейчас Эмили в замызганном стеганом халатишке сидела в кресле перед телевизором, на коленях у нее урчал Бильчик. Потягивая сладкий херес, она рассеянно следила за картинками на экране. Звук отключила Пинн: одетая в одну комбинацию, она сосредоточенно занималась своим маникюром тут же, в гостиной. Одно время Блейз, которому хотелось видеть Эмили при всех женских штучках, уговаривал ее тоже красить ногти. Но что ей тогда были какие-то ногти? А потом и ему стало все равно. Пинн уходила на работу после полудня, к пяти обычно возвращалась и сразу же начинала «чистить перышки»: по вечерам она часто куда-нибудь выбиралась. Эмили теперь никуда не выбиралась, сидела дома безвылазно. Поглядывая на подругу, которая в мерцающем свете телеэкрана трудилась над своими ногтями, Эмили думала: «Мы с ней как две проститутки в ожидании клиентов». Так себе шлюшки, конечно, не poules de luxe[10]. Когда-то Эмили воображала себя poule de luxe. Теперь об этом смешно было даже думать. Гостиная была насквозь пропитана духом нищеты, которая цеплялась к Эмили, как хворь, как симптом незаладившейся жизни. Есть люди, которым на роду написано быть нищими, – может, Эмили просто относилась к их числу. Раньше Пинн донимала ее рассказами о своем кошмарном детстве. У Эмили тоже было кошмарное детство, хотя она ни к кому не приставала с рассказами. Неудивительно, что и теперешняя ее квартира постепенно приобретала трущобный вид. Коты тоже вносили свою лепту. Ричардсон сейчас как раз точил когти о засаленную обивку ее кресла. Правильно, умница котик, мысленно похвалила Эмили. Так его, так! Зачем было когда-то платить Пинн за уборку квартиры? Теперь ее никто не убирал – и ничего.
Глядя на то, как Ричардсон гробит кресло, Эмили вспомнила свой сегодняшний сон. Во сне она содрала с кошки шкуру и снесла кошачью тушку в рыбный магазин. За прилавком стоял ее отчим. «Сюда клади», – буркнул он. Держа тушку за хвост, Эмили осторожно уложила ее на прилавок. Крови не было. Но неожиданно ей показалось, что кошка шевельнулась. «Живая еще», – сказал отчим. Не может быть, подумала Эмили. Бедненькая, как же она такое вытерпела! Да нет, не может она быть живой! Но кошка продолжала вздрагивать и извиваться. На этом месте Эмили проснулась. Сейчас она постаралась поскорее выкинуть гадкий сон из головы. Точно так же ей приходилось выкидывать из головы многое другое.
– Ты сегодня с кем? – спросила она Пинн.
– Что?
– С кем сегодня встречаешься?
У Пинн время от времени появлялись загадочные кавалеры.
– С Кики.
– Опять с Кики? – Кажется, у этой парочки завязывалась какая-то идиотская дружба. – С каких это пор ты так возлюбила Кики?
– Не Кики, а ее машину.
У Кики Сен-Луа был длинный желтый спортивный автомобиль.
– Только, пожалуйста, не таскай свою подружку сюда. Я и так сыта ею по горло.
Была еще одна причина, по которой Эмили не хотела видеть Кики в своей квартире, – Блейз. В последнее время в сердце Эмили поселился подлый страх: вдруг Блейз бросит ее, уйдет от нее к молоденькой? Мысль, конечно, нелепая, но такие мысли тоже цеплялись, как хворь.
– Не собираюсь я ее сюда таскать, с чего ты взяла? Мы встречаемся в кафе.
Слава богу, что в конце семестра Кики уезжает, подумала Эмили. Кики было семнадцать, хотя она обычно набавляла себе год.
– Ты разве не будешь для него готовить?
– Нет.
Когда-то Эмили к приходу Блейза готовила изысканные обеды. Теперь они часами пили, потом съедали наскоро какие-нибудь консервы из банки и укладывались в постель.
– Так я бы приготовила эту мясную запеканку, зря ты меня отговорила.
– А, не важно. – Когда-то она еще и наряжалась для него. Теперь же только надевала блузку поприличнее, все с теми же задрипанными брюками. – Налить тебе чего-нибудь, Пинн?
– Нет, спасибо.
Раньше Пинн всегда составляла ей компанию; собственно говоря, на этой почве они в свое время и сблизились. Пинн приходила заниматься уборкой, Эмили предлагала ей выпить – и начинались душевные излияния. Увы. Теперь Эмили пила все больше, а Пинн все меньше. Увы, увы. «Терпеть не могу пить одна», – говорила Эмили. Но приходилось терпеть.
Вошел Люка. Когда он появлялся, в комнате происходили какие-то космические изменения. Мгновенно менялось все – вплоть до атомов, до электронов. У Люки, видимо, был повышенный удельный вес. Или он вообще был существом какой-то страшно высокой концентрации. По мере того как он говорил все меньше, эта его концентрация – или плотность, или светонепроницаемость – все росла и росла. Он никогда не топал, ходил тихо, так что это ощущение тяжеловесности было чисто внутренним. Пинн, забыв про свои ногти, подняла голову и смотрела на него со сдержанным любопытством. Как многие бездетные женщины, она не любила детей; во всяком случае, никогда не говорила о Люке с приязнью. Что, однако, не мешало обоим демонстрировать чуть ли не полное взаимопонимание. Наверное, в ней просто не было этих жутких черных чувственных сгустков, душивших Эмили изнутри, – поэтому Люке легче было с Пинн, чем с матерью. В ответ на расспросы Эмили Пинн только пожимала плечами. «Как общаемся? – говорила она. – Да справляемся как-то».
Эмили тоже перевела взгляд на сына. Он прошел прямо к телевизору и включил звук на полную громкость.
– ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНЕН СЕРЬЕЗНЫЙ ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ УЩЕРБ…
– Люка! Не делай этого!
Значит, танцевальная программа кончилась, начались новости. Да, опять идиотское лицо ведущего. Расплескивая херес, Эмили наклонилась вперед и выключила телевизор. Комнатка маленькая, как чулан. Но во всем есть свои плюсы.
Люка, не обращая внимания на мать, прошел в угол и принялся рассматривать какую-то очередную букашку, которую держал на ладони.
– Люка, что у тебя там? Покажи маме.
Люка неторопливо проследовал мимо ее кресла и удалился. Дверь его комнаты тихо затворилась.
– О боже, – пробормотала Эмили.
– Он хочет змею, – сказала Пинн.
– Змею?
– Да. Хочет завести себе змею.
– Хочет – перехочет.
– Я раздвину занавески, не возражаешь?
– Возражаю. Лучше включи свет.
В последнее время Эмили почти все время держала окна занавешенными. Квартира подбиралась на первом этаже из-за котов – вернее, из-за Ричардсона, поскольку семь лет назад, когда Блейз перевозил сюда Эмили с Люкой, Бильчика не было еще и в помине. Окна выходили на темноватый дворик, заросший сорной травой: посадить на ее месте что-нибудь приличное никому в голову не приходило. Если кто и появлялся в этом дворике, то лишь затем, чтобы, постояв в оцепенении, снова удалиться. Во всяком случае, гулять здесь никто не гулял, даже дети выбирали себе другие места для игр. Многоквартирный дом, укрывший в своей сердцевине этот клочок запустения, располагался близ Ричмонд-роуд, в верхнем течении этой важнейшей магистрали. От шоссе, как от реки, денно и нощно докатывался волнами монотонный шум, но не успокаивал, как шум реки, а лишь нервировал. Дом, хоть и совсем еще новый, за короткий срок приобрел обшарпанный и неприглядный вид. Снаружи бетонные стены покрылись причудливыми пятнами всех цветов, внутри надо было пробираться по темному коридору между детскими колясками, велосипедами, сломанными крупногабаритными игрушками и кипами старых газет; над всем витал невыносимо гадкий, затхлый запах.
Пинн включила свет и теперь пришивала свежевыстиранный кружевной воротничок к своему «маленькому черному платью».
– Тебе не пора?
– Пора, пора, пора!
Пинн подскочила и с платьем в руке побежала к себе одеваться.
Вздохнув, Эмили отпила еще хереса. Провела языком по больным деснам. Обойдется без аспирина, херес помог. Пора и ей натягивать старые брюки и блузку из чесаного нейлона. А как она раньше любила одеваться для Блейза! Она одевалась – сначала туфли, естественно, потом все остальное, – он смотрел. Заставлял ее обряжаться в дорогие, ужасно неудобные шмотки. И обязательно приносил каждый раз какую-нибудь новую штуковину для забав – иногда она даже не знала, что это такое и что с ним надо делать. Как они хохотали, как потом разом умолкали. Тогда было здорово. А сейчас? Волнуется ли она по-прежнему перед его приходом? Да, чуть-чуть. И ей по-прежнему чуть-чуть страшно, но того особенного волнения, того трепета уже нет. Их вечные размолвки уже не вмещаются внутрь их большой любви, а выпирают наружу уродливыми ребрами, безжалостно обнажая убожество одинокого страдания. Все время приходится в чем-то признаваться: то накатит очередная, как Блейз говорил, «блажь», что с Люкой не все в порядке, то теперь квартплата, работа, эта сданная комната, эти зубы – эта проклятая жизнь, которая прет, не спрашивая. У Блейза сразу поскучнеет лицо. Теперь они все время ругаются. Каждый его приход – мука для Эмили. И для Люки тоже. Иногда она уже думала: лучше бы он вообще не приходил. Да, тоска и убожество пустили глубокие корни в ее душе. Порой она чувствовала себя такой несчастной, что хотелось просто лечь и отключиться, пусть не совсем умереть, но уснуть и не просыпаться несколько месяцев. Любой пустяк, любое досадное недоразумение тут же вырастало до размеров кошмара, и было бессмысленно жаль, что все так по-идиотски получилось. О, если бы, тысячу раз твердила себе Эмили, если бы она заставила его тогда порвать со своей разжиревшей супругой – девять лет назад, когда его можно было брать голыми руками, когда он был ее, Эмили, рабом! «Тогда, – думала она, – он сходил по мне с ума, ради меня он бы все послал к черту. Пригрози я, что уйду, он бы сделал что угодно. Вот и надо было ковать железо, пока горячо, а я пожалела. Захотелось быть добренькой, понимающей. Он попросил дать ему время – пожалуйста, я дала ему время. И вот что это время сделало со мной».
Блейз Гавендер вел свой «фольксваген» по Патнийскому мосту. Переезд через реку всегда был для него трудным моментом. Некоторые не могут понять, как это шпионы ведут двойную жизнь. Для Блейза тут не было ничего непонятного. Просто делишь себя надвое и ставишь непроницаемый заслон между двумя половинками.
Был отлив. Кинув взгляд на бурую гладь речной излучины, Блейз вспомнил, что́ ему снилось этой ночью. Несколько рыб в грязной илистой заводи медленно и степенно, словно исполняя ритуальный танец, топили одну кошку. У рыб были бледные, наполовину человеческие лица, вокруг которых извивались длинные плавники. Кружась вокруг кошки, рыбы плавниками удерживали ее голову под водой, чтобы не вынырнула. «Ну, теперь все, – с жалостью думал Блейз, завороженно глядевший на нелепую сцену, – кончилась кисонька». Но кошачий хвост снова и снова дергался, появляясь над поверхностью воды.
«Учиться на врача, – думал Блейз. – Глупости, нереально. Я не могу переменить все в этой части моей жизни, не трогая той. Но для той это непозволительная роскошь. Я должен зарабатывать деньги, просто обязан. Пусть Эмили устроилась на работу, пусть даже удастся выбить грант на обучение, но урезать ей содержание, требовать от нее новых жертв – нет, ни за что. А когда же мы с ней будем встречаться? Слава богу, у меня хватило ума не говорить ей ничего насчет учебы, она бы совсем обезумела. И еще неизвестно, чем бы это кончилось. Стоит ли удивляться, что за всю жизнь я не скопил денег на черный день. Столько времени и сил потрачено зря. Проклятый обман испакостил все, всю мою жизнь. И теперь, когда наконец-то появился шанс, я не могу его использовать. Не могу – из-за нее. Да, обложили меня со всех сторон! Я даже не могу себе позволить быть бедным. Если все всплывет, на моей практике можно ставить крест. Да что практика, это убьет Харриет. Но я не хочу, чтобы всплывало. И не хочу, чтобы продолжалось. Господи, должен же быть какой-то выход. Нет выхода. Благие намерения тотчас пресекаются на корню. Как я могу делать что-то во благо, если я сам подлец? Да и что тут считать благом? Поди разбери».
Иногда, обдумывая свою ситуацию, Блейз приходил к выводу, что больше всего его угнетает утрата добродетели. Кто-то другой мог назвать это утраченное качество честью, девушка, возможно, назвала бы его невинностью. Блейз скорбел о том, что он уже не может чувствовать себя человеком высоконравственным, что он обречен на жизнь во грехе, хотя грех противен всей его натуре. Размышления о мотивах собственных поступков не помогали вовсе. Мотивы по большей части были вполне понятны, но не имели значения. Хуже всего, что теперь он уже не мог быть хорошим, потому что ему приходилось быть плохим; приходилось снова и снова играть ненавистную отрицательную роль, и с этим ничего нельзя было поделать; даже притом, что эта роль была ему так несвойственна. Что же, получается, он оказался самым что ни на есть homme moyen sensuel[11]. Нет, невозможно. Он всегда ставил нравственность превыше всего, даже в юности. Сокурсники считали его человеком мудрым, родители считают таковым до сих пор. Он и сам сознавал себя существом мудрым и нравственным – и именно это сознание определило его жизненный путь, оно дало ему силу, без которой нечего делать в его профессии. Та же путеводная звезда светила ему и сейчас – сияла и звала вперед. Но идти вперед он не мог. Его добродетель как будто не понимала, что она для него потеряна, а значит не должна более указывать ему путь, – она продолжала указывать. И это было мучительнее всего. И еще Харриет: она так бережно взращивала в нем счастливое сознание того, что он хороший человек, что он чуть ли не готов был ей верить, забывая обо всем. Как, в какой момент он позволил пороку войти в свою жизнь, опутать ее всю? Как его угораздило обречь себя на такую муку?
Впрочем, угораздило его отнюдь не случайно и уж точно не против его воли. Он сам с восторгом, очертя голову бросился в пучину – воспоминание об этом казалось ему то пыткой, то утешением. Надо сказать, что Блейз с отроческих лет знал за собой кое-какие странности. Они не слишком беспокоили его. Здравомыслие в оценке самого себя и своих особенностей всегда было частью его мудрости – собственно, оно и привело его к изучению психологии. Довольно скоро он осознал, что «странностей» у него не так уж много: не больше, чем у других. Точнее, у других не меньше, чем у него. И это тоже было любопытно. Отчасти интуитивно, отчасти через самоанализ, расспросы знакомых и чтение специальной литературы он пришел к выводу, что человеческий мозг, включая мозг гениев и святых, вообще склонен к порождению самых неожиданных, порой даже диких и омерзительных фантазий. Фантазии эти, как он полагал, в большинстве случаев совершенно безвредны. Они живут в человеческом сознании, подобно флоре и фауне в человеческой крови, и даже, подобно той же флоре-фауне, могут приносить известную пользу. Их наличие является, видимо, признаком определенного душевного склада, но, как правило, не влечет за собой никаких последствий, разве что в искусстве. Например, если фантазии человека связаны с убийством, то он, скорее всего, напишет книгу об убийстве, но вряд ли станет сам лишать кого-то жизни. Так, в полном согласии с теорией и здравым смыслом, Блейз продолжал мирно уживаться со своими фантазиями (которые, кстати, в его случае не имели никакого отношения к убийству). Надо сказать, что – при всей осведомленности Блейза в области тайных человеческих изъянов – мысль о том, что когда-нибудь ему захочется воплотить свои нелепые фантазии в жизнь или же что он встретит родственную душу, исполненную мечтаний сродни его мечтаниям, вовсе не приходила ему в голову. Навязчивые идеи и поиски alter ego суть симптомы душевного недуга, считал он, а стало быть, не имеют к нему, Блейзу, никакого отношения. Он не собирался зависеть от маленьких, но назойливых хотений, которые, превращаясь в потребность, в конечном итоге загоняют человека в темный угол. Впоследствии он насмотрелся на такие превращения, с бесстрастностью исследователя погружаясь в души своих пациентов. Он постиг эту сторону человеческого сознания во всех ее тонкостях. И это тоже было мудро.
Блейз полагал, что человеку душевно здоровому следует любить всяких людей, без предвзятости, – и он любил всяких людей. Естественно, у него не было предвзятости и относительно своей будущей избранницы; разве что он был почти уверен, что она окажется интеллектуалкой. А потом в один прекрасный день явилась Харриет, совсем не интеллектуалка. А кто? Святая? Возможно, дело тут было не столько в святости, сколько во внутреннем природном благородстве. Что до личных прелестей Харриет, то в них Блейз как раз не нашел ничего особенного, бескорыстие же ее показалось ему шито белыми нитками эгоизма – чисто по-женски. Зато сколько в ней оказалось удивительного, поистине аристократического достоинства, сколько такта! И хотя за Харриет не было ни знатности, ни серьезного состояния, мать Блейза, женщина отнюдь не без амбиций, тотчас признала ее за прекрасную партию. Разумеется, Блейз полюбил Харриет. Он, в частности, любил ее полную открытость, полное отсутствие каких бы то ни было «странностей», одним словом (хотя это слово и коробило Блейза), ее нормальность. Харриет была вся на виду, вся на свету. Быть может, в его душе все еще оставалось темное местечко, где засел страх – совсем крохотный страшок, а солнечной Харриет удалось его оттуда изгнать? Так или иначе, было ясно, что с этой женщиной никакие темные углы ему не грозят. Женившись на Харриет, он почувствовал, что хотя все то, разумеется, никуда не делось (такие вещи неискоренимы), но как-то съежилось, сделалось незначительным и безобидным. Понятно, что Харриет он в эти свои наблюдения не посвящал – зачем смущать такую милую и спокойную женщину признаниями, которые ее растревожат или, чего доброго, внушат отвращение? Да она бы и не поняла. Ее взгляды в интересующей области Блейз выяснил легко и быстро – она и не заметила. Тут все было в порядке, никаких отклонений.
Когда жизнь свела Блейза с Эмили Макхью, он пребывал в своем счастливом браке уже десять лет. Они с Эмили встретились во Французском институте, на лекции по Мерло-Понти[12], куда, естественно, он ездил без Харриет. Эмили училась в педагогическом колледже и писала диплом как раз по Мерло-Понти. Ей было двадцать два. Что-то сразу поразило Блейза в ее внешности. Она еще тогда не стриглась, темные, почти черные волосы были небрежно стянуты на затылке простой резинкой. Маленькая, худенькая, с лицом строгим и страстным, с маленьким заостренным носиком, с жестким, почти неумолимым блеском неожиданно синих глаз. Голос с легкой хрипотцой, с едва заметным уличным лондонским выговором звучал нарочито насмешливо. С первой же минуты разговора (они познакомились на вечеринке после лекции, их никто друг другу не представлял) между ними завязался флирт. Эмили флиртовала, как ему показалось, несколько механически. Он охотно ей отвечал, но почему-то почти тут же, как бы к слову, счел нужным упомянуть «свою супругу». Эмили окинула его странным взглядом. Минут через двадцать Блейзу стало ясно, что он не может просто так отпустить эту случайную знакомую, не может позволить ей исчезнуть навсегда. По каким признакам он понял это так сразу? Впоследствии они много раз задавали друг другу этот вопрос. Уже в тот первый вечер он почувствовал себя (но опять-таки, на каком основании?) как зверь, долго бродивший в уверенности, что зверей его породы в лесу больше нет, – и вдруг оказалось, что есть. Говорили о дипломной работе Эмили. Мерло-Понти оказался удобным предлогом для следующей встречи. Блейз пообещал Эмили оттиск одной из своих старых статей («Феноменология и психоанализ»). Передача статьи произошла два дня спустя в маленьком кафе близ Британского музея. Свой диплом Эмили так и не дописала.
– Как французская вечеринка? Были какие-нибудь интересные встречи?
– Нет, только одна студентка, которая пишет работу по Мерло-Понти. Поспорили о феноменологии.
И это был единственный раз, когда Блейз упомянул Эмили в разговоре с женой.
Харриет ничего не заметила, даже не заподозрила. Ее вера в Блейза не пошатнулась ни на секунду. Как она могла не разглядеть правду в первые же дни – по его сияющему лицу, по особенному дрожанию рук? Блейз до сих пор этого не понимал. Их с Эмили встреча в кафе близ Британского музея закончилась постелью. Это было исступление, взрыв, сметающий все, – так же, как на другом конце катаклизма сметало все непоколебимое доверие Харриет. Грех превратился в пронзительное счастье, перечеркнул все остальное; только для Блейза это был не грех, а его благо, его счастье – сбывшееся наконец. Да, у него появилась темная тайна – но она несла с собой не темноту, а целый новый огромный мир, пронизанный сияющим светом. Все, что он делал раньше, казалось теперь бледным, жалким и неискренним. Жизнь его управлялась отныне чистотой свободного творчества и причинных связей. Темные силы, осмелев, выползли из мрака, в котором прятались прежде, – но он не был их марионеткой. Они фонтаном взмывали до небес, и он парил вместе с ними в потоках ослепительного света. Он никогда не рассчитывал и даже не надеялся встретить женщину, которая бы так идеально вписывалась во все его «странности». То было не просто острое сексуальное блаженство – но полное, безусловное, метафизическое оправдание всего. Мир раскрылся перед ним во всех своих бесконечно дробящихся деталях. Он наконец-то жил – впервые по-настоящему чувствовал себя собой, впервые обживал неведомое прежде пространство своего естества.
У Эмили Макхью имелся уже довольно богатый сексуальный опыт, но ничего серьезного или запоминающегося. Она, как она сразу же объявила Блейзу, никогда еще по-настоящему не любила. Она осталась верна своей судьбе, сохранила свою свободу. Она умела ждать, не желала идти на компромиссы, не утратила надежду, не довольствовалась малым. Блейз приуныл. Выходило, что он таки явил трусость и безверие. Он должен был бродить по лесу столько, сколько нужно, и искать свою пару; должен был верить и ждать. Не то чтобы теперь он проклинал свою женитьбу и тем более Харриет – нет, но он сознавал, что совершил досадную, непростительную ошибку. Терзаясь муками раскаяния, он бесплодно грезил о том, как хорошо было бы сейчас вернуться в прошлое и устроить в нем все, все по-другому. Или о том, чтобы Харриет умерла или просто делась куда-нибудь – в общем, испарилась; но это тоже были бесплодные грезы. Впрочем, когда он был с Эмили, Харриет и так испарялась из его сознания, будто ее никогда не было. Что же до упреков Эмили, то он воспринимал их как драгоценную и желанную добавку к их любви, не менее желанную, чем их «пороки» (им нравилось это слово), вплетавшиеся в саму ткань их совместного существования – вплоть до мелочей, до самых коротеньких словесных перепалок.
Эмили, конечно, тоже не была интеллектуалкой, но зато умела подать себя как интеллектуалка, могла, если нужно, говорить зло и остро, была более или менее начитанна. Как нелегко далась эта начитанность ей – девочке, выросшей в нищете, без отца. Храбрая, часто думал Блейз, она даже не догадывается о том, какая она храбрая. Сколько воли и мужества понадобилось той бедной девочке, чтобы хоть краем уха услышать про Мерло-Понти! Однако «умствование» отнюдь не было ее стихией. В ней была чисто животная цельность, не свойственная натуре Блейза, зато идеально ее дополнявшая. Не животная бессловесность или безотчетность – Эмили вполне отдавала себе отчет в том, что делает; но она делала это без суетных колебаний и сомнений, что для Блейза оказывалось источником особенно утонченного наслаждения. Она не находила ничего странного или нелепого в тех ритуалах, которые до сих пор могли существовать для нее разве что в воображении, исполняла их спокойно и уверенно, как жрица, – и торжественная ее уверенность позволяла возлюбленному без боязни ступить на землю, которой не было, но которая мгновенно создавалась у них под ногами, как великолепный сон, кристаллизовавшийся в реальность, как причудливое сращение сна с реальностью. Ритуальный аспект их взаимоотношений зарождался и вырастал стихийно, и на первых порах этот процесс немало их увлекал. Существовали, например, предметы, один вид которых, даже мысль о которых вызывала у Блейза эрекцию. Однако, как скоро выяснилось к вящему восторгу обоих, было не так уж важно, что именно они «делали». Просто все вокруг них, весь мир, единый, как земля в день Страшного суда, вмещался отныне в чудесную оболочку их полного духовного и телесного взаимообладания. Самые острые, жестокие и пронзительные ощущения рождались из глаз и из слов, даже из тона, каким эти слова были сказаны, в те блаженные моменты незримой, абсолютно интимной борьбы, когда одна воля торжествовала над другой. А то, что они еще и «делали все», лишь подкрепляло ощущение благословенной полноты. Вместе они жили как боги.
За исключением, разумеется, того, что они не жили вместе. Впоследствии им трудно было в это поверить, но долгое время они почти не замечали, что Блейз женат, что бо́льшую часть времени он проводит со своей женой. Вероятно, дело тут было в силе любви. Жестокая разлука только сильнее разжигала их чувства. Проезжая через Патнийский мост, Блейз уже изнемогал от желания, а в момент встречи оба плясали, как дикари, и заливались слезами. Волноваться – да что волноваться, просто думать о каких-то там житейских проблемах казалось пошлостью. Но (эротическая любовь не позволяет расслабиться) мало-помалу ситуация изменилась: Эмили начала задавать вопросы. Это, конечно, тоже было не важно: ведь на каждый вопрос очень скоро должен был найтись ответ, они знали, что их любовь восторжествует, что все получится, все сбудется. Вопросы, однако, оставались. Блейз еще не сказал Харриет. То есть понятно было, что скажет, сбросит эту гору с плеч, – но зачем же причинять женщине лишние страдания, нужно время, чтобы устроить все наилучшим образом. Эмили не тревожилась и не давила на него; ей достаточно было того, что она знает, а Харриет нет. Она даже жалела Харриет – почтенную расплывшуюся матрону, которую Блейз больше не любит, а она в своей безмятежности даже не подозревает об этом. «Миссис Флегма», – называла ее Эмили. Бедная миссис Флегма.
Люка появился неожиданно. Вдвоем им вполне хватало друг друга, их любовь казалась им такой цельной и совершенной, что для третьего существа в ней попросту не оставалось места. О детях они не то что не мечтали, а даже не думали вовсе. То была проблема из каких-то иных миров и иных измерений. Мысль о детях могла бы еще, наверное, забрезжить в довольно абстрактных планах на будущее, когда Блейз сбросит наконец «гору с плеч» и освободится от Харриет, но не брезжила – ни у Блейза, ни у Эмили (он был в этом абсолютно уверен) – до того самого момента, пока она не обнаружила, что беременна. Потом Блейз пытался свалить всю вину на нее: она скрыла от него свою беременность, дождалась, когда уже будет поздно ее прерывать. Эмили отвечала холодным презрением: так он считает, что ей нужны какие-то уловки? Зачем? Чтобы заманить в ловушку того, кто и без того принадлежит ей душой и телом? Как бы то ни было, Люка появился на свет, и, стоя с двух сторон от его колыбели, Блейз и Эмили смотрели друг на друга новыми глазами, в которых словно бы таились уже новые муки.
До сих пор Блейз посещал свою темную богиню в скромном однокомнатном раю в Хайгейте, теперь его вторая семья перебралась в Патни; район, конечно, не такой респектабельный, зато квартира попросторнее. Трудно сказать, в какой момент оба они начали сознавать, что впереди их ждут испытания гораздо более тяжкие и долгие, чем предполагалось в дни первых восторгов. «Ты никогда с ней не порвешь, – сказала однажды Эмили. – Духу не хватит». Блейз ничего не ответил. Иногда они ссорились; ссоры теперь причиняли обоим настоящую боль, нисколько не похожую на пронзительное блаженство их первых счастливых сражений. В один из вечеров, когда Эмили кричала на него – с ненавистью, как казалось ему в ту минуту, – он сказал: «Подожди. Пожалуйста, подожди. Дэвид подрастет – и я приду к тебе. А сейчас не могу. Не могу». Упреки нагоняли тоску. Детство Дэвида все затягивалось. Объявлялись новые сроки, новые рубежи, после которых все переменится. Поступление в частную школу, а теперь уже в университет. Блейз корчился от стыда, когда видел, как медленно утекает из ее глаз надежда, сменяясь презрением и отчаянием. И все же она по-прежнему умела стиснуть зубы и терпеть, и в ней по-прежнему была та сила, которая так восхищала его прежде. Хотя иногда мелькала мысль: а что еще она может, бедняжка?
Но кое-что Эмили, конечно, могла, и Блейз прекрасно это сознавал. При желании она могла погубить его, стереть в порошок. Для этого ей достаточно было только поговорить с Харриет. Можно было даже не говорить, хватило бы и письма. Правда, Эмили не знала и не желала знать, где он живет со своей «матроной». «Меня не интересует твоя буржуйская жизнь, – заявляла она. – Слышать о ней не хочу, ясно?» – и была в этом так тверда, что Блейз мог не сомневаться: тот, другой дом, куда он снова и снова уходит от нее, внушает ей отвращение и едва ли не суеверный страх. Ей было не только неинтересно, мысленно она как бы вычеркивала всю ту его жизнь. Но мало ли что от злости могло прийти ей в голову? Узнать адрес, явиться в дом – что может быть проще.
Блейз не слишком беспокоился по этому поводу. Однажды он предупредил Эмили, что, если она решит испортить ему жизнь, пусть больше на него не рассчитывает. Угроза, пожалуй, была излишней. Обдумывая ситуацию со всех сторон, Эмили наверняка понимала, что такой ход был бы не в ее интересах. Блейз пытался угадать ее мысли по глазам, ставшим недобрыми, подозрительными. Верит ли она до сих пор, что, когда Дэвид поступит в колледж, его отец сподобится наконец рассказать обо всем Харриет и переедет жить к ним с Люкой? Верит ли он сам? Он приезжал регулярно, но реже, чем в первые годы. Оба делали вид, что так и надо. «Я никогда тебя не брошу, никогда», – говорил он ей в минуты нежности; таких минут все еще было много. «Знаю», – отвечала Эмили. Она действительно знала. Но от этого было не легче.
Никакого Магнуса Боулза, разумеется, не существовало; это был вымышленный герой, изобретение Монтегю Смолла. Вскоре после того, как Монти переехал в Локеттс, а еще точнее, в тот краткий злополучный период, когда он считался Блейзовым «пациентом», Блейз рассказал ему все. В то время его двойная жизнь уже начала его беспокоить, но он был еще очень влюблен. В доверительной тишине собственной гостиной он поведал Монти свою историю отчасти из глупой бравады и оттого, что его распирало, отчасти в надежде на помощь и совет, отчасти потому, что имел потребность хоть кому-то ее поведать. Монти, разумеется, был заинтригован. Увидев, каким любопытством вспыхнули глаза собеседника, Блейз заволновался: не совершает ли он ошибку? Но ему все же стало легче; более того, Монти действительно кое-чем помог. Как вся эта история не выплыла (то есть не сделалась известна Харриет) с самого начала – Блейз и сам теперь не мог понять. Он вообще не думал об осторожности, без конца отбывал на какие-то мифические «конференции», иногда многодневные, встречался со срочными «пациентами», работал в отдаленных «библиотеках». Вся эта хлипкая конструкция не рухнула лишь благодаря монументальному спокойствию и доверчивости Харриет. Она ни разу не усомнилась (ну и дура, считала Эмили), хотя для того, чтобы вывести неверного супруга на чистую воду, хватило бы простейшей проверки. Для нее он был «бедный, бедный Блейз, сколько ему приходится работать!» – и все. Харриет и Дэвид, поглощенные друг другом, всякий раз ждали его терпеливо и встречали с распростертыми объятиями. Он же, вечный труженик, всегда возвращался такой усталый.
Монти, взглянув на дело глазом профессионала, тут же указал Блейзу на то, что его «прикрытие» не выдерживает никакой критики и может рассыпаться в любой момент. «Нужно логичное и последовательное алиби, – заявил он, – чтобы ни с какой стороны нельзя было подкопаться». Так появился Магнус Боулз, вызванный к жизни и взращиваемый по мере необходимости создателем Мило Фейна. Сам Блейз никогда бы не додумался до такой изощренной лжи: вначале любой трезвый расчет казался ему кощунством рядом с его любовью («Это был мой шанс, я не мог его упустить», – говорил он Монти), позже вся эта история так его измочалила, что у него уже не было сил ничего придумывать. Даже когда Магнус «заработал», Блейзу приходилось нередко прибегать к помощи его автора, особенно после того, как Харриет, совершенно некстати, прониклась искренним сочувствием к бедному персонажу. В последнее время Монти, пожалуй, даже переусердствовал и довел несчастного до полного умопомешательства, так что Харриет переживала не на шутку. Приходилось устраивать еженедельные консультации с автором: Монти расцвечивал историю болезни Магнуса новыми душераздирающими подробностями, а Блейз потом скармливал их Харриет.
При всем доверии к Монти Блейза несколько угнетала такая зависимость. Он так и не познакомил своего соседа с Эмили, хотя Монти и намекал, что любопытно было бы на нее взглянуть. С появлением Магнуса Боулза все действительно стало проще, теперь регулярные отлучки Блейза не требовали никаких объяснений. Раньше, когда Харриет время от времени без всякой задней мысли уговаривала мужа перенести свои «срочные выезды» на другой день, он так дергался, что дело чуть не доходило до нервного срыва. Магнус также оказался удобным предлогом для любых внеплановых отлучек. Харриет даже в голову не приходило ничего проверять: все связанное с пациентами Блейза было для нее священно. Она уже привыкла к тому, что по ночам, с регулярными интервалами, Блейз работает со своим загадочным Магнусом. Лишь причудливые ночные страхи Харриет, участившиеся в последнее время, указывали Блейзу на то, что его жену все-таки гложет беспокойство. Отсюда и ее удлиняющаяся собачья свита – для Блейза ненавистный символ его собственного тайного грехопадения.
В таком неизменном виде ситуация сохранялась вот уже девять лет, и растущий Люка являл собою самое неопровержимое доказательство ее долговечности. Отношения Блейза с младшим сыном складывались не слишком благополучно. С Дэвидом все было иначе: Блейз, как всякий отец, естественным образом участвовал в его воспитании, и даже теперь, когда у Дэвида был «трудный» возраст, связь между ними не прервалась – Блейз это чувствовал. Связи с Люкой как таковой не было, несмотря на то что в первые годы Блейз наведывался в Патни достаточно часто и вполне мог сойти за отца; в то время один вид Люки, такого маленького и беспомощного, вызывал у него приливы неистовой, виноватой нежности. Часто, заключая всю свою вторую семью в объятия, словно желая от кого-то защитить, он чувствовал, какие они несчастные, все втроем, и мечтал сделать так, чтобы всем было хорошо. Глядя на их жалкое и убогое, по сравнению с Худ-хаусом, существование, он испытывал тайную радость собственника и, кажется, любил их от этого еще больше. Но с самого начала, а особенно с того времени, как он стал реже появляться в Патни, было ясно, что в конечном итоге все заботы о воспитании Люки лягут на Эмили. Так незаметно, постепенно Люка превратился в ребенка Эмили. Одно время – Люке тогда было около пяти – Эмили как будто ненавидела его, даже поколачивала, хоть и не признавалась в этом Блейзу. Блейз чувствовал себя кругом виноватым, но сделать ничего не мог. Люка развивался медленно, страдал ночным недержанием и вообще производил впечатление проблемного ребенка. Пришлось, естественно, отдать его в самую обычную школу. Хорошо еще, Эмили отнеслась к этому спокойно, хотя знала, что Дэвид учится в частной, «снобистской». Потом она, разумеется, возвращалась к этому вопросу, и не раз, но только затем, чтобы больнее уколоть Блейза. «Сынок твоей миссис Флегмы ходит в школу для богатеньких, – кричала она, – а моему любое дерьмо сойдет, да?» Или: «Если бы не Люка, ты, может, давно бы меня бросил». Может, и так, думал про себя Блейз. Или еще: «Я ненавижу его! Если бы не он, плевать бы я на тебя хотела, жила бы сейчас как человек. Да мне Бильчик в сто раз дороже Люки!..» Конечно, в душе Эмили любила сына, просто она всякий раз не могла удержаться и снова и снова использовала его в качестве оружия в их с Блейзом вечной войне.
Естественно, и многие ссоры были связаны с Люкой, причем иногда самым неожиданным образом – через религию. Блейз был человек неверующий, хотя в юности и получил, как все, англиканское воспитание. Ему и сейчас не чужды были некоторые так называемые «религиозные чувства», но, увы, он слишком хорошо знал их подоплеку. Он давно уже уяснил для себя, из чего в свое время возникла его вера и куда потом сгинула. Однако, когда Харриет сказала ему, что Дэвида надо воспитать как христианина, он не возражал. В результате Дэвид узнал, кто такой Иисус Христос, в самом нежном возрасте, еще даже не усвоив вполне, кто такие Харриет и Блейз. Как только Дэвид начал говорить, Харриет научила его молиться. Блейз был не только не против, но даже за. Для душевного здоровья ребенка, считал он, гораздо лучше приобщить его к умеренному христианству – захочет, сам от него потом отойдет, – чем воспитать убежденным атеистом, которому всю жизнь предстоит гадать, что за тайна от него сокрыта. (Под «умеренным христианством» Блейз, понятно, подразумевал англиканскую церковь. С менее терпимыми вероучениями дело обстояло сложнее.) Кроме того, полагал он, спокойная набожность облегчает детям усвоение истории Европы.
Однако, выдвинув ту же самую – вполне разумную – доктрину в Патни, Блейз встретил неожиданно резкий отпор со стороны Эмили, которая считала, что религия вещь не только лживая и вредная, но, хуже того, «буржуйская». «Я не позволю, чтобы моего ребенка заставляли, как дурачка, бить поклоны и бормотать всякую бессмыслицу! Слава богу, отдали его не в снобистскую школу, а в нормальную, там эту комедию никто уже не ломает». Блейз злился, но что он мог поделать? В школе якобы проводились какие-то уроки Святого Писания, но ни знаний, ни мудрости они Люке явно не прибавили. Недавно он, в присутствии Блейза, ткнул пальцем в картинку, на которой было изображено распятие; жест означал: «Что это такое?» – «Божок, – буркнула Эмили. – На него молятся». Судя по всему, о религии Люка знал так же мало, как обо всем остальном. Хотя что вообще он знал? Бог весть. Как-то в пятилетнем возрасте он спросил, почему папа опять уходит. «На работу собрался», – ответила Эмили и гадко расхохоталась. Потом Люка уже перестал задавать вопросы. Разумеется, они с Эмили ничего ему не объясняли, но в очень темных круглых его глазах Блейзу чудились то подозрение и враждебность, то словно какое-то неясное знание. Блейз страдал, глядя, как это знание неумолимо обретает свою окончательную форму.
Какой-то философ сказал, что любовь есть одухотворение чувственности. Именно так, думал Блейз; в той его ранней любви к Эмили все было чувство, и все дух, и чувство исполнялось духом, а дух чувством – это давало ему, помимо наслаждения, какое прежде даже не снилось, незыблемую уверенность и с ней вместе словно бы собственную правду и собственное право решать, что хорошо, что плохо. В свете этой правды его отношения с Харриет казались сплошным лицемерием, не только сейчас – с самого начала, всегда. Когда Эмили говорила, что он женился на Харриет из корыстных снобистских побуждений, он ее не разубеждал: все, конечно, было не так, но ведь нельзя сказать, что совсем не так, думал он. Да, он любил Харриет. Но женился он на ней с помыслами отнюдь не кристально чистыми, как бы в некоем полуискреннем ослеплении, и полагая при этом, что делает наилучший выбор. Тем самым он, подобно Морису Гимаррону, согрешил против Святого Духа, добровольно отрекся от своего единственного шанса на совершенство.
Все это он ясно видел в сиянии темных лучей своей любви. Можно ли сомневаться в абсолютности Истины, когда ее Пришествие совершается на твоих глазах? Блейз чувствовал себя как апостол перед лицом Христа. Позволяя Эмили думать, что Харриет некрасива, немолода (он даже накинул ей пару лет, чтобы Эмили было спокойнее), толста, глупа и чванлива, что их с Харриет отношения давно выхолостились и угасли, он опять-таки не совсем лгал: все это хоть и не было правдой о Харриет, зато в каком-то смысле было правдой о нем самом. Да и при чем тут вообще правда, ложь? В любом супружестве всегда есть уровни (не обязательно глубинные), на которых любовь потерпела неудачу. Эмили оказалась лакмусовой бумажкой: не перечеркивая всего остального, она лишь выявила то, что прежде было скрыто, и таким образом прояснила картину.
Теперь Блейз уже не мог объяснить, когда и как на смену этим его взглядам – таким, казалось бы, выстраданным и окончательным – пришли другие. Иногда ему казалось, что причины совершившейся перемены просты до банальности. Внебрачная связь как натянутая нить, она всегда в напряжении. У него бывали периоды безумной подозрительности: он боялся, что Эмили неверна ему, часто являлся без предупреждения. Ему ни разу не удалось ее уличить. Иногда она грозилась, что найдет себе другого, но было видно, что она просто хочет его помучить. Их с Эмили нить всегда была натянута до предела – с тех самых пор, когда Эмили впервые заподозрила, что он не собирается немедленно уходить от Харриет и неизвестно, когда соберется. Пока эти подозрения Эмили еще только вызревали, Блейз попеременно пребывал то в унынии, то в эйфории. Смутно он понимал, что они с Эмили опоздали, поезд уже ушел, во всяком случае, ушел первый поезд. Обрести «свободу», которой без конца требовала от него Эмили, оказалось не так-то легко. Да и, если на то пошло, ради чего? Почему он непременно должен мучиться, проходить через эти обременительные тяготы «освобождения»?
В другие времена, в других странах мужчина мог иметь двух жен – что там двух, гораздо больше; он поселял их в разных домах и приходил к ним, когда ему хотелось. Постаревшую, разлюбленную жену не обязательно было прогонять, ее можно было оставить при себе в качестве приятной собеседницы, просто из жалости, – и она относилась к этому абсолютно спокойно. Вообще мужчине – любому мужчине – нужны разные женщины, ведь любовь так многолика. Почему одна любовь должна непременно исключать другую? Да, он ведет двойную жизнь. Но значит ли это, что он лжец? Он не чувствовал себя лжецом. Просто ему выпало две правды, две жизни, и обе одинаково дороги ему и одинаково бесценны. Приблизительно такие мысли посещали Блейза в минуты уныния. Эйфорическое же его состояние сводилось в основном к одной мысли: «А ведь получается, черт возьми!» Чудилось своего рода величие, даже героизм в том титаническом усилии, которым он, подобно законспирированному Атланту, удерживает две части мира от столкновения. К этому образу, увы, норовил прицепиться другой: Самсон, разрывающий пасть льву. И вообще в последнее время Блейзу уже казалось, что если когда-нибудь все это кончится, то только вместе с ним.
Одной из самых простых и банальных причин совершившейся перемены был, разумеется, денежный вопрос. Эмили никогда не упускала случая указать ему на второсортность и убогость своего существования. Она без конца жаловалась на свою зависимость от него, требовала то одного, то другого, при этом решительно отказывалась выходить на полный рабочий день. «Куда я пойду с такими цепями, – говорила она. – Люка связал меня по рукам и ногам». – «Но если бы не Люка, – полагалось в таких случаях отвечать Блейзу, – ты бы все равно не бросила меня, да?» (В последнее время их перепалки становились все более механическими.) «Как же, стала бы я тут сидеть, если бы не Люка!» – фыркала Эмили. В целом же, принимая во внимание ее характер, она сносила свои «цепи» на удивление безропотно. Но война против Блейза, которую она вела одновременно по многим направлениям, никогда не прекращалась. Иногда Эмили действовала очень умно, вынуждая его поторопиться с «решением», но иногда Блейзу казалось, что нескончаемые нападки нужны ей только для того, чтобы измучить его, измучиться самой, выместить зло, испортить, испакостить часы их свиданий.
Она не следила больше ни за собой, ни за квартирой, обе производили впечатление одинаковой неряшливости и нечистоплотности. В доме нестерпимо воняло котами, а до недавнего времени, пока Люка писался в постель, еще и мочой. Бывшее любовное гнездышко разваливалось на глазах, Эмили же, как казалось Блейзу, следила за происходящим с какой-то тайной радостью. Деньги, выданные Блейзом на новую газовую плиту, ушли на спиртное. Эмили пила все больше, Блейз, когда они бывали вместе, не отставал. Они кричали друг на друга до хрипоты, уже не думая о том, слышит их Люка или нет. А в последнее время у Эмили появилась привычка будить Блейза среди ночи, когда, измученный скандалами и алкоголем, он погружался наконец в тяжелый сон. Растолкав, она продолжала осыпать его упреками или неожиданно заявляла, что они с Люкой эмигрируют в Австралию. Одухотворенная чувственность уже не помогала, даже в качестве анестезии. Туманные отголоски физической боли перетекли в непереносимые муки боли душевной, жизнь их по-прежнему была полна жестокости, но пронзительного счастья больше не было. Ссоры, воспринимавшиеся раньше как игра, как разминка перед постелью, превратились в настоящие сражения, и от них оставались настоящие незаживающие раны. Насмешливый, хрипловатый, такой любимый некогда голос твердил ему теперь о том, какой он жалкий и презренный трус, доводил его до бешенства – и постель уже не приносила разрядки.
Стыд, которого совсем не было раньше, стал теперь постоянным фоном его жизни; в отношениях с Эмили к этому стыду примешивалось яростное ожесточение, с Люкой – расплывчатый страх. Лишь думая о Дэвиде, он испытывал чистый стыд без всяких примесей – и это было мучительней всего. Если Люка с самого начала казался его отцу карой, ниспосланной свыше, то с Дэвидом он в глубине души по-прежнему – несмотря ни на что – чувствовал себя почти обыкновенным, почти счастливым отцом; именно из этого «почти», из этого недосчастья проистекали его самые мучительные страдания. Как будто отец Дэвида даже не догадывался о существовании отца Люки – и оттого наивно наслаждался своим отцовством. Он так любил Дэвида и так гордился им, что для завершения картины ему обязательно нужно было, чтобы и Дэвид тоже его любил и тоже гордился. В каждом мальчике живет потребность восхищаться своим отцом. Раньше, когда с Эмили еще можно было разговаривать о серьезных вещах, Блейз объяснял ей, что сейчас ему надо думать о Дэвиде, что в более позднем возрасте потрясение принесет ему меньше вреда. А собственно, какое ей дело до сыночка миссис Флегмы? – вскидывалась Эмили. Почему она должна заботиться о том, как бы ему не навредить? Иногда Блейзу казалось, что она как будто принимает его доводы, но, возможно, ей просто надо было чувствовать, что он тянет с «решением» по какой-то серьезной причине, а не потому, что сомневается в безусловной ценности их любви.
Пока измученные любовники вели свои нескончаемые бои, Дэвид подрастал, в счастливом неведении переходя от одной жизненной вехи к другой. Что же делать, думал Блейз, неужели скоро придется обрушить всю эту тоску и отчаяние на жену и сына, неужели придется прервать счастливое мирное течение их жизни? Тоска и отчаяние, впрочем, и так не миновали его семью: они красовались в центре композиции, иначе откуда у Харриет этот страх перед грабителями и эта ее собачья коллекция; и Дэвид – почему он все время моргает и отворачивается? Да, где-то в темных глубинах своего мятущегося полудетского подсознания Дэвид тоже знал. И все же это смутное знание было стократ милосерднее, чем невыносимо жестокая уверенность, которая придет вместе с «решением» Блейза. Как он, Блейз, сможет после этого смотреть в лицо своему сыну? До конца жизни Дэвид будет презирать, возможно, даже ненавидеть его. Нет, Харриет с Дэвидом этого не заслужили. Виноватый может сколько угодно терзаться своей виной – но молча, стиснув зубы, не терзая при этом других. Не они ли с Эмили виноваты, не их ли долг пить из этой горькой чаши вдвоем, испить ее до конца? Сам он готов был страдать за свои грехи – страдать страшно, жестоко, если надо, вечно. Как он завидовал нормальным мужчинам, у которых были проблемы на работе, какие-то неприятности с закладными, с превышением банковского кредита! Как завидовал Монти и его целомудренной скорби!
Блейзу было стыдно перед Эмили, стыдно перед Дэвидом, стыдно перед Люкой. Но в его отношениях с Харриет зарождалось что-то новое, значительное, занимавшее его сейчас больше всего. Пока одна тайна жизни Блейза продолжала свое неуклонное сошествие в теснины страха, вторая его тайна неожиданно воссияла новым светом – что, впрочем, не сулило ни надежды, ни избавления. Когда-то, будучи с Эмили, Блейз забывал о Харриет, о самом ее существовании. Теперь он забывал об Эмили, когда был с Харриет. Раньше Эмили казалась ему явью, а Харриет сном. Теперь Харриет стала явью, Эмили сном. Он говорил Эмили, что давно уже не имеет интимных отношений с Харриет, и так оно и было – тогда. Харриет вела себя безупречно, молчала и ждала. Но с тех пор кое-что изменилось, и Блейз снова был со своей женой. Милая, скромная, целомудренная, непорочная – как бы он наслаждался ею, если бы не его демоны! И таки наслаждался, забывая о демонах, забывая обо всем. Как это ни странно, наслаждение его было полнее, чем от всего, что они «делали» с Эмили. Прежде ему казалось, что Харриет недостает притягательности, которой Эмили обладает в избытке. Но именно она, Харриет, теперь властно притягивала Блейза к себе, странным образом внушая ему почтительность и одновременно желание. Он никогда не испытывал ничего подобного и теперь прислушивался к себе с трепетом и изумлением. Вторая, секретная его жизнь опростилась и словно бы поблекла рядом с этими переменами; новые, но по-прежнему неуправляемые силы влекли его вперед, снова ставя под вопрос само его существование.
Память, разумеется, жульничала и норовила скрыть истинные связи, которых Блейз, возможно, предпочел бы не замечать. Но время шло, и перемены проступали все яснее. Сначала он страдал, глядя, как хиреет и съеживается его великая любовь к Эмили. Потом страдал еще больше из-за того, что его любовь к Харриет, подобно ушедшей под землю реке, не исчезла бесследно, как он думал, но вышла на свет чище, глубже и полноводнее, чем прежде. Да, любовь Блейза к Харриет, невинная и как будто не подозревающая о его порочности, продолжала расти совершенно естественным образом, как естественно растет всякая любовь в супружестве. И сейчас, страдая, он невольно ждал сочувствия Харриет. Она всегда отзывалась на любую его боль, порез на пальце и то вызывал в ней глубокое сострадание – почему же теперь она не может ему помочь? Вот она, животворящая, исцеляющая любовь, только протяни руку – но не протянуть и не исцелиться; и это, возможно, страшнейшая из пыток, на какую обрекает себя грешник. Порок, как и добродетель, автоматически влечет за собой те или иные последствия, Блейз видел это теперь. Но ведь должен же, должен быть какой-то выход, мысленно твердил он, должен существовать моральный выбор, более достойный и менее разрушительный, не может быть, чтобы его грехи были навек неизгладимы? Неужели кротость и терпение не помогут ему выпутаться и избежать кары, неужели та волна должна непременно смыть его, как крысу с накренившейся палубы? Если муки так невыносимы, должен же кто-то сказать: довольно, он получил сполна, да будет отныне прощен! Но кто произнесет это спасительное слово?
Каким-то образом он чувствовал себя теперь с Харриет абсолютно правым, будто он уже признался ей во всем и получил прощение. В своих отношениях с ней – благодаря ей – он, как ни странно, не ощущал фальши. Приникая к ее благотворному покою, он чувствовал, как в него вливается сила, сулящая спасение; но спасение не приходило, словно этот источник был для него перекрыт. Безмозглый кретин, как смел он отвергнуть сокровище, ценнее которого нет на свете? Теперь-то, уже не владея им, лишь делая вид, что владеет, он осознал безмерность потери. Ах, будь он сейчас связан прежними чистыми узами с такой женой и таким сыном, он был бы счастливейшим из смертных. Эмили лишила его не только добродетели, но и счастья, подаренного ему судьбой. За это он ненавидел ее так, что иногда готов был убить.
Вопрос выбора уже не отпускал его, становился все насущнее, будто ему приходилось выбирать между правдой и смертью. Правда? Но она тоже несла в себе смерть. И все же, вдруг прекрасный ангел еще может его спасти? Вдруг этот ангел – Харриет? Ему часто снилось, что он уже сказал Харриет и что все как-то замечательно устроилось. Просыпаясь, он думал: ведь есть, наверное, какой-то способ преодолеть этот страшный барьер, который высится перед ним, как айсберг, как неумолимый символ бедствия? Можно же как-нибудь сказать правду, но так, чтобы все осталось по-прежнему? Ведь циркач, балансируя стопкой тарелок, ухитряется как-то отбросить одну и удержать остальные?
Он сам виноват, сам испакостил свою жизнь. И как все это подло и несправедливо по отношению к Эмили. «У нашей любви просто не было шанса. Всю жизнь прячем ее, запихиваем под ковер – вот она и расплющилась, как блин!» Хотя какая разница – справедливо, несправедливо, – если эта чаша весов уже перевесила, если картина переменилась. Харриет просто любила его, просто улыбалась, поправляла в вазах цветы, была его законной женой – и наконец победила? И что теперь?
Блейз вспомнил, что не покормил собак. Собаки, два гладкошерстных фокстерьера, Танго и Румба, жили у него, когда он был еще совсем мальчишкой. Эти имена им дал отец Блейза, большой любитель танцев. Вспомнив, Блейз сначала почувствовал себя виноватым, потом ему стало страшно: ведь он запер собак в старой конюшне. Никто не знал, что они там, и даже если они лаяли, их бы никто не услышал. Они сидели взаперти уже много дней, много недель. Как он мог забыть о них? И что скажет отец? Он побежал, но ноги вдруг распухли, отяжелели, с трудом отрывались от земли. Задыхаясь, он добежал до конюшни, до крайнего денника, отпер верхнюю створку двери и заглянул внутрь. Все было тихо и неподвижно, но Блейз продолжал со страхом вглядываться в темноту. Наконец он увидел. Собаки, почерневшие, высохшие и неестественно длинные, свисали с двух крюков на стене. Он подумал: они поняли, что я не приду, вот и повесились. Хотя нет, они просто умерли и превратились во что-то другое; садовник решил, что это какой-то садовый инвентарь, и повесил их на стенку. Но что это за инвентарь, в который они превратились?
– Да проснись ты, черт тебя подери, ну?!
Эмили трясла его за плечо. Блейз открыл глаза и чуть не ослеп от невыносимо яркого света. Эмили развернула лампу, чтобы свет бил ему прямо в лицо. Блейз зажмурился, потом снова приоткрыл глаза и взглянул на часы. Три часа ночи.
– Опять! Я ведь просил тебя этого не делать. Свихнуться же можно, когда тебя так будят посреди ночи.
– А лежать, думать всю ночь черт знает о чем, по-твоему, лучше? Да еще слушать, как ты храпишь.
– Выключи свет.
– Я хочу тебе кое-что сказать.
– Знаю, вы с Люкой собрались в Австралию. Ну так отправляйтесь.
– Какая, к черту, Австралия! Где мы возьмем денег на дорогу?
– Ты, я вижу, купила шубу. Хотя я просил тебя не покупать пока ничего из одежды, подождать до распродажи…
– Смотрите, как он все замечает, прямо пинкертон! Чтобы ты знал, шуба эта искусственная, и я ее не покупала. Мне ее подарила Пинн. Я дала ей один фунт.
– Подарок за один фунт – это уже покупка. Слушай, выключи свет и давай спать.
– Спать, спать, больше тебе ничего не надо! Раньше до утра не спали – и ничего, а теперь тебя в десять уже тянет баиньки.
– Так пить меньше надо! Сами же доводим себя до коматозного состояния.
– Меньше пить? Мне это нравится. А кто меня приучил? Еще неизвестно, долго ли мы друг друга выдержим без этого пойла.
– Ну давай, выкладывай, что ты хотела сказать.
– Давно надо было сказать, но я боялась как последняя дура.
– Ну?
– Раньше я тебя не боялась. А теперь, как видишь, всего боюсь, даже тебя.
– Ну?
– Я ушла с работы.
– О господи! Это еще почему?
– Так мне захотелось. Порядочные мужчины содержат своих жен, вот и ты меня содержи. Все, наработалась, устала. Старенькая стала!
– Но ты же знаешь, что я не потяну! Мы же с тобой условились…
– Тише, Люку разбудишь.
– Люка, скорее всего, уже проснулся… А это что за звук? Черт, кто-то возится с дверью в прихожей!..
– Думаешь, миссис Флегма собралась тебя порешить? Успокойся, это просто Пинн вернулась.
– Пинн?!
– Да, и это как раз вторая вещь, про которую я тебе хотела сказать. Я сдала одну комнату. Теперь Пинн живет с нами.
– Ты что, пустила Пинн к себе на квартиру?
– Вот именно.
– Как ты могла – не спросив меня?
– А почему это тебя волнует? По-моему, ты не так уж часто к нам наведываешься. Я здесь живу, это мой дом…
– Мой тоже. Я за него плачу, черт возьми.
– Да? И поэтому считаешь его своим? Кстати, я вспомнила: есть еще третья вещь – тебе тоже не понравится. С октября повышают плату за квартиру, почти в два раза.
– А ты как будто рада! Но послушай, что это за дурость насчет Пинн? Она там, случайно, не подслушивает под дверью?
– Успокойся, она уже в своей комнате. И вообще, Пинн моя подруга. Знаешь, как она мне помогает!
– Не знаю и знать не хочу. Завтра же скажешь ей, чтобы выметалась. Пока она не уйдет, ноги моей тут больше не будет, так что выбирай! Ты что, хочешь, чтобы я тут был с тобой, а она бы бродила, где ей вздумается, подслушивала, подсматривала?
– Господи, да теперь-то какая уже разница?
– Ты это нарочно сделала, чтобы меня позлить. И нарочно ушла с работы.
– Может, и так. В конце концов, пора что-то менять.
– Скажи своей подружке, чтобы завтра же убиралась ко всем чертям, не то я сам ей скажу.
– Она мне, между прочим, деньги платит. Хотя как хочешь, дело твое. Только тебе придется удвоить мне содержание. Да что я говорю, удвоить – утроить!
– Ты же знаешь, я не могу.
– Откуда мне знать, ты мне своих банковских счетов не предъявлял.
– Господи, Эм, поставь же себя на мое место.
– Чего ради? Мне вон зубы надо лечить, и то тебе денег жалко.
– Мне не жалко, у меня их просто нет. Тем более сейчас. Харриет тоже приходится экономить…
– Я тебе уже говорила, не хочу даже слышать это имя. Экономит она! Представляю, как-то она, бедненькая, перебивается без золотого сервиза и без третьего автомобиля.
– У нас всего один автомобиль…
– Знать ничего не желаю ни про вас, ни про ваш автомобиль!
– Ну хорошо, с зубами, наверное, надо что-то делать, но не все же сразу…
– Господи, какой жмот! Скажи, ты хочешь, чтобы я выглядела по-человечески, или не хочешь?
– Мне все равно, как ты выглядишь. Мы с тобой так близки, что это не имеет никакого значения.
– По-твоему, кроме тебя, на меня никто и смотреть не должен? Или ты боишься, как бы кто-нибудь на меня глаз не положил?
– Эмили, прекрати.
– Между прочим, зубы не только для красоты. Ими еще, знаешь ли, жуют! Пережевывают пищу.
– Я уже говорил: если тебе действительно что-то нужно…
– Кстати, насчет того, что мне нужно: скоро ли я куда-нибудь поеду? Или в этом году каникулы мне опять не светят? Когда я наконец увижу Париж?
– Слушай, заткнись, а?
– И пора сменить обивку на мебели.
– Смотри лучше за своими котами, пока они не изодрали весь дом в клочья.
– У них, может, разрушение – единственная радость в жизни. И мне тоже скоро ничего другого не останется.
– Давай составим список…
– Видала я твои вонючие списки. Дойдешь до середины и норовишь поскорее слинять – от расстройства чувств. Я тебя предупреждаю, героический период у меня кончился. Это раньше я старалась, затягивала пояс так, что дальше некуда. Еще и радовалась как последняя дура – как же, пострадать ради великой любви! Все, баста. Больше такого не будет.
– Чего ты от меня хочешь? Знаешь ведь, как мы с тобой запутались.
– Так пора уже выпутываться, ты не находишь? А на всех остальных мне плевать, пусть катятся к чертям собачьим. Спрашиваешь, чего я хочу? Хочу наконец чувствовать себя спокойно и уверенно. Ты платишь за квартиру – замечательно. А что будет, если завтра ты угодишь под автобус? Нарочно держишь меня на поводке, чтобы я сидела смирно и пикнуть не смела.
– Это неправда. Ты прекрасно знаешь, я был бы рад…
– …чтобы я убралась в какую-нибудь Австралию и там сгинула? Сейчас, разбежалась.
– Я совсем не то хотел…
– Даже думать боюсь о будущем, ты понимаешь? А мне нужна уверенность в завтрашнем дне. Надоело жить подачками.
– Какими подачками, о чем ты говоришь? Я выплачиваю тебе постоянное содержание…
– Угрохала на тебя всю свою жизнь! О боже, мне тридцать один год, а я трепещу от страха перед бедностью и старостью. Вот до чего ты меня довел.
– Ты прекрасно знаешь, что твое финансовое положение совсем не…
– Ага, сидеть в дерьме по уши и не высовываться – замечательное положение! Я хочу дом. Да, хочу, чтобы ты купил мне дом.
– Но ты же знаешь, сколько сейчас стоит недвижимость.
– Продай что-нибудь. Продай ту свою буржуйскую недвижимость, пускай твоя матрона поживет для разнообразия в квартирке.
– Прошу тебя, Эм, перестань, пожалуйста! Нельзя же так, каждую неделю одно и то же, слово в слово…
– Таких слов я тебе раньше не говорила. Не забудь: во-первых, я ушла с работы, и, во-вторых, я уже сыта по горло…
– Ну прошу тебя. Когда ты начинаешь так говорить, мы оба тут же заводимся – будто машины, а не люди.
– Ну и что? Мы и раньше заводились и заводили друг друга – и нам, двум машинам, было хорошо!
– Ложись спать, а?
– Может, лучше в гроб? А что, я бы рада. А для тебя-то какое облегчение, представляю!..
– Что ты несешь, прекрати.
– Спать он меня укладывает! Дудки, мы теперь с тобой оба не уснем.
– Послушай, малыш, мне завтра на работу.
– Ой, не смеши меня! Сидеть трепаться с дамочками про их сексуальные проблемы – это ты называешь работой? Где бы мне найти такую работу!
– Ради бога, умолкни.
– Ага, уснуть хочешь, чтобы я опять осталась наедине со своими мыслями? Нет уж, не выйдет.
– У меня тоже мысли…
– Зачем вообще спать, когда и тут и там один кошмар и ад?
– Мы вместе с тобой в этом аду, будем же милосердны друг к другу.
– Я девять лет была к тебе милосердна. За то и получила по зубам.
– Что могу, я делаю для тебя.
– Смотрите, какой великодушный! Делает он, что может! Ничего, скоро мы посмотрим, что ты «можешь» и что «должен». Чтобы заставить жлоба заплатить по счету, на него надо как следует надавить. Вот ты мне скоро и заплатишь. По-моему, самое время.
– Могу предъявить тебе свою банковскую книжку…
– А я вообще не про деньги. Я про все, что ты мне должен, про плоть и кровь. Боже, во что я с тобой превратилась! Даже не верится, что это я. Такая стала скромница, смиренница – что ж тут удивляться, что ты меня разлюбил. Ничего, немножко насилия – и я, может, еще вернусь к реальности.
– Ну хватит, хватит, малыш. Ты все это уже говорила.
– Вот-вот, давай, смотри на часы. Скоро начнешь ныть, что тебе пора. Никуда тебе не пора. Захочешь, можешь тут торчать хоть весь день. Просто ты не хочешь.
– Думаешь, мне лучше, чем тебе? Думаешь, мне нравится такая ситуация?..
– Поменяй ее на другую.
– Но ты же знаешь, мы ничего не можем сделать.
– Ах, мы не можем? Ну так я могу. Черт возьми, как ловко ты меня обработал, я стала как кукла тряпичная, аж самой противно. Моя жизнь всегда была борьба – а ты превратил меня в какую-то тряпку. Никогда тебе этого не прощу! Я не тряпка, я всегда умела постоять за себя, но из-за любви все терпела, со всем мирилась, ни разу даже не пикнула. О боже, с чем мне пришлось мириться! Столько лет сидела тихо как мышка. Ты уже, видно, решил, что теперь можно из меня веревки вить? Черта с два.
– Ты не сидела тихо как мышка, ты вопила и орала. Ты и сейчас орешь, а твоя подружка слушает и радуется.
– Зато будет свидетельница, когда ты меня придушишь.
– Эм, не говори ерунды.
– Я знаю, ты хочешь меня убить. Я кошмар твоей жизни. Будешь душить, да? Ну давай, не стесняйся!
– Ты пьяна.
– Ты тоже. Посмотрел бы на свою рожу. Бандит бандитом, честное слово. Ну скажи теперь, а я на кого похожа?
– Эм, сколько можно! Возьми себя в руки.
– Ты раньше говорил, что твоя жизнь с миссис Флегмой такая серая, потому что в ней насилия мало.
– Я устал от насилия.
– Ты хочешь сказать, устал от меня. Значит, я тебе была нужна, только чтобы пинать меня ногами?
– Ну Эм, ну милая моя…
– Заюлил, заюлил, хорошеньким быть захотелось. Зря стараешься! Одна только Пинн мне помогает в трудную минуту.
– Да втюрилась в тебя твоя Пинн, ты что, не видишь? У нее же одни гадости на уме. Я уже сказал, я ее тут терпеть не намерен.
– Не нравятся мои подруги – не приходи.
– Не хватало еще, чтобы она тут постоянно крутилась, вынюхивала!
– А что, ты все равно приходишь все реже и реже, вот и хорошо, и не приходи совсем. Ты же сам этого хочешь.
– Знаешь же, что я никогда тебя не брошу, всегда буду верен тебе…
– Ну, опять завел свою любимую пластинку! Надоело. Одно и то же, одно и то же, лучше бы каждый раз выдавал мне вместо этого мелочь на расходы. Какая, к черту, верность? Тратишь на меня столько, что меньше уже просто нельзя, ты сам это прекрасно знаешь. Вся твоя верность в том, чтобы не дать мне найти порядочного человека, который бы любил меня и по-человечески обо мне заботился. О господи, угораздило же угробить всю жизнь на такое…
– Эм, пожалуйста. Пожалей меня хоть раз.
– Думаешь, я огорчусь, если ты начнешь тут реже появляться? Да я иногда просто счастлива, что тебя нет, – ну пусть не счастлива, про счастье я уже молчу, но хоть успокаиваюсь на время. А потом являешься ты – и опять все сначала. Я в расстройстве, Люка в расстройстве, и никому это не надо…
– Эм, постарайся…
– Как было бы хорошо не любить тебя, просто взять и не любить! Каждый день только о том и мечтаю.
– Ну прошу тебя, давай уже вырвемся из этого круга.
– Хорошо, давай! Вот иди завтра и расскажи своей миссис Флегме про нас с Люкой! Скажи ей, что будешь жить с нами в доме, а ее навещать раз в неделю, в квартирке.
– Ты же знаешь, это невозможно…
– С чего ты взял, что знаю? Ничего подобного я не знаю! Ты хоть раз пробовал взглянуть на всю эту дерьмовщину моими глазами? Почему бы твоей миссис не пострадать для разнообразия? Почему все я да я?
– Это ничего не даст. Если она тоже будет страдать, тебе ведь легче от этого не станет.
– Не станет? Да я буду на седьмом небе от счастья!
– Тебе же не месть нужна…
– Почему бы и нет? Ненавижу твое гнилое буржуйство, разнесла бы его к чертовой матери!
– Ладно. Ты просто кипятишься, на самом деле у тебя и в мыслях ничего такого нет.
– Ты так думаешь? Подожди немного, скоро я тебе устрою войну во вражеском стане. Да, это будет война против всех вас, богатеньких. Я знаю, что делает бедность с людьми. И с тобой связалась только из-за бедности этой проклятой – страшно было. Насмотрелась в свое время на отчима, как он каждый вечер мою мать бил, бил, пока совсем не убил.
– Я не отвечаю за твоего отчима.
– Ты за все отвечаешь. Потому что ты – главное зло в моей жизни. Ты мой перевоплощенный отчим, вот ты кто. Нравится тебе такой психоанализ?
– Послушай, может, хватит переругиваться, как на базаре, а? Я знаю, как ты кичишься тем, что «вышла из низов», но ведь вышла уже – ведь можно теперь хотя бы вести себя прилично…
– Прилично – это значит как леди? Как твоя дражайшая миссис Флегма? А мне классовые предрассудки не позволяют. Это она у тебя такая богатенькая, такая родовитенькая…
– Да никакая она не…
– Да, я хочу отомстить! Пусть знает, какой у нее муж подлец.
– Но она ни в чем не виновата…
– Мне какое дело? Я тоже не виновата.
– Ты виновата. Больше всего тут, конечно, моей вины, но есть и твоя тоже.
– Ты нарочно меня выводишь? Хочешь, чтобы я завизжала на весь дом?
– Послушай, она тоже страдает. Пусть даже не догадывается о нас с тобой – но ведь понимает же, что моя любовь для нее потеряна.
– Велика ценность! И еще неизвестно, может, те времена давно прошли. Может, ты к ней вернулся. Спишь с ней, говори?
– Конечно нет!
– Не верю! Ты ее обманываешь. Значит, можешь и меня обмануть. А через пару лет бросишь нас обеих, найдешь себе кралю помоложе, и только тебя и видели. Ты самец-шовинист, все вы такие.
– Ну начинается! Всё Пинн со своими дурацкими теориями. Ты хоть думай своей головой.
– Жалко, я как-то обозлилась, порвала в клочья все твои любовные письма – а то можно было сейчас отослать посылочку твоей миссис Флегме. Пожалуй, я ей завтра утром позвоню.
– Никому ты не позвонишь, ни завтра, ни послезавтра. Потому что прекрасно знаешь, что на этом наши с тобой отношения кончатся.
– Да пошел ты со своими запугиваниями! Вот дойдет до дела, тогда и посмотрим, что кончится, а что не кончится. У меня тоже есть свои права, и мне надоело ждать и ждать, оберегаючи сыночка твоей миссис Флегмы. Сколько еще ждать? Пока ему не стукнет тридцать? Нет уж, пусть тоже хлебнет немножко лиха. Моего сына, между прочим, никто не оберегает. Видел сегодня, во что он превращается?
– Он хоть стал побольше говорить?
– Нет. Со мной уже неделю не разговаривал. Только с Пинн иногда.
– О чем?
– А я откуда знаю? Хотя нет, пару дней назад случайно подслушала: Люка ей выдал целую тираду про то, как извиваются какие-то головастики. Но стоит мне подойти, он тут же прикидывается немым. Представляю, что с ним дальше будет. А ты даже не соизволишь сходить в школу.
– Это не имеет смысла…
– Ну, тогда готовься раскошеливаться на лечебницу для душевнобольных. Будет у тебя дополнительная статейка расходов.
– Я сразу предлагал отдать ребенка на усыновление, это ты не хотела с ним расставаться.
– Я не хотела расставаться с тобой.
– Ну так ты просто шантажистка.
– И ты еще смеешь меня упрекать за то, что я решила оставить собственного ребенка? Ты чудовище!
– Ты настраиваешь его против меня.
– Не прикидывайся идиотом. Ребенка не надо ни против кого настраивать, он сам все видит. Спрашивает: «Где папа?» – а что я ему скажу? Теперь-то уж, конечно, не спрашивает, молчит как рыба. А что там у него на уме, неведомо. Помнишь, как одно время мы пытались его обмануть, делали вид, что ты моряк? Какие смешные были, господи.
– Помню, малыш, помню. Мы с тобой столько пережили вместе. Пожалуйста, малыш, давай заботиться друг о друге, как раньше. Давай еще немного потерпим.
– Ну, предположим, потерпим. Но чего мы дожидаемся? Пока она умрет от старости? Или чего?
– Эмили, может, хватит уже выяснять отношения? Поговорим о чем-нибудь другом.
– О чем бы ты хотел поговорить? О Расине? Я думала, что выяснение отношений – это как раз по твоей части.
– Ты напрасно так думала. С Харриет у нас как-то без этого обходится.
– Не произноси при мне этого имени! Я не желаю знать, чем вы там с ней занимаетесь. Разумеется, вы обходитесь, потому что вам не надо ничего выяснять. У нее есть уверенность, у нее есть ты, и ваши отношения ее не волнуют, раз они у вас в полном порядке. Она может беспокоиться о том, покупать ли ей новый обеденный сервиз и идти ли сегодня на вечернюю молитву. Я понимаю, она ведь душа, а я всего-навсего тело – и не надо меня уверять, что все не так! Когда-нибудь я накропаю рассказик для воскресной газеты. «Как я была женой по четным вторникам» – звучит? Ей-богу, хочется иногда, как некоторые делают, взять пулемет, приехать в какой-нибудь аэропорт и пустить очередь по кругу – в кого попадет. Тебе не понять, как я страдаю.
– Ты страдаешь от ревности, от злости и от обиды. А я – потому что чувствую себя виноватым. Это хуже.
– Ах, хуже. Ну так сделай что-нибудь, чтобы не чувствовать себя таким виноватым! Соверши наконец поступок, я давно тебя уговариваю.
– Бессмысленно, это ничего не даст. Мы завязли в этом по уши…
– Кто это «мы»? Ты это говоришь, только чтобы не думать. Ты просто жалкий трус. И не уходишь от нее из трусости, боишься переступить черту. Думать боишься, вот и живешь как сомнамбула. Я хоть вносила капельку реальности в твою жизнь. А там у тебя ничего нет, одни твои буржуйские сны.
– Да что ты прицепилась к этому «буржуйству»! Не произноси слов, если не знаешь, что они означают.
– Отчего же не знаю? Знаю. Твое буржуйство – оно и есть твой сон. Мой мир хотя бы реальный. Пусть гадкий, кошмарный, но реальный.
– Ты вроде недавно говорила, что не все в нем так уж реально? Или я недослышал?
– Убила бы тебя, честное слово. Ты прекрасно знаешь, что я хотела сказать. Ее дом реален, потому что он реально существует, он часть общества, туда приходят люди, она для этих людей хозяйка дома. А эта наша нора для общества ничто, ее все равно что нет. И меня все равно что нет, так, дрянь какая-то, выскочила неизвестно откуда и – ни туда ни сюда. Естественно, что у меня нет друзей! Даже в этой вонючей школе все смотрели на меня как на пустое место. Я для них никто, мать-одиночка. Сволочи. Я уже забыла, когда с людьми разговаривала. Всех собеседников – ты, Пинн да какие-то тетки из комиссии по работе с неимущими. С неимущими – представляешь, до чего дожила! И у тебя еще хватает наглости меня попрекать: я, видите ли, с ним не так разговариваю! Были бы у нас общие друзья, как у нормальных семейных людей, мы бы могли говорить о них, а не только о себе. Трепались бы просто так, сплетничали, как все, смотрели бы по сторонам – а мы только пялимся друг на друга. Какого черта мы вечно торчим тут, как в тюрьме? Неужто нельзя завести друзей, знакомых? Вот хоть этот твой Монтегю Смолл – хочу с ним познакомиться. Я смотрела по телевизору сериал с Мило Фейном, страшно понравилось. Он ведь интересный человек, писатель? Вот и познакомь нас. Вряд ли он побежит жаловаться твоей миссис Флегме.
– Это невозможно.
– Но почему? И вообще, почему ты мне всегда диктуешь, что возможно, что невозможно? Почему я должна тебя слушать? Господи, как я хочу, чтобы мы жили с тобой в настоящем доме, принимали бы гостей, как люди, а не сидели бы в этой чертовой дыре, как преступники!
– Прости меня, милая…
– Даже плакать при тебе боюсь, чтобы, не дай бог, тебя лишний раз не огорчить. Кому сказать – не поверят, но, черт возьми, я все эти годы жила на одной любви, как какой-нибудь паршивый святой на своем святом причастии! Отощала вся на этой любви, скоро совсем от меня ничего не останется! Господи, и как только я все это выношу? Наверное, я все-таки сильная, иначе давно бы уже концы отдала.
– Да, малыш, ты у меня сильная. Ты моя сильная, храбрая, ты моя берлинская путана, моя африканская принцесса!..
– Ну вот, опять ты юлишь и подлизываешься – только бы я замолчала. Знаю я твои штучки.
– Ты мой сверкающий бриллиант, счастье мое бубновое, сумасшедшее…
– И царица ночи. Помнишь, ты раньше меня так называл? Не хочу больше быть царицей ночи, хочу быть царицей дня, ясно?
– Ну, радость моя, ну пожалей меня хоть чуточку. Я ведь тоже такой несчастный.
– Будь мы с тобой все время вдвоем, я бы тебя пожалела и ты не был бы таким несчастным. Ты стал бы со мной счастливым – я ведь женщина, я это умею. Но чего ради я буду тебя жалеть, если ты почти все время не со мной? Ведь ты все, все понимаешь. Ты просил моей любви – ты ее получил. А теперь сам, нарочно, ее убиваешь. Я говорила, что мечтаю тебя разлюбить, но это неправда. В этой любви вся моя жизнь, теперь я от нее уже никуда не денусь. Миленький мой, родненький, как может такая любовь кончиться, она не может кончиться, правда? Ведь она огромная, наша любовь огромная, да?
– Да.
– Ты должен приходить ко мне часто, как раньше, ты должен найти выход, ты должен, должен, должен!..
– Да.
– Знаю, что мы часто ссоримся, но я так тебя люблю, ты вся моя жизнь, ты все. У меня ничего нет, кроме тебя. Ты ведь сделаешь все как надо, правда? Ты можешь, я знаю, что ты можешь.
– Да.
– Уже скоро?
– Да.
– Когда?
– Эмили…
– Хорошо, хорошо. Господи, как я устала, а скоро уже вставать. Вон и солнце за окном. Знаешь что? Ты убил меня и сбросил в ад. А теперь ты должен сам туда спуститься, найти меня и снова оживить. Если ты за мной не придешь, я превращусь в демона и затащу тебя к себе, в царство теней.
По утрам Блейз теперь покидал Патни все раньше и раньше. Это каждый раз превращалось в кошмар, притом почти бессмысленный, поскольку к моменту его возвращения в Худ-хаус Харриет, как правило, уже не спала. Представляя всякий свой утренний приход как случай исключительный («Никак не мог вырваться»), он одновременно пытался убедить себя, что все-таки это ведь была не совсем «ночь на стороне», вот же ночь еще не кончилась, а он уже дома. Он проклинал себя за трусость, подлость и непоследовательность, но стремление поскорее сбежать от обвиняющего голоса Эмили было так сильно, что он не мог ему противиться. Вырвавшись на свободу, он удивительно быстро приходил в норму. Душа его стремилась к Харриет – и к покою. Поразительнее всего было то, что очень скоро он обретал желанный покой и, находясь в Худ-хаусе, почти не вспоминал про Патни.
Пока он натягивал брюки, Эмили то ли спала, то ли делала вид, что спит. Она укрылась с головой, лишь черный хохолок на макушке виднелся из-под одеяла. Когда прошлый раз перед уходом Блейз приподнял край одеяла, она плакала. Сейчас ему не хотелось выяснять, плачет она или спит. Ричардсон и Бильчик, циничные и зловещие, как овеществленные клочья сознания Эмили, вспрыгнули, как всегда, на постель, на освободившееся место, и смотрели на Блейза египетскими немигающими глазами. Он даже не стал бриться, ушел быстро, на цыпочках, лишь бы не раздался за спиной голос, полный слез или упрека – все равно, лишь бы не раздался. В маленькой прихожей он накинул на себя свое новое летнее пальто из серого твида в елочку. Он чувствовал себя измученным и растерзанным. Солнце за окном светило вовсю, но свет был еще холодный, утренний. Уже у самого выхода Блейз заметил, что дверь в комнату Люки распахнута, а в дверном проеме неподвижно стоит Люка, в одной пижаме. Блейз приостановился. Сын смотрел на него темными круглыми, ничего не выражающими, ничего не выдающими глазами.
– Мама еще спит, – сказал Блейз шепотом, просто чтобы что-то сказать.
Люка не ответил. Тоска вцепилась в горло Блейза, но лицо его, как и лицо сына, ничего не выдало. Неопределенно взмахнув рукой, Блейз поспешил дальше.
Пробравшись по сумрачному коридору, он наконец с огромным облегчением затворил за собой входную дверь и свернул в сторону шоссе. Проходя под молчаливыми занавешенными окнами соседних квартир, он уже начал дышать глубже и почувствовал себя гораздо лучше. Ясное холодное солнце светило на ослепительно-яркие купы роз, украшавших аккуратные палисадники аккуратных одинаковых домиков «на две семьи», мимо которых Блейз шел к своему «фольксвагену». Из соображений безопасности он каждый раз оставлял машину на новом месте, поближе к Ричмонд-роуд, подальше от дома Эмили.
Уже подходя к машине, он услышал позади себя ускоряющиеся шаги и бросил взгляд через плечо. Его догоняла Констанс Пинн.
Пинн была у них, как она любила говорить, «соучредительницей предприятия». В самом начале, когда Эмили еще только обосновалась в Патни, Пинн убирала у нее квартиру, потом сидела с Люкой (Блейз тогда еще по вечерам вывозил Эмили в рестораны). Эмили и Пинн скоро подружились, не обошлось без спиртного, и слово за слово Эмили выложила своей новой подруге все, что можно и нельзя. Блейз ругал ее за неосторожность, но Эмили лишь пожимала плечами и говорила, что, во-первых, Пинн ей нужна, а во-вторых, ее все равно трудно обмануть. Пинн действительно демонстрировала изрядную полезность и надежность.
Со временем Блейз стал смотреть на Пинн другими глазами. Пинн и сама сильно изменилась за эти годы. Трудно было даже вспомнить, какой она была вначале. Теперь она частенько посмеивалась над тем, «как она была уборщицей», как бы давая тем самым понять, что с ее стороны то была сугубо временная уступка обстоятельствам, что в тот момент ее просто – ее любимое словечко – «поприжало» и что в социальном плане она и тогда уже была безусловно значительнее простой уборщицы. Надо сказать, что и в этом самом социальном плане Пинн с тех пор значительно продвинулась. Она занималась неустанным «самосовершенствованием» и за несколько лет успела не только заметно поправить свое материальное положение, но и добиться результатов гораздо более глубоких и серьезных. Она с завидной целеустремленностью претворяла в жизнь свою, как она говорила, операцию «Все выше и выше», и Эмили с Блейзом – Эмили стихийно, а Блейз сознательно – немало ей в этом помогали. Она изменила голос, научилась одеваться. Блейз советовал ей, что читать, отвечал на весьма основательные и непростые вопросы («Какие самые важные вещи у Шекспира?», «Какие десять романов считаются величайшими?») и время от времени организовывал для ее новой усовершенствованной персоны контрольные «полевые испытания». Устремления Пинн были в высшей степени похвальны, поведение скромно и тактично. Блейз, кстати сказать, скоро понял, что Эмили все равно понадобилась бы какая-нибудь собеседница и компаньонка, так что, пожалуй, можно было считать Пинн наименьшим из зол. И все же, услыхав за спиной звук ускоряющихся шагов, поймав краем глаза поблескивание изящных очочков, Блейз снова затосковал.
Конечно, он был сам виноват. Конечно, ему не следовало вступать с Пинн ни в какой тайный сговор. Вступая, он не только предавал Эмили, но и подвергал себя самого немалому риску. Ему следовало быть вежливым, благожелательным, соблюдать дистанцию, а главное – сразу же твердо и уверенно поставить Пинн на отведенное ей место наперсницы. Надо было держаться с ней так, будто во всей ситуации нет ничего странного или необычного и будто он по-прежнему уверен в скором ее разрешении. Да, теперь-то он все это прекрасно понимал. А вот тогда Пинн была ему нужна, и нужна позарез. В первые годы его утренние расставания с Эмили выглядели совсем иначе. Тогда он тянул до последнего, уезжал, только когда оставаться дольше было уже никак невозможно, и, прощаясь, всякий раз холодел от страха. Не может быть, думал он, чтобы Эмили, такая молодая, пленительная, умопомрачительная, не была окружена страстными поклонниками; наверняка они осаждают ее, осыпают дорогими подарками и пытаются хитростями и соблазнами добиться ее расположения. Блейз не сомневался в любви Эмили (сомневаться тут было невозможно), но ведь он был все еще женат, никак не мог освободиться. Эмили часто приходилось скучать в одиночестве. А если какой-нибудь подходящий ухажер появится на горизонте как раз в тот момент, когда ей будет особенно тоскливо? Возможно же такое. Не заглядывают ли к ней мужчины? А вдруг да, вдруг они только дожидаются его ухода? Эмили, разумеется, все отрицала – но это понятно, что еще ей оставалось. Как ему узнать правду? Пинн практически предложила Блейзу свои услуги. Теперь ему и самому уже в это не верилось, но ведь было же, и не раз, что в благодарность «за труды» он вкладывал ей в руку фунтовые банкноты.
Пинн выполняла добровольно возложенную на себя миссию с явным удовольствием. В устных «отчетах», составлявшихся ею тщательно и со вкусом, так и не появилось никаких огорчительных сведений ни о каких соперниках, зато она умела подробно и с пугающей точностью проанализировать текущее душевное состояние Эмили. Когда Блейз наконец разглядел, как умно и продуманно действует эта необразованная, в сущности, женщина, ему сделалось не по себе. Он не то чтобы боялся, что Пинн начнет его шантажировать – хотя и такая мысль мелькала, – но со временем начал слишком уж «втягиваться» в эту свою новую тайную связь. Разумеется, внешне это ни в чем не проявлялось, они с Пинн даже никогда не прикасались друг к другу. Теперь он был бы рад избавиться от ее услуг, да не знал как. Конечно, сложившаяся ситуация была делом его рук, но невозможно же без конца выслушивать, как чертовски дотошная наблюдательница перечисляет все ее малоприятные подробности.
К тому же было не совсем понятно, на чьей Пинн стороне. Сначала Блейзу казалось, что на его. Она словно бы заискивала перед ним и словно бы осуждала Эмили, в чем Блейзу виделось даже какое-то вероломство. Но мало-помалу острие ее осуждения стало как будто обращаться против него самого. Встречи с Пинн теперь угнетали его, он начал их бояться. Фунтовые банкноты сошли на нет и больше не появлялись. Блейз пытался ее избегать, давал ей понять, что все, хватит, с этим покончено. Но Пинн, неутомимая волонтерка, не замечала намеков. Она продолжала преследовать его, продолжала улыбаться скромной заговорщицкой улыбкой. А в последнее время у Блейза появились еще кое-какие опасения, расплывчатые, но совершенно ужасные. Что вообще такое эта Пинн, спрашивал он себя, чего она добивается? Теперь ему мерещилось, что она вынашивает какой-то тайный план, что у нее есть некие собственные виды на Эмили. Из слов самой Пинн явствовало, что у нее полно кавалеров (хотя Эмили ни одного ни разу не видела) и что она ведет так называемый «беспорядочный образ жизни» (правда, не в Патни, а неизвестно где). Но вдруг она нацелилась на Эмили и теперь незаметненько подбирается к ней? Вдруг Эмили и Пинн уже замышляют что-то против него – вдвоем? Эмили то и дело цитировала Пинн; в последнее время Блейзу стало казаться, что она просто жить без своей Пинн не может. А теперь вот Пинн и вовсе обосновалась у Эмили.
– Подожди!
Пинн никогда не называла Блейза по имени.
– Посидим в машине, – сказал Блейз, распахивая перед ней дверцу «фольксвагена».
Сидя рядом на переднем сиденье, оба некоторое время молчали. Блейз ждал.
– Что-то ты рано сегодня ушел.
– А ты рано сегодня встала.
– Хотела с тобой поговорить.
– Не стоило так себя утруждать.
– Ничего, мне не трудно.
– Появилось что-нибудь новенькое?
Блейз никак не мог избавиться от заговорщицкого тона.
– Ты знаешь, что она сдала мне комнату?
Эмили у Пинн тоже была всегда без имени, всегда «она».
– Да. Прекрасная мысль.
– Так ты не возражаешь? Если ты против – пожалуйста, я найду другое жилье.
– С чего бы я был против? Я даже рад.
– Очень любезно с твоей стороны.
Новый голос Пинн, ясный и низковатый, звучал внятно, но все еще слишком внятно и слишком старательно, как бывает у заик; с таким голосом, подумал Блейз, удобно скрывать свои чувства. Пожалуй, Пинн говорила теперь чище, чем Эмили (которая перед Блейзом даже выпячивала свой уличный лондонский выговор), но совершенно без выражения. В целом, впрочем, получалось неплохо.
– Где она взяла эту шубу? – спросил Блейз, злясь на самого себя.
Господи, опять, думал он. Сегодня ночью – или утром? – какой-то кошмар. Как могут два нормальных человека в здравом уме и в твердой памяти повторять без конца одни и те же гадости – неделю за неделей, месяц за месяцем?
– Я ей продала.
– За сколько?
– За двадцать фунтов.
Кто-то из двух врет, подумал Блейз. Скорее всего, Эмили.
– А почему, собственно, она не может купить себе новую вещь? – сказала Пинн. – Вот у тебя же появилось новое пальто – по-моему, очень приличное. К слову сказать, тебе идет. А эта ее шубка даже не новая. Зато натуральная белка. Я ее очень удачно приобрела у одной богатой девицы из нашей школы.
– Да ради бога, пусть себе носит свою шубку.
– Хорошо. Мне показалось, что ты против.
– Какая блажь на нее нашла, что она бросила работу?
– Она сказала тебе, что бросила работу? Это не совсем так, ее выгнали. По-моему, она по этому поводу слегка переживает. Что ее уволили.
– Из-за чего?
– Из-за этой самой Кики Сен-Луа.
– Какой этой самой?
– Кики Сен-Луа – та девица, которая продала мне шубку, француженка. Вернее, так, полукровка. Она начала срывать у Эмили занятия, вцепилась в нее прямо мертвой хваткой. Эм, бедняжка, не знала, куда от нее деваться, подергалась, подергалась да и сдалась. Ну и директриса попросила ее уйти.
– Понятно. – Бедная Эмили, подумал Блейз, чувствуя прилив ненависти к Пинн.
– Эта Кики красавица, к тому же ей восемнадцать лет – думаю, из-за этого Эм еще больше озлилась. Эм уже в таком возрасте…
– Понятно. Больше никаких новостей?
Вопрос был задан механически, как и все предыдущие; подразумевалось: нет ли мужчин?
– Нет, нет, ничего такого. Живет как монашка. С тех пор как ушла из школы, практически ни с кем не видится и не разговаривает, торчит целыми днями дома. Кроме телевизора, никаких развлечений. Тут, во всяком случае, ты можешь быть спокоен.
С некоторых пор Пинн научилась придавать каждому своему замечанию оттенок завуалированного упрека.
– Ну, мне пора. Спасибо.
Блейз тоже никогда не называл Пинн по имени.
– Подожди еще пару минут. Я должна тебе кое-что сказать.
Блейз наконец взглянул на собеседницу. В своем новом образе Пинн неплохо смотрелась: короткие, слегка взбитые медно-рыжие волосы, округлые щечки, пухлые губки. Ее новые очки были узенькие, по-восточному раскосые – «восточное» впечатление усиливалось благодаря блестящей оправе с удлиненными, приподнятыми к виску уголками. Из-за очков на Блейза смотрели насмешливые светло-карие, в зеленую крапинку глаза. Сидим тут как заговорщики, подумал Блейз.
– Я тебя слушаю.
– Это насчет Люки.
Насчет Люки. Что ж, понятно. Несмотря на уговоры Эмили, Блейз по-прежнему отказывался встретиться с учительницей Люки, хотя и понимал, что в известном смысле (если во всем этом вообще был какой-то смысл) это его долг. И дело было не в том, что Блейз опасался за свою безопасность, – хотя и в этом тоже. Он боялся задавать вопросы, потому что догадывался, что может услышать в ответ; боялся, что после первого визита понадобится второй, третий и ему неизбежно придется вникать в проблему, что-то думать, что-то решать. На все это, как ни грызла его совесть (на которой Люка по-прежнему лежал самым тяжким грузом), у него не было ни времени, ни сил. Или, если говорить точнее, все его силы уходили на другое. Эмили, разумеется, этого не понимала – точно так же, как не понимала, почему она не может съездить в Париж, – а Блейз предпочитал не объяснять, тем более что истинные его мотивы были даже подлее, чем ей казалось. Он не давал ей денег на поездку не из скаредности, как она полагала, а из самой что ни на есть банальной ревности (Париж, как известно, полон мужчин); он, как собака на сене, держал ее при себе и при этом тщательно скрывал от нее свои опасения, чтобы она не выкинула со зла какую-нибудь глупость.
Он по-прежнему терзался ревностью, по-прежнему, несмотря ни на что, сходил с ума от одной только мысли, что она может ему изменить, – еще одна проблема, с которой сейчас ему недосуг было разбираться. Положение и впрямь идиотское. Чтобы Эмили не чувствовала себя слишком ущемленной, он отказывал в поездках и Харриет (которая, кстати, никогда не жаловалась); это была как бы жертва с его стороны, за которую Эмили, как ему казалось, должна быть ему благодарна; однако он и этого не смел ей сказать, ведь она могла подумать, что он нарочно пытается уладить и утрясти все ту же ненавистную ситуацию, которую он, конечно же, пытался уладить и утрясти, – и они оба это знали. Но говорить с Эмили обо всем этом было невозможно, она и без того превратила его жизнь в кошмар. А теперь еще Пинн собралась читать ему мораль насчет того, чтобы он «съездил в школу» и занялся наконец Люкой. За последние два месяца Люка не сказал Блейзу ни слова. Блейз пытался с ним заговаривать, приносил подарки – мохнатого поросенка, заводную мышку, набор юного химика, – но так ничего и не добился. А вот с Пинн, если верить Эмили, Люка общался. Рассказывал про каких-то извивающихся головастиков. Спрашивается, почему сын не может поговорить об этих дурацких головастиках с отцом? Снова Блейз оказывался кругом виноват. Он ждал, глядя на Пинн с опаской и неприязнью.
– Ты знаешь, что Люка был у тебя дома?
– Был… где?
– У тебя дома. Там, где живет Харриет.
– Что?!
– Он был там несколько раз. Как минимум два.
Солнце померкло, в клочьях мрака Блейз едва различал круглощекое, сияющее любопытством, довольное, зловещее лицо Пинн.
– Это невозможно.
– Почему же невозможно? Возможно. Он был там.
– Но… Нет-нет, не может быть. Откуда ему знать, где это? И как он мог туда попасть?
– Забрался в твою машину, укрылся пледом на заднем сиденье – так и попал. Во всяком случае, в первый раз.
Блейз обернулся и тупо посмотрел назад. Он не удивился бы, если бы увидел сейчас перед собой лицо сына, серьезное и сосредоточенное.
– А тебе это откуда известно?
– Он сам сказал.
– Как он узнал, что это моя машина?
– Про машину он знает давным-давно. Я тебе просто не говорила, не хотела зря беспокоить. Наверное, возвращался как-нибудь из школы, а ты как раз подъехал. А может, проследил утром, куда ты идешь. Он хитрющий.
– Этого не может быть, просто не может быть. Дети иногда сочиняют самые немыслимые вещи. Он тоже все насочинял. Что именно он тебе говорил?
– Говорил, что спрятался в белой машине и ездил к папе, в другой дом. Говорил, это большой дом, внизу у него большие высокие окна, наверху маленькие квадратные. А сам он стоял за большим-большим деревом и смотрел. Я спросила, что еще он видел. Видел очень красивую тетю и мальчика – «взрослого мальчика», так он сказал. Я ему говорю: «Интересно, кто они такие?» – а он мне: «Я знаю, кто они такие». И сказал, что вечером в тот день, когда у них в школе были соревнования, он опять туда ездил. Тогда он взял с собой школьный обед и скормил собакам. Вроде бы там много собак.
– О боже. Что еще говорил?
– Больше ничего, потом начал опять про каких-то букашек. Я решила, что лучше всего улыбаться, делать вид, что так и надо, чтобы его не тянуло выбалтывать это всем подряд.
– Как мог ребенок в таком возрасте – один – забраться в такую даль?
– А он самостоятельный. Дети сейчас вообще жутко самостоятельные. Спускается в подземку и ездит по всему городу. Школу прогуливает, часто по вечерам исчезает неизвестно куда, возвращается чуть не ночью. Эмили говорит, он просто играет на улице, но на самом деле она понятия не имеет, где он и чем занимается.
– Она никогда мне этого не говорила.
– Ну, мало ли чего она тебе не говорит, не хочет лишний раз огорчать. Вот когда у нее накопится побольше всяких гадостей, когда она сама как следует распалится, тогда и вывалит их тебе на голову, все скопом.
– Да, да. О господи. А Эмили знает?.. Ну, что Люка…
– Нет, я ей не говорила. И Люка не говорил, иначе она бы тут такое устроила! В общем, я была бы в курсе.
Блейз перевел взгляд на ряды одинаковых домиков. В них уже отпирались входные двери, отодвигались засовы на калитках – люди спешили на работу. Солнце светило на аккуратно подстриженные газоны и на ярко-оранжевые розы, все шло своим чередом. От этой мирной картины хотелось орать, выть. Как может человек терпеть такую идиллию снаружи – и такую бурю внутри?
– Не говори Эмили, – попросил он.
– Что ты, нет конечно.
Не важно, все равно это был конец. Все. Теперь уже точно все. Люка был в Худ-хаусе, он стоял под нашей акацией, думал Блейз, и в душе у него поднималось что-то темное и смутное, страшнее страха и тоски. Случилось невозможное, немыслимое, и это немыслимое уже вошло в его жизнь, опрокидывая законы логики, опрокидывая все. Конец, все, два мира встретились. Как это могло произойти? Они были так абсолютно отдельны друг от друга, только благодаря их отдельности в этой жизни еще сохранялся какой-то порядок. Их отдельность была непреложным условием существования, отправной точкой любой мысли, и к ней же сводилась в конечном итоге любая мысль и само существование. Раньше Блейз всегда был уверен, что помешательство ему не грозит. Но теперь, когда Люка легко, как сквозь папиросную бумагу, прошел сквозь все его железные заслоны – шаг – и в Зазеркалье, – Блейзу приоткрылся на миг клокочущий хаос его собственной души. Люка был в Худ-хаусе, он видел Харриет и Дэвида, он кормил собак.
Лицо Блейза ничего не выражало.
– Хорошо, спасибо, – сказал он. – Мне пора.
Пинн выбралась из машины.
– Что будешь делать? – спросила она, прежде чем захлопнуть дверцу.
– Не знаю.
Пинн проводила взглядом белый «фольксваген», быстро удалявшийся в сторону Патнийского моста. Ее круглое лицо казалось сейчас одухотворенным, почти прекрасным. Как все интересно и непредсказуемо! Пинн рассмеялась от возбуждения.
Монти смотрел из окна спальни на свой газон, едва подсветленный жидким сероватым светом. За газоном тянулся сад – раньше Монти почему-то не замечал, что он виден отсюда. В предутренней мгле сад казался огромным – целый лес стволов под куполом мрака. Тут Монти почудилось, что между стволами как будто движутся тени. «Кто это может быть?» – подумал он, с беспокойством вглядываясь в темноту. Тем временем три тени уже выбрались на открытое пространство газона, их стало хорошо видно – три фигуры в длинных черных одеждах. «Монашки? – поразился Монти. – Что три монашки делают в моем саду, да еще в такой час? И что мне делать – спускаться выяснять, что им нужно?» Пока он колебался, монашки успели пересечь газон, хотя он был очень длинный, и приближались к дому. Они бежали, путаясь в своих черных одеяниях. Они чем-то напуганы, понял Монти, и тут же ему самому стало страшно. Да что с ними такое? Первая монашка уже подбегала к крыльцу; Монти вдруг ясно увидел ее искаженное болью и страхом лицо. Это была Софи. Какая она стала старая, поразился он. Странно: чего она так боится, от чего убегает? Да, совсем старая, просто древняя старуха. Волосы седые, лицо в морщинах. Я думал, что она умерла, а она, оказывается, просто состарилась. Может, смерть и есть старость – почему мне раньше никто об этом не говорил?
Монти проснулся. Как всегда, в первую долю секунды ничего не было, потом нахлынуло все разом. Вспомнилось лицо Софи в последние дни болезни – сморщенное, как у новорожденного младенца, в каждой черточке страх и страдание, в глазах невысыхающие слезы. Смерть нанесла жестокий удар, отобрав ее у него еще живую.
Было пять часов, птицы за окном чирикали на все голоса. Монти встал, подошел к окну и раздвинул шторы. Простыня газона за окном лежала не такая длинная и не такая темная, как во сне, но все еще странная и зловещая; по ней спокойно и невозмутимо двигалась черная тень, явившаяся из-за угла, со стороны сада. Это был Аякс. Заметив Монти в окне, Аякс остановился. Жуткий пес, подумал Монти, пока они с Аяксом разглядывали друг друга в тусклом утреннем свете.
– Ну, как Магнус?
Харриет смела крошки с клетчатой скатерти себе на ладонь и вытряхнула в раковину.
– Как всегда.
– То есть…
– Как всегда.
– Бедненький, – сказала Харриет, – как ты устал. Неужели нельзя отложить утренних пациентов? Это ведь тоже не дело, работал чуть не всю ночь – и с утра опять за работу.
– У меня сегодня доктор Эйнсли и миссис Батвуд. Они все равно придут, и мне все равно придется с ними беседовать.
– Ну так объясни им, что ты сегодня устал, и выгони поскорее. Ты весь как выжатый лимон. Ты, случайно, не заболеваешь?
– Я совершенно здоров!
Кофейная чашечка Блейза так выразительно звякнула о блюдце, что Харриет вздрогнула. Некоторое время она ополаскивала недомытую кастрюлю, молча поглядывая на мужа. Какой он сегодня измотанный, раздражительный.
– Когда уже этот твой Магнус Боулз пойдет на поправку? Вроде бы приличный человек, а тебя вон до чего доводит.
– Главное, чтобы платил исправно, больше от него ничего не требуется.
– Что вы с ним сегодня обсуждали?
– Вряд ли это можно назвать обсуждением.
– Ну все равно, о чем говорили? Что он видел во сне? По-моему, у Магнуса, из всех твоих пациентов, самые замечательные сны.
– Ему снилось, что он яйцо.
– Яйцо?
– Да, такое гигантское белое яйцо в бирюзовом море – плавает на поверхности, а кругом больше ничего и никого.
– По-моему, это хороший сон.
– У Магнуса сны не бывают хорошими. Все его сновидения в конечном итоге оборачиваются страхами. Теперь вот ему кажется, что руки и ноги у него потихоньку укорачиваются, тело округляется, а лицо сплющивается. Он без конца заглядывает в зеркало, проверяет, не пропал ли у него нос.
– Неужели он по-настоящему думает, что превращается в яйцо?
– С Магнусом Боулзом вообще не очень понятно, что значит «по-настоящему». У него только страхи вполне настоящие.
– Он опять плакал?
– Как всегда.
– Бедняжка. И что значит этот его сон?
– Он боится, что его кастрируют.
– Ой, как жалко, – сказала Харриет. – А сон такой красивый. Прямо сон художника.
Она попробовала представить себе огромное белое, чуть кремоватое яйцо и вокруг – океан насыщенно-бирюзового цвета. Образ, тут же возникший у нее перед глазами, подействовал успокаивающе.
– И обжорство его – в сущности, то же самое. У мужчин-неудачников так часто бывает: они пытаются скрыть страх перед кастрацией и начинают пожирать все подряд. Знаешь, если все-все проглотить, то вроде бы уже и бояться нечего. Это бывает, особенно у несостоявшихся художников.
– А он ничего не говорил про своего епископа с деревянной ногой?
– Говорил: епископ уже наступает ему на пятки.
– А про меня?
– Велел передать свое почтение леди.
– Мне нравится, как он меня называет – «леди», как в старинной легенде. Все-таки я для Магнуса что-то значу. Если бы нам удалось с ним хоть раз побеседовать! Ему бы это помогло, я уверена.
– Да не нужны Магнусу никакие дамские беседы! Электрошок – вот что ему нужно.
– Ты же всегда был против шоковой терапии.
– А для него вообще самый лучший исход – летальный.
– Ну не надо так, зачем ты. Надеюсь, у Магнуса нет тяги к самоубийству?
– Конечно, я против шоковой терапии! Потому что любой серьезный научный подход может оставить меня без работы.
– Дорогой, тебе надо отдохнуть до прихода доктора Эйнсли.
– Этот толстозадый, друг Монти, опять сегодня заявится? Как там его?..
– Эдгар Демарнэй. Да, он хочет поговорить со мной о Монти, хочет попытаться ему помочь. Хорошо бы познакомить его с Дэвидом, но они пока еще ни разу не пересекались. Знаешь, он ведь ректор…
– Господи боже мой, как мне осточертели все эти помощники! Такие все кругом сердобольные, отзывчивые. И ты тоже хороша, тебе только дай кого-нибудь подержать за ручку. Раньше у тебя в коллекции были одни только четвероногие кобели, а теперь, смотрю, на двуногих переключаешься…
– Блейз, дорогой, если тебе так неприятно, что он приходит…
– Да ради бога, пускай приходит! Давай, держи его за ручку. Авось и этот воспылает к тебе любовью.
– Зачем ты так! Монти в меня не влюблен.
– Ничего, скоро влюбится! Ты, главное, продолжай разыгрывать перед ним ангела-хранителя! Вот бы кого шарахнуть электрошоком, ей-богу, а то распустился уже до неприличия. Да пускай хоть все приходят! Заодно передам тебе своих пациентов, чтобы ты их тоже держала за ручки!
– Дорогой… ну пожалуйста… ты просто устал…
– А, черт!.. Извини, Харриет. Ну извини, извини…
И он стремительно вышел из кухни, хлопнув дверью.
Харриет хотелось плакать. Они с мужем никогда по-настоящему не ссорились, и даже если он злился, она никогда не отвечала на его выпады. Но подобные сцены, происходившие редко, хотя в последнее время участившиеся, всякий раз больно ее задевали. Разумеется, она понимала, что дело тут только в усталости и накопившемся напряжении. Просто так он ведь никогда не говорит нехороших слов, думала она, только после Магнуса. Отдает себя Магнусу без остатка, а домой приходит весь выжатый. Такой уж он человек, отдает себя всем, кто в нем нуждается. Для Харриет их с Блейзом внутренняя связь была непреложной данностью, и, когда она вдруг ненадолго нарушалась, как сейчас, Харриет, конечно, страдала и мучилась, как от головной боли, но не искала в этом симптомы глубокого разлада. В такие минуты она чувствовала себя ужасно: собственные слова слышались ей как бы со стороны, и казалось, что их произносит какая-то глупая, необразованная, толстокожая женщина, которая не умеет ничего сказать вовремя и к месту. Неудивительно, что Блейз злится на нее все чаще. Наверное, он иногда жалеет, что не женился на какой-нибудь интеллектуалке.
– Чем это вы с Кики вчера полночи занимались? – спросила Эмили. – Ты явилась чуть не под утро.
– Пили.
– Где?
– Сначала в кафе, потом у нее в машине. Ездили за город.
– А возвращалась она опять через окно?
– Да.
– Не школа, а цирк какой-то.
– Что поделаешь, девочке уже восемнадцать. Если верить ее словам.
– Господи, где мои восемнадцать лет! Ах если бы сейчас – я бы кое-что повернула по-другому.
– Как вчера Блейз?
– А что Блейз? Блейз слюнтяй. По-моему, он просто матроны своей боится. Хотя он и скандала боится, и решить что-нибудь боится, и всего на свете. Я, конечно, устроила ему славную ночку, а что толку? Ему только бы его оставили в покое. Ну я и оставила. Короче, тоска.
– Женатые мужчины всегда трясутся за свои семьи, – заметила Пинн. – Многие погуливают, гоняются за молоденькими, но все равно, дом для них – святая обитель. И Блейз твой такой же, трясется за свое сокровище. Так что в конце концов его матрона восторжествует.
– Когда он будет, этот конец? – усмехнулась Эмили. Они с Пинн уже позавтракали и пили кофе. Люка ушел в школу. Или не в школу – в общем, ушел. В кухне было жарко, пахло мусорным ведром и чем-то горелым. На всех поверхностях лоснилась жировая пленка, такая равномерно тонкая, что казалось, будто жир днем и ночью вплывает в окно вместе с летним городским воздухом. Везде, даже на скатерти, темнели отпечатки пальцев. От Ричмонд-роуд доносился непрерывный рев и скрежет. – Эх, убила бы себя. Да видно, кишка тонка.
Пинн ковырялась в зубах оранжевой маникюрной пластмассовой палочкой, которой она обычно подчищала себе ногти у основания.
– Ты должна на него как следует нажать, – сказала она.
– Я и так жму, жму, да что-то ни с места.
– Ты не жмешь, ты канючишь – показываешь свою слабость, и все. Так ты его только раздражаешь, это дает ему силы сопротивляться. Ты должна нажать на него по-настоящему, понимаешь? Потребуй, чтобы он рассказал все жене, а не то ты ей расскажешь.
Эмили немного помолчала. На ней был все тот же розовый стеганый халатишко. Переодеваться не хотелось, да и незачем. Этой ночью ей приснилась кошка с изуродованной страшной головой. Кошка упала в водосточную трубу, и Эмили пыталась вытащить ее снизу. Но из трубы выпадали одни только черные сгустки грязи. Кошки не было, она разложилась.
– Понимаешь, я ведь тоже боюсь, – сказала она. – Я боюсь его потерять. У меня Люка. И вообще, вся моя жизнь катится черт знает куда, а я только смотрю и ничего не могу сделать. Блейз хотя бы о нас заботится и относится вполне прилично – особенно если учесть, какие концерты я ему устраиваю. Это я из него кровь сосу, а не он из меня. Бросить он меня не бросит, тут я спокойна. А так просто взять и потерять все я не могу. Не могу, честное слово. Если я подложу ему такую свинью, он может просто озвереть. Правда. Может выкинуть все, что угодно. О боже, какая я трусиха.
– Это точно, – сказала Пинн. – Ты трусиха. Я бы не потерпела. Во всяком случае, я бы уж постаралась разнести эту его вшивую «обитель». Конечно, его матроне хорошо: у нее там все в полном ажуре, все любо-мило, прямо идиллия. И ему хорошо, успевает и там и тут, живет припеваючи. Но если матрона узнает, что ее муженек брехло паршивое, что он от тебя без памяти, а ее столько лет водит за нос, – она, пожалуй, запоет по-другому. Глядишь, и ему у семейного очага покажется уже не так уютно. Послушает для разнообразия, как она орет, вопит и рыдает, может, и сбежит от нее к тебе. Пока что у него там все так распрекрасно, так законно – чем не убежище? Он и спешит каждый раз от тебя туда, зализывать раны. А разнеси ты его убежище в щепки – ему придется подыскивать себе что-то другое. Вот тогда и хватай быка за рога, это твой шанс. Думала ты об этом?
– Господи, да обо всем я думала… Но я не знаю. Я просто не могу знать, что случится, вдруг он… возненавидит меня и… Мало ли как все обернется.
– Это да, – сказала Пинн. – Но я бы на твоем месте захотела посмотреть на ее слезы.
Милый мой мальчик!
Думаю о тебе с такой любовью и так ясно вижу перед собой твое лицо, что, кажется, вот сейчас протяну руку – и коснусь тебя. Понимаешь ли ты меня? Быть может, материнская любовь вовсе недоступна мужскому пониманию. Наверное, Бог есть в первую очередь мать. Но зачем я говорю тебе о своих чувствах, мальчик мой? Ведь мы с тобой всегда дышали в унисон. Мы с тобой – прежде, теперь и всегда. Я знаю, наша огромная любовь поможет тебе превозмочь скорбь. Она уже тебе помогает. Думаю о тебе неустанно, хотя жизнь моя, как всегда, полна деревенских забот. Сообщаю тебе, что сегодня ты вместе со мной заходил в дом призрения, потом был у нашего священника, потом в антикварном магазине, проведал детишек в садике и даже заседал в нашем местном комитете Женского института. Везде, везде я ношу тебя с собой, дитя мое, как носила когда-то. Скоро мы увидимся, я приеду к тебе. Пока же не решай никаких имущественных вопросов…
Монти дочитал письмо до конца и сразу же порвал. Раньше, еще до его женитьбы, миссис Смолл тоже писала своему сыну любовные письма. Когда появилась Софи, тон ее посланий резко переменился – что, по-видимому, должно было восприниматься им как своего рода наказание. Теперь миссис Смолл могла снова вернуться к любовно-эпистолярному жанру, снова упиваться чувственным потоком. Бог есть мать, мать есть Бог. Лиони никогда не любила своего мужа-священника глубокой и полной любовью, видимо приберегая свои чувства на какой-то более важный случай. Замужество оказалось для нее разочарованием как в социальном, так и в эмоциональном плане. Она просто честно играла в религию, точно так же как сейчас честно играла в благотворительность. Эротика и мистика любви приоткрывались миссис Смолл только через сына. Его литературный успех и слава казались ей достойным венцом ее собственной жизни.
Монти, несмотря ни на что, всегда поддерживал связь с матерью. Он не опускался до поддакиваний, когда Софи начинала перемывать косточки своей свекрови, хотя иногда смеялся над ее колкостями (которые казались бы злыми до неприличия, не будь они высказаны в такой остроумной форме). Его не устрашала великая машина материнской любви, урчавшая теперь вдалеке от него. Он не то чтобы не чувствовал ее вибраций, но не обращал на них внимания: не видел, не слышал, не понимал намеков. Еще в детстве он с редкостной для маленького мальчика прозорливостью понял, что мать может убить его одной силой своей любви, как огромная свиноматка может по нечаянности задавить свой приплод. Ребенок начал отдаляться от матери, на Лиони повеяло едва заметным холодком. Ее охватил смертельный страх, который она постаралась скрыть. Монти почувствовал этот скрытый страх, но держался стойко. Следя друг за другом напряженно, как соперники перед схваткой, они как бы медленно, молча двигались по кругу. Где-то внутри этого молчаливого напряжения и появился маленький эмбрион, зародыш Мило Фейна.
Монти лежал на траве у себя в саду. Послеобеденное солнце уже выжгло своим горячим золотом всю небесную голубизну и теперь взялось за листву деревьев, пробивая зелень иглами и звездами ослепительного света. Где-то далеко куковала кукушка, от этого тишина становилась пронзительнее. Под лиственным пологом было жарко, душно, пахло сеном. От стога в углу сада расплывался упоительный запах прели и гари, казалось, еще немного – и сено загорится. Было ощущение, что скоро может начаться гроза, но пока в густом сладковатом воздухе клубилась идиллическая безмятежность. Трава, успевшая отрасти после покоса, зеленела буйно, как в начале лета. Она тоже была прогрета солнцем, хотя на ощупь казалась прохладной. Монти лежал на животе, подперев руками подбородок. Он был без пиджака, но все равно обливался потом. Рядом, вытянувшись на спине, лежал Дэвид, в купальных трусах и цветастой пляжной рубашке. Время от времени они негромко беседовали.
– Мне приснилось, что по комнате кружила летучая рыба, – говорил Дэвид. – Она была голубая и кружила у меня над головой. Я очень за нее волновался: мне казалось, нужно ее поймать и посадить в воду, иначе она умрет, и я все бегал за ней с сачком. А потом я вдруг оказался в нашей школьной часовне, а рыба перестала кружить, спустилась вниз – плавно, как птица, – и улеглась на алтарь…
Красивый мальчик, думал Монти. Свет юности вожделен и прекрасен. Зачем человек осужден на увядание плоти, на угасание этого изначального огня? А он сам – как бездарно и безрадостно он растратил годы своего горения! Притворялся, лицемерил, корчил из себя какого-то «рокового» героя – зачем? Чтобы произвести впечатление на глупцов вроде Эдгара Демарнэя? Не отдавал себя до конца ни любви, ни познанию. Краткие его любовные романы замыкались на нем же самом. Возможно, война с Лиони подточила его силы еще в детстве. Возможно, тот угаданный им материнский страх слишком рано внушил ему неправедное сознание собственной власти. Неудивительно, что Мило Фейн, безжалостный убийца, не умевший улыбаться, стал его возмездием и могилой его таланта. До Софи он жил лишь наполовину, его вторая половина была мертва. Только неотразимая самовлюбленность Софи, ее лучезарная энергия, ее способность отдаваться радости целиком, без остатка, – только она наполнила его жизнь светом, дала ему силы, чтобы стерпеть боль от ударов, наносимых ею же. Иногда он чувствовал себя вечной жертвой, которую убивают лишь затем, чтобы тут же воскресить для новых страданий. Если бы не эта проклятая ревность, думал он. Он бы давно уже избавился от Мило, и бездумная, беспечная, сияющая Софи превратила бы его в нормального человека, в художника. Если бы ревность не обезобразила его прекрасную любовь еще до того, как ее обезобразила смерть. Если бы он мог быть не таким, каким был, и вести себя не так, как вел, а как-то иначе. Он пытался, медитировал. Не помогло, увы. Неужели это его судьба – вступить в жизнь Мило Фейном, покинуть ее Магнусом Боулзом?
– Сновидения – такая удивительная вещь, правда? – говорил Дэвид. – В них все красиво, не как в жизни. Даже какая-нибудь гадость и та выглядит во сне совсем по-другому. А в жизни на нее, может, и смотреть противно – как на собак во время кормежки.
– Да, нашим сновидениям присущи иногда наивная чистота и свежесть, – сказал Монти. – Только не надо требовать от них слишком многого и не надо копаться в них и искать каких-то объяснений.
– Как мой отец?
– Пусть они прилетают и улетают, как птицы.
– Вы не верите в «бесконечные глубины сновидений, из которых рождается сама жизнь»? Это из последней статьи моего отца.
– Нет, – сказал Монти. – Сновидения – это сказочки, которые люди рассказывают друг другу за завтраком.
– Подождите, вы что, правда думаете, что нет никаких глубинных причин, никаких механизмов, которые всем управляют? Думаете, все это ровно ничего не значит?
– Смотря что ты подразумеваешь под «глубинностью».
– «Смотря что» – кажется, то же самое вы говорили о религиозных образах.
– Религиозные образы суть в некотором смысле порождения эстетики, – сказал Монти. – Ведь кто-то их создавал. Но нужны они нам для того же, для чего и сновидения.
– То есть… для чего?
– Для гигиены нашего эго. Удачная религия дает каждому сознание собственной невинности и рецепт счастливой сексуальной жизни.
– Каждому – даже какому-нибудь отшельнику или аскету, который сидит себе на столбе и медитирует?
– Этому в первую очередь.
– Мой отец говорит, что в основе религии лежит потребность в самобичевании.
– У твоего отца на многое имеется своя излюбленная точка зрения. Какие-то стороны религии связаны с самобичеванием, какие-то нет. Религия – штука сложная.
– Так вы не верите в религию, Монти?
– В такую нет.
– А в какую верите? В какую-нибудь по-настоящему глубокую?
Монти ответил не сразу. Обсуждать все это с Дэвидом не хотелось. Лишь юношеская непосредственность собеседника делала возможным подобный разговор, но она же делала его бессмысленным. Можно было, конечно, изречь какую-нибудь глубокомысленную полуправду, но тоже не хотелось. Объяснить такие вещи по-настоящему невозможно, потому что такие вещи необъяснимы.
– Варрон говорил, что многие боги вымерли от забвения.
– И что?
– Когда все боги будут преданы забвению и вымрут, тогда, возможно, начнется настоящая религия.
– Не совсем понимаю. А как же Христос? Он так меня мучает.
– Не обращай на Него внимания. Он пройдет, как проходит все. Как радуга.
– Скорей бы уже, – сказал Дэвид. – А кстати, Он ведь тоже был в моем сне. Стоп, кто же Он был? Тот, который бегал с сачком за летучей рыбой, когда потом мы вместе оказались в часовне, – или сама рыба?
Монти молча разглядывал руку Дэвида, лежавшую на траве. Тонкие светло-золотистые волоски росли сначала вниз, а ближе к внешней стороне руки плавно загибались кверху; сквозь нежную, почти белую кожу локтевой ямки просвечивали голубые вены. Монти захотелось наклониться вперед, припасть к этой влажной ямке, ощутить губами горячую пульсацию крови. «Софи больше нет, – думал Монти, – а мне хочется поцеловать руку этого мальчика. Может быть, это первый несуразный знак возвращения к жизни? Тогда лучше уж совсем не возвращаться. Впрочем, – возразил он сам себе, – почему это обязательно должен быть знак? Скорее всего, он ничего не значит, или, точнее, не имеет значения, как Христос Дэвида. Я должен продержаться, должен вытерпеть все это, иначе меня ждет удел Магнуса – белое яйцо».
– А может, разбавлять? – спросила Харриет. – Подливать постепенно больше и больше воды, тогда виски получится меньше.
– Мне просто придется пить больше воды, чтобы получить то же количество виски, – сказал Эдгар. – Понимаешь, организм хитрый, его не обманешь.
– А молиться ты не пробовал?
– Ты потрясающая женщина! Ни одна женщина из тысячи не задаст этот вопрос: пробовал ли я молиться? Признаюсь, пробовал. Помогало, но ненадолго. Чтобы молитва помогла, мне ведь надо самому стать лучше. А чтобы стать лучше, надо бросить пить.
– А разве нельзя просто сказать себе: все, хватит – и бросить?
– Пробовал. Но это тяжко – кажется, вот сейчас не вынесу страданий и умру.
– Как у наркоманов?
– И больно. Любая мысль причиняет боль. Но знаешь, теперь я придумал кое-что поинтереснее, чего раньше не пробовал. Кто знает, вдруг сработает.
– Что же это?
– Вот если бы ты мне приказала, чтобы я пил меньше…
– Я?
– Видишь, какой я жалкий человечишка, я даже не говорю «чтобы бросил», говорю «чтобы пил меньше». Так вот, если бы ты мне приказала…
– Но почему я?
– Потому что… Ах, Харриет, милая, ты знаешь почему…
– Опять ты за свое! Ну хорошо. Эдгар! Я приказываю тебе: отныне ты должен меньше пить!
– Спасибо. Ну вот сейчас, только эту чуточку допью – и начну…
– Нет уж, эту чуточку придется пропустить.
– Да? Жаль. Ну ладно, раз ты так считаешь…
Харриет рассмеялась. Они сидели за круглым столиком на кухне. Харриет только что закончила чистить клубнику, и над кухней висел стойкий, почти осязаемый клубничный запах.
– Харриет, какое у тебя замечательное платье – похоже на клубнику со сливками. Нет, на клубничный пирог со сливками. И как это у вас, женщин, получается?
– Я рада, что вы с Блейзом наконец познакомились. Что это за грек, про которого вы с ним говорили? Ну, который лечил людей одними разговорами?
– Антифонт. Твой муж очень добрый человек, он держался со мной так любезно.
– Да, он добрый.
– Я бы на его месте не слишком мне доверял.
– Но почему? Мы уже сто лет женаты. Среди моих друзей много мужчин.
– Да? Как жалко. Я надеялся, что я единственный.
– Но ты же знаешь, Монти тоже мой друг. Поразительно, что вы с ним, оказывается, так давно знакомы.
– Люди всегда переводят разговор на Монти, как только выясняется, что мы учились вместе.
– Расскажи мне, пожалуйста: какой он был в молодости?
– Вот-вот! И Софи, в тот день, когда они с Монти познакомились, сказала мне ровно то же самое.
– И главное, именно ты тогда представил их друг другу. Это все решило. А как ты сам познакомился с Софи?
– Я делал стихотворный перевод «Агамемнона»[13], по нему поставили спектакль. Софи играла Клитемнестру. Ну я, естественно, и втюрился без памяти.
– А раньше… я имею в виду, до Монти… Софи любила тебя?
– Нет, – задумчиво сказал Эдгар. – Она любила Мокингем.
– Это… кто?
– Мокингем? Это мой дом. Приезжай, я тебе его покажу.
– Надо же, ты сам свел Монти и Софи.
– Не я, а судьба. То есть, конечно, я, но так уж мне было суждено – их свести. Знаешь, бывает, что человеку на тебя глубоко плевать, он, если угодно, даже тебя презирает, но все равно всю жизнь управляет твоей судьбой.
– Монти тебя не презирает.
– Я презренный, – сказал Эдгар. – Почему бы ему меня не презирать?
– Какие глупости! Монти нуждается в тебе.
– Вряд ли. У него связано со мной слишком много воспоминаний. Для презрения этого вполне достаточно.
– И потом, ты такой умный, столько всего знаешь. Монти сказал мне, что ты знаменитый ученый. Только я до сих пор не знаю, в какой области.
– Область, по правде сказать, несерьезная. Так, ранние греки.
– Ой, расскажи мне немного о том, что ты знаешь.
– О том, что я знаю, почти никто ничего не знает. Поэтому все очень легко.
– А кого ты изучаешь? Назови хоть несколько имен.
– Анаксагор. Анаксимандр. Анаксимен. Антифонт. Алкмеон.
– Ни про кого не слышала.
– Аристотель.
– Про Аристотеля слышала. А почему они все на «А»?
– Потому что все они служили Афине и жили в начале мира. Правда, был еще Фалес.
– Что он делал?
– Он думал.
– А что он написал?
– Ничего.
– Тогда зачем его изучать, если он ничего не написал?
– Сократ тоже ничего не написал. И Христос.
– А что они такого открыли, эти ранние греки?
– Что мир управляется законами.
– Ну, по-моему, это и без них всем известно!
– Это сейчас. А тогда об этом еще никто не догадывался. Люди вообще додумываются до всего страшно медленно.
– И все-все, до чего они тогда додумались, теперь кажется нам очевидным?
– Нет. Парменид, например, считал, что в мире реально существует только один-единственный предмет, который никогда не меняется. А Эмпедокл говорил, что любовь способна превратить весь видимый мир в шар, и этот шар будет бог, и он ничего не будет делать, только думать.
– По-моему, это очень похоже на яйцо Магнуса Боулза.
– Кто такой Магнус Боулз? Один из твоих многочисленных друзей-мужчин?
– Нет, это пациент Блейза. Я его никогда не видела. Он такой несчастный.
– Ты так мило его пожалела. А меня тебе не жалко? Смотри, какой я несчастный!
– Нет, нет, нет, мне тебя совсем не жалко! Ну хорошо, можешь выпить еще немного, но я сама сейчас как следует разбавлю тебе виски водой.
– Гераклит считал, что сухие души лучше влажных. Сухие души возносятся вверх, влажные опускаются вниз.
– По-моему, они там все были поэты какие-то, а не философы.
– Знаешь, я уже забыл, когда я разговаривал с порядочной женщиной. Не в том смысле, что я все время разговаривал с непорядочными. Но застольная болтовня ведь все равно не разговор.
– А почему ты занялся древними греками?
– Из-за одного человека. Его звали Джон Бизли.
– Кто он был такой?
– Он был ученый. Он был бог. Я чувствую себя недостойным червяком, когда думаю о Бизли.
– А ты, наверное, был у него любимый ученик?
– Нет. Я и тогда был червяк. Таков мой всегдашний удел – неразделенная любовь. И вот, как видишь, опять та же ситуация.
– Эдгар, нет никакой ситуации!
– Для тебя нет, потому что ты сама ее причина и тебе не надо беспокоиться о следствиях. И все же в неразделенной любви есть что-то противоречивое, какой-то парадокс. Если это истинная любовь, то она все равно заключает в себе свой предмет. Есть, кстати, доказательство существования Бога, основанное на этом принципе.
– Это как у того грека, который говорил, что любовь может все на свете скрутить в один шар?
– Не важно. Я не так уж много знаю об Эмпедокле, зато знаю достаточно о любви. Так что не волнуйся. И позволь мне любить тебя. Можно я возьму тебя за руку? Блейз не будет возражать? Честное слово, я абсолютно безобидный.
Харриет рассмеялась. Этот умный, немолодой, похожий на толстого мальчика-переростка человек возник в ее жизни внезапно, и она совершенно не представляла, что с ним делать. У нее и правда было несколько друзей-мужчин, но их всех она знала давным-давно, в основном через Эдриана. Она никогда не флиртовала с ними и не кокетничала – тем более что не имела к этому ни склонности, ни таланта, – и в ее с ними общении не было решительно ничего непредсказуемого. Эдгар же, как ей казалось, приблизился к ней каким-то неведомым путем, о существовании которого она даже не догадывалась. Смеясь, она подала ему руку и, ответив на пожатие, встала.
– Пойдем в сад. Познакомлю тебя с собаками.
– Я хочу, чтобы ты приехала в Мокингем. С Блейзом – конечно, с Блейзом. Приедешь? У нас прекрасный сад, моя мама очень любила им заниматься.
Харриет толкнула дверь, и они наконец вынырнули из-под клубничного балдахина на лужайку. Собачье собрание, как всегда, дежурило перед дверью. При виде хозяйки собаки, сидевшие и лежавшие группками, почтительно устремились навстречу. Эдгар погладил Аякса и неожиданно сел на траву, отчего собаки разволновались и начали, как по команде, подскакивать и ставить лапы ему на плечи. Эдгар с каким-то кудахчущим смехом завалился на спину. Толкая друг друга, собаки принялись лизать его лицо.
Наблюдая за этой сценой из-за забора, Монти, только что презентовавший Дэвиду две чашки богемского стекла для ополаскивания пальцев и отправивший его восвояси (без поцелуя), вдруг почувствовал, что его душит гнев. Он отвернулся и, размышляя о природе и истоках своего гнева, медленно побрел к дому.
Эмили Макхью сидела у себя в гостиной на полу, застеленном старыми газетами. Посреди пола была разложена доска для рисования с прикрепленной к ней бумагой, рядом цветные карандаши, краски, кисточки и банка с водой. Таким образом Эмили пыталась склонить Люку к рисованию. Иногда это удавалось. Сам он тяги к творчеству никогда не проявлял и не искал, где лежат краски, но если начинал рисовать, часто получалось здорово. На кухне была пришпилена к стене картина Люки – большая многоцветная кошка. Не хуже Матисса, думала Эмили, любуясь кошкой.
Сегодня утром, войдя в спальню Люки, она обнаружила, что мохнатый поросенок, подарок Блейза, болтается на спинке кровати, подвешенный за шею на шнурке. Эмили освободила несчастного висельника.
Было воскресенье. На улице по-прежнему стояла жара, но солнце светило тускло, как сквозь дымку. Пинн, как всегда по воскресеньям, отправилась в бар с каким-то молодым человеком, из банковских служащих. Эмили никак не могла отыскать свою итальянскую камею – брошь, которую Блейз подарил ей в первые дни их любви. Может, Пинн совсем обнаглела, взяла без спросу? Или Эмили сама ее потеряла? Она теперь многое теряла и о многом забывала.
На Эмили был все тот же розовый стеганый халатишко. Она сидела на полу, прислонясь спиной к драному креслу, облюбованному Ричардсоном для затачивания когтей, и потягивала херес. Персиковый с разводами Ричардсон длинной теплой колбасой привалился к ее голой ноге. Бильчик сидел на книжной полке, на самом верху, аккуратно уложив хвост на передние лапки, и смотрел на Эмили золотыми немигающими глазами. У кошек такие злые морды, думала Эмили, даже у своих, у родных – такие злые, враждебные, жестокие. Или мне уже везде мерещится жестокость? Чуть ниже Бильчика пылились и свисали с полок растрепанные французские тексты. Эмили уже забыла, когда заглядывала в них. Теперь она ничего, кроме газет, не читала. Когда-то Блейз приносил ей книжные новинки, но это было давным-давно.
Люка стоял на коленях и, склонясь над доской, что-то царапал на ней карандашом – не на бумаге, а на самой доске, в нижнем углу. Оба, и Эмили и Люка, молчали. По воскресеньям Эмили старалась проводить побольше времени с сыном. Это не всегда получалось: иногда, стоило ей войти в комнату, Люка немедленно удалялся. Но иногда ей казалось, что между ними происходит молчаливое общение. Во всяком случае, он терпел ее присутствие. Постепенно Эмили научилась не следить за ним слишком явно. Если она таращилась на котов, а не на него, и главное, если обходилось без слез, он мог и остаться, но при малейшем проявлении эмоций вставал и бесшумно, как зверь на мягких лапах, выходил из комнаты. Поэтому Эмили сидела тихо, боясь пошевелиться, словно молясь про себя, и наслаждалась чистой бездумной любовью к сыну, переполнявшей все ее существо.
Сейчас она, не поворачивая головы, скосила глаза, чтобы проверить, что он делает. Люка по-прежнему стоял на коленях, но не рисовал. Склонив голову набок, он замер с приоткрытым ртом, словно прислушиваясь. Спросить его, что он такое услышал, подумала Эмили, или не спрашивать? Если опять ничего не ответит, все утро будет испорчено. А может, и весь день. Или рискнуть?
– Что это ты слушаешь?
– Жучков.
– Жучков?
Эмили напрягла слух. Сначала не было ничего. Потом ей почудилось, будто кто-то тихо-тихо скребется совсем рядом.
– Где они?
– Внутри стола.
Откатив Ричардсона в сторону, Эмили села на колени и снова прислушалась. Люка был прав. Жуки-точильщики подгрызали ножку дубового стола – старательно скребли древесину своими крошечными челюстями.
– Я тоже их слышу. Ой, как здорово!
Люка послал ей улыбку и начал рисовать на бумаге.
Эмили восторженно прислушивалась к шорохам в ножке стола. Она может смотреть на сына! Ее захлестнула волна такой ошеломляющей необузданной радости, будто на нее излился золотой дождь. Схватив Ричардсона, Эмили изо всех сил прижала его к себе. Кот лениво покопошился в ее объятиях и заурчал.
Немного погодя Эмили решилась на следующий шаг. Она придвинулась поближе, чтобы видеть, что рисует ее сын цветными карандашами, и спросила:
– Что это у тебя на картинке?
Люка не ответил, и Эмили стала смотреть сама. Дом с большими окнами, перед домом дерево; возле двери женщина в длинном платье и худой высокий мальчик в длинных брюках, кругом несколько собак. Чуть впереди, глядя на женщину и мальчика, стоит мужчина в пальто. Сейчас как раз Люка раскрашивал его пальто коричневым карандашом – получалось «в елочку», очень похоже на новое пальто Блейза. Эмили уже хотела сказать: «Пальто совсем как у папы», – но вдруг у нее перехватило дыхание, кровь бросилась в лицо. Быстро поднявшись, она выбежала из комнаты. Люка неторопливо заканчивал свой рисунок.
Поза лотоса не давалась Монти, и это всегда казалось ему символичным. Софи, по-мальчишески гибкая, садилась в нее без труда и застывала, развернув маленькие ступни кверху, словно подставляя их для поцелуя. Она считала медитацию глупостью, пустой тратой времени. Вообще религия совершенно не попадала в круг интересов Софи, чем Монти был очень доволен. Сам он перепробовал множество поз и в итоге остановился на коленопреклоненной. Если при этом опираться задом о пятки, можно медитировать сколько угодно, практически не замечая своего тела. Он пытался подобрать что-нибудь другое, стояние на коленях вызывало слишком много неприятных ассоциаций: самоуничижение, поклонение, выпрашивание пустячных благ – все это не имело к нему, Монти, никакого отношения. Но потом он перестал обращать внимание на такие мелочи.
Сегодня ночью Монти снился сон – довольно интересный, как ему показалось. Во сне он был учеником какой-то очень странной школы. Школа – огромная, величественная, вся из мрамора – стояла на берегу моря, на вершине скалистого утеса. Чтобы добраться до нее, надо было карабкаться по розовым камням. В лужах между камнями стояла лазурно-голубая вода. Монти спешил, чтобы не опоздать на занятие или семинар, на котором ему зачем-то обязательно надо было присутствовать. Цепляясь за скользкие камни, он наконец выбрался на лестницу и по ее мраморным ступеням поднялся в большую залу, обнесенную открытой колоннадой. Посреди залы стоял человек в белом одеянии, и Монти догадался, что придется пройти какое-то испытание, прежде чем его пропустят в класс. «Задание простое, – сказал человек. – Ты должен изобразить жестами то, о чем я тебя попрошу. Сделай вид, что зачерпываешь воду руками». Монти присел на корточки и, зачерпнув воображаемую воду раз или два, поднял глаза. Страж в белом смотрел на него печально и разочарованно. Я провалился, понял Монти и только теперь сообразил, что праведник на его месте представил бы себя стоящим по грудь, по шею в воде.
Рассказать Блейзу – он в два счета все истолкует, подумал Монти и невольно улыбнулся. За годы знакомства он наплел о себе Блейзу массу небылиц. Делал он это не нарочно, просто всякий раз выяснялось, что сказать правду абсолютно невозможно. Все равно с Блейзом правда сразу переставала быть правдой. К тому же Блейз все еще свято веровал в старинную сказочку про эго, жил этой верой и даже зарабатывал ею себе на жизнь. Конечно, все это ерунда, думал Монти, сны ничего не значат. Но в них все же может быть зашифрован образ, символ – безделица, которую сознание подсовывает в утешение самому себе.
Философия, вечная озабоченность тем, как увязать одно с другим, стремление расширить свои умозрительные владения, удвоить мир, и без того уже удвоенный, – все это давно казалось Монти бессмысленным муравьиным копошением. Бессмысленным казалось все, и было невозможно понять, в чем, собственно, состоит его личное великое загубленное предназначение и сколь оно велико. Однако само то, что оно загублено, что жизнь в этом смысле кончена, было для него как бы условием дальнейшего существования, щадящей формой самообмана. Да, он оказался неудачником – и это отчасти примиряло его со временем, которое, особенно теперь, когда не стало Софи, текло медленно и бесцельно. Раз нет надежды, то и нет нужды стремиться к высокой цели, и можно жить как живется, лениво обдумывая малознаменательные мысли, например: зачем он пытается что-то изменить?
А зачем он пытается что-то изменить? Может, ему просто опостылело жить внутри себя? А может, он, понимая, что молодость прошла и что талант его невелик, начинает бояться смерти, и весь его план не более чем хитроумная спасательная операция? Если как следует постараться, можно привести в действие мощный механизм, к которому потом можно будет подключиться в любой момент. Один такой механизм у него уже был, Монти трудился над его созданием несколько лет. Теперь ему достаточно опуститься на колени, закрыть глаза и несколько раз глубоко вздохнуть, чтобы реальный мир перестал существовать. Хотя в его случае это было делом техники, не более: Монти оценивал свои успехи достаточно трезво, чтобы это понимать. С годами техника совершенствовалась, но озарение не приходило. Учителя – если не считать того человека в белом из сегодняшнего сна – у Монти не было. И хорошо, думал он про себя, иначе и тут пришлось бы лгать и притворяться. В целом можно было сказать, что плоды его многолетних трудов ничтожны. Долгожданная свобода так и не осенила его. Наваждения, превратившие Магнуса Боулза в калеку, дремали в душе Монти, как спящие вирусы. И несверженные божества его были все те же, что и раньше, – не дарующие ни покоя, ни просветления.
В последнее время Монти склонялся скорее к тому, чтобы вернуться в школу, чем, скажем, купить роскошную виллу во Франции, осесть на ней и попытаться опять что-нибудь написать. Никакой переоценки ценностей и никаких новых социальных воззрений это, разумеется, не означало. Его «роковая юность» давно прошла. Спасибо хоть у него тогда не хватило запала на то, чтобы превратиться совсем уже в «реакционера», – теперь бы он себя за это презирал. Мило Фейн, побочный продукт всего этого, оказался циником, гедонистом-отшельником и скрытым садистом. Сам Монти видел в учительстве лишь временную меру, новую уловку для достижения старой цели. Целью была простая открытая жизнь. С оксфордских еще времен он так демонстративно ненавидел всякую фальшь и притворство (впрочем, не брезгуя возможностью отточить свой стиль за их счет), что у его друзей-радикалов, судя по всему, сложилось чересчур высокое мнение о его интеллекте. В нем и сейчас сохранилось стремление к прямоте и прозрачной ясности высказывания; но эта ясность никак не хотела вписываться в рамки его собственной жизни. Вписать ее, соединить жизнь с идеалом – в этом и заключалась цель его коленопреклоненных медитаций, но и тут, как нарочно, было полно загадок. В конце концов, дух вернее греха избавляет человека от моральных оков. Чего же ищет он, Монти, – правды, спасения или добродетели? Иногда ему казалось, что эти три дороги безнадежно расходятся в разные стороны, а если и пересекаются, то лишь в какой-то страшно удаленной конечной точке, до которой ему все равно никогда не добраться. Иногда казалось, что ему нужно лишь знание или, еще проще, власть. А одно время он воображал, что требуется только внутренняя дисциплина, что она поможет ему добиться желаемого. Но, видимо, дисциплина ничему не помогла, только вытравила из него последние крупицы естественности и joie de vivre[14].
Перманентное стремление избавиться от своего «я» доходило до идиотизма. Годами стоять на коленях и пытаться сконцентрировать сознание в точке ниже пупка – это же бред, чушь, восточная ахинея! Как Софи издевалась над ним! Да, если угодно, мир бессмыслен и жалок, в нем нет истинного достоинства, нет ничего, кроме хаоса и снов, но зато какой тонкий, какой гениальный обман – сделать бессмыслицу смыслом и плотью своего существования! Пусть он бездарный художник, но один талант, присущий каждому художнику, в нем все же есть: талант обманщика. Лучше уж жить, как живут все – лавируя, томясь, услаждая плоть, – чем в результате найти все то же самое на вершине собственного духа. Лучше отдаться очищающему страданию и попытаться оправдать свое существование хоть чем-нибудь (любовью, например), чем так выворачивать наизнанку собственное естество.
Но время шло, а Монти снова и снова опускался на колени и закрывал глаза. Умерла Софи, но и пронзительная боль утраты почему-то не изменила этой части его жизни, словно связь с каким-то запредельным миром все-таки была, словно она уже стала непрерываемой. Вероятно, часть его самого, связанная с тем миром, оказалась бесконечно мала – вот почему он не испытывал облегчения, вот почему просветление опять не наступало. Но ни боль утраты, ни боль вины не заставили его изменить привычный уклад. Что ж, хоть на это его «механизма» хватило.
– Монти! Монти, с тобой все в порядке?
Монти очнулся. В мавританской гостиной горела одна лампа, в черном прямоугольнике открытого настежь окна лил дождь. Тяжелые капли били по карнизу, по подоконнику. Такое чувство, будто бьют меня, мелькнуло у Монти. На ковре под окном уже расплылось мокрое пятно. Блейз стоял рядом, смотрел на Монти сверху вниз. Монти качнулся, медленно встал и посмотрел на часы. Почти полночь. У Блейза не было привычки являться в гости в такое время, тем более без предупреждения. Наверное, он просто проходил мимо по улице, увидел свет и завернул.
– Ты промок насквозь, – сказал Монти.
Вид у Блейза был совершенно безумный, лоб и уши облеплены мокрыми темными прядями.
– Ты что, медитировал?
– Скорее вздремнул немножко. – Об этой части своей жизни Монти никогда не разговаривал с Блейзом серьезно, только отшучивался. – Подожди, сейчас я включу обогреватель и принесу тебе полотенце.
Сходив за полотенцем, он закрыл окно и задернул штору. Шум дождя сразу сделался далеким. Блейз прижал полотенце к лицу, немного постоял так и начал вытирать волосы.
– Что-нибудь случилось? – спросил Монти.
– По-моему, все кончено, – упавшим голосом сказал Блейз.
С минуту Монти молча его разглядывал, потом спросил:
– Хочешь виски?
– Нет, спасибо.
– Так что произошло?
– Люка приходил в Худ-хаус. Он был здесь. Стоял на лужайке перед домом.
– Я его видел, – сказал Монти. – Странно. Почему-то мне даже в голову не пришло, что это он.
– Ты видел его?
– Да. Пару дней назад, вечером. Он стоял под акацией и смотрел на дом.
– О боже. Значит, конец. Или нет? Наверное, да. Я плохо соображаю, извини.
– Сядь-ка. Садись, садись. Как Люка сюда попал, откуда он узнал?
– Забрался тайком в мою машину и приехал.
– Что Эмили говорит?
– Она не знает.
– Тогда откуда ты знаешь?
– Мне сказала ее домработница. А ей Люка. Сначала я думал, это все детские фантазии. Но нет. Он рассказывал ей, что тут много собак. Хотя какие фантазии, ты же его видел. Значит, все, конец.
– Пока, по-моему, твой сын ведет себя вполне корректно. Не барабанит в дверь и не спрашивает папочку. Хотя, полагаю, совсем исключить такую возможность нельзя.
– Нельзя. Но дело не в этом… не только в этом. Понимаешь, барьер рухнул, его больше нет…
– Ты выпил?
– Да. Было два мира, и вдруг – оказывается, один…
– Думаю, ты и раньше допускал такую возможность. Что собираешься делать?
– Я должен рассказать обо всем Харриет. Но я не могу, не мо-гу!.. И Дэвиду. Это конец, я перестану существовать для них обоих.
– Ты их недооцениваешь.
– Но все же ясно, правда? Мне придется им сказать – пока Люка не начал спрашивать папочку. Ну скажи, так или не так?
– Да, ситуация, – сказал Монти. – Скорее всего, так. Придется. Но давай рассуждать вместе. Предположим, что ты уговоришь Люку помалкивать…
– Это если бы он был разумным существом. А он – слепая сила природы. Невозможно предсказать, как он поведет себя в следующий момент.
– Мне казалось, силы природы более предсказуемы, чем разумные существа. Но вообще-то, он просто ребенок.
– Дьявол он, а не ребенок. Явился, чтобы меня погубить… То есть он, конечно, не виноват…
– Так, давай по порядку. Будем считать, что Люка – злой рок и с ним ничего нельзя поделать. Теперь о тебе. Ты не находишь, что в глубине души тебе все-таки хочется признаться?
– Нет!
– Но это же такая тяжесть. Сбросишь ее – и полегчает, а?
– Нет, нет! Это все абстракции, а мне сейчас надо решить, говорить завтра утром Харриет или…
– Не думай о решении, – сказал Монти. – Думай о том, что будет после. И вообще, мы все это уже обсуждали, так что сама мысль не новая…
– Нет, новая, потому что раньше я не представлял, просто не мог вообразить, как это будет. Лицо Дэвида, слезы Харриет… О господи!..
– Ну, ну, давай без трагедий. Постарайся рассуждать здраво. Ситуация, конечно, непростая. Но, по-моему, все не так плохо. Тебя как бы вынуждают сделать то, что ты и так должен сделать. Ты всегда говорил, что рано или поздно с обманом придется кончать, – так почему не сейчас? Как раз подходящий момент.
– Ну ты и Мефистофель. Да, мы с тобой это обсуждали. И что, по-твоему, я должен сделать? Разрушить счастье Харриет, да?
– Ты уже его разрушил.
– У Дэвида экзамены на носу. Конечно, когда-нибудь придется рубить узел, но почему сейчас? Нет никакой особой причины…
– Есть причина – Люка. И скажи спасибо, что жизнь подталкивает тебя к верным решениям.
– Никто меня никуда не подталкивает. Ты сам говорил, с Люкой можно… Я попрошу его, и он никому ничего… О боже, как я себе противен.
– Ты так говоришь, будто ты только что совершил грехопадение, но это все было давным-давно. Сейчас надо думать о том, как лучше сделать, чтобы всем было хорошо. Почему, например, ты совсем не думаешь о Харриет?
– С тех пор как выяснилось про Люку, я только и думаю что о Харриет и о Дэвиде…
– Ты думаешь о себе. А теперь постарайся представить…
– Нет, нет, не могу!..
– …что ты уже сказал Харриет. Что она сделает? Что вообще она может сделать в такой ситуации? Ничего. Ей придется смириться. Она не потребует у тебя развода, и ты это понимаешь.
– Одно то, что она обо всем узнает…
– Ага, значит, вот чего ты не можешь себе представить. А сколько лет ты рассказывал мне, какой это ад – вести двойную жизнь? Новая ситуация тоже может оказаться адом, но хотя бы обновленным. А может и не оказаться. Ты так озабочен своими проблемами, утратой своей добродетели – впрочем, нет, добродетель и впрямь дело серьезное, хоть и прошлое, – озабочен тем, что о тебе подумают! И тебе даже не приходит в голову, что твои близкие могут тебя спасти.
– Спасти меня?
– Да. Харриет может тебя спасти.
– То есть простить? Это невозможно. Уже то, что она обо всем узнает, разъединит нас навек. Да я и не хочу прощения, рассчитывать на него было бы хамством с моей стороны. Пусть даже Харриет могла бы простить, но Дэвид – нет, нет, нет!.. В природе нет такого… механизма… чтобы Дэвид мог простить меня, – нет!..
– Давай будем думать о Харриет. Она замечательная женщина – умная, сильная, добрая. Ангел – ты сам много раз это говорил. И она любит тебя. Почему не вверить себя Харриет, как люди вверяют себя Богу? Забудь ты о своих прегрешениях и о том, кто что о тебе подумает. Помни только о любви Харриет.
– Но я же сам совершил преступление против ее любви! Разве я могу оскорбить, растоптать ее чувства, а потом еще требовать от нее милосердия?
– Почему нет? Ты опять думаешь о себе, ни о ком другом. Кстати, о тебе: ты уверен, что, признавшись во всем, ты уронишь себя в глазах своих близких, а не наоборот?
– Знаешь, что могло бы мне помочь? Только одно – чтобы ничего этого никогда не было.
– Ну да, всем грешникам хочется такого спасения, чтобы их грехи сгинули сами собой. Тебе повезло больше других: у тебя хотя бы есть слабая надежда.
– Что ты имеешь в виду?.. Раньше ты мне ничего похожего не говорил. Наоборот, поощрял: давай, мол, продолжай в том же духе.
– Я тебя не поощрял. Ты сам намерен был продолжать. Я просто слушал.
– Нет, поощрял. Тебе было любопытно. Хотя какая, к черту, разница. Все равно так тошно, что жить не хочется.
– Нельзя пройти сквозь зеркало, не порезавшись.
– Извини. Я просто пьян. Знаешь, сколько я выпил виски? Я и сам не знаю. Поцеловал Харриет, велел ей идти спать, а она мне: смотри не работай слишком долго… О господи, это же все, наверное, в последний раз… А перед этим я читал им книгу… Как все было чудесно… И все это теперь рухнуло… навсегда.
– И еще тебе надо думать об Эмили.
– Удушил бы ее своими руками!
– Предположим, ты обо всем рассказал Харриет. Что сделает Эмили?
– Напьется на радостях. Откуда я знаю, что она сделает?
– Вот именно, не знаешь.
– Представляю, как ты сейчас злорадствуешь. Черт меня дернул тогда все тебе рассказать!.. Извини, я веду себя как ребенок, который ждет подсказки от взрослого дяди… Наверное, мне просто хочется, чтобы меня уговаривали, убеждали… что все равно от этого никуда не деться…
– Твое спасение должно быть одновременно искуплением твоей вины. И спасти тебя могут твои две жертвы. Только они, никто другой.
– Харриет и Дэвид?
– Нет. Харриет и Эмили.
– Ты не понимаешь. Я никогда… я даже помыслить не мог, что они могут существовать обе одновременно. Одна или другая… А обе – нет.
– Понимаю, понимаю. Но испытание, которое ты должен пройти, в этом как раз и состоит. В том, чтобы Харриет узнала.
– Ну нет, если Харриет узнает про Эмили, мир просто взорвется, его не будет!..
– Твое испытание в том, что он не взорвется. Ты будешь жить дальше, есть, спать, ходить в уборную.
– Нет, это невообразимо! В прямом смысле невообразимо. Как современная физика. В моей голове это не укладывается!
– Забудь о себе. Самоустранись. Положись во всем на них. Возможно, они сами за тебя все решат. Хоть ты этого и не заслуживаешь.
– Нет, ты не понимаешь! Даже если Харриет вдруг скажет, что она меня простила, – дело же не в этом. Тут вещи космического порядка…
– Только для твоего сознания.
– А я живу в своем сознании!
– Стоит ли так себя ограничивать? До сих пор воображаешь, будто ты властелин своей жизни, будто от твоего монаршего решения что-то зависит? Право, это слишком трагическая роль. Жизнь полна абсурдов и по большей части комична. Если она где не тянет на комедию, то и там не трагедия, а сплошная скука. К слову сказать, твое существование не так уж много значит. Все твои дни сочтены заранее. И никакие самые мудрые решения тут ничего не меняют. Наказание за любую провинность происходит автоматически. Ты делаешь что-то сегодня, а завтра из-за этого случается нечто такое, чего никто пока не может предугадать. В общем, не стоит разыгрывать из себя трагического героя. Думай только о том, как сейчас поступить, – и все. Ты должен сказать обо всем Харриет? Должен. Ты всегда это знал. И вот теперь тебе предоставляется возможность подойти к вопросу серьезно. В такой ситуации разве не самое здравое и естественное решение – во всем признаться? Пусть тебя греет сознание того, что ты совершаешь хороший, праведный поступок.
– Что-то оно не очень меня греет, – сказал Блейз. – Может, это признак морального разложения? Хотя я всегда считал, что любой скандал лучше замять, если есть возможность.
– Нет у тебя сегодня такой возможности. Когда слишком больно и слишком страшно, приходится что-то делать. По-моему, сейчас самое время. Сделай что-нибудь, пока не стало еще больней и еще страшней.
– Ты прав. Завтра утром все расскажу Харриет. И помоги мне Господь…
– Лучше напиши ей письмо, – сказал Монти.
– Почему письмо?
– Потому что его можно как следует продумать и написать с умом. Сейчас ты говоришь так, будто есть одна чудовищно огромная правда, которую ты должен ей открыть. Но ту же ситуацию можно повернуть по-разному и взглянуть на нее с разных сторон. Придется, конечно, наврать кое-что, причем обеим. Без этого никак…
– Может, ты и черновичок мне составишь?
– Могу составить, если хочешь. Я серьезно. К примеру, можно написать Харриет, что ты уже не любишь Эмили, что тебя привязывает к ней одно только чувство долга – ведь так? Так или не так, все равно.
– Мефистофель… Мефистофель…
– Ну, в аду разумный подход тоже не помеха. Помнится, героям Мильтона он помогал. Когда перестаешь бездарно убиваться и начинаешь думать, становится легче.
– А письмо… о чем еще я должен в нем написать?
– О детях, разумеется. Об их правах, о том, как важно, чтобы они были счастливы. Два сына, две проблемы, от них никуда не деться.
– Ну, пожалуй.
– Вот видишь, ты уже начинаешь думать.
– Нет, нет. Я не смогу написать. Пиши ты.
– Ладно, что-нибудь набросаю. Нужно сделать так, чтобы Харриет увидела несколько частных проблем, требующих решения, – а не одну огромную, неразрешимую. Внуши ей, что ты уповаешь на ее любовь. И встряхнись наконец, возьми себя в руки. Будь ты хоть подлец из подлецов, все равно надо же что-то делать.
– Кажется, мне уже становится лучше.
– Не исключено, что эта история в итоге сблизит вас с Харриет.
– Ах, если бы так, если бы я смел надеяться! Но, знаешь… Я, пожалуй, поговорю сначала с Эмили… Может, ничего и не понадобится… Ты же сам сказал… Завтра поговорю с Эмили, тогда все и решу.
– Давай сходим к Эмили вместе.
– Почему вместе? Любопытство разбирает?
– И это тоже. Но по правде сказать, у меня такое чувство, что тебе не помешает свидетель. Точнее, что-то вроде секунданта. Ты ведь догадываешься, что произойдет, если ты поговоришь с Эмили, а потом начнешь решать. Тут же угодишь в свою старую двойную колею – и все.
– Если я скажу Эмили, что собираюсь сказать Харриет… мне же, вероятно, придется это сделать. Или, по крайней мере…
– Послушай, я никогда никаких советов тебе не давал и не даю…
– Давал и сейчас даешь… Так напишешь для меня это письмо?
– Напишу, напишу…
– Так, вроде полегчало. Интересно, почему?
– Потому что ты теперь видишь перед собой конкретные задачи. Которые, впрочем, тебя ни к чему не обязывают. А может, ты просто решил, что разговаривать с Харриет вовсе не обязательно.
– А ты думаешь, что обязательно?
– Я думаю, да.
– Пожалуй, ты прав, к Эмили лучше идти вдвоем.
– Кстати, не говори Харриет, что мне давно известно про вас с Эмили. Пусть она думает, что я только что узнал.
– Ага, я вижу, ты тоже забеспокоился, как бы о тебе плохо не подумали.
– Ей будет неприятно узнать, что я столько времени ее обманывал.
– О боже. А Магнус Боулз? С ним-то что делать?
– Ничего. Пусть пока остается.
– То есть не говорить Харриет, что он химера?
– Зачем? Хватит ей кошмаров и без этого низкопробного вранья.
– Никогда не мог понять: то ли ты такой законченный циник, то ли наоборот. Твой Магнус – единственная изюминка во всей этой пошлятине. Скажи правду, Монти, я ведь всегда казался тебе пошляком, да?
– Я бы не стал изъясняться в таких терминах…
– А, к черту термины! Я пошляк, и все мои грехи – пошлятина самого низкого пошиба.
– Что касается грехов, то тут важен сам факт, а не пошиб, как ты выражаешься. Сомневаюсь, чтобы Харриет…
– Ты, может, собрался в будущем выступить в роли ее утешителя? Тогда…
– Ты прекрасно знаешь, какие у меня сейчас виды на будущее. Скажи спасибо, что я еще в состоянии выслушивать тебя и что-то тебе говорить.
– Прости. Прости меня, Монти. Ты единственный помогал мне все эти жуткие годы. Ты мой учитель и мой аналитик. Я тебе благодарен, правда. Так что мы решили?
– Решили, что ты идешь спать. Я пишу черновик письма. А завтра мы с тобой вместе едем к Эмили.
– Собаки разгавкались, сволочи. Вдруг я поднимусь сейчас к себе, а у меня в постели – Люка? А что, он у нас большой любитель розыгрышей. Интересно, я выживу или не выживу? Свихнусь или нет? Все-таки душа человеческая такие потемки – науке век не разобраться. А тут еще мораль под ногами путается, совсем не поймешь, что к чему. Господи, как же я пьян. Интересно, я когда-нибудь выучусь на доктора?
– А почему нет? Это же важно для тебя? Вот и цепляйся крепче за все, что тебе важно. Любовь Харриет ведь тоже важна. Она даже важнее.
– Знаешь, что сказала Харриет про Мило Фейна? Что он совсем разнюнился и превратился в сентиментального моралиста.
– Она так сказала? Ну что ж. Мило кончился, его больше нет. Все, теперь уходи. Не говори Харриет про нас с Магнусом. И пожалуйста, не надо меня потом за все это ненавидеть, ладно? Ну иди, иди, спокойной ночи. Нет, подожди минуту. Вот, возьми мой зонтик.
Дверь открыла Пинн, про которую Блейз, как он понял только сейчас, вообще забыл рассказать Монти. Он также понял, что Монти принял Пинн за Эмили и что она, пожалуй, ему нравится. Пинн зарозовела и улыбнулась.
– Это Констанс Пинн, подруга Эмили, – торопливо проговорил Блейз.
С того самого момента, когда Пинн сообщила ему о тайных поездках Люки, Блейз жил в каком-то фантастическом мире. Он едва узнавал себя, будто все внутри его резко переменилось. Из всех посещавших его мыслей необременительней всего была мысль о смерти. Не то чтобы он вознамерился покончить с собой – хотя, конечно, подумывал и об этом, – но словно понимал: как ни крути, что ни выбери, долго он так не протянет. Неутихающая душевная боль разрывала его на части, как физическая. Оставаясь в одиночестве, он начинал стонать вслух. Он старался не задумываться над тем, как поведет себя Харриет, когда он скажет ей обо всем; а задумываясь, ужасался: оказывается, он почти ничего не знает о своей жене. Их брак оказался таким благополучным, что Блейз ни разу не имел случая наблюдать ее в мало-мальски экстраординарной ситуации. Счастливый характер Харриет, лежавший в основе этого благополучия, в чем-то по-прежнему оставался для Блейза загадкой. «Что сделает Харриет?» – спрашивал он себя и тут же отметал вопрос как несущественный. Весь ужас состоял не в том, что она сделает, когда узнает, а в самом ее знании. «Как только она узнает, – думал Блейз, – мой мир перевернется. И как тогда будет выглядеть ее лицо, с этим знанием в глазах?»
На Пинн был легкий элегантный костюм – зеленый льняной жакет с юбкой – и шелковая белая блузка. В дверях гостиной появилась Эмили, сменившая наконец-то свои старые брюки с джемпером на черное с синим платье (Блейз его терпеть не мог) с зигзагообразными разводами и глубоким квадратным декольте. Сбоку от декольте красовалась итальянская камея (ее действительно брала Пинн, но потом вернула), которая, во-первых, была приколота не на месте, почти у подмышки, а во-вторых, расстегнулась и теперь неэстетично покачивалась на кончике булавки. Невольно взглянув на обеих женщин глазами Монти, Блейз вынужден был признать, что по части элегантности Эмили явно уступает своей подруге. Обе, разумеется, наряжались не для Блейза, а в честь волнующей встречи со знаменитым писателем. По телефону Блейз предупредил, что в одиннадцать он заедет ненадолго вместе с Монтегю Смоллом, но больше ничего не объяснял. Сейчас было ровно одиннадцать. Какая она худенькая, маленькая, думал Блейз, глядя на Эмили, – совсем пигалица. В черных волосах кое-где уже просвечивает седина.
– Это Эмили Макхью, – произнес он каким-то неопределенным тоном, будто констатируя факт, а не представляя хозяйку гостю.
Эмили улыбнулась, сверкнув полоской розовой помады на зубах. Камея наконец упала. Эмили подхватила ее с пола и положила на стол.
– Пожалуйста, присаживайтесь. Пинн, будь добра, принеси бутерброды.
Маленький бамбуковый столик был накрыт праздничной белой скатертью с кружевной каймой. Монти с улыбкой опустился на стул с прямой спинкой, поднял с пола Бильчика и стал гладить его с нажимом, как гладят собак. Бильчик терпел, кося на гостя недобрым глазом. Блейз уселся на другой стул, Эмили на подлокотник кресла, Пинн, уже вернувшаяся с кофе и бутербродами, стояла возле стола, как прислуга, и тоже улыбалась.
– Может, хотите чего-нибудь выпить? – спросила Эмили у Монти. – То есть не вместо кофе, а кроме. Херес, например?
– Спасибо, кофе вполне достаточно.
– Не мешает вам мой котик? У вас дома есть кошки?
– Нет, но я хорошо к ним отношусь.
– Я прочла все ваши книги, – сказала Пинн.
– Мы как раз сейчас смотрим по телевизору ваш сериал, – заметила Эмили, разливая кофе. – Ужасно интересно. Сценарий тоже вы писали?
– Частично.
– По-моему, Ричард Нейлсворт просто вылитый Мило. Вы сами его выбирали? – спросила Эмили.
– Нет, это без меня.
Улыбка висела у Монти на губах как приклеенная. В белой сорочке, узеньком шелковом галстуке цвета индиго и безупречном зернисто-черном костюме, он был похож на состоятельного щеголеватого священника из восемнадцатого века.
– Говорят, он «голубой»? – спросила Пинн, которая теперь стояла за креслом Эмили, прямо напротив Монти.
– Не знаю.
– Да нет, не может быть, – сказала Эмили. – В нем нет ничего бабского. Это всегда видно по тому, как человек двигается. Вы, наверное, сейчас пишете следующего Мило?
– Сейчас нет.
– А с чего вы начинаете, когда хотите написать книгу? – спросила Пинн.
– Я должен кое-что тебе сказать, – произнес Блейз, глядя на Эмили.
– Мне уйти? – спросила Пинн.
От слов Блейза в гостиной вдруг как-то сразу похолодало.
– Нет, – ответил он. – Пусть будет свидетель. Двое свидетелей.
Монти перестал улыбаться и перестал гладить Бильчика.
Эмили сидела выпрямившись. Машинально она дотянулась до своей камеи и прижала ее гладкой стороной к щеке. Синие глаза смотрели на возлюбленного строго, почти угрюмо, она вдруг необыкновенно похорошела.
– Монти, – начал Блейз и сам себе удивился: с чего это он обращается к Монти? – То есть… – Он снова повернулся к Эмили. – Я решил рассказать обо всем своей жене.
Он хотел сказать «Харриет», но в последний момент передумал и произнес: «жене».
Эмили была великолепна. В лице ее ничто не дрогнуло, даже устремленный на Блейза взгляд остался задумчиво-сосредоточенным, словно перед ней был шахматный этюд, а не человек.
Помолчав, она спросила:
– Почему?
Этот вопрос, пожалуй, можно было предвидеть, но Блейза он застал врасплох.
– Потому что это необходимо… то есть я хочу сказать, пора… Потому что я так больше не могу.
Он все еще сомневался, говорить или не говорить Эмили насчет Люки, но теперь решил, что не стоит. Все и без Люки было достаточно скверно.
– А когда скажешь ей – будешь жить со мной? – спросила Эмили.
Они пристально смотрели друг на друга.
– Не знаю.
Эмили отвела глаза. Отложила брошь и подлила себе кофе из кофейника. Ее рука немного дрожала.
– Тогда зачем?
– Чтобы сказать правду.
– Ну давай, говори.
– Я хочу, чтобы все было…
– По-моему, ты врешь, – сказала Эмили. – К правде это не имеет никакого отношения. Ты что-то задумал, у тебя есть какой-то план. Мне плевать, знает она или не знает. Я хочу, чтобы ты жил со мной, а не с ней. И я всегда хотела только этого.
– Когда он скажет ей, – Пинн улыбалась загадочной полуулыбкой, глядя не на Блейза и не на Эмили, а на Монти, – то есть если он, конечно, скажет, не передумает, – ему придется жить с тобой.
Монти, сам того не желая, тоже смотрел на Пинн.
– Не понимаю, почему придется, – сказала Эмили. – Может, все наоборот? Может, он хочет ей сказать, чтобы избавиться от меня? Например, она возьмет и запретит ему со мной встречаться. А что, это ее право. Она его жена, как он нам только что любезно напомнил. Ему придется сделать выбор, и он вполне может выбрать ее. Сейчас он хотя бы не обязан выбирать.
– Если он ей скажет, ты победишь, – сказала Пинн, по-прежнему загадочно улыбаясь Монти, словно эти слова предназначались ему.
– Почему ты так думаешь?
– Это развяжет тебе руки. В открытой борьбе ты пересилишь ее в два счета. Разобьешь в пух и прах, тебе только дай волю.
– Хотела бы я быть такой оптимисткой, – сказала Эмили. – Чем прикажешь ее бить, бутылками? Берите бутерброд, мистер Смолл. Не понимаю, зачем Блейз притащил вас с собой, – чтобы вы слушали весь этот бред?
– Вот, возьмите с огурчиком, – сказала Пинн. – Вкусный.
– По-моему, то, что я сообщил, не очень тебя заинтересовало, – сказал Блейз. – Хотя, возможно, мне и правда не стоит ей ни о чем рассказывать.
– Как угодно. Пинн, дорогая, ты не могла бы принести влажную тряпку? У меня кофе пролился.
Пинн принесла тряпку, и они вдвоем принялись подсовывать ее под скатерть в месте кофейного пятна. Закончив, Эмили снова пристегнула камею к платью, на сей раз посередине.
– Почему вы не написали ни одной пьесы с Мило Фейном? – спросила Пинн у Монти.
– Пробовал, но ничего путного не вышло.
– А я вот написала пьесу, – сказала Пинн. – Про школу для девочек. Она такая, не совсем приличная. Нужен, наверное, агент?
– Чтобы ее поставить? Да.
– Не посоветуете кого-нибудь?
– Эмили, – сказал Блейз.
– Да?
– Ты столько лет требовала, чтобы я рассказал Харриет.
– Ничего подобного. Я требовала, чтобы ты был со мной. Ее душевное состояние меня не интересует. И вот теперь я спрашиваю, будешь ли ты со мной, а ты мне говоришь «не знаю». Насколько я понимаю, это значит «нет».
– Я не могу решить сразу все. Если бы ты знала, как мне трудно сделать этот шаг…
– Так не делай. Чего ты от меня хочешь – сочувствия? Пинн, пожалуйста, принеси еще горячего молока.
– На самом деле, – сказал Монти, спуская Бильчика на пол, – Блейз прав в том смысле, что нельзя решить сразу все. Сейчас, скорее всего, он и сам не может знать, что будет дальше, потому что не может всего предусмотреть. Но я, пожалуй, согласен с вашей подругой в том, что все еще может обернуться для вас наилучшим образом. А главное, хоть что-то изменится.
– Большое-пребольшое вам спасибо, – сказала Эмили.
– Мистер Смолл прав, – сказала Пинн, ставя молочник на стол.
– Я хотела, чтобы ты ей сказал, – думала, пусть все будет честно и правильно… справедливости мне хотелось. Боже ты мой, чего только мне не хотелось! Хотелось всего, а пришлось довольствоваться крохами, которые ты подсовывал мне в обмен на мою жизнь, – на всю мою жизнь!.. Я и сейчас хочу всего и рассчитываю на все. Понимаю, что я дура. Дура, камень у тебя на шее и так далее. Но видишь ли, я по-прежнему люблю тебя (вот уж точно, дура!) и хочу, чтобы ты был моим мужем, настоящим мужем, чтобы мы жили в настоящем доме и чтобы ты заботился о нас с Люкой, – не видно разве, как нам нужна эта забота? Но ведь мы не сами по себе такие жалкие, это ты нас довел! Это же такая подлость, такой ужас, что невозможно выразить словами. Это как голод, война, чума. Ты хуже Гитлера, тебя убить мало за то, что ты с нами сделал! И ты же еще являешься ко мне со своим чертовым свидетелем и заявляешь, что ты, видите ли, «решил сказать жене»? А мне что прикажешь делать, радоваться? Вести с тобой светский разговор о том, как она соблаговолит поступить? Умирающие от голода и чумы не ведут светских разговоров. Да плевать мне, скажешь ты ей или не скажешь. Мне нужна справедливость – ничего больше. Если захочу, она и без тебя все узнает. Могу хоть сейчас набрать ее номер и все рассказать. Так что не тебе одному все решать. О господи, какого черта ты все это на меня вывалил? Какого черта ты привел сюда своего чертова свидетеля? Убирайся! Убирайся!..
По ходу своей тирады Эмили сначала бледнела, потом краснела, теперь она громко разрыдалась – и оказалась как-то сразу за пеленой слез. Сквозь всхлипывания она время от времени глухо рычала, как испуганный озлобленный зверек. Потом зажала рот рукой и стала кусать себя за ладонь.
– Эмили, прекрати, – сказал Блейз.
– Эм, успокойся, – сказала Пинн.
Вцепившись в ладонь зубами, Эмили встала и быстро вышла из комнаты. Дверь за ней тихо закрылась.
Монти положил на скатерть размякший бутерброд с огурцом, который он все это время держал в руке, и тоже встал.
– Думаю, мне лучше уйти.
– Я провожу тебя, – сказал Блейз.
Выйдя, они свернули на выложенную плиткой тропинку и чуть не бегом устремились прочь от дома. Лишь дойдя до дороги, замедлили шаг. Было пасмурно и тепло, опять собирался дождь.
– Извини, – сказал Монти. – Мне не стоило приходить. Это была плохая идея.
– Я думал, она обрадуется, – сказал Блейз.
На углу остановились.
– Ну, тебе надо возвращаться, – сказал Монти.
Послышался частый стук каблучков по асфальту: их догоняла Пинн.
– Ты что, не собираешься идти к ней? – крикнула она издали.
– Иду, уже иду.
– Так давай, у нее истерика.
Блейз обернулся к Монти.
– Извини, что не смогу тебя отвезти. Пройдешь по улице немного вперед, там можно поймать такси. Ну пока. Спасибо тебе. – И он ушел, оставив Пинн и Монти вдвоем.
– Я хочу встретиться с вами снова.
Пинн проговорила это медленно и без всякого выражения – так некоторые эстеты читают стихи. Глаза за раскосыми стеклами модных очков были серьезны, почти печальны.
– Извините меня, – сказал Монти непонятно в каком смысле.
После сцены с Эмили он чувствовал себя разбитым. Было такое ощущение, будто его выставили круглым дураком.
– Я хочу с вами встретиться, – повторила Пинн. – Для меня это важно. Со мной редко бывает, чтобы что-то казалось по-настоящему важным, поверьте. Я не прошу вас сейчас отвечать. Можете вообще ничего не говорить. Вы Монтегю Смолл. Я никто. Но это не имеет значения. Я как-нибудь зайду к вам. Только не говорите сейчас «нет». Больше я вас ни о чем не прошу. До свидания.
Развернувшись, она быстро ушла. Резкий, чуть причавкивающий стук ее каблуков еще долго разносился над мокрым тротуаром.
Монти ослабил галстук. Его зонтик лежал запертый в «фольксвагене», опять начинался дождь. Злясь на себя, Монти чувствовал, как огромная тоска привычно, по-хозяйски овладевает его сердцем.
Милая, родная моя Харриет, жена моя!
Я пишу тебе письмо, потому что у меня не хватает смелости проговорить все это, глядя тебе в глаза. Постараюсь изложить все ясно, потому что ясность и правдивость для нас сейчас важнее всего. Знаю, тебя удивит и ужаснет то, что я должен сейчас сказать, но я должен это сказать, в первую очередь потому, что, любя тебя безмерно, больше не могу и не хочу лгать. Много лет назад (больше девяти) я завел себе любовницу. Ее имя Эмили Макхью, сейчас ей уже за тридцать. Я поддался физическому влечению, не смог устоять. Знаю, этому нет и не может быть оправдания. Но я не собирался продолжать эту мимолетную связь и, разумеется, признался бы тебе во всем тогда же – если бы Эмили не забеременела. У нее родился мальчик, сейчас ему восемь лет. Долг перед этим ни в чем не повинным существом заставляет меня признаться тебе во всем – хотя бы теперь. Надо было сделать это давно, но я оказался беспомощным трусом: боялся разрушить ваш с Дэвидом покой и потерять твое уважение. Пишу тебе обо всем просто, как есть, но, думаю, ты поймешь, сколько боли и стыда стоит за этой кажущейся простотой. Высказав все до конца, я буду ждать твоего суда. Я никогда по-настоящему не любил Эмили, да и физически она давно уже меня не привлекает. Как бы мне хотелось, чтобы ничего этого никогда не было, – не только из-за того, что последствия так тяжелы и позорны, но и потому, что все, все это с самого начала было чудовищной ошибкой. Настоящей любви тут не было и нет, есть лишь тяжкое бремя, мучительное как для меня, так и для нее. Мы расстались бы уже давно – думаю, почти сразу, – если бы не ребенок. Все эти годы я время от времени навещал их с ребенком и, разумеется, давал деньги. Уклониться от этой своей обязанности, избавиться от обузы я не мог, хотя страстно желал снова стать собой и принадлежать только тебе одной. Жизнь с тобой была для меня источником неизбывной радости – и неизбывной боли, потому что шли годы, а я продолжал жить во лжи. И сегодня, признаваясь тебе в своем позоре, я уповаю лишь на твою любовь, как верующие уповают на Господа. Харриет, твоя любовь нужна мне сейчас, как никогда. Она нужна мне как воздух, я не смогу жить без нее – и я молю тебя о ней на коленях. Ты знаешь: я любил и люблю только тебя. Да, я достоин наихудшей кары, но прошу о милости. Пожалуйста, любимая моя, родная, прости меня и помоги мне преодолеть этот страшный рубеж. Раздели со мной эту беду, как ты всегда делила со мной все беды, чтобы мы могли наконец взглянуть на нее вместе. Моля тебя об этом, думаю не только о себе и своих страданиях, но и о страданиях той несчастной, которой встреча со мной принесла столько горя, и о будущем невинного ребенка – моего сына. Эмили давно, почти с самого начала, знает, что я не люблю ее, что она мне в тягость, знает, что из-за нее я не могу в полной мере насладиться радостью жизни с тобой. Она глубоко несчастная, а теперь еще и желчная, раздражительная женщина, от ее былой привлекательности давно уже ничего не осталось. Я вовсе не умаляю страшного преступления, совершенного мною против вас обеих. Но, сознавая всю безрассудность своей мольбы, я все же молю тебя о любви, которая одна может принести всем нам спасение. Сможешь ли, захочешь ли ты любить меня, жалкого и недостойного, как раньше? Даже больше, чем раньше? Я хорошо понимаю, что мое признание подводит нас с тобой к порогу неведомого. Я не знаю, как ты примешь это письмо, да и ты сама, читая эти строки (господи, я даже не могу представить, что такое возможно!), вряд ли это знаешь. Время покажет. Но, исполненный смирения и раскаяния, я все же прошу тебя: будь милосердна, не лишай меня своей любви. Если ты не перестанешь любить меня, все еще может устроиться – пусть не по-прежнему, но хоть как-то, чтобы можно было жить дальше. Возможно, в благотворящем свете правды зло, вольно и невольно причиненное мною, покажется нам обоим не таким черным. Мне жаль, что все это случилось, я готов умереть от стыда и тоски – но с твоей любовью я выживу. Сейчас, когда я пишу эти строки, я люблю и ценю тебя так, как не любил и не ценил никогда в жизни. Ты – единственное, что имеет значение. Ты и твоя спасительная любовь. Пожалуйста, не бросай меня в моем страдании. Мне страшно думать о том, что будет, когда ты прочтешь это письмо, но я все же испытываю огромное облегчение оттого, что наконец-то признался. До сих пор мне казалось, что только настоящий герой может решиться на такой шаг, – а я не герой, и значит, это выше моих сил. Пожалей меня, протяни мне руку помощи – и, заклинаю, не заставляй меня слишком долго ждать твоего решения. Я заслуживаю негодования, но молю о любви. Или – пусть будет негодование, но с любовью. Та единственная сила, которая спасет мир, может прийти лишь от твоей безупречной любви, мой ангел, жена моя.
После завтрака я оставлю письмо и уйду. Вернусь домой около полудня, чтобы отдаться на милость твоей любви. Родная моя, ты так нужна мне! Верю, несмотря ни на что, – ты меня не бросишь.
Твой преданный муж
Б.Это письмо Блейз писал поздно ночью. От замечательного профессионального черновика, составленного Монти, пришлось, конечно, отказаться, хотя пару идей Блейз из него все же позаимствовал. Зато когда он сам начал писать, к нему вдруг пришло вдохновение. Какое-то загадочное возбуждение подсказывало нужные и правильные слова, так что в конце концов он и сам растрогался.
Проводив Монти, Блейз тогда вернулся к Эмили и провел у нее почти весь день. (Харриет он потом сказал, что был у Мориса Гимаррона.) Эмили разражалась то рыданиями, то проклятиями, а Блейз, обнимая ее, чувствовал, как им овладевает непонятное спокойствие, – он чуть ли не гордился собой. К этому времени он уже окончательно решил, что скажет обо всем Харриет, и в полной мере осознал, какими последствиями чревато его признание для всех действующих лиц. Он был подчеркнуто немногословен; это произвело на Эмили впечатление. «Странный ты сегодня, – сказала она. – Но ничего, тебе идет». Они еще выпили, доели бутерброды, и, уходя, Блейз, непонятно почему, чувствовал себя уже гораздо бодрее.
Однако потом, пока он ехал домой, ужинал, говорил о чем-то с Харриет и желал ей спокойной ночи, спокойствие его улетучилось. На первых строчках письма он то обливался холодным потом, то замирал от страха. Но вскоре ему как будто полегчало, надежда начала возвращаться. Вместе с красноречием пришла уверенность, что он все-таки овладел ситуацией, повернул все по-своему, – и эта уверенность давала ему энергию. Нельзя сказать, чтобы написание письма доставило ему удовольствие, но оно захватило его целиком, как, вероятно, захватывает человека борьба за жизнь. С одной стороны, он был доволен, что успел хоть как-то помириться с Эмили, с другой – чувствовал, что правда, изложенная им в этом письме, уже начала чудесным образом воздействовать на него самого, словно укрепляя и обновляя его любовь к жене. Он как бы отдавался во власть Харриет, признавал ее власть над собой – и это придавало силы ему самому. Дурак, зачем он не признался во всем давным-давно, ведь это, оказывается, не только возможно, но даже не так трудно! Снова и снова умоляя Харриет о любви, он чувствовал, что она не сможет устоять под таким мощным натиском.
На следующее утро он проснулся в страхе и невыразимой тоске. Пока еще ничего необратимого не случилось, думал он, пока можно порвать письмо в клочья и забыть – и все останется по-прежнему.
Он оставил письмо на самом видном месте, на столике в прихожей, не оглядываясь выбежал из дома и все утро бродил по окрестным улицам, бессмысленно озираясь и бормоча себе под нос названия домов.
Харриет сидела, зажав в руке только что дочитанное письмо. Еще когда она увидела на столике конверт, ей вдруг стало страшно. Сейчас она сидела в своем «будуаре» и задыхалась. Точнее, дыхание отчего-то сделалось для нее поразительно сложным процессом. Она открывала рот, наполняла легкие воздухом – но выдохнуть не могла. Спустя ужасно много времени ей наконец удавался выдох. Потом опять тянулась долгая, долгая пауза, и, уже на грани обморока, – снова вдох. Все, о чем говорилось в этом письме, было невозможно и потому не укладывалось у нее в голове. Тут, наверное, какая-то ошибка, Блейз что-то перепутал. Прошлое не может так вмиг перемениться, всем ведь известно, что прошлое изменить нельзя. Человек, написавший все эти слова, автоматически оказывался для нее посторонним, а раз он посторонний – стало быть, то, о чем он пишет, не может иметь к ней никакого отношения. Красноречие, которым сам Блейз так гордился, осталось незамеченным. Из всего письма Харриет усвоила лишь один факт – невыносимо огромный, немыслимый.
Надо что-то с этим делать, говорила она себе, надо быть сильной. Пришла беда, я знала, что когда-нибудь она придет. Вот теперь и посмотрим, хватит у меня мужества или не хватит. Все так же сжимая в руке письмо, она прошла к себе в спальню и легла на кровать. Знакомые предметы окружали ее в счастливом неведении, знакомые безделушки выстроились на каминной полке. На столе лежал галстук Блейза и голубые эмалевые запонки, ее подарок. Но дышать лежа оказалось совсем невозможно, и Харриет снова села. Попробовала плакать, однако выдавила из себя лишь несколько слезинок, потом опять стала задыхаться. Я должна быть сильной, в который раз мысленно твердила она, пришла беда, я должна быть сильной.
Сначала больнее всего была ревность, наверное вполне естественная – от сознания этой естественности как будто даже становилось легче. Сколько боли, оказывается, может принести простое знание факта. У него была любовница, а она, его жена, даже не догадывалась об этом. Он обманул ее. Она думала, что это другие мужья обманывают своих жен, а ее муж на такое не способен. И вот оказалось, что способен. Он отдавал свою любовь другой женщине. Целостность мира нарушилась, картина, такая, казалось бы, совершенная, в один миг покрылась сетью темных трещин. Сам Блейз превратился вдруг в чужого, злого и бесчестного человека, любовь к нему причиняла Харриет невыносимую боль. Это один факт. Но был еще и другой: мальчик. Мальчик, который ему сын, а ей нет. Харриет вспомнила мальчишескую фигурку под акацией, но мысль о том, что это мог быть тот самый мальчик, не мелькнула – лишь смутное ощущение, что та фигурка в сумерках оказалась символом, предзнаменованием. Значит, у Блейза есть другая семья.
Харриет подошла к туалетному столику и опустилась на стул. Много лет подряд в этом зеркале отражалось такое знакомое, спокойное лицо, но теперь на Харриет смотрела совсем другая женщина, у нее были большие встревоженные глаза и дрожащие жалкие губы. У Харриет закружилась голова, ей вдруг показалось, будто в ее дом угодила бомба и вот он взорвался у нее на глазах – бесшумно, как в немом замедленном кино. Дома больше нет, она одна среди развалин. Как у Тинторетто на картине «Благовещение», подумала Харриет: Дева Мария сидит на развалинах, потому что Святой Дух явился к ней как страшная разрушительная сила. Но Богородице разрушение принесло благую весть, а Харриет оно ничего не принесло. Сровняло ее дом с землей – и все.
Держись, повторяла она себе, держись. Думай. Скоро вернется Блейз, надо будет что-то говорить. Она расправила скомканное письмо. Эмили Макхью. В имени есть жестокая определенность. Он был нежен с этой женщиной, они смеялись с ней вместе, обрастали семейными привычками и ритуалами. Даже детали супружеской неверности не волновали Харриет так сильно, как эти маленькие интимные нежности. Из-за ребенка та жизнь как-то сразу оказывалась огромной и загадочной, из того дома невидимый для Харриет Блейз смотрел на нее странными, чужими глазами. Она наконец разрыдалась, зажимая руками рот и нос, глядя неузнающими глазами на отраженное в зеркале смятое лицо.
Держись, как заклинание повторяла она. Держись, ты дочь солдата, сестра солдата, думай. Как выбраться из этой путаницы, как в ней разобраться? Все случилось очень давно. Он ее больше не любит. Для него она всего лишь ненавистное бремя. Он выполняет свой долг перед этой женщиной и ее ребенком. Конечно, ему надо было давно мне все рассказать. Зачем было столько лет страдать, это так ужасно для человека искреннего и правдивого – быть привязанным к женщине, которую он уже не любит, и лгать той, которую любит. Ибо даже в этом новом опустошенном, оскверненном мире Харриет ни на миг не усомнилась в том, что Блейз любит ее. Даже в эту минуту она всей душой тянулась к нему. Ей мерещилось, как Эмили Макхью и ее сын, будто стоящие на плоту, медленно удаляются, уплывают куда-то, а Харриет и Блейз остаются на берегу.
Неожиданно для самой себя Харриет подскочила, метнулась в коридор и торопливо сбежала по лестнице своего разрушенного дома. Страх и несчастье уже осенили своим зловещим отсветом все предметы. Было только десять, Блейз обещал вернуться к двенадцати. Где же он, где? Раньше, когда ей требовалась помощь, он всегда оказывался рядом, всегда умел утешить ее и поддержать – почему же сейчас он не с ней? Почему не утешает ее? Ею овладело желание выскочить из дома и бежать по улице неизвестно куда, искать Блейза, выкрикивать его имя. Она села и вцепилась обеими руками в клетчатую красно-белую скатерть. В самом деле, он же никуда не делся, не умер, и он нуждается в ней больше, чем когда-либо. Наконец-то до нее начала доходить заключенная в письме Блейза вдохновенная мольба. Ему нужна ее любовь, ему нужно еще больше ее любви. Хватит ли у нее этой любви и хватит ли сил, чтобы помочь ему сейчас? Теперь Харриет знала, что хватит. Силы переполняли ее, она чуть не захлебывалась ими. Больше не сдерживая себя, она стонала вслух. Она ждала возвращения мужа, чтобы поскорее утешить его и утешиться самой. Ведь не потеряли же они друг друга? Они не могут потерять друг друга. Просто на них навалилась страшная беда, и они должны выстоять вместе.
Блейз вернулся около одиннадцати. Харриет, которая к этому времени уже настроилась ждать до полудня, сидела неподвижно, как арестант, накрепко прикрученный к стулу, – неподвижно, потому что если шевельнется, то веревки вопьются в тело еще больней. Но тут послышались шаги – и вошел он. Солнце пробилось сквозь дымку, кухня наполнилась ясным бледным светом. В глазах Блейза стояла испуганная мольба. Харриет шагнула навстречу, почему-то очень осторожно, словно боясь уронить тяжелую большую вещь, обняла его и положила голову ему на плечо. Его руки тут же вцепились в нее, вцепились в ее платье, словно пытаясь его содрать. Пылающая щека прижалась к ее лбу. Так они долго стояли молча.
Наконец она отстранила его.
– Садись сюда. Нет, знаешь что, принеси сначала виски.
– Харриет, девочка моя, ты простила меня?
– Да, конечно. Не беспокойся, все нормально, с этим все нормально.
– Ты все еще любишь меня?
– Да, конечно, конечно. Не говори глупостей. И неси виски.
До самого возвращения Блейза Харриет пребывала в мучительном смятении. Думать она не могла совсем, лишь мысленно хваталась за мужа, будто притягивая его к себе и хоть этим немного утешаясь. Ничто, кроме него, не имело значения, он один имел значение – даже Эмили Макхью можно было, пожалуй, выкинуть из головы. Как будто Блейз попал в аварию, был покалечен, изувечен, сама его жизнь висела на волоске, и теперь только Харриет, только ее внимание и забота могли его спасти. Ее любовь к мужу осталась негасимой, и она терпела свою арестантскую боль, не задумываясь о ее природе. Но едва Блейз появился на пороге, в ней что-то произошло, вдруг вспыхнул белый яркий свет, и она снова могла думать, более того, думать логично и последовательно; теперь она ясно видела, что важно, что не важно, и, кажется, даже понимала, что надо делать. Вот только ее дом по-прежнему лежал в руинах, в воздухе по-прежнему разлита была тусклая неживая просинь, и само время казалось каким-то ущербным, как в дни траура или всенародных бедствий.
Блейз принес бутылку виски и стоял рядом, глядя на Харриет сверху вниз. На его лице застыл страх.
– Не смотри на меня такими жутко испуганными глазами, – сказала она. – Я люблю тебя.
– Так ты не бросишь меня?
– Бросить тебя в самую трудную минуту? А для чего, по-твоему, я выходила за тебя замуж?
– И не потребуешь развода?
– Нет. Я просто рада, что ты наконец-то все мне рассказал. Сто лет назад надо было это сделать. Кто поможет человеку в беде, если не жена?
– Слава богу. Слава, слава богу, – сказал он и со стуком поставил бутылку на стол.
Рот его вдруг запрыгал, он быстро поднес к лицу сжатую в кулак руку и стал водить жалкими трясущимися губами по костяшкам пальцев.
– Конечно, это… ужасно, – сказала Харриет. – Это страшный удар. Ах, зачем ты меня обманывал, надо было довериться мне, давным-давно… А так вышло гораздо больнее. Только, пожалуйста, не плачь, я хочу, чтобы у меня голова была ясная. Нет, виски это тебе, мне не надо. И сядь наконец. Как зовут… мальчика?
– Льюк. Но мы… мы зовем его Люка. Немного по-итальянски…
Люка. Мы зовем его Люка. Мелочи, мелочи были убийственней всего, и они еще только начинаются.
– Где они живут – Люка и Эмили Макхью?
– Снимают квартиру в пригороде. К югу от Темзы. О господи. Когда ты произносишь их имена, все кругом будто рушится.
– Что делать, эти люди реально существуют, ты ездил к ним много лет. Я должна привыкнуть к их именам, разве нет? Кто еще о них знает? Ты говорил кому-нибудь… нашим друзьям… вообще кому-нибудь?
– Только одному человеку, – сказал Блейз.
– Кому?
Он колебался.
– М-магнусу… Магнусу Боулзу – так, кое-что… Мне надо было хоть кому-то сказать.
– Ты рассказал Магнусу? Когда?
– Несколько лет уже… Но только в общих чертах, без подробностей… Понимаешь…
– Значит, Магнусу. Пожалуй, мне это неприятно. Хотя тут уже ничего не поделаешь. И что он?
– Сказал, что я должен во всем тебе признаться.
– Да? Он молодец, он мудрый. И хорошо, что только Магнус. Если бы все кругом знали, а я нет… Я бы этого не вынесла.
– Родная моя, неужели ты думаешь…
– Я не знаю, что я думаю. У меня пока еще шок не прошел. Итак, до сих пор это была тайна. А как теперь?
Блейз смотрел на нее, не совсем понимая. Он не знал, как теперь. Само признание казалось ему таким непреодолимым барьером, что он даже не пытался заглянуть вперед. Там был сплошной непроглядный туман, состоящий из распыленных обломков прежней жизни. Только что на него нахлынуло счастливое сознание того, что барьер преодолен – а он все еще жив. Жив, разговаривает с Харриет. Она простила его, сказала, что любит. Вместо угроз и причитаний он слышит какие-то нормальные слова о том, как быть со всем этим и что делать дальше.
– Не знаю, – пробормотал он, глядя на нее счастливыми, широко открытыми глазами, все еще мокрыми от слез.
То, чего он страшился девять долгих лет, случилось. Все оказалось так легко и безболезненно, все кончилось в одну минуту, все кончилось – он свободен. Он снова будет нормальным, здравомыслящим, счастливым, порядочным человеком…
Харриет все поняла по его глазам.
– Ничего, зато я знаю. Когда я читала твое письмо… почему-то кажется, это было давно… думала, что не смогу выдержать… А теперь знаю точно, что смогу. Такое чувство, будто меня затащил водопад – огромный водопад, Ниагарский, – и вот я внизу… и жива, даже кости не переломаны… Ну, во всяком случае, жива.
– Ты моя богиня, спасительница моя, родная…
– Подожди, мы пока не разобрались с тем, что нам делать дальше…
– Если ты любишь меня – если все еще любишь, – вместе мы преодолеем все!..
– Я вышла замуж за честного, порядочного человека; и один инцидент… тут ничего не меняет.
«Инцидент» прозвучал не слишком убедительно, и оба это почувствовали.
– Боже, зачем я не сказал тебе тогда же, сразу?
– Должно ли это оставаться тайной? Нам ведь придется с этим жить, и все уже будет по-другому. Скажи, ты правда ее уже не любишь? Ты, конечно, написал это в письме, но…
– Правда! Я с трудом ее выношу. Она для меня…
– Не надо, я не хочу, чтобы ты так говорил. Просто это страшно важно… важнее всего… Тут все должно быть абсолютно ясно. Так ты ее не любишь?
– Я не люблю ее. Я ненавижу ее. Она змея. Ее яд отравляет мой брак. Поверь, для меня важна только ты, только ты, милая моя… Если ты не веришь мне, я готов…
– Верю, верю… Не надо говорить ни о ком плохо. Я вовсе не хочу, чтобы ты приносил ее в жертву, достаточно и того… И я, разумеется, понимаю, что ты не можешь бросить ее с маленьким… Люкой.
В пылу сказанного Блейз все еще тяжело дышал и сжимал в руке стакан с недопитым виски, но под взглядом жены, напряженным и одновременно странно спокойным, он снова пал духом.
– Конечно, ты не можешь их бросить, – повторила Харриет. – Но все же многое уже изменилось… для нас с тобой. – На какой-то миг у нее опять перехватило дыхание. – Ты ведь понимаешь, что обошелся с ней очень жестоко?
– Понимаю, – пробормотал Блейз.
– Да. Очень жестоко. Ты любил ее – не надо сейчас ничего говорить, ты ее любил, – а потом разлюбил… и начал ею пренебрегать. Ведь так?
– Да, – сказал Блейз. Он сидел понурясь. – Но я не любил ее по-настоящему… так, как тебя… Это было просто…
– Только я прошу тебя, будь со мною откровенен, – сказала Харриет. – То есть будь совершенно откровенен, говори только чистую правду, хорошо? Правда – это часть нашего спасения. Ты обещаешь?
– Да, конечно.
– Она знает, что ты мне все рассказал?
– Я только предупредил ее, что… собираюсь это сделать.
Харриет попыталась представить, как Блейз и Эмили Макхью разговаривают о ней, но не смогла, поэтому торопливо спросила:
– Теперь мы должны сказать Дэвиду, да?
– Боже мой. Боже мой. Если Дэвид узнает… Это… это просто… Нет, я не вынесу.
– Я сама ему скажу, – решила Харриет. – Не откладывая, сегодня вечером. А ты скажешь Монти.
– Монти? Но… зачем?
– Я хочу, чтобы Монти знал. Хочу, чтобы знал хоть кто-нибудь, кроме нас, лучше, если это будет кто-нибудь из наших общих друзей. Тогда, возможно, я пойму, что все это реально. Мне надо почувствовать… что все это действительно существует… Пока что я не могу избавиться от ощущения, что это дурной сон.
– Хорошо. Я скажу Монти.
– Понимаешь, держать все в секрете – это слишком мучительно. Все кругом будут думать, что у нас все по-старому, а на самом деле… Я должна привыкнуть к мысли…
– Да, да. Я понимаю. Я скажу ему. Только давай не будем спешить…
– А когда я увижу ее?
– Ее?
– Да. Ты, надеюсь, не думаешь, что все может продолжаться как раньше? Мы, конечно, договорились, ты ее не бросаешь, но неужели ты думаешь…
– Я не знаю, что я думаю, – сказал Блейз. – Но тебе не надо с ней встречаться, это не нужно, бессмысленно.
– Почему?
– Ну, потому что… она простая лондонская девушка, у нее не такие изысканные манеры…
– Ты боишься, что она начнет при мне ругаться нехорошими словами?
– Нет… но просто она такая жалкая, несчастная, и вообще ей это будет неприятно. Вы с ней даже не сможете разговаривать, это будет безобразная, никому не нужная сцена, ты сама потом пожалеешь… Извини. Никак в голове не укладывается. Зачем тебе это? Прошу тебя, постарайся понять… Извини, я просто не могу сосредоточиться.
– Думаю, то, что ей это будет неприятно, все-таки не главное, – сказала Харриет.
– Прости… Но все же это не имеет смысла. Я совсем не хочу, чтобы вы с ней…
– Я не собираюсь ее упрекать, это было бы глупо. И не собираюсь навязывать ей свою помощь, это тоже глупо и нелепо. Да я бы и не смогла. Но теперь, когда я знаю, что она существует, я должна увидеть ее… и Люку. Ну как ты не понимаешь? Я должна их увидеть! Иначе что это будет? Или ты думаешь, раз ты сообщил мне, что они есть, то можно потихоньку время от времени навещать их, как раньше? Будто ничего не изменилось, кроме того, что я теперь обо всем знаю и все тебе простила? Разве так можно? Конечно, ты не бросишь их на произвол судьбы, и я не хочу мешать тебе с ними встречаться и выполнять свой долг по отношению к ним – хотя, видит Бог, могла бы захотеть… Только… понимаешь, это ведь наше с тобой дело, больше ничье, это наша жизнь, это наш брак, и мы должны делать то, что нужно нам с тобой – тебе и мне. И если мы собираемся дальше быть вместе – по-настоящему вместе, – я должна видеть все своими глазами. Не просто знать с твоих слов, а видеть сама. Наверное, тебе следует быть к ним добрее – даже наверняка, – и я, возможно, сумею тебе в этом помочь. И это тоже часть нашего с тобой… спасения. Конечно, это нелегко – но мы же должны спасти друг друга, и мы сможем, я знаю. Еще сегодня утром, читая письмо, я ничего этого не знала, а сейчас знаю. Но я должна увидеть их обоих хотя бы раз – как бы это ни было больно нам с тобой… и ей. А теперь расскажи мне, как все было. Только, пожалуйста, абсолютно все, с самого начала. Где вы с ней встретились?
Блейз удивленно смотрел на свою жену. От нее исходила энергия и спокойная, почти ликующая уверенность, каждое ее слово было исполнено нравственной силы. И это то нежное создание, за которое он столько лет боялся, ограждал от жестокой правды? Глупец! Теперь он ясно видел, сколько силы в этой женщине – и эту силу породила в ней та самая жестокая правда. Он надеялся на ангельскую доброту, но эта ангельская мощь явилась для него полной неожиданностью. Борясь с нахлынувшим чувством жалкой, смиренной благодарности, он заговорил.
Вечером Харриет рассказала обо всем Дэвиду. Как только она начала, он отвернулся, но выслушал до конца, не перебивая. В косых лучах вечернего солнца стриженая лужайка за окном топорщилась жесткой золотистой щетиной. Харриет с утра ничего не ела. До трех часов они с Блейзом проговорили, потом она приняла аспирин и поднялась к себе – прилечь. Блейз сказал, что он пройдется по улице, а на обратном пути заглянет в Локеттс. Возможно, как раз сейчас он сидел у Монти. Харриет была уверена, что Блейз рассказал ей все без утайки, а от явного облегчения, которое он сам при этом испытывал, ей словно бы тоже становилось легче. Навязчивый образ разрушенного мира не уходил, словно над землей пронесся ураган, круша все на своем пути. Ураган умчался, но после него почему-то остался странный белый слепящий свет. Днем, когда Харриет кормила собак, из ее глаз катились слезы, капали в собачьи миски. Маленькие славные домашние ритуалы, которые она так любила, сделались вдруг пустыми и никчемными. Среди окружавшей ее разрухи ее поддерживала лишь любовь к мужу, которого она жалела всем сердцем, и непоколебимая уверенность в том, что она обязана быть сильной. «Я дочь солдата, – снова и снова повторяла она, – я дочь солдата, сестра солдата». Вспомнилось, как однажды, когда в части у Эдриана погибло сразу несколько человек, он сказал: «Что делать, на то и солдаты, чтобы их убивали. Такая у них работа». И теперь, когда на Харриет обрушился этот ураганный огонь, она понимала, что выбора нет – она должна выстоять. Откуда-то явилось мужество, которого она не знала за собой прежде. Было невыносимо больно, но в сознании Харриет, казалось, все время происходили какие-то перемещения, словно там что-то сдвигалось, что должно было помочь ей перенести боль. Было такое чувство, будто кризис тянется уже много дней, но скоро он кончится и начнутся новые чувства и мысли, пока неведомые ей. Этим, возможно, и объяснялось стремление Харриет рассказать обо всем Дэвиду немедленно. Ей и в голову не приходило, как это трудно, дико и странно – говорить о таких вещах с сыном.
– Вот такие дела, – сказала она.
В голосе Харриет звучало нарочитое равнодушие, чего раньше тоже никогда не бывало. Ей вообще много чему пришлось научиться за этот день. Она сидела на кровати Дэвида, сам он сидел за столом, почти спиной к ней. Время от времени он перекладывал с места на место или поправлял на столе какие-то книги. Сквозь легкие пряди золотых волос (наконец-то он их помыл) Харриет был виден изгиб его скулы и разлившийся по щеке румянец.
– Понятно, – проговорил после паузы Дэвид, тоже подчеркнуто равнодушно, и обернулся.
Он не смотрел на мать, но будто нарочно демонстрировал ей свое раскрасневшееся от сдерживаемого гнева лицо.
– Как видишь, папе захотелось свободы, – заключила Харриет.
Фраза получилась дурацкая, бессмысленная. «Нельзя ничего комментировать, – подумала Харриет, – у меня нет на это права. Лучше всего сейчас встать и уйти, только я не могу. Мне надо поговорить с Дэвидом, услышать от него хоть слово утешения. Мы с ним должны утешать друг друга…» Но ее красноречие, так помогавшее ей в разговоре с мужем, теперь куда-то делось. Для сына у нее не было красноречия, не было убедительных слов, которые могли бы прикрыть голую и уродливую правду. Больше всего ей сейчас хотелось заплакать, но и плакать было нельзя.
– Он очень сожалеет о случившемся, – сказала она чужим равнодушным голосом. – Сейчас мы с тобой должны быть к нему очень добры, понимаешь? Мы должны ему помочь. Для него это так важно.
– А эти его… Он их теперь бросит? – помолчав, спросил Дэвид.
– Нет, конечно нет. Это невозможно. Там же маленький ребенок.
Снова повисло молчание, потом Дэвид бесстрастно произнес:
– Спасибо, что ввела меня в курс дела. И все, хватит с меня этой мути.
«Муть» – это было словечко Монти, подхваченное Дэвидом недавно.
– Дэвид, сыночек, постарайся понять. Конечно, трудно, конечно, все это так неожиданно – но что ж теперь поделаешь. Так вышло, и нам с этим жить…
– Я с этим жить не собираюсь! Я не хочу больше ничего об этом слышать.
Как все это оскорбительно для непримиримого юношеского целомудрия, думала Харриет, как больно и стыдно. Ей мучительно хотелось прикоснуться к Дэвиду, обнять его, прижать к себе – но удерживала гордыня; вернее, две гордыни, ее и его.
– Ну что ж, а я решила с ними познакомиться, – сказала она.
– Что ты говоришь, это невозможно!
– Почему нет? Блейз мой муж. Он мне все рассказал, так что теперь уже что есть, то есть, обратно не спрячешь. Да я и не хочу, чтобы какая-то часть его жизни была от меня спрятана.
– Ты что, собираешься встречаться с этой?..
– Ты прямо как в девятнадцатом веке живешь. «Эта» – просто очень несчастная женщина, ей не повезло в жизни.
– Несчастная! Да она воровка, преступница!
– Дэвид, все то уже прошло…
– Ничего не прошло, ты сама сказала. Я не верю. И потом, с чего ты взяла, что он рассказал тебе всю правду?
– Я просто знаю. – Отчаянным усилием воли Харриет сдержала слезы. – Твой папа рассказал мне все, все до конца.
– Все равно, встречаться с ней – чистое безумие. Это ничего не даст, кроме новой порочной связи, которая будет тянуться и тянуться…
– Но связь уже есть, и она все равно должна тянуться.
– Ну вот, а я что тебе говорю!
– Дэвид, ты будто нарочно не хочешь меня понять. Пока Люка не вырастет…
– Только, пожалуйста, не надо никаких имен.
– Блейз не может взять и бросить их, он в ответе за этих людей, он должен их содержать. Они есть, и так просто их не вычеркнешь. Люка твой брат. Ты ведь сам мне столько раз говорил, что хочешь иметь брата.
– Брата, а не какого-то гаденыша.
– Дэвид, ну зачем ты так. Уж кто-кто, а малыш ни в чем не виноват.
– Малыш!.. Слушать противно.
– Пожалуйста, Дэвид, постарайся мне помочь. Думаешь, мне все это нравится? Но мне ведь тоже надо как-то жить дальше, надо нести свой крест, а не заливаться все время слезами.
– Я и стараюсь тебе помочь. Но все это так… гадко и… никогда уже не будет как раньше. Послушай, давай уедем куда-нибудь, а?
– Уедем?
– Ну да. В Италию, например. Вдвоем – только ты и я. А он пусть тут сам расхлебывает. Скажи ему, пусть избавляется как угодно от этой своей семейки, пусть назначает им какое-нибудь годовое пособие. Ты как хочешь, а мне такая родня не нужна.
Дэвид готов уехать с ней в Италию! Еще вчера, услышав такое, Харриет была бы на седьмом небе от счастья. Увы, теперь и это невозможно. С неожиданной остротой она почувствовала, как страшный омут затягивает ее все глубже и глубже. Опять стало трудно дышать. А это счастье, мелькнувшее только что, – кто знает, вернется ли оно когда-нибудь?
– Я не могу уехать, не могу оставить его в беде.
– У него-то что за беда? Ты же его простила.
– Пожалуйста, Дэвид, не надо иронизировать. – Слезы все-таки прорвались сквозь волевой заслон, и Харриет попыталась зажать веки пальцами. Помолчав немного, заговорила снова: – Дэвид, ты тоже должен его простить. Пожалуйста. Это очень важно.
– Послушай, я не собираюсь обсуждать это – ни с ним, ни с кем. Такие личные вещи – это же тайна, понимаешь?.. И я не хочу, чтобы вся эта мерзость стала известна у меня в школе.
– Да, пока тайна… – сказала Харриет. Пока тайна, но что-то будет дальше, мысленно добавила она. – Ну, словом, я не могу сейчас уехать.
– Боишься его с ними оставлять?
– Нет. Конечно нет.
– Извини, я несу чушь. – Дэвид сжал губы и, откинув с лица длинную золотую прядь, впервые за весь разговор взглянул на Харриет. – Просто от всего этого у меня такое мерзкое чувство… я должен от него как-то избавиться. В общем, для меня этих людей не существует, так что можешь о них даже не заговаривать – их нет. Во всяком случае, они никогда – слышишь, никогда! – не должны даже приближаться к этому дому. Я тоже здесь живу, и я имею право требовать, понятно?
Мать и сын смотрели друг на друга озадаченно, словно не узнавая. Мир стал другим, и сами они были теперь другие, но вести себя по-новому еще не научились.
– Хорошо, – сказала Харриет, словно делая уступку в переговорах. Она понимала, что сейчас ей придется уйти и что больше у нее не будет возможности побеседовать с сыном по душам. – И все-таки, Дэвид, постарайся быть добрым, когда будешь разговаривать с папой. Не надо притворяться, будто ничего не случилось, это слишком тяжело. Ему очень, очень стыдно перед тобой…
– Пожалуйста, не говори со мной таким тоном. Ты вообще не должна так говорить. Взгляни на все это со стороны.
– Я попробую. Но и ты не будь таким холодным…
– Мама, я не холодный. А теперь уйди, пожалуйста.
– Постарайся…
– Пожалуйста, уйди.
– Она сидит в машине, около дома, – сказал Блейз. – Ну, не совсем около дома, за углом.
– Интересно, почему это не около дома? – спросила Эмили. – По-моему, ты меня просто дурачишь.
– Я подумал, так лучше… На всякий случай, вдруг ты не…
– Мог бы предупредить.
– Я и предупредил! Я же три раза повторил тебе по телефону.
– А я тебе не поверила. Думала, это розыгрыш.
– Розыгрыш?!
– Значит, ты ей все-таки сказал. Бедная миссис Флегма. И как она приняла новость?
– Великолепно.
– Бедная великолепная миссис Флегма.
– Я хотел сказать, она не устраивала никаких сцен, она все поняла. И она не требует, чтобы я тебя бросил.
– Как мило с ее стороны.
– Эмили, – сказал Блейз, – не надо так. Помоги мне. Мне нужна твоя помощь. Пожалуйста, помоги.
– И что, по-твоему, я должна делать? – спросила Эмили. – Прыгать от радости, что она отнеслась к тебе с полным пониманием и не требует развода? Разве мне это что-то дает? Ничего.
– Она хочет с тобой познакомиться. Ты не думай, она не держит на тебя зла. Конечно, для нее это был жестокий удар, но она изо всех сил старается…
– А я не хочу с ней знакомиться. Не хочу смотреть в ее самодовольное лицо, понятно? Мне это не интересно. Ты понял меня? Не интересно!
– Но я ее уже привез…
– Как привез, так и увезешь, я ее не приглашала. Я девять лет ее ненавидела, девять лет желала ей смерти. И вот теперь ты соблаговолил наконец во всем признаться – а она, насколько я понимаю, тебя простила. И что это для меня меняет? Ничего. Ты просто отобрал мой козырь, вот и вся разница. Раньше я могла тебе пригрозить, что все ей расскажу. Радости мне от этого не было никакой, разве что полюбоваться иногда, как ты в штаны наложишь со страху, – но хоть это. Ты лишил меня маленького удовольствия, вот и все. Хотя нет, не все. Я вижу, ты чертовски доволен тем, как все обернулось, прямо раздулся весь от важности. В зеркало сегодня не заглядывал? Лоснишься, как обожравшийся кот. Она, видите ли, его простила, а он на радостях опять в нее влюбился, он просто счастлив! Счастлив он. Черт!..
Эмили с силой размахнулась – стакан хереса, дрожавший все это время в ее руке, полетел в камин, осколки брызнули во все стороны. Глотая сердитые слезы, она на миг отвернулась – а когда повернулась обратно, увидела стоявшую в дверях Харриет.
Даже спустя много лет эта минута всплывала в памяти Эмили Макхью с необыкновенной ясностью. В жизни бывают моменты великого откровения, когда глубинные, давно, казалось бы, закаменелые и омертвевшие чувства сдвигаются со своих мест и «прыгают, как овны», будто горы из псалмов Давидовых[15], и человек, словно прозревший от вспышки молнии, постигает этот новый изменившийся пейзаж. Коротко говоря, Эмили вдруг осознала, что она не может ненавидеть Харриет. Или, во всяком случае, что с проблемой «ненавистной миссис Флегмы» покончено и что на смену ей пришла какая-то новая, совсем иная проблема. С изумлением прислушиваясь к себе, Эмили поняла, что ей стыдно, потому что она виновата перед Харриет. Да, именно так: в присутствии законной жены Блейза она почувствовала себя виноватой и пристыженной.
Харриет, с пунцовым испуганным лицом, одетая в легкое длинное белое пальто с поднятым воротом, застыла в дверном проеме. Ее длинные волосы, темные, но словно светящиеся изнутри, были скручены в тяжелый низкий узел. Шелковый голубой шарф, завязанный бантом, съехал чуть набок. Высокая, полноватая, старомодная до нелепости, она показалась Эмили героиней из какой-то другой эпохи, и трудно было понять, как они обе, такие разные, могут существовать в одном и том же историческом времени. Но возможно, Эмили и не пыталась это понять. Поглощенная своей несообразной, неведомо откуда взявшейся виноватостью, она задумчиво разглядывала гостью.
– Простите меня, – проговорила Харриет, глядя на Эмили почти умоляюще. – Простите.
– Принеси совок для мусора, – бросила Эмили Блейзу.
Блейз отправился на кухню за совком.
– Понимаете, – начала Харриет, обращаясь к обоим, из-за чего ей, как судье на теннисном корте, приходилось крутить головой то вправо, то влево. – Я просто не могла дожидаться в машине. Блейза я не догнала, но видела, в какую дверь он вошел. Собиралась подождать на улице… и не выдержала. А сюда вошла вот только сейчас, – добавила она, тем самым ясно давая понять, что вошла не только сейчас.
Блейз вернулся из кухни с совком и щеткой и, согнувшись над камином, начал неумело сгребать в совок осколки покрупнее.
– Оставь это и убирайся ко всем чертям, – сказала Эмили, забирая у него совок. – Сиди в своей вонючей машине и жди.
– Может, лучше… – начал Блейз.
– Нет. Она пусть остается, а ты убирайся.
Блейз колебался. Повисла напряженная пауза, все трое молча смотрели друг на друга. Наконец Харриет догадалась шагнуть в сторону, и Блейз, словно очнувшись, направился к двери. Две женщины, мимо которых он прошел не глядя, остались наедине.
– Думаю, раз уж вы здесь, мы можем перекинуться парой слов, но потом вы уйдете, – быстро проговорила Эмили. – Я не собиралась с вами встречаться, это ваша идея – не слишком удачная, на мой взгляд.
Эмили стояла, широко, по-хозяйски расставив ноги, глядя на свою гостью снизу вверх. Ей по-прежнему было стыдно, но, во всяком случае, она уже успокоилась. Руки ее были сжаты в кулаки, и вся она была словно цельнолитая – отлитая из какой-то очень упругой стали. Чувствуя себя несгибаемой и в то же время гибкой и молодой, она радовалась тому, что может уверенно произносить какие-то слова, но понятия не имела, что ей делать и что говорить дальше.
– Простите, – снова сказала Харриет. – Я, наверное, помешала. Надеюсь, вы не думаете, что я… Блейз ведь успел сообщить вам, что мне уже все известно? Для меня это было большое потрясение.
– Какая жалость.
Эмили заложила сжатые в кулаки руки за спину. Не сводя глаз с Харриет, она принялась раскачиваться с пятки на носок. Теперь она была довольна, что напялила с утра свою самую старую водолазку. В первую минуту, когда Блейз сказал ей, что привез Харриет, она чуть не бросилась переодеваться.
Взгляд Харриет блуждал по комнате, перебегая с одной вещи на другую. Простенький сервант без одной дверцы, оконное стекло с длинной трещиной, кресло с подранной обивкой, пятно на ковре. Ричардсон, свернувшийся в старой коробке из-под обуви.
– Вот-вот, смотрите как следует, – сказала Эмили.
– Не сердитесь на меня. – Харриет уже переключилась на Эмили и теперь изучала ее с тем же откровенным любопытством, с каким только что разглядывала Ричардсона. – То есть, конечно, моей вины тут нет, но я хорошо понимаю, сколько вам пришлось выстрадать. Я знаю, Блейз вел себя нехорошо по отношению к вам, он мне все рассказал.
– Так уж и все, – сказала Эмили. – Очень сомневаюсь. – Во всяком случае, очень надеюсь, что не все, добавила она про себя. – Я понимаю, вам, конечно, приятно было бы видеть во мне страдалицу, но уверяю вас, это не так. Мне-то как раз жилось не так уж плохо. Это вас, бедненькую, дурачили столько лет…
– Не надо, – остановила ее Харриет и неожиданно добавила: – Может быть, выпьем чаю?
Эмили разобрал смех. Она смеялась хрипло, зло, долго не могла остановиться.
– Послушайте, выпейте лучше хереса, – сказала наконец она и достала из серванта два стакана. Наполнив, взяла один себе, другой оставила на столе.
– Я ведь не совсем из любопытства пришла, – сказала Харриет. – То есть мне, конечно, хотелось посмотреть, но… Не знаю, поймете ли вы, каково это – услышать так неожиданно… про ребенка и про все…
«Хочу ли я видеть ее слезы? – спросила себя Эмили. – Нет. Никаких слез. Если она заплачет, я тоже не выдержу и разревусь. Сейчас главное – пережить этот кошмар, не дать ей взять верх. Продержаться до конца разговора, выпроводить ее – а тогда уже рыдать, голосить, что угодно». Красивое лицо Харриет казалось непомерно строгим – наверное, ей тоже нелегко было себя сдерживать – и непомерно большим. «А она не такая уж старуха, – подумала Эмили. – И не такая уродина. Он лгал. Только никаких слез». Сцепив зубы, она молча ждала.
– Мне просто было важно вас увидеть, – продолжала Харриет. – Чтобы почувствовать, что все это реально, мне надо было как бы установить с вами некие отношения…
– Я не желаю иметь с вами никаких отношений, – сказала Эмили. – Для меня вы не существуете.
– Но дело в том, что я существую, – негромко и терпеливо, словно растолковывая трудный для понимания собеседницы момент, проговорила Харриет.
Глаза у нее при этом были огромные и серьезные.
«Может, пока не поздно, послать ее куда подальше? – подумала Эмили. – Я ее, она меня, вот и посмотрим, кто кого. Хотя что тут смотреть, ясно, что ей меня не одолеть; я с ней разделаюсь в два счета. Захочу – она у меня вмиг зальется горючими слезами, запросит пощады; но это слишком просто, потом самой противно будет вспоминать. Нет, пусть уж лучше все кончится поскорее, без всяких „кто кого“».
– Не обольщайтесь, милочка, – тихо сказала Эмили и с неожиданной прямотой добавила: – Я хочу, чтобы Блейз был моим. Хочу, чтобы он жил со мной – по-настоящему. Вам ясно, чего я хочу? Сочувствую, конечно, но тут уж ничего не поделаешь. Вот так.
– Конечно, он должен чаще с вами встречаться, – заторопилась Харриет, – и об этом я как раз тоже хотела поговорить. – Она взяла со стола свой стакан, но не пила, а просто вертела его в руках. – Я знаю, что он до сих пор пренебрегал своими обязанностями. Вы, может быть, думали, что, когда он мне расскажет, я… Впрочем, нет, я не знаю, что вы думали…
– Ну, во всяком случае, я не слишком надеялась, что вы потребуете развод, – усмехнулась Эмили. – Я не такая везучая. Но, собственно, не все ли теперь равно.
– В конце концов, мы с вами обе женщины…
– Так. И что?
– Пожалуйста, отнеситесь серьезно и спокойно к тому, что я скажу. Разумеется, все это было неожиданно, и я почувствовала себя такой несчастной…
– Бедняжечка… – начала Эмили.
Харриет, уже оставившая свой стакан в покое, предостерегающе подняла руку и продолжала:
– Что-то очень важное и незыблемое, вернее, казавшееся мне незыблемым, ушло или, во всяком случае, изменилось. Мне сейчас нелегко, и я много думаю о нашем с Блейзом браке. Я должна быть честной сама с собой – а значит, я должна думать и о вас. Вы говорите, что между нами не может быть никаких отношений, и в обычном смысле вы, вероятно, правы… Но мы просто должны признать друг друга. Я хочу сказать… я не собираюсь мешать Блейзу… встречаться с вами и выполнять свои… обязанности, финансовые в том числе… И я никогда…
Сейчас она не выдержит, подумала Эмили, и ей неожиданно захотелось поддержать собеседницу.
– Выпейте хереса, – сказала она.
– Да, да, конечно. – Харриет предприняла еще одну отчаянную попытку объясниться. – Понимаете, мы же не можем притворяться, особенно после того, как мы друг друга видели, это будет неправильно, и мы обе должны помочь Блейзу, и, кроме того, нам нужно думать о вашем ребенке, а есть еще обязанности, которые надо выполнять…
– Какие же? – спросила Эмили.
– Видите ли, я считаю вас жертвой, а не преступницей…
– Я на седьмом небе от счастья.
– И насколько я понимаю, проблема сейчас в том, как сделать, чтобы всем было лучше… и я очень прошу вас меня поддержать. Получается, что я должна помочь Блейзу помочь вам… Я должна – у меня даже нет выбора.
– Бред, – сказала Эмили. – Слюнявая сентиментальщина. Я же вам объяснила, чего я хочу. Вы что, меня не поняли? Поняли? Ну так возвращайтесь в свою машину и скажите своему мужу, чтобы отвез вас обратно домой.
Бесшумно вошел Люка. В руках он держал шерстяного поросенка, шея которого была снова перетянута удавкой. Дойдя до середины комнаты, Люка молча остановился перед Харриет.
Харриет невольно ахнула.
– Уйди, – сказала Эмили. – Пожалуйста, уйди.
– Нет, не надо. – Харриет сказала это Люке, не Эмили.
Люка продолжал смотреть на нее молча. Потом он сказал:
– Я тебя видел.
Лицо Харриет, только что походившее на застывшую маску с огромными серьезными глазами, тотчас преобразилось, неподвижные до этого момента черты исполнились страданием, нежностью и болью. Брови взлетели вверх, словно она силилась что-то сказать, но не могла.
– Я тебя тоже, – тихо, почти шепотом выговорила она наконец.
Двое молча изумленно разглядывали друг друга.
– Все, хватит! – крикнула Эмили, оборачиваясь к Люке. – Убирайся, черт возьми!
Люка, по-прежнему не обращая внимания на мать, задумчиво взмахнул рукой, после чего удалился так же тихо, как пришел. Харриет невольно подалась вперед, за ним. Слезы потекли по ее щекам.
Какое-то время Эмили разглядывала Харриет молча. Потом, словно вдруг прорвало невидимую плотину, из ее глаз тоже хлынули слезы. Она села за стол и уронила лицо на руки.
– Уходите, – не отнимая ладоней от мокрого лица, с трудом выговорила она. – Если в вас есть хоть капля порядочности, уходите…
– Простите…
Дверь тихо затворилась. Оторвав руки от лица, Эмили вцепилась в скатерть зубами и глухо, тоскливо завыла.
Люка, сидевший в окружении собак посреди солнечной лужайки, внушал своим тайным наблюдателям, которых сегодня у него было больше чем достаточно, самые разнообразные чувства. Со своей стороны, он с чисто детской непосредственностью демонстрировал себя всем желающим, словно предлагая усматривать в своем присутствии кому что вздумается, от чуда до наваждения. Одет он был в шорты, школьную куртку поверх старенькой линялой футболки с Микки-Маусом и стоптанные сандалии. Грязные худые ноги, торчавшие из куцых шорт, выглядели несоразмерно длинными, наводя на мысль о том, что дети в этом возрасте растут как на дрожжах. Собаки, все семь, были, разумеется, в сборе. Ёршик, млеющий от возбуждения и сознания своей избранности, покачивался у Люки на руках, задрав лапы кверху и подставляя солнцу голый розовый, в черных пятнах животик. Глаза его были блаженно зажмурены, черные, в мелких морщинках губы растянулись в собачьей улыбке, обнажая острые белые клычки. Остальные собаки, все, кроме Лоренса, взирали на счастливчика со смиренной завистью и благоговением. Аякс, умевший всегда хранить солидное достоинство, возлежал рядом в позе сфинкса, лишь изредка подергивая влажным носом, его темные влажные глаза с густыми ресницами (как у красавицы-еврейки, говорила Харриет) были устремлены на дарующего милости Люку. Панда и Бабуин – неразлучная парочка – расположились на траве перед Люкой и утешали друг друга как могли: Панда валялся на спине в той же позе, что и Ёрш, бесстыдно демонстрируя свой мужской орган и поросшее редкими коричневыми волосками брюхо, черный косматый Бабуин неловко терся о ребра друга, заодно помогая тому поддерживать равновесие. Оба были известные грязнули и умудрялись загадочным образом вывозиться в грязи даже в самую сухую погоду. Малыш Ганимед (всегда почему-то именуемый «малышом», хотя Ёршик был такой же маленький) лежал в своей любимой позе коврика, уткнувшись мордой в ногу Люки между ремешками сандалии. Нога, по-видимому, источала бесподобный аромат, потому что время от времени Ганимед лизал ее, самозабвенно закатывая к небу блестящие, как две черные сливы, глаза. Баффи, вечный изгой, страдающий комплексом неполноценности, сидел чуть поодаль, позади Панды с Бабуином. У него были янтарные глаза с темными, свисающими из уголков слезинками и рыжая усатая морда (ее туповатое выражение вмиг покорило сердце Харриет в Баттерсийском доме собак). Чтобы обратить на себя внимание, он время от времени жалобно скулил. Колли Лоренс, мнивший себя человеческим существом, сидел, бесцеремонно привалившись к плечу Люки и снисходительно поглядывая сверху вниз на все это собачье сборище.
– Что это за мальчик? – спросил Эдгар у Монти. – Наверное, какой-нибудь племянник?
За разговором они уже несколько раз обошли сад по дорожке, выстриженной в высокой, только-только входящей в колос траве. «Мы с тобой прямо как раньше, – сентиментально заметил по этому поводу Эдгар. – Помнишь, как в колледже мы любили ходить кругами по галерее?» Солнце наводило глянец, превращая несколько поблекший за последние дни пейзаж в райскую картинку из средневекового часослова. На картинке преобладало белое и зеленое.
Вдоль забора, отделявшего сад от Худ-хауса, росла белая наперстянка. Монти машинально сорвал один цветок и принялся изучать ярко-пунцовые пятнышки в его сердцевине. Кажется, про эти пятнышки что-то сказано у Шекспира? Или то был какой-то другой цветок, не наперстянка? Может, спросить Эдгара? Нет. Хотя Эдгар наверняка знает. Монти надел белую чашечку, как наперсток, себе на мизинец. Харриет попросила его рассказать Эдгару обо всем, но Монти никак не мог начать. Такого рода эмоциональные беседы связывают людей. А Монти не хотелось, чтобы между ним и Эдгаром, между Эдгаром и этой странной нелепой историей, происходящей сейчас в Худ-хаусе, протягивались все новые и новые нити. В самой ее сердцевине было что-то очень личное для Монти, что-то, чем он сейчас жил. Он не хотел посвящать Эдгара. Но Харриет попросила – значит придется. Полчаса назад Эдгар говорил, что собирается ехать обратно в Оксфорд. Но, услышав новость, он наверняка задержится. Думая обо всем этом и помахивая мизинцем в белом прохладном колпачке, Монти молча шагал по садовой тропинке, уже в сторону дома.
– Так что это за мальчик?
– Младший сын Блейза.
Монти смял цветок наперстянки и бросил его в траву.
– Извини, я не расслышал… Что ты сказал?
– Блейз, как выяснилось, несколько лет содержал любовницу с ребенком. Харриет только сейчас об этом узнала. А этот мальчик – сын Эмили Макхью, любовницы Блейза.
Монти готов был услышать в ответ горестное восклицание, но Эдгар молчал. Пауза так затянулась, что Монти наконец не выдержал и обернулся. Эдгар стоял на месте. На побагровевшем его лице отобразилось горестное, почти карикатурное выражение недоверчивости и негодования.
– Правда?.. Это что, правда?
– Да, – сказал Монти. – Мне сказала Харриет. И она хочет, чтобы ты тоже знал. Она держится прекрасно. – Это уже прозвучало совсем по-идиотски.
В темноватом холле стройные пилястры перерастали под потолком в рельефные балки и сходились к центру, закручиваясь над головой причудливой спиралью.
– То есть ты хочешь сказать, что все эти годы… Да этому мальчику уже, наверное… И Блейз все это время ее обманывал… содержал любовницу и ни слова не говорил Харриет?
– Именно так. Можешь зайти, выпить чего-нибудь. А потом уезжай.
Они вошли в мавританскую гостиную. Во времена мистера Локетта в нише, обрамленной чечевичным узором, располагался фонтан. Монти заменил его книжным шкафом, и теперь павлиньи переливы загадочно синели над корешками книг.
– Я этого не вынесу, – сказал Эдгар, тяжело опускаясь в белое изящное плетеное кресло.
Кресло жалобно скрипнуло.
– А тебе и не надо ничего выносить.
– Я хотел сказать: я не смогу больше туда приходить.
– Точно?
Эдгар, облаченный в шерстяной костюм, нещадно потел – снять пиджак ему не пришло в голову. Монти был в белой рубашке и черных брюках с узеньким кожаным ремешком. В гостиной было прохладно, благо утром Монти предусмотрительно закрыл ставни. Достав высокие стаканы, он приготовил два коктейля: джин, сок свежевыжатого лимона, ломтик лайма, принесенного вчера Харриет, немного содовой, несколько листиков петрушки для украшения – так когда-то делала миссис Смолл. Софи никогда не пила коктейли, даже летом.
– А как я туда пойду, когда в доме такое горе? Кошмар. Ничего кошмарнее представить невозможно. Бедная Харриет…
– Да, бедная Харриет, – отозвался Монти, страшно злясь на Эдгара: мог бы держать свои причитания при себе.
– Свинья он, этот Блейз. Вмазать бы ему как следует. Иметь такую прекрасную жену и…
– Все не так просто, – сказал Монти. – Может, ты и прав. А может, нет. Мы никогда не узнаем, как там все было на самом деле.
– Конечно не узнаем. – Эдгар пододвинул хозяину пустой бокал, явно за добавкой. – Не выспрашивать же, не лезть человеку в душу. И так ясно, Харриет перед ним чиста. Я только не совсем понял, на что это ты сейчас намекал.
– Ни на что я не намекал.
– А как она узнала?
– Блейз сам ей сказал. Нервы не выдержали.
– Свинья. Боже. Я уже не смогу разговаривать с Харриет, как раньше.
– Раньше – это когда? Ты с ней знаком меньше недели.
– Но она захотела, чтобы я тоже знал, – удивительно, правда? Как выразить ей свое сочувствие?.. Боже, какое ужасное испытание.
– Ужасное, – согласился Монти. – Но, как ты правильно заметил, неприлично лезть людям в душу. Так что вали-ка ты обратно к себе в Оксфорд, вот что. Давай допивай – и вперед.
Второй бокал Эдгар допил и уже держал в руке третий, наполненный до краев.
– Может, написать ей письмо? Как ты думаешь, я могу написать ей письмо?
– Вот-вот, напиши ей письмо. Из Оксфорда. А теперь допивай и уходи.
Харриет обещала зайти к Монти завтра утром на «долгий», как она сказала, разговор. Монти ждал ее прихода с чувством смутного, но в целом приятного волнения. Сейчас ему хотелось, чтобы Эдгар поскорее убрался и не мешал ему думать о Харриет.
– Что это ты такое делаешь? – спросил Дэвид.
Харриет, одетая в свое бледно-лиловое платье и белый жакет, хлопотала на светлой по-летнему кухне. На столе, покрытом красно-белой скатертью, уже стоял их лучший чайный сервиз и было приготовлено угощение: мед, тоненькие тосты с маслом, печенье с цукатами. Это было странно. В доме Гавендеров чай во второй половине дня никто не пил, а цукаты Харриет держала для себя, она любила перехватить что-нибудь вкусненькое часов в одиннадцать.
Харриет молча указала взглядом за окно.
Бледные щеки Дэвида вспыхнули, но больше в его лице ничего не изменилось.
– Это он, надо понимать?
– Да.
– Она тоже здесь?
– Нет.
– И часто у нас будут такие визиты?
– Не знаю.
– Ты его приглашала?
– Нет.
Дэвид направился к двери.
– Куда ты?
– Гулять. Не вернусь, пока он тут.
– Дэвид, – сказала Харриет. – Пожалуйста, поговори с ним. Скажи ему хоть слово. Одно только слово, ради меня. Пригласи его выпить с нами чаю.
Дэвид внимательнее взглянул на мать. Она стояла перед ним с ярко-красной, как у экзотической птицы, шеей, лицо тоже было красное и взволнованное, даже как будто опухшее от волнения, но глаза сухие.
– Знаю, что это очень трудно, – сказала Харриет. – Но если не решишься сейчас, в следующий раз будет еще трудней. Надо сделать вид, что это легко и естественно, иначе потом будет просто невыносимо. Пожалуйста, Дэвид. Прошу тебя.
Вошел Блейз, как-то странно преобразившийся. Вид у него теперь был конфузливый и глуповатый – примерно как у Баффи, – лицо небритое, в красных пятнах, сквозь щетину проступали пунцовые точечки раздражения.
– Смотри, кто к нам пришел, – сказал он, улыбаясь Харриет нелепой, конфузливой улыбкой.
Дэвид поспешно отвернулся, как в детстве, когда не мог видеть, как кто-нибудь из родителей некрасиво ест.
– Что будем делать? – робко спросил Блейз.
– Я попросила Дэвида поздороваться с ним и пригласить его на чай, – сказала Харриет.
– Дорогая… Думаешь, это… возможно?
– Разумеется, возможно. Не сидеть же ребенку на лужайке, с собаками.
Блейз обернулся к Дэвиду. Он, видимо, собирался что-то сказать, но не успел.
Дэвид уже выскочил из кухни и стремительно пересекал лужайку. Его распирало от примитивного чувства неприязни к чужаку, явившемуся без спроса. Хотелось кричать: убирайся, это мое, я здесь живу!.. Подойдя к Люке, он молча остановился. Разлегшиеся собаки тотчас повскакивали, даже Ёрш вывернулся из объятий Люки и шлепнулся на траву. Послышалось неясное ворчание. Маленький кареглазый мальчик смотрел на большого голубоглазого.
– Моя мама приглашает тебя в дом, на чашку чая.
Люка, не отвечая, смотрел снизу вверх в его серьезное напряженное лицо. Потом сказал:
– Хочешь посмотреть мою жабу?
И тут Дэвид, у которого до сего момента внутри все клокотало от возмущения, Дэвид, только что передавший Люке материнское приглашение враждебнейшим тоном, на какой только был способен, ощутил в своей душе неумолимый зов долга и, злясь на себя, все же вынужден был подчиниться.
Он глубоко вздохнул и сказал:
– Давай.
Люка привстал на коленях и бережно извлек из кармана куртки маленькую коричневую жабку. Жабка в его ладонях немного подергалась, но скоро затихла и сидела спокойно, как на дне чаши, сосредоточенно, даже как будто нахмуренно глядя вверх блестящими выпученными глазами. На солнце ее темная сухая пятнистая спинка блестела как лакированная.
Дэвид тоже опустился на колени, чтобы посмотреть поближе.
– Смотри, они разглядывают что-то вместе, – сказала Харриет.
Голос ее слегка дрожал, но она все-таки держалась. То, что поняла Эмили, едва взглянув на Харриет, поняла и Харриет в тот же самый момент, причем поняла так ясно, будто могла читать в душе Эмили как в открытой книге. Харриет ждала холодной вражды и ненависти, но вдруг обнаружила, что никакой ненависти нет, что стоящая перед ней женщина сама достойна не ненависти, но жалости и сочувствия. Ибо Харриет сразу же разглядела муки стыда и вины, которые Эмили так старательно пыталась от нее скрыть (в какой-то мере они послужили для Харриет утешением).
Блейз так и не услышал от жены рассказа о том, что произошло тогда после его ухода. Она прекрасно понимала, что никакими словами тут ничего не объяснишь: ведь и тогда дело было вовсе не в словах, которыми они с Эмили успели обменяться. В целом Харриет чувствовала, что она может гордиться собой. Не послушав Блейза, она поступила так, как, по ее разумению, должна была поступить, при этом сумела сохранить достоинство и продемонстрировать Эмили доброжелательность, идущую не из слов, а из самого сердца. Ей удалось, притом без всяких ухищрений, утвердить собственные принципы на чужой территории. Никакой вульгарной сцены, которой так опасался Блейз, не было да и не могло быть; ее не могло быть именно благодаря Харриет, ее железной воле и железной кротости. Все получилось как нельзя лучше, мужество не изменило ей, и коротенькая встреча с Люкой, полная неясного пока загадочного смысла, тоже прошла удачно и на удивление легко.
В то же время Харриет понимала, что беда еще не обрушилась на нее всей своей тяжестью, что это неминуемо произойдет позже. Просто, пока это не случилось, она спешила предпринять какие-то разумные шаги, сделать все, чтобы защитить свой дом от надвигающейся стихии. Страх и тоска маячили над самой ее головой, они висели в летнем стоячем воздухе, как черный надувной шар, она лишь легонько отталкивала его рукой, он отлетал немного, но по-прежнему колыхался рядом. И все же она держалась стойко. Более того, Харриет чувствовала небывалый прилив сил и сознавала, что именно она, а не кто-то другой, держит в руках все нити. Все окружающие теперь зависят от нее, и если только возможно помочь, исцелить, отвести беду, то сделать это способна лишь она одна. Даже в эту минуту, в этом призрачно-синеватом, как перед бурей, свете, она смотрела на изумленного Блейза и, казалось, видела все, что происходит в его душе. Она знала, что он чувствует, когда два его сына, стоя друг перед другом на коленях, разглядывают что-то вместе и о чем-то говорят.
– Боже мой, – пробормотал Блейз. – Боже мой.
Он никак не мог избавиться от идиотской смущенной ухмылки – вероятно, надеялся с ее помощью скрыть свое безмерное облегчение. В ответ на его вопросы Харриет сказала только, что разговор с Эмили «прошел хорошо». Значит, обошлось без скандала. Сам он потом к Эмили не заходил, дождался Харриет и повез ее домой. Вернувшись, они сели обедать – хотя обед был достаточно условный, к еде никто не притрагивался. Говорили, преодолевая неловкость, об Эмили, потом понемногу перешли на себя, вспоминали первые дни своей совместной жизни.
После обеда Блейз выскользнул из дома, чтобы позвонить Эмили из автомата.
– А, это ты, – ответила трубка знакомым ледяным тоном.
– Да. Прости меня.
– Пошел к черту.
– Спасибо, ты была добра к миссис Флегме.
– Нет никакой миссис Флегмы.
– Ну к Харриет. Все равно спасибо.
– Это она была добра ко мне.
– Можно заехать к тебе завтра утром?
– Заезжай не заезжай, какая разница? – сказала трубка, и послышались короткие гудки.
В целом можно было считать, что разговор прошел вполне мирно.
К себе в кабинет Блейз возвращался на цыпочках, чтобы не беспокоить Харриет: она предупредила его, что хочет прилечь. Он тоже растянулся на софе и, глядя в потолок, покачивался на волнах своего огромного облегчения. Пока что все шло без осложнений, обе женщины являли ему одну только доброту. Неужели, спрашивал себя Блейз, неужели возмездие миновало его? Неужели худшее уже позади? Может ли Господь, в лице двух прекрасных женщин, простить его и, несмотря ни на что, даровать спасение? Конечно, говорить об этом окончательно еще рано. Но хотя бы сегодня, сейчас он удостоен этой великой милости – он, недостойный. И, поражаясь всему происходящему, Блейз моргал и растерянно улыбался. Он тоже чувствовал, что черный шар нависшей беды колышется где-то рядом, и тоже, как и Харриет, пытался незаметно оттолкнуть его от себя подальше. Сердце его переполняла любовь к Харриет и любовь к Эмили, и впервые за столько лет эта его двойная любовь не терзала его своей греховностью.
Теперь, когда на его глазах совершалось невозможное – Люка разговаривал с Дэвидом, – Блейз готов был бухнуться на колени и орать о своей благодарности на весь мир. Он обернулся к Харриет – она смотрела на него с совершенной нежностью и с совершенным пониманием.
– Ну что ты, ну… – послышался ее такой родной голос. Она притянула его к себе, и его пылающий лоб прижался к ее плечу.
– Представляешь, – сказала Харриет, – он признался во всем только одному человеку. И знаешь кому? Магнусу Боулзу.
– Вот как, – пробормотал Монти.
– Я будто какой-то мифологический персонаж, – сказала она. – Будто в самой боли черпаю силы, чтобы переносить эту боль. Смешно, да?
– Нет.
– Конечно, я еще не до конца пережила этот кошмар. Потом еще будет вторая фаза, или вторая волна, не важно. Многие как раз на этом ломаются, даже умирают.
– Ты не умрешь.
– Я стала теперь такая болтливая – как хмельная, честное слово. И все время смотрю на себя со стороны и сама себе дивлюсь: надо же, такое выдержать!
– Ты удивительная женщина.
– Ты рассказал Эдгару?
– Да.
– И что он?
– Сказал, что хочет вмазать Блейзу.
– Он такой добрый. Ах, Монти, как все это… странно. Понимаешь, просыпаюсь сегодня утром – и опять эта страшная боль… В первую минуту показалось даже, что это все дурной сон.
– Понимаю.
– И я живу этой болью, скольжу по ней, как по волне.
– Ну и хорошо. Скользишь – значит с головой не накрыло.
– Да. Пока да. Странно, но я чувствую себя такой всесильной, раньше так никогда не было. Наоборот, я сама всегда зависела от своих близких, и всегда они оказывались сильнее меня – отец, Эдриан, потом Блейз. Даже Дэвид. И вдруг – все кругом начинают зависеть от меня. И она тоже зависит от меня. Ой, Монти, зато малыш – такой славный.
– И что, у тебя к нему никакой ненависти?
– Ну что ты. Как может женщина ненавидеть ребенка.
– Подозреваю, что некоторые женщины могут.
Впрочем, Монти был не совсем в этом уверен. Что вообще он знал о женщинах? Так ли разительно они отличаются от мужчин? Софи он почему-то никогда не относил к разряду женщин. Сейчас он немного злился на себя, потому что никак не мог понять состояние Харриет: ее реакции по-прежнему оставались для него загадкой.
– И знаешь, я тоже ему понравилась… И это так удивительно… Это как новая любовь среди полного безумия, как…
– Животворящий родник. Оазис в пустыне.
– Смеешься! Ах, Монти, как ты мне помогаешь.
– Я ничего такого не сказал.
– А ничего такого и не нужно. Просто… видишь ли, ты единственный человек, с которым я могу говорить, и вот теперь я наконец чувствую, что мы говорим с тобой по-настоящему. То есть… мы теперь понимаем друг друга; что бы я ни сказала, я знаю: ты меня поймешь.
Пожалуй, так оно и было. Это необыкновенное возбуждение Харриет, этот ее хмельной – Монти тоже не мог подобрать лучшего слова – кураж в один день смел преграды, мешавшие им понять друг друга: ее неуверенность, его отрешенность. Неожиданно оказалось, что Харриет ведет разговор, причем делает это легко и свободно; она, по всей видимости, впервые в жизни была по-настоящему занята собой. Она интересовалась собой, даже любовалась собой, своей способностью превозмочь боль, своим, как она говорила, «всесилием» – и это самолюбование неожиданно оборачивалось мощным жизненным стимулом, источником света и тепла.
– Блейз мой муж, что бы ни случилось. А мало ли что могло случиться: рак, слепота, безумие, в конце концов… Болезнь могла приковать его к постели. Что бы я тогда делала? Ходила бы за ним, заботилась о нем, а как иначе. Конечно, такой беды я не ждала – но что теперь? Не бросать же его. Да я и не могу его бросить… Знаешь, мы с Блейзом стали ближе друг другу, наша любовь даже окрепла, мы оба острее почувствовали радость жизни, будто нам удалось спастись после кораблекрушения…
– Ты удивительная.
– Не в этом дело. Понимаешь, это его облегчение… Представь себе священника, который отпускает человеку грехи. С человеческой души спадает тяжкий груз – это же чудо, правда. Еще никогда не было, чтобы я своей властью могла дать любимому человеку то, что так ему необходимо. Ну вот, получается, что с моей стороны это чистый гедонизм.
– Когда человек находит удовольствие в праведных поступках, это называется не гедонизм, а добродетель.
– Он такой смиренный и такой откровенно счастливый. Оттого, что не надо больше лгать… и что этот вечный страх, обман – все позади. И он по-настоящему раскаивается, все, все понимает, нисколечко себя не щадит. Я никогда его таким не видела – точнее, не только его, я вообще ничего похожего не видела. Так бы и обнимала его все время, и приговаривала: все хорошо, все в порядке.
– Что ж, – сказал Монти, – я рад, что все хорошо.
Его самого несчастье чуть не лишило жизни, чуть не раздавило, как червяка, – Харриет же, когда несчастье обрушилось на нее, как будто расцвела; она даже выглядела моложе. Глаза ее сияли радостью и изумлением, толстая золотисто-каштановая, немного растрепанная коса то ли была по-новому заплетена, то ли легла как-то особенно удачно. Когда Харриет говорила, ее полные руки двигались свободно и уверенно, а подол сине-белого полосатого платья легко касался пола. До Монти долетал запах свежестираного платья, запах пудры и теплого тела, запах роз.
Они сидели в белых плетеных креслах на маленькой веранде, стеклянную крышу которой поддерживали резные деревянные кариатиды; за много лет древесина растрескалась, и теперь они походили на носовые фигуры, снятые со старых кораблей. В углу веранды, где скопились солнечные блики от множества стекол, зримо клубился густой горячий воздух, пропитанный цветочной пыльцой. Монти сидел в рубашке с закатанными рукавами, положив на стол тонкие белые, с темными волосками руки, и мучился от жары. Была половина двенадцатого. Он пил смесь из джина с лимонным соком и петрушкой. Харриет ничего не пила – была пьяна сознанием своего всесилия. На душе у Монти было так скверно, что хотелось выть, в нем вскипало странное глухое раздражение. Может, он и впрямь рассчитывал, как вампир, подпитаться от семейной драмы Гавендеров – надеялся, что чужое горе поможет ему забыть свое? Но испытал разочарование, потому что вместо всепожирающей злобы и отчаяния, вместо вакханалии ненависти на его глазах совершалась победа мужества и достоинства. Или он собирался выступить в роли утешителя Харриет?
– Все равно, – сказал он, – твои беды еще только начинаются. Эмили Макхью существует, и…
– Да-да, я это знаю. Блейз сейчас у нее – я сама его туда послала. Монти, я хочу, чтобы ты тоже с ней познакомился. Мне ее так жалко! Знаешь, она мне даже понравилась – представь, мы с ней не возненавидели друг друга. Я хочу пригласить ее к нам, чтобы она увидела, как мы живем, увидела настоящую семью, настоящий дом. Хочу, чтобы она приняла все это и не чувствовала себя… обделенной, что ли, всем чужой. Я сумасшедшая, да? Сначала мне самой казалось, что вот еще немного – и все, не выдержу больше, умру от горя. Но теперь… Понимаешь, все должно наладиться, и все наладится, что бы там ни было. Я чувствую в себе столько силы! Могу, если надо, хоть весь мир перевернуть.
– Ты удивительная женщина, – снова сказал Монти.
Да, подумал он про себя, она все-таки заставит Эмили страдать, по-своему она ее накажет. От этой мысли ему стало чуть легче.
– А теперь я должна как-нибудь усыновить Люку…
– Послушай, у Люки все-таки есть мать! И даже отец, если на то пошло.
– Да нет, я не в буквальном смысле, я еще не совсем сошла с ума. Жить он, конечно, будет с Эмили, но я хочу, чтобы он приходил к нам как можно чаще и чтобы у него была здесь своя комната. Разве плохо, если у мальчика будет вторая мать? А еще мы решили перевести его в более приличную школу.
– Кто это – мы?
– Мы с Блейзом. Завтра я снова встречаюсь с Эмили, постараюсь уладить с ней этот вопрос. Блейз уверен, что она не будет возражать. Хотя, конечно, на все это понадобится время.
– Ты что, совсем его не ревнуешь? – спросил Монти.
Нескончаемые, почти механические муки ревности безжалостно искалечили его семейную жизнь. Неужели, думал он, лекарством от таких терзаний может быть обычное великодушие? Если, конечно, это великодушие.
– Ну почему же. Ревную. – Харриет подняла с пола подол полосатого платья и подоткнула под себя. – Пожалуй, я все-таки тоже попробую твой коктейль. Понимаешь, я просто очень стараюсь сама себя убедить, что все смогу. Потому что если нет, тогда мы все пропали. Ты не представляешь, сколько мне сейчас надо мужества, чтобы не разреветься.
– Извини.
Кретин, выругался он про себя. Она действительно умная и мужественная женщина. Мне просто хочется думать, что все это не настоящее, – но это настоящее.
– Ревную к прошлому, как последняя дура. И ведь понимаю, что теперь это не имеет значения, все ушло, там давно уже ничего нет. Но раньше-то было: он же любил ее, он спал с ней.
– А теперь? – спросил Монти.
Блейз на этот счет высказывался как-то очень уклончиво.
– Нет, теперь нет, конечно. В том-то и дело. Теперь она – бремя, которое он обязан нести…
«А не лжет ли ей Блейз? – подумал Монти, но тут же печально усмехнулся про себя. – Мне уже не суждено это узнать: Блейз никогда меня не простит за то, что в его драме я оказался хладнокровным зрителем. А сейчас вдобавок сижу и выслушиваю откровения Харриет».
– Конечно, я ревную, – сказала Харриет рассеянно, глядя огромными глазами куда-то в палисадник; там под полуденным солнцем, вывесив языки, поджидали хозяйку Ёрш и Панда с Бабуином. – Просто я не могу себе позволить сходить с ума от ревности. Я должна владеть собой. И владеть ситуацией. Этого ждут от меня все – Блейз сказал, даже Эмили ждет. И я должна их всех спасти. Да, это фиаско, катастрофа. И для многих семей это, наверное, был бы конец – только не для моей. Мы все сделаем как надо, мы сделаем все. Со стороны это, наверное, похоже на какой-нибудь банк, который разорился, но твердо намерен заплатить по счетам. Мы должны отвести место для Эмили в нашей жизни. Я понимаю, радости мне от этого будет мало. Но, как ты правильно сказал, она ведь существует, и ее сын тоже. Конечно, если бы не Люка, Блейз давно бы ее бросил – и она это знает. Но Люка есть, и, возможно, он-то как раз всем нам и поможет. Возможно, с ним все мы будем вести себя гораздо лучше. Чистота и невинность всегда помогают.
– А что Дэвид? – спросил Монти, вовсе не затем, чтобы лишний раз помучить Харриет; просто он хотел убедиться, что она все предусмотрела, ничего не упустила.
Харриет, по-прежнему глядя в палисадник, болезненно сморщилась.
– Очень переживает. Блейзу за все время еще ни слова не сказал. Возможно, он… нет, я не говорю, что он больше всех пострадал, да я и не дам ему так страдать, не допущу… Он уже не ребенок. Он достаточно взрослый и достаточно здравомыслящий мальчик, чтобы это пережить. Я помогу ему, мы справимся. Но это трудная большая задача, которую придется решать каждый день, – а мы пока в самом начале. Представь: человек жил себе всю жизнь без забот, и вдруг война, и вот он уже мобилизован. Ах, Монти, ты ведь поможешь мне, да? – Не оборачиваясь, она протянула ему руку, Монти взял ее. Из сада, из-за угла дома, появился Аякс; послав хозяйке собачью улыбку, он тоже улегся посреди палисадника и вывесил язык. – Монти, что еще сказал Эдгар, когда ты все ему рассказал?
Монти отпустил ее руку.
– Очень жалел, что теперь не сможет разговаривать с тобой, как раньше.
– Да почему же не сможет? Пожалуйста, скажи ему, пусть приходит, я буду только рада! Для меня чем больше людей, с которыми я могу об этом говорить, тем лучше. Пусть все о нас знают, все должно быть гласно, как сам брак, – иначе жизнь превратится в кошмар.
– Насчет этого вы с Блейзом тоже договорились? – поинтересовался Монти. – Я имею в виду гласность.
– Н-нет, это мы еще не обсуждали… В любом случае скажи Эдгару: он может приходить и говорить со мной сколько угодно.
– Хорошо, скажу. – Монти почувствовал, как глухое раздражение снова поднимается в нем. В этой хмельной, возбужденной Харриет было что-то абсурдное. Намерения у нее, конечно, благие, но во что они выльются?
– И еще я хотела бы поговорить об этом с Магнусом, – сказала Харриет.
– Не уверен, что это возможно.
– Откуда, интересно, у человека берутся силы, чтобы такое пережить? Я будто оказалась одна в чистом поле – поле такое голое, как правда, и ветер свищет над головой. Я сначала только плакала, плакала, больше ни на что не было сил. А потом поняла, что выход только один: я должна любить Блейза еще сильнее, чем раньше, только это нам всем поможет. И поняла, что мне это совсем не трудно, я могу любить гораздо сильнее!
– А если Эмили Макхью не примет твоих условий? – спросил Монти.
– Примет, – сказала Харриет. – Должна принять. Для нас обеих теперь все изменилось, и жить нам тоже придется по-новому. Звучит, конечно, самонадеянно, но – понимаешь, она меня не возненавидела и… В общем, я заставлю ее принять мои условия.
– То есть верховодить будешь ты?
– Ну вот, опять ты насмехаешься! И смотришь на часы. Все, мне пора! Эй, мальчики, за мной! Пожалуйста, Монти, помоги мне справиться со всем этим. Мне так нужна твоя помощь. Не забудешь сказать Эдгару, ладно? Ах, Монти, опять ты!.. Умоляю, не давай мне больше никаких вещей. Это же, наверное, очень ценная чаша, посмотри, какие на ней золотые листочки, или уж не знаю, что это такое. Что скажет миссис Смолл, когда приедет!..
После ухода Харриет Монти вернулся к себе в кабинет. Окна, как всегда в жару, не закрывались, однако темно-красные деревянные ставни, расписанные голубыми тюльпанами с женскими головками вместо цветков, были закрыты – из-за этого по комнате разливались запахи сада, но воздух оставался прохладным. В полутьме мраморные разводы на обоях закручивались в странные водовороты, по углам потолочных кессонов прятались тени; узкие шкафы вдоль стен (в коих, по задумке мистера Локетта, должны были стоять высокие, стройные вазы и такие же высокие, стройные мадонны) приглушенно мерцали драгоценными витражами, выполненными в виде растительного орнамента. Монти привычно опустился на колени и попытался отбросить от себя все мысли, но не смог. Казалось, душа его настойчиво искала в пустоте неведомого исцеления, которое мозг так же настойчиво отвергал. При таком раскладе от высших сил проку не было никакого, неясное глухое раздражение не отступало. Немного поборовшись с собой, Монти сел на ковер и, обхватив руками одно колено, стал смотреть на золотистую полоску света между ставнями. Так чего же он ждал, чего хотел? Мечтал увидеть, как Харриет будет рыдать и биться в истерике, полюбоваться на то, как рушится чужая жизнь, почувствовать, что он сам кому-то нужен?
Как легко и естественно пристраивается человек к чужим бедам. Что ж, если и он собирался пристроиться – ничего не вышло. Монти почувствовал, как в нем опять поднимается отвращение к самому себе, бесплодное и бессмысленное. Нужно бежать, думал он, только куда? Еще и мать скоро приедет. Но все же, пока он сидел на полу, раздражение понемногу улеглось. Вернулся и воцарился на своем законном месте образ Софи, с ним вместе вернулась привычная боль. Вот он видит маленькие ножки в изящных туфельках, а вот сверкнули круглые стекла очков, вот, вскинув голову, она смотрит на него дерзко и нетерпеливо – требует внимания, и этот взгляд выдает всю ее трогательную беззащитность, все то, что она так пытается от него скрыть. Сегодня ночью Монти снилось, что он не человек, а огромный зверь с выколотыми глазами, и Софи, голая, в одной только украшенной цветами шляпе, ведет его за собой на цепи. Софи. У нее были такие маленькие груди. Монти мучительно хотелось плакать, но слез по-прежнему не было.
– Тебе пора, – сказала Эмили. – Харриет, наверное, уже ждет.
– Нет, вы правда с ней мирно поговорили? – спросил Блейз.
Все происходящее казалось ему абсолютно немыслимым.
– Послушай, я же тебе объяснила. Говорила она, я только молча ухмылялась.
– И ты не орала на нее, не требовала, чтобы она немедленно убралась?
– Почему я должна на нее орать? Она говорила интересные для меня вещи, да и вообще она вполне приятная женщина. К тому же не забывай, ей ведь пришлось хуже всех.
– Так ты… готова это… принять?
– Я этого не говорила. И потом, я не знаю, что я, собственно, должна принимать. Может, ты знаешь?
– Ну, если вы как-то между собой поладили… и даже обошлось без… Это же все меняет.
– Я иногда сомневаюсь, все ли у тебя в порядке с головой, – сказала Эмили, примеряя букет бледно-желтых роз к большой темно-красной вазе граненого стекла; розы были из Худ-хауса, их прислала Харриет.
– Ты не думай, я понимаю, мало ли как все еще может обернуться. Такие вещи бесследно не проходят… Но вы обе вели себя так замечательно, обе были так добры…
– Да уж. К твоей драгоценной персоне мы были добры. Это точно.
– Ну хорошо, ладно, я эгоист, но ты же сама говорила, мужчины все такие. Вот я и скажу тебе сейчас как эгоист. Вы нужны мне обе – и ты и она. Раньше я никогда не мог сказать тебе это прямо. Боялся. Но теперь наконец стало можно говорить правду, и это должно помочь нам всем. Ну, или мне. Я вдруг почувствовал себя свободным, понимаешь? Я уже не боюсь и могу говорить, что думаю. Знаешь, Эм, раньше я все время чего-то боялся, это отравляло нашу любовь. Но теперь я могу любить тебя без страха.
– Интересно, чего же такого ты боялся тогда, но не боишься сейчас? Что я буду бороться за свои права? А что, теперь, по-твоему, надобность отпала?
– Я не о том. Я хотел сказать, что правда… заразительна, что ли. Одна правда влечет за собой другую. Раньше, например, я думал только о том, как бы тебя задобрить…
– А теперь ты не собираешься об этом думать? Ты вроде сказал, что мы обе тебе нужны.
– Раньше я ни за что не посмел бы тебе такое сказать. Конечно, я не могу любить Харриет той особенной любовью, которой люблю тебя, ты это знаешь. Но все же она мне дорога. И дело тут не только в чувстве долга – хотя у меня, разумеется, есть безусловные обязательства перед вами обеими, и я буду их выполнять. От этого мне никуда не деться. Собственно, так было всегда, но только теперь я могу честно признаться в этом вам обеим. И слава богу, все наконец-то начинает устраиваться, впервые за столько лет…
– А по-моему, ты просто брехло. Хочешь нас обеих облапошить, да? Тебе подавай и меня, и Харриет, и чтобы все тебя любили, и носились бы с тобой – и все только ты, ты, ты!
– Да, но…
– Надо же, какой он стал честный, правду возлюбил. Сдается мне, что до настоящей правды тебе как до неба. Ты ведь жить не можешь без вранья. Ладно, как знаешь, только имей в виду: я своего не уступлю.
Не отвечая, Блейз следил за тем, как она старательно, по одной, устанавливает розы в темно-красной вазе. На Эмили было что-то летнее, ситцевое – не то халатик, не то платье, совсем простенькое, светло-зеленое, с белыми маргаритками. В кои-то веки она уделила своей внешности чуть-чуть внимания – и даже при ясном утреннем свете выглядела прекрасно: аккуратная мальчишеская стрижка, на бледном матовом лице пронзительно-синие глаза с насмешливыми искорками в глубине. Не совсем понимая суть этой насмешки, Блейз все же догадывался, что в общем, несмотря на только что прозвучавшие слова, Эмили настроена достаточно благосклонно. Со своей стороны, он всячески старался скрыть неподобающее облегчение, которое, чего доброго, могло подействовать на нее как красная тряпка. Малейшие проявления доброты со стороны обеих женщин казались ему великими дарами; он чувствовал себя богатым и смиренным, и две его женщины, как никогда в жизни, притягивали его к себе, словно были наделены божественной, магической властью. Он ловил каждое слово Эмили, каждый ее жест так, будто вся его жизнь зависела от того, что она сейчас произнесет.
– Видишь ли… – Пощекотав последней розой нос невозмутимого Бильчика, Эмили поставила цветок в вазу и отступила на шаг, чтобы полюбоваться своим творением. – Не верю я, чтобы ты так быстро отказался от старых привычек. Подсовываешь мне очередную полуправду, только бы я успокоилась, а сам опять стараешься незаметно загнать меня в тот же угол – потому что тебе так удобно. Значит, меня ты любишь особенной любовью, а она тебе просто дорога, я тебя правильно поняла?
– Да, но…
Блейз сник.
Безжалостное утреннее солнце осветило убожество знакомой гостиной, которую Эмили, в своем новом непостижимом умонастроении, вылизала и вычистила. Блейз вдруг осознал, что он впервые видит цветы в этой комнате. Почему за все годы ему ни разу не пришло в голову принести сюда букет цветов?
– Хотя не важно, – сказала Эмили, смущая его той же загадочной насмешкой в глазах. – Не волнуйся. При желании я, конечно, могу скрутить тебя в бараний рог – но не буду. Не сегодня, во всяком случае. Я понимаю, правду ты мне и сейчас не скажешь. Но ничего. Со временем все само прояснится.
– Эм, малыш, только прошу тебя, ты ведь не станешь рассказывать Харриет все про нас… ну, про наш с тобой особый мир? Такие вещи, они же очень личные, только для двоих. Третий все равно не поймет. Харриет, если узнает, расстроится, и только. Это наша с тобой тайна… Так что, не скажешь?
– Может, и не скажу, – усмехнулась Эмили. – Ну хорошо, не скажу, все равно это ничего не даст. Приятно к тому же, если у нас с тобой еще останутся какие-то общие секреты. Что, Харриет намерена рассказывать про нашу веселую компашку всем подряд? Зачем? Твой именитый дружок и так уже все знает. – Под «именитым дружком» имелся в виду Монти, которого Эмили, к немалому облегчению Блейза, кажется, невзлюбила. – А мне что прикажешь делать? Торчать теперь в этой дыре до скончания дней, а вместо развлечения принимать у себя время от времени твою супругу?
– Эм, сначала мы должны как следует все обдумать, не будем спешить. Надо решить, как быть с моей практикой, как быть с Дэвидом.
– Когда я наконец увижу вашего хваленого Дэвида? На фото он просто красавец писаный, тебе до него как до неба.
Блейз успел уже предъявить Эмили фотографию Дэвида. Раньше сама мысль об этом показалась бы дикой, но теперь, на волне новой правдивости, все прошло как-то само собой.
– Скоро, – ответил Блейз. Дэвид был едва ли не самым неясным пунктом «всего этого», как обе женщины обозначали сложившуюся ситуацию. – Надеюсь, они с Люкой подружатся.
– Ну что ж, думаю, повертеться немного в буржуйской среде Люке не повредит. А главное, ты начал наконец шевелить мозгами насчет другой школы. Интересно, что твой старшенький обо мне думает? Наверное, считает меня распоследней шлюхой.
– Ну что ты, конечно нет. Не волнуйся, все утрясется, должно утрястись. Нам же со всем этим жить – вот и давай жить как-нибудь… веселее.
– Веселее, – повторила Эмили.
– Ну пусть не веселее, но хотя бы добрее, спокойнее, не мучая без конца себя и друг друга. По-моему, вы с Люкой в результате всего этого ничего не теряете – только выигрываете.
– Это каким же образом, позволь узнать? Ну, если не считать того, что ты наконец сподобился заняться его школьными делами?
– Вы будете чаще меня видеть.
– Какое счастье.
– Эм, ты же всегда этого хотела – разве нет?
– Не уверена. – Эмили, уже сидя в кресле, разглядывала Блейза так пристально, что ему стало не по себе. – Я не говорила, что хочу тебя чаще видеть. Я говорила, что хочу тебя.
– Ну вот, ты и получаешь меня – и можешь теперь чувствовать себя гораздо спокойнее, чем раньше.
– Ага. Потому что Харриет утвердила мой статус. Грандиозно.
– Не юродствуй, Эм.
– Теперь она будет следить за тем, чтобы ты вел себя гуманно и уделял мне достаточно внимания, да?
– Послушай, разве оттого, что Харриет обо всем узнала и все приняла, тебе стало хуже? Наоборот, твое положение упрочилось, это же очевидно. Все могло обернуться гораздо неприятнее.
– Это если бы Харриет заставила тебя выбирать?
– Да.
– Так она еще может передумать.
– Не может. Она существо нравственное, у нее есть твердые принципы.
– Ну, значит, я могу передумать. Я, как ты знаешь, существо не слишком нравственное, а принципов у меня нет вообще.
– Ты тоже не передумаешь.
– Ты хочешь сказать, что я вряд ли смогу себе это позволить, в моем-то положении. Теперь даже меньше, чем раньше. Ну что ж, пожалуй.
– Эмили, я совсем не то хотел…
– Ничего, не важно.
– Если ты думаешь…
– Я не думаю. В том-то и дело. Я, конечно, произношу какие-то слова, и со стороны мы с тобой, наверное, выглядим как два нормальных человека, сидим и спокойно беседуем – но внутри у меня пусто, понимаешь? Я не знаю, что думаю, я даже не знаю, что чувствую, и понятия не имею, смогу ли я все это вынести.
– Главное сейчас, чтобы смогла вынести Харриет… а она может вынести что угодно. Она – точка опоры для всех нас. Она предсказуема.
– А я нет, – сказала Эмили. – Но как ты верно заметил, всем нам придется вынести, кому что суждено. Зато уж ты у нас счастливчик, дальше некуда. Наверное, чувствуешь себя этаким турецким султаном. Как-никак, обе женщины остались при тебе, и все-то тебе сошло с рук, и сам ты вышел сухим из воды.
– Ты права… прости меня… пожалуйста. И… Харриет ждет тебя на чай, ты обещаешь? Меня дома не будет…
– Ладно, обещаю.
– Только прошу тебя, Эм, не говори ей лишнего, хорошо? Я, конечно, буду рад, если вы подружитесь, но…
– Хорошо, не волнуйся. У меня вообще никогда не было друзей среди женщин.
– А как же Пинн?
– Пинн мне не подруга. Она, может, вообще не женщина. Она феномен. А теперь, прошу тебя, выметайся, я хочу побыть одна.
– Ну до завтра. И не будем больше ссориться, хорошо?
– Никогда?
– Никогда.
– Что-то эта ваша предсказуемость на меня тоску наводит. Ладно, великий турок, проваливай, катись к своей старшей жене.
– Эм, спасибо тебе, я так тебе благодарен, и… Эм, я очень, очень тебя люблю… Ты это знаешь.
– Все, выметайся.
После ухода Блейза Эмили Макхью еще долго сидела в кресле. Взгляд ее упирался в букет бледно-желтых роз, солнечный луч из окна медленно подползал к краю стола. Внутри у нее, как она и сказала Блейзу, было пусто. Она ощущала себя безликой, безвольной, пустой до гулкости. Даже ноющая зубная боль, не оставлявшая ее сегодня с самого утра, находилась как бы не внутри нее, а сонной мухой ползала по комнате. Чувство было такое, будто произошло какое-то великое бедствие – потоп или землетрясение, – однако Эмили, оказавшаяся в самом его центре, каким-то образом не пострадала. Как такое могло быть? Почему ее дом не обрушился, почему он цел? Немыслимо, непонятно. Она была по-прежнему жива, хотя в то же время и мертва. Быть может, она все-таки пала жертвой стихии и теперь превратилась в тень, в привидение? Они с Харриет встречались, обошлось без рыданий и взаимных проклятий. Более того, сегодня вечером она наносит Харриет ответный визит. Невообразимое не только случилось, но случилось тихо, спокойно, чуть ли не естественно. Да что же такое с ними со всеми, в своем ли они уме – Харриет, Блейз, она сама? Кто всем этим управляет – Харриет? Эмили еще никогда не чувствовала себя такой вялой и безвольной, как сейчас. Будто, не умея производить никаких самостоятельных действий, она могла лишь в оцепенении следить за тем, что происходит вокруг нее и в ней самой.
Например, она обнаружила, что испытывает искреннюю жалость к Блейзу, к его непомерному облегчению и откровенному вранью, – это для нее было ново и непривычно. Она, несмотря ни на что, по-прежнему любила Блейза и остро сознавала, как они близки друг другу, но ни любовь, ни близость не проливали никакого света на будущее. Схлынет ли напряжение? Перестанут ли они изводить друг друга? Действительно ли мир вокруг них изменился, и если да, то к лучшему ли? Или, наоборот, все стало только хуже и гаже? Она чувствовала себя как человек, который средь бела дня вертит в руках какую-то самую обычную вещь, смотрит на нее и не может понять, красная эта вещь или зеленая. Она будто вдруг лишилась способности различать не то что цвета – вообще что бы то ни было. Конечно, ни о какой дружбе с Харриет речи быть не может, это даже Блейзу ясно, про дружбу он ввернул ради красного словца. Скорее всего, после этих первых встреч ничего уже не будет. Но сегодняшний визит в Худ-хаус был одинаково важен для обеих женщин; Эмили тоже ждала его с волнением, хотя при одной мысли о том, куда она поедет, ей становилось дурно. Если они собираются существовать «открыто», она просто должна увидеть своими глазами, где живет Блейз. В конце концов, все эти годы он ведь жил не с ней, и, как бы это ни было больно и страшно, она должна признаться самой себе в том, что где-то у него есть настоящий дом и в нем настоящая жена и сын. При мысли о сыне Эмили обмирала от страха. С домом все-таки проще – во всяком случае, взглянув на него раз, она не умрет. Не умерла же она от встречи с женой. Увидеть дом, познакомиться с сыном, признать все это, признать наконец-то свое собственное бесправие, свой «статус», как она обозначила это сегодня в разговоре с Блейзом, и признать не на словах, а сердцем, безоговорочно и окончательно – это ли самое ужасное, что ее ждет? Или есть еще что-то гораздо худшее, чего она, со своим новоявленным дальтонизмом, не в состоянии сейчас разглядеть, хотя это худшее маячит у нее перед самыми глазами?
То унизительное чувство вины, которое она испытывала при первой встрече с Харриет, то ли прошло само, то ли Харриет каким-то загадочным образом помогла Эмили от него избавиться. Выходит, что Харриет творит так называемое «добро»? – снова и снова спрашивала себя Эмили. И от того, что она делает, всем только лучше? И именно благодаря ей оказались невозможны все эти сцены, рыдания, взаимные оскорбления – весь страшный набор унижений, к которому, казалось, неотвратимо вело соперничество двух женщин? А сама она, Эмили, – что за непонятные перемены происходят у нее внутри? Теряет ли она навсегда что-то важное и бесценное для себя, или все как шло, так и будет идти, разве что чуть лучше для Люки? Однако на Блейзово, как она говорила, «вранье», на его безмерное и бессовестное облегчение, на тайное закостенелое двуличие она смотрела со снисходительностью истинной любви. Вообще их с Блейзом любовь как будто возродилась и стала теперь какой-то совсем другой – невинной. Может быть, как раз в этой невинности и заключается самое главное, думала Эмили. Конечно, Блейз наплел ей немало глупостей про Харриет, как и Харриет про нее – Эмили нисколько в этом не сомневалась. Но даже сейчас она не могла поверить в то, что он спит со своей женой; конечно, Харриет оказалась не уродиной и не старухой, какой он ее изображал, но слишком «не в его вкусе». Вряд ли ее пышные благовоспитанные формы могут подействовать на Блейза возбуждающе. В то же время Эмили свято верила (и держалась за эту свою веру с чисто крестьянским упорством), что ее собственные интимные отношения с возлюбленным прочны и уникальны, как никакие другие.
Отказаться от этой веры Эмили не могла хотя бы потому, что, кроме этой веры, в ее жизни мало что осталось. И она умудрялась держаться за нее даже тогда, когда Блейз охладел, и когда у них начались скандалы, и когда они перестали «делать все». Раньше ей казалось, что они с Блейзом были созданы друг для друга в момент сотворения мира. То, как «идеально» они подходили друг другу, виделось ей чудом, а сама их любовь – образцом истинной любви. Это ощущение чуда, оказывается, никуда не ушло, а лишь притупилось на время, и теперь, когда, возрожденное, оно, в самом эпицентре стихийного бедствия, изливало на Эмили свой свет, она имела возможность в этом убедиться. Они с Блейзом обязаны быть вместе, как два зверя одной породы в Ноевом ковчеге, потому что, кроме них двоих, таких зверей на земле больше нет. И что бы там ни было – Худ-хаус, Харриет с Дэвидом, долгие дни и ночи, которые ей уже пришлось и еще придется провести в одиночестве, – Блейз принадлежал ей одной; только ей, никому другому.
– А хочешь, он будет жить у тебя? – спросила Харриет.
Они с Люкой находились сейчас у нее в будуаре. Харриет сидела, Люка стоял в трех шагах от нее. В руках он держал слона красного дерева: подняв его к лицу, прижимался лбом к гладкому, полированному слоновьему лбу и одновременно смотрел на Харриет.
В ответ он несколько раз энергично кивнул и улыбнулся Харриет из-за слоновьих ушей удивительно застенчивой и обворожительной улыбкой (вот так же, мелькнуло у Харриет, он будет улыбаться и в пятнадцать лет, и в двадцать), после чего обеими руками крепко прижал слона к своей грязной футболке.
– Ну, значит, он твой, – сказала Харриет, изо всех сил сдерживая слезы нежности и какого-то нестерпимого смятения, готовые вот-вот хлынуть из глаз. – Как-нибудь назовешь его?
– Да.
– И как же?
– Регги.
– Хорошее имя.
– Так звали одного мальчика в школе. Он был хороший.
– А разве не все мальчики хорошие?
– Нет. Есть плохие. Они меня били. И я их тоже.
– Школа, в которую ты скоро будешь ходить, гораздо лучше твоей старой. Ты этому рад?
– Ты когда-нибудь видела, как слон поднимается по ступенькам?
– Нет, кажется, нет. А ты?
– Я видел. В зоопарке. У него такие смешные ноги – как доски в мешке. Слоны добрые. Они никогда не наступят на человека. Нарочно стараются не наступить.
– В Индии слоны помогают людям работать. Они носят большие бревна.
– Они брызгаются из хобота водой. Если рассердятся на человека, могут его обрызгать. В Индии есть змеи, такие большие.
– Я знаю. Я родилась в Индии. Мой папа был военный. Он учил индийцев стрелять из пушек.
– У тебя была своя змея?
– Нет. Мы уехали оттуда, когда я была совсем маленькая.
– Когда змея слышит музыку, она танцует. Я видел по телевизору. Человек дудел, а змея качала головой туда-сюда, вот так. Она была в корзинке. Я хочу змею. Она будет жить у меня в кармане. Я научу ее танцевать. У нас есть два кота, но я хочу еще змею.
– Придется спросить у мамы, – сказала Харриет.
Все так же прижимая слона к себе и поглаживая его маленькой твердой ладошкой, Люка пристально, словно с изумлением, смотрел на Харриет. Его темно-карие, очень круглые глаза чуть отливали синевой. Волосы – прямые, но ужасно спутанные и взъерошенные – топорщились во все стороны. Не двигаясь с места, Харриет загадала: пусть он подойдет и дотронется до меня. Тут же он опустил глаза и с той же застенчивой улыбкой – медленно, почти нехотя – сделал несколько шагов и оперся одной рукой о ее колено. В каждом его движении чувствовалась робость юного любовника и одновременно спокойная уверенность любимого ребенка. Харриет едва сдержалась, чтобы сейчас же, немедленно не сжать его в объятиях. Она тоже знала эту игру и умела в нее играть. Осторожно, лаская, почти не дыша, она начала распутывать пальцами спутанные мягкие прохладные пряди. От него пахло мальчишеским потом и еще чем-то влажным и прохладным – то ли землей, то ли водой.
– Я даже могу ходить со своей змеей в школу, никто не заметит.
– А сегодня почему ты не в школе?
– Сегодня у нас выходной.
– Правда? – сказала Харриет. Насчет выходного как-то не очень верилось.
– А в новой школе мне будут рассказывать о Боге?
– Надеюсь.
– Что такое Бог? – спросил Люка, глядя прямо на Харриет, не убирая руки с ее колена.
Теперь он гладил спину слона подбородком.
– Бог – это дух добра, – сказала Харриет. – Это дух любви, которая внутри нас. Он живет в наших сердцах.
– И в моем тоже?
– Да, и в твоем. Когда мы любим кого-то или хотим сделать кому-то добро…
– Я не хочу, – твердо сказал Люка. – А когда мы любим животных – это тоже Бог?
– Да, и это Бог.
– Я люблю своих котиков. И твоих собак люблю. И всех животных – даже хищных и нехороших. Я видел летучую мышь у вас в гараже. Она висела вниз головой, я сначала подумал, что это тряпка. А потом увидел ее мордочку, она в таких смешных морщинках, и зубки такие острые. Летучая мышь может укусить. Она не приручается.
– И ты, конечно, любишь своего папу, и маму тоже, – сказала Харриет.
– А с Богом можно говорить?
– Да. Любой человек может говорить с Богом. Это называется молиться.
– Что ему надо говорить?
– Надо просить Его, чтобы Он помог тебе совершать добрые поступки и любить людей.
– Каких людей?
– Просто людей, всех.
– Всех-всех людей, как я люблю всех животных?
– Да.
Люка поразмышлял немного над непомерностью такой просьбы, потом сказал:
– Я люблю тебя. Я видел тебя тогда вечером в саду и сразу понял, что ты волшебница, – как во сне.
Харриет наконец притянула Люку к себе, крепко прижала к груди. Его руки, чуть помедлив, обвились вокруг ее шеи.
Выйдя от Эмили, Блейз брел по улице в состоянии полубессознательном, очень близком к состоянию блаженства. Лицо его сияло идиотской улыбкой, которую он никак не мог от себя отогнать. Поразительная, бесконечная доброта обеих женщин к нему, ничтожному, дарила ему, вместе с облегчением, желанное чувство невинности. Хотелось не ходить по земле, а бухнуться на колени, ползать и повторять: «Спасибо, Эмили, спасибо, Харриет, спасибо, Господи!..» И с каждым новым мгновением, с каждой минутой, проходившей в спокойном, без истерик и угроз, приятии сложившейся ситуации, уверенность и благодарность его росли. Конечно, еще есть чего опасаться, напоминал он сам себе, хоть и не совсем ясно представляя, чего именно следует опасаться. Наверняка еще какое-то время положение будет оставаться достаточно шатким. У Эмили или у Харриет могут не выдержать нервы. Но если даже и так, что изменится? Все они угодили в ловушку, из которой им не выбраться, так зачем причинять себе и друг другу лишние страдания; и слава богу, что все они чуть ли не с самого начала это поняли. Да, если угодно, они попали в ловушку собственного правдолюбия и терпимости, и, значит, им всем лучше отказаться от бесплодной войны, которая не сулит никому ничего хорошего.
Самой гнетущей мыслью, от которой он упорно старался отделаться, был Дэвид. Чем бы там ни кончилось, куда бы потом ни вывернуло, но ущерб, говорил себе Блейз, уже причинен, и все равно сейчас уже ничего не исправить. Харриет наверняка что-нибудь придумает, она все уладит, но это потом. Блейз чувствовал себя таким смиренным, таким, по выражению Эмили, пустым – почти прозрачным. Он никак не мог избавиться от мысли, что рано или поздно Дэвид все равно его простит. Возрожденная невинность Блейза словно бы перекрывала его вину. Временами он чувствовал себя как христианин перед крестом, на котором совершается распятие. Ясно, что Дэвида более всего отвращает обман, сам факт преступления, совершенного отцом, а не то, что отец его обратился наконец к правде. И ясно, что само существование Эмили и Люки и то, что им с матерью придется теперь это существование терпеть, больно задевает Дэвида. Но ведь из этого не следует, что он никогда не простит своего отца. Простит, непременно простит. Он ведь уже разглядывал вместе с Люкой его дурацкую жабу. Блейз понимал, хоть и старался об этом не думать, что его отношения с Дэвидом изменятся, уже изменились, – но все равно, снова и снова убеждал он себя, сын помилует его – и связь меж ними не прервется.
Не было полной определенности и в других вопросах. Конечно, о каких-то прогнозах на будущее говорить пока не имело смысла, но вопросы были такие серьезные, что не задавать их Блейз не мог. А что, если Харриет и Эмили и впрямь собрались «подружиться»? Неужели Харриет и это сможет вынести? В глубине души Блейз надеялся, что не сможет. Ему очень не хотелось, чтобы две его женщины общались между собой, оказывая друг на друга ненужное воздействие; к тому же он был почти уверен, что, когда этот их немыслимый медовый месяц закончится, они и сами не захотят больше встречаться. Жить двумя отдельными домами – как раньше, только невинно, – так будет гораздо лучше. Пройдет ли у Харриет неуемное желание посвящать всех в свои семейные проблемы? Да и надо ли всех посвящать? Конечно, чувство долга вещь совершенно необходимая, и Блейз сознавал, что оно снова начинает играть в его жизни важную роль, – однако он не собирался во имя долга жертвовать собой. Обдумав ситуацию со всех сторон, он все же склонялся к мысли, что не стоит кричать о своих делах на каждом перекрестке. Какой смысл предавать огласке вещи, истинного значения которых все равно никто не поймет? В конце концов, ему, Блейзу, понадобилось столько мужества, чтобы решиться, и неужели он не заслужил права на более или менее спокойную частную жизнь? Ведь теперь уже можно считать, что все его грехи – дело прошлое?
Шагая по тротуару в этом возбужденно-приподнятом настроении, он сначала машинально отметил, что в окружающем мире что-то неприятно изменилось, и лишь через несколько секунд понял, что именно. На другой стороне улицы мелькнули очочки Пинн. Радостно улыбаясь ему, Пинн уже переходила через улицу.
– Прими мои поздравления!
– Ммм… спасибо, – сказал Блейз.
– Ну что, порядок на обоих фронтах?
– Да.
– Эмили была великолепна, правда?
– Правда.
– Мне не терпится взглянуть на Харриет.
– Д-да, конечно.
– Такое чувство, будто у меня давно были родственники, по слухам милые и порядочные люди, и вот наконец выпал случай с ними познакомиться.
– Да.
– Ты должен устроить вечеринку.
– Ммм…
– Ты просто счастливчик, ты это знаешь?
– Знаю.
– Все счастливы, полный хеппи-энд.
– Да.
– И вероятно, ты теперь будешь чаще здесь бывать?
– Надеюсь.
– Да, наверное, я буду тебе мешать.
– Пожалуйста, не чувствуй себя…
– Ничего не поделаешь, я уже чувствую. И собираюсь в ближайшее время съехать от Эмили. Честно говоря, я подумываю о том, не купить ли мне собственную квартирку. Кстати, ты не мог бы одолжить мне на это денег?
Блейз взглянул на Пинн. Ее круглое веснушчатое лицо сияло благожелательной улыбкой. «Шантаж?» – подумал он.
– Ты ведь знаешь, у меня нет свободных денег.
– Ничего, мне не много надо. Во всяком случае, подумай об этом. А я, когда подыщу себе что-нибудь конкретное, непременно дам тебе знать. Ну пока!
Она ничего не может мне сделать, думал Блейз. Или может? Нет, теперь уже не может. Но все-таки на душе у него было очень скверно.
– Что это за толстяк, с которым я столкнулась в дверях? – спросила Эмили.
Они с Харриет сидели в шезлонгах на террасе и пили чай. Эмили была в джемпере и брюках, но под джемпером у нее сегодня была чистая блузка, а на шее шелковый шарфик, красный с черным. Харриет была в очередном своем «викторианском» платье, на сей раз батистовом, в мелкий цветочек. Солнце стояло еще высоко, и лужайка перед домом была залита ровным горячим светом. На темном самшитовом фоне живой изгороди люминесцировала ярко-розовая роза. Эмили все время озиралась, разглядывала то лужайку, то дом, то Харриет. Пока все идет спокойно, думала Харриет; только в первые минуты ей было немного не по себе.
– Это профессор Эдгар Демарнэй – друг Монти Смолла и мой друг.
– Он ушел, потому что знал, кто я такая? Не хотел со мной встречаться?
– Просто ему пора было уходить.
На самом деле Эмили угадала правильно: знал и не хотел. Эдгар, явившийся сегодня после обеда, чуть не плакал от возмущения и от обиды за Харриет. Со своей стороны, Харриет, несмотря на внешнее спокойствие, была рада встретить сочувствие. Хоть Блейз и твердил без конца, как он благодарен, иногда ей все-таки казалось, что он слишком уж быстро принял ее великодушие как должное.
– У вас есть друзья-мужчины? – спросила Эмили.
– Да, конечно, у меня много друзей, и мужчины тоже.
– А у меня нет друзей, – сказала Эмили. – Один только Блейз, больше никого, и так всю мою сознательную жизнь. Я просто срослась с Блейзом.
– Я тоже…
– Да, но замужняя женщина все-таки чувствует себя гораздо свободнее. Я ведь даже ходить никуда не могла, Блейз жутко ревновал. Одно дело законное супружество, а когда люди живут просто так, опасности чудятся со всех сторон.
– Но ведь Блейз знал, что вы его не бросите?
– Как мило вы это сказали. Он знал, что я завязла по уши в дерьме, – да, это он знал. И потом, у меня же денег не было. Мне вон зубы надо лечить, он и то не раскошеливается.
– Насчет ваших зубов…
– Нет, – твердо сказала Эмили. – Всему есть предел. Я не о зубах сюда пришла говорить.
– Но у вас же, наверное, были друзья на работе? Вы ведь работали одно время в школе?
– Ну что вы, кто будет дружить с матерью-одиночкой! Все смотрели на меня как на пустое место, даже девицы на уроках издевались кто во что горазд. Особенно одна там была – такая сучка.
– Ах, зачем же они так…
– А Блейзу ни на что не пожалуешься. Только я открою рот, он тут же начинает злиться. У него, видите ли, и без меня забот хватает.
– Да, нелегко вам пришлось…
– На мою работу ему вообще было плевать. Он никогда не верил, что я способна делать какую-то работу. И был прав, как оказалось.
– Насчет меня он тоже не верил, что у меня что-то получится в живописи.
– Мужчины нас презирают. Женщина для них личная собственность, больше ничего. И Блейз такой же, сочувствия ни на грош. Даже когда месячные и смотреть ни на что не хочется, так паршиво себя чувствую, – он знать ничего не желает. И с вами так же?
– Н-ну…
– Блейз так доволен, что мы его простили, – смотреть противно. А мы его простили, да? Будь моя воля, я бы ему устроила! Эта его самодовольная усмешечка вмиг бы сползла.
– Вы были к нему очень добры, – сказала Харриет, – и ко мне тоже.
– Глупости.
– Нет-нет, я правда так считаю. Конечно, вам… вы…
– Падшая женщина?
– Да нет же! Я имела в виду, что вам пришлось много всего перенести и не было уверенности… Но хочется, чтобы теперь вы наконец могли выше поднять голову и…
– Спасибо, с головой у меня и так все в порядке. Когда я увижу вашего сына? На фотографии он просто звезда экрана.
– Надеюсь, что скоро…
Харриет вспомнилось лицо Дэвида, несчастное и неумолимое. Она даже не стала уговаривать его остаться сегодня дома, не стала объяснять, как для нее важно, чтобы он хотя бы поздоровался с Эмили, – сейчас это было бесполезно. Немыслимое, с точки зрения всех окружающих мужчин, «радушие» Харриет по отношению к Эмили объяснялось не одной только душевной добротой, как в случае с Люкой. Ей просто необходимо было сделать все возможное, чтобы осознать реальность Эмили. Верить в ее существование лишь наполовину было бы слишком мучительно – как жить наполовину в счастливом прошлом, которого не только уже нет, но, как выяснилось, никогда и не было. Харриет, с ее здоровым реализмом и здоровой душевной организацией, требовалось видеть и осознавать полную картину случившегося, ей требовалось как бы переварить Эмили всю целиком, узнать самое худшее – и убедиться в том, что она способна это худшее снести. Иметь при этом на своей стороне Дэвида было бы очень кстати. С другой стороны, Харриет очень хотелось, чтобы Эмили увидела Дэвида.
Эмили будто читала ее мысли.
– У вас здесь хорошо, – сказала она.
– Правда? Вам нравится?
– И такая славная подстриженная лужайка. Вы с Блейзом, наверное, никогда не ругаетесь?
– В общем-то, нет…
– Еще бы, с чего вам ругаться. Жила бы я в таком доме и был бы у меня такой нормальный умный ангелоподобный сын, я бы радовалась не переставая.
– У вас прекрасный мальчик.
– У меня никогда не было настоящего дома. Был сначала отчим-негодяй. Потом Блейз, который мало чем лучше. О господи.
– Мне очень жаль, поверьте…
– Сколько у вас тут собак. Куда вам столько? Когда я пришла, одна так на меня рычала.
На лужайке перед террасой расположилось обычное собачье собрание: языки вывешены, в ответ на внимание хозяйки несколько черных хвостов слабо шевельнулись.
– Они не кусаются. Люка так замечательно с ними играет. Он очень любит животных.
– Надо же, паршивец, что придумал: в школе у них выходной! Детей лупить надо за вранье, тогда, может, будет толк. Но Блейзу до этого дела нет.
– Но Люка такой…
– Какой есть. Безотцовщина есть безотцовщина.
– Так вы согласны перевести его в другую школу?
– Да, конечно. Поздновато, правда, поезд уже ушел. Теперь он уже никогда не выправится, не станет нормальным человеком, никогда ничему не научится. Годам к двенадцати у него наверняка проявится какая-нибудь умственная отсталость. Что поделаешь, ему ведь с детства приходилось нести непосильное бремя – он же знал, что Блейз мне не настоящий муж. Папочка все время куда-то исчезает, а когда появляется – еще хуже, вечные скандалы с истериками. У него, наверное, все душевные силы уходили на то, чтобы разобраться в этом безумии. Иногда я чувствую, что он всех нас ненавидит – меня, Блейза, всех. Да, у моего сына было кошмарное детство. Как и у меня. Вероятно, такие вещи передаются по наследству.
– Ну зачем вы так. По-моему, он очень умный ребенок – тонкий, восприимчивый…
– Он просто вам подыгрывает. Он у нас вообще мастер притворяться. К шести годам детская душа уже сформировалась, и потом ничего не переделаешь. Вам следовало бы знать такие вещи – как-никак муж психоаналитик. Кстати, Блейз что, решил забросить свою трюкотерапию и податься в медицину? Я правильно поняла?
– Да. – По настоянию Харриет Блейз наконец открыл Эмили свои планы. До сих пор, по его словам, он не собирался ей ничего говорить, но теперь признал, что сказать, конечно, надо. И хорошо, пусть Эмили узнает: теперь Эмили должна знать все. – Раньше он не хотел вам говорить, потому что… ну, вы понимаете, с этим связаны финансовые вопросы, и…
– План, конечно, превосходный, но что нам с Люкой прикажете кушать?
– У вас не будет меньше денег, – поспешно возразила Харриет. – Наоборот, у вас их будет больше. И Люка обязательно пойдет в новую школу. Если постараться, мы вполне можем все это осилить. Понимаете, Дэвид ведь скоро уже будет учиться в колледже, Блейз, возможно, получит грант, ну и мы можем продать дом…
– Вы хотите продать дом, чтобы Люка ходил в хорошую школу?! Вы шутите. Да, миссис Флегма, таких, как вы, просто не бывает. Миссис Флегма – это мы с Блейзом вас так называли. Кажется, вам это очень подходит. Одного не пойму: вам-то это зачем? Чего ради?
– Хотя бы ради того, чтобы помочь Блейзу. Но может, нам и не придется ничего продавать. Мы можем занять деньги у Монти, у Эдгара…
– Кто это «мы»?
– Ну, все мы – вы, я, Блейз.
– Меня можете вычеркнуть. Мне вообще вся эта затея с медициной не слишком нравится.
– Думаю, нам надо как-то поднатужиться всем вместе и…
– Мне надоело тужиться. И потом, по-моему, мы с вами сидим в разных лодках.
– Блейзу нужно какое-нибудь трудное и по-настоящему интеллектуальное занятие. Он утратил веру в свои психологические теории. Его работа кажется ему теперь чересчур легкой, несерьезной. У него назрела потребность…
– Блейз, Блейз, кругом один только Блейз! Его потребности, его теории, его планы! Может, хватит? Он столько лет нам обеим морочил голову, всю жизнь загубил, и мы же еще должны учить его на доктора? А как насчет моих потребностей? У меня, между прочим, тоже имеется кое-какой интеллект.
– Моя жизнь не загублена, – сказала Харриет. – Да и ваша тоже. Ничего, мы постараемся, все как-нибудь наладится…
– Как? По волшебству, что ли? Не знаю, у вас, может, что и получится. Вы такая добрая, такая замечательная, просто волшебница.
– Люка сказал мне то же самое, – с улыбкой заметила Харриет.
Некоторое время синие глаза собеседницы разглядывали ее с почти исследовательским интересом.
– Знаете, – сказала наконец Эмили. – Блейз говорил мне, что вы старая толстая уродина. Не принимайте близко к сердцу. Он просто хотел меня подбодрить, вот и выдумывал что попало. Он и вам, наверное, говорил, что я самая обычная лондонская шлюшка.
– Он высказывался о вас только в самом уважительном тоне.
– Угу. Хотелось бы верить. Ну вот, вы уже сердитесь. Сердились бы лучше на него, а не на меня.
– Я не сержусь.
– Нет, сердитесь. Ничего, может, вам еще доведется узнать своего драгоценного Блейза получше. Знаете, у него ведь на самом деле презабавные вкусы. И у меня, кстати сказать, тоже. Представляю, какую комедию он ломал раньше перед вами!
– Не понимаю, о чем вы?
– Ни о чем, не важно. Так Люка вам сказал, что вы волшебница? А со мной молчит, всегда молчит, ни слова от него не дождешься… – Ярко-синие глаза наполнились вдруг горячими злыми слезами. – А, черт, опять!..
Слезы скоро просохли, и Харриет проводила свою гостью. Обеим одновременно стало ясно, что все, хватит, пора расходиться. Харриет хоть и не расплакалась, но сил у нее не осталось вовсе. Сейчас ей, как никогда, нужен был Блейз, его большое родное мужественное лицо, с которого в последнее время почти не сходило трогательное выражение робости. Хотелось ткнуться лицом ему в грудь, вдохнуть в себя его запах и чтобы он крепко-крепко прижал ее к себе. Она теперь постоянно испытывала почти физическое беспокойство за Блейза, как когда-то за маленького Дэвида. Будь ее воля, она бы все время держала его возле себя, не отпускала бы ни на шаг. Но как раз теперь ей чаще, чем раньше, приходилось мириться с его отсутствием. Сегодня, например, он нарочно отправился в библиотеку, чтобы Харриет и Эмили могли встретиться и поговорить наедине. Ради этого он даже отменил доктора Эйнсли и миссис Листер. А в будущем ему придется уделять больше времени Эмили: Харриет сама на этом настояла. Она очень подробно (к немалой досаде Блейза) расспросила его о том, как часто он бывал в Патни и сколько времени обычно там проводил. В результате расспросов выяснилось, что Блейз заезжал к Эмили лишь изредка в обеденные часы, да иногда заглядывал вечером, перед тем как ехать к Магнусу Боулзу (и то лишь потому, что Магнус тоже живет на южном берегу Темзы). Харриет заявила, что так не годится, этого слишком мало. Блейз должен больше общаться с Люкой, а для этого ему придется иногда, в субботу или в воскресенье, проводить у Эмили целый день. На вопросы Блейз отвечал довольно расплывчато, но в целом со всем согласился. Выходило, что именно теперь, когда Блейз ей так нужен, он станет меньше бывать дома. Жаль, но ничего не поделаешь.
Харриет никогда не имела привычки копаться в себе, это было ей не свойственно, да и не нужно. В ее жизни все всегда складывалось как-то само собой. В юности, еще до Блейза, она влюблялась пару раз, но то было несерьезно, ей даже задумываться ни о чем не пришлось, не то что решать. Сама она переживала свои полудетские романы как легкие приступы гриппа, вовсе не пытаясь анализировать их природу. Она не только жила по строго расписанным правилам, руководствуясь чувством долга, ей еще и необыкновенно везло, поэтому за все время у нее ни разу не возникало потребности «разобраться в себе». Ее внимание всегда было направлено на окружающий мир, а не внутрь себя. Теперь же она с изумлением обнаружила в своей душе путаницу неведомых ей прежде страстей. Со времени своей первой встречи с Эмили она уже сильно переменилась и продолжала меняться с пугающей быстротой. Впервые в жизни Харриет понятия не имела, как она сама поведет себя дальше и что при этом будет чувствовать. Единственное, что осталось ясным и неизменным – и что, вероятно, служило ей точкой опоры в эти нелегкие дни, – было простое и понятное чувство долга по отношению к мужу. Она должна поддержать Блейза, должна помочь ему освободиться от лжи и принять единственно правильное решение. Заставить его бросить любовницу с маленьким ребенком, которую он содержал много лет, – нет, о таком Харриет и помыслить не могла. Она клялась перед алтарем быть верной своему супругу во всех испытаниях, и она была ему верна. Конечно, такого испытания Харриет не ждала, ну так что ж. Если бы он ослеп, она бы стала его глазами, если бы не мог самостоятельно передвигаться, она толкала бы инвалидную коляску – она, никто другой.
Кое-что, правда, утешало и поддерживало Харриет в выпавшем ей испытании: облегчение Блейза, такое огромное и почти материальное, что Харриет иногда чуть ли не осязала его. Харриет сказала Монти чистую правду: ей действительно важно было сознавать, что она может дать любимому человеку что-то очень ему необходимое, может ему помочь, даже спасти. Точно так же она чувствовала, что может помочь Эмили, хотя очень скоро стало ясно, что вряд ли это будет так легко, как виделось вначале. То, что она способна говорить с любовницей своего мужа хотя бы внешне спокойно, без сцен и причитаний, было неожиданностью для самой Харриет. Во время той их первой, поразительно благопристойной встречи Харриет не только сама вела себя с достоинством, но вынудила Эмили вести себя точно так же и, когда ей это удалось, впала в несколько экзальтированное состояние, чем-то напоминающее состояние влюбленности; неудивительно, что она и интерпретировала его как влюбленность. Получалось, что в своем бесконечном всепрощении она как бы «возлюбила» Эмили. Однако это первое впечатление уже начало видоизменяться. Из абстрактного, бесполого и безличного «испытания» Эмили постепенно превращалась в конкретную молодую женщину, с весьма характерным голосом и манерой выражаться. «Обычная лондонская шлюшка» – у Харриет язык бы не повернулся такое выговорить, но слово, оброненное Эмили о самой себе, вызвало в благовоспитанной душе Харриет непрошеные ассоциации. Разумеется, она ни за что бы в этом не призналась, но покоробившая ее «шлюшка» сыграла свою роль. «Что подумал бы отец? – невольно спрашивала она себя. – Что подумает Эдриан?»
Насчет «гласности» она тоже была уже не совсем уверена. Вначале ей казалось, что все ясно, они должны жить открыто; только так Блейз сумеет вернуться на путь правды – праведный путь, – а это, казалось ей вначале, и есть самое главное. К тому же упразднение тайны должно было помочь Харриет решить еще одну очень важную задачу, а именно «переварить» Эмили Макхью. Ведь даже сейчас некий налет секретности все еще придавал Эмили загадочную власть. Словом, соображений тут было много, в том числе и очень расплывчатых; некоторые скоро отпали. Приходилось учитывать интересы Дэвида, Блейзовых пациентов, наконец, самого Блейза, который хоть и не решался пока открыто протестовать, но был явно не в восторге от грядущих саморазоблачений. И вообще, как все это будет выглядеть со стороны? Сможет ли она внятно объяснить своим ближним, в чем состоит ее замысел искупления? Харриет ясно представляла себе, как огорчится Эдриан, как он будет мучиться и не находить от смущения слов. Блейз и раньше не слишком ему нравился. В целом будущее вырисовывалось пока весьма туманно. Даже решенный, казалось бы, вопрос с учебой Блейза опять выглядел спорным, хоть Харриет и не терпелось поскорее сообщить Эмили об их с Блейзом общих планах. Блейз, все еще пребывавший в эйфории по поводу своей новообретенной невинности, кажется, не очень сознавал, что планы эти касаются его собственной жизни; и снова Харриет с беспокойством понимала, что все зависит только от нее. Между тем при всей решительности, с которой она высказалась насчет продажи дома, именно сейчас она была готова к такому обороту меньше всего. Во-первых, Худ-хаус, как и следовало ожидать, произвел должное впечатление на Эмили. Во-вторых, он, как и всегда, оставался для Харриет крепостью и оплотом, символом ее нерушимой связи с мужем и сыном. Глупо было бы решать такие серьезные вопросы в спешке, гораздо разумнее переждать какое-то время и посмотреть, как все обернется. Да и ради чего такие жертвы? Дружить с Эмили Харриет не собиралась, а будь ее воля, вообще предпочла бы обойтись без этого знакомства.
Когда, осушив слезы, Эмили собралась уходить, Харриет, неожиданно для себя самой, пригласила ее заглянуть в субботу, часам к шести.
– И обязательно возьмите с собой свою подругу, Констанс Пинн, – сказала она.
Это имя она несколько раз слышала от Блейза, он говорил, что Пинн живет у Эмили. Харриет, конечно, понимала, что подруга и дуэнья – разные вещи, но все же мысль о том, что в квартире постоянно находится другая женщина, приносила ей некоторое утешение. Сейчас она не то чтобы хотела убедиться в самом существовании мисс Пинн (она в нем не сомневалась), ей просто нужно было держать в руках все нити: самой все решать и устраивать, одобрять или не одобрять – диктовать правила игры. Лишь полное осознание всего происходящего могло дать ей ощущение реальности – и вообще, думала она про себя, так спокойнее.
– Кстати, я приглашу Монтегю Смолла, – добавила она. – Уверена, что он вам понравится. А может, и Дэвид будет дома.
Монти Смолла Харриет собиралась пригласить для того, чтобы он как следует присмотрелся к Эмили и чтобы потом с ним можно было ее обсудить. Также она очень надеялась уговорить Дэвида показаться гостям – хоть на минутку, ради нее. Но на самом деле Харриет все яснее видела, что центральной и самой важной фигурой во всем этом является Люка.
Именно из-за Люки Блейз столько лет выполнял свой долг и поддерживал отношения с Эмили. Не будь Люки, не было бы никакого долга и, по всей видимости, никаких отношений. Но и это было не главное. Трепеща и замирая от страха, Харриет все яснее понимала, что она влюбилась. Как все по-настоящему влюбленные, она пыталась уже манипулировать будущим. Дэвид не может не принять Эмили, потому что не может не принять Люку. Сердце Харриет переполняло острое, непреодолимое желание. Она понимала, что должна скрывать это свое желание даже от Блейза, что для достижения своей цели ей придется быть упорной, терпеливой и изобретательной. Ее целью был Люка.
Было субботнее утро. Сегодня Дэвид ушел из дома рано. В последнее время завтраки в Худ-хаусе как-то сами собой сошли на нет, их просто не было. Кухня – сердце Худ-хауса – пребывала в беспорядке. Чашки свисали со своих крючков как неприкаянные или вообще стояли где попало. Все поверхности были завалены горами каких-то бесприютных предметов. Старый буфет казался темным от грязи, а не от времени, стол был вторую неделю накрыт одной и той же скатертью. Мать ничего не ела, даже не садилась. С горящими от возбуждения глазами она, как подавальщица, стояла у отца за спиной, и тот, поедая свою яичницу с ветчиной, вынужден был постоянно озираться и посылать ей глуповатые улыбки. Дэвид есть не мог, но отпил кофе из чашки и даже повозил вилкой по тарелке – только бы обошлось без материнских уговоров. После завтрака он тихонько выскользнул на улицу и сразу же за калиткой побежал – скорее прочь.
Накануне вечером был очередной разговор с матерью. Сначала, когда она к нему вошла, он боялся, что, начав говорить, она не выдержит и расплачется. Рисовалось даже, как она, сотрясаемая рыданиями, бросается к нему на грудь, а он обнимает ее, при этом сурово глядя через ее плечо на отца. В тот момент воображаемая картинка произвела на Дэвида отталкивающее впечатление, но после разговора она уже казалась ему символом утешения – увы, недостижимого. Хуже всего была железная воля матери, от которой лицо отца становилось счастливо-униженным и покрывалось красными пятнами. Скандал с криками и руганью и тот выглядел бы пристойнее. Ее мужественная, чудовищная, отвратительная терпимость, кроме всего прочего, казалась Дэвиду залогом того, что этот кошмар будет тянуться и тянуться. В тот первый вечер, когда мать обрушила на него новость, у него, конечно, возникло ужасное чувство, будто все разлетелось вдребезги, но хотя бы оставалась надежда, что осколки скоро уберут. Видимо, отца «застукали», думал он, теперь ему волей-неволей придется кончать с этой мерзостью, с двойной жизнью. Но ужас, как выяснилось, состоял в том, что двойная жизнь как была, так и осталась.
Этой ночью Дэвиду снилась русалка с лицом матери, в руке она держала живую рыбу. Мать сначала ласково поглаживала рыбу, потом, пристально глядя на Дэвида, начала сдавливать ее рукой, будто выжимая сок. «Пусти, ей же больно», – силился сказать Дэвид, но не мог произнести ни звука, лишь умоляюще тянул к ней руки. Вместо рыбы из-под материнских пальцев уже выползало тошнотворное месиво. Дэвид попытался кричать – застонал и наконец проснулся. Поняв, что находится в собственной спальне, он в первую секунду почувствовал облегчение, но потом сразу все вспомнилось. Он включил свет. На тумбочке рядом с кроватью лежали швейцарский складной ножик, компас, зуб касатки (дядя Эдриан привез его Дэвиду из Сингапура), гладкий пестрый камешек из шотландского горного ручья, пенни с изображением короля Георга и крошечный плюшевый мишка по имени Уилсон, которого, просыпаясь, Дэвид всегда прятал до вечера в надежное место. Неожиданно размахнувшись, он смел свои сокровища на пол – и тут же осознал в наступившей тишине, что никогда больше не положит их перед сном у своего изголовья.
Лежа без сна, он вспоминал, как мать, с теми же горящими глазами и с той же ужасной решимостью в лице, пришла вчера поздно вечером к нему в комнату и села на кровать. Глядя на него смущенно и одновременно умоляюще, она объясняла, что выхода у них нет и что иначе никак нельзя. Отец не может бросить эту женщину с ребенком. Он должен обеспечивать их, должен ходить к ним в гости, он ведь не может делать вид, что их нет. А раз они есть – в папиной жизни, да и в нашей тоже, – тогда, может, лучше помочь им и пожалеть, вместо того чтобы считать их подлыми врагами? «Понимаешь, – говорила она, – они просто очень несчастные… как арестанты… как беженцы», – никак не могла подобрать нужные слова, чтобы он понял невыносимость ее положения и смягчился.
Между тем Дэвид прекрасно все понимал, хотя и не показывал этого. Он ясно видел, как отчаянно его мать пытается овладеть ситуацией, подчинить ее себе. Раз отцу по-прежнему нужна эта женщина, раз он заботится о ней – пусть лучше заботится с ведома жены и по ее настоянию. Подобно морской твари, изучающей незнакомое дно, Харриет упорно протягивала щупальца во все стороны, пытаясь понять и объять все, что только можно; и, судя по выражению покорности, которое Дэвид постоянно теперь видел в отцовских глазах, пока ей это удавалось. Дэвид даже не пытался объяснять ей, насколько ему все это противно. Эти чужие люди были для него осквернители, враги: воспринимать их иначе он просто не мог. Из-за них жизнь его лишилась радости и вообще всякого смысла. Он ненавидел их, ненавидел эту возню, устроенную родителями, – только бы поскорее простить друг друга, только бы приспособиться как-нибудь, только бы выжить. Ненависть душила его.
Тогда же, глядя на мать, которая почему-то казалась ему теперь похожей на актрису, он понял еще кое-что, и это было страшнее всего. Ей нужен этот мальчишка, этот его кошмарный единокровный братец. Она собралась выделить ему отдельную комнату в доме, чтобы он держал там свои вещи и чтобы мог оставаться на ночь – Люка, этот гаденыш с жабой в кармане, посягающий на самое родное и неприкосновенное, что есть у Дэвида, – на его дом. Она будет каждый вечер заходить в комнату Люки, будет целовать его перед сном. Даже сейчас ее прямо-таки распирало от нежности, которую она старательно пыталась скрыть от Дэвида, – но он видел, он-то видел, какое странное тайное утешение нашла для себя его страдающая мать. Она всегда хотела второго ребенка. Временами ее всеобъемлющая, нацеленная на него одного любовь казалась самому Дэвиду обременительной. Но и досадливо отталкивая ее от себя, он ни на секунду не терял уверенности в том, что она все время думает о нем, что он – цель и главное содержание ее жизни; эта уверенность была для него источником надежности и покоя. Вчера, глядя в ее умоляющее, умалчивающее, лживое насквозь лицо, он понял: все так называемые неприятности той, прежней жизни – все это были сущие пустяки, сетования скучающего небожителя. Теперь все кругом изменилось, будто чья-то злая воля грубо низвергла его с небес.
Дэвид перешел с бега на быстрый шаг. Изменилось все, весь мир. Даже любимый, привычный с детства маршрут был другой, хотя все тот же – по тенистой улице, мимо больших кирпичных домов с их длинными лужайками и старыми деревьями, вдоль каменной стены парка и дальше по тропинке, где начинается настоящая природа, пусть не дикая, но настоящая, – земли фермеров, где на склонах зеленого горбатого холма пасутся черно-белые коровы. За холмом – исполинская, неестественно бурая на фоне окружающей зелени насыпь строящейся автострады; вот впереди уже показался маленький ее кусочек. Блейз и Харриет так сокрушались по поводу этого строительства, подписывали какие-то страстные петиции, требовали, чтобы автостраду прокладывали севернее или южнее их мирной долины, но Дэвиду она даже нравилась – во всяком случае, он ее принял. Она выросла на его глазах – от нескольких рабочих с флажками, которые сновали между деревьями и что-то мерили, до махины, вознесшейся над путаницей проселочных дорог и боярышниковых изгородей, такой нелепой рядом с округлыми холмами и черно-белыми коровами, устремленной вдаль, сверкающей на солнце белизной бетонного покрытия, почти уже законченной, но все еще громоздкой и безмолвной, как заброшенный монумент посреди мирного сельского пейзажа.
По-прежнему не сбавляя шага, Дэвид подходил уже к краю насыпи. В последнее время это место особенно поражало его резкостью и неожиданностью перехода: бурая раскуроченная земля, стекающая сверху вниз волнами, как лава из кратера вулкана, как причудливо закаменевшее море, – и обычный луг с обычной травой, по которому Дэвид бродил, когда не было еще никакой автострады и никакой насыпи. В той мирной жизни он искал на лугу грибы, а над его головой плыли золотые осенние туманы. Застывшее вулканическое море теперь уже не выглядело инородным, оно как будто начало врастать в окружающий ландшафт; его окаменевшие волны были, если присмотреться, не совсем бурыми, кое-где уже пробивались клочки травы, и белые маргаритки, и красные маки, и кустики очного цвета, усыпанные красными и желтыми звездочками, и небесно-голубые первоцветы. Знакомый ручеек изливался из проложенной под насыпью трубы с таким мирным журчанием, будто ничего странного с ним не произошло и будто он протекал по этой трубе всю свою жизнь. Дэвид наклонился к трубе, чтобы крикнуть в один конец и послушать эхо, но тотчас понял, что счастливое время, когда он мог просто так подойти к трубе и крикнуть, ушло навсегда. Он начал карабкаться по насыпи. Я тоже ребенок, думал он, хватаясь за бурые слежавшиеся комья, я ребенок, не взрослый – зачем же они так со мной?..
Наверху на дорожном полотне никого не было, лишь вдалеке несколько грузовиков и человеческих фигурок напоминали о том, что бетонная громада неуклонно ползет вперед, что скоро, воссоединившись со своей второй половиной, она превратится в важнейшую артерию Новой Британии и тишина уйдет навсегда из этой мирной долины. Последние дни тишины. Дэвид вышел на середину дороги и лег на спину. Солнце слепило, в голубом необозримом небе расплывались следы беззвучных самолетов. Сквозь тонкую ткань рубашки от прогретого бетона разлилось привычное тепло и одновременно – почти автоматически, как с трубой, в которую уже нельзя было крикнуть, – чувство безвозвратно утраченного счастья. И – почти сразу и почти так же автоматически – еще одно чувство: острое, мучительное физическое желание, будто безжалостная ласкающая рука простерлась к нему с самого неба, дразня и тираня.
Весь его мир изгажен и отравлен. Весь до мелочей, окончательно и безвозвратно. Даже эти холмы. Даже коровы, и птицы, и цветы. И бежать некуда. Загублены навек ни в чем не повинные жабы. Мать сказала: ах, как Люка любит животных, он скоро изучит все луга и леса в округе. «Как все это вынести? – спрашивал себя Дэвид. – И можно ли вынести такое в одиночку?» Статус единственного ребенка – еще недавно предмет его праздного недовольства – был на самом деле основой всей его жизни. Он сам, его отец и мать были неотделимы друг от друга и составляли триединое целое, внутри которого постоянно циркулировал животворный поток любви. Этот поток существовал для него всегда – даже в последнее время, когда Дэвид замкнулся и почти перестал разговаривать с родителями, он по-прежнему чувствовал себя неуязвимым центром их любви. И вдруг выяснилось, что никакого целого больше нет. Вместо родных лиц на Дэвида смотрели пугающе незнакомые маски с застывшими гримасами вины, униженной покорности, лживого сострадания, подлой предательской нежности и постыдной тайны. Отец, которым Дэвид, при всей своей внешней суровости, безоговорочно восхищался, которого считал оплотом надежности, оказался вдруг жалким, маленьким и виноватым; его застукали – он жалобно просит прощения, а сам преспокойно продолжает грешить. «Они не догадываются, что я все, все чувствую, – говорил себе Дэвид, – не догадываются, как я сложен, они меня не понимают, думают, что со мной надо разговаривать как с маленьким». Если бы можно было увезти мать подальше отсюда, чтобы никогда больше не видеть и не слышать ничего этого… но невозможно, машина уже набрала ход, и никто, ни один человек никогда не узнает, каково приходится ему, Дэвиду.
«Смогу ли я вынести это, – думал он, – и не превратиться в жестокое чудовище?» Мысль о жестокости, прежде неведомая, теперь казалась ему понятной и почти естественной. Светлый лик Спасителя, всегда маячивший где-то неподалеку, приблизился и печально взирал на его терзания. «Помоги мне, Господи, – снова и снова повторял Дэвид, – не дай мне умереть от ненависти и тоски. Но… значит, я не одинок, – подумал он вдруг. – Значит, кто-то все же знает меня и понимает всю глубину моей печали? И этот кто-то, в милости своей и доброте, может судить, и утешать, и обращать зло в добро? А что, если во всем этом и впрямь есть некое добро, вершить которое выпало мне, никому другому? Что, если оно, непобедимое добро, все-таки существует?» Дэвид закрыл глаза. Солнце ровной краснотой сочилось сквозь сомкнутые веки, над этой краснотой пастельным призраком реял все тот же светлый невозмутимый лик. Значит, все-таки призрак, обманчивое видение, понял Дэвид, и тоска, еще мучительнее прежней, сжала его сердце.
– Ты так похож на хемингуэевского Старика, что меня это начинает утомлять, – сказал голос Монти.
– С кем ты говорил по телефону? С миссис Смолл? – спросил другой голос, незнакомый.
– Нет, с Харриет. Она просит меня прийти прямо сейчас. Эмили уже сидит у нее. Если хочешь, можешь пойти со мной. Как ты уже слышал, тебе там будут рады.
– Не уверен, что хочу, – ответил Эдгар (это был он).
– Дело твое. Но если останешься здесь, советую не пить больше виски. Все, я пошел.
Эдгар и Монти сидели на веранде. Невидимый для них Дэвид стоял в мавританской гостиной между пурпурным диваном и книжным шкафом (бывшим фонтаном), обложенным деморгановской плиткой. Весь день он бродил по недостроенной автостраде и окрестностям, и теперь от голода и усталости у него немного кружилась голова. Он казался сам себе бесчувственным и бесплотным, почти демоноподобным. Хотя нет, не совсем бесплотным: жестокая рука желания, простертая из тех самых небес, на которых прежде пребывал один лишь Иисус, изводила его сегодня весь день. Смутные девичьи образы злорадными бабочками порхали над его головой.
Ближе к вечеру он вдруг ощутил потребность немедленно видеть Монти. Мысль о том, что можно рассказать обо всем Монти, показалась ему последней надеждой в этом безжалостном и безутешном мире. Задыхаясь, спотыкаясь от голода и от слабости, он бежал через луга, потом по тропинке вдоль стены парка, потом по тенистой улице между домами – до самого Локеттса. И вот оказывается, что Монти не один и что он прямо сейчас уходит знакомиться с этой жуткой женщиной.
Стоя посреди затемненной гостиной, Дэвид решил еще подождать и, если Монти все-таки отправится в Худ-хаус один, догнать его по дороге.
Взгляд его упал на раскрытую книгу, лежавшую на столе. Стихи, на греческом. Дэвид знал эти стихи. Мозг, как хорошо отлаженный механизм, тут же переключился на знакомые слова.
Быстро к нему простираясь, воскликнул Пелид благородный: «Ты ли, друг мой любезнейший, мертвый меня посещаешь? Ты ль полагаешь заветы мне крепкие? Я совершу их, Радостно все совершу и исполню, как ты завещаешь. Но приближься ко мне, хоть на миг обоймемся с любовью И взаимно с тобой насладимся рыданием горьким!» Рек, – и жадные руки любимца обнять распростер он; Тщетно: душа Менетида, как облако дыма, сквозь землю С воем ушла…[16]Образ страшной утраты прекраснокрылым коршуном пал на Дэвида из поднебесных высот – и его сердце не выдержало. Опустившись на диван, он закрыл лицо руками и зарыдал.
– Что такое?
Эдгар в тревоге подскочил со стула.
Монти распахнул ставни, и глазам их предстала обрамленная оконной рамой картина: на пурпурном диване сидел рыдающий мальчик.
– Это Дэвид. Сын Харриет.
Сегодня Монти был собой страшно недоволен, злился на себя с самого утра. Он собирался посвятить день медитации, чтобы ощутить наконец внутри себя желанный покой. В последнее время состояние собственного духа начало уже внушать ему опасения. Ведь могут же как-то другие люди переживать свои утраты, не впадая при этом в прострацию. Мысль о самоубийстве впервые в жизни казалась ему реальной, теперь он понимал тех, кто неутихающим душевным мукам предпочел полное исчезновение. Как угодно, но он должен положить конец этой пытке. Чувство вины перед Софи разрывало его душу, и в мозгу, как в кино, снова и снова прокручивались одни и те же сцены. Надо переключиться на что-то другое, думал он, – или уже переходить к следующему, еще более кошмарному способу существования. Он уже достиг полной неподвижности и, сузив глаза в щелки, призывал к себе тот покой, который выше всякого покоя и в котором нет места мелочной войне с собой и внутри себя, – но в душе понимал, что так он не найдет того, что сейчас ему нужно. Вся его жизненная мудрость и весь опыт подсказывали, что у него есть лишь один шанс пережить горе – отдаться ему целиком, и пусть даже на этом пути подстерегает безумие, но это единственный путь, другого нет.
Он с бессмысленным упрямством цеплялся за мысль об учительстве. Перед смертью Софи он хотя и мучился душевной болью – те муки теперь казались пустым нытьем, та боль легким покалыванием, – но все же был способен о чем-то думать. В частности, он думал, что ему неплохо было бы сейчас взяться за какую-нибудь самую обычную работу. И возможно (если когда-нибудь он снова соберется писать), такая радикальная перемена в жизни даже пойдет ему на пользу. Нужно что-то очень простое, но обязательное и обязывающее, нужно почувствовать, что он играет пусть скромную, но важную для кого-то роль. В моменты прозрения ему казалось, что, помогая другим, пусть даже через силу, он сможет исцелиться сам и, возможно, давняя его внутренняя война наконец чем-то закончится – во всяком случае, он сумеет перенести утрату (тогда еще будущую) без ожесточения. Ибо он прекрасно сознавал, что в душе его есть вещи темные и смутные, с которыми он не может и не сможет играть – так, как это делает, например, Блейз. Мило Фейн, кстати говоря, к этим вещам не относился, по сравнению с ними он был детской забавой (хоть и порожденной ими же). Гораздо больше отношения к ним имел Магнус Боулз. Теперь Софи умерла, но мысль об учительстве не уходила. Никакой «полезности» в ней, правда, уже не осталось, но осталась хоть какая-то цель в бесцельном существовании, какой-то шанс справиться с собственным эгоцентризмом. Отсутствие «полезности» имело даже свои плюсы. Кто знает, думал Монти, вдруг жизнь вознаградит его потом за бескорыстный акт, если он и впрямь бескорыстный.
Но одно дело мечтать о грядущих благотворных переменах, и совсем другое – заставить себя перебраться из большого и удобного, заставленного книгами полусельского дома в тесную учительскую комнатку. Вот тут, неохотно признавался себе Монти, и появился Эдгар Демарнэй. Эдгар воспринял идею учительства с энтузиазмом и тут же направил ее в практическое русло. Монти может преподавать историю и латынь, так? Он же преподавал их раньше, до Мило. И греческий тоже – надо только немного освежить его в памяти. Это же прекрасно. Эдгар завидует ему белой завистью – нет, правда! Учить умных, любознательных ребят прекрасному мертвому языку – о такой работе можно только мечтать. А устроиться – в сущности, раз плюнуть. Бинки Фэрхейзел, Монти должен помнить его по колледжу, теперь директорствует в Бэнкхерсте, это очень приличная школа близ Нортгемптона. Как раз недавно он прослышал о новом назначении Эдгара и прислал письмо с просьбой подыскать ему хорошего учителя латыни и греческого. Ну, греческим Монти, конечно, давно не занимался, но уж с этим он как-нибудь справится. Старина Бинки будет в восторге. Еще бы, думал Монти, вспоминая, с каким презрением он сам относился к Бинки в колледже. Монти высмеял идею Эдгара, но странное чувство неизбежности не оставляло его. Разве не ждал он каких-то «знаков» и разве Эдгар – не «знак»? Да и успеет ли он сам, без посторонней помощи, найти до сентября хоть какую-то работу? Нет. Куда он пойдет, что будет делать, когда у него нет ни сил, ни желания? А Нортгемптон как раз недалеко от Оксфорда, напоминал Эдгар, и еще ближе от Мокингема. А что, думал Монти, может, и правда они с Эдгаром снова будут сидеть на просторной террасе в Мокингеме, покуривая сигары, потягивая бренди и разглядывая знаменитые пейзажи за рекой?.. Если он решит подвергнуть себя испытанию Бинки Фэрхейзелом, пожалуй, надо будет выговорить для себя выходные в конце недели.
И кстати, неплохо бы исчезнуть из Локеттса до приезда матери. Правильнее всего было бы наконец решиться и продать дом – но что-то мешало, путало все его планы. Путаницу вносила Харриет. Прислушиваясь к себе, Монти всякий раз приходил к выводу, что не чувствует к ней никакой опасной привязанности, но какую-то привязанность – и какую-то ответственность за нее – все же чувствует. Срабатывало и еще одно, менее благородное соображение: очень хотелось посмотреть, как эта интригующая ситуация будет развиваться дальше. Вульгарное, в сущности, любопытство было для Монти своего рода утешением – кажется, оно одно выводило его на время из состояния хронической апатии. Вообще Харриет, пожалуй, была единственным человеком в этой жизни, который хоть как-то его интересовал. Харриет и, разумеется, Дэвид. Так не лучше ли остаться рядом с ними, как-нибудь перетерпеть наезд матери – а учительство подождет? Кроме того, если принять сейчас помощь Эдгара, не окажется ли потом, что он повязан с этим хемингуэевским Стариком на веки вечные?
Харриет, с ее спокойным, «ангельским» нравом, относилась к тому типу женщин, к которым Монти тянуло давно, еще в дни его «роковой юности». Ее правдивость, ее ничем не замутненная ясность и открытость, ее какая-то изначальная наивная добродетель, ее невинность – все это, даже сейчас, действовало на Монти благотворно и успокаивающе. Добрая, нежная душа, она никому не причиняла вреда и ни от кого не требовала жертв. Как вышло, что единственной любовью в жизни Монти оказалась не Харриет, а Софи – вероломная грешница, маленькое чудовище, злобное, хитрое и коварное? Может, его пленил ее вздернутый носик? Или туфельки? Может, так. А может, и нет. Только маленькое это чудовище, бессердечное и бесподобное, стало вдруг потребно ему больше всего на свете. Но Харриет все же приносила утешение, Монти чувствовал, что ему полезно видеть перед собой это милое невинное лицо. Может, думал он, лучше все-таки остаться? Сейчас, слушая болтовню Эдгара о том, что он собирается переделать и перестроить в Мокингеме, какие кредиты обещает выделить на это Национальный трест[17] и какого ястребка-перепелятника видел он у себя в долине, Монти думал, что ему уже надо идти к Харриет – помогать ей развлекать Эмили Макхью. Тогда в Патни Монти сразу же почувствовал к Эмили неприязнь, скорее всего взаимную. Ему хватило одного взгляда, чтобы разглядеть за хрупкой синеглазой оболочкой сущую дьяволицу – энергичную, жестокую и расчетливую. То, что, по всей видимости, притягивало к ней Блейза, решительно отталкивало Монти. И вот теперь он должен был идти ради Эмили в Худ-хаус, говорить какие-то любезности, притворяться, что видит Эмили впервые, и выслушивать рассуждения Харриет по поводу Магнуса Боулза – в присутствии Монти Харриет почему-то всегда начинала рассуждать о Магнусе Боулзе. Вот о чем думал Монти, когда его размышления были прерваны громкими всхлипами из гостиной.
Монти, столько времени страдавший без слез, смотрел на рыдающего Дэвида с неожиданной злостью.
– Прекрати это немедленно, слышишь!
– Не сердись, – вмешался Эдгар. – Ему есть о чем поплакать. По-моему, я сейчас тоже заплачу.
– А ты уже упился, посмотри на себя.
– Я? Упился? Нет… еще не совсем. Дэвид, ну пожалуйста, не надо так…
– Простите, – сказал Дэвид, утирая глаза пыльным рукавом рубашки.
– Представь нас, Монти, – попросил Эдгар.
– О господи. Дэвид Гавендер – профессор Эдгар Демарнэй.
– Вообще-то, я уже не про…
– Дэвид, ты идешь домой? Твоя мама пригласила Эмили Макхью.
– Нет.
– Может, лучше уж сразу с ней познакомиться – и покончить с этим? Побудешь минут пять – и все, больше от тебя ничего не требуется.
– Нет. Не могу…
– Знаешь что, иди один, – сказал Эдгар. – А мы с Дэвидом останемся… Побеседуем – ик! – немного.
– Ну и черт с вами, – буркнул Монти, направляясь к двери.
Ему вдруг страшно захотелось выгнать Эдгара взашей, не оставлять его наедине с плачущим Дэвидом. Не будь здесь Эдгара, слезы Дэвида, возможно, тронули бы Монти, хотя он все равно бы разозлился. Эдгар опять начнет всюду совать свой нос, во все ввязываться, ни черта при этом не понимая. Не пойти сейчас к Гавендерам Монти, конечно, не мог, но твердо решил вернуться домой как можно скорее, чтобы выпроводить Эдгара. Пока он шел от калитки к крыльцу Худ-хауса, Ёрш вцепился ему в штанину. Монти пинком отбросил его.
– Вы тот самый профессор Демарнэй? Это вы написали «Вавилонскую математику и греческую логику»?
– Да.
– И «Поэтику Эмпедокла»?
– Да.
– И «Пифагор и его долг перед Скифией»?
– Да.
– И последнее издание «Кратила»[18] тоже ваше?
– Да, но хватит об этом, или нам придется перечислять до глубокой ночи. Давай лучше так: вытри-ка свои драгоценные слезы и расскажи мне все, все…
Монти осушил уже несколько стаканов виски. Сидя с Эдгаром на веранде, он почти не пил, теперь же пил много и быстро – наравне со всеми. На блюде лежали маленькие изысканные бутербродики, но к ним почему-то никто не притрагивался. Это странное сборище напоминало даже настоящую вечеринку. Никто как будто не чувствовал себя скованно, и ничего ужасного пока не произошло. Когда Харриет знакомила Монти с Эмили Макхью, он лишь молча поклонился, она тоже. Констанс Пинн, правда, заговорщицки улыбнулась и, схватив Монти за руку, незаметно, но весьма ощутимо царапнула ногтем его ладонь. Начиная с этого момента она настойчиво пыталась вовлечь Монти в конфиденциальный разговор, от которого он так же настойчиво уклонялся. В своем нарочито простом черном платье с кружевным воротничком (кружево было брюссельское, доставшееся от одной богатенькой ученицы) она была очень хороша. Даже ее слегка приподнятые волосы с медным проволочным отливом сияли здоровьем и уверенностью. Эмили наконец-то оделась по-человечески и тоже смотрелась прекрасно. Сегодня на ней была белая блузка с итальянской камеей, бархатный синий жилет и черные брюки. Темные свежевымытые волосы рассыпа́лись, и Эмили приходилось часто их поправлять или отбрасывать назад движением головы, что у нее получалось совсем по-мальчишески. Она поглядывала по сторонам с видом скорее смущенным, чем вызывающим, и чаще задерживала взгляд своих ярко-синих глаз на окружающих предметах, чем на людях. Харриет, в противоположность обеим гостьям, казалась усталой и неряшливой, щеки ее были бледны, шпильки, обычно незаметные, высовывались из прически самым непривлекательным образом. Харриет редко надевала украшения, но сегодня на ней был серебряный золоченый браслет с выгравированными розами, подарок отца. Она без конца щелкала замочком браслета, то расстегивая его, то снова застегивая. Пояс ее серого муслинового платья развязался и волочился по полу. «Только, пожалуйста, – шепнула она Монти, встречая его у дверей, – не убегай первым, дождись, пока они уйдут». Значит, ему придется забыть о том, что у него дома, возможно, в этот самый момент зарождается новый нелепый тандем (Дэвид – Эдгар), и остаться. Впрочем, взглянув на сегодняшнюю Харриет – растрепанную, с дрожащими руками и волочащимся поясом, – он и так решил остаться.
«Дэвид, наверное, скоро придет», – сказала Харриет гостям в начале вечера, однако Дэвид так и не появился. Она попыталась выяснить у Монти, будет ли Эдгар, но не услышала в ответ ничего определенного. Итак, ни Дэвида, ни Эдгара, а Эмили с подружкой, обе уже «готовенькие», уходить, судя по всему, не собираются. Раскрасневшийся Блейз улыбался во все стороны и, когда к нему обращались, охотно со всем соглашался. Харриет то и дело касалась его руки, то ли подбадривая мужа, то ли утверждая свои на него права. Пинн, которую начал разбирать смех, кидала на Блейза многозначительные взгляды и хихикала. Эмили, в отличие от подруги, решительно его игнорировала. Точно так же она игнорировала Монти и Пинн и в разговоре обращалась исключительно к Харриет. Монти, избегавший Пинн, говорил только с Блейзом, который мало что слышал и еще меньше соображал, мог только кивать и поддакивать. Под воздействием виски Монти постепенно овладевало непонятное возбуждение. Не то чтобы он предвкушал скандал – просто ему было страшно интересно, что будет дальше.
Узкая и длинная, на три окна, гостиная, расположенная в торце Худ-хауса, выглядела пусто и голо, как необработанная слоновая кость. Кроме четырех бледных акварелей и овального зеркала в белой фарфоровой раме, на белых стенах не было никаких украшений. Когда-то Блейз занялся оформлением комнаты, но закончить так и не собрался, тем более что сами хозяева заглядывали сюда нечасто. На полу до сих пор лежал толстый порыжелый индийский ковер, оставшийся от прежнего владельца (Блейз с Харриет никак не могли договориться между собой, чем его заменить); мебель, которая и в лучшие времена была хлипковата, выстроилась строго вдоль стен. Середина комнаты, таким образом, оставалась пустой, и в этой пустой середине кучкой стояли собравшиеся – казалось, вот сейчас раздастся свисток или заиграет музыка, все сорвутся с мест и начнутся фанты, или шарады, или танцы. Блейз дышал учащенно, по-прежнему улыбался всем жалкой заискивающей улыбкой и, глядя то на Харриет, то на Эмили, то на Пинн, распределял свое внимание, как успел заметить Монти, поровну между всеми тремя.
Разговор, немного напоминающий беседу сумасшедших, но в остальном вполне светский, касался театра.
– Театр – это сплошное притворство, – сказала Харриет.
– Вы разве не любите Шекспира? – спросила Эмили.
– Читать люблю, но на сцене от него мало что остается, одно трюкачество.
– Не понимаю, зачем люди ходят в театр, – заметил Монти. – По-моему, это пустая трата времени. Лучше провести вечер в приятной беседе.
– Вот именно, – согласился Блейз. – Вот именно.
– Монти, вы это серьезно? – спросила Пинн.
– Я обожаю театр, – сказала Эмили. – В театре перестаешь быть собой. И такие яркие, роскошные образы – врезаются в память на всю жизнь. Но куда мне в театр, когда я все время с Люкой, как за ногу привязанная.
– А разве нельзя брать его с собой? – спросила Харриет.
– Он не захочет.
– Откуда вы знаете?
– Знаю, не захочет.
– Но сегодня вы ведь нашли, с кем его оставить. С кем-то договорились, да?
– Это Пинн договорилась – с какой-то девицей из школы. Кто сегодня с Люкой, Пинн?
– Кики Сен-Луа.
– Красивое имя, – сказала Харриет.
– Но ты сказала, будет Дженни! Про Кики ты ни слова не говорила.
– У Дженни не получилось.
– Иногда вы могли бы ходить в театр с Блейзом, – сказала Харриет. – А я бы присмотрела за Люкой.
– Мы с Блейзом? Вы шутите. Хотя – почему нет? Мы уже сто лет никуда не выбирались. Блейз просто обожает театр, да, Блейз?
– Обожаю, – закивал Блейз.
– А я-то, я-то хороша! – рассмеялась Харриет. – Столько лет лишала его удовольствия!
– Так вы серьезно? – снова спросила Пинн у Монти.
– Насчет чего?
– Насчет того, что театр – пустая трата времени.
– Все великие пьесы написаны в стихах, и, тут я согласен с Харриет, их интереснее читать, чем смотреть.
– Но неужели нет ни одной приличной пьесы в прозе?
– Понятия не имею. Я же не хожу в театр.
– Тогда как вы можете судить о пьесах? Возможно, вы совсем не правы.
– Я не говорю, что я прав. Я только говорю, что говорю серьезно.
– Какой вы циник! А что, ваша мама была раньше актрисой?
– Хотела, но у нее не вышло. Пришлось вместо этого заниматься постановкой голоса в школе для девочек.
– Кто бы мне поставил голос, – сказала Эмили.
– У вас очень милый голос, – возразила Харриет.
– Я имею в виду свой лондонский прононс. Правда, Блейз говорит, что ему нравится.
– Да, очень.
– Ах, значит, он у меня все-таки есть? Вот спасибо тебе!
– Блейз, включи, пожалуйста, свет, как-то вдруг стало темновато, – сказала Харриет.
– Я раньше тоже думала стать актрисой, – сообщила Пинн, обращаясь к Монти. – А теперь вот написала пьесу. Не хотите прочитать?
– Харриет, может, тебе лучше присесть? – сказал Монти.
– Нет, спасибо… Стоять… лучше.
– Что там собаки так растявкались? – Эмили обернулась. – Они у вас прямо как волчья стая.
– Даже если вы ее разгромите в пух и прах, все равно ваше мнение очень важно для меня.
– Там кто-то пришел, – сказал Монти. – Не с улицы, а со стороны кухни. Это, наверное…
– Дэвид! – воскликнула Харриет.
Но, вместо того чтобы поспешить на кухню, лишь отошла в угол комнаты и опустилась на стул. Собаки продолжали надрываться.
Монти решительно направился на кухню, Блейз следовал за ним по пятам. В проеме выходящей на лужайку двери обозначилась грузная фигура Эдгара. Наконец дверь захлопнулась, и заливистый собачий лай оборвался. Монти с удивлением отметил, что на улице уже почти стемнело, туманное предзакатное солнце освещало лужайку приглушенным светом, как на картинах Вермеера.
Эдгар, как-то странно кренясь набок, дошел до стола и обеими руками уперся в красную клетчатую скатерть. Монти, как, впрочем, и Блейзу, сразу стало ясно, что Эдгар пьян.
– Ну, ты тут сам с ним разберешься, да? – сказал Блейз и ретировался обратно в гостиную.
– Как это ты отсюда явился? – спросил Монти. – А, понятно, через забор. Ну и дурак, пьяный к тому же. Сядь-ка лучше.
– Мне надо видеть Харриет, – сказал Эдгар громко и ясно, старательно выговаривая каждое слово. – Я должен ей… кое-что сказать.
– Садись. Ты весь в грязи. И пиджак порван. Упал?
Карман болтался, открывая для обозрения пиджачную подкладку. Одна штанина была выпачкана в земле.
Эдгар удивленно уставился на длинную прореху, тянувшуюся от кармана вниз.
– Кажется, упал. Да, точно, упал. Мне надо видеть Харриет. Нет уж, я не сяду.
– Дэвид придет?
– Нет. Он там весь выплакался. А я должен…
Неверной, но неожиданно стремительной походкой Эдгар проследовал мимо Монти прямиком в гостиную, где уже повисла тишина ожидания. Он остановился перед Харриет, которая сидела в углу комнаты у стены.
– А… Эдгар, – как-то обессиленно сказала Харриет и попыталась улыбнуться.
Эмили хмыкнула. Пинн сказала: «Ого!» Блейз, нехорошо улыбаясь, подлил себе еще виски. Эдгар покачнулся.
– Твой сын в Локеттсе, – сказал он, обращаясь исключительно к Харриет. – Он так плакал, так плакал…
– Я сейчас же иду к нему, – сказала Харриет, но почему-то никуда не пошла, а продолжала завороженно разглядывать капельку слюны, дрожащую на нижней губе Эдгара, и его налитые кровью глаза.
– Не стоит, – сказал Монти. – Мы с Эдгаром уже идем. Эдгар, пошли.
– Однако, – повысил голос Эдгар, – однако я пришел сюда не за этим. Харриет! Я пришел, чтобы предложить тебе мое покровительство.
– Ну ничего себе, – пробормотал Блейз.
– У меня есть дом, Монти знает, красивый дом, и я предлагаю его тебе, он к твоим услугам, без меня, меня не будет, только моя экономка, тебе нужно уехать, нужно прибежище, что-нибудь простое и достойное. Нельзя попустительствовать, есть вещи, которые нельзя, иначе новая ложь и новое зло, я пришел выступить в твою защиту, пришел выступить…
– Думаю, сейчас не самый удачный момент для выступлений, – сказал Монти. – Идем домой.
– Предложить, как я уже говорил, мое покровительство, больше ничего, дом обесчещен, и не так-то просто решить, что делать в этой чудовищной ситуации…
– А кто говорит, что это должно быть просто? – изрек Блейз, который, кажется, тоже успел порядком набраться.
– Это еще что за комик? – спросила Пинн.
– Не надо ему ничего отвечать, – быстро сказал Монти, обращаясь к Блейзу. – Через минуту он выговорится, и я его уведу.
– Милый Эдгар… – начала Харриет.
– Я тебе не милый Эдгар, ты очень добрая, а лучше бы ты была не такая добрая, у меня тоже есть чувства, я не бесчувственный чурбан, я тоже из плоти и крови, я брал тебя за руку, и ты позволяла, я понимаю, ты смеялась надо мной, хотя красивые женщины всегда надо мной смеялись…
– Он забавный, – заметила Эмили.
– Он клялся… и он должен был хранить тебе верность до самой смерти…
– Позвольте, – вмешался Блейз, – я, конечно, ценю ваши наблюдения и ваши советы, и очень мило с вашей стороны, что вы приходите, берете мою жену за руку и предлагаете свое покровительство – не важно, в каком смысле…
– Эдгар, хватит нести околесицу, – сказал Монти. – Пошли. – Он попытался подхватить Эдгара под локоть, но Эдгар ловко вывернулся. Харриет взмахнула рукой: не надо.
– Думаешь, раз ты такая хорошая, то ты их всех спасешь. Не выйдет, не спасешь. Это они тебя осквернят. Что идет вразрез со Святым Писанием, на то невозможно соглашаться. Ты же христианка, ты веришь в христианский брак, вот и живи по-христиански и не сворачивай с пути истинного. Ты должна уехать, только тогда он увидит, что натворил. А так он ничего не увидит. Все это ложь, этот человек лжец, и пусть он сам теперь расхлебывает свою кашу. А ты ставишь их в такие условия, что они будут лгать и лгать дальше. Ни один праведник не сможет исправить содеянное ими, даже ты. Ты простила их, но они тебе этого не простят, они еще потом возненавидят тебя за твое великодушное прощение и будут продолжать, как раньше, строить свои козни, просто не смогут иначе. И ты поймешь, что никого не спасла, а стала сама соучастницей преступления, но тогда уже будет поздно. Он должен решить, он должен выбрать, он сам себя поставил перед этим выбором. Пока что он упорствует во грехе и даже не признает своей вины. Ты навек останешься его жертвой – твое же попустительство толкает его снова на грех. Ради него ты должна положить конец этому распутству.
– Ну хватит уже, хватит, – сказала Пинн.
– Спасибо за совет, – пробормотала Эмили.
– Эдгар, – сказала Харриет, – я выслушала тебя очень внимательно. Но ты забываешь, что есть еще ребенок.
– Ты не мог бы увести своего друга? – обернулся Блейз к Монти.
– Я никуда не уйду. Я хочу договорить до конца. Я сказал недостаточно ясно… а я должен сказать ясно. Слушай меня, Харриет. Разве ты не видишь, в какое положение ты его поставила? Он вынужден тебе лгать – что ему остается? Ты ведь даже ничего от него не требуешь. А ты потребуй, пусть он выберет, пусть примет наконец решение. Твоя безмерная терпимость и сочувствие ничему не помогут. Истинная доброта не в том. Ты просто хочешь избавить себя…
– Ну все, хватит с нас этих выступлений! – Блейз со стуком поставил свой стакан на стол и двинулся на Эдгара. – Сыты по горло! Монти, сделай что-нибудь, ради бога, подержи его за другую руку. Или тебя это забавляет?
– Не надо! – вскрикнула Харриет.
Блейз попытался ухватить Эдгара за руку, однако Эдгар, не желая быть ухваченным, вырвался и, неловко размахнувшись, заехал локтем Блейзу прямо в глаз. Блейз осел на пол. Харриет ахнула. Эмили подбежала к Блейзу. Монти шагнул к Эдгару, который все еще стоял посреди комнаты, бестолково размахивая руками и явно недоумевая (куда это вдруг подевался Блейз?), и нанес ему не слишком умелый, но достаточно точный удар ребром ладони по шее (любимый удар Мило). Эдгар тяжело рухнул на пол.
– Надо быстро его увести, – сказал Монти. Тут же подскочила Пинн, вдвоем они кое-как подняли Эдгара и поволокли к выходу.
– Харриет!.. Харриет!.. Мокингем!.. – выкрикивал Эдгар, что уже несколько смахивало на боевой клич.
За дверью оказался другой мир. Солнце окончательно утонуло в облаках, на землю спускались сумерки. Дрозд на старой корявой березе, лаково чернеющий среди оцепенелой листвы, распевал в тишине мирную вечернюю песню. Почтенная миссис Рейнз-Блоксем, неспешно проходившая по другой стороне улицы к своему дому, с любопытством оглядела живописную группу в дверях. Она и раньше подозревала, что от соседа-психиатра можно ожидать чего угодно. Эдгар уже затих и покорно висел на руках у своих конвоиров. Но когда они попытались протащить его через калитку, он на глазах у миссис Рейнз-Блоксем, следившей за странной троицей теперь уже с собственного крыльца, мертвой хваткой вцепился в деревянный столб.
– Ну же, Эдгар, пойдем. Пойдем домой.
– Прошу прощения, я пьян, – сказал Эдгар. – Но зачем же меня бить?..
– Извини, больше не буду. Идем.
Наконец поковыляли дальше. До самого угла улицы, пока все трое не скрылись из глаз, миссис Рейнз-Блоксем смотрела им вслед.
У дверей Локеттса Монти обернулся к Пинн:
– Большое спасибо. Дальше я справлюсь сам.
Эдгар уже самостоятельно протиснулся в дверь, но Пинн не уходила.
– Позвольте мне войти, – попросила она. – Пожалуйста.
– Извините, нет, – сказал Монти.
– Пожалуйста!
– Нет.
– Но почему?
Монти молча посмотрел на нее и вошел в дом, захлопнув за собой дверь.
Кренящийся Эдгар уже доковылял до гостиной и с размаху приземлился на подлокотник легкого плетеного кресла. Подлокотник, жалобно скрипнув, разломился надвое.
– «В темном-претемном рву грустная старая корова жевала и жевала жвачку…» – бормотал Эдгар.
Монти медленно вошел в полумрак гостиной. Одно из окон все еще было распахнуто, а ставни закрыты от солнца, хотя солнца давно уже не было. Монти подошел, распахнул ставни, закрыл окно, потом взглянул вниз. На полу полулежа, прислонясь спиной к пурпурному дивану, крепко спал Дэвид. Почти в тот же миг раскатистый храп со стороны кресла возвестил о том, что и Эдгар отошел наконец ко сну.
Присев на корточки около Дэвида, Монти вгляделся в его лицо. Красные распухшие веки подтверждали правдивость Эдгаровых слов: слез было пролито немало. На губах, слегка приоткрытых, угадывалась тень «античной улыбки», но уголки губ были опущены вниз, отчего улыбка казалась печальной. Спутанные золотистые волосы упали на лоб, – видимо, Дэвид скинул их, неловко взмахнув во сне рукой. Теперь эта рука лежала на диване, ладонью вверх, будто простертая в мольбе. Вторая рука Дэвида покоилась на колене, рубашка соскользнула с плеча. Стараясь дышать как можно тише, в лад дыханию спящего, Монти осторожно опустился на колени и, положив голову ему на плечо, попробовал расслабиться. Рубашка на груди Дэвида была еще влажная от слез. Так Монти лежал с открытыми глазами в темной комнате, среди сгущающихся темных мыслей, черпая в случайной близости хоть какое-то утешение.
Тем временем в гостиной Худ-хауса события развивались своим чередом. Тишина, наступившая после принудительного отбытия Эдгара, была прервана всхлипываниями Харриет. Человеческий плач представляет собой, как правило, не самопроизвольное слезоизвержение, но обдуманное действие, предпринимаемое, например, с целью внести лепту в разговор. Харриет рыдала теперь с немалым физическим облегчением: наконец-то она могла, не нарушая приличий, выплакаться и, кроме того, ясно дать понять всем, кого это касается, что прием окончен, на сегодня с нее уже хватит. Она делала все от нее зависящее, чтобы поступать хорошо и правильно, и даже эта вечеринка, завершившаяся так плачевно, была с ее стороны хорошим и правильным деянием. Отныне, смутно мерещилось ей, должна наступить какая-то новая фаза. Да, она уж точно сделала все возможное. Теперь, слегка трепеща от неизбежности перемен, она чувствовала себя подобно справедливому правительству, которое, дабы умиротворить недовольных и прояснить собственную позицию, долго являло подчеркнутую терпимость по отношению к оппозиционной группе, чтобы потом, когда эта группа в очередной раз продемонстрирует свою нелояльность, принять – с полным на то основанием – более решительные меры. Хотя для нынешнего состояния Харриет этот образ не годился как чересчур рациональный. Но психологически ей очень важно было сознавать, что она вела себя правильно и хорошо – пусть даже до нелепости хорошо. Впрочем, она тоже понимала, что внутри чудовищной этой «ситуации» заложена огромная сила, и ни она, ни кто другой не властен эту силу сдержать.
Явление Эдгара явилось для нее полной неожиданностью, но все же оно было вестью о той же самой силе, и почти желанная беспомощность охватила все существо Харриет. В излияниях Эдгара она услышала лишь то, что хотела услышать, остальное было пропущено мимо ушей и уже забыто. До сих пор она наивно полагала, что от нее что-то зависит, что все смотрят на нее и ждут каких-то решений, но теперь все выглядело так, будто ничто ни от кого не зависит, и от нее в том числе; она, наравне с остальными, всего лишь жертва – вот из-за чего она сейчас плакала. Своими слезами она никому ничего не хотела доказать, даже Блейзу. Она вовсе не ждала, что он сейчас же бросится ее утешать, да и не желала этого. Она плакала тихо, словно наедине сама с собой, как могла плакать одинокая, потерявшая последнюю надежду беженка где-нибудь в привокзальном зале ожидания или в аэропорту. Сбросив туфли, она с закрытыми глазами раскачивалась на стуле у стены, постанывая и прижимая мокрый носовой платок к разгоряченному лицу.
Блейз тем временем был занят своим правым глазом, пострадавшим от Эдгарова локтя. Сидя на полу, он ощупывал его, открывал, закрывал и снова открывал. Зрение как будто восстановилось – но было больно, и глаз уже начал заплывать. Эмили Макхью стояла рядом на коленях, однако к Блейзу не прикасалась, а разглядывала его с каким-то странным, пытливым интересом. Так может смотреть человек, который долго бился над очень сложной и запутанной математической задачей и вот наконец почувствовал, что решение пусть не совсем еще нашлось, но забрезжило.
Блейз медленно поднялся, бросил Эмили на ходу: «Пойду промою глаз» – и поплелся на кухню. В отворенную дверь было видно, как он открыл кран, наклонился над раковиной и принялся неуверенно и осторожно плескать холодной водой на распухающий глаз. Эмили вышла в прихожую, набросила свой летний, песочного цвета плащ, поправила шарфик перед зеркалом. Блейз из кухни начал ей что-то говорить.
– До свидания, – сказала Эмили и ушла, тихо затворив за собой входную дверь.
Блейз еще какое-то время стоял над раковиной, удивленно разглядывая свои мокрые руки. Потом резко развернулся и, не вытираясь, бросился за ней.
На улице в листве больших деревьев сгущались сумерки, небо, затянутое облаками, начало окрашиваться в вечерний тускло-белый цвет. Эмили, мчавшаяся без оглядки, была уже далеко, Блейз молча побежал за ней. Едва струи прохладного воздуха коснулись его лица, в голове у него все стало ясно, словно очистительный поток пронизывал его насквозь, унося все ненужное и наносное.
Никогда еще Блейз не испытывал такого полного смятения, такой путаницы в мыслях, как в последние дни. Он и раньше иногда чувствовал себя очень виноватым или очень несчастным, но тогда он всякий раз понимал, что именно он чувствует, даже если не мог ничего изменить. С самого момента признания единственным ощущением, которое Блейзу удалось в себе распознать, было униженное облегчение оттого, что обе женщины его простили. Все оказалось так неожиданно просто. Немного правдолюбия, немного верности своему долгу – и вот уже все, что прежде было пороком, вдруг оборачивается добродетелью. Никаких наказаний, никаких последствий, и все, что он хотел сохранить, остается при нем. Правда, Дэвид… Но проблема эта разрешимая, Блейз знал, что Дэвид никуда не денется, что он любит своего отца. И обе женщины, как бы связанные новыми отношениями, любят его не меньше – да что там, больше, чем прежде, и принимают друг друга со спокойным реализмом. Огромное облегчение и огромная благодарность – вот все, что мог испытывать Блейз.
Благодарность благодарностью, но коль скоро все уже сдвинулось со своих мест, глупо было надеяться, что этим дело и кончится. Незаметно и помимо его воли видоизменялось все, что он любил, все самое для него дорогое. Блейз и сам в полной мере не осознавал, насколько важна для него видимость (или реальность, как он мысленно ее именовал) самого обычного, заурядного семейного счастья; это был мир, в котором он склеивал разбитые вазы, подстригал лужайку и старательно протирал стекла «фольксвагена». Даже сознание вины перед Харриет вносило лепту в эту счастливую гармонию. В последние годы его вспыхнувшая с новой силой любовь к Харриет дополнялась и окрашивалась этим непреходящим чувством вины: в свете этой вины он лишь яснее видел, какая у него хорошая, добрая и какая законная жена. Такая хорошая, такая добрая – и такая обманутая; он жалел ее всей душой. Теперь-то он понял, что источником этой жалости служит не что иное, как его тайная нескончаемая связь с Эмили. Если бы, предположим, он вдруг перестал любить Эмили, если бы и впрямь видел в ней, как ему самому иногда казалось, лишь обузу, тогда и любовь к жене давалась бы ему много труднее. Такова уж была загадочная алхимия его ситуации; во всяком случае, так удобно его непобедимый эгоизм постарался ее для себя истолковать. Получалось, что его тайные отношения с Эмили питают и поддерживают его любовь к Харриет.
И вот в самый, казалось бы, злополучный момент, когда Харриет узнает, какая она несчастная и обманутая, происходит преображение, и она вырастает в фигуру чуть ли не героическую. Ее достоинство и доброта, поразительная внутренняя сила и владение ситуацией – все это становится испытанием для его любви к ней, расцветшей за годы его непреходящей покорной виноватости. Когда благородный всплеск закончится, с беспокойством думал он, эта новая изменившаяся Харриет вполне может потребовать от него новой изменившейся любви. В то же время шок состоявшегося наконец разоблачения как будто отбросил Блейза от Эмили. Все, что он прежде любил в ней, теперь несколько потускнело. Если раньше – все эти девять лет – Эмили ни разу не теряла присутствия духа, не выглядела виноватой или слабой (хотя сила ее частенько проявлялась лишь в бесплодных жалобах и обвинениях), то теперь, подхваченная налетевшим ураганом, она вдруг словно оторвалась от земли и перенеслась на другое, скромное, но вполне законное место в этом новом мире Харриет, сотворенном бесконечной добротой Харриет. И вот уже Эмили чувствует себя рядом с хозяйкой этого мира виноватой, и подчиняется ее воле, и позволяет ей заниматься вопросами образования Люки, будто сама она чуть ли не дочь, а Люка чуть ли не внук Харриет.
Раньше собственная ложь казалась Блейзу клеткой, из которой он не может вырваться; потом, когда началась благословенная полоса правдивости, ему показалось, что клетка рассыпалась и он вырвался наконец на волю. Но видимо, клетки, крепчавшие много лет, не рассыпаются так быстро. А может, ту клетку просто-напросто сменила другая? Блейз прекрасно понимал, что ложь, о которой говорил Эдгар, никуда не делась, она все еще существует. Но в чем она, что она и, наконец, чего он сам теперь хочет? Правды, свободы? Где она, эта правда, и где эта свобода, как их отыскать? Именно сейчас, когда, задыхаясь, он бежал сквозь вечерний сумрак вдогонку за Эмили, ответ, пока не совсем ясный, впервые замаячил перед ним.
Эмили, длинноногая, как девчонка, бежала отчаянно, летела как на крыльях. Сумочка болталась в кармане плаща, била по ногам. С тех пор как все открылось, Эмили тоже пребывала в полном смятении чувств. С одной стороны, она как будто испытывала разочарование, с другой – облегчение. Ей всегда представлялось, что кончать с этим долгим обманом придется ей, никому другому, что при этом она должна потерять Блейза, а это, так или иначе, будет означать конец ее собственной жизни. Среди нескончаемых страданий мысль о смерти, пусть даже смутная и праздная, нередко утешает нас и в каком-то смысле помогает обманываться дальше. «Если это со мной случится, я умру», – говорим мы себе, и наши душевные муки и даже муки совести слегка притупляются, потому что в сущности это означает «со мной это никогда не случится». Для Эмили мысль о разоблачении связывалась либо с окончательным воссоединением ее и Блейза, либо, что выглядело значительно вероятнее, с окончательным разрывом. В последнее время Эмили все реже грезила о том, как благодаря разоблачению она получит Блейза, и ей все реже рисовались образы, утешавшие ее в первые годы их с Блейзом незадачливой любви: Харриет, умирающая от рака, Харриет, раздавленная колесами автомобиля.
И вот это случилось само собой, до странности быстро и легко, без всяких трагедий и вселенских катаклизмов. Харриет как бы вежливо и цивилизованно поделилась Блейзом с Эмили и санкционировала – пусть не слишком охотно, но зато спокойно и благожелательно – дальнейшее совместное пользование; и все осталось по-прежнему, разве что кончился затянувшийся обман. Конечно, какая-то ложь неминуемо будет продолжаться, надо ведь как-то жить дальше. Не рассказывать же Харриет все. И Блейз будет врать ей про то, как он совсем не любит Эмили и как он с ней никогда в жизни не спал, – точно так же он наверняка врет, когда уверяет Эмили, что Харриет для него ничего не значит. И это Блейзово вранье никуда не денется, а будет вечно витать над ними, затуманивая картину легкой дымкой, то утешая, то нагоняя тоску. Так и будут они жить-поживать втроем, год за годом, двое грешников и одна праведница. Харриет, с ее неизменной добротой, как-нибудь все устроит; глядя на происходящее с высоты своих лет, она поможет Эмили, поможет Люке – и Эмили, исполненная смирения и благодарности, мало-помалу перестанет чувствовать себя виноватой, и… Но после этого несуразного до дикости явления Эдгара внутри у Эмили вдруг будто что-то высвободилось и сдвинулось. Сидя на полу и без малейшего сочувствия глядя на то, как Блейз ощупывает и оглаживает свой подбитый глаз, она поняла, что ничего этого никогда не случится – просто потому, что она не допустит. Она по-прежнему вольна пустить в ход неукротимую силу разрушения и по-прежнему вольна выбирать – все или ничего.
Сейчас, глядя перед собой безумными, широко распахнутыми глазами, она мчалась по улице и знала, что он бросится за ней в погоню. Скоро за спиной послышались шаги бегущего человека. Блейз ни разу не окликнул ее, бежал молча, но она знала, что это он. Эмили припустила еще быстрее, сейчас она хотела только одного: убежать, ускользнуть, знать, что он сходит с ума, ищет ее – ищет и не находит. Она пока не знала, каким боком выйдет ей этот вольный выбор – все или ничего, – да и выйдет ли вообще; ей не хотелось об этом думать. Сейчас ей надо было насладиться своей властью, а страдания, которые эта власть неминуемо повлечет за собой, могли и подождать. Эмили была прекрасная бегунья и легко оторвалась от Блейза, но, когда разрыв между ними уже начал увеличиваться, она неожиданно споткнулась о торчащий булыжник и во весь рост растянулась на мостовой. Одна ее босоножка осталась лежать на дороге, содержимое сумочки веером высыпалось на обочину. Эмили сидела и осматривала ссадину на колене и порванную брючину, когда, тяжело дыша, подбежал Блейз. Затолкав вещи обратно в сумочку, она надела босоножку, с трудом поднялась на ноги. Блейз что-то ей говорил. Некоторое время Эмили смотрела на его дрожащие губы, на подбитый заплывший глаз. Держа сумочку за ремешок, она тщательно прицелилась, размахнулась и изо всех сил ударила его по лицу. Потом отвернулась и, прихрамывая, пошла дальше.
На дороге было уже почти темно; затянутое облаками, еще бледноватое небо начало понемногу синеть. Зажигались фонари, вокруг них вспыхивали ажурные красно-зеленые шары из листвы. В ленивых больших кирпичных домах за деревьями тоже включали свет, яркие светящиеся квадраты от незашторенных окон падали на аккуратные гравиевые дорожки и на каскады вьющихся роз. Эмили не оглядывалась. Блейз сначала плелся сзади, потом догнал ее и, не касаясь, пошел рядом. Он прикрывал глаз носовым платком. Оба молчали. Но теперь внутри у Эмили начало подниматься ощущение чистейшего блаженства; оно шло от разогретого булыжника мостовой, просачивалось сквозь тонкие подошвы босоножек, пронизывало дрожащие колени… Блаженство заполнило ее всю, в жилах вместо крови пульсировал золотистый обжигающий божественный напиток с пузырьками, которые поднимались к самой макушке и лопались там, превращаясь в танцующие язычки пламени, образуя огненный ореол, как у святых. Она шла по темнеющей дороге, по-прежнему глядя прямо перед собой, объятая пламенем, но страшно холодная, страшно сильная, страшно легкая.
Когда они добрались до маленькой пригородной станции, Блейз направился к кассе и купил два билета до Лондона. Молча ждали поезда, молча вошли в вагон. В вагоне сели друг к другу лицом и смотрели глаза в глаза без улыбки и без слов, как восемнадцатилетние любовники, которые впервые достигли полного единения, волшебного и безупречного, и, обнаружив, что теперь они могут разговаривать без слов, молчат от нестерпимого восторга. Только Блейз и Эмили были не восемнадцатилетние любовники, а взрослые люди, мучившие друг друга много лет, и это делало их молчание еще прекраснее.
Блейз уже перестал ощупывать свой глаз, на который, кстати сказать, пришлась вся сила удара сумочкой и который после этого окончательно заплыл, вздулся и полиловел. Второй, здоровый глаз Блейза неотрывно смотрел на Эмили, рот был плотно сжат – странно, но это трогало ее больше, чем любая самая нежная улыбка. Сошли в Паддингтоне, так же молча, не сговариваясь, направились к скамейке возле газетного киоска, сели. Время, вероятно, близилось к полуночи. Под величественными чугунными арками, воздвигнутыми некогда Исамбардом Брунелом[19], было пустынно. Кое-где по платформе разгуливали бессонные вокзальные голуби, без особой надежды поклевывая мятые конфетные обертки. Неподалеку дремал бродяга, с головой заползший внутрь своего обтрепанного пальто; над воротником торчало лишь несколько спутанных прядей. В огромном, ярко освещенном вокзале царили ночь и пустота. Эмили вытянула ноги и начала через прореху на коленке сцарапывать запекшуюся кровь. От счастья и определенности у нее кружилась голова. Она готова была сидеть так рядом с Блейзом, не глядя на него, не прикасаясь к нему и не говоря ни слова, хоть до утра, хоть еще много дней и недель подряд.
Блейз наконец заговорил.
– Мы с тобой как двое горемычных малюток в лесу из той баллады, да?
– Да, – сказала Эмили. – И голуби сейчас понатащат конфетных оберток и укроют нас, чтобы мы не замерзли.
Ей хотелось смеяться и смеяться не переставая, но голос ее лишь едва заметно дрогнул. Любовь вцепилась в нее мертвой хваткой, она трясла ее, как терьер пойманную крысу. Мощный электрический поток хлынул, как раньше, между нею и Блейзом, переполняя ее сознанием неизбежности и правоты.
– Ничего не поделаешь, – сказал Блейз. – Так уж у нас с тобой получилось.
– Надеюсь, ты понимаешь, что у нас с тобой получилось, – все еще не глядя на него, сказала Эмили.
– Да.
– Ты понимаешь, что тебе придется выбирать.
– Да.
– И ты уже выбрал.
– Да.
Она наконец повернулась лицом к Блейзу, но не дотрагивалась до него.
– Понимаешь, Эдгар прав. – Блейз заговорил отстраненно-аналитическим тоном, отчего Эмили вдруг охватило страстное желание. – Это только с виду все выглядело правильно и благородно, а на самом деле все насквозь пронизано ложью – долго так не могло продолжаться. И не обязательно было бить меня сумкой в глаз, чтобы я это понял. Хотя стукнула и стукнула, я даже рад. Но я понял еще там, в гостиной. Думаю, мне просто нужен был маленький разговор на повышенных тонах. И я все увидел.
– Значит, мы вместе это увидели, – сказала Эмили. – Я увидела, что я должна заставить тебя сделать выбор. Ну и все-таки спрошу, для полной ясности: а ты что увидел?
– Я увидел то, что знал всегда, – сказал Блейз. – Ты – моя правда. Ты моя правда, ты моя жизнь. Только около тебя я могу быть собой. Мне надо было довериться своей любви с самого начала, но я все мялся и тянул – сначала из трусости, а потом уже довериться любви оказалось не так-то просто, и я начал убеждать себя, что все изменилось. Ничего не изменилось, да это и невозможно – я мог бы сразу догадаться, это же моя профессия. Но пока я не открылся Харриет, я будто был в каком-то оцепенении, ни черта не соображал.
– А теперь ты свободен.
– Да, теперь я свободен.
– И ты мой. Совсем мой. Навсегда. Навеки. Это твой выбор.
– Да, это мой выбор.
– Если когда-нибудь ты откажешься от этих своих слов, – сказала Эмили, – я убью тебя. Без ссор, без слов. Просто убью.
– О моя царица… – пробормотал он.
Несколько минут спустя они обнявшись сидели в такси, на заднем сиденье. Такси направлялось в Патни.
Монти проснулся с ощущением страха. В первую минуту он не мог сообразить, где он и почему. Он лежал на полу в гостиной, укрытый одеялом, под головой подушка. Из окна лился странный свет: полная луна только что взошла над садом и теперь медленно, торжественно плыла по глянцевому темно-синему небу. Наверное, это его и разбудило. Да, но почему он спит на полу? Он поднялся, зажег лампу – и наконец вспомнил. Худ-хаус, Эдгар, Дэвид. В комнате никого не было. Интересно, кто подложил ему под голову подушку, кто укрыл одеялом? И что подумал Дэвид, когда, проснувшись среди ночи, обнаружил, что рядом, обняв его за шею и уложив голову ему на плечо, спит Монти? Монти взглянул на часы: уже три.
Он направился на кухню, не совсем понимая зачем. Может, он голоден? Как будто нет. Хочет выпить? Тоже нет. Болит голова, сообразил наконец Монти; проглотил две таблетки аспирина и выпил стакан воды. Со стороны Худ-хауса послышался собачий лай. Монти вышел через кухню во двор, немного постоял на газоне, сверкающем капельками росы, – в лунном свете она смахивала на иней. В Худ-хаусе, должно быть, все уже спят, подумал он. Ночью собаки часто лают просто так, без причины. Монти побрел в сторону фруктового сада, оставляя темный след в морозно-голубоватой росе. По обе стороны от тропинки стояла высокая трава с бледными дрожащими колосками, впереди между деревьями был виден свет. Это в Худ-хаусе на первом этаже, понял Монти. На кухне и, кажется, в гостиной. Возле зарослей наперстянки он шагнул к забору.
Забор был деревянный, невысокий, от силы футов пять, с двумя поперечинами со стороны сада, – человеку более или менее трезвому забраться на него было проще простого. Но не успел Монти поставить ногу на нижнюю поперечину, как примолкшие было собаки снова подняли лай и со всех ног бросились наперехват нарушителю. Теперь Монти сидел на заборе верхом, вся свора злобно лаяла и рычала внизу, а Аякс подпрыгивал к самым его лодыжкам, явно входя в раж. При таком раскладе Монти счел за лучшее поскорее спрыгнуть вниз.
– А ну пошли вон! – грозно, как только мог, прикрикнул он. – Я сказал, прочь от меня!
Собаки отскочили, но тут же снова подступили почти вплотную и не отставали уже ни на шаг. Так, в сопровождении рычащей свиты, подняв руки как можно выше и поддерживая дипломатичный разговор («Ну все, хватит уже, хватит, вы же меня знаете, я не грабитель, ну вот и славно, хорошие собачки!..» – и далее в том же духе), Монти быстрым шагом приближался к дому. Дипломатия помогла, обошлось без собачьих клыков, а когда Монти добрался до двери, собаки даже немного приотстали – все, кроме Ерша, недоброе ворчанье которого явно означало, что вчерашний пинок не забыт.
В кухне никого не было. Монти двинулся вдоль стены дома к незашторенным окнам гостиной, свет из которых лился на ажурный куст ракитника и нежно-зеленую в электрическом освещении скумпию. Монти подошел к окну и заглянул внутрь. Глазам его представилось странное зрелище. Эдгар и Харриет, видимо увлеченные разговором, ходили из конца в конец гостиной; Харриет опиралась на руку Эдгара. Дойдя до двери, они тут же разворачивались и шли в противоположную сторону. По размеренности их движений было ясно, что они маршируют так уже давно; Монти даже показалось, что на толстом индийском ковре образовалась тропинка из их следов. Харриет все время указывала рукой в сторону сада, явно излагая какие-то соображения по поводу собачьего лая. Вид у нее был, на взгляд Монти, несколько фантастический: на плечах длинная кашемировая шаль, платье, лишенное пояса, волочится по полу наподобие мантии. Ее длинные блестящие волосы свободно струились по спине (раньше Монти не приходилось видеть ее с распущенными волосами), отчего она выглядела, несмотря на усталость и бледность, гораздо моложе. В этой своей мантии, простоволосая, она была очень похожа на жрицу или прорицательницу. Всклокоченный Эдгар, в порванном пиджаке, без галстука и с печатью бессонной ночи и выпитого виски на челе, сутуло тащился рядом, словно выслушивая наставление. Сократ, внимающий речам Диотимы[20].
Монти негромко постучал в окно. Двое в комнате одновременно вскрикнули и обернулись. Через минуту Эдгар уже поднимал оконную раму, чтобы впустить Монти внутрь. Не успел Монти спрыгнуть на ковер, как руки Харриет обвились вокруг его шеи, и он тоже не задумываясь обнял ее. Кашемировая шаль легла на его плечи, но тут же соскользнула на пол, и они остались стоять в обнимку под покровом ее струящихся волос. Не убирая рук, он некоторое время стоял с закрытыми глазами, впитывая в себя тепло ее округлых плеч и прохладу волос, потом, словно очнувшись, отстранился и отступил на шаг. Харриет и Эдгар, оба изрядно осунувшиеся, смотрели на него не без удивления: вероятно, он и сам являл собою диковинное зрелище.
– Ну так что, где народ? – осведомился он самым беспечным тоном, позволительным при данных обстоятельствах.
– Мы бы сами хотели это знать!
Ответ Эдгара прозвучал несколько зловеще.
– Где Дэвид? – спросил Монти.
Интересно, кто все-таки подложил ему под голову подушку и укрыл одеялом – Дэвид или не Дэвид? Монти надеялся, что он.
– У себя в комнате, спит, – сказала Харриет.
– А вы что тут дефилируете?
– Блейза ждем, – ответил Эдгар.
– И где этот ваш Блейз?
– Понимаешь, – сказала Харриет, – после того как вы с Эдгаром ушли, – (Эдгар глухо застонал), – Эмили Макхью сразу же подхватилась и убежала, Блейз за ней – и с тех пор никаких вестей.
– По-моему, все ясно, – проворчал Монти, досадуя на обоих, но все же радуясь тому, что, по крайней мере, он сам еще не утратил способности мыслить здраво. – Эдгар тут столько всего нагородил, – (Эдгар снова застонал), – что Эмили расстроилась, Блейзу пришлось провожать ее домой. А возвращаться было уже слишком поздно – вот он и остался.
– Возможно, конечно, такое, – сказала Харриет. – И я не возражаю, пусть бы он… остался, раз так поздно… Но что же он не позвонил? Он ведь знает, что я… что я…
Тут губы ее плотно сжались, и глаза, явно не впервые за эту ночь, наполнились слезами.
– Ах ты, что же это такое… – забормотал Эдгар.
– А сами-то вы звонили Эмили? – спросил Монти.
– Харриет не знает номера, а в телефонной книге его нет, – ответил Эдгар.
– Думаю, Харриет, сейчас тебе лучше всего лечь спать, – сказал Монти. – Глупо мучить себя всю ночь почем зря. Ясно же, что Блейз и Эмили могли добраться до ее дома только глубокой ночью. Он наверняка решил, что ты уже легла, и не захотел тебя беспокоить. Так что хватит тебе играть эту трагическую роль, иди лучше спать. Если Эдгар решил наложить на себя епитимью и бдеть всю ночь, то при чем тут ты? Пусть бдит, я даже могу составить ему компанию. А ты иди спать.
– Нет, нет, я никуда не пойду, разве я смогу уснуть?.. А вдруг с ним что-то случилось, вдруг он попал в аварию? Мне так страшно… Я должна видеть Блейза, должна… Все равно в таком состоянии мне ни за что не уснуть… Нет, я больше не могу, я с ума сойду.
– Ай-ай-ай, что же это, – горестно приговаривал Эдгар, тоже, видимо, не впервые. – Мне так стыдно, так стыдно. Это было безобразно!..
– Спасибо вам, – сказала Харриет. – Вы оба такие добрые. Ах, Монти, слава богу, что ты пришел! – Она с чувством сжала его руку.
– Знаете что, я есть хочу, – объявил Монти. – Не возражаешь, если я приложусь к твоим бутербродам, – раз уж мы решили бдеть вместе? И пива бы хорошо, если есть.
– Посмотри в холодильнике, – сказала Харриет.
Они все вместе перекочевали на кухню и расположились за длинным столом. Монти и Эдгар ели бутерброды, запивали холодным пивом, Харриет, сидевшая между ними, собирала в складочку край клетчатой скатерти и тоскливо глядела в окно. Там над лужайкой уже начало светать, луна постепенно бледнела, и сквозь призрачно-серое оцепенение один за другим проступали силуэты деревьев.
– Дэвид даже не стал со мной разговаривать, – сказала Харриет. – Прошел молча, ни слова не сказал. А глаза такие красные.
– Ничего, он оправится, – сказал Эдгар. – У мальчишек это быстро проходит.
– Он не мальчишка… не просто мальчишка. Он глубокий, сложный человек.
– Не убивайся ты так, Харриет, – сказал Монти. – Тяжело, конечно, но все как-нибудь наладится.
«Как-нибудь, неизвестно как, – добавил он про себя. – Что за ахинею я несу?» В ту же минуту на него повеяло до жути знакомым холодком, будто где-то открылась невидимая дверь, и душу пронзило невыносимое желание видеть Софи. Если бы можно было идти куда-то ее искать – он бы ее нашел. Раньше, даже в самые худшие времена, одно ее присутствие оберегало его от всех бед. В худшие времена: когда она злилась на него, когда лгала, когда умирала.
– Господи, скорей бы уже Блейз пришел… или позвонил…
– Возможно, он сейчас как раз на пути домой, – сказал Эдгар. – Мало ли что могло его задержать. Ночью, а тем более без машины, оттуда сто лет можно добираться. Он может прийти в любую минуту.
– А мне что-то начинает казаться, – сказала Харриет, – что он никогда не придет. Всякое ведь бывает в человеческой жизни. Одни уходят навсегда, другие умирают…
– Прошу прощения, мне надо отлучиться в уборную, – сказал Монти.
Выйдя из кухни, он плотно затворил за собой дверь и свернул к лестнице, плавным полукругом уходящей наверх; в холодном свете высокого арочного окна уже отчетливо прорисовывалась каждая ступенька. Поднявшись на второй этаж, он остановился. Было очень тихо. Наконец в тишине Монти расслышал дыхание спящего Дэвида. На цыпочках подкрался к двери, осторожно, стараясь не скрипнуть, нажал на ручку и вошел.
Дэвид лежал на постели, полуприкрытый простыней. Он был все в той же рубашке, голова откинута набок – так, будто, засыпая, он метался в бреду, – длинные волосы легли на подушку торчком (казалось даже, не легли, а встали дыбом от ужаса), одна рука свешивалась до пола, как на картине Уоллиса «Смерть Чаттертона». Во сне лицо Дэвида снова сделалось далеким и чужим. Бледное, будто облитое зыбким утренним светом, оно было похоже на прекрасную посмертную маску. Минуты две Монти молча смотрел на спящего, потом бесшумно вышел. Каким безумцем надо быть, чтобы ждать утешения от мальчика, к тому же погруженного в собственные страдания? Вываливать ему на голову свои горести было бы глупо, даже подло.
Монти неспешно спускался по лестнице, когда в холле зазвонил телефон. Харриет, а вслед за ней и Эдгар тотчас выскочили из кухни. Эдгар бросился включать свет, Харриет схватила телефонную трубку.
– Милый… ты… слава богу. Да, да, конечно… как я могла забыть… Ну, разумеется… Я так волновалась… но теперь все в порядке… Да, сейчас лягу, уже иду, не беспокойся… Да, увидимся… Как камень с души… Спасибо, родной, что ты позвонил… спасибо тебе, спасибо…
Положив трубку, она подошла к лестнице. В свете устроенной Эдгаром иллюминации Монти было хорошо видно, как Харриет мгновенно преобразилась, горестные складки на ее лице разгладились, теперь оно сияло радостью и спокойствием.
– Ну и как, все в порядке? – спросил Монти.
– Да, да… все совершенно нормально… У меня просто вылетело из головы – у него же сегодня Магнус Боулз… сегодня как раз его день. Блейз только проводил Эмили до поезда, а сам поехал к Магнусу… Он пытался мне звонить, но неполадки на линии… никак не мог дозвониться. Сегодня он всю ночь сидит с этим несчастным. Блейз так внимательно относится к Магнусу, никогда еще не было, чтобы он отложил или перенес встречу с ним. Что ж, как видите, все кончилось хорошо. Спасибо тебе. И тебе тоже спасибо. Ну, кажется, теперь я могу идти спать.
– Я тоже, – сказал Монти. – Спокойной ночи.
Выйдя на улицу и чуть не споткнувшись о лежащего на крыльце Баффи, он бегом бросился к калитке. Баффи лениво полаял ему вдогонку. Солнце уже встало, ярко освещенная дорога была пустынна и полна деталей, как картина в ожидании центральной фигуры. Но я же и есть центральная фигура, догадался Монти и вдруг увидел себя словно со стороны: человек в черном бежит по дороге, словно спасаясь от преследователей, лицо изможденное, волосы всклокоченные, поднятый ворот рубашки топорщится. Лишь у дверей своего дома, лихорадочно роясь в кармане в поисках ключа, он заметил, что его и впрямь преследуют: Эдгар, с трясущимися на бегу телесами, уже сворачивал в распахнутую калитку. Солнце золотило его почти бесцветные волосы, отчего он был немного похож на психа и немного на прежнего, молодого Эдгара времен колледжа. Его мальчишеское розовое лицо выражало страстную мольбу.
– Монти… Можно я…
– Как, ты сказал, называется та школа?
– Какая? Где Бинки директор? Бэнкхерст.
– Скажи ему, что я готов у него работать, если они не передумали.
– Превосходно! Значит, я могу договариваться? Монти, можно я у тебя…
– Нет.
– Но куда же я пойду в такой час? Мой клуб откроется только…
– Иди куда хочешь, – сказал Монти. – Ко всем чертям. Возвращайся к Харриет. Она предоставит тебе постель. Возможно, даже свою. Разве ты не за тем к ней таскаешься?
Он переступил через порог и закрыл за собой дверь. Вот неблагодарная свинья, тут же выругал он себя. Дернул же черт такое сказать, ведь у меня даже в мыслях ничего подобного не было. Наверное, я все-таки помешался.
Он прошел в гостиную. На столе все еще лежала раскрытая «Илиада». Книга была снята с полки специально для Эдгара – чтобы он мог проэкзаменовать Монти на предмет греческого. Правда, никакого экзамена не получилось: этот отрывок Монти помнил наизусть. Захлопнув книгу, он подобрал с пола одеяло и начал медленно подниматься по лестнице. Безмолвный, недосягаемый призрак Софи скользил за ним. Потом растаял, сквозь землю с воем ушел. Но то был лишь призрак. А Софи теперь – ничто… нигде… никогда.
– А этот какой славный, смотри, – сказала Харриет, оборачиваясь к Люке, хотя для себя оба уже, конечно, все решили.
Люка взглянул на нее глазами коварного искусителя – когда он так смотрел, Харриет с трудом верилось, что перед ней всего-навсего восьмилетний мальчик.
– У него хвост длиннее всех, – ответил он.
Да, подумала Харриет, хвост у него точно длиннее всех. Ее уверенность слегка поколебалась. Господи, неужели придется взять двух собак?
Всю дорогу вдоль длинного ряда клеток их сопровождали взволнованные и дружелюбные собачьи улыбки: синхронно помахивая хвостами, собаки гурьбой бежали вдоль проволочной сетки с той стороны. Какие же они все были трогательные – все!
– Интересно, и не устают они так молотить хвостами? – сказала Харриет. – Я только гляжу на них, и то вся изматываюсь.
– А что потом будет с теми, которых никто не возьмет? Их убьют? – спросил Люка.
– Н-не знаю. Ну что ты, нет конечно.
Харриет предпочитала об этом не думать. При одной мысли о собачьих страданиях ее глаза, бывшие теперь постоянно на мокром месте, наполнились слезами.
Далматинец, у которого хвост оказался «длиннее всех», был, конечно, очень хорош. К тому же Харриет никогда еще не видела далматинцев с таким множеством пятен. Она даже хотела сказать об этом Люке, но в последний момент сдержалась; ведь они уже все решили – или не решили? Морда у далматинца была глупейшая, и Харриет никак не могла понять, недостаток это или достоинство. В следующей клетке ей понравился один эрдельтерьер: красавец, гораздо красивее Баффи, осенне-рыжего окраса, с ясными янтарными глазами. Но Харриет никогда не брала двух собак одной породы, так что эрдель был вне игры. Рядом с эрделем суетился хорошенький длинношерстный таксик.
– Какой лапочка, да?
Присев на корточки, Харриет погладила длинный коричневый нос, просунутый через проволочную сетку. Собачьи ноздри такие трогательные, подумала она, – темные и влажные, как темные влажные ложбинки весной, как скользкие вымоины в прибрежных скалах.
– Слишком маленький, – твердо сказал Люка, еще раз давая ей понять, что в нелегком деле выбора собаки он придерживается каких-то собственных, загадочных, но совершенно непоколебимых стандартов.
В молчаливом согласии они вернулись к первой клетке, где находился кардиганский корги, похожий на огромную гусеницу. Его гладкая темно-коричневая («твидового цвета», определила про себя Харриет) шерсть была такой длины, что чуть не волочилась по земле, а лапы, наоборот, короткие – за шерстью почти не видно. Собаки повыше пытались его оттереть, но он с таким же воодушевлением, как и все, вилял своим султаноподобным хвостом и время от времени, чтобы лучше разглядеть, кто там за сеткой, уморительно привставал на задние лапы. Его морда, непропорционально большая даже для такой крупной особи, выражала добродушие и ум; прозрачные, но очень темные, торфяного оттенка глаза глядели на Харриет умоляюще и в то же время с каким-то особенным пониманием – словно он уже знал.
Харриет и Люка переглянулись. Им ничего не надо было говорить. Они и без слов прекрасно понимали друг друга.
– Что ж, он твой, – сказала Харриет. – Да ты это и сам уже знаешь, правда?
Экскурсия в Дом собак волновала Харриет так, что она не смела признаться в этом даже самой себе (по правде сказать, она боялась прослезиться и смутить тем самым своего благородного друга). Люка, собаки, все это вместе было так прекрасно, что даже немного страшновато. Удивительно, но определение «благородный» подходило для Люки как нельзя лучше. Этот ребенок был вещью в себе; он был обращен внутрь себя и начисто лишен той несколько суетливой тревожности, отличавшей в этом возрасте родного сына Харриет. Невежественный до дикости, Люка был наделен внутренним совершенством, какое встречается только у дикарей. В нем чувствовалось поразительное спокойствие духа, но не только. В нем чувствовался сам дух. Что уж там происходило у него внутри, оставалось для Харриет тайной за семью печатями, но с каждым днем их общение обретало все новую полноту и безупречность и дарило Харриет наслаждение, сравнимое разве что с наслаждением от удачного любовного романа. При этом гарантом прочности их отношений был Люка. Именно он задавал темп, в каком-то смысле он даже ухаживал за Харриет. Вот и сейчас он удивительно неспешно, удивительно тактично взял ее за руку. Она едва сдержала навернувшиеся слезы.
Для слез были у нее и другие причины. Тогда утром Блейз, конечно, вернулся домой, все как-то улеглось, и жизнь потекла дальше, пусть не совсем «как всегда», но все же более или менее спокойно и стабильно, не считая того, что при этом новом распределении ролей ей все время казалось, что вот-вот произойдет что-то ужасное – может быть, уже происходит. Мысль эта была нелогичная, даже абсурдная, и Харриет пыталась отогнать ее от себя, но она упорно возвращалась. Былой нерушимой связи между нею и Блейзом больше не было. Задним числом она, разумеется, понимала, что еще в самом начале своих отношений с Эмили, когда ему приходилось столько всего скрывать, он должен был отдалиться от жены и наверняка отдалился. Но ведь тогда она этого не почувствовала; выходило, что этого как бы никогда и не было. Видимо, чудесная сила, заложенная в святости брачных уз, помогала Харриет каким-то образом принять измену мужа, смириться с ней и даже вычеркнуть ее из прошлого. Блейз уже раскаялся и вернулся к ней – задолго до того, как она вообще узнала о существовании Эмили Макхью, – чего еще желать? Теперь надо было заниматься настоящим. Но как раз в настоящем и появилось это новое отчуждение.
Харриет пыталась убедить себя, что все это игра воображения, но слишком многое говорило об обратном. Сам дом, все в доме словно бы нарушилось и сместилось. Конечно, отдельные предметы и раньше валялись как попало и где попало – в кухне, в спальне, в ее будуаре, в кабинете у Блейза. Но раньше они тем не менее сливались в единое целое, как разрозненные понятия внутри нормального, здорового интеллекта, теперь же вдруг оказалось, что все они безнадежно оторваны друг от друга, как будто где-то что-то замкнуло и прекратился ток, объединявший броуновский хаос частных деталей в некое эстетическое целое. Вещи выглядели беспризорными и нагоняли тоску, будто в доме умер хозяин и на его место пришел чужой человек, наследник, пришел и смотрит – и для него ни этот дом, ни эти вещи ровным счетом ничего не значат. Повсюду было грязно, как в хлеву, а у Харриет даже не возникало желания навести мало-мальский порядок. Исчезли из обихода простые и привычные мелочи: цветы в вазах, например. Не было цветов, не было даже роз – хотя, казалось бы, чего уж проще: выйти в палисадник и срезать. Букет засохших голландских ирисов стоял в прихожей уже несколько дней, их давно надо было выбросить и выплеснуть воду, но и эта задача почему-то казалась Харриет непосильной.
Точно так же все, что касалось Дэвида, было страшно болезненно. Харриет мучительно пыталась угадать, с какой стороны лучше приблизиться к сыну. Он, как и прежде, был холоден, вежлив и лаконичен. Однако ее связь с Дэвидом относилась все-таки к вещам изначальным, и даже внутри нынешнего холодного отчуждения бывали моменты, когда они смотрели друг на друга – он сурово, она умоляюще – и оба понимали, что их души как-то соприкасаются. Дэвид был ее территорией, и, как бы то ни было, Харриет знала, что сумеет отвоевать эту территорию вновь. Она вынашивала план (которым поделилась с Блейзом, и он рассеянно согласился) сделать то, о чем недавно просил ее сам Дэвид: уехать с ним на несколько дней куда-нибудь за границу, например в Париж, – только вдвоем; тогда, думала она, все их искусственно возведенные барьеры непременно рухнут. Она еще не разговаривала о поездке с сыном и не назначала никаких сроков, но сама мысль о такой возможности утешала ее.
Блейз пребывал в непонятном настроении: был рассеян и явно чем-то озабочен, но делиться своими проблемами не хотел. Он был очень занят. То и дело отменял встречи с пациентами, чего раньше никогда не случалось, и целыми днями просиживал в читальном зале Британского музея – так он говорил. Ему, по его словам, не терпелось поскорее закончить свою книгу, осталось совсем чуть-чуть. В отсутствие Блейза звонил доктор Эйнсли – очень огорчался, что никак не может его застать, и обескураживал Харриет тем, что как будто знал что-то такое, чего не знала она. Он словно бы даже пытался выяснить, много ли ей известно. Но не может же быть, думала она, чтобы Блейз делился со своими пациентами какими-то тайнами и при этом скрывал их от жены? На вопрос: «Когда ты будешь у Эмили?» – он отвечал с видимым раздражением:
– Зайду как-нибудь на той неделе. Сейчас ее нет, она уехала.
– Уехала? Куда, с кем?
– Просто отдохнуть. С этой своей знакомой Кики Сен-Луа, на ее машине.
– А как же Люка? – удивилась Харриет.
– За ним смотрит Пинн.
– И далеко они поехали?
– Откуда я знаю? Послушай, хватит об Эмили, а?
«Может, они поругались?» – шевельнулась в душе Харриет недобрая надежда, но надежда выглядела какой-то уж слишком хлипкой. О том, чтобы расспрашивать Люку, который продолжал устраивать себе «школьные выходные» и наведываться в Худ-хаус, не могло быть и речи. Отношения Харриет с Люкой были исполнены благородства и достоинства, в них не оставалось места для вульгарного выяснения подробностей.
Бывая дома, Блейз теперь большую часть времени проводил у себя в кабинете – судя по состоянию корзины для бумаг, разбирал содержимое стола: что-то рвал, что-то выкидывал. Вероятно, это было связано с завершением работы над книгой. Иногда поднимался на чердак, где хранились кофры с его совсем уже старыми вещами; зачем-то даже перекладывал одежду у себя в шкафу. Словом, приводил в порядок все свои дела. Зачем? Уж не собирается ли он «сделать ей ручкой»? Эта мысль иногда посещала Харриет, но она всякий раз отгоняла ее как невозможную. И из-за этой невозможности не видела очевидного. Просто у Блейза такой период, говорила она себе; но ведь он не может уйти из ее жизни, как не может уйти Дэвид. Сейчас ее задача только продержаться: в конце концов они поймут, как бесконечна ее любовь и ее вера в них обоих, и тогда это отчуждение пройдет. И Харриет молча страдала и ждала, но почему-то ее страдания были гораздо мучительнее и давались ей гораздо тяжелее, чем прежде.
– Мы берем вот этого, – сказала она служителю.
Корги был быстро отделен от своих менее удачливых собратьев и выпущен на волю. Люка бухнулся голыми коленками прямо в пыль, обхватил пса за шею и, млея от восторга, ждал, пока тот старательно вылизывал ему лицо. Харриет торопливо смахивала слезы, сдерживать которые уже не было сил.
– Как мы его назовем?
– Лаки Лючано.
– Кто такой Лаки Лючано?
– Так звали одного гангстера. Я тоже буду гангстером, когда вырасту.
Погода снова установилась. Перекинув пиджак через руку и все равно обливаясь потом, Дэвид шагал по Ричмонд-роуд. Белая рубашка приклеилась к спине, капли пота щекотно скатывались по бокам и животу.
Сегодня ночью ему снилось, будто он бродит один в безлюдных горах, где-то в Китае. Взбираясь по идущей круто вверх тропе, он вышел к огромному деревянному чану, в который стекала вода из горячего источника. В желтовато-мутной воде купалась обнаженная девушка. Но вдруг Дэвид с ужасом увидел, что скала над источником задрожала и стала медленно оседать. Послышался нарастающий шум, и обломки скалы, подпрыгивая и кувыркаясь, покатились вниз. Скоро ревущая лавина поглотила и чан, и тропинку – не осталось ничего, кроме груды камней, растерзанной земли да темной глубокой расщелины, из которой поднимались клубы пара.
Адрес Эмили Макхью Дэвид узнал без посторонней помощи, отыскал в старой записной книжке отца: вместо имени таинственное «ЭМ», рядом адрес и телефон. Сейчас, когда он шел по дороге, у него едва не подкашивались ноги от страха, волнения, тоски и еще каких-то чувств, названия которым он не знал. Он просто должен был видеть Эмили Макхью. О том, что произойдет, когда он ее увидит, Дэвид не имел ни малейшего представления. При всей ненависти к ней он не собирался ни упрекать ее, ни осыпать оскорблениями – это было бы совершенно бессмысленно. Просто хотел ее видеть – а там как получится. Наконец он свернул с Ричмонд-роуд в одну из боковых улиц и через несколько минут, миновав длинный, грязный, вонючий коридор, заваленный старыми коробками и детскими велосипедиками, остановился перед обшарпанной дверью. Его сердце бешено колотилось.
Дверь открыла миловидная медноволосая женщина в зеленом платье.
Некоторое время Дэвид смотрел на нее молча, чуть исподлобья, потом сказал:
– Я Дэвид Гавендер.
Почему-то только сейчас ему пришло в голову, что в квартире может оказаться его отец.
– Я не Эмили Макхью, – сказала Пинн.
Дэвид ощутил неимоверное облегчение.
– А она?..
– Ее нет. Я сейчас дома одна. Меня зовут Констанс Пинн. Слышал обо мне?
– Нет.
– Зато я о тебе слышала. Даже видела. Хотя в жизни ты гораздо симпатичнее, чем на фото.
Немного помолчав, Дэвид повернулся уходить.
– Постой, красавчик, погоди минутку. Зачем тебе Эмили?
– Ни за чем.
– Да не убегай ты. Я выйду с тобой. Зайти не приглашаю, в доме жуткий бардак. Подожди, я быстро.
Дэвид подождал.
Через минуту, набросив на себя зеленый, под цвет платья, жакет, она опять появилась на пороге, и они вместе зашагали по темному коридору к выходу. Дэвиду показалось, что ей почему-то ужасно весело на него смотреть; и действительно, пройдя немного, она вдруг залилась веселым смехом.
– Куда направляемся, красавчик?
Дэвид неопределенно махнул рукой.
– Ну так пойдем со мной. Я как раз сейчас иду в школу. Я работаю в школе для девочек. Ты хоть раз был с девочкой?
– Нет.
– Неужели не хочется?
Дэвид махнул рукой еще неопределеннее.
Машинально шагая рядом с Пинн, он чувствовал, как она берет его под руку, как тянет куда-то за рукав, – но не сопротивлялся.
– Ну как тебе отцовские шуры-муры?
Дэвид молчал.
– Не суди его слишком строго, – сказала Пинн. – Мало ли в какую историю может человек вляпаться. У тебя тоже не сегодня завтра начнутся разные истории. Сначала одна, потом другая, и так всю жизнь. Вам, молоденьким, этого не понять, а бывает, что и сам не заметишь, как вышло: соврал раз – приходится врать и второй. Любовь, знаешь ли, такая штука, без нее никак. Вот и выходит, что надо прощать. Надеюсь, ты к Эмили шел не счеты сводить?
– Нет.
– Ну и чудненько. У Эм, бедняжки, и так не жизнь, а сплошное дерьмо. Почти как у меня.
В этот момент они проходили вдоль высокой кирпичной стены. Неожиданно Пинн остановилась. В ее руках откуда-то оказался ключ, а в стене дверь, в которую они и вошли. За дверью был обширный огород, обнесенный со всех четырех сторон высокой кирпичной стеной.
– Что это? – спросил Дэвид.
– Чш-ш-ш! – зашипела Пинн. – Мы уже в школе. Говори тише! У нас тут нет мужчин, только несколько подсобных рабочих, и те приходящие. Мужской голос сразу привлечет внимание. Так что иди за мной и помалкивай. Хочу кое-что тебе показать.
За высокой стеной шум транспорта сделался приглушенным, как шмелиное жужжание. Они прошли по тропинке между грядками с роскошным нежно-зеленым салатом в дальний угол огорода и вышли через другую дверь. Тотчас до ушей Дэвида долетел новый, какой-то щебечущий звук – будто они приближались к вольере с птичками.
Теперь перед ними был не то большой сквер, не то маленький парк. Густая некошеная трава, слегка отливающая красным, вовсю колосилась. Чуть поодаль стояло два монументальных, непроглядных до черноты ливанских кедра, за ними вяз, казавшийся на их фоне салатно-зеленым, и еще какие-то деревья; дальше, полускрытый листвой, бледнел слегка покосившийся фасад старого, постройки восемнадцатого века, здания. Справа тянулись кусты бузины, все в тарелочках золотисто-кремовых соцветий. Вдоль кустов, у самой кирпичной стены, проходила тропинка, на которую, прижимая палец к губам, свернула Пинн. С каждым шагом птичий щебет становился громче.
Стена кончилась, они свернули за угол, и декорации опять сменились. Путь пересекала дорога, по которой, видимо, давно никто не ездил – сквозь гравий проросли чахлые цветочки; по ту сторону дороги темнела высокая живая изгородь из тиса с аккуратно выстриженным в форме арки проходом в середине. Пинн на цыпочках перешла через дорогу и увлекла своего пленника под тисовую арку. За аркой оказался свежестриженый газон, обнесенный со всех четырех сторон высокой и такой же свежестриженой тисовой изгородью. Прямо против арки, через которую они вошли, в изгороди темнела еще одна арка, а по бокам от нее две ниши с изваяниями: в одной стоял посеревший от времени Гермес – обнаженный, но в крылатых сандалиях и шлеме; в другой Артемида в короткой тунике вытягивала стрелу из колчана. Только сейчас Дэвид понял то, о чем, быть может, догадывался с самого начала: этот пронзительный, будто бы птичий, щебет на самом деле состоял из девичьих голосов. Теперь в нем уже можно было различить колокольчики звонкого смеха и отдельные взвизгивания. Не отставая ни на шаг от своей спутницы, Дэвид пересек залитый солнцем квадрат газона, миновал густую тень тисовой арки.
– Чшш!..
Пинн предостерегающе вцепилась ему в руку.
Прямо перед ними, отделенная от них неширокой полоской зеленой травы, стояла сплошная высокая стена из розовых кустов; из-за этой стены, усыпанной малиновыми цветами, и доносился сладостный щебет. Прежде чем снова потянуть его за собой, Пинн внимательно огляделась и только тогда скомандовала:
– Ну, теперь быстро за мной!
Отпустив его руку, она стремительной поступью Артемиды пересекла оставшееся до розовой стены пространство, потом неожиданно присела, сгруппировалась, как ныряльщица, и исчезла где-то внизу. Дэвид, задыхаясь, последовал ее примеру. Перед ним был длинный округлый лаз, вроде лисьего или барсучьего, ведущий в самую сердцевину розовой заросли. Пришлось встать на четвереньки и ползти; мешал пиджак, все еще болтавшийся на руке. Наконец ладонь Дэвида уперлась во что-то теплое и податливое: нога Пинн, догадался он. Кое-как протиснувшись, он оказался под невысоким куполом из толстых сплетенных стеблей – красноватых, шипастых и словно бы стекловидных. Здесь царил полумрак, пронизанный одуряющим розовым ароматом. Двое теперь стояли на четвереньках друг против друга, земля под их коленями была неожиданно рыхлая и влажная. Руку Дэвида обожгла запоздалая боль: видимо, продираясь, он зацепился за розовый шип. Девичьи голоса были совсем близко, и Дэвид, боясь, что частое прерывистое дыхание может выдать его, прикрыл рот ладонью.
Пинн придвинулась к нему ближе и, касаясь коленями его колен и заглядывая ему в лицо, взяла его обеими руками за запястья; тут же ее ладони скользнули внутрь, под мятые рукава его рубашки. Краем глаза Дэвид успел заметить, что ее маленькая рука с серебряными кольцами на двух пальцах выпачкана в крови, и понял, что кровь – его. Сияющее улыбкой лицо Пинн, круглощекое и круглоглазое, как клоунская маска, качнулось к нему; на миг ему показалось, что она хочет его поцеловать. Но она лишь прошептала:
– Ни звука! Я покажу, куда надо смотреть.
Извернувшись, она улеглась на землю плашмя и ловко ввинтилась в еще более узкий лаз между красными стеклянными стеблями, ведущий куда-то на ту сторону розовой заросли. Дэвид полез было за Пинн, но ее каблук неделикатно уперся ему в плечо: судя по всему, в этой малогабаритной норе не было места для двоих. Наконец, извиваясь, она вылезла обратно и тут же, схватив Дэвида за плечи, принялась заталкивать его в освободившееся отверстие. Он по-пластунски пополз вперед, где в просвете между листьями маячил солнечный свет. Но вот листва перед самым его лицом расступилась, и открылась другая, совершенно новая картина.
На переднем плане, полускрытый от Дэвида высокой травой, но все же вполне обозримый, виднелся водоем, выложенный потемневшим мрамором; в самом центре его высился внушительный, хоть и несколько обшарпанный барочный фонтан в виде скульптурной группы: Посейдон в окружении морских нимф. Водоем был размером с хороший плавательный бассейн, и сейчас в нем резвилось шесть или семь юных купальщиц – все гибкие, как рыбы, и все обнаженные.
После, прокручивая в памяти это почти мимолетное видение, Дэвид снова и снова поражался тому, что за какие-то секунды он успел разглядеть так много. Но в тот момент открывшаяся его взору картина лишь напугала его и причинила нестерпимое, как ему казалось, страдание: эти гибкие розовато-коричневые, проворно бьющие по воде руки и ноги, эти мокрые и беззащитные маленькие попки, не слишком привлекательно перечеркнутые бледными треугольничками бикини, такие же бледные маленькие груди – у некоторых еще только наметки грудей, – эти длинные мокрые пряди, темные от воды и липнущие к щекам, шеям, спинам. Много времени спустя, несмотря на тогдашние свои страдания, он мог во всех подробностях восстановить эту картину в памяти.
За водоемом располагался большой полуразрушенный портик. Плиты, которыми он был когда-то вымощен, растрескались и поросли травой; решетчатый забор, возведенный в качестве экрана перед колоннами, опутали плети цветущего клематиса. Справа от водоема тянулась густая и высокая буковая изгородь, слева забор – вдоль него тоже был высажен ряд буков, еще совсем молоденьких. Посейдон и компания, выполненные из известняка (облицовка водоема была тоже известняковая, это только в первый лихорадочный миг Дэвиду примерещился мрамор), потемнели и покрылись пятнами лишайника. Морской царь, увенчанный высокой зазубренной, местами щербатой короной, рассеянно глядел вдаль, а нереиды, рыбы, дельфины и прочая водяная публика льнула к его стопам, тщетно пытаясь привлечь внимание сурового повелителя. Одна нимфа с русалочьим хвостом поддерживала увесистого дельфина: видимо, в те далекие времена, когда фонтан функционировал, в каком-нибудь девятнадцатом или даже восемнадцатом веке, струя воды из дельфиньего рта извергалась прямо на бороду Посейдона, которая замысловато кучерявилась до самого пупа; от этого борода покрылась черными с прозеленью пятнами.
Судя по тонким стволикам только что высаженных вдоль забора буков, никаких других нимф, кроме известняковых, в водоеме до последнего времени не водилось. Водоем был неглубокий, явно не предназначенный для ныряния, но все же довольно большой: семь юных купальщиц (их было семь, впоследствии Дэвид припомнил совершенно точно) могли свободно перемещаться в нем, не мешая друг другу. Все слегка рисовались, каждая пловчиха старалась украсить свой кроль эффектными всплесками; да и детской возни с визгами и брызгами было достаточно. Купальщицы то и дело выкарабкивались из воды, закидывая длинные ноги на известняковый бортик, не слишком заботясь о том, как это карабканье выглядит со стороны. Одна из девочек – судя по комплекции, самая младшая – даже приспособилась съезжать со скользкого Посейдонова постамента (бывшей фонтанной чаши), как с горки, что и проделывала всякий раз со счастливым визгом, забрызгивая старших, более романтически настроенных подруг.
Сверху на Дэвида вдруг навалилось что-то горячее, тяжелое. Пинн, которой тоже хотелось посмотреть, каким-то образом протиснулась за ним следом и теперь, лежа на одном его плече и крепко обхватив другое, шептала что-то в самое ухо. Хотя шептать было необязательно: даже если бы она говорила в полный голос, купальщицы все равно бы не услышали ее из-за смеха и визга.
– Ну что, хороши? Взгляни-ка повнимательнее вон на ту – видишь, она сейчас как раз вылезает из воды. Это Кики Сен-Луа, мы с ней подружки. Вот персичек, правда? Она просила меня подыскать ей парня. Хочешь быть ее парнем? Ей семнадцать, но она всем врет, что восемнадцать, иначе ей бы не дали водительские права. Красотка, пальчики оближешь. И представь себе, до сих пор девственница! Остальные уже почти все успели переспать с мальчиками хоть по разу, а она все никак не решит, нужно ей это или нет. Взгляни, как она стоит, любуется собой…
Кики в эту самую минуту выбралась из воды и стояла, пожалуй, не слишком грациозно, слегка выпятив живот и перенеся всю тяжесть тела на одну ногу; вторая ее ступня без видимой цели шлепала по щербатому закругленному бортику. Одна рука была немного картинно отставлена в сторону (для равновесия), второй она только что деловито скрутила длинные мокрые пряди в жгут, старательно отжала их и перебросила через плечо. Одновременно она с видимым удовольствием и интересом осматривала собственные груди. Она явно любила загорать, но загар ее выглядел каким-то подозрительно темноватым, даже груди были коричневые. («Негры затесались среди предков», – шепнула Пинн.) Лицо в ярком солнечном свете казалось удивительно ясным и спокойным, даже задумчивым. У нее была очень нежная матово-коричневатая, как топленое молоко, кожа, довольно крупный нос и большие, широко расставленные глаза; больше всего к ней шло определение «волоокая», изобретенное в свое время Гомером в честь Геры. Волосы, быстро подсыхавшие на солнце, уже начали золотиться, и выяснилось, что они гораздо светлее, чем можно было предположить. Неожиданно она полуобернулась, и ее поразительные огромные, почти черные глаза сверкнули, словно прожигая ненадежное лиственное укрытие насквозь.
Но в эту самую секунду взгляд Дэвида скользнул с ее грудей вверх к лицу, и ему почудилось, что она смотрит прямо на него (глупость, разумеется). Горячая тяжесть навалившейся Пинн, из-за которой он вынужден был лежать не шевелясь, сделалась вдруг невыносимой. Не думая уже о том, услышат его или нет, он с силой отпихнул Пинн, рванулся, привстал и начал выдираться из тесной лисьей норы. На том конце шипастого тоннеля в глаза ударил яркий свет. Он бежал, не чуя под собой ног: под тисовую арку, сквозь стриженый квадрат газона, через дорогу с чахлыми цветочками, там за углом тропинка вдоль стены (два черных кедра справа), дальше дверь, потом огород с салатом, еще дверь – слава богу, незапертая! – и свобода. Здесь обычная городская улица, можно перейти на быстрый шаг. По странным взглядам, которыми окидывали его прохожие, он понял, что не только его рука, но и лицо выпачкано в крови. Он также понял, хотя и не сразу, что его пиджак остался лежать на земле, под розовыми кустами. Плоть его пылала, душа металась в путанице страстей. Он испытывал стыд. Страх. Яростный восторг.
– Я говорила, что тебе придется спуститься за мной в ад, найти меня там и оживить? – сказала Эмили.
Все у них было снова по-прежнему, только теперь к тому прежнему прибавились годы, страдания, которые они причинили друг другу, ужас разоблачения, страх потери – и все вместе стало глубже, крепче, сложнее и пронзительнее.
– Да, – пробормотал Блейз, опускаясь перед ней на колени.
– Я говорила тебе, что твое истинное «я» всегда со мной?
– Да.
Он потянулся – медленно, с наслаждением, как большой зверь, потом склонился и припал щекой к ее босой ноге.
– Господи, сколько я из-за тебя выстрадала. Сколько мы оба по твоей милости выстрадали.
– Да.
– Какой у тебя побитый вид. Весь побитый, не только глаз. Ну, ты сам все сказал, ты сам теперь все знаешь. Нельзя попасть в Зазеркалье, не порезавшись. Ты теперь это знаешь?
– Да.
Разрушительная сила, высвободившаяся три дня назад, продолжала свою работу. Она стала частью их силы и их знания, вдвоем они наконец начали обретать какой-то покой. Сначала Эмили говорила часами, Блейз слушал.
– Пусть она теперь страдает, ее очередь. Знаешь, я вдруг все про нас поняла. Черт, я ведь не желала ей зла – но кто знал, что она столько о себе возомнит? Прямо старшая жена в гареме, куда там. Она, видите ли, меня прощает, а я киваю как дура, соглашаюсь со всем, будто я какая-то преступница. Мы с тобой преступники, а она над нами самая главная – надо мной и над тобой, в общем кошмар. Заглянул бы ты тогда в зеркало, полюбовался бы на себя! Видочек – глупее не бывает. Как у нашкодившего мальчишки, которого пообещали высечь да в последний момент передумали. Тошно было смотреть, как ты ходишь перед ней на задних лапках, я чуть не свихнулась. А эти ее разговоры про то, какая я бедная и разнесчастная и что все это время ты ко мне относился плохо, но она заставит тебя относиться ко мне хорошо, – от всей этой ахинеи становилось еще хуже. Сначала я и сама была как пришибленная, но потом, слава богу, додумалась: нельзя же так, нельзя мириться с таким юродством во Христе. Ну хорошо, ладно, мне не нужна месть, я не хочу, чтобы она умывалась слезами. Но, черт возьми, у меня тоже есть права, и мне давно пора ими воспользоваться. А она пусть для разнообразия походит в бедных-несчастных.
Наконец гневные многочасовые излияния, которые Блейз выслушивал в мучительном и блаженном оцепенении, начали иссякать. Имя Харриет почти исчезло из их разговоров, упоминалось разве что в связи с какими-то практическими делами. О делах Эмили могла теперь рассуждать подолгу, с детской серьезностью и с удовольствием, и Блейз, слушая ее, переполнялся смиренной нежностью.
– Насчет твоей учебы: мы ведь не будем откладывать ее надолго, да? Я тоже хочу, чтобы ты стал настоящим доктором. Правда. И тебе совершенно не нужно из-за меня от чего-то в жизни отказываться.
– Ну, с этим пока все равно придется повременить. – Блейз, уже одетый и в галстуке, стоял перед Эмили на коленях и время от времени целовал подол ее юбки. – Посмотрим сначала, как у нас обернется с финансами.
– Погоди, дай я сяду, а ты клади голову мне вот сюда. Знаешь, все равно надо выехать из этой дыры как можно скорее. Для меня это важно. Как думаешь, та, новая квартира – не слишком большое транжирство?
– Нет, – сказал Блейз. – Новую жизнь надо начинать на новом месте.
– Хорошо. Это, как ты говоришь, психологически важно. Понимаешь, когда я увидела договор об аренде и под ним твою подпись, мне вдруг показалось, будто это мой сон сбывается – мы наконец женимся. Знаешь, мне столько раз снилось, что мне опять двадцать два года и что мы с тобой только что встретились и собираемся пожениться. Родной ты мой, ты даже не представляешь, какое это страдание невыносимое – знать, что мое место рядом с тобой, что я должна быть твоей законной женой, а быть столько лет непонятно кем!
– Да, малыш, – сказал Блейз. – Это было, и от прошлого я не могу тебя избавить. Но если придется страдать в будущем, знай, что я буду рядом и мы с тобой будем страдать вместе.
– Вместе. Отныне и навеки.
– Отныне и навеки.
– Новые занавески можно не покупать, сойдут и эти. Надо только для большой комнаты подобрать что-нибудь приличное, до пола. Миленький мой, ты, наверное, считаешь меня полной идиоткой! Тут столько всего происходит большого и важного, а я радуюсь из-за каких-то занавесок и из-за того, что у меня будет балкон и ванная с ковровым покрытием?
– Не считаю. В этом тоже любовь.
– Любовь – во всем. Знаешь, милый, я готова страдать сколько угодно, только бы ты любил меня по-настоящему и только бы был со мной. У нас будут друзья, да? Общие друзья, как у настоящей семейной пары? И они будут приходить к нам в гости?
– Да, конечно.
– Только не Монти Смолл и не тот толстозадый.
– Нет. Конечно нет.
– Послушай, по-моему, Люка вчера опять был у нее. Надо с этим как-то кончать.
– Ты права.
– Наверное, придется все-таки отдать его в пансион. Я устроюсь на работу. Для нас – для тебя, для Люки – я готова работать хоть до упаду, честное слово. Раньше мне казалось, что это никому не нужно, одна пустота кругом, вот я и обленилась, ничего не хотела делать. Думала, я уже тебя потеряла.
– Не потеряла, – сказал Блейз. – Ты это прекрасно знаешь. И всегда знала.
– Может, знала, а может, нет. Это сейчас связь с самым началом, когда мы только друг друга полюбили, кажется мне прочной. Будто любовь не прерывалась ни на миг, просто затаилась, ждала своего часа. А если там и было что-то плохое – я этого не помню.
– И я.
– А с Харриет вы будете иногда встречаться. И с Дэвидом, разумеется. Ничего, они привыкнут постепенно. Ты же не сгинул, не провалился сквозь землю. И я не хочу, чтобы они слишком страдали. То есть я вообще не хочу, чтобы они страдали, но кому-то ведь придется – раз ты у нас оказался такой умный!..
– Знаю, малыш…
– И ты теперь будешь мне верен?
– Да, Эм, да, милая…
– Все равно я буду следить за тобой, глаз не спускать.
– И не спускай, не надо. Мне это нравится.
– Ты ей правда напишешь сегодня вечером письмо? И покажешь мне?
– Да, и мы вместе пойдем на почту и отправим его.
– Так-то лучше, мой драгоценный.
Блейз притянул ее за обе руки к себе и начал всматриваться в пронзительно-синеглазое лицо. Счастливое и сияющее, оно казалось ему милее, чем много лет назад. К ней словно вернулась жизнь, вернулось все, что с самого начала так очаровывало Блейза, делало ее совершенно неотразимой. Он притянул ее еще ближе и закрыл глаза, чтобы насладиться вкусом поцелуя.
Все эти три дня он демонстрировал поразительную практичность и успел сделать массу полезных и нужных вещей. Он перебрал в Худ-хаусе все свои бумаги и документы. Подписал договор об аренде квартиры в Фулеме. Отменил встречи с пациентами и сообщил им, что будет теперь консультировать в городе. Он успел сделать все – кроме одного. Он не сказал Харриет, что он уходит. «Но я, собственно, не совсем ухожу, – убеждал он себя время от времени, когда на душе становилось особенно паршиво. – Это вопрос справедливости, я это сразу понял, в самом начале, когда еще мог рассуждать как здравомыслящий человек. Две женщины, и ни одну из них я не могу бросить. Значит, все должно быть по справедливости, то есть по очередности. Пришло время переложить основной груз на Харриет. Она выдержит, она сильная, этого у нее не отнять. Ее покой так и так уже нарушен. Она с Дэвидом будет жить в Худ-хаусе, а я буду приходить к ней, как раньше приходил к Эмили, – только чаще, разумеется, – но это будет честно, это будет открыто, так гораздо лучше. И вся ситуация будет гораздо лучше, а ведь это и есть самое главное? Конечно, боль при этом никуда не уйдет, просто перераспределится, но зато по справедливости. Как долго и как подло я открещивался от страданий Эмили – будто не замечал, не видел в упор. Разве не правильно, что теперь я стараюсь их хоть как-то возместить? История, конечно, ужасная, но я всегда знал, что она ужасная, в этом как раз ничего нового нет. И что тут можно сделать? Вывернись хоть наизнанку, а кому-нибудь все равно окажется плохо. Я просто выбираю меньшее из зол, и на то есть свои причины. Иначе разве смог бы я сделать Эмили такой счастливой? Это немало – подарить человеку счастье».
Ну ладно, а если не так, то как еще? – спрашивал Блейз у некоего, по всей видимости, тайного голоса, который словно бы по-прежнему был им недоволен и по-прежнему в чем-то обвинял. В чем? Может, в пошлости? Допустим, что он безнадежный пошляк; это что – грех? Или наказание за грех? Или то и другое вместе?
«Мило Фейн бесстрастно смотрел в дуло направленного на него пистолета. Палец на курке заметно дрожал.
– Не двигаться, – угрожающе сказал де Санктис. – Не двигаться!
Мило демонстративно повернулся к нему спиной и лениво, словно прогуливаясь, направился в другой конец комнаты. Смертоносное дуло опасно подрагивало у него за спиной, до стола оставалось еще два шага. В этот момент Мило отскочил в сторону; раздался выстрел. Пуля, не задев Мило, разнесла трюмо в дальнем конце комнаты, осколки брызнули во все стороны. Но почти в тот же миг рука Мило ухватилась за тяжелую бронзовую статуэтку. Не оборачиваясь, он швырнул статуэтку в своего врага („Нептун, усмиряющий морского коня?“ – с автоматизмом неисправимого книгочея успел подумать он) и сам метнулся следом с быстротой пантеры. Бронза угодила де Санктису в висок. Он рухнул без чувств, и секунду спустя Мило вновь завладел своим любимым маузером.
Секунду он стоял неподвижно, глядя сверху вниз на поверженного врага. Но времени не было. В руке Мило сверкнул нож. Брезгливо морщась, он нагнулся, оттянул носок над итальянской замшевой туфлей де Санктиса, оголил лодыжку и точным неторопливым движением рассек ахиллово сухожилие. Очнувшийся де Санктис испустил страшный крик, но Мило уже сходил по лестнице, вытирая кровь с руки белоснежным носовым платком. Закончив, он вынул из кармана плитку шоколада и принялся разворачивать обертку».
Монти, включивший телевизор ради новостей, сидел, зачарованно глядя в мужественное и бесстрастное, как всегда под перекрестным обстрелом телекамер, лицо Ричарда Нейлсворта. Из памяти будто нехотя выползали слова давно забытой книги. Монти выключил телевизор. Значит, новости уже прошли, просто он забыл завести часы, и они встали. Придется сегодня обойтись без маленьких радостей в виде наводнений, землетрясений, ограблений, казней, кровопролитных войн и убийств. Точнее, придется обойтись совсем без радостей.
Монти вышел из своей гардеробной на первом этаже (кроме стенного шкафа, в котором запросто разместилось бы несколько прерафаэлитских принцесс, здесь также стоял телевизор). Холл был завален невскрытой корреспонденцией – письма уже не умещались в чайных ящиках и потихоньку вываливались наружу. Проходя, он пнул один из ящиков ногой, и на пол излился целый бумажный поток: выражения соболезнования, просьбы о пожертвованиях, политические манифесты, неоплаченные счета, письма от поклонниц, письма от сумасшедших. У себя в кабинете Монти подошел к открытому окну. Снаружи было уже почти темно. Несколько летучих мышей над газоном выделывали тангообразные па; время от времени они совершали неожиданные броски в сторону окна, словно подначивая друг друга подлететь к Монти как можно ближе и коснуться крылом его лица. Постояв немного, он закрыл ставни и включил свет. Витражные вставки на шкафах блеснули тусклым металлическим отливом. При мистере Локетте они подсвечивались изнутри, но Монти находил цветные огни в комнате чересчур претенциозными. Софи, правда, устраивала иногда цветную иллюминацию – нарочно, чтобы его подразнить. Днем было жарко, но сейчас на Монти повеяло чуть ли не холодом, будто с наступлением темноты Локеттсом начал завладевать стылый мрачноватый дух. Монти разжег огонь в обложенном мозаикой камине, как часто делал летними вечерами, – и поежился. Еще недавно эта маленькая комнатка действовала на него успокаивающе. Теперь покоя не было, сердце сжимал ставший привычным страх за собственный рассудок.
Монти дотянулся до лежавшего на столе письма (за целый день он так и не удосужился его прочесть) и вскрыл конверт. Письмо было от матери. Обычные любовные излияния и обещания скорого приезда – как всегда, без указания точной даты. Вполне в духе миссис Смолл: ничего не предпринимать, зависнуть над жертвой этакой пустельгой и наблюдать, дожидаясь удобного момента. Мать явно опасалась приехать слишком рано. Монти без труда прочитывал все ее опасения – не в словах на бумаге, а в собственной душе, в той ее части, в которой они с матерью были одно. Под письмом миссис Смолл оказалось письмо от Ричарда Нейлсворта: очередное приглашение приехать на виллу в Калабрии. Вспомнилось лицо Ричарда, нервное и уязвимое без суперменской маски Мило. Нет, только не Калабрия, подумал Монти. Письмо от Ричарда он смял, письмо от матери не спеша разорвал в мелкие клочья, то и другое бросил в огонь.
Вот уже четыре дня Монти сидел дома затворником. К нему никто не приходил, лишь изредка забегала на минутку Харриет, но и она почти не разговаривала, выглядела расстроенной. Телефон по-прежнему молчал. Вроде бы должен был появиться Эдгар, сообщить о результатах добровольно взятой им на себя миссии, но не появлялся. Монти это, как ни странно, задевало. Тщетно он выглядывал в окна, проверял, не припаркован ли где-нибудь на обочине солидный «бентли» Эдгара. Хемингуэевский Старик явно обиделся на его идиотское прощальное замечание. Монти даже подумывал, не извиниться ли ему, но решил, что не стоит. Да и где искать Эдгара, чтобы извиняться? Чем он сейчас занимается? Коротает время в своем лондонском клубе? Или в Мокингеме – руководит разрушением уродливых теплиц, возведенных его садолюбивой матушкой? Монти даже разыскал в справочнике телефон Бэнкхерста, но пока не звонил. И все же это была хоть какая-то зацепка. Ведь можно, думал Монти, можно заставить себя взяться за эту работу. А оказавшись перед необходимостью вести себя как нормальный человек, он, совершенно не исключено, и поведет себя как нормальный человек. О том, чтобы писать, сейчас не могло быть и речи. Выжить бы как-нибудь – вот о чем надо думать. И помощи ждать неоткуда.
Конечно, оставались в жизни какие-то спасительные вечные истины: честность, аскетизм, самодисциплина – но даже эти истины казались ему, в его отшельничестве, ненастоящими. По-прежнему он пытался медитировать, но раз от раза попытки становились все более формальными, пустыми; это пугало. Тайные пространства, дарившие ему когда-то покой, тишину и пустоту, съеживались и выворачивались наизнанку. Он прибегал к стандартным приемам – считал вдохи-выдохи, но простые цифры вдруг вырастали в его мозгу до огромных размеров, обретая загадочный, невразумительный смысл. Хотелось лечь на пол и рыдать, но источник слез, видимо, иссяк навеки. Неудивительно, что он ждал Эдгара. Он был рад сейчас кому угодно, любому человеческому обществу. Но искать чьего-то общества, шевельнуть ради него хоть пальцем – к этому он не был готов.
Монти завернулся в белое меховое покрывало, стянутое с кресла, и уже собрался выпить снотворное и идти спать, когда раздался дверной звонок. Тут же кто-то забарабанил молоточком по входной двери. Судя по всему, человек за дверью был в отчаянии или чем-то сильно напуган. Монти поспешил в холл, включая на ходу свет, и распахнул дверь. Харриет (это была она) молча прошла мимо него в освещенный кабинет. На голове у нее была кашемировая шаль, повязанная как платок. Монти достаточно было мельком взглянуть на ее лицо, чтобы понять, что случилось. Возможно даже, что все эти четыре страшных дня он ждал, когда это случится.
В кабинете она, не говоря ни слова, вручила ему письмо и тихо села. Монти, стоя под лампой, начал читать:
Милая Харриет!
Я должен тебе кое-что сообщить и прошу тебя принять это с тем великолепным мужеством и пониманием, которое мы все находили в тебе до сих пор. Я собираюсь переехать к Эмили и жить с ней. Эдгар был прав: пора выбирать. Я не могу жить с вами обеими. С другой стороны, теперь, когда все вскрылось, я, как выяснилось, уже не могу требовать от Эмили, чтобы она по-прежнему довольствовалась крохами. Она и без того достаточно настрадалась. Я просто обязан теперь предоставить ей и Люке настоящий дом – и быть с ними в этом доме всегда или почти всегда. Боже, если бы можно было разорваться на две части – но увы! Худ-хаус, во всяком случае, есть и будет, с ним ничего не случится, и я, конечно же, буду приходить, навещать вас с Дэвидом. Я уверен, что ты справишься с домом и без моей помощи – и целиком полагаюсь на тебя. Ты сделаешь это ради Дэвида, а также потому, что ты, в некотором смысле, святая. Милая, умоляю тебя, прими все как есть и помоги мне наладить нашу жизнь по-новому. Когда первое потрясение пройдет, ты увидишь, что в этом нет ничего невозможного. Или – или: или менять свою жизнь, или втягиваться глубже в хаос и насилие. Ты ведь и сама не выберешь второе? Для себя я уже все решил и уверен, что поступаю правильно. Мой долг теперь – быть с Эмили, которая терпеливо страдала все те годы, что ты была счастлива. Только не думай, милая, что счастья больше не будет, ведь я никуда не делся и не денусь. Просто в этой новой жизни нам как бы придется заново узнавать и заново учиться любить друг друга. Я знаю, что ты постараешься мне помочь, и благодарю тебя за это всем сердцем. Мы с Эмили будем жить в Фулеме, переезжаем уже сегодня (сообщаю это на всякий случай, чтобы ты не пыталась искать нас в Патни). Думаю, будет лучше, если какое-то время мы с тобой не будем встречаться. Нам обоим нужно время, чтобы в полной мере оценить произошедшее. Сейчас я пишу тебе эти слова, такие ужасные в своей необратимости, и чувствую себя безмерно несчастным. Помнишь, в тот день, когда я во всем тебе признался, ты сказала: «Я люблю тебя. Я хочу тебе помочь. Как же иначе?» О, если бы ты смогла произнести те же слова теперь, когда я взвалил на тебя эту новую, еще более тяжкую ношу! По-прежнему ты, и только ты можешь спасти нас всех. Ты должна это сделать, непременно сделаешь. Мой выбор совершенно обдуманный. Я сознаю, как все это ужасно, сознаю, что совершаю преступление. Но я так или иначе оказываюсь преступником, и моя задача сейчас – выбрать меньшее из зол. Постарайся понять справедливость моего выбора и простить. Нам обоим, мне и тебе, надо учиться быть сильнее, чтобы суметь все это пережить. Поверь, милая, для меня это так же мучительно, как для тебя. Больше писать сейчас не могу. Прости меня и оставайся хранительницей всего самого лучшего, что было в нашей жизни. Ты – святая.
С любовью,
Б.Р. S. Еще одна вещь – надеюсь, ты отнесешься к ней с пониманием. Естественно, что Эмили хочет наладить наконец свои отношения с Люкой, тем более что время безотцовщины для него прошло. Мы собираемся перевести его в новую школу (не в ту, о которой мы с тобой говорили, в другую). Нужно, чтобы он как можно скорее приспособился ко всем переменам, почувствовал, где его дом. Так что, пожалуйста, не тревожь его и не пытайся больше с ним встречаться. Ты должна признать, это делается ради его же благополучия. Письма можно присылать по известному тебе адресу в Патни, оттуда их перешлют нам.
Милая, прости… мне жаль, что так вышло.
Монти медленно и внимательно дочитал излияния Блейза до конца и поднял глаза. В первую же секунду, как только Харриет вошла, он понял, что она на грани истерики, а сейчас разглядел следы слез. И все-таки она не производила впечатления женщины, обезумевшей от горя.
– Ну, что ты обо всем этом думаешь? – спросила Харриет.
Она задала ему этот вопрос совершенно спокойным тоном, и Монти вдруг ощутил, что между ними существует некое подобие близости; от этого ему сразу стало гораздо легче. Пожалуй, в качестве успокоительного горести Харриет действовали на него гораздо эффективнее, чем мировые катаклизмы из телевизионных новостей.
– Это все серьезно? – осторожно спросил Монти.
– Разумеется, серьезно.
– Я хочу сказать, он не прибежит через день-другой обратно к тебе? Мол, прости, вот, решил вернуться. Я что-то сомневаюсь, что он долго без тебя протянет.
– Не прибежит, ему сейчас некогда. У них опять любовь. И ему надо вешать занавески в новой квартире.
Монти изумленно смотрел в ее строгое, сдержанное лицо – и не узнавал его. Интересно, сколько еще сюрпризов намерена преподнести ему эта замечательная женщина? Перед ним стояла как будто не сама Харриет, а ее дальняя родственница: черты те же, но выражение лица совсем другое, незнакомое.
– Он сейчас рад-радехонек, – сказала Харриет. – Все, отделался наконец. Скинул с себя тяжкое бремя. Теперь полная свобода.
– Но он же говорил, что уже не любит ее.
– Врал. Или заблуждался. А может, она просто заставила его выбирать. В общем, не важно – главное, что это в конце концов случилось. Он выбрал.
Глядя на эту новую Харриет, осунувшуюся и прекрасную, Монти поймал себя на том, что уже не пытается искать в ее горе утешение для себя. Переменив тон, он спросил:
– Что собираешься делать?
– Не знаю пока, – сказала Харриет.
– Не хочешь съездить в Патни? Возможно, они еще там.
– Я думала об этом, – сказала Харриет. – Письмо пришло примерно час назад, и мне как-то сразу подумалось: взять бы сейчас такси, поехать туда и устроить им… ну, что-нибудь устроить. А потом я решила – зачем? Все стало как-то… безразлично.
Да, это видно, подумал Монти. Знала бы ты, как это безразличие тебе идет.
– Ну, это ненадолго, – сказал он. – Ты просто еще не совсем понимаешь, что произошло. Потом поймешь. Когда начнется отдача.
– Знаю. Но я уже могу думать. И успела кое-что для себя решить.
– И что ты решила?
– Это письмо, – сказала Харриет, – просто мерзость. Оно написано злым, безнравственным человеком.
– В этой безнравственности нет ничего нового, – сказал Монти. – Он, может, и сам хотел бы из нее выпутаться, да никак. А насчет справедливости – согласись, в его рассуждениях есть здравое зерно.
– Возможно. Но все-таки от безнравственности люди меняются. И я тоже… Монти, ты не нальешь мне немного виски?
Монти сходил за бутылкой и стаканами, налил Харриет и себе. От первого глотка она слегка содрогнулась, но взяла себя в руки.
– И как же меняешься ты? – спросил Монти.
– Я не собираюсь «справляться», как он выразился, с Худ-хаусом, – сказала Харриет. – Он думает, что он как бы вышел на минутку, а мы с Дэвидом должны сидеть дома и покорно ждать, когда ему вздумается почтить нас своим посещением? Этому не бывать. Я ни минуты не буду больше смотреть за этим домом. Отопление я уже отключила. Все, с Худ-хаусом покончено.
«Ах какая ты умница!» – подумал Монти. Вслух сказал:
– Не стоит так спешить, Харриет. Может, завтра утром Блейз еще приползет на коленях, будет проситься обратно.
– Пусть себе приползает, хоть сейчас. Дома уже никого не будет.
– Как – никого? Куда же ты собралась на ночь глядя?
– Сюда.
– Сюда? То есть в Локеттс?
– Да… если ты не против. Знаешь, я просто не могу больше находиться в Худ-хаусе, я должна бежать оттуда немедленно – куда угодно. Я понимаю, конечно, что убежала недалеко, но так уж вышло. Твой дом – единственное место, куда я могу прийти в любой момент.
– А как же Мокингем? – спросил Монти.
Мысль о том, что эта новая, незнакомая Харриет намерена переехать к нему, вселяла в него сложные и неоднозначные чувства.
– А, Эдгар… Он мне очень помог. А сейчас он, кстати, помогает Дэвиду укладывать чемоданы.
– А что, Дэвид… укладывает чемоданы?
– Ну да. Он тоже не намерен оставаться дома. Так ты правда не против? Понимаешь, Мокингем не годится. Ты наш старый друг, мы знакомы уже сто лет. Выбери я Мокингем, Эдгар мог бы вообразить невесть что… а у меня даже в мыслях нет…
– А ты не боишься, что я могу что-то вообразить?
– Разумеется, нет. Монти, только ты в силах помочь нам с Дэвидом – никто, кроме тебя. Я… ты не представляешь, сколько во мне решимости… Мне, конечно, сейчас очень плохо и очень страшно – но я все ясно вижу и знаю, что мне нужно. Я готова брать твой дом приступом, если понадобится.
– Считай, что уже взяла, – сказал Монти.
– Спасибо. Я знала, что ты это скажешь. Эдгар с Дэвидом скоро придут. Ах, Монти, какое это ужасное, просто отвратительное письмо… И насчет Люки… Нет, Монти, Люку я им не отдам.
– Харриет, будь благоразумна! Как ты…
– Не знаю как. Но уж как-нибудь постараюсь. Я многое могу дать этому ребенку. Его родители – они ведь даже не умеют с ним разговаривать. А я умею. Он меня любит. И они не станут требовать, чтобы…
– Станут. Они его родители.
– «Они», «они» – опять «они»!
– Успокойся, Харриет.
– Блейз не знает, какая я на самом деле, иначе он ни за что бы не посмел мне такое написать.
– Возможно, ты и сама не знала, какая ты на самом деле.
– Ну да, у меня же не было в жизни таких испытаний…
– Постой, Харриет, послушай меня минутку. Блейз говорит, что ты хранительница, что ты святая и так далее. Подумай, может быть, так лучше для всех – и для тебя тоже? Как бы ты сейчас себя ни чувствовала, как бы ни сходила с ума, но, может, тебе надо оставаться святой? Все вынести, искупить все их грехи… включить отопление, в конце концов? Помнишь, как идеально ты держалась с самого начала?
– Помню, только святость тут была ни при чем. Это не святость, а сила, стремление подчинить – неудивительно, что Эмили это не понравилось… Мне казалось, я все могу решить, все устроить… И так хотелось утешить Блейза… думала, ему это нужно. Ах, Монти, как же так вышло, а?..
Шагнув к Монти, Харриет взяла его за обе руки. Снова звякнул дверной звонок.
На крыльце под фонарем стояли Дэвид, Эдгар и несколько чемоданов. Монти едва сдержался, чтобы не расхохотаться.
– Входите, входите. Харриет уже здесь, она мне все объяснила.
Главное, без лишней бравурности, напомнил он сам себе; все и правда ужасно.
Дэвид, бледный, с каменно-неподвижным лицом, уже вносил чемоданы. Эдгар строго глядел на Монти.
– Извини, я нес тогда совершенный бред, – сказал Монти. – Не знаю, что на меня нашло. Пожалуйста, прости меня.
Лицо Эдгара тут же расплылось в блаженной улыбке, – вероятно, он держал ее наготове, лишь слегка прикрыв напускной суровостью. Эта неожиданная смена выражения напомнила Монти прежнего Эдгара – розовощекого, светловолосого, страшно стеснительного и страшно умного.
На пороге кабинета появилась Харриет. Она смотрела на вновь прибывших несчастными, трагическими глазами и, кажется, опять собиралась заплакать.
– Ну вот, Харриет, – поспешно объявил Монти, – ты у себя дома. Думаю, дальше вы тут уже без меня разберетесь, Дэвид с Эдгаром тебе помогут. Простыни, постели… в общем, найдете все, что нужно. Комнаты выбирайте, какие хотите, кухня тоже в вашем распоряжении. А я пойду.
– Как? – воскликнула Харриет. – Монти, умоляю тебя, ты что, совсем уходишь?
– Нет, просто хочу немного пройтись.
Монти выскочил за дверь и чуть не бегом припустил в сторону калитки. На улице уже стемнело, но небо еще голубело вечерней голубизной, сквозь которую просвечивали только самые крупные звезды. Услышав за спиной быстро приближающиеся шаги, Монти резко обернулся – и Дэвид с разбегу налетел прямо на него. От неожиданности оба вцепились друг в друга.
– Монти, вы не бросите нас? – не разжимая пальцев, спросил Дэвид. – Правда, не бросите?
– Нет, конечно. Куда я, по-твоему, могу деться?
– Да куда угодно. В Китай.
– Я не еду в Китай, – сказал Монти.
Монти выругался про себя, безуспешно пытаясь поддеть гнутый гвоздь соскальзывающим клювом молотка. Он чувствовал себя безруким и ни на что не годным. Было почему-то до нелепости страшно: вдруг он не справится? Он уже отодрал от забора между Худ-хаусом и Локеттсом одну доску и сейчас сражался со второй. Собаки, для которых предназначался будущий проход, насмешливо скалили клыки, наблюдая с той стороны за его усилиями. Каждый новый удар молотка сопровождался заливистым лаем. Черная лохматая морда Ганимеда уже просунулась в щель. Монти в сердцах пнул доску ногой, собаки отскочили. Наконец нижняя часть доски расщепилась надвое, и собаки, начиная с самых маленьких, стали просачиваться в сад.
Он уже позвонил в Бэнкхерст и договорился, что приедет на собеседование в пятницу (по телефону с ним разговаривала секретарша Бинки). Таким образом, шаг был сделан, план спасения начал из мечты превращаться в действительность, хотя облегчения это не принесло. Он никак не мог оживить в себе ощущения, которые изначально связывались у него с понятием «настоящая нормальная работа». Мысль о том, что он должен выдержать это новое испытание, не вызывала особого подъема. Ясно было только одно: в какой-то момент он принял решение выбраться из скорлупы и окружить себя простыми и обязательными вещами. Эти вещи должны были стать частью его очищения от Мило и избавления от Магнуса. Было также ясно, что, если оставить все как есть, с ума он, пожалуй, не сойдет, но не исключено, что с ним произойдут другие, еще худшие изменения. Вторжение нежданных гостей нервировало его, и он избегал их общества, насколько это было возможно. Собственные переживания казались ему ничтожными, но отделаться от них он не мог – выходит, за столько лет так ничему и не научился.
Он почти перестал спать, но, когда забывался, по-прежнему видел сны. Сегодня ночью ему снилась Софи. Он лежал в своей постели, только постель почему-то превратилась в длинный узкий ящик с деревянными стенками. Софи, освещенная огнями рампы, молча прошла мимо. Она была одета в подвенечное платье. (На самом деле у нее никогда не было подвенечного платья, в день бракосочетания она забежала «расписаться» с Монти будто между делом; зато миссис Смолл, в отличие от нее, с самого дня свадьбы хранила свой подвенечный наряд тщательно упакованным в черную оберточную бумагу.) Так Софи не умерла, подумал Монти, просто она теперь немая. Да, нелегко, наверное: с ее-то острым язычком – и всегда молчать! В этот момент Софи взглянула на него; блеснули, как ему показалось, ее очки – только это были не очки, а непомерно большие слезы, сверкавшие вокруг ее глаз наподобие чешуи. Когда Софи уже прошла, Монти с ужасом заметил, что она не одна, по пятам за ней следует епископ в темно-красных бриджах до колен – тот самый, но только вместо деревянной ноги у него каким-то образом успела отрасти настоящая. Шествуя мимо, епископ повернул голову и улыбнулся Монти заговорщицкой улыбкой.
Пока Монти пинал ногами забор и припоминал свой сон, Эдгар и Харриет сидели у него в мавританской гостиной, увлеченные беседой. Харриет будто загипнотизированная следила за тем, как большим чистым носовым платком Эдгар старательно стирает с ее руки слезу, только что уроненную им самим. Ей было странно, тревожно и жаль Эдгара. Только что он по всем правилам сделал ей официальное предложение руки и сердца. Предложение она, разумеется, отклонила, сославшись на то, что она замужем, но все же это было очень трогательно и в некотором смысле утешительно.
– Я понимаю, – говорил Эдгар, по-прежнему не отпуская ее обернутую платком руку, – но я просто должен был внести ясность. Словом, то есть, если когда-нибудь в будущем я тебе понадоблюсь, знай, что я целиком и полностью твой.
– Ах, Эдгар, что ты такое говоришь! Я совершенно не хочу, чтобы ты был моим! Я не хочу, чтобы ты стал несчастным.
– А я и не собираюсь становиться несчастным! Понимаешь, мне нужна женщина, которую я мог бы любить. Помнишь, мы с тобой все это уже обсуждали. Я любил Софи. Теперь вот люблю тебя. И это прекрасно, что ты есть. Больше мне ничего не надо, но я ведь не могу запретить себе надеяться. Хотя бы на то, что ты приедешь в Мокингем. Просто так – пусть даже меня там не будет.
– Но, Эдгар, милый…
– Мы уже обсуждали: неразделенная любовь – а другой я никогда не знал, – так вот, если она абсолютно безнадежная, то она уже получается не совсем неразделенная… Это как любовь к Богу, просто любишь Его – и все. Даже если Его вообще нет.
– Но я-то есть.
– Любовь обязательно возвращается. Она проходит сквозь предмет любви и возвращается.
– Тогда получается, это любовь к самому себе?
– Да нет же, совсем нет! Я желаю тебя. Я страстно тебя желаю. Ты разве не чувствуешь?
– Н-не вполне.
– И ты легко можешь мне помочь – помнишь, как Афина помогла Гераклу удержать на плечах небесный свод?
– Ого, ничего себе «легко»!
– Так ведь богиня! И это и есть моя награда за любовь. Даже если больше у меня ничего нет и не будет.
– Но вот же, у тебя есть моя рука.
Эдгар тяжко вздохнул. Потом, осторожно выпростав пальцы Харриет из кокона носового платка, поцеловал их и отпустил. Харриет почувствовала, как ее рука опять оросилась слезами. Сумасшедший дом, подумала она.
Предсказанная Монти «отдача» наступила очень скоро. Священный гнев, побудивший Харриет отключить отопление в доме и произнести свое «с Худ-хаусом покончено», испарился без следа, силы куда-то делись, и состояние ее духа опять изменилось. Она теперь чувствовала себя так, будто у нее отняли руку или ногу, и тосковала по Блейзу непрерывно, каждую минуту. Ночью она мучилась своей ущербностью, днем бродила как неприкаянная, стремясь всей душой к нему. Ни о каких решениях больше не было речи. О возвращении в Худ-хаус не думалось. Хотелось сделать что-нибудь, чтобы вернуть Блейза, но ничего не приходило в голову. Сам он молчал, не давал о себе знать. Видимо, ждал, чтобы она вполне осознала окончательность его ухода. Чувство жестокой несправедливости не прошло, но стало каким-то смазанным и неясным. Ну и что дальше? – спрашивала она себя. Что она должна делать теперь? Например, как мать она, конечно же, должна помогать сыну. Она предложила Дэвиду съездить вдвоем в Париж, но не совсем поняла из его ответа, хочет он ехать или нет, а на то, чтобы взять решение вопроса на себя, ее не хватало. Больше всего ей сейчас нужен был Монти, его сочувствие и его сила. Но Монти, при всей его неизменной вежливости, все больше отдалялся от нее и замыкался в себе. Она также тосковала по Люке, но и от Люки не было вестей. Увы, его отняли у нее и окружили каким-то отвратительным новым распорядком, о котором она ничего не знала и не пыталась выяснить.
Монти снова снился сон. Была ночь, он лежал в своей постели, а над ним, у самой его кровати, стояла высокая женщина в бледных одеждах – другая женщина, не Софи – и разглядывала его недобрыми сверкающими глазами. Он был жертва, намеченная для приношения, а она жрица. Жрица прикидывала, как лучше всего распорядиться его жизнью. Ему назначено было медленное умирание, такое, чтобы жизнь вытекала по капле. Монти пытался двинуться, но его сковал знакомый нелепый страх – как сегодня днем, когда он неумело выковыривал из забора гнутые ржавые гвозди. Кое-как он повернулся на бок и вдруг понял, что это не сон. В окно светила луна, у его кровати действительно стояла женщина, которая разглядывала его очень внимательно. Монти дернулся, щелкнул выключателем. Вспыхнул свет.
– Привет, – сказала Пинн.
Монти быстро встал, тщательно задернул шторы. Потом надел халат и, сунув руки в карманы, стал молча разглядывать гостью. На Пинн был длинный желтый дождевик, ее лицо горело сдерживаемым волнением, на губах подрагивала нервная улыбка.
– Не возражаете, если я закурю? – Она уже сидела на его кровати. – Нет? Ну и славно. Тогда можно я возьму эту симпатичную вазочку под пепельницу?
Не отвечая, Монти смотрел, как она прикуривает.
– Так я и думала, что ваша спальня должна быть здесь, – продолжала Пинн. – Вообще-то, я не собиралась являться в такой поздний час. Хотя, собственно, еще не очень поздно. Я была уверена, что застану вас на ногах. Хотела звонить, смотрю – дверь в гостиную настежь. Ну и не удержалась. Знаете, как это увлекательно – будто я какая-нибудь грабительница. А вы неплохо смотрелись в объятиях Морфея.
Монти сел на стул и продолжал разглядывать ее молча.
– Кажется, в соседнем доме тоже все улеглись баиньки.
– В соседнем доме никого нет, – сказал Монти. – Все здесь.
– Вот как. Интересно, что бы это могло значить? Какой-то вы сегодня молчаливый. Даже не спрашиваете, зачем я пришла.
– Полагаю, вас прислал Блейз – выяснить обстановку.
– Да, конечно. Блейз. Мы с ним прекрасно понимаем друг друга, просто мысли читаем. Считайте, что я его наемный убийца. Кстати, могла запросто вас прикончить, если б захотела. Зря вы оставляете двери открытыми. Блейзу ужасно хочется знать, как здешнее население относится к его злодеяниям. Конечно, прямо он этого не говорит, но я и без слов понимаю. Между прочим, он обещал одолжить мне небольшую сумму на покупку квартиры.
– А у них там как дела? – спросил Монти.
– Рада, что вы тоже проявляете любопытство. Не возражаете, если я скину плащик? Там у них все просто восхитительно. Милуются, как два голубка. Она так счастлива, я никогда еще не видела, чтобы женщина так млела. Распевает с утра до вечера. От новой квартиры она в совершенном восторге, а как купила себе скатерть – чуть не расплакалась от умиления.
– А он?
– Он, конечно, тоже счастлив, но не совсем еще оторвался от реальности. Вот и пытается что-то разузнать.
– Он окончательно решил жить с Эмили Макхью?
– О да! Если не случится ничего непредвиденного.
– А что может случиться?
– Точно не знаю. Но с этим как раз связана вторая причина моего сегодняшнего визита.
– Какая же?
– Хочу выяснить, на чьей вы стороне.
– Я ни на чьей стороне, – сказал Монти. – Я просто в стороне.
– Не верю.
– А вы, насколько я понимаю, хотели бы, чтобы у них ничего не вышло?
– Ну, мы же с вами можем быть откровенны, правда?
– Вы не ответили, – сказал Монти.
Помолчав немного, Пинн сказала:
– Мне надо было родиться мужчиной. У меня было бы восемь сыновей, и я бы правила… вернее, правил ими железной рукой. Я как-то читала про шейха, у которого было восемьсот сыновей, и все на лошадях – представляете? Хотела бы я быть этим шейхом.
– Скажите Блейзу, если он хочет выяснить что и как, пусть придет и поговорит с Харриет.
– А она такая же вся насквозь праведница?
– Я не знаю, какая она вся насквозь.
– А хотите узнать?
– Простите?
– Хотите забрать Харриет себе?
– Нет.
– Жаль, что я не могу заглянуть в ваши мысли.
– Там нет ничего интересного, – сказал Монти. – А теперь, пожалуйста, уходите, я хочу спать. И постарайтесь не шуметь, когда будете спускаться по лестнице.
– Ну зачем быть таким холодным, – сказала Пинн. – Неужто в вас нет обычной человеческой жалости?
– С чего я должен вас жалеть? Пожалуйста, уходите.
– С чего жалеть? Да уж есть с чего. Знали бы вы…
Она вдруг начала расстегивать свою блузку. Под застежкой обнаружилась сначала веснушчатая шея, потом черный кружевной лифчик. Не сводя глаз с Монти, она отвела руки назад, и блузка упала на пол за ее спиной.
– Перестаньте, – сказал Монти. – Вам непременно хочется внушить мне отвращение? Прекратите унижаться и уходите.
– Наконец в вашем голосе прорезались хоть какие-то живые нотки. Я уже начала беспокоиться, не зомби ли вы.
Она сидела, глядя прямо перед собой, густая краска разливалась по ее лицу и шее.
– Послушайте, чего вы от меня хотите? – спросил Монти. – И оденьтесь, прошу вас.
– Чего хочу? Хочу напугать вас. Я уже это сделала. Сознайтесь, великий человек, нагнала я на вас страху? Хочу, чтобы вы смотрели на меня. В моей жизни не много радостей, пусть будет хоть эта. Жаль, что Харриет нас не видит. Может, позвать ее?
Монти встал, сделал несколько шагов – и в ту же секунду Пинн исчезла для него, он забыл о самом ее существовании. В высоком зеркале перед его глазами отразилась Софи – плачущий призрак в подвенечном платье.
– Не сердитесь на меня, – послышался откуда-то сзади голос Пинн.
Монти отошел от зеркала, Софи скрылась.
– Оденьтесь, – повторил он.
– Все равно вы знаете, что я люблю вас, – сказала Пинн, натягивая блузку. – И вы знаете, что я ваша – в любой момент, как только вы меня захотите.
– А мне казалось, вы влюблены в Эмили Макхью.
– Возможно, хотя я не уверена, что это кошмарное чувство можно назвать любовью. А вот вас я люблю – это я знаю точно. И вы единственный из всех знакомых мне мужчин достойны меня. Я чувствую в вас родственную душу. Да, мы с вами родственные души, и вы тоже это понимаете.
– Говорите тише, пожалуйста.
– Боитесь все-таки, что Харриет услышит! Не понимаю, как можно вообще питать какие-то чувства к этой слезливой бабе?
– Простите, но мне нечего вам ответить. И мне неинтересно, что еще вы имеете сказать.
– Боже, какие мы холодные! Ничегошеньки себе не позволяем, даже ради интереса, ни-ни! Кровь, случайно, не рыбья? Понятно, почему вы так ничего и не сотворили, кроме никудышных детективчиков. Зато постелька у вас тепленькая, так я раздеваюсь – и под одеяло? Вы же меня хотите, я вижу! Ну вот, я ваша. Вам повезло. Рассказать вам про мою жизнь?
– Спасибо, не надо. Просто уйдите.
– Да что вы вообще знаете о настоящей жизни? Вы не знаете, как это тоскливо, когда кругом одни подонки и сам ты никому не нужен. И что такое по-настоящему страшно, понятия не имеете! Так я вам расскажу – хотите вы или не хотите. Пусть хоть что-нибудь отложится в вашем рыбьем мозгу. Я буду знать, что вы видели мою грудь и слышали про моего брата, – это меня немного утешит.
– Про какого брата?
– Про моего. У меня есть брат, на два года младше меня. Он дурачок. Мой отец ненавидел его и каждый день бил – на моих глазах. И так все мое детство. Все время бил по голове, нарочно по голове, чтобы он ничего не мог соображать. А мать – что мать, ее к тому времени и след простыл. Так вот, брат мой, когда пошел в садик, был совершенно нормальный, умненький ребенок. Но к двенадцати годам он уже был готов, отец его добил. Бил, бил, бил – и добил, вышиб из него мозги. А знаете, какой он красивый, я таких в жизни не видела. Его не стригут, разрешают носить длинные волосы. Высокий, статный – прямо писаный красавец. Только совершенно глухой и умом как малое дитя. В уборную и из уборной его водят за ручку. Я езжу к нему раз в месяц, но он меня не узнает. И никого не узнает. Такой красивый дурачок. А отец женился во второй раз, счастлив. У них маленькая девочка, он в ней души не чает. Вот так. Представляете, каково с этим жить? Хотя вряд ли: где вам такое представить. Но я все равно рада, что рассказала. Теперь вы меня уже не забудете, я сделала зарубку в вашей памяти. Можете, если желаете, даже написать об этом. Если, конечно, вы вообще способны писать о настоящей жизни. Это страшно, это же не какая-нибудь фальшивка.
– Не думаю, чтобы на этом можно было построить сносный рассказ, – сказал Монти.
– Не думаете? – Помолчав, Пинн встала и накинула на себя плащ. – Я никогда еще никому не рассказывала о своем брате, даже Эмили. Знаете, я убила бы его, если бы могла. Иногда мне даже снится, как я его убиваю: закалываю длинным, очень острым ножом, потом этим же ножом вырезаю у него из груди сердце.
– Уходите, прошу вас, – сказал Монти.
– Ухожу, ухожу. Вы тоже в некотором смысле убийца. Ну, меня-то это не отпугивает, как вы понимаете. Надеюсь, после всего этого вы не рассчитываете, что никогда больше меня не увидите? Мы ведь теперь с вами все равно как переспали. И по-моему, вам понравилось.
– Я включу вам на лестнице свет, – сказал Монти. – Постарайтесь, пожалуйста, потише.
Он бесшумно вышел из своей комнаты и щелкнул выключателем. Пинн, не глядя на него, прошла мимо и стала спускаться по лестнице. Монти вернулся в спальню и лег на кровать. Отметил про себя, что уже второй раз после смерти Софи испытывает нечто похожее на физическое возбуждение. Но он уже забыл Пинн. Душу терзали бесчисленные призраки Софи, плывущие перед его закрытыми глазами.
– У Пинн подозрительно довольный вид, – сказала Эмили.
Блейз ничего не ответил. Стоя рядом с Эмили на балконе, он смотрел, как Кики Сен-Луа садится в свой открытый спортивный автомобиль. Кики была одета в длинную ярко-красную бесформенную рубаху и черные коротенькие бархатные шортики. Стройные, обтянутые бледно-зелеными колготками ножки втянулись внутрь машины, и дверца захлопнулась. Пинн уже сидела на месте пассажирки. Кики подоткнула свои длинные блестящие волосы под ворот рубахи – чтобы не мешали, – повязала голову, поверх широкополой зеленой шляпы, длинным прозрачным шарфом и, не глядя вверх, прощально взмахнула смуглой рукой. Пинн послала Эмили и Блейзу лучезарную улыбку и радостно помахала обеими руками. Желтый автомобиль взревел и сорвался с места.
– Я говорю, вид у Пинн очень уж довольный.
– Да, пожалуй.
– Послушай, Блейз, думаешь, я не замечаю, как ты пялишься на эту сучку Кики? Ты ее, часом, не возжелал?
– Да нет же, нет. Мужчины всегда пялятся, так уж они устроены. Эм, посмотри на меня. Я тебя люблю, ты это понимаешь?
– Ну то-то же. Но все равно меня бесит, что, когда мы с тобой в ту ночь вернулись домой, эта паршивка была у нас. Тоже мне, няня выискалась. А теперь еще Пинн без конца таскает ее сюда. Они с Пинн стали подружки не разлей вода. Не удивлюсь, если у них окажутся какие-нибудь лесбийские шуры-муры. Хотя, конечно, мне на них обеих плевать. Я вообще не понимаю, зачем ты так приваживаешь эту Пинн. Я сыта ею по горло. По мне, пусть бы она катилась на все четыре стороны и подружку свою прихватила. Хочу, чтобы мы могли наконец пожить спокойно. Ты ведь тоже этого хочешь, да?
– Но ты сама говорила, у нас должны быть друзья.
– Друзья, только новые. Старые все порченые. Послушай: может, ты затосковал о миссис Флегме?
– С чего ты взяла!
– А то смотри…
– У меня даже в мыслях ничего подобного нет! И прошу тебя, малыш, перестань. Вот же я, перед тобой. Мы с тобой купили холодильник.
– Да. И еще миксер. И тостер. И шикарный набор кастрюль, в которых ничего не пригорает.
– Ну, теперь веришь?
– И я намаслила пятки Ричардсону и Бильчику. Кстати, где они? Вернемся в комнату, надо будет прикрыть поплотнее дверь. Как думаешь, коты не могут выпрыгнуть с балкона?
– Нет-нет, они же не идиоты. Ах, Эм, я так счастлив, что ты счастлива.
– Надеюсь, ты все-таки счастлив немного и своим собственным счастьем, не только моим.
– Конечно. Конечно.
– Мне пока еще не все кажется реальным. Милый, я так хочу, чтобы ты мог тут нормально работать. Зря ты отменил всех пациентов. Доктор Эйнсли опять звонил. Очень расстроился, что тебя не было.
– Скоро, скоро уже начну нормально работать. Просто мне необходим сейчас маленький перерыв. Должен же я когда-нибудь отдыхать!
Правда, с двумя своими пациентками (с Джинни Батвуд и Анжеликой Мендельсон) Блейз уже встречался, но оба раза ему пришлось долго объясняться по поводу своих изменившихся обстоятельств. Без этого никак не получалось: в самом деле, не мог же он совсем обойти молчанием такие важные и серьезные вещи, как смена места жительства и спутницы жизни. В итоге оба раза он по целому часу распинался перед своими пациентками, будто оправдывался, а они разыгрывали из себя психоаналитиков. От этих двух встреч у Блейза остался такой нехороший осадок, что остальных пациентов он решил на время отменить. Впрочем, было ясно, что скоро все равно придется возвращаться к обычному режиму.
Иногда, когда Блейзу удавалось вырваться на время из водоворота несущих его страстей и взглянуть на себя со стороны, он поражался собственному спокойствию и невозмутимости; не в том смысле, что происходившие в его жизни стремительные изменения не волновали его, – но теперь он взирал на них с метафизическим спокойствием. Он как будто осознавал всю важность предпринятых им шагов и неизбежность последствий, но при этом не чувствовал себя виноватым. Ему даже не нужно было прибегать к обычным «аналитическим» штучкам, избавляющим от чувства вины, – он просто не видел никакой вины. Ее не было, а было что-то вроде покорности судьбе. Какой же я маленький и жалкий, думал он. Да и все мы не более чем эмбрионы. Что ж удивляться, что судьба вертит нами, как хочет. Хотя возможно, что запасы Блейзовой виноватости попросту иссякли за минувшие годы. С ужасом вспоминая, какие муки он испытывал тогда, он не мог не думать, что, в сущности, теперь все стало гораздо лучше, – несмотря даже на то, что он совершил нечто ужасное (но что именно?) в отношении своей жены и старшего сына.
Теперь для Блейза наступил период более или менее честного сосуществования с самим собой. Часть его верила (и он ей не мешал), что все еще может уладиться самым наилучшим образом. Строго говоря, вера эта была та же самая, которая принесла ему непомерное облегчение после первого письма к Харриет, только теперь был уже другой расклад. Роли переменились – но так ли это важно? Просто теперь он будет жить с Эмили и время от времени навещать Харриет. Почему нет? Человек ко всему привыкает. Кроме того, он по-прежнему цеплялся за мысль, что святая Харриет каким-то образом спасет их всех. Она выдержит все испытания и в конечном итоге сделает что-то очень-очень хорошее. Разумеется, он охотно привлекал всевозможные моральные оправдания своего выбора, включая и соображения «справедливости». Но в целом – в этом новом состоянии успокоенности – справедливость, по поводу которой Блейз так распинался в своем последнем письме к Харриет, уже не слишком интересовала его. «Справедливость» (равно как и другие морально-этические понятия, которыми он тоже не пренебрегал, – «честность», например) казалась совершенной абстракцией и никак не вплеталась в плотную ткань реальности, а главное, не имела к ним с Эмили ровно никакого отношения. Просто все то, что они делали и чем были все эти годы, привело наконец к своим неминуемым, глубинным последствиям. Преступление совершилось слишком давно, и теперь уже поздно было чувствовать себя виноватым.
Сильная взаимная эротическая любовь, затрагивающая не только плоть, но и самое утонченное из всех духовных начал человека, сексуальное начало, обнажающая и, возможно, даже создающая ex nihilo[21] мужской или женский дух, встречается в нашем беспокойном мире не так уж часто. Ценность такой любви, в представлении любящих, настолько головокружительно высока, что всякие разговоры о каких-то извлекаемых из нее наслаждениях кажутся им едва ли не святотатством. Такой любви следует служить коленопреклоненно, и уж если она есть, она излучает яркий, ослепительный свет, оправдывающий все – все, пусть даже остальной мир при этом погрузится во тьму. Блейз впервые в жизни имел возможность без оглядки насладиться этим чудом: начало их с Эмили романа, хоть и именовалось у них «блаженные первые дни», было омрачено для Блейза необходимостью лгать и тоской по утраченной добродетели. Теперь лгать было уже не нужно, и это как бы само по себе означало, что добродетель утрачена окончательно и тут уж ничего не поделаешь. Блейз мучился, пытаясь разобраться во всей этой путанице. Возможно, думал он, более разумный и нравственный человек и не попал бы в такую немыслимую ситуацию, но вряд ли человек, уже попавший в такую ситуацию, смог бы вести себя разумнее и нравственнее, чем я.
Его новообретенная правдивость («очистительный огнь правды», так ему представлялось) сама по себе казалась ему такой же наградой, как и его новообретенная свобода. Он как никогда остро ощущал себя собой – и в этом тоже было оправдание всего. Вспоминалось, как часто в те далекие вечера, когда его так мучило отсутствие идеального взаимопонимания с Харриет, ему хотелось бежать прочь из Худ-хауса, к Эмили, чтобы стать с нею другим – то есть гораздо больше собой. То, что они с Эмили ссорились, было понятно: ведь столько лет прошло в невыносимом напряжении. Но Эмили стойко перенесла то ужасное напряжение – и это словно бы тоже подтверждало неизбежность их союза. В конце концов, у судьбы был шанс их разлучить, больше того, они сами предоставили ей этот шанс! Теперь же, когда они смотрели друг на друга, дыша обновленным воздухом свободы, той прошлой жизни больше не существовало – она исчезла без следа.
Блейз понимал, что скоро ему придется съездить к Харриет. Придется вытерпеть ее слезы, придется встретиться со второй половиной своего разорванного «я», которая хоть и не давала пока о себе знать, но никуда не делась и, скорее всего, только поджидала момента его возвращения в Худ-хаус. Конечно, он еще любил Харриет и прекрасно понимал: стоит ему ее увидеть, как та, вторая его половина немедленно оживет, разве что окажется чуть хлипче и субтильнее, чем прежде. Но он все откладывал и откладывал поездку в Худ-хаус – не потому, что боялся упреков страдающей Харриет, и даже не потому, что так уж страшился перехода в свою вторую ипостась; просто ему не хотелось омрачать счастье Эмили. Естественно, Эмили боялась, естественно, ее надо было постоянно подбадривать, и он делал это охотно. Ее детская радость от новой квартиры трогала Блейза до слез. Ему казалось, что перед ним снова то юное существо, которое он когда-то полюбил, – непорочное и неиспорченное, воплотившее в себе образ правды – его правды, особенной, персональной, единственной, теперь уже состоявшейся.
Таковы были ингредиенты Блейзова «спокойствия». То есть его многое смущало и многое страшило, но не было уже мучительной неизвестности. Воспоминание о Дэвиде вызывало тупую, ноющую боль; воспоминание о Монти тревожило и смущало. Страшно хотелось знать, что Монти думает обо всем этом и, главное, обсуждал ли он свои соображения с Харриет. Образ Харриет, однако, оставался в душе Блейза таким же незыблемым, как прежде. Пусть она несчастна, пусть она даже злится на него, но Харриет будет ему верна. Харриет будет ждать. Эмили Макхью тем временем убирала новые простыни и наволочки в бельевой шкаф и пела. А Люка, сидя на нижней ступеньке лестницы, следил за ней и улыбался. Значит, Люка тоже был счастлив. Вот так, из вины, порока и насилия рождалась новая добродетель.
Складывая белье, Эмили пела, как пташка по весне, просто потому что ей было хорошо и потому что от весеннего солнца в ней снова проснулось чувство обновленной жизни и зов пола. Простыни с наволочками. Полотенца. Скатерти. Даже камчатные салфетки – с ума сойти! У нее никогда еще не было бельевого шкафа. Она в жизни не покупала столько вещей подряд – каждая новая покупка казалась ей залогом прочности ее волшебной любви. Эмили чувствовала себя как мученица, которую только что раздирали на части свирепые львы, – и вдруг она уже стоит пред ликом Божиим, и ее восхваляют за неколебимую твердость духа. Она выдержала жестокое испытание – и теперь вознаграждена. Ее как будто оправдали вчистую и вдобавок – за все ее страдания – освятили ее грешное тело. Она чувствовала себя очищенной и умиротворенной, и та злая, мучительная любовь к Блейзу, которой она жила все эти годы, была тоже очищена и освящена. Впервые в жизни она могла любить свободно и счастливо – ну как тут не петь? Конечно, страхи еще не совсем ушли. Ей надо было, чтобы Блейз все время находился рядом, чтобы он смотрел на нее, прикасался к ней, ободрял ее, – но он и находился все время рядом. Ему даже не требовалось уверять ее в том, что Харриет уже не властна над ним, – Эмили и сама это знала. Час откровения пробил, архангел правды возвестил о вступлении в новый мир, откуда нет пути назад, и трубный его глас устрашал – но не был страшен, ибо означал не начало войны, а ее конец. Неудивительно, что каждое утро, открывая глаза и убеждаясь в восхитительной, непреходящей реальности этого нового мира, Эмили чуть не стонала от наслаждения.
Обернувшись, она заметила сидящего на ступеньке Люку. В последнее время ей все чаще казалось, что он наблюдает за ними с Блейзом, как зритель за героями какого-то спектакля. Сейчас, например, он смотрел на нее и улыбался. Но не может же улыбка восьмилетнего ребенка быть саркастической? Нет, наверняка тут не сарказм, что-то другое.
– Ах ты, чертенок! – Смеясь, она обхватила его одной рукой и прижала к себе.
Любовь к сыну пульсировала с новой силой в расцветшей ее душе, совершенство ее физической связи с Блейзом позволило ей по-новому прикасаться к Люке.
– Мне очень жаль, – сказал Монти. – Очень жаль.
Они с Харриет сидели на потемневшей от дождей деревянной ребристой скамье под окном его кабинета. По небу бежали маленькие облачка, набегая время от времени на солнце. Монти в своем летнем черном пиджаке без подкладки давно уже продрог и с радостью вернулся бы к себе в кабинет – к теплу, к камину, – но характер только что состоявшегося разговора был таков, что подобное перемещение могло показаться бестактностью, если не бессердечием. Харриет напряженно смотрела куда-то мимо газона, на дугласовы пихты, и поглаживала Лаки (вторая половина имени быстро отпала), который восседал тут же на скамейке с очень важным видом, положив широкие передние лапы на колени Харриет и глядя на нее снизу вверх с выражением спокойной созерцательной любви. Рука Харриет скользила по его большой усатой морде, машинально теребя жесткую твидово-коричневую шерсть; за рукой ревниво следили Панда с Бабуином, устроившиеся неподалеку в траве. Чуть дальше сидел Баффи, погруженный в свои печальные мысли.
После того бесконечно далекого, как теперь казалось, дня, когда пришло второе письмо от Блейза, Харриет столько всего передумала и перечувствовала, что хватило бы на несколько жизней. Ее поспешное бегство из Худ-хауса скоро начало казаться ей самой выходкой нелепой и бессмысленной: разве можно убежать от своей беды? Но потом она снова решила, что поступила правильно и что чувство самосохранения привело ее ровно туда, куда нужно. Тот побег теперь символизировал для нее твердое решение не прощать мужа. Раньше, когда она всей душой стремилась поддержать Блейза и облегчить его страдания, она пребывала в полном согласии сама с собой. Вероятно, она, как и многие другие женщины, существовала как зародыш внутри яйца – лишь за счет питающей ее маточной уверенности в собственной добродетели. Подобно самой высоконравственной древнеримской матроне, она всегда знала, что поступает и будет поступать правильно. В этом ее знании не было никакого тщеславия, более того, оно вполне уживалось в ней с природной скромностью и простотой. Что поделаешь, говорила себе Харриет, так уж у меня сложилось – результат счастливого детства, хорошего воспитания, спокойной жизни. Конечно, никаких суровых испытаний на мою долю не выпало, но зато есть силы и есть принципы, которым я всегда буду следовать. Я могу положиться на себя, и мои ближние, если что, тоже могут на меня положиться. Эта скромная, спокойная уверенность отнюдь не внушала ей мысли о собственной исключительности – наоборот, Харриет считала себя «мелкой сошкой», почти никем – и все же на этой самой уверенности строилась вся ее семейная жизнь. Например, в муже она видела много недостатков (он даже не догадывался), но поддерживала его с неизменной скромностью и достоинством. Так она чувствовала, так жила, и в этом в значительной мере состояло ее счастье.
Неудивительно, что, когда суровое испытание ворвалось в ее жизнь, Харриет почти не раздумывала и, дивясь сама себе, едва ли не ликуя, ринулась ему навстречу. Конечно, случившееся потрясло ее и причинило боль, но при этом она, как и прежде, оставалась оплотом для своих ближних, они нуждались в ней и ждали от нее понимания. Стерпеть всё, высушить слезы – в этом был ее долг, бесконечно более важный, чем любые терзания ревности, чем тяжкое разочарование в собственном муже. Долг оказывался главным утешением Харриет, и когда его исполнение требовало сил, силы изливались на нее как милость Божья, переполняя ее. Так продолжалось вплоть до второй измены мужа. Но дальше начался какой-то страшный сон. Простить мужа, который раскаялся и ждет от нее любви и поддержки, – к этому она была готова. Но когда все это оказалось никому не нужно, когда Блейз сам отсек пуповину, через которую любовь и поддержка Харриет столько лет перетекали в него – а он, не задумываясь, ими пользовался, – Харриет вдруг лишилась самых незыблемых своих убеждений и перестала понимать, как теперь быть и какими принципами руководствоваться. Возможно, она никогда этого не понимала, да и принципы ее были не принципы, а здоровые собственнические инстинкты счастливой матери и жены. Быть героиней, когда ее героизм никому не нужен, она не умела.
Разумеется, в начале этой новой эпохи Харриет сразу же – и без тени сомнения – уверовала в то, что у Блейза с Эмили «все кончено». Эта вера, как и жалость к Эмили, очень ей помогала; а встретившись с Эмили, Харриет просто не могла представить, как может мужчина – любой мужчина, тем более уравновешенный и благопристойный Блейз – предпочесть такую женщину ей самой. Ей и в голову не приходило, что эротические предпочтения могут идти вразрез со всеми проверенными в браке вкусами и привычками – тем более что о некоторых особенных вкусах Блейза она вовсе не догадывалась. Только теперь она понемногу начала понимать, что ее муж любил Эмили все эти годы, любит до сих пор. Второе письмо Блейза повергло Харриет в отчаяние, в душе ее проснулись неведомые прежде чувства: темная, уродливая ревность, обида, гнев – даже ненависть. И Харриет не выдержала, как живущие в глуши джунглей дикари не выдерживают вирусов цивилизации. Если бы не дикарская замкнутость, Харриет, возможно, нашла бы какой-нибудь выход; теперь же она просто не знала, что с собой делать. Ей нужно было довериться хотя бы одному близкому человеку – в конце концов, это-то у нее было всегда! Но Эдриан был далеко, в Германии, Дэвид терзался собственными страданиями и решительно отвергал все ее попытки к сближению. Вот почему она так вцепилась в Монти, вот откуда взялась ее настойчивость.
Теперь ей казалось, что она любит Монти, любит уже давно. Он единственный из всех ее друзей и знакомых занимал такое важное место в ее душе. Она так нуждалась в нем – притом именно сейчас, – что ее глубокая, но спокойная привязанность к нему переросла чуть ли не в наваждение. Оттого что она оказалась вдруг как бы отстраненной от дел, отвергнутой, изгнанной, никому не нужной, все ее существование перевернулось вверх дном, будто она и вправду стала другим человеком. Ее как будто отбросило к началу, и она опять мучилась девичьей тоской (только гораздо тоскливее); ей опять приходилось вглядываться в большой недобрый мир, пытаясь отыскать спасение для себя, и хвататься за это спасение, и не выпускать. Ей нужны были не просто помощь и утешение, не просто чтобы кто-то держал ее за руку. Ее осиротевшей любви требовался новый предмет. Не она отвергла своего мужа – он ушел сам, и теперь ей надо было хотя бы сознавать, что она нужна кому-то другому. Любящая ее натура не желала прозябать в праздности. Ведь она любит Монти – зачем же молчать и таиться? Засим и последовало страстное признание, так огорошившее его несколько минут назад.
Монти, со своей стороны, тоже питал к Харриет достаточно теплые чувства; он был рад ей даже тогда, когда не желал и не мог видеть никого другого, а явный интерес к ней Эдгара вызывал в нем глухое раздражение. Пожалуй, все это вместе даже походило на глубокую, прочную привязанность. Но теперь Монти не на шутку забеспокоился. Бывают несчастливые страны (Польша, Ирландия), страдания которых кажутся слишком неэстетичными и потому не вызывают в нас сочувствия. Монти нравилась любящая и счастливая Харриет, ему была вполне симпатична Харриет обманутая, но прощающая и уверенная в себе. Поначалу он даже восхищался категоричной и полной решимости Харриет, провозгласившей: «С Худ-хаусом покончено». Но эта последняя, такая незнакомая Харриет озадачивала его и несколько нервировала. Хуже всего было, что Харриет словно бы одномоментно и окончательно лишилась своей добродетели – той самой добродетели, на которую, как Монти теперь понимал, в значительной мере полагался и он сам. Ревность и обида уже оставили свой след в ее душе, безжалостные щупальца страха тянулись к ней со всех сторон, и Монти, конечно, было ее жаль – но не более того. Он боялся за себя, боялся силы и запутанности внезапно овладевшего ею чувства. Меняться, менять всю свою жизнь ради Харриет он не собирался. На самом деле где-то в глубине души он, конечно, был польщен ее неожиданным признанием – и именно поэтому беспокоился о том, чтобы случайное проявление нежности с его стороны не привлекло ее к нему еще больше. Я должен выражаться ясно и четко, думал он. Так будет лучше для нее самой.
– Я очень тронут, – сказал он. – Но я не могу помочь тебе так, как ты того хочешь.
– Речь идет не об интрижке, – проговорила Харриет своим новым, странно металлическим голосом, по-прежнему глядя вдаль. – Может быть, речь пойдет о браке – потом, позже. Мои чувства, во всяком случае, достаточно для этого глубоки. Но все дело в том, что ты нужен мне сейчас. Просто будь со мной и позволь мне любить тебя. Я должна тебя любить.
– Ты не должна меня любить, – сказал Монти. – Ты даже не знаешь меня. Прими я твою любовь, это лишь навлекло бы на нас обоих новые беды. Нельзя же просто так стоять и смотреть, как тебя любят. Любовь требует взаимности – а мне это ни к чему. Прости.
– Моя жизнь так… изменилась, – медленно сказала Харриет. – Вряд ли у меня получится объяснить… Я многое поняла про себя, очень многое. Наверное, это простые и очевидные вещи. Я рано вышла замуж. Блейз был мой единственный мужчина. Видимо, это значит, что я так и не повзрослела. Я считала, что все у нас идеально. Будь Блейз тем человеком, которым казался, все и было бы идеально… в каком-то смысле. Тогда мне не пришлось бы взрослеть, меняться и видеть мир таким страшным – а он страшен по самой своей сути; только не все это видят. Некоторые люди не видят этого совсем, никогда. Ты видел всегда, и я знала, что ты видишь, знала давно, задолго до всего этого. Я еще тогда не понимала, что меня в тебе привлекает, а это было то самое – ты видел. А Блейз нет, он только притворялся перед своими пациентами, что видит. Но на самом деле он слишком любил услаждать себя и вообще слишком любил себя, чтобы видеть и понимать такие вещи. Блейз всегда жил в мире снов.
– Мы все живем в мире снов, – сказал Монти. – И ты тоже.
– А теперь, когда все это произошло… когда у меня отняли… все, что было… и я опять оказалась как в самом начале… мне впервые в жизни надо начинать жить своим умом – понимаешь меня? Когда я выходила замуж за Блейза, я была… аморфная, как эктоплазма. Могла навсегда такой остаться. Теперь я чувствую себя личностью – пусть не выдающейся, но личностью, индивидом, у меня появилась форма… границы. Когда мне было хорошо, я… Хотя вряд ли ты поймешь, ты же всегда был личностью. Возможно, мужчины по своей природе более индивидуальны, чем женщины… Так вот, когда мне было хорошо, я была такая бесформенная, расплывчатая – жила через других людей, в других людях, а не сама в себе. Наверное, так удобно жить и даже правильно. Я хочу сказать, что была какая-то часть мира, и в ней все казалось хорошо и все довольны, а я была часть этой части – пусть не самая главная, но все равно, эта часть мира жила через меня, а я через нее. Но сама я была будто ненастоящая – так, бесхребетная аморфная масса… а если и имела какое-то подобие формы или хребта, то не пользовалась ими – даже не знала, что они есть. Но, видно, я все же менялась – незаметно для себя самой, – становилась тем, что я есть теперь. Не могла же я измениться вот так вдруг, сразу, ведь на это нужно время, правда?
– В несчастье мы скорее познаем себя, – сказал Монти.
– Пожалуй, вот что: я впервые в жизни почувствовала себя свободной. Приходится думать самой – выбирать, принимать какие-то решения, строить свою судьбу, а может, ломать: чего-то добиваться, на что-то смотреть сквозь пальцы. Я всегда была ограждена, даже отрезана от всего. А тут будто зажегся яркий свет – он страшно яркий, и я должна все время двигаться, потому что укрыться от него невозможно. Вот этот свет, Монти, и указал мне дорогу к тебе. Ты даже не представляешь, как это для меня… важно, что я поняла… что люблю тебя. Это как будто первый поступок, совершенный мною по собственной воле, – и это так… ценно.
«Для тебя – да, – подумал Монти. – А для меня?» Новая Харриет с ее новым самообладанием по-прежнему поражала Монти. Несчастье придало ей силы, она осознала, кто она такая, осознала, что ей нужно, – все это замечательно. Но его роль – быть рассудительным и отрезвляюще холодным. Малейшее проявление нежности, малейшая ответная искорка в его душе – и они оба пропали.
– Знаешь, я чувствую себя такой сильной – я даже могла бы, если нужно, подчинить тебя своей воле. Раньше мне всегда казалось, что ты сильный, а я слабая. А теперь у меня как будто появилась какая-то власть над тобой, чуть ли не право на тебя. Ты должен мне помочь, я заставлю тебя любить меня, у нас с тобой обязательно все будет! Звучит, конечно, странно… в устах женщины, которую только что бросил муж. Но я не хочу сидеть дома и обливаться слезами, не хочу и не буду! Я должна снова устроить свою жизнь, нравится мне это или нет. И именно сейчас, когда ты мне так нужен, ты оказываешься рядом. Это предначертано, понимаешь? Можешь не вдумываться сейчас в мои слова, ты и так слишком много думаешь, это тебе только мешает… Не беспокойся, я не собираюсь завоевывать тебя прямо сейчас – то есть я, конечно, хотела бы, но… Просто нужно, чтобы между нами что-то началось и чтобы ты это позволил. Собственно, все уже началось – давно, еще раньше, чем я узнала про Блейза. Прошу тебя, пусть это продолжается, пусть растет и вырастает во что-то другое, новое. Ты так нужен мне, Монти! Если бы ты знал, как ты мне нужен. Пожалуйста, не отказывай мне в помощи, думай обо мне, заботься обо мне! Пройдут минуты, часы, дни – и если ты будешь со мной, ты не сможешь не полюбить меня. Как ты не понимаешь, тебе ведь тоже нужно любить – не только быть любимым, но любить.
Знала бы ты, подумал Монти.
– Харриет, – сказал он вслух, – приди в себя. Любовь не дает любящему никаких прав, и ты это знаешь. Ты говоришь так, будто только что вышла из тьмы на дневной свет, – но, по-моему, все как раз наоборот. Оттого что боль обрушилась на тебя так неожиданно, ты погрузилась во мрак… и блуждаешь в нем. Из всех душевных мук ревность причиняет человеку самую страшную боль, какую только можно представить. Вот, чтобы тебе легче было ее пережить, ты и придумала эту свою великую любовь ко мне…
– Так ты думаешь, у меня это все… от ревности? – спросила Харриет.
– Да.
Обдумывая услышанное, Харриет отодвинула Лаки, который наполовину уже заполз на ее колено. Лаки тяжело поворочался и свернулся рядом, прижавшись своей лохматой внушительной мордой к ее бедру. Взгляд Харриет переместился с пихт на желто-зеленые кусты бирючины и рябоватый забор, обозначающий границу между владениями Монти и миссис Рейнз-Блоксем.
– Знаешь, – сказала Харриет, – а я думаю, что ревность тут ни при чем. Наверное, та боль, про которую ты говоришь, оказалась слишком сильной, и это как раз помогло. Так бывает: ранило человека и сразу же парализовало – а не парализовало бы, он бы, скорее всего, умер от невыносимой боли. Да, конечно, я ревную – наверняка ревную. Только все это уже не важно, и я чувствую себя такой ужасно сильной – и ужасно одинокой. Не думаю, что Блейз… что моя прошлая жизнь когда-нибудь вернется ко мне – я больше не смогу ее принять… не смогу…
Впервые после прозвучавшего признания голос Харриет заметно дрогнул.
Так-то лучше, подумал Монти.
– Ты говоришь, что тебя парализовало, – сказал он. – Но этот паралич ненадолго, он быстро пройдет. Ты говоришь, что ревнуешь. Конечно ревнуешь. И будешь ревновать. Скоро вы с Блейзом встретитесь, и как только ты его увидишь, в тебе опять проснется любовь к нему. Любовь к человеку, с которым прожиты годы, не кончается в одночасье, это как наркотик. Впереди у тебя долгий путь, Харриет, и не рассчитывай пройти его со мной под ручку. Тебе надо разобраться до конца в своих отношениях с Блейзом. Как он поведет себя дальше, как ты сама себя поведешь – этого ты пока не знаешь. А вот Блейз возьмет и опять передумает, он вполне на такое способен.
– Пусть передумывает, меня это не волнует.
– Взволнует, когда дойдет до дела. Одно его слово – и от всех твоих внутренних перемен, включая твою новую индивидуальность, которой ты гордишься, ничего не останется. Представь себе, что он вернется и бросится к твоим ногам, – ты тотчас же, в ту же минуту превратишься в себя прежнюю. Собственно, тебе даже не надо будет ни во что превращаться, ты ведь на самом деле не менялась. Просто ты тешишь себя иллюзиями о каких-то изменениях, которые с тобой якобы произошли. А эти твои рассуждения о свободе и доброй воле – это бредни, поверь. Твоя настоящая работа – и, кстати сказать, твой долг – в том, чтобы сохранить свою связь с мужем. Все это может длиться еще очень долго – пока он не решит, чего он хочет и что ему нужно. В конце концов, он твой муж.
– А как насчет того, чего я хочу? И что мне нужно?
– Это не имеет значения. Извини, но в этом смысле ты по-прежнему можешь считать себя эктоплазмой.
– Почему ты так несправедлив ко мне?
Харриет вдруг развернулась к Монти всем корпусом и даже отодвинулась (вместе с собакой), чтобы лучше его видеть. Черный легкий пиджак, белая рубашка, темные, зачесанные назад волосы, начищенные до блеска черные туфли. «Еще неприступнее, чем всегда, – подумала Харриет, – просто иезуит какой-то. Как же я люблю его – это ли не глубокое изменение? Я должна убедить его, должна заставить его увидеть. Он может спасти меня, а я – его».
– Это не несправедливость. – За все время Монти еще ни разу не взглянул на нее, а рассматривал собак на своем газоне (к которым теперь присоединился Аякс). – Это простой реализм – увы, недоступный тебе в настоящий момент. Видишь ли, ты зависишь от Блейза, от всей ситуации, ты связана по рукам и ногам – эмоционально и морально. И пока дело обстоит так, ты не можешь считать себя свободной. Есть простые и ясные понятия, к которым тебе сейчас надо вернуться. Чувство долга, в частности. Возможно, что Блейз скоро (или пусть даже не очень скоро) захочет выпутаться из всей этой истории, возможно, он снова потянется к тебе и к Худ-хаусу. Твой долг в этом случае – помочь ему. Не чей-нибудь, Харриет, твой… Пожалуйста, не прерывай меня. Ты должна сделать это хотя бы ради Дэвида, даже если бы не было никаких других причин, – а они есть, как ты знаешь. Ты не можешь просто так взять и «зажить свободно» – ты не готова к этому ни по своей природе, ни по воспитанию. От тебя требуется только одно – смириться. Ты не должна – да и не способна – принимать самостоятельные решения. Нравится тебе это или нет, но тебе придется быть святой – потому что ты это ты и, следовательно, ничего другого тебе не остается. Потом, когда пройдут годы и ты поймешь, что Блейз по-настоящему тебя покинул и что ты готова покинуть его, – кто знает, может быть, тогда тебе удастся наконец переменить свою жизнь… выучиться какому-нибудь новому бесполезному занятию – машинописи или стенографии. Но все эти вещи опять-таки не будут иметь никакого отношения к свободе; больше того, к тому времени они тоже превратятся для тебя в вопросы долга. А пока ты просто пытаешься приспособить ложно понятую идею «свободы» к своим растрепанным эмоциям. На это накладывается некое сентиментальное чувство ко мне и то, что сейчас тебе позарез нужна помощь – все равно чья. Проснись, Харриет, взгляни на вещи трезво. Пройдет, возможно, много лет, прежде чем в твоей жизни что-то по-настоящему изменится. Таковы обстоятельства – и такова твоя собственная природа, что сейчас ты должна быть пассивна и просто ждать: как поступит Блейз, что он решит? Это единственная роль, которая не ведет тебя к опасному самообману, – так что советую от нее не отказываться.
– Как ты… жесток, – сказала Харриет. – То есть это я, конечно, знала всегда. Но теперь я замечаю еще и то, чего не видела раньше. Все, что ты сейчас говоришь, – просто глупо.
– Второй и не менее важный момент, – словно не слыша ее, продолжал Монти (он поочередно разглядывал собак на газоне, как зритель разглядывает фигуры на картине), – заключается в следующем. Я не могу и не хочу тебе помогать. Мне попросту неинтересно. Извини, что приходится говорить без обиняков, но в таких вещах предпочтительна полная ясность. Никаких недомолвок и никаких твоих «начнется, уже началось». Моя жена умерла…
– Я помню, Монти, я не забываю об этом ни на минуту.
– …и с тех пор скорбь стала моим основным занятием, которому я отдаюсь без остатка. Тебе нужно, чтобы я прикасался к тебе, смотрел на тебя с сочувствием и любовью, – я не могу этого делать.
– Я знаю, что еще рано, – не только я, ни одна женщина не посмела бы к тебе сейчас подступиться. И все же…
– Скорбь есть также основная причина или, во всяком случае, повод для всех происходящих в моей жизни изменений. Скоро я продам этот дом и перестану писать. Собственно, уже перестал. История бездарного художника – другого из меня не вышло – завершилась. Теперь я буду жить внутри себя, как в камере-одиночке, без Софи и без Мило. В ближайшее время – возможно, Эдгар ввел тебя в курс дела – я собираюсь вернуться к учительству. У меня уже есть договоренность о встрече с директором одной школы – надеюсь, он меня возьмет. Я давно шел к тому, чтобы освободить свою жизнь от всего…
– И ты же еще обвиняешь меня в том, что я живу в мире снов? По-моему, ты сам в нем живешь! Я, видите ли, не могу измениться, зато ты можешь!.. Знал бы ты, какой у тебя только что был самодовольный вид! И таким вот нелепым способом ты собрался себя умертвить? Ты просто сам себя загоняешь в угол, вот и все.
– Милая Харриет! Те вещи, о которых я сейчас говорю, совершаются не ради красного словца и не под влиянием минуты, это результат серьезных и глубоких изменений, которые накапливались годами. Я никогда по-настоящему не говорил с тобой о себе и не собираюсь делать это сейчас. Я уже сказал тебе все, что хотел. Многим я казался счастливчиком…
– И тебе это нравилось!
– В каком-то смысле – да, конечно. Но в моей жизни… да и в работе тоже за долгие годы накопилось слишком много несчастья; и вот наконец наступил кризис, который мне надо как-то пережить – иначе я могу превратиться в очень нехорошего человека. В сущности, я превращался в него всю жизнь, но не превратился окончательно – из-за Софи, из-за того, что любил ее, из-за кое-каких иллюзий насчет своего писательского таланта… и еще другой иллюзии, которую некоторые называют религией, а я никак не называю, знаю только, что это иллюзия. Многое из того, что виделось мне раньше временным и случайным, теперь, в свете ее смерти, оказалось вдруг окончательным – абсолютным. Словом, мне хватает собственных бед; внутри моей картины нет места для тебя. Я должен заниматься своими делами, и в этом смысле ты для меня – извини! – только помеха. Мне нечего тебе дать.
– Нет, – пробормотала Харриет, – нет. Я погружена во мрак?.. Может быть, не спорю. Но и ты сам блуждаешь во мраке. Все то, что ты говорил о собственной жизни, – ты ведь не можешь этого знать. Чтобы узнать, что будет дальше, ты тоже ощупью бредешь вперед. Прошу тебя, не забредай слишком далеко от меня – во мраке. Я сумею тебе помочь. Я помогу тебе, и это меня спасет, а ты поможешь мне – и это спасет тебя; я вижу, как все это будет. Я твоя самая ближайшая задача! Все это учительство – чистая романтика. Твое место здесь, рядом со мной. Ах, Монти, мне так трудно все это говорить – я же вижу, как ты отворачиваешь лицо, потому что не хочешь меня слушать. Но все равно прошу тебя, не отворачивайся! Смотри на меня, Монти, смотри – пожалуйста!..
Монти бросил на Харриет хмурый взгляд и встал.
– Извини, – сказал он, – я старался говорить как можно яснее, но, видимо, не получилось. Скоро я уеду из Локеттса. Ты, если хочешь, можешь оставаться. Мне нечего добавить к сказанному, тема закрыта. Весь этот бессмысленный разговор не более чем способ пощекотать себе нервы. Может, тебе это для чего-то нужно, но меня уволь.
Он быстро сделал несколько шагов в сторону дома и исчез внутри; стеклянная дверь гостиной захлопнулась.
Глаза Харриет тотчас наполнились слезами, она притянула к себе Лаки и принялась ласкать его большую лохматую морду. Как это несправедливо, думала она, поглаживая черные влажные мягкие губы и белые клыки под ними. Никто не желает признавать во мне меня. Блейз всегда считал, что я его часть, – и я была его частью. Впервые в жизни я говорю с человеком и чувствую себя не чьей-то частью, собой – зачем же он отвергает меня? Он не должен так поступать, я ему этого не позволю!.. Мне нужна его помощь, и я ее получу. Он не сможет устоять – нет, нет.
Сбросив Лаки с колен, она встала и медленно двинулась по тропинке вдоль дома. Слезы обильно катились из ее глаз – хоть какое-то утешение. Лаки, Баффи, Аякс и Панда с Бабуином, не забегая вперед, тащились за хозяйкой. Харриет свернула в сад и пошла по стриженой тропинке среди стволов. Впереди за деревьями был уже виден Худ-хаус. Ветерок сдувал пыльцу с колосков травы, оголяя созревающие семена. Запах сена пробудил в душе Харриет давние, призрачные воспоминания: мелькнули невеселые лица измученных гарнизонной жизнью родителей, знакомый домик в Уэльсе. Харриет вытерла глаза; от привычной, давно знакомой печали стало чуть легче. За очередным поворотом тропинки показались заросли наперстянки, забор, собачий лаз в заборе (расширенный уже до габаритов Аякса, который мог теперь перебираться из Худ-хауса в Локеттс и обратно без угрозы для самых нежных частей тела). На той стороне послышалась какая-то возня, и из лаза, из зарослей наперстянки, выскочили Лоренс и Ёрш. За ними уже протискивалось третье существо: сначала темная голова, потом, на четвереньках, весь целиком – Люка!
Харриет вскрикнула и опустилась на колени, протягивая руки вперед. Люка, задыхаясь, смеясь, подбежал к ней и упал прямо в ее объятия. Они тесно прижались друг к другу, глаза у обоих были закрыты. Кругом скакали обезумевшие от счастья собаки.
– А Пинн дома? – спросила Кики Сен-Луа.
– Я передам, что ты ее ждешь, – сказала Эмили и демонстративно захлопнула дверь у Кики перед самым носом.
В гостиную она вернулась в тот момент, когда Пинн передавала Блейзу какое-то письмо.
– Явилась твоя подружка, – сообщила Эмили, глядя на Пинн. – По-моему, можно было хотя бы предупредить, что вы с ней договорились.
– Извини, вылетело из головы. А что, ты ее не пригласишь? – спросила Пинн, поправляя перед зеркалом блестящие, туго завитые волосы.
Зеркало в позолоченной раме – одна из самых заветных покупок Эмили – было увенчано амурами и украшено свечами в подсвечниках.
– Разумеется, пусть войдет, – объявил Блейз как-то слишком оживленно, вероятно из-за письма.
Эмили молча вернулась в прихожую и распахнула дверь. Кики, в нежно-линялых джинсах и длинной шелковой голубой рубашке, ждала, сидя на ступеньке. При виде Эмили она на секунду напустила на себя мученическое выражение, но тут же улыбнулась. Ее улыбка сияла самодовольством юного и здорового существа.
– Входи, тебя приглашают, – с нескрываемой неприязнью сообщила ей Эмили и снова вернулась в гостиную, на сей раз в сопровождении Кики.
– Привет, Кики, – сказал Блейз, и самодовольство Кики (показалось Эмили) как в зеркале отразилось в его лице.
– Привет, Блейз. Привет, Пинн. Карета подана, можно ехать!
– Ну так поехали! – отозвалась Пинн. – Айда, малышка. Пока-пока, голубочки!
Едва дверь за ними закрылась, с лестницы донесся их дружный, веселый смех; обе, кажется, просто умирали со смеху. Блейз ретировался в уборную – наверняка читать свое письмо; Эмили осталась в гостиной одна.
Гостиная была просто прелесть – лучшая комната, созданная руками Эмили, или, точнее, единственная комната, созданная ее руками. Стоя сейчас лицом к окну, она упиралась взглядом в занавески с синими и пурпурными разводами, под ногами у нее было мягкое красновато-коричневатое ковровое покрытие, за спиной, вокруг пестрого и лохматого, как шкура неведомого зверя, финского ковра расположились кресла с вельветовой обивкой (от покупки полного мягкого гарнитура пришлось пока воздержаться) – тоже красно-коричневые, только темнее, – посередине длинный стеклянный кофейный столик, на стене золоченое зеркало. Все эти вещи доставляли Эмили столько неподдельной радости, что казались ей живыми.
Вернулся Блейз.
– Что в письме? – не оборачиваясь, спросила Эмили.
– В каком письме?
– В том, которое сунула тебе Пинн.
– А… Вечно она со своими тайнами.
– Что в письме?
– Не смотри на меня так. Ничего страшного, вообще почти ничего.
– Давай его сюда.
– Я спустил его в унитаз.
– Не верю. Выворачивай карманы.
Блейз выложил содержимое всех своих карманов на кофейный столик. Письма не было.
– Почему ты спустил его в унитаз? Нормальные люди с письмами так не поступают. Письмо, кстати, не так просто смыть.
– Почему… Ну, потому что надоело! Извини, я знаю, что Пинн твоя подруга. Но эти ее письма – просто мерзость… Хотелось поскорее от него избавиться.
– Она мне не подруга, и ты прекрасно это знаешь. Одно время у нас с ней были более или менее дружеские отношения, но это давно кончилось. А теперь я не верю ей ни на грош. Это ты ее все время привечаешь! У вас с ней еще в Патни были какие-то бесконечные секреты.
– Не было у нас никаких секретов!
– Ну, значит, появились сейчас. Подозреваю, что ты ей приплачиваешь, иначе чего ради она бы стала тайком совать тебе какие-то письма? Что было в том письме?
– Ничего… Ну, только одно – но мы с тобой и сами уже догадывались. Люка опять у Харриет.
– Тоже мне, тайна великая! Как только он исчез из дому, я сразу же сказала, что он сбежал к ней.
– Но все же такие вещи лучше знать наверняка! И очень хорошо, что Пинн нам сообщила.
– Да, но секретничать-то зачем?
– Она не хотела тебя расстраивать. Решила, пусть лучше ты узнаешь от меня.
Эмили с минуту размышляла, по-прежнему не отрывая взгляда от занавески. Блейз уселся в кресло, вытянул ноги (пятки утонули в пестрых мехах финского ковра) и стал ждать.
– Нет, все-таки я не верю тебе, – сказала она наконец. – Не верю. Может, в этом письме и было что-нибудь насчет Люки, но было и что-то другое, и это что-то беспокоит тебя гораздо больше. Я же вижу, я чувствую, как ты разволновался.
– Конечно разволновался, из-за Люки, из-за тебя…
– Да нет, тут что-то не то. Ты аж разрумянился. И зачем это Пинн все время таскает сюда свою Кики, будто нарочно водит ее перед тобой взад-вперед? Думаю, она хочет устроить вам с Кики свидание, вот зачем. Она как-то проболталась, что Кики просила подыскать ей партнера. А ты всякий раз, как видишь эту паршивку, так доволен, уж так доволен – у тебя просто на лбу написано, чего ты от нее хочешь.
Блейз встал, подошел к Эмили, развернул ее за плечи к себе лицом и легонько встряхнул.
– Послушай, – сказал он. – Слушай меня, дуреха. Тебя надо высечь, кнутом – понятно? Ты что, хочешь все, все разрушить своей нелепой, бредовой ревностью? Вот же я, смотри! Я люблю тебя, ты моя жена.
– Нет еще.
– Ну будешь жена! Мы уже сто раз с тобой все обсуждали. Ты знаешь, что у тебя твердая почва под ногами…
– Ага, твердая. Вроде зыбучих песков.
– Да нет же! Все закончилось, мы дома, Эмили! Опасность миновала. Видишь, это наш дом, теперь мы с тобой живем здесь.
– Поклянись, что ты не влюбился в Кики Сен-Луа.
– Психопатка! Да клянусь, клянусь! Малыш, я же тебя люблю, никого другого. Ну-ка, смотри мне в глаза. Я люблю тебя.
– Да, – сказала Эмили, глядя на него снизу вверх. – Ты прав. Ты прав, милый. Пусти, мне больно.
– И хорошо, что больно.
– Ладно, ну прости меня. Пожалуйста, пусти мою руку. Естественно, я боюсь, а как же иначе, боюсь всего и всех. Даже Кики, даже Пинн. Скорей бы уже все утряслось, скорей бы у тебя опять была работа, пациенты… И знаешь: я до сих пор не хотела, чтобы ты ехал к ней, а вот теперь хочу. Я должна наконец убедиться, что и после того, как вы встретитесь, все это никуда не сгинет и не улетучится.
– Не улетучится, ты это прекрасно знаешь.
– Ладно. Но все равно, съезди к ней, хорошо? Не посылай Пинн шпионить на тебя – ах, перестань, я же не слепая! Поговори с ней сам. Расскажи ей все – и про холодильник, и про занавески, – и пусть она во все это поверит, пусть поймет, что все это реально, что она потеряла тебя совсем – тебя просто нет для нее. Сделаешь, как я сказала?
– Да. Ты права. Я должен туда съездить. Я только хотел, чтобы сначала у нас с тобой появился дом и все остальное.
– Чтобы тебе было на что опереться, да? Меня одной недостаточно, с домом оно все-таки надежнее?
– Ну что ты, просто перед тем, как оставлять тебя одну, я должен был убедиться, что тебе спокойно и хорошо. Особенно перед тем, как ехать туда.
– Но ты будешь у нее недолго, ладно? Попробуй только там задержаться, я приеду за тобой и устрою такой скандал!..
– Не беспокойся, думаю, часа с небольшим мне хватит. Если хочешь, можешь подождать меня где-нибудь поблизости. В машине, например.
– Нет уж, лучше я буду ждать тебя здесь, в нашем доме, среди наших вещей. Блейз, милый, но ты не передумаешь? Не вернешься к миссис Флегме? А вдруг она разжалобит тебя своими слезами? Ты не думай, я не желаю ей зла, и мне совсем не нужно, чтобы она мучилась и страдала – хотя без этого все равно никак. Просто я хочу, чтобы она все поняла и отступилась. Ведь чем скорее она поймет, тем лучше для нее же, правда? Но, конечно, вы можете с ней время от времени встречаться, я не возражаю. И не надо думать, что это такая уж трагедия. Выдержит как-нибудь твоя матрона, с ее безмятежностью еще и не такое можно выдержать. Она, конечно, начнет говорить тебе, что она не переживет, это выше ее сил, – но ты ей не верь: переживет как миленькая. И когда будешь с ней разговаривать, не воображай, будто ты совершил что-то страшное и чуть ли ее не убиваешь, – никого ты не убиваешь. Только скажи ей всю правду, слышишь? Чтобы никаких надежд. Обещаешь говорить одну только чистую правду?
– Да. Я скажу ей все.
– Положим, все не обязательно, но скажи так, чтобы ей хватило. Ну ладно, ладно. Прости, что я такая гадкая. Но столько разных страхов со всех сторон! Все, хватит. Мне сейчас надо сбегать кое-что купить, сегодня магазины закрываются раньше. А потом в постель, да?
Когда Эмили выпорхнула за дверь и ее каблучки простучали вниз по лестнице, Блейз вернулся в уборную и вытащил сложенный листок из тайника под линолеумом. Прошлый раз он успел лишь пробежать глазами по строчкам, теперь у него появилась наконец возможность прочесть письмо внимательно.
Дорогой Блейз!
Недостойная доносительница нижайше предлагает твоему вниманию сей скромный доклад о делах в интересующем тебя доме. Твоя жена выказывает больше характера, чем можно было от нее ожидать. Она выселилась из Худ-хауса и переехала, вместе с Дэвидом и со всеми манатками, к Монти Смоллу. Больше того, она влюбилась в Монти! Твоя покорная служительница, легкой поступью войдя в дом, нечаянно подслушала разговор между обеими сторонами, сидевшими в тот момент на скамеечке под самым окном. Коротко говоря, твоя супруга предлагала себя мистеру Смоллу. Последний, судя по всему, чрезвычайно доволен. Как видишь, времени зря тут никто не теряет. Полагаю, в эту минуту ты должен ощутить некоторое облегчение (согласись, приятно иногда узнать, что никто уже по тебе не убивается и что она нашла себе другого!). Так что не бойся, при встрече она не станет заливаться слезами и молить тебя о возвращении. Не удивлюсь, если мистер Смолл, скучающий в своем отшельничестве, давно уже предвидел такой исход и подговаривал тебя бросить Харриет – с тем чтобы он сам мог ее вовремя подхватить. Право же, этот человек весьма не прост! Если мои предположения верны, то его задумка прошла как по маслу. Люка, кстати сказать, тоже там и, по-видимому, не собирается возвращаться домой. Харриет (она уже ведет себя как хозяйка Локеттса) устроила для него славную спаленку, а также купила ему собаку. (Все эти подробности я знаю от Монти, с которым у меня в последнее время сложились самые дружеские отношения.) Похоже на то, что о Люке вы с Эмили можете забыть. Что касается юного Дэвида, то он тоже нашел чем отвлечь себя от скорбных мыслей – влюбился без памяти в Кики Сен-Луа! Впрочем, как ты, вероятно, заметил, ее гораздо больше интересуешь ты. Жаль, что ты сейчас не свободен: Кики так хочется поскорее избавиться от статуса девственницы! Представь только, каким бы ты мог оказаться счастливчиком. (Если ты все же не прочь им оказаться, дай мне знать. Эм может не беспокоиться: что бы ты ни выкинул, ты все равно теперь прочно сидишь у нее на крючке.) На сегодня все. Буду держать тебя в курсе. Спасибо за чек. Естественно, я не собираюсь делиться своей радостью с Эмили, на этот счет можешь быть спокоен. Ты мой благодетель, я тебя обожаю!
Вечно преданная, твоя нимфа
П.Р. S. Разумеется, если ты решишь, что тебе все-таки нужна Харриет, действовать надо быстро!!!
По мере чтения письма по лицу Блейза вновь разлился упомянутый Эмили румянец. Блейз закрыл глаза и прислонился лбом к двери уборной. «Я подлец, – думал он, – подлец, подлец, подлец. Ну, что дальше? Что мне делать? Что?»
– Я хочу говорить с Харриет наедине, – сказал Блейз.
– Монти, не уходи, – попросила Харриет. – Если ты уйдешь, я тоже уйду. Я не шучу. Я буду говорить с Блейзом только в твоем присутствии. Блейз, ты меня понял?
Блейз смотрел на нее с изумлением.
– Ну хорошо, – сказал Монти. – Остаюсь. Хотя я считаю, что вам лучше было бы поговорить с глазу на глаз, но нет – значит нет. Кто чего желает? Виски? Джин?
Разговор происходил в мавританской гостиной. Монти и Харриет сидели за столом плечо к плечу, как на официальных переговорах. Блейзу было предложено плетеное кресло, которое и раньше было низковато, а после неудачного приземления в него Эдгара и вовсе осело и скособочилось. Чувствуя невыигрышность своей позиции, Блейз переместился сначала на пурпурный диван, затем на стул у стены, выполненный в затейливо-ботаническом стиле. Монти немного подвинул «стол переговоров» ногой, так что Блейз опять оказался по ту сторону.
– Виски, – сказал Блейз.
– Прошу. Тебе, Харриет?
– Как обычно. Спасибо.
Был сероватый вечер пасмурного дня. Лампа в углу, вмонтированная в загадочного вида сосуд – нечто вроде кованой чугунной чаши для святой воды, – подсвечивала одну из мозаичных панелей на стене.
Как обычно, тупо повторил про себя Блейз. Разглядывая Харриет, он думал о том, как она изменилась – и как похорошела. Спокойно, не нервничать, сказал он себе и тихонько погладил пальцем больное место под глазом. Синяк был еще довольно внушительный, но вылинявший до нежнейшего зеленоватого оттенка. Чувствуя, как хаос подбирается к нему со всех сторон, Блейз понимал, что главное сейчас – не запутаться окончательно. Никакого плана у него не было, сам он пребывал в крайнем смятении, и, хуже того, ему даже нечего было сказать. Письмо Пинн так потрясло его, что не приехать он не мог. Но, разумеется, он рассчитывал говорить с Харриет без свидетелей.
– Итак? – Монти выжидающе смотрел на Блейза.
– Что – итак?
– Кажется, мне выпало быть председателем, – сказал Монти. – В таком случае начнем. Итак, ты хотел нас видеть.
– Вас не хотел.
– Хорошо, ты хотел видеть Харриет. Стало быть, у тебя есть что ей сказать.
Повисла долгая пауза. Харриет дышала учащенно, но не теряла самообладания, смотрела на мужа молча. Блейз тоже время от времени взглядывал на нее – правда, глаз избегал, – но в основном смотрел на Монти.
– Ну давай, вперед, – ободряюще предложил Монти. – Скажи что-нибудь. Все равно что. Главное начать. В конце концов, вам есть что обсудить.
– Мне не нравится твой тон.
– Извини, я не хотел никого обидеть. Но ты должен что-то говорить. Или ты предпочитаешь, чтобы тебя подвергли перекрестному допросу?
– Спасибо, не нужно. Во всяком случае, без твоего участия.
– Харриет, у тебя есть вопросы к Блейзу?
– Нет, – сказала Харриет.
Блейз снова взглянул на нее. Она похудела, ее лицо словно бы стало старше, черты тоньше и определеннее, будто это была не Харриет, а ее старшая сестра, сделавшая неплохую карьеру. Врач или даже адвокат; возможно, великая актриса в роли Порции[22]. Прическа тоже была другая – волосы разделены на пробор и уложены аккуратно, по-новому. И еще: на ней было простое темно-синее платье, которого Блейз раньше никогда не видел.
– Я, в общем-то, не могу сказать ничего нового, – почему-то очень робко и смиренно начал он. – То есть я уже писал обо всем в письме. Жить мне придется с Эмили, но сюда я буду тоже приходить. Я и раньше старался быть в двух местах одновременно и дальше буду стараться. Я понимаю, что во всем моя вина и положение, конечно, ужасное, но уж какое есть – такое есть… и если я сейчас попытаюсь его изменить, будет только хуже. Ты… вы с Эмили обе должны это понять. Нужно искать какие-то компромиссы. Тут я хоть на части разорвись, а исправить все уже не смогу. А раз так, то самое разумное сейчас – отдаться на милость… твою, Харриет… и быть честным с тобой… и я стараюсь быть честным. Что было раньше, того уже не будет, это ясно. Но и усугублять ничего не нужно. Я просто часть времени буду здесь, часть там. Понимаешь, я же не могу требовать от Эмили, чтобы она вечно оставалась на втором месте. Да что на втором – на десятом! Теперь, когда все прояснилось и все мы сказали друг другу правду – и это замечательно, – волей-неволей приходится все как-то сравнивать и уравнивать. Я, конечно же, буду приходить сюда очень часто, и в общем все будет примерно так, как мы планировали с тобой раньше, – и ты соглашалась. Просто сейчас, пока Эмили еще не устроилась окончательно на новом месте, я не могу вырываться так часто. Эмили многое приходилось терпеть все эти годы, и теперь я прошу тебя тоже… потерпеть… и простить меня… ради Дэвида и… потому что… потому что…
Он умолк. Монти вопросительно взглянул на Харриет, но она тоже молчала.
– Поговори с ним, Харриет, – мягко сказал Монти. – Постарайся, несмотря ни на что, быть к нему добрее. И помни, о чем я тебя предупреждал. Быстро тут ничего не решишь. Будь добра и великодушна, насколько это возможно, потому что – если Блейз позволит мне закончить его речь – примирение всегда лучше войны, а милосердие лучше справедливости.
«Чтоб он провалился, – подумал Блейз. – Чтоб он провалился».
Харриет посмотрела на Монти и неожиданно улыбнулась.
– Не могу, – сказала она, и голос ее слегка дрогнул. – Не могу, Блейз, потому что все слишком сильно изменилось. Я не могу и не хочу терпеть все то, что терпела Эмили. Возможно, во мне больше гордости, чем в ней, или, может быть, я не такая… сговорчивая. Или дело в том, что я слишком долго была твоей женой и на меньшее уже не согласна. Или – я уже просто не верю тебе. Моя вера в тебя была так безгранична… Ее больше нет.
«Пусть заплачет, – подумал Блейз. – Пусть только заплачет – и тогда она меня простит».
– Сейчас, – голос Харриет зазвучал спокойнее и ровнее, – ты объясняешь мне, как ты будешь часть времени там, часть здесь, будто это такое замечательное решение… а я понимаю, господи, теперь-то я понимаю, что это говорит самый обычный лжец. Но все же ты выразился достаточно ясно, спасибо и на том. Сразу устранил все неясности: ты будешь жить с Эмили Макхью – она теперь твоя жена. И то, что ты планируешь время от времени навещать меня и Дэвида, не имеет ровно никакого значения. Таким ты мне не нужен, и уж как ты там намерен распределять свое время – это меня больше не касается.
– Блейз, тебе нужен развод? – спросил Монти. – Ты обещал Эмили развестись с Харриет?
Блейз не удостоил его ответом. Немного погодя он продолжил:
– Я знаю, что все это ужасно, ужасно, и все же я умоляю тебя: прости меня. И не бросай меня.
– Это ты меня бросил, – напомнила ему Харриет.
– Нет, – сказал Блейз. – Теперь – вот теперь – я понимаю, что не могу тебя бросить, это физически невозможно, немыслимо, это абсолютно невозможная вещь. Мы не можем друг без друга. Ну помоги же мне, Харриет, пожалуйста, помоги мне…
– Моя помощь тебе ни к чему, – сказала Харриет чуть мягче и чуть более дрожащим голосом, чем раньше. – Ты, конечно, растрогался, когда увидел меня, в тебе всколыхнулись воспоминания, это понятно. Но тебе ведь не обязательно меня видеть. Живи себе спокойно с Эмили Макхью, и все у вас скоро наладится. Ты сам это выбрал.
– Ты вынуждаешь меня выбирать? – спросил Блейз.
– Ну ничего себе! – пробормотал Монти.
– Эмили вынудила тебя выбирать, – сказала Харриет. – И ты выбрал.
– Но ты… хочешь, чтобы я выбрал еще раз?..
Харриет чуть помедлила.
– Нет. Не хочу. Я просто пытаюсь тебе объяснить, что не могу остаться в твоей жизни так, как бы тебе хотелось… и вообще никак… потому что… я тебе не верю. Меня не будет больше в твоей жизни… совсем.
В гостиной повисло молчание. Монти водил пальцем по пыльной столешнице, рисуя концентрические окружности.
– Нет, нет, – опять заговорил Блейз. – Так не может быть. Я без тебя просто не выживу. И ты без меня не выживешь. Я должен видеть тебя, должен быть связан с тобой… я так или иначе с тобой связан…
– Конечно, ты можешь приходить к Дэвиду, – сказала Харриет.
– Кстати, – сказал Блейз. – Люку я заберу с собой. Он ведь здесь?
Харриет вскинула голову.
– Ты не заберешь его! Люка останется со мной. Не думаю, что твоя любовница способна по-настоящему о нем заботиться, и, если надо, я готова доказать это в любом суде. Сам Люка хочет остаться здесь, со мной. Он отрекается от вас. Он остается здесь. Хотите судиться – пожалуйста.
– Харриет, – мягко сказал Блейз. – Харриет. Пожалуйста, позволь мне поговорить с тобой наедине. Пусть он уйдет. Я знаю, что ты потом простишь меня, обязательно простишь, просто не сможешь иначе. Я ведь знаю, какое у тебя доброе сердце, оно все может простить. И не важно, что сейчас ты говоришь со мной так сурово, потому что это говоришь не ты. Милая моя, ты уже спасала меня от адских мук, умоляю тебя, сделай это снова. Мы должны еще раз во всем разобраться и решить, как для нас обоих будет лучше. Мы…
– Никакого «мы» больше нет, – оборвала его Харриет. – Ты сам его перечеркнул. Ах, Блейз, если бы ты знал, какое страшное, страшное несчастье ты обрушил на меня!
Слезы хлынули наконец из глаз Харриет, но она тут же вскочила и выбежала из комнаты – Блейз не успел ее остановить. Монти (он тоже встал) быстро шагнул к двери и остался на пороге, держась за дверную ручку.
Блейз с ненавистью смотрел на него из-за стола.
– Это все твои штучки!
– Не глупи, – ответил Монти. – Выпей лучше виски, ты его даже не пригубил.
– Нарочно подстроил все так, чтобы она в тебя влюбилась!
– Я ничего не подстраивал.
– У меня есть свидетели. Ты все просчитал заранее. Подговаривал меня продолжать связь с Эмили, чтобы облегчить дело. Выдумал даже Магнуса Боулза, подталкивал меня все дальше и дальше – чтобы я завяз как следует, чтобы не мог выбраться! А потом, когда это тебе наскучило, уговорил меня во всем сознаться – потому что сам положил глаз на Харриет. Ты уже тогда ее себе наметил, ты хладнокровно вел меня к гибели. А теперь в любви ей объясняешься, чтобы она не передумала, не вернулась ко мне.
– Пошлые монологи наводят на меня тоску, – сказал Монти. – Пошевели мозгами, постарайся вспомнить, в каком порядке все происходило. Я никогда и ни на что тебя не подговаривал, я вообще не хотел иметь к этому никакого отношения. И не хочу. В любви Харриет я не объяснялся – и никакого «глаза», пользуясь твоим вульгарным выражением, на нее не клал. Мне кажется, ты просто не понимаешь, что подлость, в том числе твоя собственная, приводит к неминуемым последствиям.
– Прикидывался моим другом…
– Возможно. Но если ты поверил, то это было очень глупо с твоей стороны. Я не могу быть ничьим другом. Я на это органически не способен. А теперь, пожалуйста, уходи.
– Уйти – и оставить тебя вдвоем с Харриет?
– Здесь также Дэвид с Люкой, и Эдгар Демарнэй сидит безвылазно целыми днями. А что касается лично меня, то я скоро уезжаю. К слову, мне не нужно было ничего подстраивать. Ты предложил Харриет невозможное, а она оказалась не такой покорной овцой, как ты ожидал, – вот и все. Тем не менее – я говорил ей об этом в твоем присутствии – сегодняшняя сцена ничего не решает, и вся эта тягомотина будет тянуться и тянуться. Но поверь, она будет тянуться без меня.
– Нет, – сказал Блейз. – Не верю тебе ни на грош. Ты лжешь. Это ты подучил Харриет, как со мной разговаривать, – ей бы такое даже в голову не пришло. Обхаживал тут ее, наверняка еще очернил меня перед ней…
– Когда ты наконец уйдешь? – сказал Монти. – Мне очень жаль. Мне даже тебя очень жаль. Но ты должен сам разобраться со своими женщинами. Думаю, что ты уже потерял Харриет, как бы там у вас с Эмили ни сложилось, – но кто знает, я вполне могу ошибаться. Женщины – материя тонкая. Будешь и дальше так же рьяно ее уламывать – глядишь, она и сломается. Но как бы она ни была против тебя настроена, право, я здесь ни при чем. А теперь, будь добр, иди.
Монти распахнул перед Блейзом стеклянную дверь.
– Ненавижу тебя, – сказал Блейз.
– Пройдешь за угол дома, там… Хотя что я тебе объясняю, ты все здесь знаешь. Извини, Блейз. Мне своих проблем хватает.
– Ненавижу, – повторил Блейз.
Он шагнул за порог, чуть не бегом обогнул дом по скользкой от дождя бетонной тропинке, пересек палисадник и, не оглядываясь, свернул на дорогу. Накрапывал дождь.
Блейз – он был без плаща и без шляпы – терпеть не мог, когда его волосы намокали под дождем. Было так обидно, что хотелось плакать, и, шагая по дороге к тому месту, в двух кварталах от Локеттса, где стоял его «фольксваген», он и правда немного поплакал – горячие слезы смешивались на его щеках с холодными дождевыми каплями. Ему было отчаянно жаль себя. Он знал, что он не такой уж дрянной и подлый человек. Он просто запутался, это произошло само собой. Тысячи мужчин поступают так же, как он, – но им это сходит с рук. А ему просто дико не повезло, и все пошло наперекосяк.
В чем его страшное преступление и чем он так уж виноват, что оказался теперь хуже всех? Виноват, что женился на Харриет? Он, конечно, любил Харриет, но, может быть (теперь уже трудно припомнить), в глубине души все же чувствовал, что она не его женщина? Но в те времена ему даже не могло прийти в голову, что «его женщина» вообще существует. Он женился на Харриет, чтобы избавиться от своих «отклонений», – это казалось ему необходимым условием счастья. Или его преступлением была Эмили? Но тут уж он ничего не мог поделать, не мог противостоять соблазну. И вообще, в мире полно женатых мужчин, которые и не пытаются противостоять никаким соблазнам, крутят любовь направо и налево. Потом появился Люка – с этим тоже ничего нельзя было поделать, так вышло. И Эмили столько лет терпела. А когда наконец он решил, что настал момент сказать правду, Харриет так великодушно простила его. И вот теперь все вдруг оборачивается против него. Где он допустил ошибку? Понятно, что он просто обязан как-то вознаградить Эмили за долготерпение, и понятно, что Харриет на этом что-то теряет. Пусть ей это не по душе, но, в конце-то концов, должна же она опомниться?! Она не может любить Монти, это немыслимо – Харриет, его Харриет, влюбленная в кого-то другого! Господи, если бы обнять ее хоть на минуту, если бы его слезы смешались с ее слезами!.. Она поняла бы, как он страдает, и простила бы его, обязательно простила. Может, все-таки вернуться, броситься к ее ногам? Он свернул за угол. Впереди уже показался белый «фольксваген».
Бессмысленно глядя в залитое дождем ветровое стекло своей машины, Блейз начал замедлять шаг. «Что делать?» – в сотый раз спрашивал себя он. За стеклом что-то шевельнулось. Блейз вздрогнул. Кто там может быть? Что, если сердце Харриет все-таки не выдержало и она смягчилась? Он бросился вперед.
На переднем сиденье машины сидела Кики Сен-Луа. На ней был тонкий небесно-голубой джемпер, а поверх джемпера – целое покрывало из длинных мокрых волос. Кики улыбнулась Блейзу, и – даже в такую минуту – эта чистая улыбка семнадцатилетней девочки подарила ему маленькое нежданное утешение.
– Ну-с, а эта прелестница что здесь делает? – осведомился он нарочито невозмутимым тоном. – Прямо день сюрпризов сегодня!
– Блейз, извини меня, пожалуйста, – сказала Кики. – Не злись на меня, да? Это Пинн, у нее такие глупые шутки.
По голосу сразу угадывалась иностранка, даже когда она не делала ошибок.
– Так-так, и что на сей раз?
Блейз обошел машину и сел за руль. Усилившийся дождь забарабанил по крыше «фольксвагена», отгораживая их от мира плотной серебристой пленкой.
– Видишь, Блейз, – сказала Кики. – Я давно хотела познакомиться с мистером Монтегю Смолл, и Пинн мне обещала.
Блейз включил зажигание, «фольксваген» медленно покатил по дороге.
– Сегодня она сказала, что везет меня к нему, вот мы и приехали. Она видит твою машину, просит остановиться, и мы обе вышли. Пинн открывает дверцу, говорит: да, это его машина – твоя машина, – и потом открывает вот этот ящичек, и мы смотрим, что лежит внутри, и смеемся, но тут она убегает к моей машине… И уехала. А я осталась одна. Я думала, она скоро вернется. Я же не знаю адреса мистера Смолл, пришлось ждать. Но ведь дождь – и я села в машину. И теперь ты пришел! Отвезешь меня обратно в Лондон, да?.. Блейз, что-то не так, да?
Нежный мелодичный голосок Кики как бритвой полоснул по натянутым нервам Блейза. Он стиснул зубы и, раскачиваясь, задыхаясь, как от мучительной одышки, застонал: «Ы-ы-ы…»
– Что, Блейз, что? Скажи Кики!
– Сама знаешь что! Пинн, стерва, наверняка тебе все рассказала.
Кики склонилась к самому рулю и погладила руку Блейза тыльной стороной своей кисти.
– Бедный.
– Понимаешь, я их обеих люблю, – медленно проговорил Блейз. – Вишу на кресте… как распятый, черт побери.
– А ты оставь их обеих себе.
От сочувствия голос у Кики сделался низким и глубоким.
– Не мо-гу! Ах, Кики, если бы ты только знала, если бы!.. И никто, ни один человек мне не поможет. Ненавижу себя. Я себя ненавижу!
– Не надо себя ненавидеть. Ты не такой виноватый, я уверена. Хочешь, расскажи Кики все-все!
«Фольксваген» остановился у маленькой железнодорожной станции – той самой, откуда они с Эмили в ту памятную ночь бежали в Лондон. Повернувшись, Блейз с грустью оглядел свою пассажирку: ее длинные влажные спутанные волосы, огромные взволнованные темно-карие глазищи, чистую и тонкую до прозрачности полудетскую кожу ее лица, в котором время и природа сошлись в образе совершенства, не оставив пока никаких иных следов. Ее груди, хранимые внутри тонкой небесно-голубой оболочки.
Кики снова улыбнулась – нежно, печально.
– Я поеду домой на поезде, да? – Она была умная девочка. – Пока, Блейз. Все будет хорошо, ты увидишь.
– Подожди, не уходи так сразу, – сказал Блейз, удерживая ее за краешек влажного голубого рукава.
Он притянул ее к себе, так что ее голова запрокинулась, обхватил ладонями ее лицо (руль больно упирался ему в плечо) и, вдохнув в себя запах юности и дождя, осторожно поцеловал в губы. Потом легонько оттолкнул ее – и она ушла. Когда Кики входила в здание станции, он уже не смотрел на нее.
Проехав еще немного вперед, Блейз свернул с основной дороги на какое-то ответвление и остановился на обочине. Уронив голову на руль, он опять издал долгое, мучительное «Ы-ы-ы!..» Что это, неужели он окончательно свихнулся?
Монти закрыл за Блейзом дверь, задвинул щеколду и вернулся на свое место за столом. Ему было тошно от Блейза, тошно от самого себя. Почему он не настоял, чтобы Харриет встречалась с Блейзом без него? Почему с такой готовностью согласился быть «председателем»? Просто ему было любопытно, чем все это закончится. Какого черта ему нужно? Он что, правда когда-нибудь был другом Блейза? Или вообще другом, все равно чьим – Эдгара, например? Мысль показалась Монти бредовой. Его дом, еще недавно чистый, как обитель отшельника, был теперь полон людей. Харриет, вездесущий Эдгар, да еще двое детей вдобавок. У него в доме – двое детей! Ни до, ни после своего выкидыша Софи так и не могла решить, хочет она детей или нет. Монти ждал сначала с надеждой, потом со страхом. Со страхом – потому что он уже не был уверен, его ли это ребенок.
«Какое мне дело до всех этих людей?» – спрашивал он себя. Дэвид слонялся по дому как привидение. Сталкиваясь с ним то в холле, то на лестнице, Монти мимоходом брал его за руку и легонько сжимал, словно здоровался; однако от долгих бесед с Дэвидом неизменно уклонялся. И хотя подслушанный однажды в саду обрывок разговора между Дэвидом и Эдгаром привел Монти чуть ли не в бешенство, сам он упорно не хотел идти на сближение. Он боялся слез Дэвида, боялся, что Дэвид начнет как-нибудь проявлять свою привязанность к нему. Отношения с Люкой не то чтобы не складывались, их просто не было. Монти питал антипатию к этому ребенку – не только из-за Дэвида, но еще потому, что Люка сам по себе как-то странно его раздражал. В свою очередь, Люка, чувствуя неприязнь, при виде хозяина дома неизменно превращался в «трудного» ребенка, умолкал и смотрел на Монти не мигая и не улыбаясь. Монти отвечал тем же. Он знал, что Харриет советуется с Эдгаром по поводу образования Люки. С Монти никто не советовался.
«Что я-то тут делаю?» – думал он, сидя за столом в быстро густеющем полумраке гостиной, подсвеченной одной лампой. Прошло уже много дней с тех пор, как вся эта семейка поселилась в доме, и изменений как будто не предвиделось. Слегка кружилась голова; это от голода, сообразил Монти. Несмотря на все уговоры Харриет, он ни разу не сел за стол вместе с ней и ее мальчиками. Да и «мальчики» редко садились вместе (а по возможности старались и вовсе не встречаться). Дэвид обычно обедал в школе, а ужинал вдвоем с матерью поздно вечером, когда Люка уже спал. Монти отдал кухню в полное распоряжение гостей, сам же забредал туда лишь изредка, чтобы сварить себе яйцо или открыть банку консервов. Выглядело это, конечно, странновато – но с другой стороны, все в его жизни казалось теперь странноватым и временным, а следовательно не заслуживающим внимания. В довершение всего, после многочисленных обещаний и отсрочек, в Локеттс собралась наконец нагрянуть миссис Смолл! То-то она удивится, обнаружив, что дом оккупирован столь неожиданным образом.
Надо что-нибудь съесть, подумал Монти. Три стакана на столе так и остались стоять нетронутыми: видно, такая уж пошла жизнь, что все и без выпивки ходят как пьяные. Он отхлебнул немного виски, и тут же все вокруг стало зыбким и призрачным. Надо пойти на кухню и что-нибудь съесть, иначе свихнуться можно, подумал он. Глотнул еще, встал, вышел в холл – но тут до него донеслись приглушенные голоса из кабинета. Эдгар и Харриет. Резко изменив направление, Монти распахнул дверь.
Эдгар сидел в глубоком кресле на белом меховом покрывале, Харриет сидела на полу у его ног, положив одну руку ему на колено. В камине потрескивал огонь. Харриет плакала. Когда скрипнула дверь, Харриет немного отодвинулась и убрала руку. Монти охватила злость.
– Прошу прощения, что помешал, – сказал он.
– Ах, Монти, что мне делать? – всхлипнула Харриет.
– Перебираться в Худ-хаус и ждать возвращения блудного мужа, – отозвался Монти.
– Зачем ты так, – сказал Эдгар.
Харриет встала на колени и вытерла глаза.
– Монти, ты хочешь, чтобы мы ушли из твоего дома?
– Ну что ты, нет. Я сам скоро уезжаю.
– Не надо, Монти, не уезжай, пожалуйста. Мне так тяжело было видеть Блейза – так жалко его… Все время казалось, будто я и сейчас еще могу все уладить, забрать его домой и… Но это невозможно. Не будь там тебя, я бы, наверное, его простила.
– В таком случае хорошо, что я там был, – заметил Монти. – Или плохо?
– Вдумайся в то, что он тебе предлагает! – взволнованно проговорил Эдгар. – У этого человека нет совести, ты не должна его жалеть. Он хочет превратить тебя в безвольную жертву.
– Ты прав, – поднимаясь с пола, устало сказала Харриет. – Я не должна поддаваться. Да и все равно, жить с этим я бы не смогла, просто сломалась бы… Но все же я так ему нужна… А теперь есть еще Монти… и все это так…
– Нет никакого Монти, – сказал Монти. – Его просто нет в природе.
– Монти, я надеюсь, ты не будешь возражать… Я рассказала Эдгару… о нас.
– О нас?
– Ну да, о нас с тобой. То есть о моих чувствах к тебе.
– Полагаю, Эдгар был просто счастлив…
– Ничего другого я и не ожидал, – заметил Эдгар.
– …и тем не менее это его никоим образом не касается, – продолжал Монти. – Понимаю, я сам виноват, что согласился терпеть это чудовищное вмешательство в мою жизнь. Но мне непонятно, почему при этом мои личные дела должны становиться всеобщим достоянием.
– Извини… я…
– Надеюсь, ты довела до сведения Эдгара, что, какие бы чувства ты ко мне ни питала, я не собираюсь отвечать тебе взаимностью?
– Монти! – нахмурился Эдгар.
– Да, я ему сказала.
Из глаз Харриет опять полились слезы.
– Ну так я на всякий случай скажу еще раз – при свидетеле. Я не верю в твою так называемую любовь, и меня не волнует, насколько это, с позволения сказать, «чувство» серьезно. В моем сердце нет ни грамма любви к тебе. Я помогал тебе единственно из чувства долга, а еще точнее, потому что ты меня к этому принуждала. Буду очень тебе признателен, если ты направишь свои мечтания на кого-нибудь другого, а в этом доме, пожалуйста, никаких «интересных» отношений – никаких, ясно? Говорю это для твоего же блага. Все. А теперь отправляйся спать. И ты тоже, Эдгар. Выметайся.
Харриет, взиравшая на него с ужасом сквозь пелену слез, вскрикнула, закрыла лицо руками и бросилась вон из комнаты. Стало очень тихо.
– Ну, это уже было лишнее, – буркнул Эдгар.
– А по-моему, это было как раз то, что надо.
– Мог бы сказать все это помягче…
– Мягкость тут только навредит. И ты давай проваливай. Поезжай к себе в Лондон или не знаю куда ты деваешься всякий раз, после того как проторчишь тут до глубокой ночи. Или ты ждешь, чтобы Харриет и тебе тут устроила спальню?
Эдгар сидел в кресле в прежней позе.
– Поеду, – сказал он. – Но попозже. Сначала я хочу с тобой поговорить… Слушай, Монти, тут у тебя нигде нет виски?
– В гостиной стоит бутылка.
Монти опустился на стул возле окна, качнулся вперед и обхватил голову руками. Идти сейчас на кухню было выше его сил.
– Вот.
Эдгар протянул ему стакан с виски. Монти взял.
– Я хотел поговорить с тобой насчет Бэнкхерста, – сказал Эдгар.
– Да. Я благодарен тебе за то, что ты уладил это дело.
– Я как раз хотел сказать, что я его не уладил.
– А-а, понятно. Значит, не уладил.
– Я много думал о тебе, – сказал Эдгар.
– Очень тебе признателен.
– Я так и не смог тебя постигнуть.
– Я непостижим.
– Я имел в виду, что я до сих пор знаю тебя недостаточно хорошо. Понимаешь, Бинки, естественно, потребовал у меня рекомендацию. И я вдруг почувствовал, что не могу ее написать.
– Ничего удивительного. Как я уже сказал Харриет, меня вообще нет в природе.
Монти поднял голову и отхлебнул глоток виски. Комната мягко и ритмично покачивалась, голову сжимало словно тисками, тянуло вверх, и было такое ощущение, будто лицо у него с каждой секундой удлиняется.
– Меня это очень беспокоит, – вынырнул откуда-то голос Эдгара. Трясущейся рукой Эдгар подливал воду себе в виски. – Ты же знаешь, что положено писать в таких рекомендациях: честный, добросовестный, доброжелателен с коллегами, любит детей и так далее. И вот я понял, что не могу этого написать.
– То есть ты понял, что такому человеку, как я, нельзя доверять детей? Полагаю, ты прав. А как там у меня с честностью и добросовестностью? Скорее всего, тоже слабовато. Все, ладно, забыли об этом.
– Нет, нет, – заторопился Эдгар, – ты неправильно меня…
– Думаю, что правильно. Ты изложил суть дела вполне ясно.
– Я ведь не говорю, что думаю о тебе плохо. Просто я чувствую, что не понимаю тебя. Может, у тебя сейчас как раз нервный срыв, или…
– Нет у меня никакого нервного срыва, – сказал Монти. – Я бы сорвался, если бы мог. Но не получается.
– Ну поговори ты наконец со мной откровенно! Это все… из-за Софи или есть что-то еще? Ты любишь Харриет?
– Харриет? – У Монти вырвался короткий смешок. – Нет. Она, правда, интересовала меня одно время. Но теперь… это все… уже мимо.
– Не знаю. Не знаю. Что значит это твое «мимо»?
– Значит, есть только одно – самое главное, а все остальное – мимо.
– Поговори со мной об этом главном. Пожалуйста, Монти.
Монти молча раскачивал остатки виски в стакане, время от времени отпивая по глотку. В тишине слышалось сиплое, как у спящей собаки, дыхание Эдгара. Что это он так сипит – от виски, от избытка чувств или ему просто спать хочется? Монти тоже начало клонить в сон. Вспомнилось, как однажды в колледже они пили с Эдгаром вдвоем и о чем-то спорили – так и уснули оба одновременно посреди спора. Захотелось даже напомнить про тот случай Эдгару, но он все же сдержался. Встал с намерением отправиться в спальню – ужинать явно было поздно, – но, вместо того чтобы уйти, вдруг снова сел и спросил Эдгара:
– Хочешь послушать ту пленку Софи – помнишь, я крутил ее, когда ты явился воровать свои письма?
– Но как же?.. Господи…
– Она вон в том ящике. Магнитофон под столом. Знаешь, как включать?
– Нет. Но, может быть…
– Тащи сюда.
Эдгар со стуком поставил магнитофон к ногам Монти, на белую расстеленную на полу медвежью шкуру. Монти начал заправлять пленку.
– А ты выдержишь? – спросил Эдгар.
– Выдержу ли я?..
– Я насчет себя не уверен.
– Она не знала, что я нажал на запись, – сказал Монти. – Уже перед самым концом. Так просто, чтобы что-нибудь осталось – в память о любимой жене.
Бобина начала медленно вращаться, и в комнате послышался новый голос – четкий, отрывистый, высокий, с легким французским акцентом, с легким северным акцентом, с целым букетом разных акцентов, резкий, самоуверенный, деланый, неподражаемый голос единственной и неповторимой Софи.
– Убери ее, убери, она так давит мне на ноги. Да книгу же! О-ох. Подай мне те пилюли. Меня сегодня знобит. И дай еще… вон там, на тумбочке… нет, не стакан, зеркало, давай его сюда. Mon dieu. Mon dieu[23].
– Продолжай.
– Что продолжать? Зачем ты заставляешь меня все время говорить? Мне нужен покой. На, положи на место.
– Продолжай.
– Я думала, ты знаешь про Марселя, мы и не скрывались почти, я была уверена, что ты знаешь. Думала, ты слышал, как мы с ним хихикали тогда вечером. Он вернулся за своим пиджаком, и тут нас начал смех разбирать, мы чуть не умерли тогда со смеху – прямо в холле. Так ты не знал?
– Нет.
– Ну, знай теперь. О-о, как у меня все болит. И спина зудит… C’est plutôt quelque chose de brúlant[24]. Нет-нет, не прикасайся ко мне, так ты только делаешь больно. Ах!.. Ты так приставал ко мне из-за Марселя, пришлось опять что-то выдумывать. Требовал, чтобы я поклялась, – ну, я поклялась, конечно, а что мне оставалось. Фу, как все это было скучно. Но ты все равно мне не поверил, да? Помнишь, как ты мне объявил: «Он во всем признался», – а я не знала, что тебе ответить.
– Ты рассмеялась.
– Слава богу, тогда у меня еще хватало сил смеяться над тобой. Конечно, это был смех сквозь слезы. Toujuors des ennuis[25]. Видел бы ты тогда свое лицо – страшное, инквизиторское лицо, – как я его ненавидела! Если у тебя уже делалось такое инквизиторское лицо, то на целый день, до ночи… Нет, сейчас не острая боль, а такая ноющая. Моп dieu. Тебя тоже ненавидела. «Было? Было? Было?» – часами мог спрашивать одно и то же.
– Так было?
– Ты Сэнди имеешь в виду? Конечно было.
– И когда? Раньше, до того как мы поженились?
– Ах, какая разница? Нет, позже. Он так меня домогался. Теперь-то какая разница, что когда было? Теперь уже все равно. Ты что, собрался писать историю моей жизни? Да, это было бы нечто! Самому тебе такого сроду не выдумать. Вот, у тебя уже опять это лицо, которое я так ненавижу. Ненавижу, ненавижу, ненавижу тебя. Помнишь тот раз, когда я ездила в Брюссель к Мадлен, на ее выставку скульптуры? Я была тогда с Сэнди. Мы с ним провели несколько дней в Остенде. Там было так скучно.
– К Мадлен ты ездила дважды, второй раз через год.
– Зачем ты меня допрашиваешь, зачем даже сейчас меня мучаешь?
– Это ты меня мучаешь.
– Просто мне тошно сейчас врать. Это вранье так мне осточертело, я все время путалась, все время завиралась.
– Ты ездила к Мадлен дважды.
– Да, кто же у меня был во второй раз? Кажется, Эдгар.
– Эдгар?
– Ну уж про нас с Эдгаром ты точно знал.
– До того, как мы с тобой поженились?
– И после тоже. От Эдгара невозможно было отделаться. Даже если никого больше не было, Эдгар всегда оказывался под рукой – такой преданный.
– И ты ездила в Остенде с Эдгаром.
– Нет-нет, с ним мы ездили в Амстердам, на поезде. А Мадлен из Брюсселя посылала тебе мои открытки. Только один раз я ошиблась – так смешно получилось. Написала в открытке, что ездила в Брюгге, а потом ты спрашиваешь меня: «Как тебе понравился Брюгге?» – а я отвечаю, что никогда там не была. Ты так на меня посмотрел, будто сейчас убьешь.
– Если бы ты не врала мне без конца!
– Mais naturellement[26]. Что еще прикажешь делать женщине при таком муже?
– Не надо было за меня выходить.
– Это ты превратил мое замужество в тюрьму. Ты отравил всю мою жизнь своим инквизиторским взглядом, своим бесконечным «было – не было». On se croirait chez le juge d’instruction[27]. Я не помню с тобой ни минуты радости, никогда, – зато с другими мне было каждый раз так хорошо и свободно. А потом приходилось возвращаться к тебе. К тюремщику, к палачу. И ни минуты радости – все эти годы.
– У меня тоже не было ни минуты радости…
– Выключи, – попросил Эдгар.
Монти выключил магнитофон и сел, как раньше, наклонясь вперед и обхватив голову руками.
– Все это ложь, конечно, насчет меня.
Эдгар проговорил эти слова спокойным, ровным голосом, но сипел теперь еще сильнее – почти задыхался.
– Я так и думал, – сказал Монти.
Дотянувшись до отставленного в сторону стакана, он разболтал в нем остатки виски и допил до дна.
– Ты мне веришь? Я никогда не был с Софи в Амстердаме. Я никогда не спал с ней. Ни после того, как вы поженились. Ни до. Да, я писал ей, когда она уже была твоей женой. Но мы с ней, кажется, даже ни разу не оставались наедине. Иногда заезжал на чай. И один раз мы с ней обедали, когда вы с Ричардом были в Нью-Йорке… Я писал тебе об этом в письме. Мы поехали в ресторан и…
– Да, да. Ты даже писал мне, что вы заказывали. Это не важно.
– Ты веришь мне?
– Да, конечно.
– Зачем ты поставил мне эту пленку?
– Хотел услышать, как ты скажешь, что это неправда. Если все неправда с тобой, то и с остальными наверняка все ложь. Когда она умерла, мне сначала казалось, что я должен их всех разыскать и поговорить с ними. Их были десятки… ну, не меньше десятка. Не в том смысле, что я собирался их всех перестрелять, – нет. Просто хотелось услышать, что они скажут. Прийти к ним, дать им понять, что я все знаю; хоть этим их задеть. А потом я решил, что это бессмысленно.
– Я рад, что ты так решил, – тихо сказал Эдгар.
– Конечно, у нее были любовники. Но я никогда не знал, сколько и кто именно. Может быть, те, кого она называла, служили лишь прикрытием для настоящих, о которых я даже никогда не слышал.
– Когда ты это записывал? Я хотел спросить, за сколько до…
– До ее смерти? Дня за три. Это был типичный разговор. Каждый день – неделями, месяцами – у нас повторялось одно и то же… до самого конца. Вот мне и захотелось увековечить сцену умирания.
– Не надо было этого делать, – сказал Эдгар.
– Записывать? Да, конечно.
– И не надо было хранить эту запись.
– Да.
Монти перемотал пленку, снял бобину, подошел к камину, пошевелил огонь и бросил бобину на тлеющие угли. Пленка зашипела и начала чернеть.
– Я иду спать, – сообщил он. – Спокойной ночи. И забудь про Бэнкхерст, выкинь из головы. Ты прав на мой счет.
– Подожди, – сказал Эдгар. – Сядь. Пожалуйста. Сядь.
Монти придвинул стул к камину, сел и стал смотреть в огонь. Пленка занялась уже целиком.
– Скажи, Монти, тебе это что-нибудь дало?
– Дало – что? Ах да, что я поставил тебе эту пленку? Нет, не думаю.
– Так все дело в этом? Ты мучаешься из-за любовников Софи? Не надо. Пойми, она умерла.
– Ты считаешь, теперь я обязан ее простить? Видишь ли, «простить» – не совсем то слово.
– Дело не в словах. Ты должен отпустить ее.
– Не пережившему тяжелой утраты не дано понять пережившего.
– Какая разница, кто были ее любовники и сколько их было? Все это не имеет уже никакого значения. Смерть важнее – она все меняет. Тебе надо наконец обрести покой. Мы ведь с тобой тоже смертны, Монти. Ты раздираешь свою душу на куски. Этого нельзя делать, Монти. Больше того – ты сам знаешь, что нельзя. Ты все знаешь сам.
– Ты так думаешь.
– Да. И ты знаешь, о чем я говорю.
– Слова, слова.
– Пусть это уйдет, Монти. Обида, ревность, бесконечное пережевывание всего самого плохого, что было… Софи умерла, и ты должен уважать ее смерть, не вырывать из памяти о ней какие-то клочья. Смерть меняет наше отношение к людям. Точнее, это отношение продолжает потом жить само по себе – и продолжает меняться. И надо, во всяком случае, стараться, чтобы в нем было больше высокого, чем низкого… Софи умерла, ты продолжаешь жить. И твой долг, как и всякого другого человека, сделать свою жизнь лучше. Ты же делаешь ее только хуже.
– Ты так думаешь.
– Да. И ты делаешь это умышленно. Превращаешь свою жизнь в кошмар. Если бы только я мог тебя понять – и помочь. Я люблю тебя, Монти, всегда любил, еще с колледжа, и всегда тобой восхищался.
– Ты ненормальный, – сказал Монти. – Ты же прекрасно понимаешь всю мою подлость. И что таланта у меня нет, тоже наверняка давно понял.
– Есть у тебя талант! И ты вполне можешь написать настоящую книгу, если захочешь. Конечно, всех проблем это не решит, но хоть часть. Это же твоя работа, и пора наконец взять себя в руки. Хватит уже напускать на себя всю эту жуткую загадочность – это так мелко, малодушно… недостойно тебя. Ах, я знаю, что это все не те слова. Если бы только я мог понять!..
– А ты еще не понял? – спросил Монти.
Минуту или две, пока Эдгар смотрел на него молча, казалось, что в комнату из всех щелей вползает ночная тишина.
– Нет. Я думаю, есть что-то еще. И думаю, тебе лучше сказать мне об этом. Прямо сейчас.
– Ладно, – сказал Монти. – Я убил ее.
– Ты… убил… Софи?
– Да. Конечно, она и без меня бы скоро умерла. Но я убил ее.
Повисла пауза; потом в камине с сиплым шелестом рассыпались прогоревшие угли – будто кто-то вздохнул в тишине.
– Чтобы избавить от страданий? – спросил Эдгар.
– Нет. Не думаю. Скорее всего, от злости, или из ревности, или еще почему-то. Меня пугала ее смерть, пугали предсмертные муки, и я думал о них со страхом. Но убил я ее не из-за этого. Я убил ее, потому что она довела меня до бешенства.
– Но ты… не хотел?..
– Да нет. Пожалуй, хотел. Это, конечно, было не преднамеренное убийство. У меня и раньше часто возникало желание ее ударить, она сама нарочно пыталась меня до этого довести, но я ни разу пальцем ее не тронул. Но в конце… это было как наваждение – мне хотелось, чтобы она рассказала все, прежде чем умрет, – ведь после я бы этого уже не выяснил, никогда. Но потом вдруг – как-то неожиданно – оказалось, что я не могу больше этого выносить – всего того, что она говорила… и чего не говорила… и я схватил ее за горло и сдавил… а потом… отпустил, но… она была уже мертва.
– О боже…
– Ну что? – сказал Монти. – Получил свое «что-то еще»? Надеюсь, теперь ты уже вполне доволен. Глоток виски на посошок?
– Нет, не надо… не говори так. А как же… Врач ведь должен был…
– Да, доктор Эйнсли смотрел ее. Разумеется, он видел следы на шее. Но не сказал ни слова. В свидетельстве о смерти написано «рак».
– Монти, Монти…
– Как видишь, интуиция тебя не подвела. Вряд ли бы из меня получился хороший учитель.
– Перестань, я совсем не то хотел… Но скажи мне, это из-за чувства вины ты такой?..
– Такой, какой есть? Видишь ли, друг юности моей, тут не совсем вина. Скорее глубокий шок. Понимаешь… я любил ее. То, что я тебе сейчас рассказал, выглядит со стороны как… зверство… сумасшествие… но я любил ее… со всей страстью… и нежностью… любил все те мелочи, в которых была она сама… И это неправда, что она тогда говорила… и я тоже… что в нашей жизни не было ни минуты радости… Потому что они были. Конечно, она без конца дразнила меня, мучила нарочно… Но мы любили друг друга, и она всегда могла на меня опереться… и только в конце, когда ей было так плохо… и так страшно… она не хотела умирать… она не была готова… ни душой, ни умом… к тому, что смерть может подступать так медленно, так неумолимо… От страха она стала другим человеком… и, кроме меня, ей некому было все это высказать… всю тоску, весь ужас… она хотела, чтобы и я страдал, и мне нужно было… принять это страдание коленопреклоненно… но я не мог, не хотел видеть, что она уже умирает… и отвечал ей тем же… требовал рассказать одно, другое, третье… и так мы изводили друг друга… до конца… пока я ее не убил… Все должно было быть по-другому… Но это не вина, это шок… от этого можно спятить… Умри она своей смертью, все было бы… но я сделал это собственными руками… я прервал наш с ней разговор… и его тоже надо было вести по-другому… Я выбрал момент ее смерти… Я решил, когда ей уходить… Из-за этого кажется, будто не было неизбежности и все произошло чуть ли не случайно… будто она не должна была умирать… и умерла не совсем… только наполовину… а наполовину все еще здесь… и это тянется и тянется… она продолжает умирать… и так и будет… она будет умирать… и страдать… всегда.
Пока Монти говорил, его начало трясти, губы и руки дрожали. И вот огонь, на который он смотрел, начал расплываться перед его глазами, в глазах и во рту стало влажно, из глаз хлынуло, из груди вырвался всхлип, и сразу все лицо залилось слезами, слезы со щек капали на пиджак и на пол. Он неловко сполз на пол и, облокотившись на сиденье стула, плакал навзрыд, как ребенок.
Эдгар, смотревший на него ясными горящими глазами, подошел и тоже сел на пол.
– Ладно. Поплачь. Отплачешься и успокоишься. Ты молодец, что сказал мне. Молодец.
Мало-помалу Монти затих и, развернувшись к стулу спиной, стал стирать слезы со щек тыльной стороной руки.
– Поедем со мной в Мокингем, – сказал Эдгар. – Поживи там, пока не надумаешь, что делать дальше. Пожалуйста, Монти. Я, конечно, не бог весть кто, но все-таки старый друг. Я знал Софи, и я любил ее. А теперь, когда ты мне все это рассказал, мне кажется, будто мы с тобой связаны – ты и я, крепко-накрепко.
– Угу, – сказал Монти своим обычным голосом. – Узами страшной тайны.
– Вот, ты уже приходишь в себя. Только не надо делать вид, будто ничего не случилось и мир не перевернулся. Для нас с тобой, сегодня, он перевернулся. Стал другим.
– Да?
– Позволь мне взять тебя за руку и вести, будто ты слеп или хром. Не бойся, на меня можно положиться.
– Я слеп и хром, – сказал Монти.
– Это самое разумное, что я слышал от тебя за последнее время. Поедем со мной в Мокингем! Там так красиво. Мы с тобой будем спорить – помнишь, как раньше?
– И ты по-прежнему смотришь на меня без ужаса?
– Не говори ерунды.
– Представляю, как ты сейчас доволен, что я все-таки сорвался. Для тебя это, наверное, грандиозное достижение.
– «Принц, чей оракул находится в Дельфах, не говорит и не утаивает, но знаками указывает»[28].
– А, вон ты о ком. Не уверен, что…
– Но ты ведь не станешь говорить, что все вышло сегодня случайно?
– В том смысле, что на твоем месте мог быть кто угодно другой? Нет. Это мог быть только ты. Как ты правильно заметил, ты, конечно, не бог весть кто, но…
– Я любил Софи и…
– Нет. Нет. Дело не только в этом и не только в юношеских воспоминаниях. Просто ты – это ты.
– О-о… – вырвалось у Эдгара.
– Ну, ты все понял.
– Ты поедешь со мной в Мокингем?
– Да, – сказал Монти. – Будем сидеть на террасе, курить сигары – во всяком случае, ты будешь курить – и спорить о Линии и Пещере[29]. И ты будешь лечить меня… от моего недуга.
– Монти, ты не шутишь? Это же все меняет.
– Думаю, что не шучу. Нет, не шучу. Но я устал, Эдгар. Иди, прошу тебя. Я уже битый час пытаюсь тебя выгнать.
– Слава богу, что я тебя не послушал.
– Все, теперь можешь спокойно уходить. Я весь излился. Я пуст. Спокойной ночи.
– И ты правда поедешь со мной?
– Да. Да. Да.
Харриет, словно окаменев, стояла посреди тускло освещенной спальни.
То, что Монти окончательно – и так жестоко – отверг ее любовь, обрушилось на Харриет страшным, оглушительным ударом. Поднявшись к себе, она долго плакала от горького разочарования, от одиночества и от сознания того, что рухнула последняя надежда. После того трудного разговора на скамейке она тоже очень расстроилась, но все же чувствовала неразрывную связь с Монти и была уверена, несмотря ни на что: все устроится. Он еще оценит ее и полюбит! В конце концов, его резкость и язвительность давно ей известны, он всегда был таким. Он недавно потерял жену, так что о более близких отношениях говорить пока рано. Но она не сомневалась, что найдет к нему подход, рано или поздно это случится. А потом, когда он так по-рыцарски защитил ее от Блейза, от нее самой, от ее собственной рабской сентиментальности, когда остался с ней (по ее просьбе, высказанной в присутствии мужа), Харриет окончательно уверилась в том, что он сделал все это ради нее и из любви к ней. Раз он не захотел, чтобы ее сердце дрогнуло и чтобы она вернулась к Блейзу – все равно, на каких условиях, – значит берег ее для себя.
Лишь теперь Харриет начала понимать, как горько она обманывалась. Эти грубые слова, так жестоко высказанные им в присутствии Эдгара, никак нельзя было истолковать благоприятным для нее образом, их нельзя было объяснить даже ревностью к Эдгару. Монти ее отверг. Она со страстью и смирением предложила ему свою любовь – можно сказать, предложила себя, – а он брезгливо ее оттолкнул. Как же он должен был презирать ее, со всеми ее метаниями, когда она от отчаяния хваталась за него и пыталась любить.
Когда потоки слез иссякли, Харриет еще долго сидела на кровати, бессмысленно глядя перед собой и вертя в руках мокрый носовой платок. «Что со мной станет? – думала она. – Где я буду в это время через год? Даже через месяц?» Но сидеть неподвижно наедине с этими тягостными мыслями было невыносимо. Харриет встала, вышла в коридор. Снизу из кабинета доносились голоса. Двери соседних комнат были закрыты. Ступая на цыпочках, она дошла до двери комнаты, в которой спал Люка, и, тихо нажав на ручку, вошла. Слабый луч из холла треугольником высветил ковер на полу, кровать, спящего мальчика на кровати. Хотя спал ли он? Непонятно почему Харриет вдруг пришло в голову, что Люка только притворяется, что спит, и что вот он сейчас подскочит и позовет ее. Может, в его позе была какая-то странность. А что, если он умер? Мертвый ребенок в постели… Чтобы успокоиться, Харриет протянула руку к кровати: ей хотелось почувствовать тепло Люки, услышать его дыхание. Под рукой неожиданно шевельнулось что-то жесткое, большое – Харриет не сразу поняла, что это Лаки, устроившийся у Люки в ногах. В тот момент, когда ее пальцы коснулись густой собачьей шерсти, Лаки привстал и тихонько, но внушительно зарычал. Харриет поспешила отдернуть руку.
В коридоре она немного постояла за дверью, потом направилась в спальню Дэвида. Вошла осторожно, оставила дверь полуоткрытой, чтобы не шуметь. В этой части дома светила луна, и комната была залита рассеянным голубоватым светом. Дэвид лежал на кровати очень прямо, как-то неестественно вытянувшись, и тоже, казалось, готов был подняться в любой момент. Мелькнула нелепая мысль, что если он так поднимется, то будет похож на восставший труп. Глядя на его странно вытянутый, как по стойке смирно, силуэт, она думала: «Внук солдата, племянник солдата. А хочу ли я, чтобы он сам стал солдатом?» Раньше она почему-то ни разу не задавала себе этот вопрос. Неожиданно она с ужасом осознала, что Дэвид не спит, а лежит с открытыми глазами и неподвижно смотрит в окно. В его глазах отражался голубоватый свет, они блестели, будто были полны слез. «Он не мог не слышать, как я вошла, – в смятении подумала Харриет. – Просто он не догадывается, что в темноте виден блеск глаз, поэтому лежит неподвижно – ждет, когда я уйду».
– Дэвид! – тихо, еле слышно позвала она.
Он не шевельнулся, только глаза на миг вспыхнули голубизной, словно две крупные слезы, перед тем как выкатиться, сверкнули в лунном свете. Харриет тихо ушла.
Вернувшись к себе в спальню, она опять начала плакать, но вдруг затихла и насторожилась. Внизу, в кабинете, звучал теперь еще один голос, женский. Женщина разговаривала с Монти. Странно. Харриет вслушалась внимательнее – и с холодным ужасом осознала, что это за женщина. Голос, который не спутаешь ни с каким другим. Голос Софи. Харриет метнулась к двери, но тотчас отбежала обратно к кровати. Что это – призрак? Монти умеет вызывать духов? Харриет уже и в это готова была поверить. Или Софи на самом деле не умерла, а прячется где-то в доме? Так вот почему Монти ведет себя так… странно! Харриет похолодела, из ее груди вырвался глухой стон. Она выбежала из спальни, перед лестницей снова замерла. Теперь снизу доносились только голоса Эдгара и Монти. Значит, тот жуткий звук ей примерещился? И она все-таки сходит с ума?
Внезапно из темноты долетел долгий, тоскливый вой. Цепенея от страха, Харриет стояла на площадке, и ей казалось, будто мимо нее, сквозь нее пронеслось, как порыв ветра, что-то страшное и холодное – и ей стало страшно холодно.
С лихорадочной поспешностью она начала включать свет на лестнице, в коридоре. Вернулась к себе в спальню, там тоже зажгла все лампы. Бежать, бежать, стучало у нее в мозгу, прочь из этого страшного дома, прочь от Монти. Теперь она ясно видела, что Монти не может и не сможет ее ни от кого защитить, он сам беззащитный и обреченный человек, к тому же погрязший в каких-то непонятных отношениях с призраками. Харриет подхватила сумочку, накинула пальто, потом остановилась на минутку, чтобы подумать, – и тотчас ей стало совершенно ясно, что теперь надо делать. Она молча сбежала по лестнице, прокралась мимо кабинета, в котором разговаривали два мужских голоса, к двери, бесшумно выскользнула на улицу. Только сейчас, втягивая в себя теплый неподвижный ночной воздух, поглядывая на фонари, обрамленные красными и зелеными светящимися лиственными шарами, она впервые за долгое время почувствовала облегчение. Вскоре впереди, под одним из фонарей, показалась оставленная на обочине машина Эдгара. Харриет ускорила шаг. Знакомый силуэт «бентли» подействовал на нее успокаивающе. Она встала за машиной, прислонясь к дверце спиной, и стала смотреть на то, как летучие мыши вычерчивают ломаные линии между фонарями. Дорога была пустынна.
Наконец в Локеттсе хлопнула входная дверь, и вскоре послышались шаги Эдгара. Харриет, которую было не видно с дороги, увидела его лицо секундой раньше, чем он заметил ее. Эдгар улыбался, он был доволен, он сиял от счастья.
– Эдгар.
– А, Харриет! Ты меня напугала. Что ты тут делаешь? Я думал, ты пошла спать.
– У меня есть к тебе разговор. Можно сесть в машину?
Она забралась на переднее сиденье, и Эдгар тоже сел. Здесь, внутри своего «бентли», в его темной просторной кожаной утробе, Эдгар Демарнэй показался ей таким большим, надежным.
– Эдгар…
– Да. Как ты дрожишь. Надеюсь, это не мы тебя так… напугали?..
– Эдгар, я решила. Ты был так добр ко мне все это время, так бережно ко мне относился. Думаю, я все-таки поеду с тобой в Мокингем. Тогда ты сможешь заботиться обо мне. Ведь кто-то должен это делать. Просто я чувствую, что все кончилось… света больше нет… впереди один только мрак… и я так благодарна тебе… думаю, я могла бы тебя полюбить… думаю, я уже люблю тебя. Так что едем… когда хочешь… хоть сейчас… только нужно взять с собой Люку… и Дэвида, конечно… в Мокингем… там наконец-то нам будет спокойно и хорошо.
В машине воцарилась тишина. Слышалось только тяжелое, сиплое дыхание Эдгара, крепко пропитанное – Харриет заметила только теперь, когда он развернулся к ней, – запахом виски.
– Харриет… Я так тронут…
– Не надо ничего говорить, – прервала его Харриет. – Ты… правда… очень мне дорог. – Наклонясь вперед, она протянула руку и погладила Эдгара по плечу точно так же, как гладила своих собак, только вместо теплой жесткой собачьей шерсти под пальцами оказалась теплая жесткая шерсть пиджака. И в этот самый момент что-то нарочитое и не совсем естественное отлетело прочь, сердце Харриет дрогнуло и по-настоящему потянулось к Эдгару.
– Харриет, я так… ты удивительная… так тебе благодарен… – путаясь и сбиваясь, заговорил Эдгар, – но я боюсь, что это… невозможно уже… теперь.
Харриет убрала руку.
– Понятно. Ты передумал. Извини.
– Нет, нет, Харриет, дело не в этом. Я не передумал, нет! Монти… Я не могу тебе все объяснить. Мы с Монти едем в Мокингем. Это очень важно. Я думаю, нам с ним надо… побыть вдвоем… хоть какое-то время. Понимаешь, вдруг оказалось, что я ему очень нужен, и я должен… А вместе вы ведь вряд ли сможете… Так что… пока никак. Пожалуйста, прости меня. Но ты не думай, с моей стороны ничего не изменилось… я по-прежнему… Просто я должен сейчас уделять много внимания Монти… но потом, скоро – ты ведь знаешь, как я буду рад твоему приезду… Скоро, чуть позже.
– Собственно, вместе с Монти я бы и сама не поехала, – сказала Харриет.
– Да, конечно, это было бы неловко… то есть… я все понимаю… Мне очень жаль… Я так рад и так благодарен тебе за то, что ты сочла возможным… очень жаль… Но мы можем встречаться здесь или в Лондоне… Ты знаешь, я был бы счастлив тебе помочь, только…
– Конечно, – сказала Харриет. – Спасибо. Ну, не буду больше тебя задерживать, уже поздно.
– Но я надеюсь, ты веришь, что это не… Прости меня… Как бы мне хотелось тебе объяснить…
– Не надо ничего объяснять.
– Но мы скоро с тобой увидимся, да? Мне очень хочется, чтобы ты могла на меня рассчитывать…
– Да, разумеется. Пообедаем как-нибудь вместе…
– В Лондоне, здесь – где угодно… Ты знаешь, что я всегда… Вот только пока…
– Да, да, я понимаю. Спокойной ночи, Эдгар. Осторожнее на дороге.
– Спасибо, я…
Харриет выбралась из машины раньше, чем Эдгар успел запечатлеть свой неловкий поцелуй на ее щеке, и быстро ушла. «Бентли» медленно, словно нехотя, двинулся в противоположном направлении.
В эту ночь Монти так и не добрался до постели. Он стоял у окна в своем кабинете, жевал бутерброд с сыром и ждал рассвета. Он не думал о том, хорошо ли он сделал, рассказав обо всем Эдгару Демарнэю, или только полный кретин мог вот так выболтать все до конца. Просто, как Монти и признался Эдгару, он чувствовал себя совершенно пустым. Он даже не мог разобраться, хуже или лучше ему стало от этой пустоты. Возможно, лучше. Во всяком случае, спокойнее. В окружающем его мире вдруг появились первые признаки покоя, как иногда в феврале появляются первые признаки весны. Но возможно, то была лишь иллюзия, мимолетное настроение. Или просто хмель ударил в голову. И что дальше, спрашивал себя Монти, неужели я действительно поеду в Мокингем? Мне отведут какую-нибудь огромную, безбожно холодную спальню, где стоит кровать под балдахином, в юности так поражавшим мое воображение. И я буду спускаться к ужину, а потом мы с Эдгаром выйдем на террасу – пить портвейн и беседовать о философии и об Оксфорде. Неужели эта жизнь все еще существует и можно взглянуть на нее, потрогать, вдохнуть в себя ее запах? Может, это и есть неведомый извечный запах невинности? Может, все любовники Софи лишь плод моего воображения, а на самом деле Софи была чиста и непорочна?
Постояв, он вышел через гостиную на газон. Небо начало светлеть, его тусклая бледность пока еще не прибавляла освещения, но зато на ее фоне предметы понемногу обретали форму и цвет, словно сами испускали неверное чахлое рябоватое сияние. Из-под черного силуэта пихты рыскающим кусочком черноты вынырнул Аякс. Невидимая птичка чирикнула несколько раз и умолкла. Свернув за угол дома, Монти прошел несколько шагов по садовой дорожке и замер. Впереди между деревьями показались окна Худ-хауса. В окне кабинета Блейза только что вспыхнул свет.
В первую секунду Монти охватил ужас, порожденный, видимо, бледным рассветом и собственными давними страхами. Мерещилось что-то жуткое и необъяснимое. Кто может бродить в этой зловещей тишине по пустому заброшенному Худ-хаусу, включая свет, переходя из комнаты в комнату? Блейз? Монти вдруг почувствовал страх перед Блейзом – или, возможно, страх за Блейза. И дело было даже не в том, что Блейз вполне мог его ненавидеть, желать ему зла, желать ему даже смерти, – просто страх, окружавший Блейза, просочился в душу Монти; а после того, что случилось сегодня ночью в его собственной жизни, страх этот, кажется, окреп и начал пускать корни куда-то еще глубже. Блейз достоин жалости, думал Монти, но при этом он сам представляет собой ходячую угрозу – как облученный, получивший высокую дозу радиации. Зачем он слоняется теперь по пустому дому, чего ищет, на что надеется? Мечтает начать все сначала – или поставить последнюю точку? Немного поколебавшись, Монти быстро зашагал в дальний конец сада, с трудом протиснулся через собачий лаз и только на той стороне остановился, чтобы перевести дух. Первый этаж тоже был освещен: в кухню через полуоткрытую дверь падала полоса света из прихожей. Окно в кабинете Блейза было задернуто, и его узорчатый освещенный квадрат казался приклеенным к темнеющей в полумраке стене дома.
Рядом кто-то злобно завозился, послышался собачий лай.
– Ну, ну, хватит, хорошая собачка!.. – бормотал Монти.
«Я должен увидеть Блейза, – стучало у него в голове, – я обязательно должен его увидеть. Надо объяснить ему, пусть он не думает, что я исчадие ада, что я нарочно подвел его к гибели. Хотя не может быть, чтобы он по-настоящему так думал. Зачем я говорил с ним так в присутствии Харриет? Очень нехорошо. Странно, что он появился именно сейчас, когда, оказывается, он мне так нужен. Надо пойти и спокойно с ним поговорить, незачем ему одиноко бродить в пустом доме, среди предрассветных кошмаров. Я сейчас же иду к нему».
Под ленивое собачье ворчанье Монти пересек лужайку, обогнул дом. Входная дверь была приоткрыта. Ступив в освещенную прихожую, он поднялся по лестнице, постучал в дверь кабинета и вошел.
– Ax!..
Пачка карточек выпала из рук Харриет и рассыпалась по полу.
– Это ты, – удивленно сказал Монти. – А я думал, тут Блейз… Харриет, что с тобой?
Харриет долго не отвечала. Она стояла посреди комнаты в своем длинном белом пальто, ее лицо на фоне белого поднятого воротника казалось безжизненно-бледным и рябоватым, как рассветный свет, пальцы судорожно дергали верхнюю пуговицу платья, словно ей было дурно. Она смотрела на Монти расширенными глазами, губы ее – то ли от испуга, то ли от гадливости – подрагивали и кривились. Вспоминает мои слова, догадался он; наверное, они засели в ее душе. И с ней тоже ему следовало вести себя совсем не так.
– Ничего, – неживым голосом проговорила наконец она. – Что ты хочешь?
– Я думал, это Блейз.
– Извини, это оказалась я, – сказала она, возвращаясь к своему занятию.
Харриет обыскивала шкаф Блейза, в котором хранилась картотека. Несколько ящиков было уже выдвинуто, их содержимое рассыпано по полу.
– Харриет, ты что-то ищешь? Я могу тебе помочь?
В ярком электрическом свете вся сцена выглядела жуткой до нереальности и наводила на мысль о грабеже или об обыске, учиненном тайной полицией. Харриет достала из ящика еще пачку карточек, быстро просмотрела их и бросила на пол.
– Что ты ищешь?
– Адрес Магнуса.
– Магнуса? Магнуса Боулза?
– Да.
– Но… почему?..
– Я хочу встретиться с ним, – сказала Харриет. – Магнус знает про нас с Блейзом все, с самого начала, Блейз тогда сразу ему рассказал – может быть, даже то, чего мне никогда не говорил. Я чувствую, я уверена, что Магнус человек мудрый, хороший, святой в каком-то смысле, – я давно это поняла. Правда, Блейз, когда рассказывал о нем, все время пытался его принизить – но он всех всегда старается принизить. Он просто не способен разглядеть в человеке величие души. Я должна поговорить с Магнусом, должна, я знаю, что он мне поможет. Блейз говорил, я единственная женщина, которая существует для Магнуса. Значит, я нужна ему. А раз я ему нужна, то и он мне нужен. И он… он последний…
Голос ее дрогнул, она отвернулась к шкафу и выдвинула следующий ящик.
– Послушай… – пробормотал Монти.
– Блейз, конечно, много чего забрал, но его старая картотека с адресами вся здесь. Тут его старые бумаги, за все годы, – и на каждого, на каждого пациента своя папка. Кроме Магнуса. А у тебя, случайно, нет? Хотя… откуда у тебя его адрес.
– Харриет, – сказал Монти. – Так ты не знаешь… про Магнуса.
– Чего я не знаю?
Обернувшись, она смотрела на него почти гневно.
– Магнус умер… недавно, – сказал Монти. – Покончил с собой. Выпил снотворное. Его больше нет.
Харриет медленно опустилась на стул и машинально отодвинула наваленные на столе бумаги вбок, словно ей понадобилась для чего-то середина стола. Она сидела, ничего не говоря, уставясь невидящим взглядом в пыльную кожаную исцарапанную столешницу.
– Мне очень жаль.
Монти действительно смотрел на нее с жалостью, но и с каким-то странным возбуждением. Он подбирал в уме подходящие слова, ожидая, когда она заговорит или заплачет, но Харриет не сделала ни того ни другого. Она сидела перед ним, скорбная и оглушенная, как преступница, которой только что зачитали приговор.
– Харриет, – сказал Монти. – Пожалуйста, прости меня за то, что я наговорил тебе тогда, перед Эдгаром. Это было глупо, ненужно и… трусость с моей стороны. Мне показалось, что так будет лучше для тебя. Хотел предостеречь тебя, чтобы ты не слишком полагалась на меня, на таких, как я, – пижонство своего рода. Но я все же питаю к тебе самые теплые чувства и очень хочу помочь – поверь, действительно хочу.
Харриет повернула к нему чужое, приговоренное лицо.
– Спасибо, но твоя помощь мне не понадобится… как и твои извинения. Я даже благодарна тебе за то, что ты высказался так… определенно. Постараюсь устроить свою жизнь как-то иначе. Завтра мы с мальчиками возвращаемся в Худ-хаус. Извини, что причинили тебе столько неудобств. Спокойной ночи.
– Уже утро.
Монти отдернул штору. За окном светило солнце, в саду на все голоса распевали птицы.
Харриет не ответила. Отвернувшись к столу, она что-то бормотала про себя. Монти уловил слово «конец».
– Я знаю, что ты сердишься, – сказал он. – И ты имеешь на это право. Но все же я прошу тебя: оставайся в Локеттсе – и не думай обо мне плохо. Возможно, ты мне все-таки нужна…
– Я не сержусь, – тихо, одними губами проговорила Харриет. – Если ты думаешь, что я сержусь, то ты ничего не понял. Хотя это не важно.
– Хорошо. Пусть пока мы с тобой не можем друг друга понять. Я сейчас уйду. Но помни, пожалуйста, что ты нужна мне – помни об этом потом, – несмотря на все глупости, что я тебе наговорил. Спокойной… спокойного дня.
Монти постоял немного и, не дождавшись ответа, ушел. По дороге выключил свет на лестнице и в прихожей. От угла дома по седой от росы лужайке тянулась цепочка его собственных следов. Когда Монти через дыру в заборе проник в собственный сад, навстречу ему из высокой травы вынырнул Аякс, темный и прилизанный, как тюлень. Скользнув рукой по мокрой собачьей шерсти, Монти успел ощутить явственную вибрацию: Аякс глухо, угрожающе рычал. Монти выбрался на тропинку и по белым звездочкам маргариток зашагал к дому. Не забыть написать Блейзу, что Магнус Боулз умер, думал он. Как вовремя и как кстати. Странное возбуждение, охватившее его, когда он сообщил Харриет эту новость, вернулось к нему теперь таким же странным чувством свободы. Может, разговор с Эдгаром и впрямь что-то изменил? Так или иначе, что-то изменилось. Умер Мило, умер Магнус, и от этих двух смертей Монти определенно чувствовал себя сильнее и в целом лучше. Он пока еще не был готов к тому, чтобы углубляться в самую страшную свою боль и пытаться что-то с ней сделать. Он чувствовал себя как человек, у которого во время пожара обгорело лицо и который только что перенес пластическую операцию, но пока боится взглянуть в зеркало. Хотя нет, мысленно поправился он. Если говорить об операции, то скорее уж ему оперировали ноги – или глаза. Вспомнились вдруг его собственные слова из вчерашнего разговора с Эдгаром: «Я слеп и хром». Да, надо было сильно увлечься, чтобы сказать такое. Или сильно напиться. То-то Эдгар был так доволен.
Дома Монти прошел прямо к себе в кабинет и опустился на колени, как для медитации, но медитировать даже не пытался, а лениво думал о Харриет – о том, как он постарается опять завоевать ее доверие. Он напишет ей большое письмо. Никуда она не денется, думал он, я нужен ей; к тому же у нее никого нет, теперь нет даже Магнуса.
Сверху уже доносились утренние звуки: мальчики проснулись. Монти вышел в холл и заглянул в ящик с письмами. Возможно, сегодня он какие-то из них просмотрит. «А не снять ли заодно намордник с телефона?» – неожиданно подумал он и принялся раскручивать обмотанную вокруг звонка проволоку. Взяв аппарат в руки, Монти опять, как с Аяксом, ощутил вибрацию: оказалось, что в этот момент телефон беззвучно звонил. Монти выдернул проволоку, снял трубку и тут же, морщась, отвел ее подальше от уха.
– Вас вызывает Италия, – объявил невыносимо громкий голос телефонистки.
Последовала пауза.
– Алло? – вопросительно произнесла трубка мужским, совершенно не итальянским голосом.
– Дорогой Дик, – сказал Монти, – сколько раз тебе повторять, что я терпеть не могу междугородние переговоры, особенно во время завтрака?
– Если ты не поедешь за Люкой, то поеду я, – сказала Эмили.
– Все не так просто, – возразил Блейз. – Ты же знаешь, какой он. Мы не можем держать его здесь против его воли, он просто сбежит.
– Я хочу, чтобы ты привез Люку.
– Знаешь, пока мы с тобой такие, даже лучше, если его не будет дома.
– Какие – такие?
– Вот такие!
– Мне иногда кажется, что ты ненавидишь собственного ребенка.
– Эмили, не говори глупостей, все и так достаточно скверно…
– Я знаю, ты уже сто раз успел обо всем пожалеть, тебе хочется сбежать отсюда куда подальше…
– Эмили, замолчи!
– Из школы опять звонили.
– Ничего удивительного. Если так дальше пойдет, нас скоро лишат родительских прав. Слава богу, что скоро каникулы.
– Еще доктор Эйнсли звонил. Разговаривал как чокнутый.
– Да пошел он.
– И миссис Батвуд.
– Честное слово, по-моему, пусть лучше Люка поживет какое-то время с Харриет. У меня сейчас и без этого маленького привидения забот хватает. А к осени мы переведем его в тот пансион.
– Кто это – мы?
– Мы с тобой, ты и я. Осенью…
– Доживу ли я до осени, вот вопрос.
– Это что, суицидальная угроза?
– Нет, зачем. Просто я не знаю, смогу ли выдержать такое напряжение. И что будет, если не смогу. Осень далеко. Мало ли что со всеми нами до этого может случиться.
– Что тебе не нравится? Я же здесь – так или нет?
– Не знаю.
– Послушай, ради тебя я бросил все. Ну чего еще ты хочешь?
– Это ты хочешь. Хочешь вернуться к ней.
– Ничего подобного!
– Ладно, хватит об этом. – В продолжение всего разговора Эмили сидела, глядя на скатерть, и ни разу не повысила голос. – Все, хватит. Все.
– Господи, сколько можно! – не выдержал Блейз.
Ему хотелось набрать в легкие побольше воздуха и заорать – от неизвестности, страха и отчаяния.
– Думаю, нам с Люкой лучше всего убраться поскорее куда-нибудь в Австралию, чтобы ты мог наконец вернуться к своей Харриет, – сказала Эмили. – Если, конечно, ты будешь любезен и оплатишь нам дорогу.
– Эмили, перестань. Сама понимаешь, что это бред.
– Это не бред. Наверное, я не сумела тебе как следует объяснить, насколько мне дорог Люка. Он мой сын. Он – единственное, что у меня есть в этой жизни. Он принадлежит мне и только мне, и никакой Харриет я его не отдам. Не хочешь ехать за ним сегодня – не надо. Но чтобы к концу недели он был здесь, иначе я сама туда явлюсь и разнесу весь ваш вонючий дом в щепки. Это ясно?
– Хорошо, хорошо. – Этот новый тон Эмили пугал Блейза. Зачем ей понадобилось разворачивать эту новую кампанию именно сейчас, когда ему столько всего надо обдумать? И так невозможно ни в чем разобраться, а тут еще Люка. – Хорошо, – сказал он. – Я его привезу.
– Когда ты встречаешься с адвокатом насчет развода?
– Скоро.
– Завтра, послезавтра – когда?
– Я сказал, скоро! Не могу же я заниматься всем одновременно!
– Не будет развода – все, адью, надеюсь, это ты понимаешь?
– Понимаю, понимаю.
Рука Блейза в кармане судорожно сжала два письма. Оба они пришли сегодня, Эмили о них не знала. Первое письмо было от Монти, второе от Харриет.
Монти написал следующее:
Дорогой Блейз!
Ставлю тебя в известность, что наш старый друг Магнус Боулз скончался, – на всякий случай я решил сообщить тебе об этом немедленно. Я умертвил его вчера в интересах Харриет. (Она искала в твоих бумагах адрес Магнуса и порывалась встретиться с ним.) Он принял слишком большую дозу снотворного и не проснулся. Впрочем, в любом случае его миссия уже завершена, и его кончина лишь упрощает дело для всех участников. Сожалею, что не смог предварительно проконсультироваться с тобой.
Мне остается лишь со всей искренностью уверить тебя в том, что между мною и Харриет абсолютно ничего нет и что – с этой стороны, во всяком случае, – никакие неприятности тебе не грозят. Надеюсь, ты и сам уже это понял. Более того, если тебе понадобится моя помощь, не важно какая, ты всегда можешь на нее рассчитывать. (Например, ты можешь взять у меня денег взаймы.) Пожалуйста, имей это в виду и прости меня за то, что наши отношения закончились так неудачно. Думаю, однако, что по зрелом размышлении ты не станешь винить меня во всех своих бедах.
Наконец еще одно замечание, которое, надеюсь, ты тоже мне простишь. Если ты по-прежнему хочешь удержать Харриет, возможно, еще не поздно что-то сделать, но делать это следует быстро и решительно. Для этого тебе нужно появиться здесь, побыть хотя бы какое-то время и забрать инициативу в свои руки. Харриет вернулась в Худ-хаус. Ждет она тебя или не ждет – этого я не знаю. Но если ты не появишься, она может выкинуть что угодно. Я не говорю, что она сделает от отчаяния что-нибудь непоправимое, но с нее вполне станется, например, уехать куда-нибудь – исчезнуть, чтобы порвать с тобой окончательно. Вероятно, она пока на что-то надеется, но это не может продолжаться вечно.
Еще раз извини. Желаю вам обоим всего наилучшего.
Искренне твой,
Монти.Типичный Монти, мысленно добавил Блейз.
В письме от Харриет говорилось:
Дорогой Блейз!
Тот факт, что ты до сих пор не приходил сюда, не писал, не звонил и никак не давал о себе знать, показал мне то, что, вероятно, и должен был показать. Ты ушел. Ты покинул меня. Тебе надо было, чтобы я это поняла, – я поняла. Смогла бы я простить тебя сейчас, если бы ты решил навсегда оставить Эмили Макхью и вернуться ко мне? Не знаю. Так или иначе, ты этого не сделаешь. Не стану докучать тебе рассказами о том, как я несчастна, – я пишу вовсе не для этого, а чтобы сказать следующее. По всей видимости, тебе нужен развод. Так вот, я готова пойти тебе навстречу, но при одном условии: Люка останется со мной. Думаю, у тебя нет оснований сетовать: у меня создалось впечатление, что тебя, равно как и его мать, не слишком беспокоит его будущее. В Патни ребенком никто не занимался, при необходимости это можно будет доказать. Сам он страстно хочет остаться со мной и не испытывает желания возвращаться к вам с Эмили. Я готова сражаться за Люку через суд, но все же верю и надеюсь, что, принимая решение, вы тоже будете руководствоваться интересами ребенка. Ему нужно общение, уверенность в завтрашнем дне и любовь; все это я могу ему дать. У меня ему будет гораздо лучше – во всех отношениях. Полагаю, вам следует благодарить меня за то, что я намерена посвятить свою жизнь воспитанию вашего сына. К тому же вы получите то, что вам от меня нужно, без каких-либо препятствий и осложнений с моей стороны. Но Блейз, как ты мог, как такое могло случиться, не могу поверить в этот кошмар до сих пор! И люблю тебя, как любила всегда, вот что самое ужасное. Если та, другая твоя жизнь вдруг не сложится… но что толку об этом говорить. Становиться твоей покорной рабыней я, во всяком случае, не намерена. Ты выбрал ее – значит тебе придется обходиться без меня. Как мне все это вынести?.. Извини, я не хотела этого писать. Мое требование насчет Люки совершенно серьезно.
X.Прочитав это письмо, Блейз с тоской осознал, что до сих пор он мог наслаждаться своим новым покоем и счастьем с Эмили лишь благодаря твердой уверенности, что там, у Харриет, ничего не меняется. Харриет должна была как бы законсервироваться и ждать, пока он разберется с собственными переживаниями и впишется в свою новую жизнь – во всяком случае, насколько это необходимо для ублажения Эмили. Ненормальный, твердил он сам себе; как можно – после всего – надеяться сохранить их обеих? Но видимо, было можно. Получив письмо Харриет, Блейз едва не обезумел. При одном взгляде на слова, написанные ее рукой, у него подкашивались ноги, как у влюбленного мальчишки. Как он мог, как посмел после стольких лет ее потерять? Он так желал сейчас обнять ее, прижаться к ней, все объяснить. Он же всегда делился с Харриет всеми своими бедами, так почему нельзя сейчас пойти к ней и все-все рассказать? Объяснить ей, что творится у него в душе и в жизни, свалить груз проблем к ее ногам! Ему даже чудилось, будто Харриет говорит – вполголоса, как всегда, когда он на что-нибудь жаловался: «Да, это, конечно, неприятно, но все-таки давай подумаем, что тут можно сделать…»
– И ко всему прочему ты еще влюбился в Кики Сен-Луа.
– Прекрати, – сказал Блейз.
– Влюбился. Сегодня ночью ты звал ее по имени.
– Не сочиняй. У нас хватает неприятностей и без твоих дурацких выдумок.
– Ты подвозил ее в Лондон на своей машине.
– Откуда ты знаешь?
– Почуяла. По запаху определила.
– Ясно, Пинн доложила. Пинн нарочно подсадила ее ко мне в машину, а сама смылась, чтобы мне пришлось везти ее подружку домой. Но я довез ее только до станции и там высадил.
– Целовался с ней?
– Нет, конечно.
– Врешь. Хорошенькая у нас получается семейная жизнь. Ничего странного, что тебя так тянет обратно в Худ-хаус, к дорогой женушке.
– Перестань. Эмили, прошу тебя. Так можно окончательно свихнуться, я не хочу…
– Я тоже, – сказала Эмили. – Но должна же я как-нибудь выяснить, что ты собираешься делать дальше.
– Собираюсь жить здесь, с тобой, и делать все, чтобы ты наконец была счастлива.
– Честно? Но ты понимаешь, что если оступишься еще раз, то…
– Понимаю, понимаю.
– Смотри же. Я купила три фуксии нам на балкон. И ошейники для котов.
– Я же сказал тебе, чтобы ты не покупала им ошейники – они могут удушиться.
– Самим бы нам удушиться.
– Да уймись же, Эмили!
– Какое у тебя несчастливое лицо. Родненький мой, ну почему мы с тобой не могли встретиться как люди, без этого ада, почему ты не дождался меня? Иди сюда, становись на колени, смотри на меня.
Блейз встал со стула, сделал шаг и, опустившись на колени, стал вглядываться в правдивые, невозможно синие глаза Эмили Макхью. «Да, я принадлежу ей, – думал он с таким беспросветным отчаянием, что от этой беспросветности даже как будто становилось легче. – Но, господи, что с нами будет? Если бы знать…»
– Мы должны любить друг друга, это единственная наша работа, – сказала Эмили. – Это единственное, что мне осталось. Да и тебе тоже – если тебе жизнь дорога. Ну же, Блейз, постарайся продержаться, постарайся быть героем – ради меня!
– Да. Я постараюсь.
«Это он сейчас так говорит, – думала она. – Сейчас он мой, он со мной. Но как его удержать? От страха я становлюсь жестокой – и мучаю его, мучаю. Казалось бы, все наконец стало реальностью и у нас должно быть столько счастья – море. А он бесится, сходит с ума. А я даже не могу помочь ему, пожалеть – не имею права. Вот он выкинет какую-нибудь глупость, изменит мне – что тогда? Смогу ли я это вынести? Господи, как хочется простого человеческого счастья! Я бы все делала для Блейза, всю бы себя ему отдала – и радовалась бы. Ах, зачем он меня не дождался? Как могло случиться, что счастье было от нас в двух шагах – и не притянуло к себе нас обоих словно магнитом?»
«Да, – думал Блейз, – я принадлежу ей. Но боже, боже, что мне делать с Харриет? И на кой черт я нужен любой женщине, когда вся моя жизнь разбита вдребезги? Я должен бороться за себя, должен заботиться о собственных интересах. И денег уже не осталось, но не могу же я брать взаймы у Монти. (Или могу?) Нужно встретиться с Харриет. Я ничего не решу, пока не поговорю с ней еще раз».
Вслух он сказал:
– Хорошо, я привезу Люку. Съезжу за ним сегодня.
– Ты не за Люкой хочешь съездить, – сказала Эмили. – Ты хочешь встретиться с ней. Я уже вижу по глазам. Никуда ты не поедешь. Люка вполне может побыть некоторое время там. Думаю, ты все-таки прав, пока мы оба в таком ужасном состоянии, лучше, если его здесь не будет. Не поедешь, ладно?
– Ладно. Не поеду. – Все равно поеду, решил он, медленно поднимаясь с колен. Что-нибудь придумаю. – Так я правда звал во сне Кики?
– Ах, значит, ты веришь, что это возможно?!
– Где Кики? – спросил Дэвид. – Ты привезла ее, как обещала?
– Что с тобой? – удивилась Пинн. – У тебя такой вид, будто ты вот-вот в обморок хлопнешься. Неужто от любви?
– Мать только что уехала, – сказал Дэвид.
– Как – уехала? Без тебя? Ах ты, бедняжечка. Послушай, давай зайдем в дом, по-моему, тебе лучше присесть.
Когда Дэвид вернулся домой, Пинн уже стояла в палисаднике перед Худ-хаусом и заглядывала в окна.
Он отпер дверь и вошел, Пинн вошла следом. В доме было странно пусто, Дэвиду даже почудилось, будто он слышит эхо собственных шагов. Машинально он прошел на кухню. На столе лежала записка: Харриет объясняла Эдгару, как кормить собак. Дэвид огляделся. Зрелище покинутой кухни показалось ему невыносимо печальным. Он снова вернулся в прихожую, оттуда прошел в гостиную и упал на софу. Тоска повергла его ниц, он чувствовал себя обессиленным, будто его свалил какой-то очень тяжелый грипп.
Его мать уехала, бежала. Он должен был ехать вместе с ней. Он выслушал ее, со всем согласился. Обговорили время, позвонили в школу. Он даже собрал свои вещи и вынес чемодан в прихожую. Сегодня он проснулся рано, заглянул в кухню: мать и Люка завтракали. Мать выбежала за ним с чашкой кофе в руке, обняла его страстно и торопливо (хозяйка дома, обнимающая в прихожей молодого лакея) и прижалась разгоряченной щекой к его щеке. «Перетерпи немного, – шепнула она. – Ты мне очень нужен!» Раньше она никогда с ним так не говорила. Поезд отходил в одиннадцать, такси было заказано на десять тридцать.
В девять тридцать Дэвид тихонько выскользнул из дома. Направился, как всегда, в сторону новой автострады – по тропинке, знакомой от первого до последнего изгиба, через горбатый холм, на котором еще недавно паслись черно-белые коровы. Зеленая изгородь, тянувшаяся раньше вдоль тропинки, была уже выкорчевана, от нее остался ров, заваленный синими пластиковыми мешками с цементом. Скоро здесь тоже появится новое домовладение. Автострада была уже достроена и открыта: пока Дэвид, стараясь не считать минуты, взбирался на холм, до него долетал непрекращающийся гул. Ровная бетонная поверхность, с которой он успел почти сродниться, о которую грел когда-то спину, томясь безмерным одиночеством, превратилась теперь в скоростную трассу. По ней мчались сверкающие автомобили, а на ближней полосе – Дэвид содрогнулся, когда увидел, – лежал задавленный заяц, размазанное по бетону месиво из меха и крови. Насыпь, еще недавно бурая, вулканообразная и нелепая посреди цветущего луга, была теперь выровнена, засеяна травой и уже начала зеленеть, словно торопясь слиться с пейзажем.
Сначала Дэвид собирался просто побродить по окрестностям час или полтора, а когда поезд уедет, вернуться. Он старался не думать о том, что будет, когда вернется, – застанет он мать дома или нет. Он чувствовал себя как человек, ушедший, чтобы не видеть смерть ближнего. Или как выносят тело. Когда он вернется, все уже будет кончено, и в доме будет, конечно, плохо, страшно – но чисто. Ах, сколько грязи и скверны, сколько нечистоты накопилось в его прекрасном, родном и любимом доме! Чего стоит один вид матери и Люки: как они все время о чем-то перешептываются, пересмеиваются, оглаживают Лаки, оглаживают друг друга – будто нарочно отобрали у Дэвида звание сына, чтобы высмеять и выставить его в карикатурном виде. Мать не ведает, что творит, думал он, иначе она бы этого не творила. Да, он собирался просто побродить где-нибудь, но потом как-то само собой получилось, что тропинка привела его почти к самой железнодорожной станции, откуда можно было проследить за отходом поезда.
К станции вела неширокая просека между двумя холмами, посередине которой была проложена старая заброшенная одноколейка; к концу просеки холмы сглаживались. В детстве Дэвид часто ходил здесь, ступая по заросшим травой шпалам, крошащимся, как черный шоколад, отыскивал мальчишеские реликвии: старые болты и гайки с полустертыми надписями, впечатанными когда-то в их грани. Сейчас он шел быстро, торопливо перескакивая с одной прогнившей шпалы на другую. Наконец впереди заблестели рельсы и показалось здание станции. Путь был открыт. В самом начале разъезда стояла заброшенная деревянная будка стрелочника – пока еще целая снаружи, но гулкая и пустая внутри. Дэвид скользнул в полуоткрытую дверь и подошел к окну. Вся платформа была перед ним как на ладони. Несколько человек на перроне дожидались лондонского поезда, но матери не было.
Без четверти одиннадцать. «Может, она не придет?» – подумал Дэвид. Пусть только она выдержит это испытание, пусть не сможет уехать без него. Он бы вернулся домой и обнял ее. Если бы мог. Но они уже забыли, как это бывает, забыли ведомый им когда-то язык любви. Это лихорадочное объятие в прихожей, этот поцелуй, жаркий и торопливый, будто ворованный, – как все это гадко. Дэвид отступил в тень, подальше от квадрата окна, и взглянул на часы. В будке было темно, пахло теплым некрашеным деревом и увядшими цветами бузины. Когда он снова поднял глаза, мать с Люкой уже стояли на платформе. Мать, жестикулируя, говорила что-то таксисту – кажется, уговаривала его немедленно ехать обратно в Худ-хаус и смотреть, не встретится ли по дороге Дэвид. Она беспомощно озиралась, один раз даже скользнула взглядом по квадратному окну будки – будто ждала, что сын вот-вот появится неведомо откуда. Дэвид заметил, что его чемодан тоже стоит рядом с ней на платформе. Из глубины будки он не очень хорошо видел ее лицо, но все ее жесты были понятны ему до боли. Он с детства привык откликаться на любое, даже едва заметное ее движение каждой клеточкой своего тела. Сейчас он видел перед собой мать, обезумевшую от горя. «Все, я иду к ней», – решил он. Но в этот момент она опустилась на колени перед Люкой и, делая вид, что поправляет ему воротник, порывисто прижала его к себе.
Через несколько минут послышался шум поезда. Поезд промчался мимо будки, перекрыв на несколько минут свет, и остановился на станции. Мать отбежала к противоположному краю платформы, чтобы еще раз взглянуть на дорогу, – но ее уже звали. Она вернулась, начала заталкивать в вагон чемоданы, потом Люку. Дверь захлопнулась, но почти в ту же секунду мать показалась в окне. Все время, пока поезд, мелькая между деревьями, набирал ход, и до последнего момента, пока он не исчез за поворотом, Дэвид видел в окне ее лицо. Еще некоторое время воздух над рельсами гудел и вибрировал; потом все стихло. Выбравшись из своего укрытия, Дэвид дотащился до станции, перешел по пешеходному мостику на ту сторону и медленно побрел по дороге к Худ-хаусу. Так, конечно, было дольше, но идти через холмы у него не было сейчас ни сил, ни желания. Наконец горячий, песчаный, сосновый запах железной дороги остался позади. «Я совершенно один, – думал Дэвид. – В первый раз в жизни я один, меня бросили. У меня нет ни отца, ни матери. Она села в поезд. Зачем она это сделала. Села в поезд и уехала без меня».
У него не было никакой особой цели, только выстоять, выдержать, не поддаться. Не поддался – и что дальше? Предоставленный сам себе, он один брел теперь по дороге в пустой дом. Ничего, она вернется, думал он. Но когда? Каждая клеточка в нем чувствовала и знала, как отчаянно его мать рвалась отсюда прочь. Конечно, был еще Монти и был Эдгар. Однако от Монти Дэвид и сам в последнее время отдалился. Монти не захотел с ним разговаривать, когда это было так важно для Дэвида, – он вдруг замкнулся, точно онемел. Даже мать Дэвида отвергла Монти. «Ах, это бесполезно», – сказала она недавно, практически захлопнув дверь у Монти перед носом. Да, Монти – это бесполезно, Эдгар скоро уедет к себе в Оксфорд, и Дэвид останется один. Он даже не может вернуться в школу, после всех этих телефонных звонков. Всю жизнь кто-то заботился о нем – кормил его, одевал, давал деньги, говорил, что надо делать. Кто позаботится о нем теперь?
– Дэвид! – донесся словно издалека голос Пинн. – Спишь ты, что ли? Или в транс впал?
– Нет, все в порядке.
– Ты голоден? Завтракал сегодня? Принести тебе бутерброд, что-нибудь приготовить?
– Спасибо, не нужно.
– Сядь хоть на минутку. У меня все плывет перед глазами, когда я на тебя смотрю.
Дэвид рывком сел и, склонив голову к самым коленям, провел правой рукой по лицу. Он и правда чувствовал себя скверно и как-то очень странно. Было трудно дышать.
– Она скоро вернется, – сказала Пинн и нежно, но решительно потянула к себе его левую, свободную руку.
– Не скоро.
– Куда она поехала?
– К дяде, в Германию.
– Ну, значит, вернется позже. Ничего, ты же уже большой мальчик, правда?
Зазвонил телефон. Это мать звонит из Паддингтона, тотчас понял Дэвид.
– Нет, не снимай, пожалуйста, трубку. Закрой лучше дверь.
Пинн плотно затворила дверь в прихожую.
– Кики придет? – спросил Дэвид, стараясь не замечать настойчивого дребезжания. – Ты говорила, она придет.
– Нет, – помолчав, ответила Пинн.
– Почему?
– Она полюбила другого.
«Моего отца», – подумал Дэвид, и у него защипало в глазах. Он видел, как они уезжали вместе в отцовской машине.
– Прощай, – прошептал он словно про себя, зажав одной рукой глаза. – Прощай навсегда.
Его вторая рука по-прежнему лежала в ладони Пинн. Телефон продолжал звонить.
Пинн сняла очки.
– Ну, что ты теперь собираешься делать? – спросила она.
– Не знаю.
Она начала расстегивать его рубашку. Когда все пуговицы до пояса были расстегнуты, ее ладонь скользнула внутрь и уверенно легла ему на грудь. Это какое-то особенное скользящее движение, эта тяжесть ее руки, ласкающей и в то же время властной, слегка сжимающей его плоть, произвела в нем немедленные и очень сложные перемены. Только что он чувствовал себя растерзанным, будто его сначала распяли, потом рвали на части и пытали ревностью, одиночеством, страхом, гневом и презрением, так что от него остались лишь жалкие клочья, раскиданные во мраке. Но вдруг, за какую-то долю секунды, он весь воспрянул и подобрался, подчиняясь власти ласкающей женской руки. Он видел, как под влиянием происходящих в нем самом изменений лицо Пинн тоже непостижимым образом менялось и приковывало к себе его взгляд. Розовые округлые щеки – влажные губы – зеленые глаза – копна тщательно завитых медно-рыжих волос.
– Возьми меня, – сказала Пинн.
– Не могу.
Дэвид убрал ее руку со своей груди, но не выпускал; и вторая его рука тоже оставалась у Пинн.
– А Кики взял бы? Ты думал о ней?
– Да.
– Она снилась тебе?
Дэвид вспомнил ревущую лавину из своего сна.
– Да.
– Тебе нужна не она. Тебе нужна женщина. Возьми меня. Я никто, и я все. Я идол, воплощающий в себе волю небес. Я достойна тебя, потому что послана тебе судьбой. Ты видишь меня сейчас впервые в жизни, но я видела тебя много, много раз, ты приходил в мои сны. Твоя молодость и красота священны для меня. Я преклоняюсь перед твоей невинностью. Доверься, отдай ее мне. Твой час настал. Не бойся – и люби меня хоть чуть-чуть в твоем сердце. Не думай, я не посягну на твою свободу, не стану тебя удерживать. Потом я отпущу тебя, даже сама прогоню тебя прочь – иначе как бы я посмела только что спрашивать о твоей матери? Я хочу тебя, ты нужен мне сейчас, так тебе предопределено. Тебе, а не мне. Но мне нужна еще частичка тебя самого, частичка твоей любви. Я никогда и никого не просила о любви – только тебя, сейчас. Если ты сможешь дать мне ее сегодня, тебе откроется новый мир, в котором ты уже будешь мужчиной. Ты никогда не поймешь, кто я и что я, но поверь, сегодня мы с тобой не можем сделать друг другу ничего плохого – только хорошее. Прими же мою мольбу и не бойся. Никакая другая женщина никогда не будет говорить с тобой так, как я, и второй такой минуты в твоей жизни уже не будет. Иди ко мне. Пожалуйста!
В наступившей тишине Дэвид слышал собственное дыхание, биение своего сердца – или это было ее сердце? Оно колотилось все чаще и сильнее, словно подчиняясь растущему напряжению ее слов. Лицо Пинн стремительно преображалось в прекрасную маску, состоявшую, казалось, из одних только зеленых глаз, из одного прикованного к его лицу взгляда. На Дэвида еще никто никогда в жизни не смотрел так. Воздух вокруг него сделался вдруг странно разреженным. Они вместе поднялись и стояли теперь молча.
– Подожди, – хрипло проговорил Дэвид, – я только…
Он почти бегом выскочил из комнаты, запер входную дверь – на ключ, на задвижку, потом дверь на кухне – тоже на задвижку. Пинн ждала его в прихожей.
Лицо ее было уже не таким спокойным и уверенным, как раньше, будто растущее внутри ее желание легкой дымкой затуманивало ее взгляд.
– Но ты сможешь хоть чуточку любить меня – пусть только сегодня, сейчас? Сможешь?
– Да, – сказал Дэвид. – Да.
– Ты никогда не поймешь, но… я совершила героический поступок, и… ты моя награда… Столько всего пришлось пережить, и теперь… каждая крупица чьей-то нежности…
– Да, да, да…
– Идем же, мой хороший.
Они стали подниматься по лестнице.
– Ну, как тебе? – спросил Монти.
– Супер.
Кики Сен-Луа, уже полностью одетая, застегивала босоножки.
Монти, в одной рубашке, все еще возлежал на подушках в своей растерзанной постели.
Он смотрел на Кики с нежностью и изумлением. Какая она милая и ладная: ножки обтянуты гладкими коричневыми колготками, в вырезе короткого сиреневого платьица – легкого, почти невесомого – матово поблескивают только что застегнутые молочно-белые бусы; блестящие, будто полированные, темно-золотистые волосы лежат идеально ровно по всей длине, волосок к волоску, – такая свежая, словно только что отчеканенная, и в то же время отчеканенная для того, чтобы ею можно было пользоваться и наслаждаться. И эта девушка только что была для него огромной вселенной, в которой беспорядочно перемешались мысли и чувства, дух и плоть, он и она.
– Что ты думаешь? – спросила Кики.
– Не «что», а «о чем». О чем я думаю.
– О чем ты думаешь?
– Ты такая презентабельная, – сказал Монти. – Я хочу сказать, у тебя совсем не помятый вид, будто нетронутый. Даже не верится, что ты та самая девушка, с которой мне только что было так замечательно в постели.
– Я та самая девушка!
Оттолкнувшись одной ногой от края кровати, Кики прыгнула на постель и приземлилась рядом с Монти, но тут же перевалилась на него. Монти почувствовал, как ее босоножка прижимается к босым пальцам его ноги, а гладкий нейлон скользит по его бедру; сиреневый подол задрался, ее губы коснулись его подбородка, длинные волосы разметались по подушке, по его шее и лицу. Он снова вдохнул в себя яблочный аромат ее кожи, запах ее пота, ее сиреневого платьица, ласковую прохладу ее волос.
– Платье помнется, глупышка.
– Я хочу, чтобы оно помялось, чтобы я была твоя помятая Кики и чтобы ты меня раздел!
– Я уже тебя раздевал. Надеюсь, тебе правда показалось, что это было супер. Хотя в какой-то момент мне было не очень понятно, о чем ты думала.
– Я не думала.
– Ну, что ты чувствовала? Очень было больно?
– Нет-нет, Монти, было так здорово… То есть, конечно, больно – но зато так… Ах, Монти, как я счастлива!
– Смотри, не слишком увлекайся своим счастьем, – сказал Монти, отстраняя ее. – Не забывай, о чем я сразу тебя предупредил. Ну-ка, в сторону, дай мне одеться.
Он встал и принялся искать брюки.
– Я люблю тебя, Монти, – сказала Кики. – Разве что-нибудь не так?
– Если что и не так, то только со мной, – ответил Монти, затягивая ремень. – Многие сочли бы меня преступником. И если у тебя потом начнутся какие-нибудь неприятности, то это еще больше их в этом убедит. Так что ты уж позаботься, чтобы неприятностей не было, – ради меня. В этом смысле я полагаюсь на тебя, это было частью нашего уговора.
– Я не понимаю… но понимаю, – сказала Кики. – Но что же мне делать, я теперь буду любить тебя вечно.
– Девушка в твоем возрасте не может знать о вечности.
– А я могу знать. – Кики уже стояла около кровати. Ее сиреневое платьице и правда немного примялось. – Я знаю. Я не такая девушка, как все.
Монти шагнул к ней, взял ее за плечи и заглянул в глаза – большие темные средиземноморские, африканские глаза, в самой глубине которых переливались красные текучие искорки.
– Да, ты не такая, как все, – сказал он. – Поэтому я и пошел на риск. Я передал тебе часть своей боли. Знаю, что люди не должны этого делать, но они сплошь и рядом это делают. И я тоже сделал это, Кики, – причем сознательно. Я принес тебя в жертву, потому что ты не такая, как все, потому что в нужный момент ты так неожиданно оказалась рядом со мной… и потому что тебе дана власть изменить мою жизнь.
– И у тебя теперь будет меньше несчастья?
– Может быть. Да.
– Значит, у меня будет больше несчастья, – сказала Кики. – То есть если ты правда… не разрешаешь мне тебя видеть… Хотя если теперь у тебя останется меньше несчастья, то я за это стану счастливее.
– Меньше, девочка моя, по количеству, зато оно будет самой высшей пробы. И закончим на этом. Все, тебе пора.
– Нет, нет, Монти, пожалуйста! Больше ведь у нас никогда не будет, как сегодня!
– Я знаю, – сказал он. – Думаешь, меня это не печалит? Потому я и прошу тебя уйти как можно скорее.
– Но ты… мы же увидимся с тобой снова… Не может быть, чтобы никогда в жизни… Ах, Монти, я чувствую так ужасно!..
– Думаю, увидимся, почему нет? Но все это должно пройти.
– Это не пройдет никогда!
– Ничего, не грусти. Боль, которую я тебе причинил, чистая – может быть, самая чистая боль в твоей жизни. Возможно, когда-нибудь в будущем – не здесь, не со мной – она даже поможет тебе, станет для тебя точкой опоры, ты сможешь упереться в нее своей стройной ножкой.
– Можно я приду к тебе завтра?
– Нет. Уходи. Мне больше нечего тебе дать, кроме моего благословения. Знаю, оно смахивает на проклятие, но все же это благословение. Ты храбрая девочка, я преклоняюсь перед твоей храбростью. Иди, Кики, иди, не такая как все. И спасибо тебе.
Монти первый спустился по лестнице и распахнул входную дверь.
– Нет. Все. Прощай.
Кики молча прошла мимо него, ее огромный африканский глаз сверкнул непролитой слезой. Потом взметнулись длинные волосы, и она ушла – уверенной походкой, не оглядываясь.
Монти закрыл дверь и, прислонясь к ней спиной, съехал на пол. Мир плыл у него перед глазами, расползаясь на куски, рваные и пестро раскрашенные, как облака во время грозы. Все, что раньше было втиснуто вместе с ним в темную тесную скорлупу, теперь свободно струилось на просторе, переливалось одно в другое и немного бурлило. Монти не думал о том, хорошо это или плохо, – просто отдавался происходящему, как отдался сегодня удивительному вторжению Кики Сен-Луа.
Где-то посреди этого бездумного бурления перетекало и менялось то, что произошло в тот вечер. Софи лежала не в спальне, а в гостиной – на пурпурном диване, в алькове под балдахином. На ней было длинное просторное темно-красное с синим шелковое платье, заказанное ею по почте в одном из дорогих лондонских магазинов и надетое сегодня в первый раз (она его только что получила). На фоне пурпурных подушек было особенно заметно, как страшно она исхудала и как изменилось ее лицо без самоуверенных пухлых щек. Она была бледна зловещей, неестественно-серой бледностью, как восковая фигурка мученицы в испанской церкви. Вот уже полчаса она снова и снова повторяла одно и то же: «Я ненавижу тебя, ненавижу, ненавижу, ненавижу тебя, зачем только я вышла за тебя замуж». Это ничего, это просто молитва ее боли и тоски, твердил про себя Монти, как твердил уже несколько недель, пока Софи изводила и проклинала его, как кислоту выплескивая ему в лицо собственные страдания. Он, как всегда, старался держать себя в руках и, будто не слыша оскорблений, отвечал тихо и ласково. «Успокойся, Софи, я люблю тебя, – повторял он, тоже как молитву. – Не сердись на меня, прости меня. Я тебя люблю». Но у него опять ничего не вышло. «Зачем только я на тебе женился, черт возьми! Нашел себе вместо порядочной женщины проститутку, которая переспала со всеми моими друзьями!» – «Нет у тебя никаких друзей! Знал бы ты, как они все смеются над тобой и презирают тебя – все, все до единого!» – «Если смеются, то только потому, что ты их всех подучила!» – «Как я презираю тебя – ты не мужчина! Мне нужен был мужчина, а ты ничтожество». – «Да умолкни ты наконец, спи!» – «Все, все смеются! И Ричард над тобой смеется». – «Заткнись». – «А ты не знал, что я спала с Ричардом, не знал?» – «Это неправда». – «Это правда, и мы с ним смеялись над тобой – прямо здесь, в нашей с тобой постели». – «Готова плести что попало, только бы сделать мне больно, да?» – «Я ненавижу тебя, ненавижу, ненавижу…»
У Монти перехватило дыхание. Память ядерным тлетворным грибом вздымалась над расплывающимися клочьями его сознания. Все его мышцы напряглись, в ушах звенели истерические выкрики. Он схватил ее тогда за горло, чтобы она замолчала. Он должен был заставить ее замолчать. Это было похоже на объятие. Он навалился на нее и изо всех сил стиснул ее шею – только бы скрутить, подчинить себе этот мятежный дух, столько времени истязавший его пытками жестокого страдания и нестерпимой жалости.
– Софи, – сказал он вслух. – Софи. Софи. Родная моя. Пусть теперь к тебе придет покой. Прости меня.
Теперь Софи жила в нем, она навек стала частью его самого. И его любовь к ней была жива; она менялась со временем – но так и должно быть, думал он, потому что все живое меняется. Возможно, когда-нибудь напряжение спадет и изъяны его любви начнут постепенно забываться. Она никогда не станет идеальной, но с годами точившие ее язвы будут понемногу зарубцовываться, их станет гораздо меньше. Они с Софи навсегда останутся вместе – муж и жена, на веки вечные. Тело Монти медленно расслабилось, он начал вспоминать Кики и все, что было сегодня. Как странно, думал он, как это странно. Он чувствовал себя как только что пробудившееся растение: глубокие изменения охватили его сразу и целиком, от верхушки до корней. Но как, почему это стало вдруг возможно? Из-за того, что он рассказал Эдгару? Или все дело в самом Эдгаре, с его невинной привязанностью и воспоминаниями о юности, из глубин которой, быть может, и проистекает загадочный животворный сок? Так или иначе, благодаря Эдгару стала возможна Кики, а благодаря Кики – что?.. Не бред ли все это? Может, он просто совершил еще одно преступление, только поменьше? Но странно, в эту минуту оно не казалось ему меньше, а казалось почти таким же большим, как то, первое. Смерть Софи, слезы Кики – что они ему несут?
Рядом задребезжал телефон, Монти медленно поднялся, снял трубку. Мужской голос спросил мистера Смолла.
– Я слушаю.
– Говорит Фэрхейзел – вы должны помнить – гм… Бинки.
– Бинки!
– Я звоню из Бэнкхерста.
– Бинки! Сколько лет!
– Мы вас ждали сегодня утром, у нас была назначена встреча.
– Ах да, конечно!
После разговора с Эдгаром Бэнкхерст и все с ним связанное напрочь выскочило у Монти из головы. И дело было не только в характере того разговора; когда Эдгар сказал: «Я не могу написать тебе рекомендацию», – Монти как-то сразу решил для себя, что все отменяется. Но не мог же, в самом деле, Эдгар отменить назначенную Монти встречу.
– Очень прошу меня извинить, – сказал он в трубку. – К несчастью, возникло одно неожиданное обстоятельство… гм… насильственное вторжение.
– Ай-ай, как неприятно. Из ценных вещей ничего не пропало?
– Пожалуй, только одна… ценная вещь, но, надеюсь, все обойдется.
– А вы надежно застрахованы?
– Вроде бы да, – сказал Монти. – Время покажет.
– Может быть, перенесем встречу на другой день?
– Боюсь, теперь это вряд ли возможно. Мне придется уехать. Так что, думаю, пусть все пока остается как есть. Прошу простить меня за доставленные неудобства, и спасибо за…
– Ничего страшного. Непременно дайте мне знать, если вдруг когда-нибудь потом… Хотя, разумеется…
– Да, да, большое спасибо.
Положив трубку, Монти начал смеяться. Отсмеявшись, попытался вспомнить, когда такое случалось с ним в последний раз. Разноцветные грозовые облака продолжали клубиться над его головой.
Блейз повернул ключ и толкнул дверь. Дверь не открывалась. Толкнул еще раз, сильнее – но, видимо, дверь была заперта изнутри на задвижку. Почему? Его охватил страх. Он позвонил, подождал. Тишина. Еще немого подождал, позвонил. Ничего. Обежал дом, подергал дверь на кухне, но и она оказалась заперта. Возможно, не на задвижку, только на ключ, но все равно ключа от кухонной двери у него не было. В соседнее окно светило солнце. Блейз приблизил лицо к стеклу, всмотрелся, разглядел знакомую клетчатую скатерть, какие-то бумажки на столе, в старенькой раковине несколько немытых чашек. Проверил окно, потом все остальные окна на первом этаже – заперто. Мысли прыгали и сбивались, ему уже рисовалось, как Харриет лежит у себя в спальне, а рядом на полу – пустой пузырек из-под снотворного.
Чушь, рассердился на себя Блейз. Харриет никогда такого не сделает, самоубийство не в ее характере. Просто заперлась изнутри, чтобы я не мог войти, а сама сидит наверху, ждет, когда я уйду. Но и эта картинка показалась ему ничем не лучше первой. Теперь ему мерещились глаза Харриет, злобно сверкающие из-за оконной шторы, – в жизни он ни разу не видел, чтобы они так сверкали. Да, окончательно утвердился он, наверняка она сейчас наблюдает за мной из какого-нибудь окна. Он быстро отошел от двери и задрал голову, но не увидел ни колыхания шторы, ни мелькнувшего за стеклом лица. Бегом вернулся к входной двери и стал кричать в щель почтового ящика: «Харриет! Харриет! Харриет!..» Тихо. Собаки, с самого начала следившие за его перемещениями, нахально путались под ногами, лаяли, мешали слушать. Блейз замахнулся, собаки с ворчанием отбежали. «Харриет! Харриет!»
Отчаянные эти крики казались ему самому кошмарным завершением кошмарного дня. Размолвка с Эмили, так глупо начавшаяся из-за Кики, безобразно затянулась. Оба давно уже переругивались совершенно механически, но никак не могли остановиться – от усталости ни у него, ни у нее не хватало фантазии придумать, как покончить с этой бессмысленной ссорой. Потом раздался телефонный звонок. Блейзу звонил знакомый врач, работавший в одной из центральных лондонских больниц.
– У меня для вас дурные новости. К нам сюда привезли одного вашего пациента. Мы не смогли его спасти. Самоубийство.
– Это… Магнус Боулз? – бессмысленно спросил Блейз.
– Нет, Эйнсли. Доктор Хорас Эйнсли.
Блейз положил трубку. Профессиональная ошибка. Не вытянул пациента из кризиса. Значит, придется пройти и через это, придется пройти через все – жизнь постоянно заботится о том, чтобы ему было за что себя винить и в чем каяться. Вот уж чего-чего, а этого добра хватает.
– Что случилось? – спросила Эмили.
– Эйнсли покончил с собой.
– Я говорила тебе, что он звонил, говорила, чтобы ты с ним встретился, говорила…
– Оставь меня в покое! – взорвался Блейз. – Не видишь, что я и так уже на грани?..
Они продолжали ругаться.
Наконец Блейз сказал Эмили, что ему надо в больницу – выяснить, что там случилось с доктором Эйнсли, – и ушел. Он ехал в Худ-хаус. Когда он свернул с Уэстерн-авеню и углубился в тихие знакомые улочки, где за деревьями прятались солидные, спокойные дома, в нем возникло странное ощущение, будто ничего особенного в последнее время не происходило, просто он сильно устал, измучился, но теперь уже все хорошо и скоро он наконец будет дома. Примерно то же он чувствовал раньше, когда возвращался после очередного скандала с Эмили в безмятежно-целомудренный в своем неведении Худ-хаус.
«Нет, я не могу так, – думал он, – не могу. Надо выбираться из этого капкана, Харриет должна меня освободить. Все зависит от Харриет; она должна понять, как мне нужна ее помощь. Помогала же она мне с самого начала, когда все только-только вскрылось, смогла же тогда почувствовать, что другого выхода просто нет. Так почему все пошло насмарку? Да, я ошибся, но ведь ошибку можно исправить – я и пытаюсь ее исправить. Я, конечно, сглупил, когда так прямо выложил все Харриет, – надо было мягче, нежнее. А так она поняла, что Эмили я люблю, а от нее якобы решил уйти навсегда. Как будто я знаю, что я решил, – даже сейчас. Ах, зачем я с ней так!.. Разумеется, она не вынесла обиды, да и какая бы женщина на ее месте вынесла? Решила, что она отвергнута, что она мне больше не нужна. Каждая женщина мечтает, чтобы мужчина в ней нуждался. Но, господи боже мой, я ли не нуждаюсь в Харриет! Ведь она-то и есть самое главное, это же ясно. Как я раньше не понимал! Только Харриет может сделать так, чтобы все мы выжили. Да, конечно, я привязан к Эмили – и Харриет придется усвоить эту мысль. В этом смысле, может быть, даже хорошо, что я проявил какую-то жесткость и изложил все честно и прямо. Но теперь настал момент успокоить ее, переубедить, загладить обиду. Пусть она сама увидит, как мне нужна ее помощь. Я просто не смогу жить без ее прощения. Харриет нужна мне, она должна остаться в моей жизни – притом такая, какой была всегда. Харриет не может измениться, она не из тех женщин, которые меняются, и это в ней прекраснее всего. Это ее письмо ничего не значит, она только рассердилась и хотела сделать мне больно – хотела, чтобы я почувствовал, что могу совсем ее потерять, и вернулся. Именно так: она хотела заставить меня вернуться. Конечно, будет нелегко, придется ее немного поуговаривать, даже поумолять, но ведь главное – она действительно мне страшно нужна. И когда она поймет, что никто не воспринимает ее как ненужную вещь, что у нее есть реальная власть, – она оттает. Смилуется. Должен же я иметь спокойное место, куда можно прийти и расслабиться, и чтобы Харриет сидела там с шитьем, а Дэвид бы делал уроки. Пусть я не смогу находиться там все время, но этот дом должен быть». «Ты сам разрушил этот дом», – безжалостно напомнил внутренний голос. «Нет-нет, – возразил голосу Блейз, – Харриет сумеет сохранить его для меня и сохранит, несмотря ни на что».
По мере приближения к Худ-хаусу Блейз все яснее и яснее чувствовал, что положение не безвыходное. Можно еще спасти свое лицо, рассудок – душевное спокойствие, наконец. Если он не хочет в этой ужасной неразберихе растерять остатки самоуважения, надо помнить одну непреложную истину: он должен хранить верность Эмили и жить с ней нормальной семейной жизнью – ну, или как-нибудь, как получится. Это новый этап в его жизни, да, новый этап; в этих словах ему тоже слышалось утешение. Все случилось как-то само собой, как смена времен года. Он должен противостоять стихии обстоятельств и оставаться с Эмили, что бы там ни было. Конечно, они без конца бранятся и скандалят – так было всегда, даже в самые лучшие их дни. Но по ночам, когда, измученный и обессиленный дневной маетой, он успокаивается в объятиях Эмили, его охватывает глубокая уверенность: вот здесь его место и так должно быть. Он много раз говорил ей об этом, она отвечала насмешливо, но он все же чувствовал, что от его слов она готова мурлыкать по-кошачьи, и говорил себе: как это прекрасно – сделать женщину счастливой.
«То, что было у меня с Харриет, прошло, – думал он. – Цикл завершился. Тогда тоже было прекрасно, но совсем по-другому. Теперь начинается новый цикл. Это естественно. Но Харриет – она обязательно должна быть, пусть даже только на заднем плане. Я должен объяснить ей, что без нее все это для меня неосуществимо. Я понимаю, что требую от нее слишком много, – фактически требую, чтобы она пожертвовала ради меня собой; но, с другой стороны, самопожертвование ее стихия, и потом она непременно поймет, что это ее долг. Без этой жертвы она просто не сможет быть счастлива. Возможно, сознание того, что она подарила мне спасение, и будет для нее моментом величайшего счастья. А эти бредни насчет Монти, насчет того, что она ему якобы чуть ли не навязывалась, наверняка яйца выеденного не стоят; какого черта я поверил Пинн. Харриет не может любить никого другого, только меня».
«Я должен ее видеть, – думал Блейз, снова стоя перед дверью кухни. Собаки за его спиной время от времени хрипло лаяли. – Я должен поговорить с ней и все объяснить, пока в голове все так ясно». Как он стремился сейчас к своей милой жене, как жаждал заключить ее в объятия, увидеть вожделенный свет прощения в ее глазах. Он снова подергал дверь, пытаясь угадать, заперта ли она только на ключ или на задвижку тоже. Похоже, что только на ключ, – значит, сам ключ, скорее всего, торчит в замке. Если разбить дверное стекло, можно дотянуться до замка с той стороны и отпереть. Блейз оглянулся, ища глазами камень или что-нибудь подходящее. На террасе лежал обломок булыжника, Блейз поднял его и взвесил в руке: годится. В тот момент, когда он подкидывал камень на ладони, голодный Аякс (перед отъездом Харриет забыла покормить собак, и они постились уже почти двое суток), в котором этот жест пробудил, по-видимому, не самые приятные из давних щенячьих воспоминаний, издал вдруг долгий истерический визг, больше всего похожий на визг охваченного страхом человека.
– Заткнись ты! – рявкнул Блейз и замахнулся на Аякса камнем.
Шагнув к двери, он хорошенько прицелился и выбил нижнее стекло. Собаки подняли злобный пронзительный лай.
Блейз успел уже просунуть руку в образовавшуюся дыру, когда чудовищная боль пронзила все его тело, и он рванулся, рассекая запястье об острый край стекла. В первый момент он даже не понял, что произошло, думал, сердце – или кто-то в него выстрелил. Потом понял: Аякс, вцепившийся ему в лодыжку, перегрыз сухожилие, и оно лопнуло, как струна. Блейз закричал, оборачиваясь, схватился за дверь, чтобы не упасть, – и снова порезался об острый край. Аякс, с оскаленными клыками, стоял в двух шагах от него и рычал, морда у него была в крови – Блейз с ужасом осознал, что это его кровь. Собаки, заливаясь истерическим лаем, подступали к нему со всех сторон. Кто-то уже тянул Блейза за штанину, челюсти Панды вцепились ему в икру. Аякс снова бросился вперед, Блейз выставил кулак, целясь в черную окровавленную пасть, но костяшки только проехались по собачьим зубам. Надо бежать, подумал Блейз, но я же не могу бежать, я не могу бежать. Он все-таки попытался превозмочь дикую боль и проскакал немного на одной ноге – вдруг страх придаст ему силы и он вырвется из кольца озверевших, обезумевших тварей. Ёрш, наскакивая с разбега, пытался цапнуть его за руку. Блейз заметил кровь, хлещущую из порезанного запястья и из рассеченной ладони, и его охватил панический ужас. Где-то очень далеко зияла дыра в заборе, ведущая в сад Монти, – он рванулся к ней как к последнему спасению, подпрыгивая на здоровой ноге, волоча за собой больную. Заставить себя бежать, бежать, стучало в мозгу. Он дернулся еще несколько раз, притворяясь, что бежит, пока ошалевшие от крови собаки рвали на нем одежду, потом споткнулся и упал. Крепкие белые клыки Аякса сомкнулись на его горле.
Харриет не привыкла путешествовать одна. Конечно, она была не одна, а вдвоем с Люкой, но ответственность все равно лежала на ней. В самом деле, не мог же Люка защитить ее от посягательств чиновников, которые без конца что-то у нее требовали и задавали какие-то вопросы – притом на чужом, непонятном языке. Люка, впрочем, держался прекрасно. Он прихватил из Фулема маленький мешочек со своими нехитрыми сокровищами; в мешочке помимо прочего лежал его паспорт (которым он чрезвычайно гордился). Он даже напомнил Харриет, чтобы она не забыла взять свой. В самолете он всю дорогу держал ее за руку и вообще вел себя гораздо спокойнее, чем она, – хотя, конечно, тоже волновался. Харриет была как чумная, без конца вздрагивала и роняла то одно, то другое. Когда она начинала шарить в сумочке в поисках паспортов, или денег, или билетов, вещи будто нарочно выпрыгивали из-под ее рук прямо на пол. Она чувствовала себя ужасно неуклюжей, от страха и от смущения ее бросало в жар. Надо обменять часть фунтов на марки, в который раз повторяла себе она, но ей так не хотелось вставать и куда-то идти. Пристроившись в зале ожидания ганноверского аэропорта, они с Люкой ждали, когда с самолета привезут их багаж. Они сидели рядом, Харриет обнимала Люку за плечо и иногда легонько прижимала к себе, он спокойно поглядывал на нее снизу вверх блестящими темными глазами. В руках он держал своего деревянного слона и маленького плюшевого медвежонка, которого они с Харриет купили в аэропорту Хитроу. Медвежонок был в полном обмундировании шотландского горца.
Харриет сто раз уже успела пожалеть, что решилась на эту поездку, хотя, конечно, понимала, что в каком-то смысле ее побег был неизбежен и что, ступив на этот путь, она должна пройти его до конца. Перед отъездом она послала Эдриану телеграмму, но ответа не получила. Может быть, она послала ее слишком поздно – подсчитать, сколько времени нужно на то, чтобы телеграмма дошла, она была не в состоянии. Возможно, он находился на учениях или его перевели куда-нибудь из Хоне, он еще не успел ей об этом сообщить. В последнее время Эдриан писал ей гораздо реже, чем в юности. Видимо, с тех пор как ему не повезло и он не прошел по конкурсу на место преподавателя училища, писать стало просто не о чем. Харриет никогда не бывала в Хоне – но она все же имела какое-то представление о гарнизонной жизни в этих краях: здесь в свое время служил ее отец, здесь он заканчивал когда-то свою военную карьеру, уже в качестве офицера связи. В известной степени Эдриан повторил судьбу отца. Теперь он – еще один невезучий майор Дервент – командовал в Хоне штабной батареей. Из его описаний Харриет запомнились голые песчаные полигоны, изрытые гусеницами танков, и безжизненные пейзажи соседней Люнебургской пустоши. Все правильно, на краю земли и должен быть край земли.
Харриет, конечно, понимала, что, даже если Эдриан окажется в отъезде, его товарищи (само слово действовало на нее успокаивающе) ей помогут. Но она понятия не имела, как она доберется до этих товарищей, не зная ни слова по-немецки. Надо менять деньги, надо кого-то о чем-то спрашивать – а она так устала, так проголодалась (в отличие от Люки она не могла есть в самолете), ей было так тоскливо и страшно. Раньше, когда они куда-то ездили, ее всегда опекал Блейз. И сейчас ею владело только одно желание: скорее доехать, скорее оказаться хотя бы под опекой старшего брата. Ей нужно было, чтобы кто-то о ней заботился и говорил ей, что делать. Она представляла, как, добравшись до гарнизона, она уложит Люку спать и сможет наконец выплакаться. «Ну и как же ты теперь?» – спросит ее Эдриан, а она скажет: «Не знаю», – и от одного этого уже станет чуть легче. Брат Харриет был поразительно кротким и мягким человеком; наверное, ему не следовало идти в армию, но отец настоял – и в итоге Эдриан поехал в Сандхерст, в военное училище.
Усталая и измученная, Харриет и сама сейчас толком не понимала, зачем ей понадобилось так спешно бежать из Худ-хауса. Дома ей казалось, что она делает это из принципа; хотя было не совсем понятно, что это за принцип. Помнится, она говорила себе: я не буду рабыней Блейза, не буду их рабыней. Выходило, что это и есть ее принцип. Но бывают ли такие принципы? Может, дело тут вовсе не в принципах, а в ощущениях? Свои тогдашние ощущения Харриет могла еще возродить в памяти и в душе. У нее и сейчас было чувство, что она поступает правильно, что по-другому никак нельзя. Останься я, думала она, мне бы пришлось принять все его условия. Я знаю Блейза, он бы меня разжалобил, убедил бы, что во мне его единственное спасение. А я уже не такая хорошая, какой считала себя раньше. Если бы они меня уговорили, я бы уже не смогла жертвовать собой с чистым сердцем и с любовью, я бы втайне ненавидела их обоих. Нет, не так – ненависть все же какое-никакое проявление силы. Я бы обозлилась на себя, на свое безволие и малодушие, с ума бы сходила от унижения, извивалась бы, как полураздавленный червяк, не знала бы, что с собой делать. Харриет с тоской вспомнила свое прежнее прекрасное спокойствие: оно казалось раньше таким незыблемым – но ушло навсегда.
Да, эти ощущения были пока при ней, однако они уже менялись, на смену им приходили другие. Она горько сожалела, что уехала без Дэвида. Так велико было ее стремление поскорее убежать, так велик страх перед новыми мольбами Блейза, что она заказала билеты на дневной самолет, и в Лондоне у нее даже не было времени остановиться и подумать. Да она и не могла ни о чем думать. Лежавшие в сумочке билеты казались ей знаками судьбы – оставалось только подчиниться. Совет и поддержка Эдриана были так необходимы ей еще и потому, что, видимо, в ее жизни не осталось теперь никого, кроме брата. Ни Блейза, ни Монти, ни Эдгара. Ни Магнуса. А теперь вот и Дэвид ее оттолкнул. Исчезновение сына в день отъезда казалось ей страшным окончательным приговором – жестоким, но справедливым. Оно тоже было частью какого-то единого механизма, от которого, несмотря на все свои «принципы» и «ощущения», она не смела, да и не вольна была убежать.
Но все же то отчаяние, которое испытывала сейчас Харриет, цепенея в ожидании своего багажа в незнакомом аэропорту, объяснялось другим: она начала медленно понимать, что ее побег ничего не изменил. Он оказался пустым жестом. Он не принес ей долгожданной свободы. В конце концов, к чему все это? У нее нет никого, кроме Блейза. Эдриан ей, конечно, посочувствует, посоветует что-нибудь и пожалеет, но все равно скоро начнет ждать, когда она уже уедет обратно – домой. Круг замкнется, все опять вернется к Блейзу. «Никому я больше не нужна, – думала она, – никому, кроме детей, – но дети не спасут, увы. А Блейзу я очень нужна: он без моего прощения не может наслаждаться счастьем с Эмили. Ему нужен Худ-хаус, нужна видимость того, что все идет как раньше, ничего не изменилось. И Дэвиду, наверное, тоже – хотя Блейзу все это нужнее. Ему невыносимо видеть то, что он сам натворил; он будет умолять, чтобы я отпустила его, избавила от наказания, даровала ему какое-то особенное прощение. А добившись своего, начнет относиться ко мне, как раньше к Эмили. Только со мной ему будет проще, потому что есть Худ-хаус и потому что я не буду без конца мучить его упреками, как Эмили. Со временем в Худ-хаусе опять все наладится, я включу отопление, начну складывать вещи Блейза и ждать, когда он придет в следующий раз. И он будет приходить и будет говорить, какой он подлец и как он один во всем виноват, будет ругать за глаза Эмили, и копаться в своих чувствах, и горько во всем раскаиваться – а потом сядет в машину и уедет назад к ней, чувствуя себя сильнее и чище, чем раньше. Он будет искренне благословлять меня, такую хорошую, и скажет Эмили, что все прошло „великолепно“, и они вместе посмеются над моим простодушием. А я останусь одна. Быть доброй, добренькой к нему – вот последнее и единственное, на что я способна. И я приду к этому. Я уже иду к этому, я уже думаю так, как он хочет, чтобы я думала, – и от этого нет избавления; кроме насилия, к которому я не способна по своей природе». И еще Харриет поняла, что нигде, нигде в мире нет той спокойной, сияющей ясности, чтобы дерево, возвышаясь между двумя святыми, так значимо тянуло свои чистые прекрасные ветви к золотому небу. Она думала, что постигает азы свободы и добродетели, а оказалось – это все суета, мелкие ничтожные переживания. Ей некого и не в чем винить, она сама во всем запуталась, она сама себя осудила.
– Полицейские! – сказал Люка.
Харриет подняла глаза. В дверях зала ожидания появились люди в форме. Харриет насторожилась. В их застывшей напряженности было что-то странное. Опасность. Сердце Харриет забилось вдруг очень часто, она обернулась. По левую руку от нее сидел очень толстый немец, летевший с ними в одном самолете. Взглянув на его лицо, Харриет похолодела. Немец сидел белее бумаги, с открытым ртом и вытаращенными глазами. Харриет проследила за его взглядом. В самом центре зала, посреди мертвой тишины и неподвижности, стояли два молодых человека; у одного в руках поблескивало что-то темное, продолговатое. У противоположного выхода тоже появились полицейские. Кто-то выкрикнул что-то по-немецки. Завизжала женщина. Один из полицейских поднял револьвер. Послышался оглушительный треск, и сразу же все помещение наполнилось отчаянными криками. Немец-толстяк, весь в крови, стал сползать на пол. Харриет тоже закричала и навалилась на Люку, закрывая его собой.
– Как тебе дядя Эдриан? – спросил Блейз.
– По-моему, кисель киселем, – ответила Эмили.
– А по-моему, он ничего, – сказал Блейз. – Конечно, мы с ним никогда не ладили. Он всегда считал меня шарлатаном.
– Так ты и есть шарлатан, милый. А он военный… хоть мне и верится в это с трудом. Почему он был без формы?
– Вне службы военные не обязаны ходить в форме – только во время войны.
– Он больше похож на банковского клерка.
– Послушай, может, хватит намасливать котам пятки – что это вообще за бредовая идея такая? Бильчик нам весь индийский ковер истоптал своими жирными лапами.
– Я кое-что изменила в гостиной. Надеюсь, тебе понравилось?
– Нет, не понравилось. Я говорил тебе, чтобы ты ничего не меняла без моего ведома.
– А я говорила тебе, что этот дом должен стать моим, и ты согласился. А забавно, что дядя Эдриан решил в конце концов взять с собой Лаки, правда?
– Да, очень трогательно. Он сказал, что хочет взять на память что-нибудь «особенно дорогое для Харриет».
– Я, кстати, обратила внимание: ничего действительно ценного ты ему почему-то не предложил.
– При чем тут ценные вещи? Речь шла не о них. А все эти безделушки с ее стола я и так ему отдал.
– Ну и скупердяй ты, милый. Эй, что ты так сморщился?
– Больно, вот и сморщился! Ты, я смотрю, уже забыла.
– А, нога.
– Да, нога. Буду теперь до самой смерти хромать. Но тебя это, я вижу, не колышет.
– Хорошо, что работа у тебя сидячая. И хорошо, что дядя Эдриан увез этого пса с собой. Думаю, общения с собаками тебе хватило до конца жизни.
Блейз спасся чудом. Ему наложили на шею двадцать пять швов, ногу тоже прооперировали. До главных артерий Аякс все-таки не добрался: практически сразу же после того, как Блейз упал, из дома выбежали Пинн с Дэвидом и отогнали собак. К тому времени, когда подоспел Монти, худшее уже было позади.
В результате долгих и неприятных разбирательств Аякс, Панда с Бабуином, Лоренс и Ёрш поплатились за свое преступление жизнью. Невинной жертвой пал Баффи, который ни во что не ввязывался, а только стоял на лужайке и лаял. (Он всегда был трусоват и, когда другие собаки затевали что-нибудь рискованное, предпочитал отсидеться в сторонке.) Малыш Ганимед (бывший, безусловно, в числе виновных) спасся благодаря находчивости миссис Рейнз-Блоксем, которая уже давно поддерживала с ним некие тайные отношения и подкармливала его у себя на кухне; она просто зашла, взяла его на руки и унесла к себе, не дожидаясь, пока все окончательно разъяснится. Лаки (воистину счастливчик!) тоже уцелел случайно. Оттого ли, что кардиганский корги еще не совсем влился в стаю или просто не успел привыкнуть к регулярным худ-хаусовским кормежкам, но он оказался гораздо предприимчивее остальных своих сородичей: осознав, что голод не тетка, он протиснулся через дыру в заборе и побежал обследовать содержимое мусорных ящиков Монти. В ходе этого достойного занятия он нечаянно завернул в гараж, а Кики, выезжая, нечаянно закрыла его там, предоставив ему тем самым железное алиби. (Кики предусмотрительно решила воспользоваться гаражом, чтобы Блейз не увидел ее машину перед домом Монти и не огорчился; она вообще была предусмотрительная девушка.) Таким образом, Лаки был обнаружен в гараже уже после случившегося и, естественно, признан невиновным. Блейз собирался вернуть его в Баттерсийский дом собак, но тут явился Эдриан и, узнав, что Харриет питала к корги особую привязанность, увез его с собой.
Харриет погибла во время перестрелки в ганноверском аэропорту. Ее тело было изрешечено пулями, но она успела заслонить собой Люку и спасти ему жизнь. Блейз, которому Эдриан сообщил о случившемся по телефону, немедленно вылетел в Германию и вместе с останками жены привез домой младшего сына, впавшего в состояние глубокого шока. С того страшного дня Люка не говорил ни слова, только молча смотрел на мир полными ужаса, блестящими, будто от слез, глазами. Он всех узнавал, но всех дичился и лишь жалобно отмахивался, когда родители пытались успокоить его или приласкать. Эмили долго плакала, но потом согласилась, что лучше все же отдать его в специальное учреждение для детей с нервными расстройствами. Смотревший его психиатр сказал, что случай не безнадежный.
Эмили переехала в Худ-хаус вскоре после похорон. Почти тогда же они с Блейзом тихо узаконили свои отношения в ближайшем бюро регистрации. В качестве свидетелей присутствовали Пинн и Морис Гимаррон. Блейз также посылал приглашение Монти, но в ответ пришла открытка с наилучшими пожеланиями – и все. Как только Эмили вселилась в Худ-хаус, Дэвид перебрался обратно в Локеттс; Блейз не торопился улаживать отношения со старшим сыном. Успеется, думал он, вон еще сколько всего надо сделать, чтобы жизнь опять вошла в нормальную колею. В том, что она непременно в нее войдет, Блейз почему-то не сомневался – несмотря на апатию и болезненную усталость, владевшую им после смерти Харриет. Очень осторожно он уже мог признаться себе в том, что все позади и он остался невредим – он выжил. Когда выяснилось, что Харриет погибла, что ее бесцельно и бессмысленно застрелили какие-то люди, понятия не имевшие о его жизненных трудностях, и что проблема решилась в одну минуту таким немыслимым образом, Блейз был сначала ошеломлен невероятной случайностью, потом невероятной предопределенностью произошедшего. Какое-то время он не мог поверить, что Харриет больше нет, что с ней покончено раз и навсегда. Смерть поразила его своей чрезвычайной чистоплотностью: только что человек был, и вот его уже не только нет – все за ним уже как будто убрано и прибрано. Когда первое потрясение прошло, он еще долго чувствовал себя больным и разбитым, но это чисто физическое состояние казалось вовсе не связанным с Харриет. В то же время он с суеверным страхом ждал чего-то еще, какой-то последней весточки от Харриет – письма, телефонного звонка – и, по старой неистребимой привычке, тосковал по ней.
– Как мне ее не хватает, как же мне ее не хватает, – жаловался он Эмили, словно сообщая ей нечто очень важное.
У него появилась навязчивая потребность постоянно напоминать Эмили о Харриет, как бы показывать ей каждые несколько минут фотокарточку Харриет. И Эмили понимала эту потребность и относилась к ней с уважением, что, впрочем, в ее случае было совсем не трудно. Судьба сослужила Эмили такую прекрасную службу, что можно было позволить себе известное великодушие. Эмили не слишком усердствовала – не изображала сострадания и не утруждала себя попытками разобраться в переживаниях Блейза (переживет, думала она про себя). У нее, правда, хватало выдержки и такта не показывать своей радости по поводу случившегося (но время от времени она отпускала замечания вроде: «Как это мило, что миссис Флегма успела прибыть в аэропорт в самый нужный момент») – и Блейз тоже относился к этому с уважением. Эмили полагала, что чуть-чуть жестокости в этом деле не повредит: возможно, думала она, если его скорбь немного приземлить, он скорее увидит, что не обязательно превращать жизнь в кошмар. И возможно, она была права.
Блейз не видел тела Харриет (на опознание ездил Эдриан) и не собирался на него смотреть, хотя Эдриан никак не мог этого понять и говорил несколько раз, что «лицо совсем хорошее, никаких следов». Перевозку тела в Англию тоже взял на себя Эдриан, а не Блейз. Собственно, Эдриан и настоял на том, чтобы везти тело домой, – Блейз, движимый суетливым инстинктом самосохранения, охотно согласился бы на немедленное погребение там же, в Германии. Все эти хлопоты, в которых Эдриан находил для себя какое-то утешение, казались Блейзу незначащими формальностями. Эдриан также договаривался насчет похорон: Харриет похоронили на том же лондонском кладбище, где уже покоились ее мать и отец. («Знаешь, он теперь будет регулярно приезжать на ее могилу», – не без удивления сказал Блейз Эмили.) После смерти Харриет как-то незаметно, естественным порядком вернулась в лоно семьи Дервент, чему Блейз был смутно рад: ведь если выяснилось, что она из той семьи, а не из этой, значит его утрата все-таки не столь значительна.
Харриет постоянно появлялась в его снах, при этом он всегда испытывал острейшее сострадание к ней, а также страх, старательно изгоняемый им из дневной жизни. Однажды ему приснилось, как она кормит собак и при этом почему-то горестно, безутешно плачет. В другой раз она вошла избитая – все лицо в синяках – и стала укоризненно на него смотреть. «Она не умерла, – понял он, – ее просто сильно избили – я же и избил. Как я мог так поступить, это же моя родная жена, она такая добрая и хорошая!» Впрочем, просыпаясь, он быстро избавлялся от этих утонченных происков жалости и страха. Все это было слишком сложно, ему же надо было жить, коротать отведенный ему век. Иногда он позволял себе – чуть ли не отмерял себе немного скорби по Харриет и печалился о том, каким тяжким грузом легла ему на плечи эта ужасная смерть. Инстинкты эгоиста, включившиеся в ту самую минуту, когда голос Эдриана из телефонной трубки сообщил ему о гибели Харриет, работали четко, как часовой механизм. «Я не хочу, чтобы этот кошмар пустил внутри меня свои корни, – думал он, – не хочу, чтобы какая-то смерть наложила свою мерзкую лапу на всю мою жизнь. Надо думать о себе, о своем будущем, о том, как, утешенный Эмили, я когда-нибудь буду счастлив. Бессмысленно теперь винить во всем себя и размышлять о страданиях Харриет, тем более что они уже закончились. Я не имею права себя губить, я должен сделать все, чтобы как-то излечиться, в этом мой долг перед собственной жизнью. Я постараюсь жить проще, лучше, без лишних проблем – пусть хоть в этом поможет мне чистоплотная смерть. Я заслужил отдых. Я не могу и не хочу жить с призраком. Уходи, уходи», – мысленно твердил он, будто отсекая по одному тоненькие щупальца жалости, тянувшиеся к нему из могилы.
Между тем в Худ-хаусе уже много дней велась тайная, молчаливая работа. Подобно преступникам, заметающим следы преступления, Эмили и Блейз лихорадочно уничтожали следы присутствия Харриет в доме. На лужайке за домом постоянно горел костер, куда супруги, стараясь при этом не сталкиваться и не смотреть друг на друга, потихоньку сносили никому не нужные вещи – жалкий хлам, оставшийся от жизни Харриет. Содержимое ее стола, какие-то еще девчоночьи сувениры, уэльские акварели, тетрадки с кулинарными рецептами, газетные вырезки об отцовском полку, открытки, присланные когда-то отцом и братом из разных частей света, целые ящики, набитые косметикой, какими-то лентами, расческами, старыми поясами, даже нижним бельем, – мало-помалу странный погребальный костер поглотил все. Платья Харриет и ее немногочисленные и не слишком драгоценные ювелирные украшения отправились в «Оксфам»[30]. Эмили присмотрела для себя только одну вещицу (а присмотрев, умело направила разговор так, чтобы Блейз уговорил ее эту вещицу оставить) – серебряный позолоченный браслет с выгравированными розами. Впрочем, потом она никогда его не носила. Деревянный полированный слон и плюшевый медвежонок в шотландском килте вернулись вместе с Люкой из Германии. Уезжая в свое специальное учреждение, Люка забрал медвежонка с собой, но слон почему-то осел в Худ-хаусе. Однажды утром Блейз обнаружил в кострище его обугленные останки и долго размышлял о том, какие чувства могли владеть Эмили в момент совершения этой казни.
Наследником Харриет по завещанию был, разумеется, Блейз – и тут его ждала приятная неожиданность. Оказалось, что она унаследовала от отца приличный капитал, о котором Блейз ничего не знал. Но почему не знал? Значит, в чем-то Харриет ему все-таки не доверяла? А может, припрятав бумаги на черный день, она намеревалась когда-нибудь преподнести ему сюрприз? Однажды, когда они обсуждали вопросы его дальнейшей учебы, она обронила что-то насчет «ценных бумаг». Но скорее всего, она и сама не догадывалась об их ценности. Деньги оказались как нельзя кстати, особенно сейчас, когда у них с Эмили было столько расходов. В доме еще многое надо было менять, а кухню для новой хозяйки пришлось переделывать почти полностью. К счастью, практика Блейза по-прежнему процветала, в основном за счет новых пациентов. Старые почти все объявили, что вылечились, и ушли. Кстати, Блейз теперь работал преимущественно с группами и мог поэтому набирать больше клиентов, но желающих было в избытке, так что попасть к нему можно было только по предварительной записи. Время от времени они с Эмили по-прежнему заговаривали о том, не пойти ли ему «учиться на врача», но оба чувствовали, что это уже не актуально.
(К слову сказать, многие пациенты Блейза действительно пребывали теперь в лучшем состоянии, чем раньше, хотя сам он об этом даже не узнал. Тройное потрясение – самоубийство Хораса Эйнсли, смерть Харриет и страшное происшествие с самим Блейзом, которого чуть не растерзали собаки, – подействовало на них благотворно. Оттого что три несчастья не принесли им никакого вреда и миновали их не коснувшись, они воспрянули духом. На вечеринке, устроенной Морисом Гимарроном, Анжелика Мендельсон и Септимус Лич заявили почти в унисон, что оба они ни одной минуты не верили этому шарлатану. «А он-то думал, мы души в нем не чаем!» – «Не понимаю, зачем я столько времени к нему таскалась», – сказала Анжелика. «Я тоже не понимаю, – подхватил подошедший Стэнли Тамблхолм. – Мне так полегчало с тех пор, как я распрощался с этим занудой. Жаль, что собаки совсем его не сожрали». – «Я уже почти закончил свой роман, – сообщил Септимус. – А Пенелопа говорит, что она теперь спит как бревно». Мириам Листер залилась игривым смехом. Септимус и Пенелопа намеревались в скором времени пожениться. Одна только Джинни Батвуд молчала. Она была безнадежно влюблена в Блейза и никак не могла от него уйти, хотя муж уже угрожал ей разводом.)
После отъезда Люки Блейз, конечно, расстроился и огорчился за Эмили, но в целом испытал явное облегчение. Он, как ни горестно было это сознавать, никогда не понимал Люку, не понимал своего отношения к нему и не любил его так, как должен был любить. Люка, явившийся в свое время на свет досадной проблемой, так и остался для Блейза досадной проблемой. Шли годы, но странный ребенок не внушал Блейзу никаких чувств, кроме страха и вины. Теперь, когда его наконец официально признали ненормальным и вверили специалистам, стало легче. Как бы то ни было, говорил себе Блейз, сейчас им просто необходимо отдохнуть от Люки, хотя бы временно, а там будет видно. И хотя Эмили много плакала, он понимал, что и ей стало легче оттого, что у нее перед глазами уже нет этого пугающего, невразумительного, бессловесного страдания. И хорошо, думал Блейз, зато у нас останется больше сил на что-то другое – на Дэвида, в конце концов. Правда, он до сих пор не мог себя заставить по-настоящему заняться старшим сыном, а Эмили и подавно о нем не вспоминала. Дважды Блейз заходил к Дэвиду в Локеттс, но оба раза разговора не получилось. Дэвид по большей части молчал или вежливо давал отцу понять, что говорить не о чем. После двух попыток, не дождавшись от сына ни малейшего намека на сочувствие, Блейз понял, что третьего такого же испытания он не выдержит, во всяком случае в ближайшее время. Он даже не стал размышлять о том, почему оба визита в Локеттс закончились неудачно, просто постарался изгнать их из памяти. «Ладно, с Дэвидом разберусь потом, – решил он, – пусть пока Монти с Эдгаром им занимаются, так всем даже лучше. Главное сейчас – Эмили. Надо помочь ей тут обжиться, чтобы она поняла, что все это реально, и поверила наконец, что мы теперь вместе». И он снова возвращался к мысли о том, как это прекрасно – сделать женщину счастливой.
Итак, Блейз Гавендер и Эмили Макхью были отныне муж и жена. Их долгая, многолетняя война не то чтобы завершилась, но хотя бы перетекла в какую-то иную форму – в которой, конечно, тоже были свои победы и поражения, но совсем другие. Оба они при всякой возможности старались друг друга уязвить или уколоть, однако в отсутствие настоящей опасности эти уколы уже оказывались не такими пронзительными и пронзающими – словно острие их оружия притупилось. Может, и правда страх был раньше важнейшей составляющей их любви? Может, он-то и дарил Блейзу больше всего удовольствия – во всяком случае, ее страх? Теперь чувство было такое, будто, еще не закончив переругиваться, они уже говорят друг другу: «Не беспокойся, милый, не беспокойся, милая, все в порядке. Сейчас уже никак не выйдет все разрушить, или уничтожить, или потерять. Так что не волнуйся, это же игра». Неуемная жестокость Эмили, так мучившая его когда-то и дарившая ему такое наслаждение, теперь казалась безобидной подделкой, будто при изменившихся обстоятельствах ей уже недоставало остроты, чтобы пронзить его насквозь, довести до трепета, до нервной дрожи. Они теперь смотрели друг на друга гораздо спокойнее, чем раньше, с особенным, почти заговорщицким пониманием, словно оба были участниками тайного сговора, составленного для достижения счастья, и, кажется, это был сговор взрослых, солидных людей. В этом месте своих размышлений Блейз поймал себя на том, что, стремясь к счастью всей душой, видя в нем пусть не самую желанную, но все же награду, он не был вполне уверен, что эта награда достанется в конечном итоге им с Эмили. Припомнить, каким было когда-то – еще до Эмили – его счастье с Харриет, он не мог по одной простой причине: то время давно уже превратилось в легенду и было теперь решительно недоступно его пониманию. Точно так же он не мог восстановить в памяти ту сложную цепь ощущений, в которой любовь к Харриет представлялась ему небесной, а любовь к Эмили – земной. Вороша свое прошлое, инстинктивно передергивая и перетряхивая детали таким образом, чтобы скрыть самые удручающие из них, он с обновленной ясностью и даже с некоторой долей сострадания видел теперь лишь одно: как он был несчастлив с Харриет, как был с ней одинок, как мучился тем, что в результате собственной роковой ошибки оказался не на своем месте.
А сейчас, спрашивал он себя, на своем ли он месте сейчас? Итак, он женат на Эмили; этот с трудом осознаваемый факт поражал его своей безгреховностью и словно бы бесцветностью, как абсолютно белый цвет. Разумеется, он наполнял его сердце нежностью к Эмили – но в то же время словно бы притуплял то старое головокружительное ощущение абсолютного родства. Возможно, это родство было отчасти продуктом пьянящего страха перед подстерегавшими их тогда опасностями. Теперь опасностей больше не было и настало время взглянуть друг на друга новыми глазами. Но все же память о той старой любви оставалась для них своего рода гарантией, залогом, боевым штандартом, который они иногда вывешивали как бы на проветривание. Когда-то они не сомневались, что были созданы специально друг для друга; ради этого они не побоялись шагнуть в огонь, ради этого прошли сквозь него – и заслужили награду. И пусть награда оказалась вовсе не та, что они ожидали, – но огонь-то уж точно был настоящий. Блейза даже коснулось крыло смерти, ему придется теперь прихрамывать и носить шрамы до конца своих дней. И он старательно ограждал себя от смерти Харриет, как от кошмара. Он уже начал ощущать груз прожитых лет и даже замечал в себе зарождающуюся тягу к «буржуйству», к самодовольному покою – не только в себе, в Эмили тоже; и это ему нравилось. Пусть у них будут деньги, комфорт, уютный дом, легкая, уютная жизнь. Они вместе страдали и могут наконец-то вместе насладиться покоем и жизненными благами. Что ж, превратимся в заурядных обывателей, без особого сожаления думал он – и чувствовал себя законченным эгоистом, посредственностью, неудачником, который ни к чему не стремится, со всем смирился и находит в этом тайное извращенное наслаждение.
– Как я рада, что Эдриан наконец уехал, – сказала Эмили. – Как будто стерся еще один след – сам знаешь чей.
– Да, мне уже казалось, что он у нас навечно поселился.
– Послушай, поговорил бы ты с Монти.
– Насчет Дэвида?
– Нет. Насчет сада. Я хочу сад.
– Я ему напишу.
– Почему бы не пригласить его как-нибудь к нам? Устроили бы маленькую вечеринку.
– А я думал, он тебе не понравился.
– Понравился, только я виду не подала. Ну, во всяком случае, теперь он мне уже нравится. И потом, знаменитости ведь на дороге не валяются.
– Зато мне он теперь разонравился.
– Ну, тогда я сама к нему забегу.
– Только попробуй.
– Видишь, как легко я еще могу тебя взбесить!
– Отстань, малыш, я устал.
– А я хочу сад, хочу сад, хочу сад!
– Ладно. Попробую как-нибудь с ним договориться.
«Конечно, это неправда, что Монти мне теперь разонравился, – думал Блейз. – Но в моей жизни он оказался злым гением. Я не хочу его видеть, во всяком случае пока. Рядом с ним я чувствую себя ущербным. Всегда чувствовал. Но раньше я находил в этом что-то приятное, а теперь не нахожу. Обаяние Монти меня уже не „пробирает“; наверное, это тоже проявление посредственности. В каком-то смысле вся эта история – дело его рук. Просто он так развлекался: сначала изобрел Магнуса Боулза, чтобы мы с Эмили могли встречаться; а потом убил Магнуса – и заставил Харриет бежать из дома. Известие о том, что бедный Магнус покончил с собой, стало для Харриет последней каплей. Да, Монти – великий циник. Или, скорее, сонное божество, которое погружается в транс и творит в этом своем трансе страшные вещи. Как это ни чудовищно, он оказался вполне успешным божеством местного масштаба. По крайней мере закончилось все вполне благополучно – для тех, кто выжил. После всей этой мешанины из вины и грехов нам с Эмили выпал шанс начать все сначала. И кстати, благодаря Монти я теперь могу не думать о себе слишком плохо. Из-за него, а не из-за меня Харриет сбежала в Ганновер. Прояви он к ней побольше чуткости и доброты, не сбежала бы. Не я ее убил, а он. Монти был непосредственным виновником – вот пусть и переваривает теперь свое чувство вины. А не переварит – пусть лопается от обжорства, как Магнус Боулз. Разве можно дружить с человеком, который помешался на собственном величии? Грех гордыни, как никакой другой, обрекает грешника на одиночество. Монти мнит себя Люцифером, на деле же из него даже Магнус не получился. Он тощ и жалок – в точности как его жалкий Мило Фейн. Вот кто такой Монти – Мило Фейн. Только вместо хладнокровия у него холодная рассудочность. Да, я напишу ему насчет сада. Надо подумать, какую минимальную сумму прилично будет ему предложить».
«Ревнует, лапочка, ревнует, радость моя, – думала Эмили. – Боится, глупенький, что я заведу с Монти какие-нибудь шуры-муры. А что, можно и завести, пусть немного поволнуется. Если мы женаты, это еще не значит, что ему теперь можно расслабиться и считать, что все в полном ажуре». Внутренняя жизнь Эмили Макхью никогда еще не была такой богатой и многогранной. Она переживала сейчас столько всего, о чем не могла рассказать Блейзу (подобно медиуму, который не может точно передать текст послания просто потому, что ему не хватает слов), так много знала и не говорила, что иногда сама себе казалась ужасной обманщицей. Кроме того, ей, конечно, приходилось сдерживать себя, чтобы не выдать ненароком своего безмерного удовольствия по поводу кончины Харриет. Вернее, это было даже не удовольствие, а глубокое, волнующее удовлетворение – будто после долгих трудов ей наконец удалось вполне законным и непредосудительным способом устранить свою соперницу.
Теперь Эмили все чаще и чаще чувствовала себя большой – огромной; будто она, вчера еще нищая и ничтожная, вдруг каким-то немыслимым образом выросла, расширилась во все стороны и вместила в себя все то, что прежде вмещало ее самое. Вместила в себя Блейза. Испытывая к нему бесконечную нежность, она тем не менее понимала, что она больше, сильнее, мудрее его; вглядывалась в него с любовью и видела все до мелочей. Она, как никогда прежде, видела все его недостатки, старые и новые, которых не было раньше. Она замечала все его хитрости и жульнические уловки, все то, что превращало его в такого изумительного, неисправимого шарлатана. Она ясно видела, к каким ухищрениям прибегает его эгоизм, чтобы вытравить кошмар из своей жизни, вытравить из себя Харриет. Она даже видела, как несовершенна его любовь к ней самой, видела это в свете своей собственной, более совершенной любви. Она тоже почувствовала, что их старое особенное «родство» то ли притупилось, то ли как-то видоизменилось, – но не слишком горевала по этому поводу, потому что оценивала ситуацию по-своему. Она понимала, что эта брешь в их любви может оказаться для них обоих выходом в большой мир, где они обретут новые просторы для новых эмоций. Это пророческое понимание пришло к ней в тот незабываемый момент в маленьком регистрационном бюро, когда Блейз надел наконец ей на палец вожделенное кольцо, когда Пинн и Морис расцеловали ее и сказали ей «миссис Гавендер», а она подумала: все, мы с Блейзом женаты. У нее, как у всякой семейной женщины, был теперь муж и дом. Все, включая и обычные плотские радости, становилось законным проявлением ее любви, и в этой законности, вытекающей из самого факта замужества, Эмили виделись целомудрие и чистота. Она любила Худ-хаус, любила заботиться о нем, украшать его и гордиться им, и ей ужасно хотелось разыскать где-нибудь своего отчима, если этот подонок еще не сдох, – пусть посмотрит, в каком настоящем шикарном доме она теперь живет.
Конечно, Люка был ее большим несчастьем, но она, точно так же как и ее муж, была преисполнена решимости не страдать чрезмерно – и это ограничивало рамки ее несчастья. Для нее Люка находился сейчас как бы в подвешенном состоянии, она старалась представлять себе, будто он просто спит. Психиатр посоветовал не приезжать к нему месяц-другой – а там будет видно. Эмили сожгла слона не потому, что его подарила Люке Харриет, и даже не потому, что у него на боку темнело маленькое пятнышко (не замеченное Блейзом) – кровь Харриет; просто каждый раз при взгляде на этого слона она вспоминала, что Люка есть, что скоро наверняка придется его навещать, а потом надо будет думать что-то насчет его окончательного возвращения. Каким вернется Люка? Да и вернется ли? Все эти вопросы несли в себе неминуемую и невыносимую боль. Но Эмили отнюдь не собиралась надрывать из-за них свое сердце. Она предпочитала помнить о том, что ее сыну сейчас оказывается квалифицированная помощь. Вспоминалось также, как страшно она боялась за него – а точнее, боялась его – в Патни, когда он мог неделями с ней не разговаривать. И разве не легче сознавать, что он теперь уже не просто маленький мальчик, страшно беззащитный и уязвимый, за которого отвечает только она одна, а пациент, как многие другие, – ненормальный, если угодно, и с ним работают специально обученные люди, которые знают, с какой стороны к нему подступиться? И ей правда становилось легче, и она благоразумно утешалась. Для Люки сейчас делается все возможное, думала она, вот и хорошо. Насчет Дэвида она и вовсе не волновалась. Дэвид уже почти взрослый. Эмили готова была вычеркивать в календаре недели и месяцы, оставшиеся до его совершеннолетия. Когда этот долгожданный день настанет, Дэвид исчезнет – просто не будет для них существовать.
И была еще одна причина, по которой Эмили, сидевшая сейчас за столом в светлой, совершенно преобразившейся худ-хаусовской кухне и взиравшая на мужа чуть загадочно, с любовью и спокойным, милосердным пониманием, была намерена и дальше ограждать себя от всех кошмаров. (Старый дощатый стол перекочевал в гараж, клетчатые скатерти уехали в «Оксфам». Теперь на кухне стоял белый круглый стол скандинавского производства, с термостойким покрытием, и вокруг него шесть белых стульев. От бывшего патриархального полумрака ничего не осталось.) Сегодня она была на приеме, и врач подтвердил ее подозрение: она беременна. И как только он это сказал, Эмили вдруг окончательно уверилась в том, что и с Люкой будет все в порядке. Он вылечится, вернется домой, и все они заживут счастливо и прекрасно. Она еще не сообщала радостную весть Блейзу, пока только с удовольствием представляла, как она это сделает. Как он будет волноваться, девочка или мальчик, и убеждать ее, что девочка лучше!.. Впервые в жизни Эмили Макхью смотрела в будущее – и оно расстилалось перед ней безбрежной золотой равниной.
– Moules?[31]
– Нет.
– Что, не любишь морепродукты?
– Нет.
– Тогда, может, что-нибудь из яиц? Яйца «морней» не хочешь? Или timbale de foies de volaille?[32] Авокадо? А как насчет копченого лосося? Quenelles de brochet?[33] Все-таки серьезный обед не игрушка, нельзя же совсем без рыбы. Или ты предпочитаешь копченую форель?
– Выбирайте, – сказал Дэвид.
По его щеке скатилась слеза, он медленно поднял руку и смахнул ее. Эдгар проследил за его жестом и вернулся к меню.
– Давай-ка мы с тобой начнем с копченой форели. Да, так и сделаем. Потом… Здесь у них отличный poulet sous cloche[34], но, может, лучше все-таки мясо? Возьмем один «шатобриан» на двоих. Или пирог с дичью? Нет, я тоже думаю, что нет. Эй, метрдотель! Так. Одну минуточку, сейчас мы посмотрим… Пожалуйста, «Граахер Химмельрайх»… Только «Шпэтлезе»?[35] Нет, он в том году был сладковат, для начала обеда это не годится. Ну, тогда… ага, тогда «Поммар» шестьдесят четвертого года. Превосходно. Все, благодарю вас, мы готовы сделать заказ.
– Вы сегодня везете Монти в Мокингем? – спросил Дэвид.
– Да. Не сердись на Монти.
– Я не сержусь. Просто он меня разочаровал.
– Потому что не захотел с тобой серьезно разговаривать?
– Ему, по-моему, на все плевать. Он вообще как будто неживой.
– Неживой – он? Нет, тут ты ошибаешься.
– Ну, будто у него ни на что нет сил.
– Возможно, у него сейчас нет сил на тебя. У каждого из нас свой Монти, и он иногда разочаровывает нас, но боюсь, тут мы сами виноваты, потому что начинаем слишком много от него хотеть. Поверь, Монти любит тебя гораздо больше, чем тебе кажется.
– Мне кажется, он никого не любит… Простите.
– Просто он сознает, что в данный момент не может тебе помочь. Это, если хочешь, скромность своего рода. Некоторые живут тем, что помогают другим людям. Это их в каком-то смысле поддерживает: ведь помощь дает им власть над людьми. Но Монти такая власть не нужна. Возможно, потому, что при желании он мог бы иметь ее в избытке.
– Мне кажется, эта скромность ему не идет, – сказал Дэвид. – Я не хочу, чтобы Монти был скромным.
– Понимаю. Каждый из нас не хочет, чтобы его Монти был скромным. Нам всем нужно, чтобы он был гордым. Вот только нужно ли это ему? Хотя ты с ним еще не раз увидишься, и очень скоро – как только начнешь приезжать в Мокингем. Словом, Монти у тебя еще будет.
Эдгар пригласил Дэвида не только в Мокингем. Он также предложил ему съездить вместе с ним в Британскую школу в Афинах. При желании, сказал Эдгар, можно будет поучаствовать в раскопках в Пелопоннесе, там археологи уже откопали великолепный торс Федима и прекрасную чашу, расписанную самим Дурисом. Но ничто не помогало: смерть матери оказалась для Дэвида слишком страшным ударом, он ежечасно чувствовал, что не может, не сможет его пережить. По сравнению со смертью даже бесстыдно поспешная женитьба его отца, даже эта женщина, которая вселилась в Худ-хаус и тут же принялась все в нем менять и уродовать, – все это были сущие пустяки. У Дэвида было такое чувство, будто он пребывает в некоем физически невозможном состоянии, будто он оптический обман или, к примеру, что-то огромное и растопыренное – а кто-то тянет и тянет его изо всех сил, пытаясь протащить сквозь узкую трубу. Ничто не помогало. Впрочем, Эдгар, возможно, чуть-чуть помогал.
– Не плачь, – сказал Эдгар. – Возьми себя в руки. Попробуй мозельвейн и скажи мне, что ты о нем думаешь.
– Какая разница. По мне, все вина одинаковы.
– Нет, не все, Дэвид. Вот, отпей и сосредоточься. Когда приедешь в Мокингем, я научу тебя пить вино. Знаешь, какой у меня там погреб!.. Тебе понравится в Мокингеме, вот увидишь. А спальня у тебя будет в башне.
– Это из тех башен, что понастроили в девятнадцатом веке?
– Да. Слава богу, у моей матери не хватило наличности, чтобы ее снести. Прадед мой, видишь ли, был большим поклонником Фридриха Второго. Башня восьмиугольная, и окна на все восемь сторон – так что вся равнина будет перед тобой как на ладони. Зимой там, конечно, холодильник. Но зимой мы тебя поселим в западном крыле.
– «Мы»?
– Ну да, мы с Монти.
– А западное крыло, наверное, времен Регентства?
– Еще раньше, времен королевы Анны. Там не так романтично, как в елизаветинской части дома, – зато удобнее.
– И вы правда будете помогать мне с греческим?
– Конечно. Ты ведь будешь учиться в Оксфорде, а оттуда до Мокингема рукой подать – сможешь приезжать каждые каникулы. И на выходные тоже, с друзьями. Будете вместе читать великих греков. В общем, считай Мокингем своим домом.
– Очень кстати, – сказал Дэвид. – Другого у меня все равно нет.
– Не говори так. Ты нужен им.
– Может, хватит мне повторять, как я им нужен?
– Это правда.
– Нет. Им вполне хватает друг друга. А я для них – часть… ее.
– Ну, ну, спокойно.
– Они ее отсекли, вырвали с корнем, будто хотят во второй раз ее убить, сделать так, будто ее вообще никогда не было. И значит, меня тоже. Им бы только поскорее забыть прошлое – и все, тогда они будут счастливы. Они и так уже счастливы. Посмотрели бы вы на них, когда к дому подъезжает фургон с какой-нибудь новой жуткой мебелью, а они встречают его в дверях. Хохочут, радуются, как дети, потом начинают обниматься-лобызаться – прямо на глазах у грузчиков. А ее вещи они сжигают, даже меня не спросили. Уничтожают все подряд, как Гитлер…
– Спокойно, Дэвид, спокойно. Они не могут сейчас быть счастливы. Твой отец не может быть счастлив. Подумай сам. Ты ему очень нужен.
– Я – ему? Зачем? Он заходит ко мне иногда, потому что совесть гложет, но мы даже не разговариваем. Нам с ним не о чем говорить, кроме нее, а он уже вычеркнул ее из памяти.
– Нет, не вычеркнул, просто он очень печалится и поэтому не может говорить. Ты должен ему помочь.
– О себе он печалится.
– Да, конечно, и об Эмили тоже. Ей ведь в жизни пришлось несладко. И если теперь твой отец хочет окружить ее заботой – что ж, это вполне можно понять и простить.
– Надо ему – пусть окружает, только меня пусть оставит в покое. Я не собираюсь его на это благословлять. Не могу.
– Ну, что-то ты можешь. Можешь, например, быть чуточку добрее к своему отцу.
– Это будет чистое лицемерие.
– Так стань лицемером. Притвориться хорошим – это ведь тоже маленькая победа. Возможно, даже и не маленькая.
– Вам кажется, ему важно, что́ я о нем думаю? Да ничего подобного. Ему все равно, и это так… ужасно.
– Нет, нет, Дэвид, все не так! Ты для них очень важен – может быть, важнее всего на свете. Без тебя они не смогут… погибнут.
– Ну и пусть себе гибнут.
– Материнское смиренномудрие перешло теперь к тебе, дай же ему взрасти в твоей душе.
– Не понимаю, о чем вы. Я их ненавижу.
– Не надо, мальчик мой. Ты должен все это пережить – ради себя же самого. Я не говорю: забыть, нет. Но ты должен почувствовать себя полноценным здоровым человеком. Ненависть тут только помешает. Нужно просто… помиловать их… от всего сердца. Они нуждаются в твоем милосердии.
– У меня такое чувство, будто я занял место своей матери. Будто я – это она. Я все, что от нее осталось. Всем остальным плевать. Ну, кроме дяди Эдриана, возможно, – но он ведь никто.
– Вот тут ты не прав. Он не никто, и к нему ты тоже должен быть добрее. Ты написал ему, как я просил?
– Нет. Они преступники и хотят, чтобы все им сошло с рук.
– Дэвид, ты обещаешь написать дяде Эдриану?
– Да. Хотят, чтобы я кивнул им, чтобы они могли спокойно продолжать свои делишки.
– Значит, ты должен кивнуть. Не суди их, лучше кивни. Ты должен обрести покой в душе. Ты пытался молиться? Sauce béarnaise?[36]
– Пытался… Конечно, молиться по-настоящему я уже не могу… Когда я был маленьким, она учила меня… Господи, зачем это, не надо ничего вспоминать…
– Молитва, не молитва – не важно, каким словом ты это назовешь. Но продолжай пытаться. И не бойся так Христа. Иисус Христос – это просто местное название Бога.
– Вам разве не кажется, что в нем слишком много неискренности?
– Нет. Я и сам не верю церковным догмам, но мой Христос принадлежит мне, и я не дам церкви отнять его у меня.
– А с Монти вы эти вещи обсуждали?
– Да, но… с ним трудно, ему подавай все – или ничего. И наверное, для него это правильно.
– Вы же только что объясняли мне, что он сама скромность.
– Да, но он склонен все возводить в абсолют…
– А что, нельзя этого делать?
– Я не знаю. Знаю, что не надо суетиться и не надо слишком тревожиться – ни о чем. Все людское преходяще… Передай-ка мне твой бокал. В религии каждый живет по большей части в собственном мирке, маленьком и весьма примитивном. Дальше начала почти никто не продвигается – как в философии. Так что, если хочется крикнуть: «Господи, помоги!» – кричи. А как покричишь немного, прислушайся. Может, тебе и помогут.
– Но как же тогда разобраться, где что? Где правда, где ложь?
– Та правда, о которой ты говоришь, тоже понятие сугубо местное, локальное, если угодно. Не в том смысле, что оно относительное, – это все релятивистский бред. Есть, конечно, наука, есть история, и там все иначе. Но речь, как ты понимаешь, не о них, а о жизни. Тут каждому человеку приходится, как правило, решать какие-то свои простые и неотложные задачи – и в них, в том, как он их решает, как раз и заключается его личная правда. Не врать самому себе, не прикрываться в угоду своей гордыне ложными понятиями, не фальшивить и не лицемерить, стараться быть спокойным и рассудительным. Каждый человек стремится достичь какого-то уровня искренности и чистоты в общении с самим собой. И если ему это удалось, то он достиг правды – своей собственной, личной правды, и никакой великой веры для этого не нужно. И тогда уже этот человек будет и правдивым, и добрым и сумеет понять своих ближних по-настоящему.
– Ого. И вы после этого скажете, что вы не возводите все в абсолют?
– Я? Нет. Видишь ли, все это ужасно сложно. То, что я говорю, – это ведь просто слова. Скажи лучше, ты попробуешь быть добрее к своему отцу?
– Не знаю.
– Как насчет пудинга с патокой? Он у них тут превосходный. У тебя ведь проблем с весом пока что нет? Или закажем какую-нибудь экзотику – фиги заморские, например? Crêpes suzette?[37] Или просто сыра? А я, пожалуй, приложусь к crêpes, а потом тоже перейду на сыр, ты не возражаешь? Официант! Принесите-ка нам еще вина. Думаю, к пудингу лучше всего бутылочку «Барсака»… «Барсака» нет? Ну, тогда еще мозельского…
– Я все время вижу мать, везде, даже на улице. Будто она повсюду ходит за мной – и это так жутко… И еще день и ночь думаю о том, что она чувствовала тогда, в ту последнюю минуту… Не хочу, чтобы это превратилось для меня в кошмар.
– Тогда молись. Проси о помощи. Ищи спасение внутри себя. Это всегда можно сделать, если чувствуешь, что кошмар уже подступает.
– Да. Да. Я буду камамбер.
– Подожди. Дай-ка я его сперва проверю… Все в порядке, отличный сыр, выдержанный. Да, это должно стать твоей привычкой на всю жизнь.
– Что, проверять камамбер?
– Находить успокоение в собственной душе. Или хотя бы спокойно вглядываться внутрь себя и философски принимать то нелепое фиглярство, которого в каждом из нас в избытке.
– И кстати, насчет фиглярства… Эти дикие фантазии… ну, я вам как-то рассказывал… они не отпускают меня, несмотря ни на что, и… я ничего не могу с этим поделать.
– Как ты срываешь платье с Кики Сен-Луа?
– Да. Ужасно, правда? Думать о таких вещах сейчас – это такая подлость, по-моему.
– Видишь ли, у каждого из нас внутри есть помойная яма, полная всяких гадостей и нечистот, – и они живут там по своим законам. Не думай о них. Так, понаблюдай немножко, а потом переключись на что-нибудь другое.
– Но я все это вижу в таких подробностях…
– Хорошо тебя понимаю. Но если дело только в сексуальных фантазиях, то, думаю, тебе не о чем беспокоиться. Сексуальные фантазии есть у всех.
– Правда, Эдгар? И у вас тоже – до сих пор? А у вас что?
Эдгар разразился затяжным смехом.
– Ox! Да уж! Послушай, гулять так гулять! Не заказать ли нам по ирландскому кофе?
Немного не доезжая до Локеттса, Эдгар свернул с дороги и остановился на обочине под большой раскидистой вишней. Дэвид (который жил теперь в лондонской квартире Эдриана) вышел еще в городе: он собрался сегодня позаниматься в библиотеке Британского музея. Чтобы расслабиться, Эдгар опустил спинку сиденья и, запрокинув голову, стал смотреть вверх. Машина тихонько урчала невыключенным мотором, высоко между вишневыми ветками голубело небо. Неожиданно он заметил, что все дерево усыпано гроздьями мелких белых цветков, и подумал: как странно, скоро уже середина лета, а тут вишня в цвету. К тому же дичка, а они всегда цветут раньше. В мокингемском парке вишни стоят белые в апреле, по хорошей погоде даже в марте. Эдгар присмотрелся внимательнее и понял. Цвела не вишня, а разросшаяся белая плетистая роза, которая, цепляясь за ствол дерева, доползла до самой верхушки и свисала с ветвей белыми нарядными гирляндами. Из-за того что небо в просветах между ними было такое ярко-голубое, сами цветки тоже казались необыкновенно яркими, светящимися изнутри. Легкий ветерок сдул с гирлянды несколько белых лепестков; игриво кружась, будто нарочно выбирая для себя место, они опустились на лобовое стекло «бентли» и тотчас прилипли.
Эдгар не спешил. Время еще было, он мог позволить себе роскошь попредаваться приятным размышлениям, прежде чем ехать к Монти. Дорога до Мокингема займет меньше трех часов. Скоро они уже будут дома. И даже успеют посидеть вечером с бокалом вина на террасе. В такую погоду оттуда открывается прекрасный вид: кругом, сколько хватает глаз, лесистая равнина со всеми оттенками зеленого, в местах излучин сквозь зелень просвечивает река, вдалеке массивный, как крепость, амбар, на краю крыши, выложенной каменной черепицей, сидят рядком белые голуби.
Глядя сейчас вверх, где между гроздьями белых цветков светилось небо, Эдгар медленно осознавал, что он счастлив, несмотря ни на что. Наверное, это стыдно и нехорошо, думал он, глубоко втягивая в себя воздух, но так естественно – ничего нельзя поделать. Умерли две женщины, он любил их обеих. Они были такие разные и так по-разному волновали его сердце. Сколько жгучей и сладостной боли причинила ему весть о том, что Софи вышла замуж за Монти, – и он таскал эту боль за собой по всему свету, как страшную ценность. А Софи только мучила его, дразнила и смеялась, больше ничего – и так всю, всю жизнь. Нелепая выдумка про Амстердам была, в сущности, ее последней насмешкой. Харриет же чем-то напоминала Эдгару мать, и это само по себе сулило утешение, ласку и тепло. Она дарила ему столько радости – просто так, сама того не замечая. Чего он хотел от этих женщин? Только подержать их за руки, только ощутить в своем сердце чуть-чуть спокойной, надежной нежности – разве это много? Теперь их обеих нет, и все же Эдгар не предается безутешной скорби, как Монти или Дэвид. Или как он сам тосковал – и всегда будет тосковать – по своей ушедшей матери. Три дня назад при виде ее любимого кресла в мокингемской гостиной у него опять защемило сердце. Здесь она любила сидеть, поджав под себя ноги в шелковых чулках, и ее узкая юбка ползла вверх до самых подвязок. Она была как девочка, до самого конца.
Смерть Харриет едва не пробила брешь в обиталище Эдгаровых демонов, но обошлось. Он запер их туда сто лет назад и с тех пор жил без них, хотя постоянно чувствовал их присутствие – чуть ли не слышал из-за стены их голоса. То были его демоны, и он знал, что ему никуда от них не деться: когда-нибудь они вместе сойдут в могилу. Эдгар хорошо понимал Дэвида; он и сам всю жизнь тяжело переживал ужас бытия. Постепенно он научился смотреть на свою душу как на дурную собаку: как бы она ни упиралась, как бы ни рвалась невесть куда, он просто пережидал и потом опять тащил за поводок – так и продвигались потихоньку. Жизнь его протекала не так гладко, как могло показаться со стороны. С виду большой розовощекий ребенок, только играющий вместо игрушек в какие-то заумные библиотечные тексты, – он тоже сражался в одиночку со своими кошмарами, и с ним тоже происходили такие вещи, о которых он не посмел бы рассказать никому, даже Монти. Хуже всего было неистребимое чувство вины. (Была одна нехорошая история в Орегоне, и потом еще одна, совсем уже скверная, в Стэнфорде – о которой, слава богу, почти никто не знал.) Он молился, это немного помогало. Демоны оставались в заточении. Он даже мог думать о Софи и о Харриет более или менее спокойно, не впадая в глубокое отчаяние.
Глядя сейчас в голубое небо сквозь светящиеся и полупрозрачные, словно сделанные из папиросной бумаги цветки белых роз, он думал о том, что в его жизнь, кажется, пришло чудо. Вдруг явились два – целых два человека, которым он по-настоящему нужен. Он мог любить и лелеять их. После того как умерла его мать, а вслед за ней старенькая няня, у него больше никого не было. Конечно, он всегда кого-то искал и даже находил, но его лишь терпели и смеялись над ним, а в конечном итоге всегда прогоняли; он оказывался никому не нужен. За много лет в своем одиночестве он научился без всяких аналитиков разбираться в странностях собственной души и знал, что он отнюдь не случайно прожил жизнь одиноким холостяком и не случайно его любовь к женщинам всегда оставалась безответной, а любовь к мужчинам бессловесной. Теперь у него появилось сразу два человека – это было чудо. В юности Монти даже не догадывался о том, как любил его Эдгар, – не догадывался и сейчас. Как неожиданно все обернулось! Эдгар едва сдерживался, чтобы не запеть.
Признание Монти стало одним из самых трогательных и волнующих моментов в жизни Эдгара Демарнэя. Конечно, оно повергло его в трепет – но то был трепет благоговейного сострадания. Важнее всего был сам Монти, и от этого сказанное им бледнело и казалось чуть ли не второстепенным. Эдгар принимал Монти, как принимают дар Божий, талисман или даже святое причастие – с верой и бесконечной смиренной благодарностью. После того разговора он боялся, что Монти отшатнется от него. Но Монти не отшатнулся. «Я слеп и хром» – эти слова пели в душе Эдгара; хвала небу, что они были произнесены. Монти бы все понял и посмеялся бы над ним – если бы знал; но Эдгар не собирался делиться с другом своими переживаниями. Он так старательно скрывал свой интерес, что со стороны его поведение выглядело, наверное, чопорно-равнодушным; хотя Монти все равно читал в его душе как в раскрытой книге.
После своего признания Монти держался с ним так спокойно и просто, что сердце Эдгара замирало от радостного изумления и уже вырисовывалась пунктирная мысль, что, может быть, ему, Эдгару, выпало совершить для Монти некое великое «благо». О демонах Монти Эдгар ничего не знал – ни сейчас, ни в юности, – но теперь у него было такое чувство, будто Монти только что, притом с большим трудом, вырвался из их железной хватки. Внешне это выражалось, в частности, в той неожиданной покорности, с которой Монти согласился ехать в Мокингем. Разумеется, Эдгар готов был увезти его с собой в Мокингем навсегда, о чем Монти (хотя не было сказано ни слова), разумеется, догадывался – но все же согласился ехать. Они неторопливо беседовали о самых разных вещах, например о том, чем Монти мог бы заняться в будущем. «А если хочешь, ты можешь остаться в Мокингеме и писать», – небрежно обронил Эдгар и тут же перевел разговор на другое.
Да, Монти был важнее всего. Возможно, казалось теперь, он всегда был центром всей жизни Эдгара – несмотря на то, что Эдгар давно уже перестал мечтать о настоящей дружбе между ними. Ведь даже Софи он так неистово любил (неистово продолжал любить все годы ее замужества) из-за Монти. Монти оказывался таким необходимым, таким центральным звеном в жизни Эдгара, что, если бы его не было, Эдгару, наверное, пришлось бы его выдумать. Что касается Дэвида, то его Эдгар воспринимал как подарок небес, нежданный и чудесный. При мысли о том, что Дэвид будет учиться в Оксфорде, пусть даже не у него в колледже (хотя почему бы и нет?), сердце Эдгара всякий раз радостно трепетало. А когда он представлял, как в Мокингеме Дэвид читает под его руководством греческие тексты, его переполняли ощущения, которых следовало бы стыдиться – не будь он так абсолютно уверен, что при всех обстоятельствах сумеет держать себя в железных тисках. Зная, что и его друг неравнодушен к Дэвиду, Эдгар в разговорах с Монти избегал упоминаний о втором мокингемском госте – не из ревности (которую его любовь к Монти совершенно исключала, Эдгар в очередной раз в этом убедился), а потому, что сам счел бы такое упоминание не вполне пристойным; впрочем, он знал, что темные иезуитские глаза Монти и так видят его насквозь. Тут Эдгару вспомнился вопрос Дэвида о сексуальных фантазиях, и он рассмеялся вслух. Его фантазии вовсе не ограничивались тем, как они с Дэвидом, едва касаясь друг друга локтями, склоняются вместе над текстом «Агамемнона». Не только Дэвид, но и Монти, пожалуй, оторопел бы, доведись ему подглядеть краем глаза фантазии Эдгара.
Пора было ехать, но из-за облепивших стекло белых лепестков было почти не видно дороги. Эдгару не хотелось сминать их безжалостными дворниками, поэтому он выбрался из машины и стал бережно снимать их пальцами. Потом, вместо того чтобы бросить цветочный мусор под ноги, он зачем-то сунул всю горсть в карман и вернулся за руль. До Локеттса он доехал за пару минут, открыл дверь полученным от Монти ключом.
В длинном холле, по которому все предыдущие дни разгуливали летние сквознячки, стояла странная, неприятная духота.
– Монти! – позвал Эдгар, входя в мавританскую гостиную.
Здесь тоже воздух был какой-то затхлый и пропитанный пылью, будто весь дом загадочным образом откатился то ли в прошлое, то ли в будущее. Эдгар вернулся в холл, заглянул в кабинет, шагнул к лестнице, собираясь покричать наверх, а уже потом выйти в сад, – и тут на столике у самой входной двери увидел большой конверт, на котором рукой Монти было написано его имя. При виде этого конверта бедное Эдгарово сердце, познавшее уже немало утрат, вдруг жалобно екнуло. Эдгар взял конверт, вбежал с ним в гостиную и вскрыл. Внутри содержался следующий текст:
Дорогой мой Эдгар!
Надеюсь, тебя не слишком удивит то, что, когда ты получишь это письмо, меня уже здесь не будет. (Разумеется, не в том смысле, что я собрался умирать; обойдемся без глупостей.) Ты правда подумал, что я поеду с тобой в Мокингем? (Возможно, в какой-то момент я и сам так думал. Но разве может человек знать, что он думает, пока не выяснит, что он делает?) Полагаю, все это выглядит как чудовищная неблагодарность с моей стороны. Но на самом деле я искренне признателен тебе за все, что ты для меня сделал. (Ты знаешь, о чем я.) Ты всегда приносил мне удачу, и, видимо, так и должно было быть: ты, никто другой. Я также благодарен тебе (хотя это сложнее объяснить) за твою привязанность. На какое-то время человеческие проявления, от которых я давно отвык, помогли мне чуть ли не почувствовать себя человеком. Возникла иллюзия, что я общаюсь с ближним без барьеров и стальных дверей, даже без черного капюшона на голове. (Увы, всего лишь иллюзия, плод мимолетного самообмана.) Вероятно, я не объяснил тебе достаточно доходчиво, насколько невозможно для меня общение с кем бы то ни было. Это, впрочем, неинтересно; даже если у тебя есть интерес, все равно это неинтересно. Внутри эгоизма неудачника есть темные пятна, не отражающие ни света, ни звука; мое одиночество – одно из таких пятен. Когда-то я думал, что Софи поможет мне от него излечиться. Но Софи и сама была одинока, хотя, как многие женщины, не сознавала этого. Говоря фигурально, мы с ней только перекрикивались; я крикну – она крикнет. С тобой бы этот номер не прошел, я это понял, как только мы познакомились в Оксфорде, и решил отпугнуть тебя раз и навсегда, чтобы ты не пытался нарушать дистанцию. Мой план сработал идеально, и все бы было хорошо, не явись ты ко мне в момент поистине убийственной слабости. Твое суетливое желание близости и единения душ, твоя манера подобраться поближе, заглянуть в глаза и (прости великодушно) нашептывать что-то на ухо всегда были мне отвратительны – а отвращение порождало жестокость, от которой ты так страдал, скорбел и получал удовольствие. Твоя нелепая доброта и навязчивое стремление меня «понять» всегда казались мне наглым посягательством на мою территорию; я брезглив в этом смысле. От твоих нравоучений меня коробит, от той нудятины, которую ты называешь религией, тошнит. Я, правда, пытался себя убедить, отчасти из упомянутой выше благодарности, отчасти от тоски и отчаяния, что – как-нибудь! может быть! – мы все же исхитримся и станем друзьями. Нет, друг мой, давай смотреть на вещи трезво. Ничего из этой твоей затеи не выйдет. И пожалуйста, не уверяй меня, что ты и впрямь в нее верил или что ты страшно меня любишь, боишься потерять. Не стану объяснять (хотя это святая истина), что без меня тебе будет лучше. Ты, верно, считаешь, что и так уже принял от меня боли и страданий сверх всякой меры? Не обольщайся, то были всего лишь мелкие неудобства. Доведись нам сблизиться по-настоящему, твоя боль превратилась бы в пытку. Простая оплеуха – и тупой нож, которым кто-то ковыряется у тебя в кишках: есть разница? Но хватит об этом. Замечу, что тебе не придется по мне скучать. Тот новый мир, в который ты сейчас вступаешь, полон людей, и ты увидишь (если преодолеешь наконец свою юношескую влюбленность), что многие из них куда интереснее меня. Я знаю, что ты собираешься помогать Дэвиду; это доставит тебе удовольствие. (И мне бы доставило. Но ты, скорее всего, не сильно ему навредишь, а насчет себя я не уверен.) Оксфорд (говорю это без цинизма) полон Дэвидов. Поэтому утверждать, что я очень за тебя беспокоюсь, было бы лицемерием с моей стороны. В каком-то смысле ты сейчас расплачиваешься за то, что оказался слишком для меня полезен, – как русские гвардейцы, которым довелось провести ночь с Екатериной Великой, а на другой день их тела вылавливали из Невы. (Если тебе удастся умерить свою скорбь от нашей с тобой разлуки, этот образ, надеюсь, тебя позабавит.) Да, милый Эдгар, боюсь, что это твоя Нева. Я не желаю больше тебя видеть, так что будь добр, не подступайся ко мне. Твои попытки не вызовут во мне ничего, кроме отвращения, о котором смотри выше. Добавлю также (воистину неизмерима людская неблагодарность): мне в равной степени неприятно как то, что ты стал свидетелем моей слабости, так и то, что ты в сущности помог мне с ней справиться. Так что держись от меня подальше. Приставучих собачонок я отшвыриваю пинком – ты это видел. Пусть у нашей с тобой случайной встречи будет хотя бы мало-мальски сносный конец. Ты мечтал сослужить мне службу – ты ее сослужил. И будет с тебя.
Я собираюсь несколько месяцев погостить у своего приятеля в Италии, после чего продам Локеттс и буду жить далеко отсюда (и от Оксфорда) наедине с тем человеком, в которого я к тому времени превращусь. Не думаю, что мои познания в области искусства или духа меня исцелят или приведут к совершенству (к слову, я всегда имел склонность переоценивать свои успехи). Не думаю также, что мне откроются новые неиссякаемые источники писательского вдохновения. Разве что я произведу на свет еще одного Мило. Как ты понимаешь, для меня это будет равносильно признанию окончательного поражения. Ну что ж, всем нам когда-то придется приветствовать собственное поражение, встречая его у дверей, как дорогого гостя. Сей факт не ввергает меня в отчаяние (которое осталось в прошлом). Принимаю его безропотно, но (дабы не огорчать тебя) без самоуничижения. Всем, включая и меня самого, в сущности, глубоко плевать на то, что я буду писать и буду ли писать вообще. Почти все мысли человека о самом себе суть пустое тщеславие. И это письмо тоже тщеславие, попытка придать видимость значимости тому, что ровным счетом ничего не значит. (Чего стоит один пассаж, посвященный пыткам моей предполагаемой дружбы: сущее тщеславие!) Точно так же не важно, нарочно или не нарочно я вводил (и вводил ли) тебя в заблуждение до самого последнего момента. Думай, как тебе заблагорассудится; это также не имеет значения. Пишу тебе обо всем этом с удовольствием. Возможно, это говорит о моей привязанности к тебе. (Впрочем, не уверен: с не меньшим удовольствием я представляю твое уныние.) Благодарю тебя и крайне сдержанно желаю всего хорошего. Знаю, что любая мелочь для тебя имеет значение. Меня это всегда раздражало, казалось проявлением нравственного обжорства. Сейчас я отправляюсь туда, где с этим гораздо проще и ничто не важно; можно сказать, к черту, но это тоже не важно, поскольку я и есть черт. (Как видишь, опять тщеславие.) Кажется, все. Если нетрудно, когда будешь уходить, захлопни дверь. Ключ оставь на столе. Остальные двери и окна я запер. Кстати, мне все-таки встретилось несколько твоих писем к Софи. Можешь их взять – на письменном столе в моем кабинете. Они трогательны до нелепости и очень меня развлекли.
Прощай.
М.Эдгар тяжело опустился на пурпурный диван и разжал пальцы. Исписанные листки выпали из его рук. Последний привет от «рокового юноши». За окном колыхались ветки глицинии, в доме стояла удушливая тишина. Эдгар молча впитывал в себя эти знаки жестокого одиночества. Монти передумал. Так. А чего еще было ждать? Что они с Монти будут мирно стариться в Мокингеме? Неужто сердце ни разу не дрогнуло от зыбкости такого миража? Одно дело веровать в собственную любовь, но полагаться на Монти, хоть на секунду, в чем бы то ни было – не глупость ли? Монти не изменил себе, он защищался до конца; он не оставил Эдгару ничего, ни крупицы надежды. Да, каждая мелочь имеет значение, думал Эдгар, огромное значение, и он потом будет безжалостно мучить себя, снова и снова перебирая все эти мелочи в памяти. Он подошел к столу и налил себе виски.
Будущее съежилось, стало смехотворно маленьким. Эдгар вглядывался в него, искал проблеск утешения – и не находил. Монти завладел всем, что было дорого Эдгару, и все забрал с собой. Сердцу незачем больше трепетать и волноваться. Конечно, он будет помогать Дэвиду – потому что видит в этом свой долг, но удовольствия это ему уже не доставит. Тот ореол, которым Дэвид был раньше окружен, оказался всего-навсего светом, отраженным от Монти. Весь свет мира оказался отраженным от Монти. Когда в тот вечер в сердце Эдгара вспыхнула безумная надежда, весь остальной мир померк. Померкла даже Харриет. Эдгар ясно вспомнил лицо Харриет в тот момент, когда она сказала ему, что согласна ехать в Мокингем, – и как оно изменилось, когда он ей отказал; это скорбное изменение он почему-то видел сейчас будто впервые. В тот момент ему мыслилось, что он просто обязан сказать ей «нет», это естественно и неизбежно. А скажи он «да», увези он Харриет в Мокингем, она была бы сейчас жива. Я променял жизнь на призрак, подумал он, но что я мог поделать, Монти держал меня мертвой хваткой. О призрак, безжалостный и ненасытный!
Эдгар подобрал с пола рассыпанные листки и начал было снова читать, но вдруг сорвался с места и побежал в кабинет Монти. Здесь ощущалось какое-то движение, в первый момент Эдгару даже показалось, что в комнате кто-то есть. Огонь, понял он: в камине догорал огонь. На столе лежала тоненькая пачка перевязанных бечевкой писем – жалкие крохи от того множества, что он успел написать ей за столько лет. Эдгар развязал бечевку. Конверты уже пожелтели. Миссис Монтегю Смолл. Мадемуазель Софи Арто. Девичья фамилия Софи звучала теперь странно и неприкаянно – как колокольчик, колеблемый сквозняком, посреди давно опустевшего дома. Неожиданно вспомнились очень ясно совсем иные, далекие дни, когда он, неизменно один из многих, таскался за Софи по всей Европе, – минорные, наполненные болью, но все же золотые дни юности. Раз она заставила его нырять в озеро за своей туфелькой. В другой раз, у другого озера (что это было за озеро – Комо? Маджоре?) он расстегнул ее платье (самый дерзкий из его поступков) и положил руку ей на грудь. Тогда он почувствовал, как бьется ее сердце, и оказался вдруг с ней, минуя все барьеры, и увидел ее лицо – беззащитное, не прикрытое ни маской насмешки, ни даже маской ее восхитительной неподражаемости. Он с ума сходил от любви – а она была озорная и легкомысленная, как дитя, капризная и коварная, как злонравный дух – Ариэль? Пак? Ничего не осталось, прах. Вспомнился злой хриплый голос, записанный на пленку. И все же – он чувствовал это сейчас, держа в руке ее письма, – какая-то часть ее души, сохранившая бессмертный шарм юности, продолжала жить и трепетать внутри его. Из-за Монти он так и не научился думать о Софи спокойно, и она никогда – ни при жизни, ни после – не обрела покой в его сердце. Эдгар уже собрался перечитать одно из собственных писем к мадемуазель Арто, но в этот момент на его руку с конвертом упала чья-то тень. Он вздрогнул и обернулся. За окном кабинета стояла девушка.
На миг ему показалось, что перед ним призрак. Хотя нет, не призрак, понял он – и тут же ощутил груз собственных лет. Просто незнакомая девушка; школьница, скорее всего. Высокая, смуглая, длинноволосая, с темными, очень большими глазами. На ней был голубой свитерок, легкий и просторный, доходивший почти до подола короткой юбки. Растрепанные волосы (она явно спешила) разметались поверх свитерка причудливыми петлями, как чешуя или кольчуга. Девушка забарабанила по стеклу, всматриваясь в комнату тревожным взглядом беглянки. Видно было, что она сильно запыхалась.
Эдгар сунул письма в карман и шагнул к окну. Не успел он поднять раму, как девушка, не дожидаясь приглашения, перекинула через подоконник смуглую длинную голую ногу, ухватилась, в качестве опоры, за плечо Эдгара и в следующую секунду оказалась в комнате вся целиком. В воздухе кабинета тотчас разлилось какое-то особенное животное тепло, будто в окно прямо из леса запрыгнул разгоряченный быстрым бегом зверь – стремительный, гибкий и прекрасный. Эдгару показалось, что рука девушки обожгла ему плечо; он попятился.
– Послушайте, знаете ли… – забормотал он.
– Прошу прощения. А где Монти?
– Уехал, – пустым голосом сказал Эдгар.
– Но вернется – когда?
– Не знаю. Он уехал в Италию. Надолго.
– Ой.
Кики Сен-Луа опустилась на стул и некоторое время сосредоточенно смотрела на свою вздымающуюся грудь, словно советуясь с ней, плакать или не плакать. Сегодня вдруг обнаружилось, что она просто не может не приехать в Локеттс, потому что, во-первых, Монти очень хочет, чтобы она приехала, а во-вторых, будет ужасно сердит на нее, когда она приедет. Когда сочетание первого и второго сделалось совершенно непреодолимым, она почувствовала себя окрыленной и окончательно поняла, что должна следовать зову, исходящему из глубины души, и подчиняться космической воле звезд. Она мчалась на машине, потом мчалась пешком, задыхаясь от бега и от желания любить. И вот, примчавшись, оказалась в пустоте, более окончательной, чем любое произнесенное «нет». Он уехал, чтобы стать чужим для нее навсегда. Кики немного поборолась со слезами и вышла победительницей. Когда она снова взглянула на Эдгара, ее широко распахнутые блестящие глаза распахнулись еще шире.
– Я Кики Сен-Луа, мы с Монти друзья.
– Я Эдгар Демарнэй, мы с Монти тоже друзья.
– Тогда и мы с вами тоже друзья.
– Увы, дружба не передается по цепочке.
– А-а! Вы тот самый профессор, да?
– Уже не профессор.
– Но… я знаю, у вас целый большой колледж в Оксфорде. Разве не надо для этого быть профессором?
– Нет.
– Как так?
– Так.
– Я тоже хочу учиться в Оксфорде. Когда я могу приехать и долго-долго с вами поговорить?
– Я вас не совсем понимаю… – Эдгар уже держался рукой за дверь, но не сводил взгляда с голубого свитерка, где сияли теперь золотистые латы из волос, успевших закрутиться спиралью вокруг каждой груди. – Но мне, к сожалению, уже надо идти…
– Значит, я приеду к вам в Оксфорд. В четверг, да? Я приеду в колледж на своей машине и скажу, что я гостья… Как вы называетесь – директор?
– Ректор, – промямлил Эдгар.
– Ректор. Это очень красиво!
Послышался стук в дверь, тут же настойчиво задребезжал входной звонок. Кики ловко одной рукой скрутила свои расшалившиеся волосы в жгут и перебросила через плечо. Сделав всего два шага – один к окну, другой через подоконник, – она обернулась и помахала Эдгару уже снаружи.
– Оксфорд, четверг… – прочел он по ее губам, и ему показалось, что в ее темных огромных глазах сверкнули слезы.
Стряхнув оцепенение, Эдгар пошел открывать. Пинн, протянувшая уже руку, чтобы снова нажать на звонок, немедленно просочилась внутрь.
– Где Монти?
– Уехал, – сказал Эдгар. – В Италию.
– А…
Она озабоченно огляделась, то ли проверяя, не изменилось ли что в доме, то ли надеясь все-таки обнаружить Монти где-нибудь под стулом, в углу. Обозрев холл, она прошла в гостиную. Эдгар поплелся за ней.
– Значит, сбежал. Ну что ж, ничего удивительного. Не мог же он просто остаться и быть как все. Для таких, как Монти, главное всех поразить – сделать красивый жест. Хотя что я говорю. Таких, как Монти, больше нет. Ну, Эдгар, а вы как же теперь? Страдаете?
Эдгар, не отвечая, с вежливым изумлением разглядывал сияющие круглые щеки Пинн, ее тщательно уложенные волосы, солдатскую сумку с медными пряжками, шелковый летящий шарфик, скрепленный на шее итальянской камеей.
– Не возражаете, если я налью себе виски? Тут на столе как раз бутылка со стаканами. Спасибо. Вот, значит, как. Ну, что поделаешь, Эдгар, – крепитесь. В конце концов, монстры и не должны жить среди людей, им надо возвращаться обратно в свою хладную пучину. Можно я еще побуду здесь и мы с вами немного поболтаем? Не могу сказать, что его побег для меня страшное потрясение. Скорее, конец эпохи. Да… Тайный сговор, предательство, насилие, внезапная смерть – целая эпоха прошла. Вы, кстати, в курсе, что вы поставили в тот вечер Блейзу огромный фонарь под глазом? Легонько только двинули локоточком – и готово.
– В какой тот вечер?
– А, ну ладно. А что вы думаете про наших новых худ-хаусовских голубочков? Да садитесь же, не бойтесь.
– Я должен сейчас ехать в Оксфорд.
– Все равно, нам с вами нужно поговорить. Мне только что пришло в голову, что во всей этой истории мы двое – единственные здравомыслящие люди, так что лучше нам держаться вместе. Вот что, я приеду к вам в Оксфорд! Вы, кстати, можете показать мне город, я никогда там не была. Давайте сразу договоримся, чтобы не откладывать: когда я могу приехать? В пятницу?
Тут из холла донесся звук, который невозможно было ни с чем спутать: кто-то вставлял ключ в замочную скважину. Пинн и Эдгар замерли, потом одновременно бросились к двери и, толкая друг друга, выбежали из комнаты. В дом уже входила красивая статная женщина. Поставив чемодан на пол, женщина величественно обернулась к Эдгару. Она была без шляпы, темные волосы царственной металлической гривой спадали ей на плечи. Длинное свободное холщовое платье василькового цвета было перехвачено в талии пояском из серебряных колечек. На вид ей можно было дать около тридцати. В цепком взгляде ее темных сияющих глаз Эдгару вдруг почудилось что-то знакомое.
– Эдгар, кажется?
– Да.
– Вы разве меня не узнали?
– Узнал, миссис Смолл.
– Помните, как я приезжала к вам в Мокингем?
– Да, миссис Смолл.
– Где Монти?
– Уехал в Италию, – ответил Эдгар. – А это мисс… гм…
Он тщетно пытался выудить из памяти имя собеседницы.
– Пинн, – сказала Пинн. – Ну, не буду вас задерживать. Итак, Оксфорд, в пятницу. Пока, Эдгар! Не забудьте наш уговор.
– Кто это была такая? – спросила миссис Смолл, когда Пинн ушла.
Эдгар не смог ответить. А собственно, кто это была такая? Он неопределенно взмахнул рукой, одновременно как бы приглашая миссис Смолл войти.
– Мне очень жаль, что Монти…
– Ничего страшного. Другого я и не ждала. Возможно, так даже лучше. Я хотя бы смогу привести все в порядок. Надеюсь, он ничего не успел тут распродать?
– Не знаю, я ничего такого…
– Ну, милый Эдгар, пойдемте-ка в гостиную, сядем с вами – и вы мне расскажете обо всем, что тут происходило. Я ведь знаю, вы всегда были верным другом Монти. Но имейте в виду, я хочу услышать абсолютно все.
– К сожалению, мне надо срочно ехать…
– Жаль. Вы могли бы помочь мне передвинуть кое-что из мебели. А где вы проводите ближайшие выходные?
– В Мокингеме.
– Прекрасно. Я к вам приеду. У вас можно будет переночевать? Спасибо. Тогда ждите меня в субботу, где-то около обеда. Теперь поезжайте, не хочу вас задерживать. Ну а я пока пройду по дому и проверю, все ли вещи на местах.
Видение растаяло, изящные решительные каблучки простучали вверх по лестнице. Эдгар быстрым шагом вернулся в кабинет Монти. Как только он затворил за собой дверь, коварная боль утраты, будто дождавшись удобного момента, обрушилась на него с новой силой. Софи умерла, Харриет умерла, Монти исчез навсегда, Дэвид… но Дэвид просто мальчик, он уйдет, как уходят все мальчики. Оксфорд полон Дэвидов, милых страдающих мальчиков, и каждый из них может подарить краткие мгновения бесплодной радости – и долгие годы запоздалых сожалений. Входи, поражение, входи, дорогой гость, будь как дома.
Сунув руку в карман, Эдгар достал тонкую, слегка помятую пачку своих писем к Софи – и замер. Извлеченные на свет вместе с письмами, из кармана посыпались влажные белые лепестки. То были лепестки роз, еще недавно светившихся среди ветвей на фоне ярко-голубого неба. Теперь они кружились и приклеивались к полам пиджака, к ковру, к теплой пыльной каминной плите – мелкие как конфетти, как крошечные записки на клочках папиросной бумаги. Эдгар всегда любил белые цветы. Он развернул одно из писем и прочитал на пожелтевшей бумаге слова, написанные когда-то им самим: «Милая, милая моя девочка!..» Какой далекой казалась теперь эта любовь – и все же она была частью единого целого, частью его собственной загадочной души. Я всегда желал женщин Монти, думал он, – возможно, через них я желал Монти. Хотя нет, дело, конечно, не только в этом. Там была отдельная, особенная любовь, она тоже часть меня и тоже священна. Я не буду их читать, решил он вдруг, не буду читать письма, которые «развлекли» Монти. Их нужно перечитывать невинными глазами – а во мне уже нет той невинности. Пусть лучше время и память делают свое неспешное дело. Эти письма должны остаться здесь. У ног Эдгара еще краснели неостывшие угли – останки огня, разожженного Монти в другую эпоху, много веков назад. Эдгар бросил письма в самую середину, подгреб побольше углей и подождал, пока бумага займется. Прощай, прошлое вместе с тайнами, которые никогда не будут раскрыты. Здравствуй, поражение. Входи, будь как дома.
Нет, подумал Эдгар, нет. Пусть даже это моя Нева, но какого черта я должен в ней тонуть! Верил же я когда-то в милость небес – вот теперь самое время хвататься за ту веру обеими руками. Да, любая мелочь имеет значение, и если Монти считает, что это проявление обжорства, а не любви, – что ж, Монти может ошибаться. В конце концов, он обычный человек со своими проблемами – как и я. Монти передумает, сказал себе Эдгар. Он вовсе не такой монстр, каким иногда виделся мне, он простой смертный. И в голове и в душе у него такая же путаница, как у всех. Он передумает. Мы с ним еще увидимся.
Письма догорели. Эдгар отошел от огня и тихо приоткрыл дверь. Сверху доносился шум, там один за другим выдвигались ящики и переставлялись с места на место какие-то предметы. На цыпочках пробравшись через холл, он вышел на крыльцо. В глаза ударил яркий солнечный свет, и в этот момент Эдгар подумал: «Итак, вот уже три, целых три женщины нуждаются в моем внимании и в моей помощи, три властные красавицы настаивают на встрече со мной. Значит, обворожительные женщины будут снова прогуливаться по мокингемским террасам, между юношами, сидящими с книжками в руках, – и все они будут ловить взгляд своего гостеприимного хозяина и игриво ему улыбаться. Сердце будет жить и трепетать, пусть не тем божественным нестерпимым трепетом, но будет. Мир снова наполнится маленьким простым бесхитростным счастьем. Три красивые женщины, – думал он, – и им всем нужен я». Слегка утешившись и воспрянув духом, он сел в свой «бентли» и в полном одиночестве покатил в Оксфорд.
Примечания
1
«Страдаю» (лат.). Сборник произведений Гая Валерия Катулла назван по последнему слову стихотворения «Odi et amo»:
Любовь и ненависть кипят в душе моей. Быть может: «Почему?» – ты спросишь. Я не знаю, Но силу этих двух страстей В себе я чувствую и сердцем всем страдаю. (Перевод Ф. Е. Корша) (обратно)2
В данном случае (лат.).
(обратно)3
Потеря аппетита на нервной почве (лат.).
(обратно)4
Дугласова пихта – разновидность пихты, названная по имени шотландского ботаника Дэвида Дугласа (1798–1834).
(обратно)5
Второе «я» (лат.).
(обратно)6
Де Морган Уильям Френд (1839–1917) – английский художник-керамист.
(обратно)7
Вот как (фр.).
(обратно)8
«Оставим красивых женщин мужчинам без воображения» (фр.).
(обратно)9
Фарфор из г. Коулпорта (XVIII век) относится к лучшим образцам английской коллекционной керамики.
(обратно)10
Роскошные цыпочки (фр.).
(обратно)11
Заурядный сластолюбец (фр.).
(обратно)12
Морис Мерло-Понти (1903–1961) – французский философ.
(обратно)13
«Агамемнон» – первая из трагедий Эсхила, составляющих трилогию «Орестея».
(обратно)14
Жизнерадостность (фр.).
(обратно)15
Пс. 113: 4.
(обратно)16
Гомер. Илиада. Песнь XXIII. Перевод Н. И. Гнедича.
(обратно)17
Национальный трест – организация в Великобритании по охране исторических памятников, достопримечательностей и живописных мест.
(обратно)18
«Кратил» – диалог древнегреческого философа Платона.
(обратно)19
Исамбард Кингдем Брунел (1806–1859) – выдающийся британский инженер-механик и конструктор.
(обратно)20
В платоновском диалоге «Пир» жрица Диотима раскрывает Сократу сущность любви.
(обратно)21
Из ничего (лат.).
(обратно)22
Порция – героиня пьесы У. Шекспира «Венецианский купец».
(обратно)23
Боже мой. Боже мой (фр.).
(обратно)24
Скорее даже жжет (фр.).
(обратно)25
Вечно одно и то же (фр.).
(обратно)26
Естественно (фр.).
(обратно)27
Прямо как на допросе у следователя (фр.).
(обратно)28
Неточная цитата из древнегреческого философа Гераклита Эфесского.
(обратно)29
Пещера и Линия – элементы аллегории Платона.
(обратно)30
«Оксфам» – оксфордский комитет помощи голодающим и пострадавшим от стихийных бедствий, благотворительная организация с центром в Оксфорде.
(обратно)31
Мидии? (фр.)
(обратно)32
Блюдо из тонко нарезанной печени птицы в сдобном тесте (фр.).
(обратно)33
Фаршированная щука (фр.).
(обратно)34
Цыпленок «под колпаком» (фр.).
(обратно)35
«Граахер Химмельрайх Шпэтлезе» – рислинг позднего сбора с высоким содержанием естественного сахара.
(обратно)36
Беарнский соус? (фр.)
(обратно)37
Блинчики «сюзетт» (фр.) – сладкие блинчики с апельсиновой цедрой, политые ликером.
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg




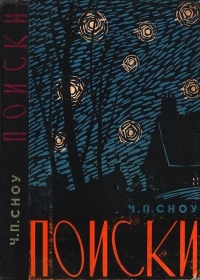
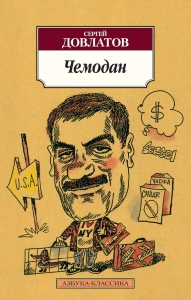


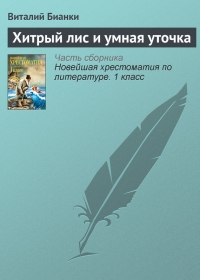
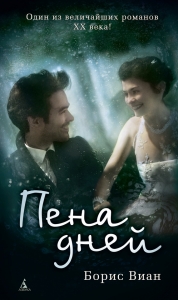

Комментарии к книге «Механика небесной и земной любви», Айрис Мердок
Всего 0 комментариев