Ангел Иванович Богданович Критические заметки
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()
Манифест 17-го октября. – Дикое недоразумение бюрократии. – Визират гр. С. Ю. Витте. – Конец мечтам, как первый акт «объединенного правительства». – Частичная амнистия. – Привет выходцам из могил. – Памяти мертвых: эпизод из романа «Андрей Кожухов». – Опять забастовка.
Я пишу без цензуры. Облик цензора не витает предо мною в эту минуту. А между тем, между тем… я не испытываю ни малейшего радостного чувства. В первую минуту я хотел было воспеть радость освобожденного раба. Но это был только минутный порыв. Он быстро прошел, и его сменило смешанное чувство – тревоги, недоверия и гнева.
Что же произошло?
Было три часа дня. Солнце светило так ярко, все ликовало и пело, красные флаги, как цветы, венчали радостно и торжественно настроенную многотысячную толпу. Кого-кого тут только не было! Были юноши, старцы и дети, женщины, рабочие, студенты, военные, чиновники, солдаты – словом, всё живое высыпало на улицу, а кто не мог – из окон приветствовали шествие, первый праздник свободы на улицах Петербурга.
И вдруг… Как гром с ясного неба, без сигнала, без предупреждения, без промежутка – три залпа со стороны казарм Семеновского полка… Я был там, вместе с толпой окаменев на месте, видел паническое бегство, видел конную гвардию, ринувшуюся неизвестно откуда на бежавших людей… А в редакции, куда я пришел потрясенный совершившимся преступлением – расстрелом людей, повинных только в доверчивости, – я узнал, что товарищ наш по долголетней совместной работе в журнале – Ев. Вик. Тарле – лежит в ближайшей лечебнице при смерти, с разрубленной головой…
Так было в первый день русской «свободы». А потом – этот сплошной поток крови, в течение недели заливавшей улицы всех городов России, известия о смерти Гольдштейна, тоже старого товарища по журналу, и других товарищей по тюрьме и ссылке, арест товарища-сотрудника Серошевского, черносотенно-казацкие погромы евреев, интеллигенции, учащихся, учеников-подростков, – наконец объявление всего царства Польского на военном положении, – всякая радость исчезла.
Что это? Сознательный обман или дикое недоразумение?
Надо разобраться, вдуматься в этот кошмар «безумия и ужаса», найти руководящую нить. Иначе отвращение к жизни овладевает умом и чувствами.
До 17 октября все было ясно. Народ и власть стояли друг против друга, оба готовые бороться на жизнь и смерть. Власть без нравственного авторитета, без доверия, без веры в ее силу, олицетворенную исключительно в штыке и нагайке. Народ – сознательно противопоставивший лесу штыков отказ от всякой работы, сознательно прекративший всякую связь с властью, создавший вокруг нее пустоту, уединивший власть как зачумленную. В результате – Манифест 17 октября… Власть сдалась, признала себя побежденной и обещала народу права человека и гражданина. Но при первой же попытке «свободных и полноправных граждан» осуществить эти права на деле – расстрел, черносотенно-казацкие погромы, военное положение.
Что это – обман? Разберем первое положение.
Мы не думаем, что это был сознательный обман со стороны власти: это – бюрократический недосмотр одной простой вещи. Бюрократия в лице графа С. Ю. Витте искренне думала, что обещание свобод вполне удовлетворяет потребности момента. Лишенная государственного понимания всей опасности переживаемого страною кризиса, бюрократия искренне думала отписаться канцелярским отношением: «В ответ на заявленные страною требования имею честь уведомить, что таковые будут удовлетворены, для чего образовано объединенное правительство, на обязанность коего возлагается разработка мероприятий в указанном направлении. А посему все благомыслящие элементы страны да успокоятся». И бюрократия не могла не вознегодовать, когда в ответ на такое, с ее точки зрения, многообещающее заявление она услышала громовой клик: «Да здравствует свобода!» В этом ликовании бюрократия усмотрела «бесчинство и беспорядок» и ответила залпами, штыками, нагайками и призывом к содействию подонков из народа.
Тут не было сознательного обмана, а одно дикое, громадное недоразумение. Народ в Манифесте 17 октября увидел признание свободы как необходимой потребности переживаемого момента, а бюрократия понимала его как обещание, осуществление которого обусловлено успокоением страны. Если народ успокоится, тогда в тишине и на досуге бюрократия займется разработкой обещанных свобод. А до тех пор все должно пребывать по-старому – и усиленная охрана, и военное положение, и цензура, и политические тюрьмы. Для успокоения же нетерпеливых «беспокойных» – залпы, штыки, нагайки и погромы.
Словом, в большем только масштабе, соответственно потребностям минуты, разыгралось то же, что было после эры доверия и указа 12 декабря. Этот указ провозгласил законность, а вслед за ним настало царство треповщины. На протяжении десяти месяцев в стране царили неудержно произвол и насилие, тень законности исчезла, страна покрылась виселицами, тюрьмы переполнились политическими, места ссылки увидели в числе государственных преступников таких «злодеев», как бывший одесский городской голова Ярошенко или окулист Лурье, генералы Карангозовы вершили одним манием руки судьбы сотен тысяч людей. Комиссия Кобеко трудолюбиво разрабатывала устав для печати на началах законности, а цензоры прекращали само существование печати. Еще не далее, как в моих заметках для октябрьской книги цензура изъяла все, что говорилось о современности в сопоставлении ее с записками Флетчера. Понадобились бы томы, чтобы записать подвиги одной цензуры за эти десять месяцев «законности», возвещенной указом 12-го декабря.
Народ, изверившийся, наученный горьким опытом за эти только десять месяцев царства треповщины, уставший ждать и переставший надеяться, принял Манифест 17 октября как действие, как акт свободы, как осуществление его прав. Со стороны народа тут не было ошибки в понимании: когда голодному подносят хлеб, он берет его и ест. Ошиблась бюрократия. В лице графа Витте она понесла страшное поражение, еще раз доказывающее, что не бюрократии суждено успокоить и устроить Россию. «Прямота и искренность», о которых говорит граф Витте в объяснительной записке к Манифесту, доказаны ею в течение двух ближайших недель после Манифеста – с такой убедительностью, что если еще была искра доверия в робких сердцах, то теперь она залита бесповоротно потоками крови. И как не воскресить никакому чудодею бесчисленных жертв, павших в роковые дни этих двух кровавых недель, так не зажжется никакое доверие к бюрократическому правительству, под чьей бы эгидой оно ни объединялось.
И что для нас это объединенное правительство? Это – визират. Когда вся страна превращена в военный лагерь, где корнеты Фроловы безнаказанно палачествуют над мирными профессорами, когда амнистированных политических безнаказанно истребляют Хрипуновы, когда весь Петербург – столица, местопребывание высшей власти – два дня и две ночи трепещет под угрозами разгрома интеллигенции, евреев и учащихся, – тогда «объединенное правительство» не обещание свобод, а новая страшнейшая угроза культуре, свободе, праву. Что нам до того, что во главе визирата стоит граф Витте? Разве в этом имени скрыт залог великой освободительной силы и значения? Разве граф Витте не главный виновник гибели и позора, переживаемого Россией? Разве за десять лет своего министерства он не сделал всего, чтобы растлить правительство и администрацию? Разве не ему принадлежит известная записка о самодержавии и самоуправлении, в которой он так доблестно топчет последнее? В чем же залог его освободительных стремлений? Пусть в его деятельности укажут нам хоть один факт, рисующий его как борца за право и свободу. Таких фактов мы не знаем. Поэтому видеть какую-либо гарантию в имени графа Витте – значит быть слепым. Визират, кто бы ни стоял во главе его, есть только визират, не больше. Для гибнущей бюрократии в нем, быть может, лишний шанс – не спасения, а некоторой отсрочки, и только. Для народа – новое препятствие на тернистом пути к свободе и праву. Что это действительно так, доказывают факты. Первым актом «объединенного правительства» явилось распространение военного положения на все царство Польское, – и это после того, как Финляндии дарована полная автономия! Угрожающий тон правительственного сообщения о Польше ясно говорит, что объединенное правительство готово залить кровью и Польшу, как залило ею всю Россию.
В тот момент, когда мы пишем эти не столько «критические», сколько печальные заметки (1 ноября), мрак и тучи сгущаются над нашей многострадальной родиной. Манифест 17 октября не дал ничего реального, на чем мы могли бы строить будущее. Даже обещания, торжественно в нем высказанные, берутся назад фактами деятельности объединенного правительства. Поэтому возлагать какие бы то ни было надежды на Манифест и на правительство мы не можем. Если год тому назад мы с некоторой радостью встречали эру доверия и говорили о весне, то ныне ни о какой весне не мечтаем. Мы стоим перед роковой загадкой, что нас ждет. Всю веру нашу мы полагаем только в силу движения народа, который не даст загнать Россию снова в «дортуар участка» и на реакцию сверху ответит действиями снизу.
Вся сила – в единении народных масс и общественных групп. Иначе то, что мы вырвали уже у растерянной бюрократии, будет отнято, и бюрократия, объединенная в визират, в союзе с хулиганами справит кровавую тризну на своем манифесте, как справила кровавую баню первых дней русской свободы.
Единение всех, кому дороги культура, право, свобода, – такова задача момента. Всем этим устоям порядка грозит разгром. Бюрократии терять нечего. Она все уже потеряла – честь, достоинство, силу. Ей еще остались хулиганы, черная сотня, руководимая известной частью духовенства, и казацкие орды. Общество и народ должны противопоставить им союзы всех сознающих опасность элементов, рабочие организации и комитеты общественной безопасности. Самооборона во имя права и свободы – вот лозунг ближайших дней. Только вера в себя даст нам силы выдержать борьбу и победить. Настал час, когда никто не вправе отказываться от участия в борьбе. Ужасы пережитых дней на всем пространстве нашей родины – от Крыма до Архангельска, от Томска до Одессы – вот что ждет впереди, если, положившись на «прямоту и искренность» объединенного правительства, мы доверчиво сложим руки и будем спокойно ждать обещанных свобод. Польша уже дождалась военного положения. Что это значит, мы знаем. Похоронившие свою воинскую честь, герои Мукдена – все эти Каульбарсы, Церпицкие, Вильдерлинги, Мейендорфы и как их там еще – начнут свою кровавую работу в наших городах, в наших домах, в наших семьях. Уже отправлены храбрые генерал Сахаров и адмирал Дубасов в Саратовскую и Черниговскую губернии усмирять и насаждать беспорядок. В Кронштадте военные суды угрожают сотнями смертных приговоров. Вот что нас ожидает в ближайшие дни.
В единении – сила. В ряды и колонны, если мы не хотим повторения ужасов в Одессе, Томске, Минске, Москве, Петербурге и т. д.
* * *
Частичная амнистия открыла двери бесчисленных тюрем. И хотя радость за освобожденных борцов омрачается мыслью о тех, кто еще погребен в стенах Шлиссельбурга и Петропавловки, тем не менее – привет и братство вам, товарищи и братья! Сколько мучений, сколько жестокости, сколько неизъяснимых издевательств выпало вам на долю! Вы твердо внесли все и с ясным челом вступаете в ряды народа и общества, почтительно расступающиеся пред нами. Нет слов, чтобы выразить вам всю силу благодарного удивления пред вашей стойкостью, мощью духа и не знающей преград дерзновенностью. Пред изумленным миром в вашем лице оживают легенды о мученичестве за святую веру и добро и благо народов. Нет, вы больше, чем легенда, животворящая восторгом сердца. Вы живые, вставшие из могил, чтобы живым нести благовест свободы. Еще нет ее, этой святой свободы, но уже раскаты ее воскрешающего голоса разбили тюрьмы ваши, и вам предстоит вместе с народом довершить вами же начатое дело освобождения. Мы еще не можем, в гордом упоении победой, сказать вам: «придите и займите первое место на нашем празднестве!» Не сбылось для вас пророчество поэта: «свобода вас примет радостно у входа». В трауре русская земля, похоронный звон и печальное пение, слезы и кровь, – вот что вас встретило у выхода из ваших могил. Но вас ли может смутить эта последняя судорога самовластья? Вы смело вступили в борьбу с ним, когда оно казалось непобедимым, и только вы одни бесстрашно подняли меч за свободу и право.
Но не забудем и тех, кто остался еще похороненным в Шлиссельбурге и Петропавловке. Их немного, в Шлиссельбурге 13, в Петропавловке – не знаем сколько. Первые большею частью – отягченные годами одиночного заключения, изнуренные муками, уже не люди, – это тени былого. К чему эта бесцельная жестокость? Даже с точки зрения гибнущего абсолютизма эти люди принадлежат прошлому. Свобода для них – долг страны. Остальные – это те, чья рука нанесла последние могучие удары зарвавшейся бюрократии: Карпович, Гершуни, Сазонов, Сикорский, Куликовский. Свобода для них – ничтожная плата страны за освобождение. Не может быть свободы, пока хотя один из борцов за нее томится в заключении. Мы требуем амнистию, полной для всех, кто совершил так называемое «преступление» во имя свободы политической или религиозной. Это требование должно стать лозунгом текущих дней, если мы хотим, чтобы свобода стала фактом, а не мечтой.
Оглянемся немножко назад. Ведь это – не преданья старины глубокой, которым верится с трудом, а дела вчерашнего дня, которые могут еще стать и сегодняшним днем, если только мы на минуту подадимся доверию к власти. О, она еще существует, и кто знает, какие ковы готовятся в тиши канцелярий! Этот вчерашний день да будет ежечасным напоминанием, неизгладимым memento mori сегодняшнему, и вот почему в первые дни нашей колеблющейся свободы святой долг благодарности обязывает нас вспомнить тех, кого уж нет, но чьи имена запечатлены на веки на «могиле самовластья», по слову поэта.
«– Едут, едут! – пронесся шепот тысячи голосов.
Все разговоры мгновенно прекратились на полуслове. Среди мертвого молчания вдали послышался бой барабана.
Вестовой проскакал по направлению к месту казни. Рысью проехал отряд казаков, гарцуя на своих горячих конях. Толпа провожала их взглядом, но никто не обернулся за ними вслед. Все глаза были обращены в одну сторону, с одним и тем же выражением страха и ожидания. Наконец, то, для чего собрались и чего с таким напряжением ждали эти тысячи людей, показалось вдали, и нервная дрожь пробежала по многоголовой толпе, составлявшей в эту минуту одно тело.
На бледном фоне неба Андрей увидел волнующуюся линию черных киверов и лес пик, а сквозь них туманные очертания, напоминающие человеческие головы и плечи. Все это – туманные очертания и щетина пик, и черная волнистая линия под ними – казалось частью какого-то огромного чудовища, подвигавшегося вперед тихо, тихо, как черепаха.
Вот процессия подошла ближе, и уже можно разглядеть ее лучше. Андрей видел теперь колесницу, лошадей, кучера, даже лицо кучера; но как он ни напрягал зрения, он не мог разглядеть лиц четырех человеческих фигур, возвышающихся над поездом. Наконец, он понял, почему.
Осужденные были обращены к нему спиной, сидя на высокой скамье, с плечами привязанными к спинке широкими черными ремнями. На всех было надето что-то серое, неуклюжее, бесформенное, точно они были завернуты в одеяла. Но вот фигуры еще приблизились, все такие же бесформенные и одинаковые; Андрей различал теперь цвет их волос и узнал по каштановым волосам Василия, по темнорусым Бориса и по более светлым Бочарова. Но он все еще не мог признать Зины в фигуре, сидевшей по правую сторону Бориса. С развеваемыми ветром кудрями на непокрытой годов, она казалась мальчиком.
– Ее остригли, чтобы удобнее было повесить, – догадался он наконец. Над головами осужденных пролетела какая-то птица, бесцветно окрашенная бесцветным колоритом серого неба: не то голубь, не то ворон, не то кобчик. Она, казалось, заглянула в эти четыре обращенные к ней лица и увидела с высоты четыре столба с перекладинами, ожидавшие их там, на черной помосте, и, точно охваченная паническим страхом, она понеслась прочь, как только могли нести ее сильные крылья. О, как он позавидовал этому счастливому созданию, которое могло улететь далеко, далеко от грешной, залитой кровью земли! Будь у него даже крылья, он не мог бы теперь двинуться с места. Дрожа как в лихорадке, со страшно бьющимся сердцем, он стоял, не смея моргнуть, чтобы не пропустить того момента, когда он сможет обменяться взглядом с осужденными. И в тоже время он боялся этого мгновения, предчувствуя, что с ним связано что-то ужасное. Он убежал бы, если бы его ноги не были пригвождены к земле, как глаза его быль прикованы к этим четырем высоко поднимавшимся фигурам.
Борис повернулся на скамье, подвинув своими сильными плечами связывавшие его ремни, и обратился лицом влево. Андрей видел его в профиль, и по движению его губ догадался, что тот говорит что-то толпе. Борис несколько раз уже пытался это делать в продолжение пути. Но бой барабанов стал так оглушителен, что нельзя было разобрать ни одного слова. Борис оставил напрасные усилия и гневно откинулся назад. Еще несколько поворотов колес, и Андреи увидел их всех прямо в лицо. Они сидели в ряд, опираясь на одну и туже доску.
Лицо Бориса дышало гневом бойца, пересиленного числом, скованного, но не покорившегося до конца. Василий тихо разговаривал с Бочаровым, сидевшим с краю. Он говорил, очевидно, что-то ободряющее, так как на губах юноши показалась слабая улыбка. На этом возвышении черты Василия потеряли свойственный им оттенок грубости. Безгранично спокойный, серьезный и мужественный, он казался Андрею совсем не тем человеком, которого он прежде знал.
Но со всяких подмостков над толпою царит женщина. Все эти тысячи глав, казалось, смотрели на одно лицо, видели одну фигуру, – ту, что сидела по правую руку Бориса. Прекрасная, как только может быть прекрасна женщина, с головой, окруженной как бы ореолом светлых развевающихся волос, она обводила добрым, жалостливым взглядом теснившуюся у ее ног толпу, у которое в эту минуту было в ней одно чувство. Она кого-то там искала глазами. В своем прощальном письме, еще не полученном Андреем в то время, она писала, что все они были бы рады, если бы кто-нибудь на друзей стал на видном месте на пути в эшафоту, чтоб они могли увидеть друг друга. Она ожидала, что придет именно Андрей, и, наконец, нашла его в толпе. Он стоял совсем близко внизу, с поднятое к ней головою. Их глаза встретились.
Ни тогда, ни после Андрей не мог понять, как это сделалось; но только в эту минуту все изменилось в нем, точно в этом добром, жалостливом взгляде были какие-то чары. Тревога и страх, негодование, жалость, месть – все было забыто, все потонуло в каком-то великом, невыразимом чувстве, охватившем все его существо. Это было нечто большее, чем энтузиазм, большее, чем готовность на всякие жертвы. Это была положительная жажда мученичества, внезапно пробудившаяся в нем. Он всегда порицал это чувство в других и считал себя самого совершенно к нему неспособным; но теперь оно переполнило его душу и сердце, трепетало в каждое фибре его существа. Быть там, среди них, на этой черной, позорной колеснице, с плечами, привязанными к деревянной доске, подобно этой женщине, склоняющей над толпою свое лучезарное лицо, – это была не казнь, не жертва, а выполнение страстного желания, осуществление мечты о высочайшем счастье! Забывши место, толпу, опасность, все, повинуясь лишь неодолимому порыву, – он сделал шаг вперед, протянув к ней обе руки. Если он не крикнул громко что-нибудь, что бесповоротно погубило бы его, то только потому, что голос отказался повиноваться ему. А может быть, его слова были запущены барабанным боем, точно также, как его движение затерялось в общей толкотне толпы. С обеих сторон улицы народ ринулся вперед, присоединившись в громадной толпе, шедшей следом за процессией»…[1].
Я извлек один эпизод из великой драмы, разыгравшейся на всем пространстве страны, драмы, длившейся свыше сорока лет, начавшейся непосредственно за великим актом освобождения от крепостной зависимости, и продолжающейся до сих пор: драмы освобождения русского народа от оков самовластья. Героическая борьба, начатая самоотверженной интеллигенцией, молодежью и рабочими, в то время единичными ее участниками, охватила теперь весь народ, в передовых рядах которого стал ныне объединенный рабочий класс вместе с тою же молодежью и интеллигенцией, объединенной в союзы. Великие жертвы 70-ых годов не пропали. Они посеяли семена, давшие богатые всходы. Слава им и бесконечная благодарность! Новые поколенья борцов, в несметных рядах и колоннах, идут теперь на штурм последних твердынь самовластья.
Спор уже решен судьбой, но предстоит еще новые бои за утверждение завоеванных позиций, которые самовластная бюрократия не отдает даром. Но, взирая на великие имена, увековеченные в истории борьбы за свободу русского народа, видя в рядах своих героев, переживших начало этой борьбы, уцелевших и вышедших из могил Шлиссельбурга, Петропавловки, Акатуя, из ледяных тундр Якутской области, – мы с верой и надеждой смотрим в будущее!
Спор решен. Царству рабства положен конец.
Только что опубликовано решение рабочего совета о новой политической забастовке во имя свободы Польши и для спасения сотен жизней матросов, приговариваемых к смерти в Кронштадте.
Итак, началось скорее, чем мы думали. Самодержавная бюрократия в лице нового великого визиря, гр. Витте, сбросила маску. «Нагайка, завернутая в конституцию», приняла свой «исконный вид» – просто нагайки, без всяких конституционных украшений.
Что ж, оно и лучше. Ибо яснее. Свобода, подавленная в Польше, это – отрицание свободы и в России. Право, попранное в Польше, это отрицание права и в России. Борясь за самостоятельность Польши, мы боремся на нашу самостоятельность. Если мы хоть на минуту забудем это, мы действительно забудем урок 63-го года, на который указывает «правительственное сообщение». Растоптав Польшу, абсолютизм на 40 лет задержал развитие свободы в России. Но если тогда была у него хотя тень оправдания в виде действительно вспыхнувшего восстания, – то теперь нет и этой тени. Польша современная не стремится к отделению от России, польский народ желает того же, чего жаждет и русский – свободы и права: свободы быть тем, чем он есть, – культурным польским народом, и права, на котором он хочет основать свою свободу.
И в союзе друг с другом, объединенные общей целью и общими интересами, оба братские народа добьются свободы, – на этот раз свободы без обмана.
А. Богданович. 2-го ноября. «Мир божий», 1905, № 11.Примечания
1
«Андрей Кожухов». Роман из истории 70-х годов. (С. К-го. Спб. 1905 г. Ц. 1 р. 50 к.)
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


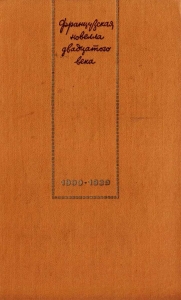
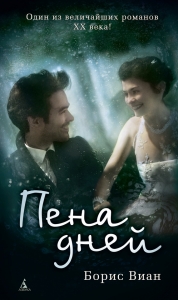

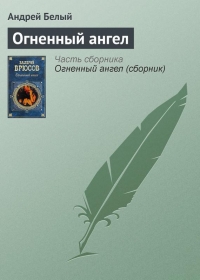

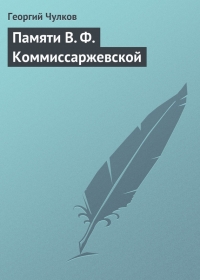



Комментарии к книге «Критические заметки», Ангел Иванович Богданович
Всего 0 комментариев