Георгий Иванович Чулков Последнее слово Достоевского о Белинском
Литературные имена и духовные силы Достоевского и Белинского так несоизмеримы, что, сопоставляя их, приходится объяснять, почему собственно понадобилось обсуждать именно эту тему. В самом деле стоит ли заниматься ею, особенно теперь, когда гений Достоевского занял подобающее ему место в культуре всемирной? Этот на первый взгляд весьма основательный вопрос падает, однако, если мы припомним, что сам Достоевский придавал Белинскому значение немалое. Очевидно, что в этом человеке было нечто, занимавшее мысль и воображение художника.
Мнения Достоевского о Белинском противоречивы и как будто пристрастны, но то постоянство, с каким Достоевский возвращается в течение всей своей жизни к личности Белинского воистину удивительно.
Юношеские письма Достоевского к брату пестрят именем Белинского и впоследствии мы везде и всюду находим у него упоминания о человеке его поразившем.
В 1848 году, когда Белинского уже не было в живых, Достоевский читает среди петрашевцев его знаменитое «письмо к Гоголю», последствием чего был его арест, эшафот и каторга. Обстоятельные показания, данные Достоевским следственной комиссии, все наполнены отзывами о Белинском. Стараясь, отклонить от себя обвинение в идейной солидарности с Белинским, он считает, однако, своим долгом не хулить памяти покойного: «Это был превосходный человек, как человек», – пишет Достоевский. В романе «Униженные и оскорбленные» в 1861 году он с трогательным сочувствием вспоминает о Белинском. Об этом сочувствии свидетельствует также его письмо к вдове покойного Белинского в 1863 году.
За два года до того в журнале «Время» в статье «Г-бов и вопрос об искусстве» Достоевский говорит о «блестящей» критической деятельности Белинского, и даже в объявлении на этот журнал мы находим лестные для него строки.
В «Дневнике писателя» Достоевский неоднократно говорит о Белинском то сочувственно, то иронически, то гневно. Мы видим, как Достоевский колеблется в оценке этого характера и личности. По поводу мысли Аполлона Григорьева, что Белинский, живи он дольше, стал бы непременно славянофилом, Достоевский высказывался не раз – и при том явно себе противоречил. Так в объявлении на журнал «Время» 1862 года Достоевский писал: «Если б Белинский прожил еще год, он бы сделался славянофилом, т. е. попал бы из огня в полымя; ему ничего не оставалось более; да сверх того, он не боялся в развитии своей мысли, никакого полымя. Слишком уж много любил человек». В том же смысле Достоевский высказывался в «Дн. пис.» за 1876 г. в статье «Мой парадокс»: «Но если славянофилов спасало тогда их русское чутье, то чутье это было и в Белинском, и даже так, что славянофилы могли бы счесть его своим лучшим другом. Повторяю, тут было великое недоразумение с обеих сторон. Недаром сказал Аполлон Григорьев, тоже говоривший иногда довольно чуткие вещи, что если б Белинский прожил долее, то наверно бы примкнул к славянофилам. В этой фразе была мысль». (Соч. изд. Просвещ. стр. 217).
А между тем 11/23 декабря 1868 г. Достоевский писал А. Н. Майкову совершенно иное: «Никогда не поверю словам покойного Аполлона Григорьева, что Белинский кончил бы славянофильством. Не Белинскому кончать было этим. Это было только… и больше ничего. Большой поэт в свое время; но развиваться далее не мог. Он кончил бы тем, что состоял бы у какой-нибудь здешней М-м Геп адъютантом по женскому вопросу на митингах и разучился бы говорить по-русски, не выучившись все-таки по-немецки». (Биогр., 1883, стр. 201).
Буквально то же самое писал Достоевский в «Дневнике Писателя» за 1873 год: «О, напрасно писали потом, что Белинский, если б прожил дольше, примкнул бы к славянофильству. Никогда бы не кончил он славянофильством. Белинский может, быть, кончил бы эмиграцией, если бы прожил доныне и если бы удалось ему эмигрировать, и скитался бы теперь маленьким и восторженным старичком с прежнею теплою верою, не допускающей ни малейших сомнений, где-нибудь по конгрессам Германии и Швейцарии, или примкнул бы адъютантом к какой-нибудь немецкой м-м Геп, на побегушках по какому-нибудь женскому вопросу». (Соч. 161).
Такие противоречия в оценках Достоевского неслучайны. Он судил Белинского в разных планах – то как частного человека, то как характер, то как «явление русской жизни», то как религиозный тип… Вот почему у Достоевского можно найти все оттенки сочувствия и ненависти к этому человеку. Достоевский никогда не лгал. Он всегда был искренен. Он только умел видеть вещи и души в разных аспектах. Вот почему он то пишет в 1871 г. свое известное страстное письмо к Страхову, предавая Белинского анафеме, то, спустя пять лет, вспоминает о своей встрече с Белинским с восхищением и любовью.
Эти сочувственные страницы, написанные в 1877 году, оказывается, не последнее, однако, суждение Достоевского о Белинском. Последнее слово художника о личности Белинского относится к 1879 году. Его мы находим в романе «Братья Карамазовы». Здесь Достоевский снова возвращается к той теме, которая занимает его в «Дневнике Писателя» за 1873 год в статье «Старые люди», в знаменитом письме к Страхову, к той теме, которой, между прочим, по замыслу Достоевского, касается в «Бесах» Степан Трофимович: «Я помню писателя Д. (Достоевского), тогда еще почти юношу-рассказывает Верховенский. – Белинский обращал его в атеизм и на возражения Д… защищавшего Христа, ругал Христа». (См. Полн. Собр. Соч. Достоевского, VIII, 606, 610, 614. Изд. 6-е, СПБ. 1905.)
Вот в этом факте и заключается, как мы увидим, сущность внутреннего конфликта между Достоевским и Белинским. Об этом как раз последнее слово Достоевского.
I
Небольшой этюд, который я решаюсь предложить вниманию читателей, представляет собою анализ одного диалогического фрагмента из романа «Братья Карамазовы».
Занимающий нас диалог находится в десятой книге четвертой части романа – в главе «Мальчики». Разговаривает Алеша Карамазов и Коля Красоткин. Я позволю себе напомнить фрагменты этого диалога.
– «Я давно научился уважать в вас редкое существо, – пробормотал опять Коля, сбиваясь и путаясь. – Я слышал, вы мистик и были в монастыре. Я знаю, что вы мистик, но… это меня не остановило. Прикосновение к действительности вас излечит… С натурами, как вы, не бывает иначе.
– Что вы называете мистиком? От чего излечит? – удивился немного Алеша.
– Ну, там бог и прочее.
– Как, да разве вы в бога не веруете?
– Напротив, я ничего не имею против бога. Конечно, бог есть только гипотеза… но… я признаю, что он нужен, для порядка… для мирового порядка и так далее… и если б его не было, то надо бы его выдумать, – прибавил Коля, начиная краснеть»…
– «Я, признаюсь, терпеть не могу вступать во все эти препирания, – отрезал он, – можно ведь и не веруя в бога любить человечество, как вы думаете? Вольтер же не веровал в бога, а любил человечество»…
– «Вольтер в бога верил, но, кажется, мало, и, кажется, мало любил и человечество, – тихо, сдержанно и совершенно натурально произнес Алеша, как бы разговаривая с себе равным по летам: или даже со старшим летами человеком»… – «А вы разве читали Вольтера? – заключил Алеша».
– «Нет, не то чтобы читал… Я, впрочем, Кандида читал в русском переводе… в старом, уродливом переводе смешном»…
– «И поняли?»
– «О, да, все… то-есть… почему же вы думаете, что я бы не понял? Там, конечно, много сальностей… Я, конечно, в состоянии понять, что это роман философский, и написан, чтобы провести идею… – запутался уже совсем Коля. – Я социалист, Карамазов, я неисправимый социалист, – вдруг оборвал он ни с того, ни с сего».
– «Социалист? – засмеялся Алеша, – да когда это вы успели? Ведь, вам еще только тринадцать лет, кажется?» Колю скрючило.
– «Во-первых, не тринадцать, а четырнадцать, через две недели четырнадцать, – так и вспыхнул он, – а, во-вторых, совершенно не понимаю, к чему тут мои лета. Дело в. том, каковы мои убеждения, а не который мне год, не правда ли?»
– «Когда вам будет больше лет, то вы сами увидите, какое значение имеет на убеждение возраст. Мне показалось тоже, что вы не свои слова говорите, – скромно и спокойно ответил Алеша, но Коля горячо его прервал».
– «Помилуйте, вы хотите послушания и мистицизма. Согласитесь в том, что, напротив, христианская вера послужила лишь богатым и знатным, чтобы держать в рабстве низший класс, не правда ли?»
– «Ах, я знаю, где вы это прочли, и вас непременно кто-нибудь научил! – воскликнул Алеша».
– «Помилуйте, зачем же непременно прочел? И никто ровно не научил. Я и сам могу… И если хотите, я не против Христа. Это была вполне гуманная личность, и живи он в наше время, он бы прямо примкнул к революционерам и может быть, играл бы видную роль… Это даже непременно».
– «Ну где, ну где вы этого нахватались! С каким это дураком вы связались? – воскликнул Алеша»… – Со стороны стиля фрагмент диалога представляет собою форму, типичную для Достоевского в последний период его творчества. Тот несколько торопливый и нервный язык, которым говорят у Достоевского герои в его юношеских произведениях, постепенно переходит у художника в язык более сосредоточенный, не утрачивая, однако, своей внутренней напряженности. Если сравнить, например, истерический диалог «Двойника» с языком «Преступления и наказания» и, наконец, с позднейшими романами, это становится очевидным. В «Братьях Карамазовых», романе совершеннейшем в художественном отношении, диалог достигает уже полной выразительности.
Почти всегда в диалоге Достоевского присутствует момент субъективный, нечто от автора. Если у Толстого, Тургенева, Лескова и многих других диалог, за редким исключением объективен, т. е. автор старается не привносить в него своей оценки, предоставляя читателю разбираться в смысле и значении той или другой беседы, Достоевский, напротив, постоянно сам как бы вмешивается в диалог, слышишь его авторский голос, то сочувствующий, то гневный, то насмешливый. В данном случае мы имеем дело с насмешливым освещением диалога. Достоевскому не чужды все степени насмешливости – от иронии до сарказма.
В диалоге Коли Красоткина с Алешей налицо случай иронии. На первый взгляд сарказма как будто нет. Он был бы неуместен по отношению к тринадцатилетнему мальчугану. Тем не менее, приемы добродушного юмора таят в себе второй план диалога – не сразу заметный. В этом втором плане ирония переходит в сарказм. Понять саркастический смысл диалога можно, переходя к анализу третьего момента, характерного для этого разговора Алеши с самонадеянным мальчиком. Этот третий момент пародийность диалога.
Пародийность может быть стилистическая, психологическая и идеологическая. В данном случае мы имеем дело с идеологической пародией и отчасти с пародией психологической. В диалоге, о котором у нас идет речь, пародируются те общие места (loci topici), которые были характерны для фразеологии тогдашних вольнодумцев. Отсюда естественен у Достоевского переход от добродушной иронии к сарказму. Но этого мало – в дальнейшем я постараюсь показать, что пародийность этого диалога приурочивается к определенному лицу, при чем пародируется не само лицо, как Грановский или Тургенев в «Бесах», но лишь некоторые высказывания этого лица и психология, соответствующая этим высказываниям.
Что касается композиции самого диалога в главе «Раннее развитие», то она определяется, как расшифровка предыдущих глав. Вся десятая книга романа «Мальчики» подготовляет эффект анализируемого диалогического фрагмента. Центром десятой книги является Коля Красоткин. В главе «Раннее развитие» нам в сущности предлагается не диалог, а монолог– монолог Коли. Реплики Алеши играют лишь вспомогательную роль, поддерживая и вызывая торопливые признания мальчика.
В интересующем нас отрезке диалога имеются следующие. темы: во-первых, мистика («Ну, там Бог и прочее»…); во-вторых любовь к человечеству («Вольтер же не веровал в Бога, а любил человечество»); в-третьих, Христос и христианство («И если хотите, я не против Христа»…)
На двух-трех страницах диалога сосредоточены главнейшие темы, неизменно занимавшие Достоевского. Десятая книга неслучайно названа Достоевским «Мальчики». Если мы припомним тот смысл, какой Достоевский влагает в излюбленный им термин «русские мальчики», нам нетрудно будет разгадать задание этих глав. В том же романе Иван Карамазов говорит Алеше: «Я ведь и сам точь-в-точь такой же маленький мальчик, как и ты»… «Ведь русские мальчики как до сих пор орудуют»… «…О чем они будут рассуждать»… «О мировых вопросах, не иначе: есть ли бог, есть ли бессмертие. А которые в бога не веруют, ну, те о социализме, и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату, так ведь это один же черт выйдет, все тот же вопрос, только с другого конца. И множество, множество самых оригинальных мальчиков только и делают, что о вековечных вопросах говорят у нас в наше время»…
Психологическая условность «мальчишеской» темы в десятой книге романа находит себе новую художественную транскрипцию. Здесь уже фигурируют настоящие мальчики. И эта настоящая мальчишеская жизнь является отчасти карикатурой, отчасти пародией на мальчишескую психологию взрослых.
Какое же лицо имел в виду Достоевский, создавая этот пародийный диалог? Пародируя Гоголя в лице Фомы Опискина, Достоевский дает косвенный намек на пародию, влагая в уста своего героя упоминание о писателе: «Гоголь – писатель легкомысленный, но у которого бывают зернистые мысли»…[1] Так и в данном случае у нас есть косвенное указание самого Достоевского на пародию:
– Ну где, ну где вы этого нахватались? С каким это дураком вы связались? – воскликнул Алеша.
– Помилуйте, правды не скроешь. Я, конечно, по одному случаю, часто говорю с господином Ракитином, но… Это еще старик Белинский то же, говорят, говорил.
– Белинский? Не помню. Он этого нигде не написал.
– Если не написал, то, говорят, говорил. Я это слышал от одного… впрочем, черт…
– А Белинского вы читали?
– Видите ли… нет… я не совсем читал, но место о Татьяне, зачем она не пошла с Онегиным, я читал…
В этих фразах ключ к пародии. Очевидно, что пародируется не само лицо, а те психологические мотивы и мысли, которые высказываются этим лицом, и, с другой стороны, дается объяснение источника пародии. Из опубликованных в то время произведений Белинского нельзя было извлечь мыслей, аналогичных мыслям Коли Красоткина. «Он этого нигде не написал»… Однако, упоминание о Белинском не случайно. Значит, источник пародии надо искать в каком-то документе, тогда еще неизданном, но хорошо известном самому Достоевскому. Таким документом является знаменитое «Письмо Белинского к Гоголю»: в нем – три темы, положенные в основу нами разбираемого диалогического фрагмента; мистика, вера в человечество и, наконец, личность Христа.
Укоряя Гоголя в мистицизме Белинский пишет: «Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности»…
В духе этого рассуждения Коля Красоткин спешит сделать Алеше свои признания: – «Я слышал, вы мистик и были в монастыре. Я знаю, что вы мистик, но… это меня не остановило. Прикосновение к действительности вас излечит… С натурами, как вы, не бывает иначе».
– Что вы называете мистиком? От чего излечит? – удивился Алеша.
– Ну, там Бог и прочее.
– Как, да разве вы в Бога не веруете?
– «И вот почему – пишет Белинский – какой-нибудь Вольтер, орудием насмешки погасивший в Европе костры фанатизма и невежества, конечно, более сын Христа, плоть от плоти его и кость от кости его, нежели все наши попы, архиереи, митрополиты, патриархи. Неужели вы этого не знаете? Ведь, это теперь не новость для всякого гимназиста»…
Достоевский сейчас же пользуется случаем и влагает в уста гимназиста эти самые мысли о Вольтере:
– Можно ведь и не веруя в бога любить человечество, как вы думаете? Вольтер же не веровал в Бога, а любил человечество.
«Церковь же явилась иерархией – пишет Белинский – стало быть поборницей неравенства, льстецом власти, врагом и гонительницей братства между людьми – чем продолжает быть и до сих пор».
И Коля Красоткин повторяет за Белинским то же самое:
– Помилуйте, вы хотите послушания и мистицизма. Согласитесь в том, что, например, христианская вера послужила лишь богатым и знатным, чтобы держать в рабстве низший класс, не правда ли?
Наконец, Белинский пишет: «Проводник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов, что вы делаете»… «Что вы подобное учение опираете на православную церковь, это я еще понимаю: она всегда была опорою кнута и угодницей деспотизма; но Христа-то зачем вы примешали сюда! Что вы нашли общего между ним и какой-нибудь, а тем более православною церковью».
И гимназист Красоткин такого ж мнения, как Белинский. Христос-по его представлению – ничего общего не имеет с церковью.
– «И если хотите – признается Коля – я не против Христа. Это была вполне гуманная личность, и живи он в наше время, он бы прямо примкнул к революционерам и, может быть, играл бы видную роль… Это даже непременно»…
Этой мысли, по крайней мере так прямо выраженной, в письме Белинского к Гоголю нет. Но зато она целиком взята из действительного разговора Белинского с Достоевским в 1845 году. В «Дневнике Писателя» за 1873 год Достоевский воспроизвел тогдашний диалог свой с Белинским.
Белинский говорил:
«…Поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком; так и стушевался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества.
– Ну, не-е-ет! – подхватил друг Белинского. (Я помню, мы сидели, а он расхаживал по комнате взад и вперед). – Ну, нет: если бы теперь появился Христос, он бы примкнул к движению и стал бы во главе его…
– Ну-да, ну-да, – вдруг с удивительною поспешностью согласился Белинский, – он бы именно примкнул к социалистам и пошел за ними».
Коля Красоткин спешит отрекомендоваться Алеше:
– Я социалист, Карамазов, я неисправимый социалист.
И про Белинского Достоевский пишет в «Дневнике писателя»: «Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мною с атеизма».
Итак, в основе анализируемого диалога лежит некоторая идеологическая и отчасти психологическая пародийность. Поводом для этой пародийности послужило письмо Белинского к Гоголю и личные воспоминания о Белинском самого Достоевского. Во избежание недоразумений приходится подчеркнуть, что ни биографической, ни стилистической пародии в указанном, диалоге нет, по крайней мере в том смысле, как это есть например, в пародии на Тургенева в «Бесах», однако, и в нашем случае совпадения любопытны и – я полагаю-неслучайны. Так в последние годы Белинский, как известно, придавал чрезвычайное значение естествоведению, – и Коля Красоткин заявляет, что он «всемирную историю не весьма уважает»… «Изучение ряда глупостей человеческих и только. Я уважаю одну математику и естественные»… Белинский, как известно, худо знал иностранные языки, и Достоевский, по-видимому, неслучайно заставляет Алешу спросить Колю: «А вы разве читали Вольтера?» На что Коля отвечает: «Нет, не то, чтобы читал… Я, впрочем, Кандида читал в русском переводе»…
Наконец, последним моментом при определении пародийности диалога приходится признать тот общий самонадеянно-торопливый азартный тон его, который в известной мере характерен и для прославленного письма Белинского, что дало повод Гоголю написать в своем, неотправленном, впрочем адресату ответе: «Но какое невежество! Как дерзнуть с таким малым запасом сведений толковать о таких великих явлениях!» И далее: «Опомнитесь, куда вы зашли! Вольтера называете оказавшим услугу христианству и говорите, что это известно всякому ученику гимназии. Да я, когда был еще в гимназии, я и тогда не восхищался Вольтером. У меня и тогда было настолько ума, чтобы видеть в Вольтере ловкого остроумца, но далеко не глубокого человека»… И, наконец, – «Нельзя, получив легкое журнальное образование, судить о таких предметах»… Здесь уместно вспомнить не совсем безразличную болтовню Степана Трофимыча: «В сорок седьмом году, – рассказывал он, – Белинский, будучи за границей, послал к Гоголю известное письмо, и в нем горячо укорял того, что тот верует „в какого-то Бога“. Entre nous soit dit, ничего не могу вообразить себе комичнее того мгновения, когда Гоголь (тогдашний Го-голь!) прочел это выражение и… все письмо»… (Соч., стр. 47).
II
Фрагмент диалога из романа «Братья Карамазовы», нами рассмотренный, до сих пор не привлекал к себе внимания исследователей. Впрочем, один литератор в своей книге «БелинскиЙ в оценке его современников», сопоставляет Колю Красоткина с мнением Белинского[2]. К сожалению, исследователь не заметил ни пародийности этой фразы, ни сарказма Достоевского. Он все принял за «чистую монету» и даже порадовался за Достоевского и Белинского, усмотрев в этой цитате свидетельство писателя в пользу своего идейного противника. Прежде, мол, Достоевский писал о том, что Белинский «ругал ему Христа», а теперь, под конец жизни, должен был признать, что критик был ко Христу благосклонен, называя его «гуманной личностью». Когда дело идет о «христианском мифе» и об отношении к нему того или иного художника, мы обязаны в качестве исследователей, считаться с тем фактом, что для Гоголя, Достоевского и многих других христианский миф был не фикцией, а живою реальностью. Так и в данном случае, мы, конечно, не в состоянии будем дать правильное освещение рассмотренному нами диалогическому фрагменту, как бы тонко и детально ни описывали мы композицию этого отрывка, его стиль, диалектические особенности и проч., и наше описание останется мертвым материалом и не приобретет никакой научной ценности, пока мы не не найдем в приемах писателя, напр., в приеме пародийности, того внутреннего мотива, которым определяется единство художественного произведения и которое предопределяется известным мифом.
Итак, постараемся открыть эти внутренние мотивы, понудившие Достоевского и на этот раз прибегнуть к пародийному приему и к приему сарказма. Сарказм направлен против Белинского. У Достоевского, как известно, первая встреча с Белинским произошла в мае месяце 1845 года. Затем следует ряд свиданий. Осенью Белинский еще дружески относится к Достоевскому. Весною 1846 года Достоевский готовил для альманаха Белинского две повести «Сбритые бакенбарды» и «Повесть об уничтоженных канцеляриях», – до нас не дошедшие. В это время Белинский выехал из Петербурга в Москву и на Юг. Встреча с Достоевским в октябре была, по-видимому, не очень дружеская, хотя отношения между писателями и еще не прерваны. Достоевский писал тогда: «Это такой слабый человек, что даже в литературных мнениях у него пять пятниц на неделе». (Биогр., 58).
В начале 1847 года, по словам Достоевского в его показаниях Следственной Комиссии, у него произошла с Белинским размолвка «из-за идей в литературе и о направлении литературы», перешедшая скоро в «формальную ссору». (Петраш., 90). В мае 1847 года Белинский уехал за границу. 3 июля написано им знаменитое «Письмо к Гоголю». В сентябре он вернулся в Россию. Его отношения к Достоевскому к этому времени вполне определились. В письме к П. В. Анненкову он сообщает, что повесть «Хозяйка»-«пошла, глупа и бездарна». В феврале 1848 года в письме к тому же корреспонденту он пишет: «Надулись же мы[3], друг мой, с Достоевским гением» 28 мая 1848 года Белинский умер.
Итак, знакомство Достоевского с Белинским продолжалось всего только два года с большими перерывами. Белинский> как мы знаем, за время своей литературной деятельности несколько раз менял свои идейные позиции. Какой же был Белинский в эти годы 1845 и 1846? Ему тогда было лет тридцать пять. Он уже пережил «шеллингианство», «фихтеанство», «гегелианство» и, наконец, увлекся французами-рационалистами и социальными утопистами. Вся эта идейная эволюция сопровождалась у Белинского большими сердечными и умственными потрясениями, но от этого не менялась сущность его духовной натуры.
Очень легко, разумеется, доказать-как это сделал один критик-импрессионист, что Белинский был просто необразованный человек, что его кустарная философия и его сведения о Шеллинге, Фихте, Гегеле, полученные из вторых рук, были поверхностны, а иногда и вовсе неточны, что даже вкус его был весьма сомнителен – ведь, он однажды объявил, что Данте не поэт и вторую часть «Фауста» с легким сердцем называл галиматьей… Но дело, конечно, не в этом. Можно не штудировать прилежно немецких метафизиков, ошибаться в оценках величайших произведений искусства – и все же быть значительным человеком. Белинский был значителен.
Он был значителен, потому что в нем никогда не умирала необычайно страстная жажда истины. Вопрос о жизни и смерти, о смысле бытия и особливо нравственная проблема – все это для него не было теорией, идеологией: все это он переживал, как тему его собственной жизни. Белинский был значителен. И дело не в том, что знания его были поверхностны, а в том, что у него не было того внутреннего опыта, который следовало бы назвать историческою или мифологическою памятью.
Белинский как бы покинул «отчий дом» истории и медлил в него вернуться. С утратою «исторической памяти» у человека является потребность в новом «доме», в новом крове. Мечта об этом доме возникает обычно, как некая утопия. Как раз ко времени знакомства Белинского с Достоевским наше общество жадно зачитывалось французами-утопистами.
«Эти двигатели человечества» – сообщает Достоевский в «Дневнике» за 1873 год – «были тогда все французы: прежде всех Жорж-Занд, теперь совершенно забытый Кабет, Пьер Леру и Прудон, тогда еще только начинавший свою деятельность. Этих четырех, сколько припомню, всего более уважал тогда Белинский». («Дн.», стр. 161).
Социалистами-утопистами увлекся, как известно, и Достоевский, но Белинский увлекся ими иначе. Белинский был безоружен. Он ничего не мог противопоставить социальной утопии и, приняв ее без критики, немедленно сделался адептом к пропагандистом утопических идей.
Мы знаем, что противопоставил этим идеям Достоевский, но у Белинского не было эа душою ничего, кроме совершенно искренней и страстной жажды во что бы то ни стало благополучно устроить человечество, которое-по его представлению – напрасно прожило тысячелетия, пока не явились Жорж-Занд со своими романами и Этьен Кабе со своим «Путешествием в Икарию». История человечества казалась Белинскому каким-то недоразумением. Он мог с совершенной убежденностью сказать, как Коля Красоткин – «всемирную историю не весьма уважаю». И спроси Белинского какой-нибудь простец, как Колю: «Это всемирную-то историю-с?» – вероятно, Белинский на этот простодушно-испуганный вопрос ответил 6ы так же, как гимназист: «Да, всемирную историю. Изучение ряда глупостей человеческих, и только»… («Бр. Кар.», стр. 67).
Как известно, в своей философско-исторической концепции, Белинский не был самостоятелен. На него влияли то Станкевич, то Бакунин, то иные… Вот почему восклицание Алеши по адресу Коли Красоткина: «Ах, я знаю, где это вы прочли, и вас непременно кто-нибудь научил!» – следует отнести к уже отмеченной нами пародийности диалога. Белинский-по представлению Достоевского – был не «вечным студентом», а «вечным гимназистом», «русским мальчиком». К той же пародийности возможно отнести рассказ Алеши об одном заграничном немце, жившем в России. Немец, будто бы написал, что если показать русскому школьнику карту звездного неба, о которой он до сих пор не имел никакого понятия, и он завтра же возвратит вам ее исправленную. Белинский был в положении этого «русского школьника».
Идеи, которые волновали Белинского, были непрочные идеи, не органические. В самом деле, в 1839 году он пишет статью во славу русского самодержавия. – «Бородинская годовщина»; в 1815 году страстно приветствует социализм; в начале 1847 года пишет Боткину о «социалистах, этих насекомых, вылупившихся из навозу, которым завален задний двор гения Руссо». Я при этом пропускаю крепкий эпитет, прилагаемый Белинским к социалистам, по чрезвычайной непристойности этого эпитета… Летом того же года он пишет своему корреспонденту, что прочел книгу Луи Блана, «прескучную и препошлую»… «Буржуазия у него ёще до сотворения мира является врагом человечества»… «Ух, как глуп – мочи нет» – 15 февраля 1848 года Белинский пишет П. В. Анненкову: «Когда я в спорах с вами о буржуазии, называл вас консерватором, я был осел в квадрате, а вы были умный человек. Вся будущность Франции в руках буржуазии, всякий прогресс зависит от нее одной»… В этом же письме Белинский называет Луи Блана «дураком, ослом и скотиной». Прочитав «Исповедь» Руссо, которого, раньше не читая, он называл гением, Белинский «возымел сильное омерзение к этому господину»… «Он так похож на Достоевского»…
Эта куча противоречий вовсе, однако, не доказывает ничтожества Белинского. Чем-то все-таки Белинский был значителен. Но чем же? Не тем ли, что, несмотря на всю эту лихорадочно-торопливую умственную деятельность, в душе у этого человека постоянно горела какая-то мучительная жажда социальной справедливости. Белинский был воистину «алчущий и жаждущий правды». И эта жажда определяла его духовное лицо.
Тот спор, который возник, кажется, в 1913 году по поводу статьи критика-импрессиониста, пытавшегося развенчать Белинского, весьма поучителен. Аргументы для развенчивания были достаточные. На первый взгляд все очень убедительно: какой же в самом деле Белинский «великий критик», когда для него народная поэзия – не более как «дубоватые материалы»; когда он Пушкина то бранит, то хвалит за одни и те же произведения; когда Соллогуб для него «поглубже Бальзака», а Гоголя он ставит «не ниже Купера»… Сомнителен как будто Белинский и как публицист, ибо трудно объяснить то, что начал он свою литературную деятельность с хвалы самодержавию и кончил тем, что все свои надежды возложил на великодушие Николая Первого, а с 1841 до 1846 года, значит, примерно пять лет был чуть ли не революционером по своим убеждениям. Летом 1841 года Белинский писал Боткину: «Я начинаю любить человечество по-маратовски: чтобы сделать счастливую малейшую часть его, я, кажется, огнем и мечом истребил бы остальную»…
И вот, несмотря на все эти красноречивые факты, правда была не на стороне импрессиониста, пытавшегося очернить Белинского, а на стороне ревнителей легенды о Белинском. Легенда о нем сложилась не случайно. Белинский дал для нее материал. Он был значителен ни своими идеями, ни своими критическими суждениями, ни публицистикой своей, а фактом своего бытия. Он был значителен, как яркий и типичный выразитель особого рода психологии. Я бы определил эту психологию, как «утопическую» в своих чаяниях и революционно-отрицательную по отношению к культуре.
Именно в этом аспекте Достоевский увидел Белинского. Припомним обстоятельства, при которых встретились эти необыкновенные люди.
Дворянин по происхождению, а по своему положению литератор-пролетарий, Достоевский, оторванный от устойчивых бытовых начал, склонен был тогда к утопизму не менее Белинского. Он был тоже мечтателем. Однако, его отношение к истории и к культуре было иное, не такое, как у Белинского. Только одно их связывало – социальная утопия. Потрясающий крик о социальной несправедливости слышен на каждой странице «Бедных людей». Немудрено, что Белинский, в ту пору страстный социалист, с восторгом приветствовал роман Достоевского.
П. В. Анненкову критик, увлеченный повестью, так и сказал: «Подумайте, это первая попытка у нас социального романа»…
Всем известен рассказ о том, как Григорович понес только что написанный Достоевским его первый роман Некрасову, как они просидели за этим романом всю ночь, восхищаясь и плача от умиления, как они в четыре часа утра разбудили Достоевского, спеша поздравить его со славою, в которую они поверили, предвосхитив мнение Белинского. Итак, первый литературный опыт Достоевского был социальный роман. Он не мог бы его написать, если бы все вокруг него не было проникнуто одной покоряющей идеей, одним страстным инстинктом, одною к единой цели устремленную волею. Идеи, инстинкты и воли художников, мыслителей, социологов, моралистов, политиков и вообще всех неравнодушных к миру людей в эту эпоху сосредоточены были на одной теме – социальной несправедливости. Всё это движение совпало с процессом материального оформления и психологического самоопределения новых социальных сил, явившихся на арене истории[4].
В России также явились тогда новые общественные силы и новые люди. Одним из таких людей был Белинский. Это был канун февральской революции. «Все эти тогдашние новые идеи – писал Достоевский в 1873 году – нам в Петербурге ужасно нравились, казались в высшей степени святыми и нравственными и, главное, общечеловеческими, будущим законом всего без исключения человечества. Мы еще задолго до Парижской революции 48 года были охвачены обаятельным влиянием этих идей. Я уже в 46 году был посвящен во всю правду этого грядущего обновления мира и во всю святость будущего коммунистического общества еще Белинским»…
Еще ранее на тех же страницах «Дневника писателя» Достоевский писал: «Белинский был по преимуществу не рефлективная личность, а именно беззаветно восторженная, всегда и во всю его жизнь, Первая повесть моя „Бедные люди“ восхитила его»… «В первые дни знакомства, привязавшись ко мне всем сердцем, он тотчас же бросился с самою простодушною торопливостью обращать меня в свою веру. Я нисколько не преувеличиваю его горячего влечения ко мне, по крайней мере в первый месяц знакомства. Я застал его страстным социалистом».
И сам Достоевский весь был охвачен потоком тех же идей. Впрочем, миросозерцание Достоевского в ту пору еще далеко не установилось. Но уже и тогда было в нем нечто, чего Белинский принять никак не мог. Да и едва ли он мог это нечто понять. Впоследствии сознательно, а тогда еще бессознательно Достоевский верил в< исключительность и несоизмеримость ни с чем иным личности Христа. Он верил, что факт появления Христа в истории есть факт особого значения, ни с чем не сравнимый. Ему казался этот факт столь необычайным, что он готов был пожертвовать даже логикою и какими угодно приобретениями социальной культуры, если бы от него потребовали отречься от этого его внутреннего опыта.
«Я застал его страстным социалистом – пишет Достоевский о Белинском – и он прямо начал со мной с атеизма. В этом много для меня знаменательного – именно удивительное чутье его и необыкновенная способность глубочайшим образом проникаться идеей… Интернационалка, в одном из своих воззваний, года два тому назад, начала прямо с знаменательного заявления „мы прежде всего общество атеистическое“, т. е. начала с самой сути дела; тем же начал и Белинский».
«Тут оставалась, однако, сияющая личность самого Христа, с которою труднее всего было бороться. Учение Христово он, как социалист, необходимо должен был разрушить, называя его ложным и невежественным человеколюбием, осужденным современною наукою и экономическими началами, но все-таки оставался пресветлый лик богочеловека, его нравственная недостижимость, его чудесная и чудотворная красота. Но в беспрерывном неугасимом восторге своем Белинский не остановился даже и перед этим неодолимым препятствием»…
– «Да знаете ли вы, – взвизгивал он раз вечером (он иногда как-то взвизгивал, если очень горячился), обращаясь ко мне: – знаете ли вы, что нельзя насчитывать грехи человеку и обременять его долгами и подставными ланитами, когда общество так подло устроено, что человеку невозможно не делать злодейства, когда он экономически приведен к злодейству, и что нелепо и жестоко требовать с человека того, чего уже по законам природы не может он выполнить, если бы даже захотел»…
Здесь, в «Дневнике писателя» стоит три точки. По условиям тогдашней цензуры Достоевский не мог точнее изложить этот странный разговор, но в письме к Страхову в 1871 году Достоевский рассказывает о том, как Белинский ругал при нем Христа. Тогда становится понятным дальнейший диалог, написанный Достоевским.
– «Мне даже умилительно смотреть на него, – прервал вдруг свои ядовитые восклицания Белинский, обращаясь к своему другу и указывая на меня:– каждый-то раз, когда я вот так-то помяну Христа, у него все лицо изменяется, точно заплакать хочет»…
А на следующей странице «Дневника» Достоевский приписывает: «В последний год его (Белинского) жизни я уже не ходил к нему. Он меня невзлюбил, но я страстно принял тогда все учение его».
Итак Достоевский страстно принял тогда учение его, т. е. социализм Белинского, и в то же время не мог отказаться от «сияющей личности Христа», и каждый раз лицо его, Достоевского, искажалось от страдания, когда при нем ругали Галилеянина. Значит, тогда уже, в средине сороковых годов, Достоевский усматривал в революции антиномичность, и ее проблема была для него прежде всего проблемою религиозною.
Для нас, в связи с темою об отношении Достоевского к Белинскому, важно установить, что в 1846 году, при всей незрелости своей религиозной концепции, Достоевский был, однако, тверд относительно личности Христа. То что свидетельство об этом относится к позднейшему времени, нисколько не колеблет нашей уверенности, что «опыт Христа» у Достоевского уже тогда, в сороковые годы, был вполне реален. Едва ли у нас есть основание сомневаться в этом. Для этого надо заподозрить правдивость самого Достоевского. Выдумать такого диалога с Белинским нельзя. Приписывать художнику чудовищную ложь с нашей стороны было бы по меньшей мере не психологично. Оставаясь в пределах объективной науки, мы не рискуем вступить на путь личного психологического домысла. У художника в сороковые годы не было еще вполне сложившегося религиозного мироотношения, но личность Христа была для него и в эту пору реальностью, живою и необычайною.
Этот «христианский миф» о воплотившемся Боге, распятом и воскресшем, был не только достоянием души Достоевского, но и тем фактом, который определил все творчество Достоевского, начиная с «Бедных людей» и кончая «Братьями Карамазовыми». Нельзя понять до конца ни одного романа Достоевского, не считаясь с этим мифом, который для художника никогда не был и не мог быть отвлеченным началом или исторической фикцией. Для Достоевского этот миф был реальностью.
В мою сегодняшнюю задачу не входит сводка всех отзывов и упоминаний Достоевского о Белинском, тем более, что это уже было сделано до меня[5]. Напомню только, что Достоевский неоднократно возвращался к теме Белинского. Им даже была приготовлена в 1857 году особая статья о Белинском, к сожалению утраченная.
Противоречия в отзывах Достоевского понятны. Они объясняются не только хронологически и биографически, как это очевидно, напр., при сравнении ранних писем к брату с позднейшими письмами к Майкову или Страхову, но и принципиально. Достоевский всегда относился к Белинскому антиномически. Он не впадал в дурное противоречие с самим собою. Он не хулил Белинского по мотивам внешним, Достоевский, напротив, признавал в Белинском «удивительное чутье я необыкновенную способность глубочайшим образом проникаться идеей». И вот эта способность Белинского доводить каждую идею до ее предела и понуждала Достоевского снова и снова возвращаться к той же теме. Ведь, он и сам признавался, что всегда склонен доходить до «черты». Свидания с Белинским произвели на художника сильнейшее впечатление, – того же нельзя, по-видимому, сказать о статьях критика. О них Достоевский почти не упоминает. Это вполне понятно. Личность Белинского (это видно из его писем) была гораздо выразительнее, чем его статьи. Но мало этого. Образ Белинского запечатлелся в душе Достоевского именно таким, каким он был в 1845 и 1846 гг. Достоевский не знал, что в конце 1846 года Белинский уже разочаровался в социальном утопизме и охотно именовал социалистов «ослами». Зато сам Достоевский, как известно, применил социалистические идеи к жизни, примкнул к тогдашним пропагандистам и пошел за эти идеи на эшафот и каторгу. Прошли года – а непостоянный и зыбкий Белинский все еще был для Достоевского в его воспоминаниях «страстным социалистом».
Эта ошибка Достоевского вовсе не умаляет, однако, внутреннего смысла их столкновений. Есть нечто более важное, чем всяческие мнения вообще. Важнее и значительнее характеры людей природа их духовных организаций, их культурно-психологическая типичность. Сравнительная характеристика Белинского и Достоевского в этом плане дает ключ к пони-манию их духовной встречи и борьбы и, между прочим, позволяет нам разгадать те мотивы, которые положены были художником в основание замеченной нами пародийности в диалоге Коли Красоткина с Алешей Карамазовым.
Не удивителен. ли самый факт, что художник продолжает полемику с ушедшим из этого мира человеком! Мало того, что он пишет о нем страстно и взволнованно, как о живом, своим друзьям: Белинский предносится его воображению даже тогда, когда он создает свое величайшее художественное творение «Братья Карамазовы».
В 1871 году Достоевский писал Страхову из Дрездена: «Я обругал Белинского более, как явление русской жизни, нежели лицо. Это было самое смрадное, тупое и позорное явление русской жизни. Одно извинение-неизбежность этого явления». И далее: «Вы никогда его не знали, а я знал и видел, и теперь осмыслил вполне. Этот человек ругал мне… (Христа), а между тем никогда он не был способен сам себя и всех двигателей всего мира, сопоставить со Христом для сравнения. Он не мог заметить того, сколько в нем и в нихмелкого самолюбия, злобы, нетерпения, раздражительности, подлости, а, главное, самолюбия. Он не сказал себе никогда: что же мы поставим вместо него? Неужели себя, тогда как мы так гадки? Нет, он никогда не задумался над тем, что он сам гадок; он был доволен собою в высшей степени, и это была уже личная смрадная, позорная тупость. – Вы говорите, он был талантлив. Совсем нет, и, [Боже] как наврал о нем в своей статье Григорьев. Я помню мое юношеское удивление, когда я прислушивался к некоторым чисто художественным его суждениям»… (Биогр. 1888. Стр. 312–313).
Таковы были мнения Достоевского о Белинском в интимных признаниях. Здесь Достоевский не был озабочен сохранением правильной перспективы. В «Дневнике писателя», мы знаем, он был осторожнее. Но именно это интимное признание для нас важнее всего. Здесь крайнее, предельное заострение той темы, которая в конечном счете понудила Достоевского создать свой пародийный диалог.
Примечания
1
Ср. Ю. Тынянов. Достоевский и Гоголь. Изд. «Опояз». 1921. Стр. 46.
(обратно)2
С. Ашевский. «Белинский в оценке его современников». СПБ. 1911. Его же статья в Мире Божием. 1904, № 1, стр. 197–239.
(обратно)3
По другому чтению – «Вы».
(обратно)4
См. В. Л. Комарович. Юность Достоевского. Былое. 1924. № 23. стр. 3-43 и ною статью «Достоевский и утопический социализм». – «Каторга и ссылка». 1929 г. Февраль-Март.
(обратно)5
См. С. Ашевский. «Белинский в оценке его современников». СПБ. 1911 и его же статья «Достоевский и Белинский». Мир Божий. 1904. янв., стр, 197–239. См. еще В. Комарович. Достоевский и шестидесятники. Совр. Мир. 1917, № 1.
(обратно)


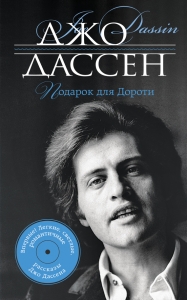







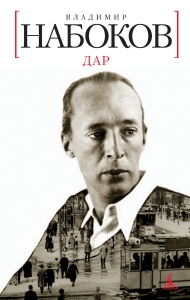
Комментарии к книге «Последнее слово Достоевского о Белинском», Георгий Иванович Чулков
Всего 0 комментариев