Аркадий Аверченко Чудеса в решете (сборник)
* * *
Чудеса в решете
Отдел I Чудеса в решете
Эхо церкви Феличе
Однажды летним вечером мы с приятелем сидели за столиком в саду и, попивая теплое красное вино, глазели на открытую сцену.
Дождь, упорно стучавший по крыше веранды, на которой мы сидели; необозримое снежное поле не занятых никем белых столиков; ряд самых замысловатых «номеров», демонстрировавшихся на открытой сцене; и, наконец, живительное теплое бордоское – все это настраивало нашу беседу на самый глубокомысленный, философический лад.
Прихлебывая вино, мы дружно цеплялись за каждое пустяковое обычное явление окружающей нас жизни и тут же, сблизив носы, принимались его рассматривать самым внимательным образом.
– Откуда берутся акробаты? – спросил мой приятель, поглядывая на человека, который только что уперся рукой в голову своего партнера и немедленно же поднял вверх ногами все свое затянутое в лиловое трико тело. – Ведь просто так, зря, они же акробатами не делаются. Почему, например, ты не акробат или я не акробат?
– Мне акробатом быть нельзя, – резонно возразил я. – Мне рассказы нужно писать. А вот почему ты не акробат – я не знаю.
– Да я и не знаю, – простодушно подтвердил он. – Просто не приходило в голову. Ведь, когда в юности предназначаешь себя к чему-нибудь, то акробатическая карьера как-то не приходит в голову.
– А вот им же – пришла в голову?
– Да. Действительно это странно. Так иногда хочется пойти за кулисы к акробату и расспросить его – как это ему вздумалось сделать карьерой ежевечернее влезание на голову своему ближнему.
Дождь барабанил по крыше веранды, официанты дремали у стен, мы тихо беседовали, a в это время на сцене уже появился «человек-лягушка». Был он в зеленом костюме с желтым лягушечьим брюхом и даже с картонной лягушечьей головой. Прыгал, как лягушка, – и, вообще, ничем от обыкновенной лягушки, кроме размера, не отличался.
– Вот возьми – человек-лягушка. Сколько их, таких «человеков – чего-нибудь» бродит по свету: человек-страус, человек-змея, человек-рыба, человек-каучук. Спрашивается: как всякий такой человек мог добраться до решения – сделаться человеком-лягушкой? Осенила ли его эта мысль сразу, когда он мирно сидел на берегу тинистого пруда, наблюдая действия просто-лягушек… Или эта мысль постепенно, исподволь росла в нем и крепла.
– Я думаю – сразу. Осенило.
– А, может быть, у него с детства было стремление к лягушечьей жизни и только влияние родителей удерживало его от этого ложного шага. Ну, a потом… Эх, молодость, молодость! Потребуем еще одну, – хорошо?
– Молодость?
– Бутылку. А это кто, в клетчатом пальто с громадными пуговицами, в рыжем парике? Ах, эксцентрик! Заметь, у них уже есть свои освященные временем приемы, традиции и правила. Например – эксцентрик должен быть непременно в рыжем парике. Почему? Бог его знает! Но это хороший клоунский тон. Затем – появляясь на сцене, он никогда не сделает ни одного целесообразного поступка. Все его жесты и шаги должны быть явно бессмысленны, обратно пропорциональны здравому смыслу. Чем бессмысленнее – тем больший успех. Погляди: ему нужно закурить папиросу… Он берет палочку, трет ее о лысину – палочка зажигается. Он закуривает папиросу, a горящую палочку прячет в карман. Теперь ему нужно погасить папиросу. Как он это делает? Берет сифон содовой воды и пускает струю на тлеющую папиросу. Кто в действительной жизни зажигает спички о голову и гасит папиросу с помощью сифона? Он хочет расстегнуть пальто… Как он это делает? Как другие люди? Нет! Он вынимает из кармана громадные ножницы и отстригает ими пуговицы. Смешно? Ты смеешься? А знаешь, почему люди смеются, глазея на это? Психология их такова: о, Боже, как глуп этот человек, как он неуклюж!.. А вот я не такой, я умнее. Я зажгу спичку о спичечную коробку и расстегну пальто обычным способом. Тут просто звучит замаскированная молитва фарисея; благодарю тебя, Господи, что я не похож на него.
– Бог знает, что ты такое говоришь…
– Да уж верно, брат, верно. Жаль, что над этим никто не задумывается… Ну, вот посмотри: его партнер хочет его брить… Взял ведро с мыльной водой, привязал его салфеткой за горло к стулу, a потом нахлобучил ему ведро с мылом на голову и бьет, торжествуя победу, по его животу кулаками и ногами. Смешно? Публика смеется… А что если бы привести сюда старушку-мать этого рыжего с ведром на голове; она, вероятно, и не знает, чем занимается её сын, её дитя, которого она укачивала на коленях, тихо целуя розовые пухлые губки, гладя шелковистые волосики, прижимая младенческий теплый животик к своей многолюбящей материнской груди… А теперь по этому животику какой-то зеленощекий парень молотит своими ножищами, a с пухлых губок, измазанных краской, стекает мыльная пена, a шелковистых волосиков нет – вместо них ужасные красные волосища… Каково это матери? Заплачет она и скажет: Павлик мой, Павлик… На то ли я тебя ростила, холила. Дитя мое! Да что же это ты с собою сотворил такое?!
– Во-первых, – категорически заявил я, – ничто не помешает этому рыжему, если он, действительно встретит свою мать, – заняться какой-нибудь другой, более полезной деятельностью, a во-вторых – ты, кажется, выпил вина больше, чем нужно.
Приятель пожал плечами.
– Во-первых, этот парень уже ничем другим заняться не может, a во-вторых, я выпил вина не больше, a меньше, чем нужно, – в подтверждение чего могу тебе связно и толково рассказать одну действительную историю, которая подтвердит мое «я»! Во-первых.
– Пожалуй, – согласился я, – подавай свою историю.
– Эта история, – сказал он торжественно, – подтверждает, что человек, который привык стоять на голове, не может уже стоять на ногах, и человек, который избрал себе профессию лягушки, не может быть ничем другим, кроме лягушки – ни директором банка, ни мануфактурным приказчиком, ни городским деятелем по выборам… Лягушка – останется лягушкой. Ну, вот:
История итальянского слуги Джустино
Как тебе известно, а может быть, как тебе не известно, я исколесил всю Италию вдоль и поперек. Признаться тебе – я люблю ее, эту грязную, лживую надувательскую Италию. Как-то раз, шатаясь по Флоренции, попал я во Фьезоле – этакое мирное идиллическое местечко, без трамваев, шума и грохота.
Я зашел во дворик маленького ресторанчика, присел к столику и, заказав какую-то курицу, закурил сигару.
Вечер теплый, ароматный, настроение у меня прекрасное… Хозяин терся-терся около меня, очевидно, собираясь что-то спросить и не решаясь – однако, наконец, решился и спросил:
– А что, прошу извинения – не нужен ли синьору слуга?
– Слуга? Какой слуга?
– Обыкновенный, итальянский. Синьор, видно, человек богатый, и ему, вероятно, нужно, чтобы кто-нибудь ему служил. У меня есть для синьора слуга.
– Да на кой дьявол мне слуга? – удивился я.
– Ну, как же. Разве можно жить без слуги? Всякий барин должен иметь слугу.
Признаться, мне это соображение никогда не приходило в голову.
«А ведь в самом деле, – подумал я. – Отчего бы мне и не иметь слуги? В Италии я еще проброжу долго, a человек, которому можно взвалить на шею разные мелкие хлопоты и дрязги – очень бы меня облегчил…»
– Ладно, – говорю. – Покажите вашего слугу.
Привели… Парень здоровый, коренастый, с ласковой улыбкой и предобродушным выражением лица.
Потолковали мы пять минут, и в тот же вечер я увез его во Флоренцию. Со следующего дня и началась моя трагедия.
– Джустино! – сказал я утром. – Почему ты не почистил мне ботинок?
– О, синьор! Я не умею чистить ботинок, – заявил он с искренним огорчением.
– Какой же ты слуга, если не умеешь делать такого пустяка! Сегодня же возьми урок у чистильщика сапог. А сейчас свари мне кофе.
– Синьор! Осмелюсь заявить, что я не знаю, как варить кофе.
– Смеешься ты надо мной, что ли?
– О, нет, синьор… не смеюсь… – печально пробормотал он.
– Ну, a телеграмму сдать на почту ты сумеешь? Запаковать чемодан, пришить к пальто пуговицу, побрить меня, приготовить ванну – сумеешь?
И снова прозвучало грустное:
– Нет, синьор, не сумею.
Я скрестил на груди руки.
– А что же ты умеешь, скажи на милость.
– Будьте ко мне, синьор, снисходительны… Я почти ничего не умею.
Во взоре его светилась тоска и искреннее страдание.
– Почти?! Ты говоришь «почти»… Значить, что-нибудь ты умеешь делать?
– О, синьор! Да умею – но это, к сожалению, вам не нужно.
– Да что же это такое?
– О, не расспрашивайте меня… Мне даже неловко сказать…
– Почему? А вдруг это мне понадобится…
– Нет, нет. Клянусь святым Антонием – вам это никогда не понадобится…
– Черт знает что! – подумал я, опасливо на него поглядев, – может быть, он до этого был разбойником и резал в горах проезжий народ. Тогда, действительно, он прав, – это мне никогда не понадобится…
Однако милое простодушное лицо Джустино самым наглядным образом опровергало это предположение.
Я махнул рукой – сам заварил кофе, сдал на почту корреспонденцию и вечером приготовил себе ванну.
На другой день я поехал во Фьезоле и зашел в тот самый ресторанчик, хозяин которого таким подлым образом подсунул мне «слугу».
Я уселся за стол – и снова появился кланяющийся, извивающийся хозяин.
– Эй, вы, – поманил я его пальцем. – Что это за чертова слугу вы мне подсунули, а?
Он приложил руки к сердцу.
– О, синьор! Он прекрасный человек – добрый, честный и непьющий…
– Да что мне в его честности, когда он палец о палец ударить не может. Именно – не может… Не «не хочет», a «не может». Вы говорили – я господин, и мне нужно слугу; a подсунули мне господина, у которого я играю роль слуги, потому что нет такой вещи, которую бы он мог сделать.
– Простите, синьор… Он может кое-что сделать, и очень хорошо даже… Но это вам совсем не нужно.
– Что же это такое?
– Да уж я не знаю – говорить ли? Не хочется хорошего парня конфузить.
Я ударил кулаком по столу.
– Да что вы все, черт побери, – сговорились, что ли!! Он умалчивает о своей бывшей профессии, вы тоже скрываете… Может быть, он железнодорожный вор или морской пират!!
– Сохрани Боже! Он служил по церковному делу и ничем дурным не занимался.
Криком и угрозами мне удалось вытянуть у хозяина всю историю.
Удивительная история, глупейшая история.
Надо тебе сказать, что вся Италия от больших городов, как Рим, Венеция, Неаполь, – до самых маленьких, – живет исключительно туристами. Туристы – это та «обрабатывающая» промышленность, которой кормится вся Италия. Все направлено к уловлению туриста. Их серенады в Венеции, развалины в Риме, грязь и шум Неаполя – все это во славу форестьера, во имя его кошелька.
Каждый город, каждый квартал в городе имеет свою достопримечательность, которая за две лиры, за лиру, за мецца-лиру – показывается всякому шалому любопытствующему путешественнику.
В Вероне показывают могилу Джульетты, в соборе св. Марка место, где на коленях стоял Фридрих Барбаросса или еще кто-то… История, живопись, скульптура, архитектура – все идет в ход.
Есть в Северной Италии городишка – такой маленький, такой скверный, что его даже и на картах стыдятся указывать. Даже не городишка, a нечто вроде деревни.
И вот деревушка эта стала чахнуть. От чего может чахнуть итальянская деревушка? От бестуристья.
Есть турист – сыты все; нет туриста – ложись и помирай.
И все население деревушки со скорбью и тоской видело, как каждый день мимо них проносились поезда, битком набитые туристским мясом; останавливались на минуту и, не выкинув ни одного англичанина или немца, – мчались дальше.
А на следующей станции половина туристов выползала с поезда и шла осматривать городок, который сумел обзавестись собственной достопримечательностью: церковью, в которой был кто-то убит или замурован, или к стене прикован; показывали и кинжал убийцы, и замурованное место, и цепи – что кому больше нравилось. А может, никого там никогда и не убивали – итальянцы большие мастера соврать, в особенности с корыстной целью.
И вот однажды разнеслась по всей округе чудесная весть: что в той деревушке, о которой я говорил раньше, после перестройки церковного купола появилось эхо, которое повторяет звук не раз и не два раза, как это иногда случается, a восемь раз.
Конечно, праздный, бездельный турист валом повалил на эту диковину…
Действительно, слух оправдался; эхо честно аккуратно повторяло каждое слово восемь раз.
И вот «эхо деревни Феличе» совершенно забило «замурованного принца городка Санта-Клара».
Двенадцать лет это продолжалось: двенадцать лет лиры и мецца-лиры лились в карман граждан деревни Феличе… И вот – на тринадцатый год (несчастливый год!) разразился страшный скандал: компания богатейших американцев с целой гирляндой разодетых дам приехала посмотреть «эхо деревни Феличе». И когда эта пышная компания вошла в скромную церковку – эхо было, очевидно, так поражено блеском и роскошью компании, что в ответ на крик одной дамы «Гудбай!» повторило это слово пятнадцать раз…
Самый главный американец сначала изумился, потом возмутился, потом расхохотался, a затем вся компания, не слушая протестов церковной администрации, бросилась отыскивать эхо… Обнаружили его в замаскированном ширмой уголке на хорах, и когда вытащили «эхо», оно оказалось широкоплечим добродушным парнем – короче говоря, моим слугой Джустино.
Две недели вся Италия, прочтя о случае с «эхо Феличе», держалась за животики; потом, конечно, об этом забыли, как забывается все на свете.
Деревушка Феличе впала в прежнее ничтожество, a Джустино – эхо Феличе – за свою неуместную щедрость лишился места, на которое поступил еще мальчишкой – и, как человек, кроме эха ничего не умевший, – очутился на мостовой.
Всякому человеку хочется есть… Поэтому Джустино стал искать себе место! Он приходил в какую-нибудь деревенскую церковь и предлагал:
– Возьмите меня на службу…
– А ты что можешь делать?
– Я могу быть эхо. Очень хорошая работа… От 8 до 15 раз.
– Эхо? Не требуется. Мы кормимся плитой, на которой раскаялся однажды Борджия; человек на ней пролежал ночь, a нашим предкам, нам и потомкам нашим – на всю жизнь хватит.
Усталый, брел он дальше.
– Эхо хорошее, церковное! Не нужно ли? Отчетливое исполнение, чистая работа.
– Нет, не надо.
– Да почему? Турист эхо любит. Взяли бы меня, а?
– Нет, неудобно… То полтораста лет не было эха в церкви, a то вдруг – на тебе – сразу появилось.
– А вы купол перестройте.
– Будем мы из-за тебя купол перестраивать… Иди себе с Богом.
Он бы умер с голода, если бы я его не взял себе в слуги.
* * *
Я долго молчал, размышляя о судьбе несчастного Джустино; потом спросил:
– Что же с ним сталось?
– Промучился я с ним год. Все не хватало духу выгнать. И когда я, взбешенный его манерой варить кофе, в котором было на треть бензину, кричал: «сегодня же забирай свои вещи и проваливай, бездарный негодяй!» – он прятался в соседнюю комнату и оттуда я слышал очень искусное эхо моих слов: «бездарный негодяй… дарный негодяй… и-й негодяй… негодяй… дяяй… яяя…»
Это все, что умел делать несчастный искалеченный своей ненормальной судьбой парень.
– Где же он теперь?
– Выгнал. Что с ним, не знаю. Впрочем, недавно мне в Пизе говорили, что в одной близлежащей деревушке есть церковь, в которой замечательное эхо – повторяемое восемь раз. Весьма возможно, что мой горемыка-слуга снова попал на свои настоящие рельсы…
Пирамида Хеопса
Начало всей этой истории почему-то твердо врезалось мне в память. Может быть, именно потому я имею возможность, ухватившись за этот хвостик, размотать весь клубок до самого конца.
Приятно, очень приятно следить со стороны за человеком, который в простоте душевной уверен, что все звенья цепи его поступков скрыты от чужого взгляда, и потому он – вышеупомянутый человек – простодушно и бесстыдно распускается пышным махровым цветком.
Автор – большой любитель таких чудесных махровых цветков.
Итак, хватаю эту историю за самый хвост:
Четыре года тому назад мне пришлось прожить целую неделю в квартире Новаковича – того самого, который однажды зимой уверил всех, что может проплыть в воде шесть верст, a потом, когда я, поймав его летом в Севастополе, заставил проделать это, Новакович отказался под тем предлогом, что какой-то купальщик плюнул перед тем в воду.
Несмотря на такие странные черты своего характера, Новакович был, в сущности, хорошим человеком, веселым, жизнерадостным – и я не без удовольствия прожил у него эту неделю.
Как-то после обеда, уходя из дому, мы измыслили забавную мистификацию: напялили на мольберт пиджак и брюки Новаковича, набили это сооружение тряпками, увенчали маской, изображавшей страшную святочную харю, и, крадучись, ушли, оставив дверь полуоткрытой.
По уходе нашем было так:
Первой вошла в комнату сестра Новаковича; увидев страшное существо, стоявшее перед ней на растопыренных ногах, нахально откинувшись назад – она с пронзительным криком отпрянула, шарахнулась вместо двери в шкаф, набила себе на виске шишку и уже после этого кое-как выбралась из комнаты.
Второй сейчас же вбежала горничная с графином воды, который она несла куда-то. От ужаса она уронила графин на пол и подняла крик.
Третьим пришел швейцар, приглашенный перепуганными женщинами. Это был человек, которого природа наделила железными нервами. Подойдя к молчаливому, жутко неподвижному незнакомцу, он сказал: «Ах ты, сволочь паршивая», размахнулся и ударил по страшной харе. После этого полетевший на пол и буквально потерявший голову незнакомец был освежеван, выпотрошен и водворен по частям на старое место: скелет поставили в угол, мясо и кожу повесили в платяной шкаф, ноги задвинули под кровать, a голову просто выбросили…
Четвертым и пятым пришли мы с Новаковичем. В зависимости от темперамента и общественного положения мы были названы: «веселыми баринами», «выдумщиками, вечно придумающими что-нибудь этакое…» и, наконец, «идиотами».
Графин мы компенсировали веселым ужином, в котором участвовали несколько графинов – и тем вся история окончилась. Впрочем, что я такое говорю – окончилась… Она только началась.
* * *
Прошло три недели.
Сидя в уголке гостиной на одном шумном вечере, я услышал и увидел следующее. Новакович подошел к одной группе остривших и рассказывавших анекдоты мужчин – и сказал:
– Ну, что этот ваш анекдот о купце! Старина матушка. Его еще Ной Каину и Авелю в Месопотамии рассказывал. А вот я вам расскажу факт, случившийся со мной…
– Ну, ну?
– Однажды вечером, недели три тому назад, я устроил у себя в комнате чучело человека, из мольберта, ботинок, костюма и святочной маски… Устроил, значит, и ушел… Ну-с – заходит зачем-то моя сестра в эту комнату… Видит эту штуку ну… и вы сами понимаете! Бросается вместо дверей в шкаф – трах головой! Кровь ручьем! Падает в обмороке. На шум вбегает горничная, a у нее в руках, можете представить, дорогой фарфоровый кувшин. Увидела лежащую хозяйку, увидела кровь, увидела этакого неподвижного страшного дядю, бросила дорогой фарфоровый кувшин на пол, – да вон из комнаты. Выбежала на переднюю лестницу, а по лестнице как раз швейцар поднимается с телеграммой в руках. Бросается она на швейцара, сбивает его с ног, и катятся они вниз по лестнице!!. Ну, кое-как с оханьями и проклятиями встают, поднимаются, объясняются, швейцар берет револьвер, идет в комнату, приотворил дверь, кричит: «Сдавайся!» – «Не сдамся!» – «Сдавайся!» – «Не сдамся!..»
– Виноват, – перебил Новаковича один из слушателей, очень изумленный. – Кто же это мог отвечать ему: «Не сдамся!»? Ведь человек-то ваш был сделан из мольберта и тряпок?..
– Ах, да… Вы спрашиваете, кто отвечал: «Не сдамся!»? Гм… да. Это, видите ли, очень просто: это сестра моя отвечала. Она как раз очнулась от обморока, слышит, что кто-то кричит из другой комнаты «Сдавайся!», да и подумала, что это товарищ разбойника. Ну, и ответила: «Не сдамся!» Она у меня храбрая сестренка; вся в меня.
– Да… Бывает. Что же дальше?
– Что? Швейцар из револьвера прямо в грудь нашему чучелу: бах! Тот на пол – бац! Бросились, a там одни тряпки. Сестра со мной потом два месяца не разговаривала.
– Почему два месяца? Вы же говорите, что это произошло всего три недели тому назад.
– Ну, да! Что ж такое… Уже три недели не разговаривает, да я думаю, еще недель пять не будет разговаривать – вот вам и два месяца.
– Ах, так… Да… Бывает. Странная, странная история.
– Я же вам говорю! А вы им там какой-то анекдот о купце рассказываете!..
* * *
Прошел год…
Однажды большая компания собралась ехать на Иматру.
Были и мы с Новаковичем.
Когда ехали в вагоне, то расселись так, что я сидел через две скамейки от Новаковича.
Видеть я его не видел, но голос слышал.
Новакович говорил:
– Я нахожу вашу историю с привидением конокрада банальной. Вот со мной однажды случилась история так история!
– Именно?
– Взял я однажды как-то, в прошлом году, да и соорудил у себя в комнате чучело разбойника – из мольберта, пиджака, брюк и ботинок. Привязал к руке нож… большой такой острый… и сам ушел. Заходит зачем-то в комнату сестра – видит эту ужасную фигуру… Бросается вместо дверей в бельевой шкаф – трах! Дверка вдребезги, сестра вдребезги… Бросается она к окну… Трах! Распахнула она его, да с подоконника – прыг! А окно-то в четвертом этаже… После этого вбегает горничная, a в руках у нее на подносе дорогой фарфоровый сервиз еще екатерининских времен… От деда остался. Ему теперь и цены нет. Сервиз, конечно, вдребезги, горничная тоже… вылетает на лестницу, падает на швейцара, который с околоточным и двумя городовыми поднимался по лестнице кому-то повестку вручать и вся эта компания, можете себе вообразить, летит, как этакий бульденеж – с лестницы вниз. Крик, визг, стоны. Потом поднялись, расспросили горничную, подошли все к таинственной комнате… Конечно, шашки наголо, револьвер наголо… Пристав кричит…
– Вы говорили «околоточный», – кротко поправил Новаковича один из слушателей.
– Ну, да, не пристав, a помощник пристава. Это все равно, что околоточный… Он после в Батуме был приставом… Ну-с, кричит, значит, пристав в дверь: «Сдавайся!» – «Не сдамся!» – «Сдавайся!» – «Не сдамся!»
– Кто же это отвечал приставу: «Не сдамся!»? Ведь в комнате было только чучело…
– Как только чучело? А сестра?
– Да сестра ведь, вы говорите, выскочила из окна четвертого этажа.
– Ну, да… Так вы же слушайте! Выскочить-то она выскочила, да зацепилась платьем за водосточную трубу. Висит у самого окна, вдруг слышит: «Сдавайся!» Думает, разбойник кричит, ну, конечно, девушка храбрая, с самолюбием: «Не сдамся!» Хе-хе… «Ах, – говорит пристав, – так ты так, мерзавец?! Не сдаваться? Пали в него, ребята!» Ребята, конечно: бах! бах! Чучело-то мое упало, но за чучелом стоял старинный столик красного дерева, как говорят, из загородного шале Марии Антуанетты… Столик, конечно, вдребезги. Зеркало старинное вдребезги!.. Входят потом… Ну, конечно, сами понимаете… Ужас, разгром… Спросите сестру, она вам расскажет; когда бросились к чучелу, так глазам не хотели верить – так было все хорошо прилажено. Сестра потом от нервной горячки померла, пристава в Батум перевели…
– Как же вы говорите, чтобы мы сестру спросили, a потом сообщаете, что она умерла?
– Ну, да. Что ж такое? Она и умерла. А зато другая сестра есть, которая при этом была и все видела…
– Где же она теперь?
– Она? В Восьмипалатинске. За члена Судебной Палаты замуж вышла.
С минуту помолчали. Да-с. История с географией!
* * *
…Недавно, войдя в гостиную Чмутовых, я увидел возбужденного Новаковича, окруженного целым цветником дам.
– …Полицеймейстер во главе наряда полиции подходит к дверям, кричит: «Сдашься ты или нет?» – «Не сдамся!» – «Сдашься?» – «Не сдамся!» – «Пли, ребята!» Пятьдесят пуль! как одна – вдребезги! «Сдаешься?» – «Не сдамся!» – «Пли! Зови пожарную дружину!! Разбивай крышу! Мы его сверху возьмем! Выкуривай его дымом – взять его живым или мертвым!!» В это время возвращаюсь я… Что такое? Во дворе пожарная команда, дым, выстрелы, крики… «Виноват, г-н полицеймейстер, – говорю я, – что это за история такая?» – «Опасный, говорить, бандит засел в вашей комнате… Отказывается сдаться!» Я смеюсь: «А вот, говорю, мы его сейчас…» Иду в комнату и выношу чучело под мышкой… С полицеймейстером чуть удар не сделался: «Это что за мистификации? – кричит. – Да я вас за это в тюрьме сгною, шкуру спущу!!» – «Что-о? – отвечаю я. – Попробуй, старая калоша!» – «Ш-штоссс?!» Выхватывает шашку – ко мне! Ну, я не стерпел; развернулся… Потом четыре года крепости пришлось…
– Почему же четыре! Ведь это было года три назад?..
– А? Ну, да. Что ж такое… Три года и было. Под манифест попал.
– Ну, да… разве что так.
– Именно, так-с!!
А когда мы с ним вышли из этого дома и, взявшись дружески под руку, зашагали по тихим, залитым луною улицам, он, интимно пожав мой локоть, сказал:
– Сегодня, когда ты вошел, я им одну историю рассказывал. Ты начала не слышал. Изумительнейшая, прелюбопытнейшая история… Однажды устроил я в своей комнате из мольберта и разных тряпок подобие человека, a сам ушел. Зашла зачем-то сестра, увидела…
Я не мог дальше сдерживаться.
– Послушай, – сказал я. – Как тебе не стыдно рассказывать мне ту самую историю, которую мы же с тобой и устроили… Неужели ты не помнишь? И драгоценных сервизов не было, полицеймейстера не было, пожарных не было… А просто горничная разбила графин для воды, потом позвала швейцара, и он сразу разобрал на кусочки все наше произведение…
– Постой, постой, – приостановился Новакович. – Ты о чем это говоришь? О той истории, которую мы с тобой подстроили? Ну, да-а!.. Так это совсем другое! То действительно так было, как ты говоришь, a это было в другое время. А ты, чудак, думал, что это то же самое? Ха-ха! Нет, это было даже на другой улице… То было на Широкой, a это на Московской… И сестра была тоже другая… младшая… А ты думал?.. Ха-ха! Вот чудак!
Когда я взглянул на его открытое, сиявшее искренностью и правдивостью лицо – я подумал: я ему не верю, вы ему не поверите… Никто ему не поверит. Но он – сам себе верит.
* * *
И строится, строится пирамида Хеопса до сих пор…
Американец
В этом месте река делала излучину, так что получалось нечто вроде полуострова. Выйдя из лесной чащи и увидев вдали блестевшие на солнце куски реки, разорванной силуэтами древесных стволов, Стрекачев перебросил ружье на другое плечо и отер платком пот со лба.
Тут-то он и наткнулся на корявого мужичонку, который, сидя на пне сваленного дерева, весь ушел в чтение какого-то обрывка газеты.
Мужичонка, заслышав шаги, отложил в сторону газету, вздел на лоб громадные очки и, стащив с головы неопределенной формы и вида шляпчонку, поклонился Стрекачеву.
– Драсти.
– Здравствуй, братец. Заблудился я, кажется.
– А вы откуда будете?
– На даче я. В Овсянкине. Оттуда.
– Верстов восемь будет отселева…
Он пытливо взглянул на усталого охотника и спросил:
– Ничего вам не потребуется?
– А что?
– Да, может, что угодно вашей милости, так есть.
– Да ты кто такой?
– Арендатель, – солидно отвечал мужичонка, переступив с ноги на ногу.
– Эту землю арендуешь?
– Так точно.
– Что ж, хлеб тут сеешь, что ли?
– Где уж тут хлеб, ваша милость! И в заводе хлебов не было. Всякой дрянью поросло, – ни тебе дерева настоящие, ни тебе луга настоящие. Бурелом все, валежник, сухостой.
– Да что ж ты тут… грибы собираешь, ягоды?
– Нету тут настоящего гриба. И ягоды тоже, к слову сказать, чорт-ма.
– Вот чудак, – удивился Стрекачев. – Зачем же ты тогда эту землю арендуешь?
– А это, как сказать, ваше благородие, всяка земля человеку на потребу дана и ежели произрастание не происходить, то, как говорится, человек не мытьем, так катаньем должон хлеб свой соблюдать.
Эту невразумительную фразу мужичонка произнес очень внушительно и даже разгладил корявой рукой крайне скудную бороду, напоминавшую своим видом унылое «арендованное» место; ни тебе полосу, ни тебе гладкого места, – один бурелом да сухостой.
– Так с чего ж ты живешь?
– Дачниками кормлюсь.
– Работаешь на них, что ли?
Хитрый смеющийся взгляд мужичонки обшарил лицо охотника, и ухмыльнулся мужичонка лукаво, но добродушно.
– Зачем мне на них работать! Они на меня работают.
– Врешь ты все, дядя, – недовольно пробормотал охотник Стрекачев, вскидывая на плечо ружье и собираясь уходить.
– Нам врать нельзя, – возразил мужичонка. – Зачем врать! За это тоже не похвалят. Баб обожаете?
– Что?
– Некоторые из нашего полу до удивления баб любят.
– Ну?
– Так вот я, можно сказать, по этой бабьей части.
– Кого?!!
– А это мы вам сейчас скажем – кого…
Мужичонка вынул из-за пазухи серебряные часы, открыл их и, приблизив к глазам, погрузился в задумчивость… Долго что-то соображал.
– Шестаковская барыня, должно, больны нынче, потому уже пять ден, как не показываются, значить, что же сейчас выходит? Так что, я думаю, время сейчас Маслобоевым-дачницам и Огрызкиным; у Маслобоевых-то вам кроме губернанки профиту никакого, потому сама худа, как палка, a дочки опять же такая мелкота, что и внимания не стоющия. А вот Огрызкиной госпожой довольны останетесь. Дама в самой красоте и костюмчик я им через горничную Агашу подсунул такой, что отдай все да и мало. Раньше-то у нея что-то такое надевывалось, что и не разберешь: не то армячок со сборочкой, не то как в пальте оно выходило. А ежели без обтяжки – мои господа очень даже как обижаются. Не антиресно, вишь. А мне что?… Да моя бы воля, так я безо всего, как говорится. Убудет их, что ли? Верно я говорю?
– Чёрт тебя разберет, что ты говоришь, – рассердился охотник.
– Действительно, – согласился мужичонка. – Вам не понятно, как вы с дальних дач, a наши Окромчеделовские меня ни в жисть не забывают. «Еремей, нет ли чего новенького? Еремей, не освежился ли лепретуарчик? Да я на эту, может, хочу глянуть, a на ту не хочу, да куда делась та, да что делает эта?» Одним словом, первый у них я человек.
– У кого?
– А у дачников.
– Вот у тех, что за рекой?
– Зачем у тех? Те ежели бы узнали – такую бы мятку мне задали, что до зеленых веников не забудешь. А я опять же говорю об Окромчеделовских. Тут за этим бугром их штук сто, дач-то. Вот и кормлюсь от них.
– Да чем же ты кормишься, шут гороховый?!
Мужичонка почесал затылок.
– Экой ты непонятный! Как да что… Посадишь барина в яму – ну, значит и живи в свое удовольствие. Смотря, конешно, за что и платят. За Огрызкинскую барыню я, брат, меньше целкового никак не возьму; Шестеренкины девицы тоже – на всякий скус потрафют, – рупь с четвертаком грех взять за этакую видимость али нет? Дрягина госпожа, Семененко, Косогорова, Лякина… Мало ли.
– Ты что же, значит, – сообразил Стрекачев, – купальщиц на своей земле показываешь?
– Во-во. Их, значит, тот берег, a мой, значит, этот. Им убытку никакого, a мне хлеб.
– Вот, каналья, – рассмеялся Стрекачев. – Как же ты дошел до этого?
– Да ведь это, господин, кому какие мозги от Бога дадены… Иду я о прошлом годе к реке рыбку поудить – гляжу, что за оказия! Под одним кустом дачник белеется, под другим кустом дачник белеется. И у всякого бинокль из глаз торчит. Сдурели они, думаю, что ли. Тогда-то я еще о биноклях и не слыхивал. Ну, подхожу, значит, к реке поближе… Эге-ге, вижу. Тут тебе и блюнетки, и брондинки, и толстые, и тонкие, и старые, и малые. Вот оно что! Ну, как, значит, я во всю фигуру на берегу объявился – они и подняли визг: «Убирайся, такой-сякой, вон, как смеешь!..» И-и расстрекотались! С той поры я, значить, умом и вошел в соображение.
– Значит, ты специально для этого и землю заарендовал?
– Спецыяльно. Шестьдесят рублей в лето отвалил. Ловко? Да биноклей четыре штуки выправил, да кустов насажал, да ям нарыл – прямо удобство во какое. Сидишь эт-то в прохладе, в яме на скамеечке, слева пива бутылка (от себя держу: не желаете ли? Четвертак всего разговору), слева, значить, пива бутылка, справа папиросы… – живи не хочу!
Охотник Стрекачев постучал ружьем о свесившуюся ветку дерева и как-будто вскользь спросил:
– А хорошо видно?
– Да уж ежели с биноклем, прямо вот – рукой достанешь! И кто только это бинокли выдумал, – памятник бы ему!.. Может, полюбопытствуете?
– Ну, ты скажешь тоже, – ухмыльнулся конфузливо охотник. – А вдруг увидят оттуда?
– Никак это невозможно! Потому так уж у меня пристроено. Будто куст; a за кустом яма, a в яме скамеечка. Чего ж, господин… попробуйте. Всего разговору (он приложил руку щитком и воззрился острым взглядом на противоположный берег, где желтела купальня)… всего и разговору на рупь шестьдесять!
– Это еще что за расчет?!
– Расчеты простые, ваше благородие: Огрызкинская госпожа теперь купается – дама замечательная, сами извольте взглянуть – рупь, потом Дрягина с дочкой на пятиалтынный разговору, ну и за губернанку Лавровскую дешевле двух двугривенных положить никак не возможно. Хучь оне и губернанки, a благородным ни в чем не уступят. Костюмишко такой, что все равно его бы и не было…
– А ну-ка… ты… тово…
– Вот сюда, ваше благородие, пожалуйте, здесь две ступенечки вниз… Головку тут наклоните, чтоб оттелева не приметили. Вот-с так. А теперь можете располагаться… Пивка не прикажете ли холодненького? Сей минутой бинокль протру, запотел что-то… Извольте взглянуть.
Смеркалось…
Усталый, проголодавшийся, выполз Стрекачев из своего убежища и, отыскав ружье, спросил корявого мужичонку, сладко дремавшего на поваленном дереве:
– Сколько с меня?
– Шесть рублей двадцать, ваше благородие, да за пиво полтинничек.
– Шесть рублей двадцать?! Это за что же такое столько? Наверно, жульничаешь.
– Помилуйте-с… Огрызкинскую госпожу положим рупь, да губернанка в полтиннике у нас завсегда идет, да Дрягины – я уж мелюзги и не считаю, – да Синяковы трое с бабушкой, да…
– Ну, ладно, ладно… Пошел высчитывать всякую чепуху!.. Получай!
– Счастливо оставаться! Благодарим покорниче!..
И подмигнув очень интимно, корявый мужичонка шепнул:
– А в третьем и пятом номере у меня с обеда наши Окромчеделовские сидят. Уж и темно совсем, a их никак не выкуришь. Веселые люди, дай им Бог здоровья. Счастливо оставаться!
Резная работа
Недавно один петроградский профессор – забыл после операции в прямой кишке больного В. трубку (дренаж) в пол-аршина длиной. В операционной кипит работа.
– Зашивайте, – командует профессор. – А где ланцет? Только сейчас тут был.
– Не знаю. Нет ли под столом?
– Нет. Послушайте, не остался ли он там?..
– Где?
– Да там же. Где всегда.
– Ну где же?!!
– Да в полости желудка.
– Здравствуйте! Больного уже зашили, так он тогда только вспомнил. О чем вы раньше думали?!
– Придется расшить.
– Только нам и дела, что зашивать да расшивать. Впереди еще шесть операций. Несите его.
– А ланцет-то?
– Бог с ним, новый купим. Он недорогой.
– Я не к тому. Я к тому, что в желудке остался.
– Рассосется. Следующего! Первый раз оперируетесь, больная?
– Нет, господин профессор, я раньше у Дубинина оперировалась.
– Ага!.. Ложитесь. Накладывайте ей маску. Считайте! Ну? Держите тут, растягивайте. Что за странность! Прощупайте-ка, коллега… Странное затвердение. А ну-ка… Ну вот! Так я и думал… Пенсне! Оригинал этот Дубинин. Отошлите ему, скажите – нашлось.
– А жаль, что не ланцет. Мы бы им вместо пропавшего воспользовались… Зашивайте!
– А где марля? Я катушки что-то не вижу. Куда она закатилась?
– Куда, куда! Старая история. И что это у вас за мания – оставлять у больных внутри всякую дрянь.
– Хорошая дрянь! Марля, батенька, денег стоит.
– Расшивать?
– Ну, из-за катушки… стоит ли?
– А к тому, что марля… в животе…
– Рассосется. Я один раз губку в желудок зашил, и то ничего.
– Рассосалась?
– Нет, но оперированный горчайшим пьяницей сделался.
– Да что вы!
– Натурально! Выпивал он потом, представьте, целую бутылку водки – и ничего. Все губка впитывала. Но как только живот поясом потуже стянет – так сразу как сапожник пьян.
– Чудеса!
– Чудесного ничего. Научный факт. В гостях, где выпивка была бесплатная, он выпивал невероятное количество водки и вина и уходил домой совершенно трезвый. Потом, дома уже, потрет руки, скажет: «Ну-ка, рюмочку выпить, что ли!» И даванет себя кулаком в живот. Рюмку из губки выдавит, закусит огурцом, походит – опять: «Ну-ка, говорит, давнем еще рюмочку!..» Через час – лыка не вяжет. Так пил по мере надобности… Совсем как верблюд в пустыне.
– Любопытная исто… Что вы делаете? Что вы только делаете, поглядите!!!.. Ведь ему гланды нужно вырезать, а вы живот разрезали!!
– Гм… да… Заговорился. Ну все равно, раз разрезал – поглядим: нет ли там чего?..
– Нет?
– Ничего нет. Странно.
– Рассосалось.
– Зашивайте. Ффу! Устал. Закурить, что ли… Где мой портсигар?
– Да тут он был; недавно только держали. Куда он закатился?
– Неужто портсигар зашили?
– Оказия. Что же теперь делать?
– Что, что! Курить смерть как хочется. И потом, вещь серебряная. Расшивайте скорей, пока не рассосался!
– Есть?
– Нет. Пусто, как в кармане банкрота.
– Значит, у кого-нибудь другого зашили. Все оперированные здесь?
– Неужели всех и распарывать?
– Много ли их там – шесть человек! Порите.
– Всех перепороли?
– Всех.
– Странно. А вот тот молодой человек, что в двери выглядывает? Этого, кажется, пропустили. Эй, вы – как вас? – ложитесь!
– Да я…
– Нечего там – не «да я»… Ложитесь. Маску ему. Считайте.
– Да я…
– Нажимайте маску крепче. Так. Где нож? Спасибо.
– Ну? Есть?
– Нет. Ума не приложу, куда портсигар закатился. Ну, очнулись, молодой человек?
– Да я…
– Что «вы», что «вы»?! Говорите скорей, некогда…
– Да я не за операцией пришел, а от вашей супруги… Со счетом из башмачного магазина.
– Что же вы лезете сюда? Только время отнимаете! Где же счет? Ложитесь, мы его сейчас извлечем.
– Что вы! Он у меня в кармане…
– Разрезывайте карман! Накладывайте на брюки маску…
– Господин профессор, опомнитесь!.. У меня счет и так вынимается из кармана. Вот, извольте.
– Ага! Извлекли? Зашивайте ему карман.
– Да я…
– Следующий! – бодро кричит профессор. – Очистите стол. Это что тут такое валяется?
– Где?
– Да вот тут, на столе.
– Гм! Чей-то сальник. Откуда он?
– Не знаю.
– Сергей Викторович, не ваш?
– Да почему же мой?! – огрызается ассистент. – Не меня же вы оперировали. Наверное, того больного, у которого камни извлекали.
– Ах ты ж, Господи, – вот наказание! Верните его, скажите, пусть захватит.
– Молодой человек! Сальничек обронили…
– Это разве мой?
– Больше ничей, как ваш.
– Так что же я с ним буду делать? Не в руках же его носить… Вы вставьте его обратно!
– Эх, вот возня с этим народом! Ну, ложитесь. Вы уже поролись?
– Нет, я только зашивался.
– Я у вас не забыл своего портсигара?
– Ей-богу, в глаза не видал… Зачем мне…
– Ну, что-то у вас глаза подозрительно бегают. Ложитесь! Маску! Считайте! Нажимайте! Растягивайте!
– Есть?
– Что-то такое нащупывается… Какое-то инородное тело. Дайте нож!
– Ну?
– Постойте… Что это? Нет, это не портсигар.
– Бумажка какая-то… Странно… Э, черт! Видите?
– Ломбардная квитанция!
– Ну конечно: «Подержанный серебряный портсигар с золотыми инициалами М.К.» Мой! Вот он куда закатился! Вот тебе и закатился…
– Хе-хе, вот тебе и рассосался.
– Оборотистый молодой человек!
– Одессит, не иначе.
– Вставьте ему его паршивый сальник и гоните вон. Больных больше нет?
– Нет.
– Сюртук мне! Ж-живо! Подайте сюртук.
– Ваш подать?
– А то чей же?
– Тут нет никакого сюртука.
– Чепуха! Тут же был.
– Нет!.. Неужели?..
– Черт возьми, какой неудачный день! Опять сызнова всех больных пороть придется. Скорее, пока не рассосался! Где фельдшерица?
– Нет ее…
– Только что была тут!
– Не зашили ли давеча ее в одессита?!
– Неужели рассосалась?..
– Ну и денёк!..
Драма в семье Бырдиных
В богатых апартаментах графа Бырдина раздался болезненный стон.
С расширенными от ужаса глазами, схватившись за голову, застыл граф, и его взгляд – взгляд помешанного – блуждал по странице развернутого иллюстрированного журнала.
– Да, это так, – глухо произнес он. – Сомнений быть не может!
Испустив проклятие, граф схватил журнал и помчался с ним в будуар графини.
* * *
Графиня Бырдина – красавица роскошного телосложения – лежала на изящной козетке и читала роман в желтой обертке, из французского быта.
Её высокая пышная грудь, как волна в прилив, вздымалась легким дыханием, белые полные руки соперничали нежностью с легкой воздушной материей пеньюара, a волнистая линия бедер свела бы с ума самого записного анахорета.
Вот какова была графиня Бырдина!
* * *
Как вихрь ворвался несчастный граф в будуар жены.
– Полюбуйтесь! – со стоном произнес граф (они не забывались, даже когда были с глазу на глаз, и называли друг друга всегда на «вы»). – Полюбуйтесь. Читали?!
– Что такое? – привстала встревоженная графиня. – Какое-нибудь несчастье?
– Да уж… счастьем назвать это трудно! – горько произнес граф.
Графиня судорожно схватила журнал и на великолепном французском языке прочла указанное мужем место:
– «В предстоящем зимнем сезоне модными сделаются опять худые женщины. Полные фигуры, так нашумевшие в прошлом сезоне, по всем признакам, несомненно, должны выйти из моды».
Тихо сидела графиня, склонив голову под этим неожиданным грубым ударом.
Ее потупленный взор остановился на туфельках полной прекрасной ножки ее, нескромно обнаженной пеньюаром больше, чем нужно…
С туфелек взор перешел на колени, на прекрасный достойный резца Праксителя стан, и замер этот взор на высокой волнующейся груди.
И болезненный стон вырвался у графини. Как подкошенная, склонилась она к ногам графа, обнимая его колени. Момент был такой ужасный, что оба, сами того не замечая, перешли на «ты».
– Простишь ли ты меня, любимый?! Пойми же, что я не виновата!! О, не покидай меня!
Мрачно сдвинув брови, глядел граф неотступно куда-то в угол.
– О, не гляди так! – простонала графиня… – Ну, хочешь, уйдем от света! Я последую за тобой, куда угодно.
– Ха-ха-ха! – болезненно рассмеялся граф. – «Куда угодно»… Но ведь и мода эта проникнет куда угодно. Нигде не найдем мы места, где на нас бы смотрели без насмешки и язвительности. Всеми презираемые, будем мы влачить бремя нашей жизни. О, Боже! Как тяжело!!
– Послушай… – робко прошептала графиня. – А, может быть, все обойдется…
– Обойдется? – сардонически усмехнулся граф. – Скажи: считался ли до сих пор наш дом самым светским, самым модным в столице?
– О, да! – вырвалось у графини.
– Чем же теперь будут считать наш дом, если я покажу им хозяйку, в самом начале сезона уже вышедшую из моды, как шляпка на голове свояченицы устьсысольского околоточного?! Что вы на это скажете, графиня?
– О, не презирай меня, – зарыдала графиня. – Я постараюсь, я… я сделаю все, чтобы похудеть…
Граф молча встал, холодно поцеловал жену в лоб и вышел из будуара.
* * *
Заведующая «институтом красоты» встретила графа Бырдина очень радостно, но сейчас же осеклась, увидев его мрачное расстроенное лицо.
– Граф! – вскричала она. – Ваша супруга…
– Увы! – глухо произнес граф.
Он вынул журнал, показал его притихшей хозяйке и потом, сложив умоляюще руки, простонал:
– Вы! На вас вся надежда! Помогите…
После долгого раздумья и перелистывания десятка специальных книг заведующая «институтом» вздохнула и решительно произнесла:
– Выход один: вашей жене нужно похудеть.
– Но как? Как?
– Одного режима и диеты мало. Вам нужно еще почаще ее огорчать…
– Хорошо, – произнес граф, и мучительная, страдальческая складка залегла на челе его. – Будет исполнено. Я люблю ее, но… будет исполнено!
* * *
В тот же день граф, зайдя к жене, уселся на краю козетки и безо всяких предисловий начал:
– Подвинься, чего тут разлеглась!
– Граф! – кротко сказала жена. – Опомнитесь!..
– Я уже сорок лет как граф, – сурово прорычал граф. – Но до сих пор не понимаю: как это люди могут целыми днями валяться на козетках, ровно ни черта не делая, кроме чтения глупейших романов.
Графиня тихо заплакала.
– Да право! Работать нужно, матушка, хлеб зарабатывать, a не висеть на шее у мужа.
– Граф! Что вы говорите! Ведь у нас около трехсот тысяч годового дохода… зачем же мне работать?
– Зачем? А затем, что ты дура, вот и все.
– Граф!?!!..
– Вот ты мне еще похнычешь!.. Дам по башке, так перестанешь хныкать.
Граф встал, холодно сложил на груди руки и сказал:
– Да, кстати! Я завел вчера любовницу, так ты тово… не очень-то много о себе воображай. Красивая канашка. Хо-хо-хо!
– Граф!!
– Заладила сорока Якова: граф да граф! Думаю начать пить, a вечером поеду в клуб. Начну от нечего делать нечисто играть. Выиграю деньги и обеспечу своих незаконных ребят. Восемь-то ртов – все есть хотят! Не хнычь, тебе говорят! Давно я тебя за косы не таскал, подлюку?!
Пробормотав гнусное проклятие, граф выбежал из будуара. И тут на лице его написалось страшное страдание.
– О, моя бедная! О, моя любимая, – шептали его побледневшие уста. – Для нашего общего блага делаю я это.
Он прошел к себе в кабинет, позвал всю мужскую и женскую прислугу и дал всем точные инструкции, как им относиться к графине и как с ней разговаривать.
* * *
Точно тень, бродила бледная похудевшая графиня по своим обширным апартаментам. Робко поглядывала она на двери кабинета мужа, но войти боялась…
Встретила слугу Григория, стиравшего пыль с золоченых кресел.
– Григорий, барин у себя?
– А черт его знает, – отвечал Григорий, сплевывая на ковер. – Что я сторож ему, что ли?
– Григорий! Вы пьяны?
– Не на твои деньги напился! Тоже фря выискалась. Видали мы таких! Почище даже видали.
– Ульян! Степан! Дорофей! возьмите Григория – он пьян.
– Сдурели вы, что ли, матушка, – наставительно сказал старый, с седыми бакенами дворецкий Ульян, входя в гостиную. – Кричит тут, сама не знает чего. Нечего тут болтаться, вишь, человек работает! Ступай себе в будувар, пока не попало.
Вне себя от гнева, сверкая глазами, влетела графиня в кабинет графа, писавшего какие-то письма.
– Это еще что такое?! – взревел граф, бросая в жену тяжелым пресс-папье. – Вон отсюда!! Всякие тут еще будут ходить. Пошла, пошла, ведьма киевская!
И когда жена, рыдая, убежала, граф с мучительным вздохом снова обратился к письмам…
Он писал:
«Уважаемая баронесса! К сожалению, должен сказать вам, что двери нашего дома для вас закрыты. После всего происшедшего (не буду о сем распространяться) ваше появление на наших вечерах было бы оскорблением нашего дома. Граф Бырдин».
«Княгиня! Надеюсь, вы сами поймете, что вам бывать у нас неудобно. Почему? Не буду объяснять, чтобы еще больше не обидеть вас. Так-то-с! Граф Бырдин».
– Хорошие они обе, – печально прошептал граф. – Обе хорошие – и баронесса, и княгиня. – Но что же делать, если в них пудов по пяти слишком.
А графиня таяла, как свеча. Даже сам граф Бырдин стал поглядывать на нее одобрительно и однажды даже похлопал по костлявому плечу. – Скелетик мой, – нежно прошептал он.
* * *
Жуткий нечеловеческий стон раздался в роскошных апартаментах графа.
Остановившимися от ужаса глазами глядел граф на страшные, роковые строки свежего номера иллюстрированного журнала…
Строки гласили:
«Как быстро меняется в наше время всесильная царица-мода! Только три месяца тому назад мы сообщали, что устанавливается прочная мода на худых женщин – и что же! Только три месяца продержалась эта мода и канула в вечность, уступив дорогу победоносному шествию женщин рубенсовского типа, с широкими мощными бедрами, круглыми плечами и полными круглыми руками. Avе, modеs еt robеs для полных женщин!!»
– Все погибло! – простонал граф. – Я отказал от дому рубенсовской баронессе и тициановской княгине, a они были бы украшением моего дома. Я извел жену, свел на нет её прекрасное пышное тело… Увы мне! Поправить все? Но как? До сезона осталось 2 недели… Что скажут?!
Мужественной рукой вынул он из роскошного футляра остро-отточенную бритву…
* * *
Чье это хрипение там слышится? Чья алая кровь каплет на дорогой персидский ковер? Чьи ослабевшие руки судорожно хватаются за ножку кресла?
Графское это хрипение, графская кровь, графские руки… И недаром поэт писал: «Погиб поэт, невольник чести»… Спи спокойно!
* * *
На похоронах платье графини Бырдиной было отделано черным валаньсеном, a сама она была отделана на обе корки светскими знакомыми за то, что погубила мужа, и за то, что не модная.
* * *
Кладбище мирно дремлет… Тихо качают ивы над могилой своими печальными верхушками: – дурак ты, мол, дурак!..
Отчаянный человек
I
…Поезд тронулся.
Мы поместились трое в ряд на мягком вагонном диване: я у окна, мой приятель Незапяткин посредине, а по правую его руку – какой-то неизвестный нам человек, с быстрыми черными глазами, потонувшими в темно-синих впадинах.
Одет он был в черный сюртук, a на шее было намотано такой неимоверной длины кашне, что шея, голова и плечи напоминали гигантскую катушку ниток.
Едва поезд тронулся, как я вынул из кармана журнал и, примостившись поближе к окну, погрузился в чтение.
– Как мы мало заботимся о своем здоровье, – заметил вдруг незнакомец, обернувшись ко мне с самым приветливым видом.
– А что?
– Да вот, например, вы читаете… Знаете ли вы, что чтение в вагоне поезда, находящегося в движении, – гибель для глаз.
– Ну, уж и гибель!
– Вот, вот! Все вы, господа, так рассуждаете… Мне говорил один немецкий ученый профессор, что чтение в вагоне – это яд для человеческого глаза. Лучше, говорил он, сразу взять и выжечь свои глаза кислотой, чем губить их в несколько приемов. Ужас!
– Да в чем же тут вред?
– А как же. Как вам известно, хрусталик глаза состоит из светлой бесцветной жидкости, находящейся в особом резервуаре. И вот если вы напрягаете хрусталик, то находящаяся в нем жидкость в связи с колебательными движениями вагона начинает постепенно высыхать… А в связи с этим высыханием начинает съеживаться и коробиться резервуар; яблоко глаза делается не круглым, упругим и плотным, как теперь, a вялым и мягким, будто бурдюк, из которого вылили вино. И вот однажды утром вы просыпаетесь и – простите за дешевый каламбур – вдруг видите, что ничего не видите. Вот вы сейчас, например, ощущаете некоторую сухость в глазу?
– Да… Как будто… Немножко.
– Ну, вот!.. Начинается… Извольте видеть.
Он замолчал. Я быстро перелистал журнал, сразу увидел, что чтение там было неинтересное, и поэтому, свернув его в трубку, положил на верхнюю полочку.
– Разрешите мне посмотреть ваш журнал, – попросил незнакомец.
– Пожалуйста! Только почему вы-то будете портить себе глаза?
– Ах, я в этом отношении совершеннейший безумец. Так расстраивать себе здоровье, как я, может только самоубийца. Однажды мне дали кокаин, и что же! Я стал его глотать чуть не чайными ложками. В Самаре я купался прошлым летом в проруби, a в Петрограде мне случалось пользоваться папиросами, вынутыми из кармана умершего чумного.
Незапяткин всплеснул руками.
– Господи, какой ужас! Кровь холодеет.
– Еще бы. Конечно, есть опасности явные и есть тайные. Вот, например, вы сидите у окна. Знаете ли вы, что сквозь невидимые простым глазом щели в раме все время тянет тоненький, как комариное жало, сквозняк, который, как стальная иголочка, впивается в легкие. Легочные пузырьки, охлаждаясь, лопаются, появляются сгустки, кровохарканье и…
– Что ж делать, – с бледной неискусно сделанной улыбкой возразил я. – Кому-нибудь, все равно, приходится сидеть у окна.
– Да давайте я сяду, – простым тоном, каким вообще говорятся геройские вещи, – сказал незнакомец.
– Однако, ваши легкие…
– Э! Мне ли жалеть их… Однажды в Константинополе я два дня пробродил во время жестоких морозов в одном пиджачке. В Астрахани познакомился с одним заклинателем змей… Ну да чего там говорить! Идите на мое место.
Мы пересели.
– Ну, знаете, – покачивая головой в такт движению вагона и обращаясь к незнакомцу, заметил Незапяткин. – Он мой приятель, я знаю его с детства, люблю его, но и я бы не стал так рисковать своей шкурой за другого.
– Э! Стоит ли говорить об этом, – махнул рукой незнакомец.
Подсел поближе к окну, развернул мой журнал и погрузился в чтение.
II
Езда в вагоне без чтения – очень скучная штука. Незнакомец читал, a мы с Незапяткиным клевали носом, изредка перебрасываясь ленивыми отрывочными фразами.
– Когда будем в Тифлисе?
– Э! Еще не скоро.
– Время-то как тянется.
– Да уж.
– Душно в вагоне.
– Да.
– Всюду зима, a тут весна.
– Это верно.
– Смотри, какие деревья.
– Да. Большие.
Дочитав журнал, незнакомец вернул его мне, зевнул и сладко потянулся.
– Эх, поспать бы теперь!..
Он посмотрел на Незапяткина и сказал:
– Это самая подлая дорога в России.
– Почему?
– Почти каждый день столкновения поездов.
– Что вы говорите! Почему же в газетах не пишут?
– Скрывают. Вы сами понимаете… Гм! Да. Сколько жертв!
– Жуткая вещь! – заметил Незапяткин, с тревогой поглядывая на меня.
– А еще бы!
– Самое скверное то, – сказал незнакомец, – что вагоны понастроены этакими закоулочками. Вот так, как мы сидим, – случись столкновение – пиши пропало!
– Почему?
– А как же! Смотрите: наши коленки почти упираются в стенку вагона. Представьте себе, на нас налетел поезд! Сейчас же стена соседнего вагона хлопает по нашей стене, a наша стена по нашим собственным коленям. Давление в несколько сот атмосфер.
– А что же… случится? – тихо спросил Незапяткин, поглядывая на стенку вагона широко открытыми глазами.
– Как что? Ноги ваши от удара моментально вонзаются в ваш живот, выдавливают оттуда печень, кишки, и вы складываетесь, как подзорная труба. Да-с, знаете… Неприятно почувствовать собственную берцовую кость в том месте, где определено природой быть только легким и сердцу.
Мы, подавленные, молчали.
– Таз, конечно, вдребезги. В куски. И самое ужасное, что с этого рода увечьями живут еще по три, четыре дня.
– Ну, a предположим, – спросил Незапяткин, – если пассажир в момент столкновения стоял в коридоре? Опасность для него такая же?
– Ничего подобного. Вы сами понимаете, что опасны не боковые стенки, a передняя и задняя. Я знал в Новоузенске одного человека, который, единственный из сотни, остался жив только потому, что бродил во время крушения по коридору вагона. Семенов его фамилия. Электротехник.
Мы с Незапяткиным молча поглядели друг другу в глаза и, без слов, поняли один другого.
Посидели для приличия еще минуты три, a потом я сказал:
– Совсем нога затекла. Пройтись, что ли.
– И я, – вскочил Незапяткин. – Пойдем покурим.
III
Когда мы вышли в коридор, Незапяткин сказал, подмигнув:
– А ловко я это насчет курения ввернул. Так-то просто – было неудобно выйти. Он мог бы подумать: трусы, мол. Испугались. Верно?
– Конечно.
– А у него, однако, дьявольские нервы. Действительно, сознавать, что каждую минуту тебя может исковеркать, зажать, как торговую книгу в копировальном прессе, – и в то же время хладнокровно рассуждать об этом.
– Посмотри-ка, что он делает?
Незапяткин пошел взглянуть на нашего сумасброда и, вернувшись, доложил:
– Лежит чивой-то на диване с закрытыми глазами.
– Давай станем тут. Ближе к средине.
– А симпатичный он. Верно?
– Да. Милый. Такой… предупредительный.
Чем дальше, тем душнее было в вагоне. Чувствовалось приближение юга.
– Что, если мы откроем окно? – прервал я. – В степи такая теплынь.
– Не открываются окна. Вагон еще на зимнем положении.
– Постой… А вот это окно! У него, кажется, эта задвижка еле держится. Ну-ка, потяни.
– Ножичком бы. Не увидит никто?
– Ничего. Потом скажем, что нечаянно.
Рама с легким стуком упала – и нам в лицо пахнула сладкая прохлада напоенной ранними весенними ароматами степи.
– Какой воздух! Чувствуешь? Вот что значит Кавказ!
– Бальзам!
Мощные горы рисовались вдали легкими туманно-голубыми призраками. Лаской веяло от теплого воздуха и жирной пахучей земли.
…Часа два простояли мы так, почти не разговаривая, разнеженные, задумчивые. Сзади нас раздался голос:
– Что это вы тут делаете?
Наш сосед по дивану стоял за моей спиной.
– Чувствуете, какой воздух? – спросил я.
– Да. Попробую-ка и я открыть другое окошечко.
– Нет, – возразил Незапяткин. – Все окна заделаны по зимнему положению. Это единственное.
– Вот он, Кавказ-то! – задумчиво заметил незнакомец. – Красивый, экзотический, как змея-пифон, но и ядовитый, как эта змея! Так же могущий ужалить.
– Почему?
– Кавказ-то? Ведь это разбойничья страна. Вот вы, например, стоите у окна, тихо беседуете, и вдруг из-за того камня – бац! Пуля в висок, и вы без крика валитесь на пол.
– Кто же это… может?
– Ясно, как день: туземцы. Да вот вчера в газетах… не читали газет?
– Нет.
– Ну, как же. Таким точно образом стоял еврей, настройщик роялей, у открытого окна. «Свежим воздухом дышал…» Бац! И не пикнул. Айзенштук фамилия.
– Да за что же, Господи!
– Абреки. Это у них молодечество. Кто больше пассажиров настреляет, тот большим уважением в ауле пользуется. Кто меньше десятка уложил, за того ни одна девушка замуж не пойдет.
– Черт знает что! Закроем окно, Незапяткин.
– А позвольте-ка, я рискну, – хладнокровно сказал незнакомец, облокачиваясь на узенький подоконник. – Послушайте… если меня тяпнет пуля… возьмите мои вещи и отошлите в Тифлис на Головинский проспект, 11 – Михайленко.
Никогда я до сих пор не видел, чтобы завещания составлялись с таким самообладанием и быстротой.
Для очистки совести мы попытались уговорить нашего сумасброда отойти от рокового окна, но он был непреклонен.
IV
Выходя в Тифлисе из вагона, мы наткнулись на высокую красивую даму, встречавшую нашего сумасброда.
– Ну, как доехал? – спросила она, целуя его.
– Замечательно. Пока попадаются такие поразительные спутники, как эти двое (он указал на нас) – по русским железным дорогам еще можно ездить.
Усаживаясь на извозчика, Незапяткин сказал мне:
– Слышал? говорит: поразительные… Мы ему, наверное, тоже понравились? Как ты думаешь?
Я пожал плечами.
А чем же мы плохи?
Первый анекдот обо мне
Недавно я с ужасом прочел два анекдота об известных людях.
Первый был о покойном генерале Драгомирове.
Вот он – буквально:
«Как известно, Драгомиров отличался остроумием и находчивостью.
Один знакомый как-то спросил его:
– Что бы вы сделали, если бы завтра получили известие, что турки перешли границу и находятся уже под Киевом?
Ни слова не говоря, Драгомиров снял с пальца дорогое обручальное кольцо с великолепным бриллиантом и сказал знакомому:
– Наденьте это кольцо себе на ногу.
– Но это невозможно! – отвечал, вскрикнув, удивленный знакомый.
– Вот также невозможно, чтобы турки осмелились напасть на Россию, – хладнокровно ответил покойник.
Эта манера резко и прямолинейно, не стесняясь ничем, говорить то, что он думает, создала ему много врагов, чего нельзя сказать об окружающих».
Второй анекдот такой:
«Покойный поэт Минаев отличался замечательным искусством говорить экспромты.
Вот один из лучших его экспромтов, сказанных на похоронах известного в то время железнодорожного строителя М., отличавшегося всем известной слабостью к слабому полу, который имел несколько побочных семейств, кроме прямого.
Именно, увидев погребальную колесницу с трупом покойника, он сказал находившемуся тут же актеру Б., большому любителю кутнуть и приятелю начинавшего входить в моду Достоевского:
О, человече! Был ты глуп —
Теперь лежит пред нами труп.
Покойся, милый прах, до радостного утра,
Пока червяк не съел твое все нутро.
Остроумные экспромты известного поэта доставляли ему в свое время множество врагов».
* * *
Выше я сказал, что прочел эти два анекдота с ужасом.
Действительно – вдумайтесь в смысл всей этой полуграмотной чепухи: вплетает ли она новые лавры в чудесные венки, которыми увенчаны оба «известных покойника».
И прочтя эти бессмысленные строки, я, по ассоциации, призадумался над своей будущей судьбой. Действительно: вчера в одной из газет перед моим именем я впервые увидел пряное, щекочущее слово: «известный».
Странное слово… Странное ощущение…
Итак – я «известный».
Неужели?
Я человек по характеру очень скромный и никогда не думал о себе этого… Ну – пишу. Ну – читают.
Но чтобы все это было до такой степени – вот уж не представлял себе!
И тут же я понял, какую громадную ответственность налагает на меня это слово.
– Действительно – когда я был неизвестный – пиши как хочешь, о чем хочешь и когда хочешь, ешь, как все люди едят, ходи в толпе, толкаясь, как и другие толкаются, и если на твоем пути завязалась между двумя прохожими драка – ты можешь остановиться, полюбоваться на эту драку или даже, в зависимости от темперамента, принять в ней деятельное участие, защищая угнетенную, по твоему мнению, сторону.
А в новом положении с титулом «известный» – попробуй-ка!
Когда ешь – все смотрят тебе в рот. Вместо большого куска откусываешь маленький кусочек, мизинец отставляешь, стараясь держать руку изящнее, и косточки от цыпленка уже не выплевываешь беззаботно на край тарелки (скажут – некрасиво), а, давясь, жуешь и проглатываешь, как какой-нибудь оголодавший сеттер.
Съешь лишний кусок – все глазеющие скажут – обжора.
Покажешься под руку со знакомой барышней – развратник.
Заступишься в уличной драке за угнетенного – все закричат: буян, драчун! («Наверное, пьян был!.. Вот они, культурные писатели… А еще известный! Нет, Добролюбов, Белинский и Писарев в драку бы не полезли».)
И, благодаря этому, столько народа, заслуживающего быть битым, остается не битым, что нравы грубеют, и жизнь делается еще тяжелее.
Наибольшая же трагедия – это те анекдоты о моем уме, находчивости и сообразительности, которые будут рассказываться и приводиться в газетах (отделе «смесь») после моей смерти…
Воображаю:
«Известный (раз другие писали, могу же и я написать?) писатель Аркадий Аверченко отличался дьявольской сообразительностью и находчивостью.
Один знакомый спросил его:
– Кто, по-вашему, выше – Шекспир или Гете?
– Мой портной Кубакин, – отвечал остроумный писатель.
– Почему? – изумился ничего не подозревавший знакомый.
– Потому, – улыбнулся покойник, – что он чуть не трех аршин росту.
Такими язвительными ответами покойный юморист нажил массу врагов среди сильных мира сего».
* * *
Конечно, никто из нас не застрахован от таких «анекдотов», но я сделаю слабую попытку застраховаться от них.
Именно я решил записывать сам все те будущие анекдоты, которые должны печататься после моей смерти.
Для начала позволяю себе привести один анекдот-факт обо мне, имевший место не более месяца тому назад.
Из воспоминаний о покойном Аверченко
Как известно, покойный писатель любил в хорошую минуту весело подшутить над своим ближним, что доставляло ему много врагов и тайных недоброжелателей.
Приводим следующий случай, правдивость которого могут удостоверить многие, пережившие бедного, безвременно погибшего писателя…
Однажды, будучи застигнут в пути снежными заносами и отсиживаясь на какой-то глухой станции, покойный писатель горько жаловался соседям по вагону на то, что если пройдут еще сутки, то всем придется голодать.
Один актер, сидевший около, стал подтрунивать над Аверченко и, в конце концов, заявил:
– Ведь завтра нам всем уже придется бросать жребий – кому из нас быть съеденным… Что вы скажете, Аркадий Тимофеевич, если жребий падет на вас и мы вас съедим?..
– Что я скажу? – ответил, улыбаясь, симпатичный покойник. – Я скажу, что в таком случае рискую очутиться в дураках.
В тот момент никто не понял этого загадочного ответа, но в последние годы он детально разъяснен комментаторами писателя.
Вот, читатели, единственный пока анекдот обо мне. Нравится анекдот или нет – это другой вопрос.
Но что он правдив – за это ручаюсь. Приятно быть более предусмотрительным, чем такие умные люди, как генерал Драгомиров и поэт Минаев.
Как женился Панасюк
I
– Будете?
– Где?
– На вечеринке у Мыльникова.
– Ах, да. Я и забыл, что нынче суббота – день обычной вечеринки у Мыльникова.
– Ошибаетесь. Сегодня вечеринка у Мыльникова именно – не обычная.
– А какая?
– Необычная.
– Что же случится на этой вечеринке?
– Панасюк будет рассказывать, как он женился.
– Подумаешь – радость. Кому могут быть интересны матримониальные курбеты Панасюка?..
– С луны вы свалились, что ли? Неужели вы ничего не слышали о знаменитой женитьбе Панасюка?
– Не слышал. А в чем дело?
– Я, собственно, и сам не знаю. Слышал только, что история потрясающая. Вот сегодня и услышим.
– Что ж… Пожалуй, пойду.
– Конечно, приходите. Мыльников говорит, что это нечто грандиозное.
II
После этого разговора я все-таки немного сомневался, стоит ли идти на разглагольствования Панасюка.
Но утром в субботу мне встретился Передрягин, и между нами произошел такой разговор:
– Ну, что у вас нового? – спросил я.
– Да вот сегодня бенефис жены в театре. Новая пьеса идет.
– Значит, вы нынче в театре?
– Нет. У меня, видите ли, тесть именинник.
– Ага. У тестя, значит, будете?
– Нужно было бы, да не могу. Должен провожать нынче начальника. Он за границу едет.
– Чудак вы! Так вы бы и сказали просто, что провожаете начальника.
– Я его не провожаю. Я только сказал, что надо было бы. А, к сожалению, не смогу его проводить.
– Что же вы, наконец, будете делать?!
– Вот тебе раз! Будто вы не знаете!.. Да ведь нынче Панасюк у Мыльникова будет о своей женитьбе докладывать.
– Тьфу ты, господи! Решительно вы с ума сошли с этим Панасюком. Что особенного в его женитьбе?
– Это нечто гомеровское. Нечто этакое шекспировское.
– Что же именно?
– Не знаю. Сегодня вот и услышим.
Тут же я окончательно решил идти слушать Панасюка.
III
У Мыльникова собралось человек двадцать. Было душно, накурено. Панасюка, как редкого зверя, загнали в самый угол, откуда и выглядывала его острая лисья мордочка, щедро осыпанная крупными коричневыми веснушками.
Нетерпение росло, a Панасюк и Мыльников оттягивали начало представления, ссылаясь на то, что еще не все собрались.
Наконец, гул нетерпеливых голосов разрешился взрывом общего негодования, и Панасюк дал торжественное обещание начать рассказ о своем браке через десять минут, независимо от того, все ли в сборе или нет.
– Браво, Панасюк.
– Благослови тебя Бог, дуся.
– Не мучай нас долго, Панасюченочек.
Тут же разнеслась среди собравшихся другая сенсация: рассказ Панасюка будет исполнен в стихах. Панасюка засыпали вопросами:
– Как? Что такое? Разве ты поэт, милый Панасюк? Отчего же ты до сих пор молчал? Мы бы тебе памятник поставили! Поставили бы тебя на кусок гранита, облили бы тебя жидким чугуном – и стой себе на здоровье и родителям на радость.
– Я, господа, конечно, не поэт, – начал Панасюк с сознанием собственного достоинства, – но есть, господа, такие вещи, такие чудеса, которые прозой не передашь. И в данном случае, по-моему, человек, испытавший это, если даже он и не поэт – все-таки он обязан сухую скучную прозу переложить в звучные стихи!!!
– А стихи действительно звучные? – спросил осторожный Передрягин.
– Да, звучности в них немало, – неопределенно ответил Панасюк. – Вот вы сами услышите…
– Да уж пора, – раздался рев голосов. – Десять минут прошло.
– Рассказывайте, Панасюк!
– Декламируй, Панасище.
– Извольте, – согласился Панасюк. – Садитесь, господа, все – так удобнее. Только предупреждаю: если будете перебивать – перестану рассказывать!
– О, не томите нас, любезный Панасюк. Мы будем тихи, как трупы в анатомическом театре.
– И внимательны, как француз к хорошенькой женщине!
– Панасюк, не терзайте!
– Начинаю, господа. Тихо!
IV
Панасюк дернул себя за угол воротника, пригладил жидкие белые волосы и начал глухим торжественным голосом:
Как я женился
Я, не будучи поэтом,
Расскажу, что прошлым летом
Жил на даче я в Терновке,
Повинуясь капризу судьбы-плутовки.
Как-то был там вечер темный,
И ошибся дачей я…
Совершил поступок нескромный
И попал в чужую дачу, друзья.
Вижу комнату я незнакомую…
Вдруг – издали шаги и голоса!!
И полез под кровать я, как насекомое,
Абсолютно провел там два часа.
Входит хозяин, a в руке у него двустволка…
Резкий звонок в передней перебил декламацию Панасюка на самом интересном месте.
Панасюк болезненно поморщился и недовольно сказал:
– Ну, вот, видите, и перебили. А говорили, что больше никого не будет…
Вошел запыхавшийся Сеня Магарычев.
– Не опоздал я? – крикнул он свежим с мороза, диссонирующим с общим настроением голосом.
– Носят тебя черти тут по ночам, – недовольно заметил Мыльников. – Не мог раньше прийти?! Панасюк уже давно начал.
– Очень извиняюсь, господин Панасюк, – расшаркался Магарычев. – Надеюсь, можно продолжать?
– Я так не могу, господа, – раскапризничался Панасюк. – Что же это такое: ходят тут, разговаривают, перебивают, мешают…
– Ну, больше не будем. Больше некому приходить. Ну, пожалуйста, милый Панасюк, ну, мы слушаем. Не огорчайте нас, дорогой Панасюк. Мы так заинтересованы… Это так удивительно, то, что вы начали.
– В таком случае, – кисло согласился Панасюк – я начну сначала. Я иначе не могу. – Конечно, сначала! Обязательно!
V
Как я женился
Я, не будучи поэтом,
Расскажу, что прошлым летом
Жил на даче я в Терновке,
Повинуясь капризу судьбы-плутовки.
Как-то был там вечер темный,
И ошибся дачей я…
Совершил поступок нескромный
И попал в чужую дачу друзья.
Вижу комнату я незнакомую,
Вдруг – издали шаги и голоса!!
И полез под кровать я, как насекомое,
Абсолютно провел там два часа.
Входит хозяин, a в руке у него двустволка…
Мы все затаили дыхание, заинтересованные развязкой этой странной истории, как вдруг мертвую паузу прорезал свистящий шепот экспансивного Вовы Туберкуленко:
– Вот в этом месте ты, глупый Магарычев, и перебил чтение!.. Видишь?
Панасюк нахмурил свои бледные брови и поднялся с места.
– Ну, господа, если вы каждую минуту будете перебивать меня, то тогда, конечно… я понимаю, что мне нужно сделать: я больше не произнесу ни слова!
– Черт тебя потянул за язык, Туберкуленко! – раздались возмущенные голоса. – Сидел бы и молчал!
– Да что же я, господа… Я только заметил Магарычеву, что он перебил нас на этом самом месте.
«Входит хозяин, a в руке у него двустволка…»
– Нет, больше я говорить не буду, – угрюмо проворчал Панасюк. – Что же это такое: мешают.
– Ну, Панасюк! Милый! Алмазный Панасюк. Даем тебе торжественное слово, что свиньи мы будем, базарные ослы будем, если скажем хоть словечко… Мертвецы! Склепы! Гробы!
– Так вот что я вам скажу, господа: если еще раздастся одно словечко или даже шепот – ну вас! Ни звука от меня больше не добьетесь.
– Читай, драгоценное дитя. Декламируйте, талантливый Панасюк. Мы умираем от нетерпения.
VI
И снова начал Панасюк:
– Как я женился.
Он благополучно прочел первые десять строк… Когда начал одиннадцатую – нахмурил предостерегающе брови и подозрительно поглядел на Туберкуленку и Магарычева.
Наконец, дошел до потрясающего места:
И полез под кровать я, как насекомое,
Абсолютно провел там два часа.
Входить хозяин, a в руке у него дву… ствол…
Туберкуленко повел бровями и погрозил украдкой Магарычеву пальцем: тот смешливо дернул уголком рта и сделал серьезное лицо.
– Не буду больше читать, – сказал Панасюк, вставая с побледневшим лицом и прыгающей нижней челюстью. – Что же это такое? Издевательство это над человеком?! Инквизиция?!
Все были искренно возмущены Туберкуленкой и Магарычевым.
– Свиньи! Не хотите слушать – уходите!
– Господа, – вертелся сконфуженный Туберкуленко. – Да ведь я же ничего и не сказал. Только когда он дошел до хозяина с двустволкой…
– Ну?!
– Я и вспомнил, что он уже два раза доходил до этого места. И дальше ни на шаг?!
– Ну?!
– Так вот я и испугался, чтобы и в третий раз кто-нибудь не перебил его на «хозяине с двустволкой».
VII
Почти полчаса пришлось умолять Панасюка снова начать свою захватывающую повесть о том, как он женился. Клялись все, били себя в грудь, гарантировали Панасюку полное спокойствие и тщательное наблюдение за неспокойным элементом.
И снова загудел глухой измученный голос Панасюка:
Как я женился
Я, не будучи поэтом,
Расскажу, что прошлым летом…
Все слушатели скроили зверские лица и свирепо поглядывали друг на друга, показывая всем своим видом, что готовы задушить всякого, который осмелился бы хоть вздохом помешать Панасюку.
По мере приближения к знаменитому месту с залезанием под кровать, лица всех делались напряженнее и напряженнее, глаза сверлили друг друга с самым тревожным видом, некоторых охватила даже страшная нервная дрожь… А когда бледный Панасюк бросил в толпу свистящим тоном свое потрясающее: «…Входит хозяин, a в руке у него двустволка…» – грянул такой взрыв неожиданного хохота, что дымный воздух заколебался, как студень, a одна электрическая лампочка мигнула, смертельно испуганная, и погасла. Панасюк вскочил и рванулся к дверям…
Десятки рук протянулись к нему; удержали; вернули; стояли все на коленях и, униженно ползая во прахе, молили Панасюка начать свою поэму еще один раз: «самый последний разок; больше не будем даже и просить»…
– Господа! – кричал Передрягин. – Дети мы, что ли, или идиоты какие-нибудь? Неужели мы на десять минут не можем быть серьезными? Ведь это даже смешно. Как дикари какие-то!! Все мы смертельно хотим дослушать эту удивительную историю – и что же? Дальше 12-й строки не можем двинуться.
– Если бы ему перевалить только через хозяина с двустволкой, – соболезнующе сказал кто-то, – дальше бы уже пошло как по маслу.
VIII
Долго уговаривали Панасюка; долго ломался Панасюк. Наконец, начал с торжественной клятвой, что «это в самый, самый последний раз»:
Как я женился
Я, не будучи поэтом,
Расскажу…
Каменные лица были у слушателей; мертвым покоем веяло от них.
…Вижу комнату я незнакомую,
Вдруг – издали шаги и голоса!
И полез под кровать я, как насекомое…
Сжатые губы, полузакрытые глаза ясно говорили, что обладатели их решили лопнуть, но выдержать то страшное давление, то ужасное желание, которое распирало каждого.
Это были не люди, – это были мраморные статуи!
– …Входит хозяин… a в руке у него… двустволка…
Статуи заколебались, часть их обрушилась на пол, катаясь в судорогах леденящего кровь смеха, часть бросилась к Панасюку, но он оттолкнул протянутые руки и, замкнувшись сам в себя, закусив губу, молча вышел.
* * *
Эта история на другой день разнеслась по всему городу.
И с тех пор никому, никогда и нигде бедный Панасюк не мог рассказать «историю о том, как он женился» – дальше знаменитой фразы:
…Входит хозяин, a в руке у него двуствол… ха, ха!
Ха-ха-ха-ха-ха!
Отдел II Окружающие нас
Окружающие нас
Один человек решил жениться.
Мать
— Я женюсь, – сказал он матери.
Подумав немного, мать заплакала. Потом утерла слезы. Сказала:
– Деньгами много?
– Не знаю.
– Ну, хоть так, тряпками-то – есть что-нибудь? Серебро тоже понадобится, посуда. А то потом хватишься – ни ложечки, ни салфеточки, ни тарелочки… Все покупать нужно. А купчишки теперь так дерут, что приступу ни к чему нет. Обстановку в гостиной, я думаю, переменить нужно, эта пообтрепалась так, что принять приличного человека стыдно. Перины есть? Пуховые? Не спрашивал?
И не спросила мать:
– А любит тебя твоя будущая жена?
Любовница
– Я женюсь, – сказал он любовнице.
Любовница побледнела.
– А как же я?
– Ты постарайся меня забыть.
– Я отравлюсь.
– Если ты меня хоть немножко любишь – ты не сделаешь этого.
– Я? Тебя? Люблю? Ну, знаешь ли, милый!.. Кстати, ко мне сегодня Сергей Иваныч три раза по телефону звонил. Думаю весной поехать с ним на Кавказ.
Помолчав, спросила:
– Что ж она… богатая?
– Кажется.
И с облегченным сердцем подумала: «Ну, значит, он меня оставляет из-за денег. Кажется, что это не так обидно».
И не спросила любовница:
– А любит тебя твоя будущая жена?
Горничная
– Я женюсь, – сказал он горничной.
– А как же я? Меня-то вы оставите? Или искать другое место?
– Почему же? Вы останетесь.
– Только имейте в виду, барин, что ежели вас двое, то жалованье тоже другое. Во-первых, около женщины больше работы, a потом и мелкой стирки прибавится, то да се. Не иначе пять рублей прибавить нужно.
Даже в голову не пришло горничной задать своему барину простой человеческий вопрос:
– А любит вас ваша будущая жена?
Прохожий
У прохожего было такое веселое полупьяное располагающее к себе лицо, что собиравшийся жениться человек улыбнулся прохожему и сказал:
– А я, знаете, женюсь.
– И дурак.
Растерялся собиравшийся жениться:
– То есть?
– Да уж будьте покойны.
И, нырнув в толпу, не догадался спросить этот прохожий…
– А любит вас ваша будущая жена?
Друг
– Я женюсь, – сказал он своему другу.
– Вот тебе раз!
После некоторого молчания сказал друг:
– А как же я? Значит, нашей дружбе крышка?
– Почему же? Мы по-прежнему останемся друзьями.
И только тут задал друг вопрос, который не задавал никто:
– А любит тебя твоя будущая жена?
Взор человека, собиравшегося жениться, слегка затуманился.
– Не знаю. Думаю, что не особенно…
Друг, что-то соображая, пожевал губами.
– Красивая?
– Очень.
– М-да… Н-да… Тогда конечно… В общем, я думаю: отчего бы тебе и не жениться?
– Я и женюсь.
– Женись, женись.
* * *
Холодно и неуютно живется нам на белом свете. Как тараканам за темным выступом остывшей печи.
Знаток женского сердца
I
Когда на Макса Двуутробникова нападал прилив откровенности, он простодушно признавался:
– Я не какой-нибудь там особенный человек… О нет! Во мне нет ничего этакого… небесного. Я самый земной человек.
– В каком смысле – земной?
– Я? Реалист-практик. Трезвая голова. Ничего небесного. Только земное и земное. Но психолог. Но душу человеческую я понимаю.
Однажды, сидя в будуаре Евдокии Сергеевны и глядя на ее распухшие от слез глаза, Макс пожал плечами и сказал:
– Плакали? От меня ничего не скроется… Я психолог. Не нужно плакать. От этого нет ни выгоды, ни удовольствия.
– Вам бы только всё выгода и удовольствие, – покачала головой Евдокия Сергеевна, заправляя под наколку прядь полуседых волос.
– Обязательно. Вся жизнь соткана из этого. Конечно, я не какой-нибудь там небесный человек. Я земной.
– Да? А я вот вдвое старше вас, а не могу разобраться в жизни.
Она призадумалась и вдруг решительно повернула заплаканное лицо к Максу.
– Скажите, Мастаков – пара для моей Лиды или не пара?
– Мастаков-то? Конечно, не пара.
– Ну вот: то же самое и я ей говорю. А она и слышать не хочет. Влюблена до невероятности. Я уж, знаете, – грешный человек – пробовала и наговаривать на него, и отрицательные стороны его выставлять – и ухом не ведёт.
– Ну знаете… Это смотря какие стороны выставить… Вы что ей говорили?
– Да уж будьте покойны – не хорошее говорила: что он и картёжник, и мот, и женщины за ним бегают, и сам он-де к женскому полу неравнодушен… Так расписала, что другая бы и смотреть не стала.
– Мамаша! Простите, что я называю вас мамашей, но в уме ли вы? Ведь это нужно в затмении находиться, чтобы такое сказать!! Да знаете ли вы, что этими вашими наговорами, этими его пороками вы втрое крепче привязали ее сердце!! Мамаша! Простите, что я вас так называю, но вы поступили по-сапожнически.
– Да я думала ведь, как лучше.
– Мамаша! Хуже вы это сделали. Всё дело испортили. Разве так наговаривают? Подумаешь – мот, картёжник… Да ведь это красиво! В этом есть какое-то обаяние. И Германн в «Пиковой даме» – картёжник, а смотрите, в каком он ореоле ходит… А отношение женщин… Да ведь она теперь, Лида ваша, гордится им, Мастаковым этим паршивым: «Вот, дескать, какой покоритель сердец!.. Ни одна перед ним не устоит, а он мой!» Эх вы! Нет, наговаривать, порочить, унижать нужно с толком… Вот я наговорю так наговорю! И глядеть на него не захочет…
– Макс… Милый… Поговорите с ней.
– И поговорю. Друг я вашей семье или не друг? Друг. Ну значит, моя обязанность позаботиться. Поговорим, поговорим. Она сейчас где?
– У себя. Кажется, письмо ему пишет.
– К чёрту письмо! Оно не будет послано!.. Мамаша! Вы простите, что я называю вас мамашей, но мы камня на камне от Мастакова не оставим.
II
– Здравствуйте, Лидия Васильевна! Письмецо строчите? Дело хорошее. А я зашёл к вам поболтать. Давно видели моего друга Мастакова?
– Вы разве друзья?
– Мы-то? Водой не разольёшь. Я люблю его больше всего на свете.
– Серьёзно?
– А как же. Замечательный человек. Кристальная личность.
– Спасибо, милый Макс. А то ведь его все ругают… И мама, и… все. Мне это так тяжело.
– Лидочка! Дитя моё… Вы простите, что я вас так называю, но… никому не верьте! Про Мастакова говорят много нехорошего – всё это ложь! Преотчаянная, зловонная ложь. Я знаю Мастакова, как никто! Редкая личность! Душа изумительной чистоты!..
– Спасибо вам… Я никогда… не забуду…
– Ну, чего там! Стоит ли. Больше всего меня возмущает, когда говорят: «Мастаков – мот! Мастаков швыряет деньги куда попало!» Это Мастаков-то мот? Да он, прежде чем извозчика нанять, полчаса с ним торгуется! Душу из него вымотает. От извозчика пар идёт, от лошади пар идёт, и от пролётки пар идёт. А они говорят – мот!.. Раза три отойдёт от извозчика, опять вернётся, и всё это из-за гривенника. Ха-ха! Хотел бы я быть таким мотом!
– Да разве он такой? А со мной когда едет – никогда не торгуется.
– Ну что вы… Кто же осмелится при даме торговаться?! Зато потом, после катанья с вами, придёт, бывало, ко мне – и уж он плачет, и уж он стонет, что извозчику целый лишний полтинник передал. Жалко смотреть, как убивается. Я его ведь люблю больше брата. Замечательный человек. Замечательный!
– А я и не думала, что он такой… экономный.
– Он-то? Вы ещё не знаете эту кристальную душу! Твоего, говорит, мне не нужно, но уж ничего и своего, говорит, не упущу. Ему горничная каждый вечер счёт расходов подаёт, так он копеечки не упустит. «Как, говорит, ты спички поставила 25 копеек пачка, а на прошлой неделе они 23 стоили? Куда две копейки дела, признавайся!» Право, иногда, глядя на него, просто зависть берёт.
– Однако он мне несколько раз подносил цветы… Вон и сейчас стоит букет – белые розы и мимоза – чудесное сочетание.
– Знаю! Говорил он мне. Розы четыре двадцать, мимоза два сорок. В разных магазинах покупал.
– Почему же в разных?
– В другом магазине мимоза на четвертак дешевле. Да ещё выторговал пятнадцать копеек. О, это настоящий американец! Воротнички у него, например, гуттаперчевые. Каждый вечер резинкой чистит. Стану я, говорит, прачек обогащать. И верно – с какой стати? Иногда я гляжу на него и думаю: «Вот это будет муж, вот это отец семейства!» Да… счастлива будет та девушка, которая…
– Постойте… Но ведь он получает большое жалованье! Зачем же ему…
– Что? Быть таким экономным? А вы думаете, пока он вас не полюбил, ему женщины мало стоили?
– Ка-ак? Неужели он платил женщинам? Какая гадость!
– Ничего не гадость. Человек он молодой, сердце не камень, а женщины вообще, Лидочка (простите, что я называю вас Лидочкой), – страшные дуры.
– Ну уж и дуры.
– Дуры! – стукнул кулаком по столу разгорячившийся Макс. – Спрашивается: чем им Мастаков не мужчина? Так нет! Всякая нос воротит. Он, говорит она, – неопрятный. У него всегда руки грязные. Так что ж, что грязные? Велика важность! Зато душа хорошая. Зато человек кристальный! Эта вот, например, изволите знать?… Марья Кондратьевна Ноздрякова – изволите знать?
– Нет, не знаю.
– Я тоже, положим, не знаю. Но это не важно. Так вот, она вдруг заявляет: «Никогда я больше не поцелую вашего Мастакова – противно». – «Это почему же-с, скажите на милость, противно? Кристальная, чудесная душа, а вы говорите – противно?…» – «Да я, – говорит, – сижу вчера около него, а у него по воротнику насекомое ползёт…» – «Сударыня! Да ведь это случай! Может, как-нибудь нечаянно с кровати заползло», – и слышать не хочет глупая баба! «У него, говорит, и шея грязная». Тоже, подумаешь, несчастье, катастрофа! Вот, говорю, уговорю его сходить в баню, помыться, и всё будет в порядке! Нет, говорит! И за сто рублей его не поцелую. За сто не поцелуешь, а за двести небось поцелуешь. Все они хороши, женщины ваши.
– Макс… Всё-таки это неприятно, то, что вы говорите…
– Почему? А по-моему, у Мастакова ярко выраженная индивидуальность… Протест какой-то красивый. Не хочу чистить ногти, не хочу быть как все. Анархист. В этом есть какой-то благородный протест.
– А я не замечала, чтобы у него были ногти грязные…
– Обкусывает. Все великие люди обкусывали ногти. Наполеон там, Спиноза, что ли. Я в календаре читал.
Макс, взволнованный, помолчал.
– Нет, Мастакова я люблю и глотку за него всякому готов перервать. Вы знаете, такого мужества, такого терпеливого перенесения страданий я не встречал. Настоящий Муций Сцевола, который руку на сковороде изжарил.
– Страдание? Разве Мастаков страдает?!
– Да. Мозоли. Я ему несколько раз говорил: почему не срежешь? «Бог с ними, не хочу возиться». Чудесная детская хрустальная душа…
III
Дверь скрипнула. Евдокия Сергеевна заглянула в комнату и сказала с затаённым вздохом:
– Мастаков твой звонит. Тебя к телефону просит…
– Почему это мой? – нервно повернулась в кресле Лидочка. – Почему вы все мне его навязываете?! Скажите, что не могу подойти… Что газету читаю. Пусть позвонит послезавтра… или в среду – не суть важно.
– Лидочка, – укоризненно сказал Двуутробников, – не будьте так с ним жестоки. Зачем обижать этого чудесного человека, эту большую, ароматную душу!
– Отстаньте вы все от меня! – закричала Лидочка, падая лицом на диванную подушку. – Никого мне, ничего мне не нужно!!!
Двуутробников укоризненно и сокрушённо покачал головой. Вышел вслед за Евдокией Сергеевной и, деликатно взяв её под руку, шепнул:
– Видал-миндал?
– Послушайте… Да ведь вы чудо сделали!! Да ведь я теперь век за вас молиться буду.
– Мамаша! Сокровище моё. Я самый обыкновенный земной человек. Мне небесного не нужно. Зачем молиться? Завтра срок моему векселю на полтораста рублей. А у меня всего восемьдесят в кармане. Если вы…
– Да господи! Да хоть все полтораста!..
И, подумав с минуту, сказал Двуутробников снисходительно:
– Ну ладно, что уж с вами делать. Полтораста так полтораста. Давайте!
Роковой Воздуходуев
Наклонившись ко мне, сверкая черными глазами и страдальчески искривив рот, Воздуходуев прошептал:
– С ума ты сошел, что ли? Зачем ты познакомил свою жену со мной?!
– А почему же вас не познакомить? – спросил я удивленно.
Воздуходуев опустился в кресло и долго сидел так, с убитым видом.
– Эх! – простонал он. – Жалко женщину.
– Почему?
– Ведь ты ее любишь?
– Ну… конечно.
– И она тебя?
– Я думаю.
– Что ж ты теперь наделал?
– А что?!
– Прахом все пойдет. К чему? Кому это было нужно? И так в мире много слез и страданий… Неужели еще добавлять надо?
– Бог знает, что ты говоришь, – нервно сказал я. – Какие страдания?
– Главное, ее жалко. Молодая, красивая, любит тебя (это очевидно) и… что ж теперь? Дернула тебя нелегкая познакомить нас…
– Да что с ней случится?!!
– Влюбится.
– В кого?!
Он высокомерно, с оттенком легкого удивления поглядел на меня.
– Неужели ты не понимаешь? Ребенок маленький, да? В меня.
– Вот тебе раз! Да почему же она в тебя должна влюбиться?
Удивился он:
– Да как же не влюбиться? Все влюбляются. Ну, рассуждай ты логично: если до сих пор не было ни одной встреченной мною женщины, которая в меня бы не влюбилась, то почему твоя жена должна быть исключением?
– Ну, может быть, она и будет исключением.
Он саркастически усмехнулся. Печально поглядел вдаль:
– Дитя ты, я вижу. О, как бы я хотел, чтобы твоя жена была исключением… Но – увы! Исключения попадаются только в романах. Влюбится, брат, она. Влюбится. Тут уж ничего не поделаешь.
– Пожалел бы ты ее, – попросил я.
Он пожал плечами.
– Зачем? От того, что я ее пожалею, чувства её ко мне не изменятся. Ах! Зачем ты нас познакомил, зачем познакомил?! Какое безумие!
– Но, может быть… Если вы не будете встречаться…
– Да ведь она меня уже видела?
– Видела.
– Ну, так при чем тут не встречаться?
Лицо мое вытянулось.
– Действительно… Втяпались мы в историю.
– Я ж говорю тебе!
Тяжелое молчание. Я тихо пролепетал:
– Воздуходуев!
– Ну?
– Если не ее, то меня пожалей.
В глазах Воздуходуева сверкнул жестокий огонек.
– Не пожалею. Пойми же ты, что я не господин, a раб своего обаяния, своего успеха. Это – тяжелая цепь каторжника, и я должен влачить ее до самой смерти.
– Воздуходуев! Пожалей!
В голосе его сверкнул металл:
– Н-нет!
В комнату вошла молодая барышня, хрупкого вида блондинка, с раз навсегда удивленными серыми глазами.
– Анна Лаврентьевна! – встал ей навстречу Воздуходуев. – Отчего вы не пришли ко мне?
– Я? К вам? Зачем?
– Женщина не должна спрашивать «зачем?». Она должна идти к мужчине без силы и воли, будто спящая с открытыми глазами, будто сомнамбула.
– Что вы такое говорите, право? Как так я пойду к вам ни с того ни с чего?
– Слабеет, – шепнул мне Воздуходуев. – Последние усилия перед сдачей.
И отчеканил ей жестким металлическим тоном:
– Я живу: Старомосковская, 7. Завтра в три четверти девятого. Слышите?
Анна Лаврентьевна бросила взгляд на меня, на Воздуходуева, на вино, которое мы пили, пожала плечами и вышла из комнаты.
– Видал? – нервно дернув уголком рта, спросил Воздуходуев. – Еще одна. И мне жалко ее. Барышня, дочь хороших родителей… А вот, поди ж ты!
– Неужели придет?!
– Она-то? Побежит. Сначала, конечно, борьба с собой, колебания, слезы, но, по мере приближения назначенного часа, роковые для нее слова: «Воздуходуев, Старомосковская, 7» – эти роковые слова все громче и громче будут звучать в душе ее. Я вбил их, вколотил в ее душу – и ничто, никакая сила не спасет эту девушку.
– Воздуходуев! Ты безжалостен.
– Что ж делать. Мне ее жаль, но… Я думаю, Господь Бог сделал из меня какое-то орудие наказания и направляет это орудие против всех женщин. (Он горько, надтреснуто засмеялся.) Аттила, бич Божий.
– Ты меня поражаешь! В чем же разгадка твоего такого страшного обаяния, такого жуткого успеха у женщин?
– Отчасти наружность, – задумчиво прошептал он, поглаживая себя по впалой груди и похлопывая по острым коленям. – Ну, лицо, конечно, взгляд.
– У тебя синее лицо, – заметил я с оттенком почтительного удивления.
– Да. Брюнет. Частое бритье. Иногда это даже надоедает.
– Бритье?
– Женщины.
– Воздуходуев!.. Ну, не надо губить мою жену, ну, пожалуйста.
– Тссс! Не будем говорить об этом. Мне самому тяжело. Постой, я принесу из столовой другую бутылку. Эта суха, как блеск моих глаз.
Следующую бутылку пили молча. Я думал о своем неприветливом суровом будущем, о своей любимой жене, которую должен потерять, – и тоска щемила мое сердце.
Воздуходуев, не произнося ни слова, только поглядывал на меня да потирал свой синий жесткий подбородок.
– Ах! – вздохнул я наконец. – Если бы я пользовался таким успехом…
Он странно поглядел на меня. Лицо его все мрачнело и мрачнело – с каждым выпитым стаканом.
– Ты бы хотел пользоваться таким же успехом?
– Ну, конечно!
– У женщин?
– Да.
– Не пожелал бы я тебе этого.
– Беспокойно?
Он выпил залпом стакан вина, со стуком поставил его на стол, придвинулся, положил голову ко мне на грудь и, после тяжелой паузы, сказал совершенно неожиданно:
– Мой успех у женщин. Хоть бы одна собака посмотрела на меня! Хоть бы кухарка какая-нибудь подарила меня любовью… Сколько я получил отказов! Сколько выдержал насмешек, издевательств… Били меня. Одной я этак-то сообщил свой адрес, по обыкновению гипнотизируя ее моим властным тоном, a она послушала меня, послушала, да – хлоп! А сам я этак вот назначу час, дам адрес и сижу дома, как дурак: a вдруг, мол, явится.
– Никто не является? – сочувственно спросил я.
– Никто. Ни одна собака. Ведь я давеча при тебе бодрился, всякие ужасы о себе рассказывал, a ведь мне плакать хотелось. Я ведь и жене твоей успел шепнуть роковым тоном: «Старомосковская, семь, жду в десять». А она поглядела на меня, да и говорит: «Дурак вы, дурак, и уши холодные». Почему уши холодные? Не понимаю. Во всем этом есть какая-то загадка… И душа у меня хорошая, и наружностью я не урод – a вот, поди ж ты! Не везет. Умом меня тоже Бог не обидел. Наоборот, некоторые женщины находили меня даже изысканно-умным, остроумным. Одна баронесса говорила, что сложен я замечательно – прямо хоть сейчас лепи статую. Да что баронесса! Тут из-за меня две графини перецарапались. Так одна все время говорила, что «вы, мол, едва только прикоснетесь к руке – я прямо умираю от какого-то жуткого, жгучего чувства страсти». А другая называла меня «барсом». Барс, говорит, ты этакий. Ей-богу. И как странно: только что я с ней познакомился, адреса даже своего не дал, a она сама вдруг: «Я, говорит, к вам приеду. Не гоните меня! Я буду вашей рабой, слугой, на коленях за вами поползу»… Смешные они все. Давеча и твоя жена. «От вас, – говорит, – исходит какой-то ток. У вас глаза холодные, и это меня волнует»…
После долгих усилий я уловил-таки взгляд Воздуходуева. И снова читалось в этом взгляде, что Воздуходуев уже устал от этого головокружительного успеха, и что ему немного жаль взбалмошных, безвольных, как мухи к меду, льнущих к нему женщин…
С некоторыми людьми вино делает чудеса.
Материнство
В 4 года.
Две крохотных девочки сидят на подоконнике, обратившись лицами друг к другу, и шепчутся.
– Твоя кукла не растет?
– Нет… Уж чего, кажется, я ни делала.
– Я тоже. Маленькая все, как и была. Уж я ее и водой потихоньку поливала и за ноги тянула – никаких гвоздей!
– Каких гвоздей?
– Никаких. Это дядя Гриша так говорит: пусто – и никаких гвоздей!..
Серафима, сидящая слева, угнетенно вздыхает:
– А живые дети растут.
– Весело! Сегодня дите два аршина, завтра сто – весело!
– Когда выйду замуж, будут у меня детишки – одна возня с ними.
– Симочка, – шепчет другая, глядя вдаль широко раскрытыми глазами. – А сколько их будет?
– Пять. У одного будут черненькие глазки, a у другого зелененькие.
– А у меня будет много-много дитев!
– Ну, не надо, чтобы у тебя много! Лучше у меня много.
– Нет, у меня! У одного будут розовые глазки, у другого желтенькие, у другого беленькие, у другого красненькие.
Зависть гложет сердце Симочки:
– А я тебя ударю!
Дергает свою многодетную подругу за волосы. Плач.
Святое материнство!
В 12 лет.
– Федор Николаич! Вы уже во втором классе? Поздравляю.
– Да, Симочка. Вы говорили, что когда я чего-нибудь достигну, вы… этого… женитесь на мне. Вот… я… достиг…
– Поцелуйте мне… руку… Федор Николаич.
– Симочка! я никогда не унижался с женщинами до этого, но вам извольте – я целую руку! Мне для вас ничего не жалко.
– Раз вы поцеловали, нам нужно пожениться. Как вы смотрите на детей?
– Если не ревут – отчего же.
– Слушайте, Федор Николаич… Я хочу так: чтобы у нас было двое детей. Один у меня от вас, a другой у вас от меня.
– Я бы, собственно, трех хотел.
– А третий от кого же?
– Третий? Ну, пусть будет наш общий.
– Одену я их так: мальчика в черный бархатный костюмчик, на девочке розовое, с голубым бантом.
– Наши дети будут счастливые.
– В сорочках родятся.
– И лучше. Пока маленькие – пусть в сорочках и бегают. Дешевле.
– Какой вы практик. А мне все равно. Лишь бы дети.
Святое материнство!
В 18 лет.
Разговор с подругой:
– Симочка! Когда ты выйдешь замуж – у тебя будут дети?
– Конечно! Двое. Мальчик – инженер с темными усиками, матовая бледность, не курит, медленные благородные движения; девочка – известная артистка. Чтобы так играла, что все будут спрашивать: «Господи, да кто же ее мать? Ради Бога, покажите нам ее мать». Потом я ее выдам замуж… За художника: бледное матовое лицо, темные усики, медленные благородные движения, и чтобы не курил.
Святое материнство!
В 22 года.
– Я, конечно, Сережа, против детей ничего не имею, но теперь… когда ты получаешь сто сорок да сестре посылаешь ежемесячно двадцать восемь… Это безумие.
– Но, Симочка…
– Это безумно! понимаешь ты? До безумия это безумно. Постарайся упрочить свое положение, и тогда…
Святое материнство!
В 30 лет.
– Сережа! Мне еще 27 лет, и у меня фигура, как у девушки… Подумай, что будет, если появится ребенок? Ты не знаешь, как дети портят фигуру…
– Странно… Раньше ты говорила, что не хочешь плодить нищих. Теперь, когда я богат…
– Сережа! Я для тебя же не хочу быть противной! Мне двадцать седьмой год, и я… Сережа! Одним словом – время еще не ушло!
Святое материнство!
В 48 лет
– Доктор! Помогите мне – я хочу иметь ребенка!!! Понимаете? Безумно хочу.
– Сударыня. В этом может помочь только муж и Бог. Сколько вам лет?
– Вам я скажу правду – 46. Как вы думаете: в этом возрасте может что-нибудь родиться?
– Может!
– Доктор! Вы меня воскрешаете.
– У вас может, сударыня, родиться чудесная, здоровенькая, крепкая… внучка!..
Профессионал
На скачках или в театре – это не важно – бритый брюнет спросил бородатого блондина:
– Видишь вот этого молодого человека с темными усиками, в пенсне?
– Вижу.
– Это Мушуаров.
– Ну?
– Мушуаров.
Лошадь ли пробежала мимо, или любимая актриса вышла на сцену – не важно, но что-то, одним словом, отвлекло внимание друзей, и разговор о Мушуарове прекратился.
И только возвращаясь со скачек или из театра – это не важно, – бородатый блондин спросил бритого брюнета:
– Постой… Зачем ты мне давеча показал этого Мушуарова?
– А как же! Замечательный человек.
– А я его нашел личностью совершенно незначительной. Что ж он, сыворотку против чумы открыл, что ли?
– Еще забавнее. Пользуется безмерным, потрясающим успехом у женщин!
– Действительно. При такой тусклой наружности – это замечательно.
– Непостижимо.
– Загадочно.
– Таинственно.
– И ты не знаешь тайны этого безумного успеха?
– Совершенно недоумеваю.
А у Мушуарова, действительно, была своя тайна. Скушав за своим одиноким столом суп, котлеты и клюквенный кисель, Мушуаров, с зубочисткой в левом углу рта, поднимается с места и – сытый, отяжелевший – лениво бредет в кабинет; усаживается удобнее в кожаное кресло, поднимает голову, будто что-то вспоминая (очевидно, номер одного из многих телефонов), и, наконец, нажав кнопку, цедит сквозь торчащую в зубах зубочистку:
– Центральная? Дайте, барышня, 770-17. Благодарю вас.
– Кто говорит? – доносится издалека свежий женский голос.
– Вы, Екатерина Николаевна? Здравствуйте, Екатерина Николаевна. Здравствуйте…
Странно: в голосе его звучит самая неподдельная хватающая за душу печаль.
– Мушуаров? Здравствуйте. Что скажете?
– Что скажу? Скажу, что вы должны быть нынче вечером у меня. Слышите? Я так хочу.
– Послушайте… Опять за старое? Ведь я вам уже сказала, что не люблю вас, и, право, удивляюсь…
– Екатерина Николаевна, – тихо, с какой-то странной сдержанностью отчеканивает Мушуаров. – Конечно, всякий волен поступать, как ему заблагорассудится, и я даже смотрю на это дело так: всякий имеет право умертвить другого человека, если, конечно, душа его молчит и ему не страшно принять кровавый грех на эту душу…
– Кто кого умерщвляет? Что вы такое говорите?
– Слово «умерщвляет» я употребил в фигуральном смысле, но это почти так…
Он делает долгую паузу. Эта пауза леденит сердце Екатерины Николаевны. Ей кажется, что Мушуаров в этот момент подпер голову рукой и погрузился в мрачные мысли.
Однако пауза делового Мушуарова не пропадает даром: он успевает взглянуть на часы, поправить отстегнувшийся брелок и бросает в корзину для бумаг какой-то скомканный конверт, неряшливо белевший на ковре.
– Да… Итак – прощайте, Екатерина Николаевна… Довольно. Я решил вам сказать об этом потому, что думаю – вам так будет легче.
– О чем сказать? Я вас не понимаю.
– Не понимаете? – криво усмехается в трубку Мушуаров. – Вы меня всю жизнь не понимали… А сейчас у меня к вам одна просьба: ради Бога, не ходите ко мне на панихиды, не провожайте меня на кладбище – терпеть не могу всей этой пошлятины.
– Мушуаров!!! – тонкой струной болезненно звенит голос невидимой Екатерины Николаевны. – С ума вы сошли? Что вы такое говорите!!
– Екатерина Николаевна, – горько смеется Мушуаров, – телефон многие ругают, но вот вам одно из его преимуществ: вы со мной говорите, слышите сейчас мой голос, но удержать меня от того, что я задумал, изменить мое решение – вы не можете! Когда вы повесите трубку, то через пять минут…
Голос его срывается от волнения; он вынимает из жилетного кармана часы, хлопает крышкой раза два у самой телефонной трубки и, закусив губы, говорит со стоном:
– Слышите вы это щелканье курка? Мой маузер чует кровь и щелкает зубами, как голодный волк перед кровавым пиром!..
– Мушуаров, милый… Ради Бога, одну минутку, – доносится издалека торопливый, испуганный голос. – Подождите, не вешайте трубку… Дайте мне честное слово, что вы не повесите трубку, пока меня не выслушаете…
– Хорошо, – соглашается Мушуаров. – Ради того чувства, которое теперь уносит меня в неведомый мир, я выслушаю вас.
– Мушуаров, голубчик! Подумайте только, – что вы хотите сделать?.. Жизнь так прекрасна…
– Без вас? Ха-ха-ха! Вы меня смешите, Екатерина Николаевна. Нет уж – что там и говорить…
– Мушуаров! Еще одну минутку… Вы ради меня не должны делать это с собою! Подумайте, какой вы готовите мне ужас, какая предстоит мне страшная жизнь… Жить с сознанием, что на твоей совести смерть человека… Пожалейте меня, Мушуаров!
– О Екатерина Николаевна! К чему такие громкие слова? Через две-три недели ваши терзания утихнут, a через год-два вы и думать позабудете, что где-то когда-то жил такой серый, незаметный человечек Мушуаров, который умер потому, что любил. Что я вам такое? Кустик при дороге, мимо которого проходит путник по своим делам; смял путник своей ногой этот кустик и даже не заметил своего поступка…
– Мушуаров! Вы не сделаете этого.
Горько смеется Мушуаров.
– Ну, не будем об этом говорить, Екатерина Николаевна. Довольно. У меня лежат две ваши книги. Мои родственники потом, конечно, не откажутся выдать их вам… Что еще? Да! Я вам проиграл на пари цветы, не успел послать – извините меня… Прощайте, Екатерина Николаевна… Не поминайте лих…
– Постойте!!! Мушуаров!!! Ах, как вы меня мучаете…
– А вы думаете, мне легко?
– Одну минутку!!! Чего вы от меня хотите?
– Я? От вас? Бог с вами. Ничего я от вас не хочу. Да-а… А, в сущности, какое это странное чувство… Через пять-шесть минут…
– Постойте!!! Ведь вы просили, чтобы я к вам… приехала?
– Екатерина Николаевна! Не будем говорить о том, что невозможно!
– Ну… a если бы я… приехала?..
– К чему? Приедете, чтобы сказать, что вы ко мне равнодушны? Нет, зачем же. Я насиловать вашу волю не хочу. Я не такой. Итак – прощ…
– Одну минутку, сумасшедший!!! Ну, a если мне просто хочется вас видеть – можно к вам приехать?
– Что ж… приезжайте.
– И вы даете мне слово, что до моего приезда… вы… не выкинете никакого… безумства…
– Ха! Ха! Вы хотите сделать осужденному маленькую отсрочку? Что ж… спасибо за милосердие.
– Мушуаров, Мушуаров… Что вы со мной делаете!..
Пауза.
– Мушуаров… Через час я буду у вас.
– Дворянская, второй дом от угла, парадная дверь, третий этаж, дверь налево. Я сам вам открою.
Где-то далеко от Дворянской (второй дом от угла) мечется сердобольная женская душа; как подстреленная охотником птица, мечется женщина, натыкаясь на стулья и двери, в поисках шляпы, кофточки, боа… Нужно торопиться, потому что Бог знает, что может произойти от ее промедления на Дворянской, второй дом от угла. А на Дворянской происходит вот что:
– Марья! – кричит Мушуаров, поднимаясь с кресла. – Приготовь самовар, купи конфект, тех, знаешь, что я давеча говорил, да груш купи, что ли… яблок. А сама потом проваливай, куда хочешь.
– «Проваливай», – ворчит на кухне обиженная Марья. – Сам бы ты лучше провалился. И ведь поди ж ты, – мозгляк, кажется, такой, что и глядеть не на что. А баба к нему прямо стеной идет. Слово он такое знает, что ли, али что?..
У Мушуарова впереди еще час. Делать нечего, a настроение хорошее. Надо дать исход живым силам, буйно бродящим внутри.
– Марья-а-а!
– Чего кричите? Тут я.
– Дай мне рубашку.
– Уходить думаете?
– Не твое дело. Постой… Какую же ты мне рубашку даешь… ночную? Дура! мне нужно с твердыми манжетами.
– Вот извольте. Чистенькая.
– Бестолочь! Ты мне грязную дай. Которую я давеча надевал.
– Эва! Да ведь она грязная.
– Ой! Что это за женщина! Она меня в могилу сведет. Если ты так глупа, то исполняй мои приказания буквально! Возьми из грязного белья ту сорочку, которую я снял вчера, и принеси мне. Поняла? На одну минуту! Потом унеси. Поняла?
Со вздохом бредет Марья на кухню. Приносит сорочку.
– Где левая манжета? Вот эта? Хорошо, что ты еще в стирку ее не вздумала отдать. Где тут карандашом записано? А, вот! 237–542. А теперь забирай свою дурацкую рубашку и проваливай.
– Центральная? Алло! Дайте, барышня, 237–542. От всего сердца спасибо. Это кто у телефона?.. Горничная? Позови, голубушка, барыню. Скажи, Мушуаров просит. Постой-постой… Ты так и скажи: «Просит, дескать, к телефону господин Мушуаров, и что они, мол, будто не в себе. Будто, мол, что-то случилось». Поняла?
Ждет Мушуаров. Берет из вазочки остро-отточенный карандаш, начинает рисовать человека с неуверенным профилем и глазом, похожим на французскую булку.
– Алло! – слышит он. – Что такое случилось, Мушуаров? Чем вы так взволнованы?
– Ничего особенного, – говорит Мушуаров, часто и тяжело дыша, – Ничего, ничего… Только я хотел спросить: нет ли у вас случайно револьвера?
– Револьвера? Нет, не имеется. А вам на что?
– Да так, знаете. Воры, может быть, залезут, так я… в них… Впрочем, лучше не расспрашивайте, нет! Не нужно ничего у меня спрашивать…
– Успокойтесь, я не любопытна. Это все, что вы хотели у меня спросить? Ну, всяких вам благ.
– Постойте, Вера Петровна… Я у вас еще что-то хотел спросить…
– Ну?
– У вас случайно нет опиума? Или кусочка цианистого кали?
– Тоже для воров? Послушайте, Мушуаров… Ведь это же не крысы, которых можно травить мышьяком. Подумайте, вам нужно сначала поймать вора, потом связать его, потом всунуть ему в рот цианистый кали – сколько возни!..
Из трубки вылетает целый сноп серебристого смеха. Мушуаров болезненно морщится.
– К чему вы… так? Не хорошо смеяться над человеком, который…
Он делает паузу, отпивая из стакана чай и снова взглянув на часы. Издалека спрашивают:
– Который… что?
– Которого вы, может быть, больше не увидите.
– В Австралию уезжаете?
– Нет, – глухим голосом отвечает Мушуаров. – Но вы мне вчера сказали, что вы любите другого и что я для вас нуль. Остальное – поймите.
– Голубчик, Мушуаров… Но что же делать, если это так?!
– Пожалуйста! Пожалуйста! Я ведь ничего и не говорю. Но только… я сам не знаю, почему я к вам позвонил. Мне так хотелось в последний раз услышать ваш голос…
– В пос-лед-ний раз? Эй, ай, вы! Дядя! Да вы не думаете ли из-за меня стреляться?
– Вера Петровна! И вы говорите об этом таким тоном?
– Извините, если я вас обидела. Ну, давайте поговорим, как следует. Вы хотите из-за меня стреляться?
– Да… Вера… Петровна… К чему эта глупая скучная волынка, называемая жизнью, если вы не хотите быть моей?
– Так если же я вас не люблю. Ну, что же мне делать? Посудите сами!
– Что ж… Склоняюсь перед судьбой. Значит, так уж у меня на роду написано. Ну… Не поминайте лихом…
– До свидания, милый…
– Послушайте! Вера Петровна… И неужели вам меня ни капельки не жалко?
– Ну, как не жалко. Жалко. Только я думаю, что вы этого не сделаете.
– Вера Петровна… Ровно в 12 часов ночи одним глупцом с пробитым пулей виском станет на нашей нелепой планете меньше.
– Вы это решили категорически?
– Да!
– И ничто не изменит вашего решения?
– Да!
– Печально. В таком случае, прощайте. Все-таки – желаю вам одуматься.
– Нет! Одуматься? Ха-ха! Что Мушуаров решил – это свято! Завтра меня не будет в живых.
Он молчит, судорожно дыша. После некоторой паузы говорит тихо, разделяя слоги:
– Прощайте. Не поминайте лихом…
Склонив голову, ждет ответа.
– Алло! Я говорю – про-щай-те… Не поминайте лих… Вера Петровна! Вы у телефона? Алло! Барышня! Почему вы разъединили? Что? Там трубку уже повесили? Не может быть!! Дайте туда звонок. Алло. Вера Петровна?..
– Да, это я, Мушуаров? Что вы еще хотели сказать?..
– Нас разъединили.
– Нет, это я сама повесила трубку. Вы что же, еще что-нибудь хотите сказать?
– Да. У меня одна к вам просьба…
– Пожалуйста. Если смогу…
– Одна к вам просьба: не приходите ко мне на панихиду и не провожайте на кладбище… Это такая пошлятина – эти все разговоры, пересуды… Обещаете?
– Обещаю.
– Ну… пр… прощайте. Благослови вас Господь.
– Мерси. Всех благ.
Слышен стук повешенной трубки. Мушуаров долго сидит, ошеломленный. Проводит рукой по лбу.
– Вот дрянь-то! Кто бы мог ожидать? Шел почти наверное и – на тебе! Ну, и черт с ней. Однако, это плохо, что так вышло. Завтра смеяться еще будет, другим расскажет… Гм!..
Долго ходит по своему кабинету Мушуаров, потирая лоб и бормоча невнятные слова…
Наконец, решительно подходить к столу, придвигает лист толстой почтовой бумаги. Пишет:
«Вера Петровна. Как странно: был я болен и вдруг сразу будто выздоровел, будто прозрел… Я вас любил… Боже ты мой, как я вас любил! Жизнь без вас казалась мне пучиной мрака… Вы мне казались идеальной женщиной, светлым лучом, ангелом доброты и ласки… И, не получив вашей любви, я решил умереть. Мое решение было бесповоротно, и о нем я сказал вам, думая, что так для нас обоих будет легче. Я сказал вам… И на что же я наткнулся – я, уже приговоривший себя к смерти?!! На издевательство, смех, холодное, ледяное равнодушие влюбленной в себя эгоистки… И подумал я: из-за такой женщины – умирать? Из-за такого черствого сухаря, не способного на высокий подъем души – лишать себя жизни? Нет! Она не достойна этого! И я решил жить, убив свою любовь и взрастив на ее месте холодное полупрезрительное равнодушие… Нет! Не ради вас Мушуаров расстанется со своей безумной жизнью. Вот о чем я нынче продумал всю ночь, и о чем сейчас, измученный этой бессонной ночью, пишу. Прощайте. Когда-то ваш – Спиридон Мушуаров».
В передней раздался звонок.
– Пришла? – подумал Мушуаров, заклеивая письмо. – То-то же. Все-таки, как-никак, a процентов шестьдесят на этом деле очищается…
Исповедь, которая облегчает
…После заутрени решили идти разговляться к Крутонову.
Пошли к нему трое: два – веселые, оживленные, Вострозубов и Полянский, – шагали впереди, a сзади брел третий – размягченный торжественной заутреней, задумчивый, какой-то внутренне просветленный.
Фамилию этот третий носил такую: Мохнатых.
Когда пришли к Крутонову, поднялась сразу веселая суета, звон стаканов, стук ножей и вилок…
И опять трое были оживлены, включая и хозяина, a Мохнатых по-прежнему поражал своим задумчивым, растроганно-печальным видом.
– Что с тобой такое делается, Мохнатых? – спросил озабоченный Крутонов, разливая в стаканы остатки четвертой бутылки.
– Эх, господа, – со стоном воскликнул Мохнатых, опуская пылающую голову на руки. – Может быть, это единственный день, когда хочется быть чистым, невинным, как агнец, – и что же! Никогда так, как в этот день, ты не чувствуешь себя негодяем и преступником!
– Мохнатых, что ты! Неужели ты совершил преступление? – удивились приятели.
– Да, господа! Да, друзья мои, – простонал Мохнатых, являя на своем лице все признаки плачущего человека. – Как тяжело сознавать себя отбросом общества, преступником…
Хозяин разлил по стаканам остатки пятой бутылки и дружески посоветовал:
– А ты покайся. Гляди, и легче будет.
По тону слов хозяина Крутонова можно было безошибочно предположить, что в этом совете не заключалось ни капли альтруистического желания облегчить душевную тяжесть приятеля Мохнатых. А просто хозяин был снедаем самим земным, низшего порядка любопытством: что это за преступления, которые совершил Мохнатых?
Разлил остатки шестой бутылки и еще раз посоветовал:
– В самом деле, покайся, Мохнатых. Может, мы тебя и облегчим как-нибудь.
– Конечно, облегчим, – пообещали Вострозубов и Полянский.
– Дорогие вы мои, – вдруг вскричал в необыкновенном экстазе Мохнатых, поднимаясь с места. – Родные вы мои. Недостоин аз, многогрешный, сидеть среди вас, чистых, светлых, и вкушать из одной и той же бутылки пресветлое сие питие. Грешник я есмь, дондеже не…
– Ты лучше по-русски говори, – посоветовал Полянский.
– И по-русски скажу, – закричал в самозабвении Мохнатых: – И по-французски, и по-итальянски скажу – на всех языках скажу! Преступник я, господа, и мытарь! Знаете ли вы, что я сделал? Я нашему директору Топазову японские марки дарил. Чилийские, аргентинские, капские марки я ему дарил, родные вы мои…
Крутонов и Вострозубов удивленно переглянулись…
– Зачем же ты это делал, чудак?
– Чтоб подлизаться, господа, чтобы подлизаться. Пронюхал я, что собирает он марки, – хотя и скрывал это тщательно старик! Пронюхал. А так как у него очищается место второго секретаря, то я и тово… Стал ему потаскивать редкие марочки. Подлизаюсь, думаю, a он меня и назначит секретарем!
– Грех это, Мохнатых, – задумчиво опустив голову, сказал хозяин Крутонов. – Мы все работаем, служим честно, a ты – накося! С марочками подъехал. Что ж у него марочек-то… полная уже коллекция?
– В том-то и дело, что не полная! Нужно еще достать болгарскую выпуска семидесятого года и какую-то египетскую с обелиском. Тогда, говорит, с секретарством что-нибудь и выгорит.
– И не стыдно тебе? – тихо прошептал Крутонов. – Гнусно все это и противно. Марки-то эти можно где-нибудь достать?
– Говорят, есть такой собиратель, Илья Харитоныч Тпрундин, у которого все что угодно есть. Разыщу его и достану.
– Омерзительно, – пожевал губами Крутонов. – Семидесятого года болгарская-то?
– Семидесятого. Горько мне, братцы.
– Ну, что ж, – пожал плечами Вострозубов. – Ты нам признался, и это тебя облегчило. Если больше никаких грехов нет…
– Нету грехов? У меня-то? – застонал Мохнатых. – А банковская операция с купцом Троеносовым – это что? Это святое дело, по-вашему?
– Постой, – тихо сказал Вострозубов, беря Мохнатых под руку и отводя его в сторону. – Ты им этого не говори; они не поймут. А я пойму. Вот – выпей и расскажи.
– И расскажу! Все расскажу!! Ничего не потаю. Пьянствовали мы недавно с купцом Троеносовым. Он и давай хвастаться своей чековой книжкой. «Видал, говорит, книжку? Махонькая, кажется? Корова языком слизнет – и нет ее!! А большая, говорит, в ней сила. Тут я, говорит, проставлю цифру, тут фамилию – и на тебе, получайте. Хоть десять тысяч, хоть двадцать тысяч!» Хвастался этак-то, хвастался, да и заснул. А я возьми с досады, да и выдери один листочек…
– Мохнатых?! – с негодованием вскричал Вострозубов. – Неужели…
И снова громко застонал Мохнатых.
– Да! Да! Каюсь ради великого праздника! Три тысячи вывел я на листочке, подписал «И. Троеносов» – благо он как курица пишет – и в ту же неделю получил. Тошно мне, братцы, ой, как тошно!!
– Куда же ты их девал, несчастный?
– А я пошел в другой банк да на текущий счет все три тысячи и положил. Вот и чековая книжечка, вроде Троеносовской.
– Какая грязь! Покажи… Книжечку.
– Вот видишь… Тут сумма и число ставится, тут фамилия…
– Неужели ни на одну минуту, Мохнатых, совесть не схватила тебя за сердце, не ужаснулся ты?… А фамилия получателя разве тут не ставится?
– Ни-ни! На предъявителя. Понимаешь, как удобно. Предъявил ты чек, и расписок никаких с тебя не берут – пожалуйста! Получил из кассы и иди домой.
– Гм!.. Смешные, ей-богу, эти банкиры. Покажи-ка еще книжечку… Значит, ты сначала выдрал такой листочек, a потом уже подписал купцову фамилию.
– Ну, конечно! Ох, тошнехонько мне, братцы!.
– Выпей, преступная твоя душа. Вон, там твой стакан, на окне… Ну, теперь бери твою книжку. Да спрячь подальше. А то, брат, знаешь, не трудно и влопаться… Так все три тысячи, значит, у тебя и лежат?
– Все лежат, – вскричал кающийся Мохнатых, ударяя себя в грудь. – Ни копеечки не трогал!
– Н-да… Ну, ничего. Бог тебя простит. По крайней мере, теперь ты облегчился…
Полянский уже давно ревниво следил за интимным разговором Мохнатых с Вострозубовым.
Подошел к нему, обнял дружески за талию и шепнул:
– Ну, что, легче теперь? Нету больше грехов?
Тоскливо поглядел на него Мохнатых.
– Нету грехов? Это у меня-то? Да меня за мой последний грех повесить мало! Братцы! Вяжите меня! Плюйте на меня! Я чужую жену соблазнил!
– Какая мерзость! – ахнул Полянский, с презрением глядя на Мохнатых. – Хорошенькая?
– Красавица прямо. Молоденькая, стройная, руки, как атлас, и целуется так, что…
– Мохнатых! – сурово вскричал Полянский, – не говори гадостей. И тебе не стыдно? Неужели ты не подумал о муже, об этом человеке, которого ты так бесчеловечно обокрал?!.
– Жалко мне его было, – виновато пролепетал Мохнатых, опустив грешную голову. – Да что же делать, братцы, если она такая… замечательная…
– Замечательная?! А святость семейного очага?! А устои? Говори, как ее зовут.
– Да зачем тебе это… Удобно ли?
– Говори, развратник! Скажи нам ее имя, чтобы мы молились за нее в сердце своем, молились, чтобы облегчить ея и твой грех… Слышишь? Говори!
– Раба Божия Наталья ее зовут, – тихо прошептал убитый Мохнатых.
– Наталья? Бог тебя накажет за эту Наталью, Мохнатых. А по отчеству?
– Раба Божия Михайловна.
– Михайловна? Какой позор… Не спрашиваю ее фамилии, потому что не хочу срывать покрывала с тайны этой несчастной женщины… Но спрошу только одно: неужели у тебя хватало духу бывать у них дома, глядеть в глаза ее мужу?!
– Нет… Я больше по телефону… Уславливался…
– Еще хуже!! Неужели раскаяние не глодало тебя?! Неужели этот номер телефона, ужасный преступный номер – не врезался в твою душу огненными знаками?! Не врезался? Говори: не врезался?
– Врезался, – раскачивая головой, в порыве безысходного горя, прошептал Мохнатых.
– Ты должен забыть его! Слышишь? То, что ты делал, – подло! 27–18?
– Что, номер? Нет… Хуже! Больше!
– Еще хуже? Еще больше? Какой же?
– 347-92.
– Ага… Наталья Михайловна… Так-с. Как же ты подошел к ней? Каким подлым образом соблазнил эту несчастную?..
– А я просто узнал, что за ней ухаживал Смелков. Встретил ее да и рассказал, что Смелков всюду хвастается победой над ней. Выдумал. Ничего Смелков даже и не рассказывал… А она возмутилась, прогнала Смелкова… Я и стал тут утешать ее, сочувствовать.
– Трижды подло, – рассеянно заметил Полянский, описывая что-то карандашом на обрывке конверта.
– Все грехи? – спросил Крутонов, разливая в стаканы остатки восьмой бутылки и набивая рот куличом. – Во всем признался?
– Кажется, во всем.
– Ну, вот видишь. Легче теперь?
– Кажется, легче.
– Ну, вот видишь! Говорил я, что мы тебя облегчим… И облегчим!
– Конечно, облегчим, – серьезно и строго подтвердил Вострозубов.
– Камень с души снимем, – пообещал Полянский.
– Все камни снимем! Камня на камне от твоих грехов не останется.
– Я пойду домой, родные, – попросился раскисший Мохнатых. – Спаточки мне хочется.
– Иди, детка. Иди. Бог с тобой. Если еще будут какие грехи – ты нам говори. Мы облегчим…
И умягченный, обласканный, облегченный, пошел Мохнатых домой, с тихой нежностью прислушиваясь к веселому, радостному звону пасхальных колоколов.
Кустарная работа
На глухой улице южного городка стоял дом с садом, принадлежащий Ивану Авксентьевичу Чеботаренку.
Мой приятель, столичный художник Здолбунов, и я – мы гостили у тороватого Чеботаренка весь май месяц и часть июня.
Хорошо было. Цвела сирень, цвела акация, цвело все, на что только падали жаркие поцелуи солнца, и все мы ходили, как полупьяные.
В день именин хозяина, вечером, когда луна залила серебристо-зеленым светом сирень в саду и тополя, я ушел от гостей в свою комнату, бросился на кровать и долго лежал так, часто и сильно дыша ароматом щедрой сирени, доносившейся из открытого выходившего в сад окна.
Хорошо было. Я в этот момент никого не любил и, вообще, в это время никого не любил, но чувствовал, что скоро полюблю сильно, сокрушающе и что эта любовь будет счастливая, долгая. Запах сирени может многое рассказать, если в него как следует вникнуть.
За окном раздался голос моего приятеля, художника:
– Вот тут скамеечка есть. Тихо, безлюдно, и сирень безумствует кругом. Сядем, Марья Николаевна.
Женский голос поправил:
– Какая я вам Марья Николаевна?! Я Ольга Николаевна. Неужели вы еще не запомнили?
– Я-то не запомнил?! Таковский я, чтобы не запомнить. Нет, я запомнил, но только вам больше идет имя – Маруся. Марья Николаевна.
– Да уж вы сумеете вывернуться, знаю я вас.
– Какие у вас холодные руки, Ольга Николаевна.
– А вы откуда знаете?
– Да я одну из них взял.
– Зачем же вы это делаете? Оставьте; не надо.
– Почему не надо? А, может быть, я хочу поцеловать вашу руку.
– Это совсем лишнее.
– Нет, не лишнее. У вас красивые руки, Марья Ник… Ольга! Ольга Николаевна!!
– Ну, уж нашли тоже красоту. Вероятно, всем женщинам говорите одно и то же.
– Если бы все женщины были похожи на вас, я бы говорил им то же самое.
– А что же, я разве не такая женщина, как другие?
– Вы? Вы особенная. В вас есть что-то такое… что-то, знаете, такое…
– Ой, руке больно. Не жмите.
– Ну, ничего. Я ее поцелую, все и пройдет.
– Знаете, почему я держу вашу левую руку, a не правую?
– Почему?
– Левая ближе к сердцу.
– Так вы говорите – какая я?
– Вы? Особенная какая-то.
Пауза. Потом раздался притихший голосок Ольги Николаевны:
– Странно. Это говорите не вы первый.
– Ну, вот видите! Какие у вас красивые плечи.
– Оставьте. Ну, так что же во мне особенного?
– В вас есть какое-то обаяние. Меня влечет к вам. Ведь мы познакомились только нынче за обедом, a мне кажется, будто мы с вами знакомы давно-давно.
– Какой вы странный.
– Да… Меня все находят странным. Я не такой, как другие.
– А какой же вы?
– Какой? Да, знаете, долго говорить. Но только вы меня не должны бояться.
– Почему у вас такая рука холодная?
– Сердце горячее.
Долгая пауза.
– Виктор Михайлович!
– Ну?
– О чем вы так глубоко задумались?
– Что? Эх!.. Не стоит говорить. Нет. Нельзя. Не расспрашивайте.
– Наверное, о какой-нибудь из ваших многочисленных симпатий?
– О, Марья Николаевна… Как вы далеки от истины!
– Ольга я Николаевна! Какая я вам Марья Николаевна?! С кем вы меня путаете?..
– Это я нарочно назвал вас Марьей Николаевной, чтобы посмотреть: ревнивая ли вы?
– Да уж вы сумеете вывернуться. Вас на это взять.
И своеобразная гордость прозвучала в голосе Ольги Николаевны. Будто она уже начала гордиться своим собеседником.
– Так о чем же вы так задумались?
– О чем? Вернее – о ком.
– Ну, о ком?
– Нет, зачем, Map… Ольга Николаевна! Лучше не говорить… Скажу только одно: ваше имя надолго запечатлеется в моем сердце, как что-то милое дорогое и сладко-печальное.
– Ну, не надо быть таким… Ей-богу, вы странный. Так о ком же вы думали?
– Сказать? А вы не рассердитесь?
– Нет. Почему же?
– Вот если вы меня поцелуете, тогда скажу.
– С какой же стати я вас буду целовать! Нельзя. Я замужем.
– Серьезно?!
– Конечно.
Пауза.
– Ну, так что ж такое, что вы замужем?
– Как что? Вот, ей-богу… Какой вы странный.
– Жизнь меня сделала странным, милая Оля.
– Не смейте меня так называть.
– Хорошо, Оля. Не буду.
– То-то. Так о ком же вы думали?
– О вас.
– Интересно знать, что же вы обо мне думали?
– Я думал: сколько вы счастья можете дать тому человеку, который вас полюбит.
– Наверное, всем женщинам говорите то же самое.
– Я?! Нет. Чего мне! Только вам и говорю.
– Отчего вы такой печальный, Виктор Михайлович?
– У меня жизнь печально сложилась, Оленька.
– Бедный мой, бедный; ну, дайте, я вас по головке поглажу. Оставьте. Пустите! Не смейте меня целовать! Я кричать буду!
Лежа у себя на кровати, я нервно насторожился, вот сейчас раздастся пронзительный крик.
Крика не было. Тишина, на секунду прерванная звуком поцелуя, царила за окном.
– Слушайте, если вы будете так себя вести – я уйду.
– Ну, не надо уходить.
– Да уж я знаю вас – вы умеете женщин уговаривать. Дайте слово, что больше этого не будет.
– Чего?
– Вот этих… поцелуев…
– Дам слово… С одним условием, – чтобы завтра вы пришли ко мне. Я покажу вам свои рисунки. Вы любите искусство?
– Страшно!
– Ну, вот видите. Вы такая чуткая, понимающая и вдруг заброшены в эту глушь. Я понимаю, каково вам приходится. У вас красивая душа. Так придете?
– Я приду с одним условием: дайте мне слово, что вы не позволите себе ничего лишнего.
– Лишнего? Что вы, Оленька?!. За кого вы меня принимаете. Ничего лишнего. Будет самое необходимое.
– Ну, пойдемте отсюда… А то ушли и пропали… даже неприлично. Только послушайте… Виктор Михайлович… Вы, наверное, меня не уважаете. Только сегодня познакомились, a мы уже с вами… и целовались…
– Ольга Николаевна! Разве можно говорить о каком-то там уважении, если налицо любовь! Разве можно заботиться о каком-то насморке, если у человека брюшной тиф?
– Да уж я вас знаю… Вы умеете красиво говорить… Ну, идите вперед, a я с другой стороны выйду.
Через полчаса Здолбунов, насвистывая что-то, зашел в мою комнату.
– Ты тут? Что это ты делаешь в одиночестве?
– Здолбунов! Я все слышал, о чем ты говорил с Ольгой Николаевной.
Он засмеялся.
– Стыдно подслушивать, дитя мое.
– Знаешь, Здолбунов… я записал весь ваш разговор. Почти дословно. Не хочешь ли прочитать?
Он взял из моих рук бумажку и внимательно прочел ее.
– А ведь, ей-богу, недурно.
– Это? Недурно?! Здолбунов! Ты, который читаешь рефераты по искусству, ты, который имеешь жену – чуткого, тонкого, умного человека, ты, который…
– «О ты, Катилина!» Успокойся, милый. Запомни мудрые слова человека Здолбунова: на кита ходят с гарпуном, a на пескаря достаточно примитивнейшего крохотного стального крючка. Крючка кит даже не заметит; гарпуном пескарь будет раздавлен, как букашка. Все на свете разумно, и Марья Николаевна…
– Ольга!!
– Ну, Ольга. И Ольга Николаевна получит если и не мое уважение, то мою краткосрочную любовь.
– Да уж вы, мужчины, умеете говорить. На это вас взять, – засмеялся я.
А в окно врывался сладкий, ласковый запах сирени и все оправдывал, и все оправдывал, и все оправдывал.
Отдел III Те, которые действуют на нервы
Приезжий Сельдяев
Посвящ. Ник. Серг. Шатову.
Я прислушался… Из передней донесся голос моей горничной:
– Барин дома, но очень занят.
Другой голос приветливо согласился.
– Ага… Так, так. Это хорошо. Ну, пусть себе занимается. Я мешать не буду. Доложите, что я хочу его видеть…
– Да барин занят. Пишет.
– Ну, вот и хорошо. Наверное, какую-нибудь забавную вещь пишет. Скажите, что я хочу его видеть…
– Барин сказал, что его отрывать нельзя.
– Да я и не оторву. Ей-богу. Только десять минут. Желает, мол, видеть его Сельдяев. Он меня примет.
– А они сказали, что никого не будут принимать.
– Ну да. Вообще. А я Сельдяев.
Голос у него был кроткий, убедительный, как у человека, который погряз с головой в разных деликатностях.
– Не знаю уж, как и быть.
– Вы только скажите ему, что я из провинции.
Этого он мог бы и не говорить. Весь предыдущий разговор достаточно убедил меня в этом. Я с силой бросил перо на письменный стол, вскочил, выбежал в переднюю и, заложив руки в карманы, отрывисто спросил:
– Что?
– Мамочка! – закричал он, умиленный. – Не узнает! Вот смехи-то… Сельдяева не узнал. Да какая же жизнь после этого… Дайте-ка я перво-наперво вас облобызаю.
Он привлек меня к себе, a горничная в это время стаскивала с его плеч шубу. Вышло так, что мы спутались в один странный комок, состоящий из горничной, Сельдяева, шубы его и меня.
– Простите, не узнаю, – пролепетал я, прижимая Сельдяева к сердцу.
– Сельдяева-то? Помните, вы в Армавире у нас читали лекцию, a я зашел приветствовать вас от имени армавирского общества любителей таксомоторной езды. Еще после мы с Гугенбергом и Чихалиным вас на таксомоторе возили, город показывали. Кстати, знаете, Чихалин-то… Кинематограф открывает в Армавире.
– Что вы говорите! – деликатно поразился я. – Это неслыханно! Кто бы мог подумать… Эх, Чихалин, Чихалин… Не выдержала русская душа окружающей беспросветной мглы… Садитесь.
– Сяду. Я ведь вам мешать не буду. У меня только одна просьба: покажите мне ваш Петроград.
Я поглядел на Сельдяева; взглянул на неоконченную рукопись. Первый все равно не отстанет; вторую все равно окончить не удастся.
– Пойдем, – сказал я.
– А работа? Вы не беспокойтесь, пишите. Я минуточек пять подождать могу.
– Что вы! Тут работы часа на два.
– Ну, тогда, конечно, бросьте. Хе-хе… Сельдяевы не каждый день в Петроград приезжают. Верно?
– Пойдем.
Мы оделись и вышли.
– Вот это Невский проспект, – сказал я приостановившись, чтобы полюбоваться на его ошеломленное лицо.
Однако лицо его было спокойно, как морской залив в тихое летнее воскресенье.
– Невский?.. Так, так. Далеко тянется?
– Верст десять!
Я опять искоса взглянул на него.
– Десять? Так. Но это в обе стороны?
«Нет, – подумал я, – улицей его не удивишь. А что ты, голубчик, запоешь, когда увидишь Казанский собор?!»
– Это вот Казанский собор. Каково, а? Хотите внутрь зайти?
– Нет, зачем же, – пожал он плечами. – Собор как собор.
– Ну, не скажите… Колонны-то все-таки… Видали, какие?
– Да, серые. Сто штук будет?
– Что вы, – сказал я и хотел добавить: «меньше», но потом решил ошеломить его.
– Больше! Около трехсот.
– С каждой стороны или в общем?
Я резко повернулся:
– Пойдем.
Желание поразить этого человека пропало во мне. Я вяло водил его за руку и не менее вяло указывал вялым пальцем:
– Исаакиевский собор. Полтораста миллионов обошелся.
Сельдяев значительно поджимал губы и, подняв одну бровь, спрашивал:
– С землей или без земли?
– А это вот Нева. Видите?
Он перегнулся через перила и стал рассматривать реку так, будто бы хотел разглядеть какое-то насекомое, ползущее внизу.
– Это вот Нева и есть?
– Нева. Кажется, что не широка, a на самом деле обман зрения: пять верст!
Никакого изумления не отпечатлелось на его лице.
– Ну, вода-то здесь, говорят, ядовитая, – задумчиво опершись о перила, промямлил он.
– Вода? Страшно ядовитая. На один кубический сантиметр воды четыре миллиарда бактерий. Ежели нападут все вместе, человека растерзать могут.
– Так, так. А эта штучка там торчит – что это такое?
– Где?
– Вот эта. Кривая какая-то.
– Это – Троицкий мост! (Мы стояли от него в ста шагах.) Хорошая «штучка»!.. Одна постройка обошлась полтораста милл… (все равно!) миллиардов.
– Все-таки, он металлический?
– А вы какой же хотели?
– Да нет, я так. Мне все равно. Металлический так металлический.
Я призадумался.
– Когда кессоны устанавливали, – около трех тысяч народу погибло.
Это был единственный раз, когда он изменил себе, заметив:
– Ну, на такой большой мост неудивительно, – что столько народу пошло.
Я сразу погас, потух, обессилел и побрел, еле перебирая ногами и неохотно влача Сельдяева за руку.
Были впереди еще – музеи, памятники, вся красота и мощь Петрограда. Но – что это все Сельдяеву? Я решил не церемониться с ним.
* * *
Мы шли по какой-то неизвестной мне узкой улице; я указал на серый двухэтажный дом и значительно сказал:
– Самый знаменитый дом в Петрограде.
– А что?
– Здесь Пушкин написал своего «Евгения Онегина».
– Пушкин? – переспросил Сельдяев. – Александр Сергеевич?
– Да.
– Он тут что же… всегда жил или так только… Для «Онегина» поселился?
– Специально для «Онегина». Заплатил за квартиру двадцать тысяч.
Печать холодного равнодушия лежала на каменном лице Сельдяева.
– Вы что же думаете, – сурово спросил я, – что прежние 20 тысяч все равно, что теперешние? Теперь это нужно считать в 50 тысяч!
– Гм… да! А он за «Онегина»-то много получил?
Я бухнул:
– Около трехсот тысяч.
– Ну, тогда, значит, – рассудительно заметил Сельдяев, – ему можно было за квартиру такие деньги платить.
Мы молча зашагали дальше.
– А вот этот дом – видите? Тут несколько лет тому назад произошла страшная драма: один молодой человек вырезал обитателей четырех квартир.
– Это сколько ж народу?
– Да около так… пятидесяти человек.
Он осмотрел фасад и спросил:
– В один день?
– А то как же?
– Этак, пожалуй, и не успеешь, если без помощников. За что же он их?
– Из мести. Они съели его любимую невесту.
Сельдяев качнул головой.
– Людоеды, что ли?
– Нет!! – отрезал я, дрожа от негодования. – Это был такой клуб, где ради забавы каждый день ели по человеку. И полиция молчала, потому что ей платили около трех миллионов в год.
– Рублей?
– Нет, фунтов стерлингов!!! В фунте – 9 рублей 60 копеек.
– Английские фунты?
– Да! Да!
Он улыбнулся краешком рта.
– Гм! Просвещенные мореплаватели…
* * *
– Стойте! Вот дом, который вас позабавит. Здесь помещается питомник полицейских собак. Есть тут одна собака Фриц, которая не только разыскивает преступников, но и допрашивает их.
– Овчарка? – спросил он, оглядев фасад.
– Черт ее знает!! Недавно захожу я сюда, a она сидит за столом и спрашивает какого-то парня:
«Как же вы говорите, что были в тот вечер на Выборгской стороне, когда я нашла ваши следы на лестнице дома Гороховой улицы?» Так парень на колени. «Ваше высокородие! Не велите казнить, велите слово молвить!.. Так точно, повинюсь перед вами».
– Да, да, – сказал Сельдяев, шумно вздыхая. – Читал и я, что где-то в цирке показывали собаку, которая разговаривает; потом кошку… тоже. Показывали… которая разговаривает…
Я погасил искорку ненависти, мелькнувшую у меня в глазах, и сказал, хлопнув его по плечу:
– Так слушайте, что же дальше! Собака, значит, к нему: «А так, ты сознаешься?!» – «Так точно. Только вот что, ваше высокородие: так как говорим мы глаз-на-глаз, то разделимся по совести. Я вам бриллиантовые сережки отдам, что украл, a вы меня отпустите…» И кладет перед ней серьги. Собака только плечами пожала: «куда мне они… Ведь всем ювелирам приметы и описание сережек разосланы. Попадусь еще… Есть у тебя рублей пятьдесят наличными – так дай. Тогда черт с тобой, иди куда хочешь». – «Тридцать пять есть!» – «Ну, ладно, давай, да сережки-то не здесь сбывай, a где-нибудь в Берлине или Дрездене!» Опустила деньги в карман да прочь со стола.
Сельдяев выслушал меня, и в глазах его мелькнула тень интереса к моему рассказу.
– Да откуда ж у нее карман?
– Карман сюртука. Они ведь одеваются в форменные сюртуки. Шашка. Сапоги. Свисток. Жалованье 11 рублей с полтиной.
Но Сельдяев снова погас. Взял меня под руку и спросил:
– Ну, a что тут у вас, вообще, в Петрограде интересного?
– Вы лучше расскажите, что у вас слышно в Армавире?
Он остановился, обернулся ко мне, и лицо его сразу оживилось.
– Да ведь я вам и забыл сказать: вот будете поражены… Ерыгина помните?
– Не помню.
– Ну, как же. Так можете представить, этот Ерыгин решил ехать в Сибирь! Нашел в Иркутске магазин, который ему передали на выгодных условиях, – и переезжать туда… Не чудак ли?.. Что вы на это скажете?!
И он залился закатистым смехом.
– Господи Иисусе! Кто бы мог подумать! – воскликнул я и вслед за ним залился смехом.
Как это часто бывает, смеялись мы по разным поводам.
Необыкновенный человек
К подъезду большого коммерческого банка подъехал господин средних лет, незначительной наружности…
Когда он, среди потока других клиентов банка, проходил через стеклянный, монументального вида, турникет, то приостановился около усталого, отупевшего от бессмысленной работы швейцара и медлительно, с некоторой раздумчивостью, совсем не вязавшейся с происходившей кругом суетой, спросил швейцара:
– Много народу, небось, у вас бывает в день?
– Много, – отвечал швейцар, вертя турникет.
– И всякого, значит, пропустить надо… Работа, нечего сказать. Тут, небось, и о себе-то чтобы подумать – нет свободной минуты.
– Где там!
– Тяжелая работа. Семейный?
– Семейный.
– Так-с, – пожевал губами господин. – Для семьи, значит, приходится добывать. И дети есть?
Швейцар с некоторым удивлением ответил:
– Двое.
– Мальчики, девочки?
– Мальчик и девочка.
– Ну, дай им Бог доброго здоровьица. Пока до свиданья. Иду, брат, деньги по переводу получать. Сто двадцать пять рублей. Директора у вас хорошие?
– Ничего, директора хорошие. Сюда пожалуйте.
– Пойду, пойду… Не буду отвлекать тебя от дела.
* * *
– Скажите, мальчик, где тут у вас по переводам получают?
– У третьей колонны, налево.
Проворный мальчишка в коричневой куртке с золочеными пуговицами хотел прошмыгнуть мимо, но посетитель задержал его и, снисходительно улыбнувшись, сказал:
– Небось, вам, мальчик, уже надоели все эти вопросы?.. Вот, думаете вы, как это просто, и надпись есть: «получение по переводам», a все спрашивают, справляются. Сколько жалованья получаете?
– Восемь рублей.
– Ну, что ж, – задумавшись решил посетитель, – все-таки родителям подмога. У родителей живете?
– У родителей, – с важным видом пискнул мальчишка, втайне польщенный такой содержательной беседой.
– Ну, ну. Это хорошо. Вы старайтесь.
* * *
Посетитель подошел к барьеру и, облокотившись о него, закивал головой заведующему оплатой переводов.
– Здравствуйте, здравствуйте. Ну, как банковские дела? Подвигаются? Ничего? Все благополучно?
– Благодарю вас, ничего. У вас что? перевод?
– Да, знаете… Хотелось бы получить. Жена-то у меня живет в Кременчуге, ну, a мне тут и понадобились деньги. Я ей и пишу: «Лиза, дескать, вышли немного, чтобы…»
– Хорошо, хорошо. Позвольте ваш перевод.
– Вот он – видите. Тут и сумма обозначена, и число, и от кого, и что – все есть. Женаты?
– Что?
– Вы-то, я спрашиваю, женаты? Или в холостяках все еще маячите? Теперь как-то меньше стали жениться…
– Паспорт с вами? – тоскливо спросил заведующий переводами, поглядывая на кучку клиентов, толпившихся за спиной добродушного посетителя.
– Паспорт? А зачем? Ведь я сам пришел. Если бы мой слуга пришел, или там брат, или кто-нибудь, вообще, из хороших знакомых – тогда я понимаю. А так – зачем же?
– Простите, без паспорта мы не можем выдать.
– Вы меня ошеломляете. Объясните мне, почему такое странное правило?
– Да видите ли что… Мало ли что…
– Совершенно с вами согласен, – ответил посетитель. – Но вы были бы правы, если бы дело шло о какой-нибудь большой сумме… Ну, там – пять или десять тысяч… А тут? Какие-то сто двадцать пять рублей…
– Да, но раз такое правило, я, как ответственное лицо, не могу рисковать.
– Милый! Да разве же я не согласен?! Зверь я, что ли?! Бегемот какой-нибудь? Я согласен! Но тут, изволите видеть, есть одно маленькое «но»… Вы, конечно, ответственное лицо, но – вы слышите это «но»? но никто не имеет права делать из вас машину, бессловесный рычаг какой-то. Вы должны рассуждать! Как же вы должны рассуждать в данном случае? А так: вот пришел человек получать по переводу 125 рублей, a паспорта-то у него и нет. Жулик он или не жулик? Украл он этот перевод или честно получил от жены по почте? Прежде всего посмотрите на мое лицо! Всмотритесь в мои глаза! Могут быть такие глаза у жулика? Нет! Это первое. Второе: жулик бы не действовал так просто, как я, простите, мол, паспорта не захватил, прошу выдать просто так, на доверие. Жулик к доверию никогда не обратится! Да он вам, батенька, тысячу документов подделает, паспорт украдет да подсунет, но о доверии даже и не вспомнит! Теперь – третье: жулик не будет получать такую маленькую сумму, не будет рисковать из-за какой-то сотни с лишком. Затем, заметьте: жулик для вашего усыпления всегда выведет не круглую сумму, a какую-нибудь самую заковыристую: 352 рубля 17 копеек, 937 рублей 91 копейка!
– Простите, вы задерживаете публику.
– Вот-то чудак человек! Да не я задерживаю публику, a вы меня задерживаете! Подумаешь, велика важность – 125 рублей. Да я, может быть, такую сумму в один раз в ресторане оставлял.
– Нет, без паспорта мы выдать не можем.
– Так-с. Значит, я, по-вашему, жулик?
– Я этого не смею сказать; но раз существует правило – я не могу рисковать…
– Эх, вы! А прелесть риска для вас ничто? Сейчас видно, что вы не спортсмен! Риск должен захватывать, должен кружить голову!.. Не дадите? Ну, хотите я вам дам честное слово, что перевод мой и что тут нет никакого подвоха? Ну? Вот – смотрите.
Посетитель положил руки на грудь и сказал проникновенным голосом:
– Клянусь вам и даю честное слово, что перевод мой…
– О, Господи! Неужели вы не понимаете простых вещей?! – застонал чуть не плачущий служащий. – Не могу я, поймите! Если бы еще тут был кто-нибудь из ваших знакомых, который подтвердил бы…
– За этим только и остановка?! Так бы вы и сказали. Вот давайте познакомимся, и дело с концом. Позвольте представиться: Тимофей Николаевич Двоеруков, помещик. Очень рад. Вас как зовут?
– Меня зовут Василием Николаевичем, – полусердито, полусмеясь проворчал служащий. – Но это все равно ни к чему не поведет!.. Какое же это знакомство, если я вас совсем не знаю?!
Посетитель поглядел на служащего опечаленными глазами…
– Спасибо, спасибо вам, Василий Николаевич, за такое отношение… Значит, я, по-вашему, жулик? Бог вас простит это, Василий Николаевич. Но я утверждаю, что когда вы познакомитесь со мной ближе, вы поймете меня и оцените… Что вы делаете сегодня вечером? Завернули бы ко мне, я тут недалече на проспекте живу… Попили бы чайку, погуторили…
– Спасибо, но у меня… совсем нет времени. И умоляю вас – не задерживайте очереди. Смотрите, какой хвост образовался благодаря вам.
– Хвост большой, – задумчиво сказал Тимофей Николаевич, оглядываясь. – Так что же мне делать, дорогой Василий Николаевич?.. Посоветуйте. Бросьте этот сухой официальный тон, так гармонирующий с деловой суетой, мраморными колоннами и щелканьем счетов. Посмотрите на меня ласково, ведь вы же человек и я человек… Неужели завет Христа, что все люди – братья… Эх, Господи! Солнца бы сюда побольше! Ласки побольше.
Служащий потер горячую голову и пролепетал, обессиленный:
– Пойдите, попросите директора. Если он согласится…
– Спасибо, Василий Николаевич. Вот это человеческое отношение! Куда идти-то? Направо?
* * *
Войдя в кабинет директора, убранный со строгой, чисто деловой роскошью, Тимофей Николаевич приостановился у письменного стола и огляделся:
– Какое у вас тут строгое настроение. Воображаю, как бы на меня посмотрели, если бы я в этой обстановке затанцевал гопака… Страшно у вас тут, холодно. А я к вам, Яков Матвеич, по делу. Я уже узнал, как вас зовут – не удивляйтесь. А моя фамилия Двоеруков, Тимофей Николаич. Душевно рад. Работаете все, хлопочете? Солидное у вас учреждение, богатое. Женаты?
– Чем могу служить? – с некоторым изумлением спросил директор. – Мне доложили, что вы по делу.
– Конечно, конечно. «Дела, дела», как сказал какой-то поэт. Слушайте: один ваш служащий меня прямо смешит. Такой смешной.
– Не знаю, кто так вам смешон?.. Служащие у нас хорошо воспитаны, вежливы…
– Эх, милый Яков Матвеич! Да от ихней вежливости-то ледком несет, холодом ледовитым! Ты мне ласку дай, a не вежливость! Ты психологом будь! Гляди на человека и рассуждай: «Жулик он или нет?» А он так безо всякого рассуждения, как машина, прямо режет: «Не могу дать деньги по переводу без вашего паспорта! Правило такое»! А если я забыл паспорт! А если его у меня украли. Эх, Яков Матвеич! У банка вон оборот (я давеча на стенке читал) ежегодно 240 миллионов! А банк 125 рублей боится дать. Ну, предположим даже, что я жулик! Предположим…
– Простите… Мы не можем нарушать правила…
– Вот-с! Вот-с я вас уже и поймал, многоуважаемый, достойнейший Яков Матвеич!.. Да ведь я же исключение! Поймите вы – я исключение на двух ногах!
Директор тыльною частью руки вытер пот со лба и вежливо сказал:
– Но поймите, что раз бывают злоупотребления…
– Хорошо-с! Понимаю! Но поглядите на меня! Вдумайтесь в меня. Вот я встану в профиль, анфас. Что вы видите? Открытое, простодушное лицо, платье от недурного портного, бриллиант на пальце – настоящий, ей-богу. А тон? Тона ведь не подделаешь. И при этом – только 125 рублей. Ну, какой бы, даже самый глупый, жулик подделывал, воровал чек на 125 рублей? Да согласитесь вы, достойнейший Яков Матвеич…
– Хорошо, – с легким стоном согласился директор. – Я распоряжусь. Вам выдадут.
Он позвонил.
* * *
Получив деньги, Тимофей Николаевич пожал Василию Николаевичу руку и приветливо сказал:
– Так если надумаете когда вечером – милости просим. Вот вам карточка с адресом. А если и Яков Матвеич когда надумает вместе с вами – очень буду обрадован. Прощайте, Василий Николаевич, прощайте, Сергей Петрович, всего вам хорошего, Василий Николаевич – не забывайте!
Чеховианец
Память Антона Павловича Чехова для всех нас священна.
Поэтому с благоговейным чувством в годовщину его кончины возлагаем на дорогую могилу венок.
Увы – венок терновый.
Впрочем, Антон Чехов слишком русский писатель, чтобы мог надеяться на пошлейший лавровый венок.
Русским писателям терновые венки более сродни. Итак:
I
– Г-н редактор! Вас спрашивают.
– Кто?
– Говорит: Чеховьянец. Должно, из армян.
– Да что ему нужно? Чем занимается?
– Я спрашивал. Говорит: Чеховьянец.
– Странное занятие. Пригласите его.
Вошедший господин вынул из кармана коробочку, открыл ее и последовательно разложил передо мной измятую, довольно грязную салфетку, две обгорелых спички, кусочек сахару и велосипедный билет за № 14121, выданный двинскому мещанину Терентию Иванову.
– Вот.
– Что это?
– Не купите ли?
Я внимательно осмотрел разложенные богатства.
– Видите ли что… Я предпочитаю покупать спички неиспользованными, оптом, так… не менее целой коробки сразу. Сахар я приобретаю по знакомству, необгрызенный и, кроме того, стремлюсь, чтобы он был без желтых пятен. Покупка тоже оптовая: два-три фунта… Билет этот более полезен велосипедисту Терентию Иванову, чем мне – не велосипедисту и не Терентию Иванову. И, наконец, салфетка носит на себе очень заметный светлый знак из букв и орнамента: «Золотой Якорь». Ну, какой же я, посудите сами, Золотой Якорь?!
– Ничего вы не понимаете, – сурово оборвал меня посетитель. – Я чеховианец.
– Ага… Ну, что, как у вас на Кавказе… все спокойно?
– На кой дьявол нам с вами Кавказ?! Я там никогда и не был!
– Простите, но ваша фамилия…
– Это моя профессия!? Посудите сами: раз есть пушкинианцы – почему не быть чеховианцам?
– Допустим. Ну? Что вам нужно?
– Купите у меня эти вещи для Чеховского музея. Замечательные реликвии. И недорого: пара спичек по 15 рублей – вместе уступлю за 25, сахар; ну, это… я сам на него смотрю сквозь пальцы. Три-пять рублей совершенно предовольно за этот увражик. Салфеточка – вещь диковинная. На ней, так сказать, отпечатлелись типично чеховские черты. А велосипедный билет?.. о, это вы должны у меня с руками оторвать.
Хорошо было бы оторвать ему руки даже без этого билета. Но, признаться, велосипедный билет меня заинтриговал.
– Что же это за билет?
– А вы на фамилию обратили внимание?
– Ну, да. Иванов.
– То-то и оно. Прообраз знаменитой чеховской драмы.
– Это что же… Чехов своего «Иванова» и писал с этого… велосипедиста Терентия Иванова?
– Нет, но фамилия! Замечаете – фамилия? Одна и та же. Родственники Терентия рассказывали мне, что гениальный писатель долго не мог остановиться на каком-нибудь названии своей пьесы, пока не познакомился с Терентием. Тут его и осенило! Взял и назвал: Иванов. Просто и мило. Этот билет был семейной реликвией, пока нужда не заела семью Ивановых. Тут-то я и подвернулся. Купил совсем за гроши: полтораста. Дайте нажить четвертной. Отдам за 175.
– Спички тоже относятся к билету?
– Нет, спички особо. Однажды был сильный ветер. Могучие деревья гнулись, как тростинки; и вот Антон Чехов, желая закурить трубку…
– Полно вздор говорить. Чехов не курил не только трубки, но даже папирос.
– Курил! Ей-богу, верьте совести – курил. Только он стеснялся родных. Нежная, деликатная натура – не хотел никого огорчать. Тончайшая организация… Впрочем, спички я могу уступить и за две красненьких. Но очень хорошие спички.
– На что они мне, – усмехнулся я. – Если бы еще были необгорелые…
– Варвар! – хлопнул он меня салфеткой по плечу, кокетливо сощурясь. – Вандал! Спички, которые держали чеховские пальцы!.. Вот сахар я не навязываю – хотите берите, хотите – нет. Всего-то ему и цена – пять целковых.
– А в лавке берут 17 копеек за фунт.
– Нет!.. И это называется культурный человек! И это называется писатель! Редактор! Знаете ли вы, что однажды в Москве незабвенный творец «Романа с контрабасом» пил кофе, и хозяйка наложила в чашку столько сахару, что он усмехнулся своей ласковой, немного задумчивой улыбкой и сказал: «Ого! Сахару слишком много. Приторно!» Заметьте, какая чуткая организация, не выносящая ничего лишнего, никаких преувеличений: «Приторно!» Хотите, я вам запишу этот случай? Или сами запишите… Только не забудьте эти чудесные, так рисующие Чехова, слова: «Ну, и навалили же вы сахару! Чуть сами туда не сели!» Какой истинно «чеховский» сарказм, какая ирония. Каждое слово алмаз. Вы только вслушайтесь в эту расстановку слов: «Ну, и напихали же вы сюда сладости! Как чашка не лопнет! Вас только заставь богу молиться!..» Это чудесное словечко «моление». Берете?
– Что?
– Сахар.
– Ну его.
– Странно. Неужели и салфетка для вас пустой звук? Видите, какая?
– Да. Грязная.
– Святая грязь! Однажды проникновенный творец «Лошадиной фамилии» ел у себя в Мелихове кисель. И вдруг ложкой как тяпнет по тарелке!..
– Зачем? – изумился я.
– Это у него бывало. Задумается, a потом вдруг рассмеется своим мелодичным смехом неизвестно чего, да ложкой по тарелке – хлюп! Так и тут. Ну, кисель весь на белые брюки фонтаном. Покойный Тихонов присутствовал при этом – можете проверить. Что тут был за переполох – нельзя себе представить! Брюки-то восемь, a то и все десять рублей стоили. Все оцепенели прямо. А он, как ни в чем не бывало, схватил со стола салфетку, да и давай чистить брюки.
– Странно, – поднял я брови. – Вы говорите, что дело происходило у него в имении, a на салфетке написано «Золотой Якорь».
– Извините, – сурово перебил он. – Память великого бытописателя сумерек священна, и не нам ее загрязнять. Утверждали же, что Некрасов слишком счастливо играл в карты. Неужели и мы, подобно этим гробокопателям, бросим тень на великую могилу?!
– Чем же вы можете доказать, что эта салфетка именно чеховская?
– Pardon!! А пятна?
– Ну, пятна… Пятна вы и сами могли сделать.
– Pardon!! Я бывший офицер, и если превратности судьбы заставили меня… то я, вообще, прошу… Знаете; не того!.. Мировые на это смотрят очень серьезно. И потом вы говорите абсурд! Ну, предположим, я сделал пятна на салфетке… А спички? А сахар? Я их тоже сделал? Значит, я должен, по-вашему, открыть спичечный и сахарный заводы?! За кого вы меня принимаете? За графа Бобринскаго? За Лапшина?!!
– Если вы будете кричать, я велю вас вывести…
II
Усталым взглядом посмотрел он на меня.
– Ну, хотите за все двадцать пять рублей? Ведь салфетка одна, если даже она и не чеховская, – на худой конец полтора рубля стоит. А спички! А сахар! А велосипедный билет прообраза Иванова?!
– Не надо, говорят вам. Вот если бы у вас были какие-нибудь личные воспоминания о Чехове…
– Есть! Чего же вы молчали?..
– О чем?
– Вот, например, один памятный разговор с ним. Однажды он рассказывал, как хотел открыть лотошный клуб и как все уже было сделано, да администрация запретила.
– Чехов? Лотошный клуб?!
– Что вас так удивляет? Покойник любил азарт и не прочь был поднажить деньгу. «Веришь ли, Ероша… (Это я. Ерофеем меня зовут.) Веришь ли, – говорить, – Ероша, запретили мне лотошный клуб. Кому вред? Ну, проигрывали бы нудные, сумеречные людишки (какая четкость слога! Узнаете Чехова?), проигрывали бы – и черт с ними! Все равно, так или иначе, a и мы и они ноги протянут. Так хоть, по крайности, мы-то поживем в свое удовольствие».
– Это он так говорил?
– Он.
– Чехов?
– Ну, да.
– Вам?
– Угу.
– А при этом свидетели были?
– Что вы! Разве можно такие интимные вещи говорить при посторонних!
– Гм… да. Впрочем, это не имеет никакого отношения к литературе. А нам нужны литературные воспоминания о Чехове.
– Есть.
– О чем?
– О пьесе «Чайка». Однажды мы с ним сидели на скамейке в Таганроге. Он и говорит: «Хорошо бы выпить чаю сейчас. С лимончиком». И такая при этом чеховская, немного рассеянная улыбка. Я говорю: «Как будет женский род от слова «чай»?»
«Как же, – отвечает удивительный создатель «Средства от запоя», – очень просто! «Чайка» будет от слова «чай». И задумался. Потом прошептал: «Чайка! Это идея. Это красиво. На четыре акта хватит!» Вынул записную книжку, записал. Так и создалась «Чайка».
– А свидетели были при этом разговоре?
– Были. Тихонов был.
– Что вы все – Тихонов да Тихонов. Тихонов умер.
– А я при чем, что он умер? Так берете воспоминания?
– Нет.
– Более чем странно. А чеховские вещи берете?
– Нет.
– Так-с. Стоило только, чтобы прошло несколько лет со дня смерти – и уже забыт! И уже никому не интересен! Забвен от людей! Ну, давайте за все десять рублей.
– Не дам.
– Ну, пять!
– Нет.
– Что ж… и рубля жалко? Ведь салфетка новехонькая. Ее только ежели выстирать…
– Рубль я дам. Но только салфетку забирайте. Не нужно.
– Вот за это мерси! И сахарок я уж возьму. А спички и билет – ваши. Будем считать спички по двугривенному, a билет за шестьдесят.
Когда он уходил, я вышел его провожать.
– О, не затрудняйтесь, – замахал он руками.
– Нет, почему же. Тут, кстати, висит мое пальто.
– Что ж из этого следует? – прищурился он.
– Да то, что я слишком скромен для всего этого. Чеховианцем вы можете быть, a аверченковианцем вам делаться не следует.
– Подождем! – загадочно сказал он, уходя.
И неизвестно было, чего он хотел ждать: того ли, чтобы я сделался известным, того ли, чтобы прислуга когда-нибудь оставила парадную дверь открытой?
Бедный Чехов! Десять лет тому назад тебя привезли в вагоне для устриц, и нынешние «юбилейные» дни проходят под тем же нелепым знаком нелепой устрицы.
Самоновейшие воспоминания о Чехове
I. Писатель Деревянкин в гостях у Чехова
– Скажите, Антон Петрович сейчас дома? Павлович? Почему же Павлович? Отца Павлом звали? Ну, это еще не доказательство.
Вы говорите, нет дома? А чей же это профиль я вижу там, над письменным столом? Стыдно врать, девушка. Такая молодая и уже врешь. Скажу твоему барину, он тебя и прогонит.
Что? Нет, я прямо к нему в кабинет пройду. Что? Ничего… Как писатель к писателю. Это в нашей среде допускается.
– Здравствуйте, коллега. Что? Конечно, коллега. Вы пишете и я пишу. Помешал? Пишете? Ну, ничего. Отдохнете. Вам же и полезно – вон все говорят, что у вас чахотка. Молоко нужно пить, капусту есть, сало, гулять больше. А работа не уйдет. Посидим, поболтаем… Ну, расскажите что-нибудь о себе… Голова болит? Это от работы.
Хотя ведь эти штучки, что вы пишете, они не должны утомлять. Чик-чик, и готово!
Вот Достоевский писал, это я понимаю. Не вертопрах был. Сто печатных листов, полтораста.
Послушайте, Антоша… (вы позволите мне вас так называть?) Почему бы вам не написать большую вещь какую-нибудь… Роман, что ли. А то так – что же…
Ведь физиономии не видно! Пишет, пишет человек, a физиономии и нет.
Конечно, я понимаю, рассказ писать легче, чем роман. Но милый мой! Нужно же идти вперед.
Да! Был со мной вчера случай – совсем тема для вашего рассказа. Вы эти штуки хорошо делаете. Вот – изобразите: еду я вчера на извозчике, вдруг ветер шляпу с головы – хлоп! А на земле лужи после дождя. Шляпа прямо в лужу. Я погнался за шляпой, да ногой в лужу – хлоп! В это время одна барыня и проходи мимо. Я ее грязью из лужи – хлоп! Все платье! Ахнула она, схватилась за голову и выпустила из рук веревочку, на которой вела собаку!.. Собака удирать, барыня орет, я чищу шляпу – шум, гам. У вас это хорошо выйдет.
Что? Почему нельзя курить? Не переносите? Ах, да… Простите. И забыл совсем, что туберкуленок не любит дыму. Ну, сейчас брошу. Докурю и брошу. Что? Жалко же так бросать.
Чуть не забыл! Просьба у меня к вам. Подарите мне свою карточку с надписью. А я вам свою. Я, впрочем, уж приготовил: «Певцу сумерек от певца яркого солнечного света и красивой жизни, Чехову – Деревянкин». Вы замечаете эпическую простоту последних слов.
Кто такой Чехов? Не нужно объяснять – все знают. Кто такой Деревянкин? Не нужно объяснять – все знают.
А вы напишите так на карточки: «Певцу яркого солнечного света и красивой жизни – от певца сумерек. Деревянкину – Чехов». Понимаете? Наоборот.
Неудобно? Почему неудобно? Странно… Если я сделал такую подпись, почему же вам неудобно? Что? Как же вы не певец сумерек? Вас так и критика называет. Пишите, пишите. Вот вам перо.
Что это вы виски трете? Голова болит? Я вам надоел, наверно, своей болтовней? Нет? Ну, спасибо. Что? Посидеть еще пять минут? Посижу, посижу.
Ну, что бы вам еще такое рассказать? Кстати! Тема у меня есть для вас… я вам дам только канву, a уж вы там… размажете пофигуристее. У моего знакомого Булкина есть две дочки… И появляется на горизонте молодой человек Островерхов! Понимаете? Ну, влюбляются… А Островерхов в это время к какой-то вдове-купчихе стал захаживать… Но та на него – нуль внимания, пуд презрения – спит и видит, как бы ей познакомиться с баритоном Драбантовым. И чем же, вы думаете, это кончилось, – обобрал ее Драбантов и бросил! Каково? Вот вам и сумерки русской жизни. Как раз для вас… Вы уж эту коллизию распутайте сами. Что? Ах, я и забыл, что нельзя курить… Совершенно машинально. Что? Где плакат? Ах, да, да. «Просят не курить». Ну, не буду. Докурю и брошу.
А анафемская эта штука – туберкулез. У нас один учитель чистописания… Куда же вы? Послушайте!..
Ушел… Вот оригинал-то. Вечные причуды у этих «имен». Слушай, Глаша! Как? Катя? Все равно. Послушай, Кэтти, куда это убежал твой барин? Это, знаешь ли, не совсем гостеприим… Наверх? А что там у него наверху? Просто комната? Ага… Ну, тогда, значит, можно. Пойдем в просто комнату…
– Антонеско! Здесь вы? Ишь ты куда забрался… Что это вы удрали так сразу? Ну, да ничего, ничего. Какие там между коллегами церемонии… Вы полежите, a я около вас посижу… Поболтаем… Скажите, что такое вышло с вашей «Чайкой?» Говорят, прежестоко провалилась… Что? Почему неприятно вспоминать? Наплюйте! Вон, когда у меня провалились в Останкине «Зовы женского сердца» – что ж, я страдал или нет? Нет! Пошел после спектакля и так нализался с комиком Горшок-Ухватовым, что до сих пор на шее два шрама… Водевиль мой: «Ах, ах, Матреша, что же это такое?» – так освистали, что до сих пор в ушах шум… Нет, пьесы – это чепуха! Нужно роман писать…
Что? Голова болит? Я вам еще не надоел своей болтовней? А? Что? Почему же вы молчите? Послушайте! Я спрашиваю: a вам еще не надоел своей болтовней? Нет? Ну ладно. Посидеть еще две минуты, вы говорите? Ну, посижу.
Ах, да! Еще одна тема у меня для вас есть… Что? И тут нельзя курить? Почему? Тут же нет плаката! Ну, извините. Не знал. Не буду. Докурю и брошу.
Куда же вы? Антон Павлыч! Антонелли! Антонио!.. Ушел… Вот непоседа!
Послушай, Миликтриса Кирбитьевна! Где барин твой? В сарай пошел? Зачем? Просто так? А где этот сарай? Ага! Спасибо.
– Послушайте, вы, чудачина… Что вы тут в сарае делаете? Сыро тут, a у вас чахотка… Вот оригинал: сидит на дровах и молчит. Подвиньтесь-ка…
– О чем я, бишь, начал тогда? Ах, да! Тема для вас есть. Как раз в вашем духе… Мне теща рассказывала. Побились об заклад два мужика в нашем городе, что один из них выпьет сорок бутылок пива. Начал… Пьет он десятую бутылку, пятнадцатую, шестнадцатую… Все сорок выпил и пошел, как ни в чем не бывало. Это вам, батенька, не сумерки!..
– Что это вы? Заснули? Послушайте… А зачем же лицо руками закрывать… Плачет! Вот чудак… С чего это вы! Ведь мужик же не умер, a пошел себе как ни в чем не бывало по своим делам… Вот чувствительная душа-то! Плачет… Ну, успокойтесь Антонио, Антонаки! Хотите папиросочку? Не курите? Слушайте… Я вам не надоел, а? Вы скажите… Если надоел, я уйду.
Молчит… Вот чудак-то! Антуан! Чего же вы молчите? Я спрашиваю – надоел я вам? А? Оригинал! Как я его своим мужиком расстроил… Молчит, a слезы по лицу текут…
– Антонеско! Куда ж вы! Господи! Опять ушел… Прямо даже обидно.
– Повар, послушайте… Эй, как тебя… Красная рубаха! Вы не повар? А кто же вы? Кучер? Ну, на вас не написано, что вы кучер. Скажите, кучер, в какую сторону пошел Антон Павлыч?
На конюшню?.. Что только этот человек может выкинуть! Где его там найти, кучер?
А у вас лошади не кусаются? То-то. Где же твой барин? Его здесь нет. В стойлах погляди! Нет? А тут? За мешками? Нет?
Наверху у вас что? Сеновал? А где же лестница? Ну, конечно, он там, наверху… Вон и конец лестницы торчит. С собой втащил. Принеси другую!
– Антоша! Ты здесь? Ишь ты, шельмец… Забрался и молчит. Где ты тут? Ишь ты, как в сено зарылся…
Опять плачет! Что с ним такое? Ну, успокойся, Антонадзе! Неужели тебя история с дочками Булкина так расстроила? Ишь, заливается! Что это в самом деле у тебя за сумеречное настроение?.. Пойдем отсюда, милый… Тут не хорошо, сыро, холодно… Я тебя уложу дома в постель, попою чем-нибудь, посижу около тебя. Ну, пойдем! Эй, Никита. Принимай снизу барина… Лови – бросаю! Гоп!
II. Певец сумерек
(Воспоминания друга покойного – Егудиила Деревянкина.)
Десять лет…
Десять лет прошло со дня смерти певца сумерек, a он будто сейчас живой стоит перед нами. С покойным писателем я был хорошо знаком. Правда, таланты у нас были разного характера: я – весь в солнце, в красивой яркой жизни, Чехов – умеренный, бледный, весь в блеклых полутонах…
Эта антитеза запечатлена даже самим Чеховым в надписи к его портрету, подаренному мне в одну из наших долгих бесед с покойником. Вот эта надпись:
«Певцу яркого солнечного света и красивой жизни от певца – сумерек. Деревянкину – Чехов».
Как сейчас помню тот светлый для меня день, когда я получил этот портрет…
Писатель работал: писал какой-то новый рассказ, но, узнав, что я приехал, моментально отложил работу.
Он очень любил такие неожиданные наезды друзей.
Бывало, сидит и слушает приятеля с каким-то загадочным выражением лица.
И серьезный же был человек – редко услышишь его смех; все больше мрачное настроение… Да оно и не удивительно: страшная болезнь подтачивала организм великого певца сумерек, о чем он знал из слов близких ему людей.
Особенно запомнилось мне одно посещение… Именно то, когда я получил от Чехова портрет с такой ценной для меня надписью.
Я долго тогда просидел у него… Писатель был в каком-то угнетенном состоянии духа, но долго не отпускал меня, и когда я собирался уходить, – все упрашивал: «Посидите еще пять минуточек». Однако вместо пяти минуточек мы провели в задушевной беседе несколько часов.
Тут же, помню, я дал ему сюжет его знаменитой «Дамы с собачкой»…
Маленькая подробность, на стене висел двусмысленно составленный плакат: «Просят не курить».
Я говорю «двусмысленно составленный», потому что все-таки было не ясно: можно в конце концов курить или нет?
Поэтому я несколько раз вынимал папиросу, но Чехов всегда в шутливой форме указывал на плакат, и я поспешно бросал окурок.
Мы долго потом смеялись над моей рассеянностью.
Вообще, в пылу разговора Чехов совершенно забывал, где он и что с ним.
Он был способен в задушевной беседе повести собеседника на мезонин, потащить его в сарай и даже очутиться в конце концов на сеновале, как это и было однажды…
И вот – милая чеховская шутливость: на сеновале он вдруг, среди разговора, так зарылся в сено, что я насилу его нашел.
И так он мог шутить среди тяжелого «нудного», как он любил говорить, настроения, среди приступов жесточайшего кашля.
В это посещение я прожил у дорогого друга три дня, из которых большую часть провел у его постели (он тогда занемог и слег)…
И эта шутка с сеном была его лебединой песней. При моих последующих посещениях он уже не шутил, a угрюмо молчал, еле отвечая на вопросы…
Болезнь делала свое дело…
И, вообще, я нахожу все слова о его жизнерадостности сильно преувеличенными. Я иногда по целым неделям не расставался с ним, и уж изучить-то характер покойного певца русских сумерек мог основательно…
Спи, дорогой друг… Там – свидимся.
Плакучая ива
Лицо вошедшего в комнату Вихменева господина носило отпечаток раз навсегда застывшей скорби. Будто бы в ранней его молодости судьба однажды размахнулась и отвесила ему своей грозной рукой такую полновесную пощечину, что господин огорчился и оскорбился на всю остальную жизнь.
Усы, складки у рта, волосы на лбу, морщины у глаз – все спустилось вниз, обвисло, как бессильные ветви у плакучей ивы.
А глаза были столь скорбны, что кто заглядывал в них – тому делалось скучно: «что же это я, мол, живу, наслаждаюсь жизнью, веселюсь, в то время, как есть люди с такими нечеловеческими страданиями и вековечной печалью в душе!..»
Общий вид вошедшего господина был хрупкий, грудь, украшенная черным с горошинками галстуком, вдавилась внутрь, будто от тяжести этого надгробного галстука, a суставы рук и ног были так развинчены, расхлябаны, что будь господин сделан из металла – он весь дребезжал бы и лязгал частями, как допотопная телега…
А если бы придвинуть его поближе к оконному свету, можно было бы заметить, что и в складках ушей, и во впадинах около скул, и за туго накрахмаленным воротничком – всюду пряталась скорбь…
И в то время, когда вы бы его рассматривали, он, наверное бы, сказал печально, страдальчески:
– За что вы меня придвинули к окну? Почему рассматриваете? Что я вам сделал?
– Господи помилуй! – скажете вы. – Ничего вы мне не сделали, я только хотел рассмотреть вас поближе.
– Нет, уж я знаю, что вы меня не любите и за что-то сердитесь на меня… Только за что? Недоумеваю!
– Ну, за что мне вас не любить? – пожмете вы плечами. – Что за вздор!
– Ну да, конечно… Вот вы и высказались… Конечно, я вздорный человек, я скучный человек, я это знаю… Ну, что ж: толкайте меня, бейте, распинайте!
Вот какой господин вошел в комнату.* * *
Молча поздоровавшись, он уселся в кресло и долго молчал, покусывая желтыми зубами сухие бугристые суставы пальцев.
– Ну, с чем пожаловал, Зяка? – радушно приветствовал его хозяин.
– Ты спрашиваешь: «с чем пожаловал?» – насторожившись, спросил господин, названный Зякой. – Ты думаешь, я по делу? Нет, я так зашел. Если мешаю, я уйду.
– Ну, чего там, сиди. Я очень рад.
– Нет, уж лучше я пойду. Действительно, зашел человек безо всякого дела, наверное помешал – лучше уж уйти.
– Да сиди ты… черррт!..
– Ну, как хочешь… А только я боюсь быть в тягость.
Зяка встал, прошелся по комнате. Взял какую-то книгу, развернул ее, сказал: «А, ты читаешь Додэ…» и пошел бродить дальше, наталкиваясь на все углы.
– Хорошие цветы у тебя. Это гиацинт?
– Гиацинт.
– Их поливать надо.
– Слушаю-с, ваше благородие.
Зяка подошел к окну, заложил руки за согбенную скорбью спину и прошептал:
– Вот и тучи набегают. А там, гляди, и дождь.
Постояв так в глубоком раздумье минуты три, он неожиданно повернулся к хозяину и спросил его, волнуясь, заикаясь и дрожа:
– За что ты меня не любишь?
– Я тебя не люблю? С чего ты это взял, чудак?
– Ну, ты мной недоволен… Признайся, ведь правда?
– Что ты! Чем я могу быть недоволен?
– Ты как-то странно меня встретил. Обыкновенно ты встречал меня ласково, шутливо: «А-а, старый пират Зяка приплыл!..» А сегодня ты почему-то просто спросил: «С чем пожаловал?»
– Вот ослятина! Стану я следить за собой – назвал я тебя пиратом или нет! Если ты, брат, будешь к таким пустякам придираться, так ведь с тобой никому житья не станет!
– Другими словами, ты просто хочешь сказать, что я неприятный человек…
– Бог с тобой! Ты так же приятен, как летом холодный лимонад!
– Это ирония?
– Правда! Сущая правда в трех частях с эпилогом.
– Что ты этим хочешь сказать?
– Чем?
– Вот этим… Эпилогом. Не хочешь ли ты намекнуть, что для нашей дружбы требуется уже эпилог?
– Зяка, отстань, старая ты, рассохшаяся бочка. У тебя, кажется, начинается мания преследования!
– Хорошая мания преследования! Третьего дня, когда мы встретились на Московской, ты еле поздоровался со мной, a когда я хотел тебе рассказать о своей размолвке с Утюговым – ты просто убежал…
– Зяка! Да пойми же ты, что я шел с дамой! Ты мог целый час рассказывать свои истории и инциденты с Утюговым – не мог же я заставлять свою даму ждать меня!
– Ну, да… А познакомить даму с Зякиным – это нам не пришло в голову? Зякин недостоин дамского общества? Он груб, тяжел, невоспитан…
– Да изволь, познакомлю тебя хоть завтра. Сделай одолжение!
– Значит, ты хочешь уверить меня, что ничего против меня не имеешь?
– Да постой… Разве ты сделал что-нибудь такое, что заставило бы меня относиться к тебе враждебно?
– Вот! Я именно и хотел спросить тебя: что я такое сделал, что ты относишься ко мне враждебно?
– Да я не отношусь к тебе враждебно! Вот характерец!
– Не относишься? Ну? А я заметил, что у тебя по отношению ко мне какая-то злобная ирония. Я, ведь, например, давеча просто, по-дружески посоветовал тебе: «поливай цветы почаще…» К чему же это ироническое насмешливое: «слушаю-с, ваше благородие!»? Обидно. Оскорбительно!
– С чего ты взял, помилуй! Просто пришло в голову и ответил шутливо. Если с тобой нельзя даже пошутить – ты скажи прямо!
– Значит, ты находишь, что у меня тяжелый характер?
– Нет! Не нахожу!
– А что ж ты давеча сказал: «ну и характер!»?
– Это я с восторгом сказал. Ты не понял тоже.
Бессильно опустившись в кресло, Зякин обхватил свою голову руками и с болезненным стоном прошептал:
– Боже, сколько насмешки. Сколько холода и ненависти! За что, за что?
– А убирайся ты к черту! – неожиданно вскричал хозяин. – Слышишь? Ты мне надоел.
Чувство некоторого удовлетворения появилось на лице Зякина.
– Ну, вот видишь… Наконец-то ты заговорил искренно, наконец-то вырвалось у тебя неподдельное чувство по отношению ко мне. Зачем же притворяться, показывать дружбу и симпатию ко мне, которой давно уже нет и в помине…
Хозяин вскочил на ноги и бешено заорал:
– Да пойми ты, идиот ты аргентинский, тухлая ты ослятина, свинячья прямая кишка – пойми, что ты святого доведешь до того, что он даст тебе по твоей искаженной обидой морде!!! Ну, можно ли иметь такую физиономию?! Ведь от нее молоко скиснет!! Матери будут преждевременно рожать!! Лошади сорвутся с привязи и звери завоют в логовищах. Так бы и треснул тебя!!
Зякин опустил все свои многочисленные складки и волосы вниз, капнул на отворот сюртука крохотной мутной слезой и покорно подошел к хозяину.
– Что ж, бей… Зачем же сдерживать желание?.. Ударь друга, который не будет защищаться.
– Убирайся вон! Уходи!! Не будем просто встречаться и конец.
Все большее и большее удовлетворение расплывалось по лицу Зякина.
– Ну? Не прав ли я был? Ведь я же знаю, что ты против меня что-то имел… Зякина, голубчик, не проведешь.
– Агафья! Марина!! Пальто и шляпу господину Зякину! Он уходит!! Уберите его от меня, или сейчас большой грех случится!..
* * *
Через час озабоченный, грустный Зякин сидел у знакомого Прядова и, покусывая большими желтыми зубами сухие суставы пальцев, спрашивал:
– Вы давно видели Вихменева?
– Вчера.
– Ничего ему про меня не говорили?
– Ничего.
– Не понимаю! Наверное, кто-нибудь другой наговорил ему про меня. Наверное, Утюгов. Я уже давно замечал, что он на меня дуется. А сегодня прихожу к нему посидеть – и что же? Он меня просто выгнал!! Что вы на это скажете?
– М… да.
– Нравится это вам?
– Мм… да!..
– То есть, как «да»? Вы, значить, одобряете такое обращение? Соглашаетесь с ним? Павел Петрович, я уже давно хочу спросить вас: что я вам сделал, что вы меня не любите? Чем я заслужил такое недоброжелательное обращение? Я догадываюсь – это Вихменев вам что-нибудь наговорил? Или Сашин? или Кранц? Господи! Какой это ужас – быть опутанным какой-то страшной невидимой сетью и не знать, откуда эта сеть, кто ее соткал для меня?!
Он уныло молчал, не слыша ответа. А ответ звучал, где-то в серой дали, в пространстве без конца, без предела;
– Никто как Бог.
Рассказ о Ниночке Крохиной
Я и хотел написать рассказ о Ниночке Крохиной.
И сюжет хороший, и настроение у меня было такое, что по силе и яркости написанного – критика признала бы «Ниночку Крохину» одним из удачнейших моих рассказов.
Не судьба.
Так читатель никогда и не узнает изумительной потрясающей судьбы редкой девушки – Ниночки Крохиной.
Только что я, дрожа от нетерпения и острого стремления окунуться в океан увлекательного творчества, взял несколько листов чистой бумаги и придвинул чернильницу поближе, как телефонный аппарат, стоящий на письменном столе, неистово зазвенел.
– Что?! – грубо бросил я в трубку. – Что надо?!
– Ой-ой, что за кровожадность, – засмеялся где-то за несколько верст женский голос. – Не в духе?
– А-а, здравствуйте, – с напряженной радостью протянул я, сжимая свободную руку в кулак. – Ну, что новенького?
– Нет, вы лучше скажите, почему у вас был такой сердитый тон?
– Да нет… так просто… Это аппарат шалит.
– Сердечный? – слышится лукавый вопрос.
– Телефонный.
– Вы, может быть, на меня сердитесь, а? За то, что я позавчера каталась на островах не с вами, a с Дрягиным.
– Нет, что вы… Пожалуйста…
– Ах, так?!. Нечего сказать – красиво. Так почему же вы были такой злой сейчас, а? «Что»?!! Будто из пистолета выстрелил.
– Простите, но когда я спросил: «что?», я ведь не знал, что это вы меня вызываете!..
– А если не я, так с другими нужно быть грубым?
– Да нет… Но дело в том, что я только что уселся писать, – и поэтому всякий звонок может легко сбить меня с настроения.
– Даже мой звонок?
Свободная, уже ранее сжатая в кулак рука закачалась в воздухе.
– О, нет, что вы… Я очень рад, что вы позвонили. Ну, до свиданья, всего хорошего.
– Успеете там с вашим писаньем. Все равно всего не испишете… А что, вас все-таки часто отрывают от работы?
– Очень часто. То звонки, то визиты. Прямо ужас…
– А вы бы трубку с телефона снимали…
– Не всегда удобно. Иногда бывают важные звонки, по экстренному делу.
– Бедняжка! Ждете важных звонков, a к вам звонят не важные звонки.
– Да.
– Вы бы говорили, что вас дома нет.
– Да.
– Или время бы какое-нибудь назначили определенное.
– Да.
– Что это вы как будто чем-то недовольны?
– Нет.
– Я замечаю, что вы в последнее время какой-то нервный.
– Да.
– Я сама понимаю, что когда собираешься что-нибудь сделать, a тебе помешают – так теряешь наверное.
– Да.
– И, наверное, большей частью без дела звонят?
– О, да, да. Конечно. Действительно!
– Не понимаю таких людей…
– Да. Ну, до свиданья!
– Всего хорошего. Завтра что делаете?
– Нет.
– Что «нет»?
– Да. Делаю, вообще. Я вам позвоню. До свиданья.
– Всего хорошего. Пишите ваш рассказ. Вчера не видели Птицына?
– Да.
– Видели? Ну, расскажите, что он делает вообще?
– Ничего. Спасибо. Гуляет. Ну, до свиданья.
– Боже, как вы хотите от меня избавиться!.. Ну, до свиданья. Не буду вас больше мучить. Теперь вы на меня не сердитесь?
– Нет.
– Ага! Значит, раньше сердились!
– Нет.
– Мне этот Дрягин не нравится. В нем есть что-то вульгарное… Или нет? Как вы находите?
– Да.
– Что – «да»? Согласны вы со мной или нет?
– Согласен. Ну, до свиданья.
– Еще бы вы были не согласны!.. Когда при вас выругаешь мужчину, вы всегда согласны, a похвалишь кого, так вы на стену лезете. Только таких циников, как Мочугов, вы и можете хвалить. Давно его видели?..
– Да. Давно. Спасибо. Гуляет. Ну, до свиданья.
– Нет, постойте… Разговор становится интересным! Это мне нравится; я назвала Мочугова циником, a вы даже не протестуете… Почему же вы раньше так горой за него стояли?! Ну-ка, вы, «мужская логика», отвечайте!..
– Да. Гуляет. Спасибо.
– Кто?
– Этот… Мочугов. Вообще это все трудные задачи. Ну, до свиданья. Позвоню.
– Ну, теперь окончательно: до свиданья!
– Послушайте… Только не звоните после трех. Меня дома не будет. И до одиннадцати тоже. Или нет, в десять. Даже немножко раньше. Не спутаете?
– Да. Ну, до свидания. О Дрягине и не думайте. Он для вас не опасен. Может быть, кто другой…
– Да. Ничего. Он гуляет. Ну, до свиданья.
– Кто гуляет? Что вы затвердили: «гуляет да гуляет»!
– Да. Все вообще. Погоды хорошие, они и тово…
– Стыдитесь! О погоде заговорили. Неужели у вас с дамой нет более содержательного разговора?
– Да. Кхе, кхе!.. Кх…
– Что это вы как будто кашляете? Простудились?
– Нет. Нервное.
– Почему?
– Да, знаете, мешают все. Приходят, звонят…
– А вы бы трубку снимали. Или просто говорили, что заняты, работаете, мол.
– Я и говорю. Не помогает.
– Вот, ей-богу, наказание. Действительно, положение! Ну, если они такие не чуткие – вы бы сказали «извините, но я сейчас не могу разговаривать!».
– Извините, но я сейчас не могу разговаривать.
– Вот так. Молодец. Запомните это?
– Ну, до свиданья.
– Послушайте… А мне пришло в голову: может, вы и меня так же потом ругаете за мои разговоры, как и других, а? Я вам ведь, кажется, тоже помешала?
– Да. Ну, конечно!
– Ну, вот вы уже и шутите… Вот и хорошо. Я, значит, разогнала ваше дурное настроение. А если, предположим… Неужели повесили трубку?! Свин… положим… Что эт…
* * *
– Барина дома нет.
– Да как же нет, если он сейчас по телефону разговаривает. Я ведь зашел на одну секунду.
Входит человек. Не на четырех ногах, a как любой человек – на двух ногах.
– Я вам помешал сейчас?
– Собственно, как сказать?.. Я ведь пишу рассказ…
– А вы вон сейчас по телефону разговаривали…
– Да, это одна дама оторвала меня. Только сбила с настроения…
– А вы бы сказали, что заняты.
– Говорил. Не помогает.
– Ни на одну йоту у этих дам нет чуткости! Трубку бы не снимали на это время.
– Да.
– Или просто: нет дома – и конец.
– Да.
– Я вам, может, мешаю? Я только на десять минут. Ну, что у вас слышно с вашей газетой?..
* * *
Я люблю людей.
Я готов их всех обнять. Обнять и крепко прижать к себе.
Так прижать, чтобы они больше не пикнули.
Отчего я писатель? Отчего я не холера?
И знал бы тогда, кому следует захворать…
Отдел IV Ласковые рассказы
Семь часов вечера
Иногда мы, большие, взрослые люди, бородатые, усатые, суровые, с печатью важности на лице, вдруг ни с того, ни с сего становимся жалкими, беспомощными, готовыми расплакаться от того, что мама уехала в гости, а нянька ушла со двора, оставив нас в одиночестве в большой полутемной комнате.
Жалко нам себя, тоскливо до слез, и кажется нам, что мы одиноки и заброшены в этом странно молчащем мире, ограниченном четырьмя сумрачными стенами.
Почему-то это бывает в сумерки праздничного дня, когда все домашние разбредаются в гости или на прогулку, а вы остались один и долго сидите так, без всякого дела. Забившись в темный угол комнаты и остановив пристальный взгляд на двух светло-серых четырехугольниках окон, сидите вы с застывшими, как холодная лава, мыслями – тихий, покорный и бесконечно одинокий.
Заметьте: в это время непременно где-то этажом выше робкие женские руки трогают клавиши рояля, и вы вливаете свою застывшую грусть в эти неуверенные звуки, и эти неуверенные звуки крепко сплетаются с вашей грустью. Мелодия почти не слышна. До вас доносится только отчетливый аккомпанемент, и от этого одиночество еще больше. Оно, впрочем, от всего больше – и от того, что улица за серыми окнами дремлет, молчаливая, и от того, что улица вдруг оглашается недоступной вашему сердцу речью двух неведомых вам пешеходов, отчетливо стучащих четырьмя ногами и двумя палками по заснувшим тротуарным плитам:
«– …А что же Спирька на это сказал?
– Вот еще, стану я считаться с мнением Спирьки, этого дурака, который…»
И снова вы застываете, одинокий, так и не узнав, что сказал Спирька и почему с мнением Спирьки не следует считаться? И никогда вы ничего больше не узнаете о Спирьке… Кто он? Чиновник, клубный шулер или просто веснушчатый, краснорукий гимназист выпускного класса?
Никому до вас нет дела. Интересы пешеходов поглощены Спирькой, все домашние ушли, а любимая женщина, наверное, забыла и думать о вас.
Сидите вы, согнувшись калачиком в углу дивана, сбоку или сверху у квартирантов робкие руки отбивают мерный, хватающий за сердце своей определенностью такт, а где-то внизу проходит еще одна пара и оставляет в ваших мыслях она расплывающийся след, как от брошенного в мертвую воду камня:
«– Нет, этого никогда не будет, Анисим Иваныч…
– Почему же не будет, Катенька? Очень даже обидно это от вас слышать…
– Если бы я еще не знала, что вас…» И прошли.
Роман, драма, фарс проплыл мимо вас, а вы в стороне, вы никому не нужны, о вас все забыли… Жизнь идет стороной; вы почти как в могиле.
Конечно, можно встать, встряхнуться, надеть пальто, пойти к приятелю, вытащить его и побродить по улицам, оставляя, в свою очередь, в чужих открытых окнах обрывки волнующих вас слов:
«– Ты слишком мрачно глядишь на вещи.
– Это я-то?! Ну, знаешь ли… Ведь она его не любит, ее просто забавляет то, что…»
Конечно, можно самому превратиться в такого пешехода, вырваться из оцепенелых лап тихой печали и одиночества, но не хочется пошевелить рукой, не то что сдвинуться с места.
И сидишь, сидишь, а сердце обливается жалостью к самому себе:
– Забыли!.. Оставили!.. Никому нет до меня дела.
* * *
Я ли один переживаю это или бывает такое же настроение у банкиров, железнодорожных бухгалтеров, цирковых артистов и магазинных продавщиц, оставшихся по случаю праздничных сумерек дома?
О чем же вам-то грустить, далекие неизвестные товарищи по временному одиночеству? Или никакой тут причины и не нужно, а все дело в сумерках, звуках рояля и голосах пешеходов под окнами?
Вот и сегодня: сижу я в сладком оцепенении печали и жалости к самому себе, и рояль рокочет басовыми нотами у верхних квартирантов, и неизвестные мне люди за окном переговариваются о далеких мне делах и интересах…
Все бросили меня, бедного, никому я не нужен, всеми забыт… Плакать хочется.
Даже горничная ушла куда-то. Наверное, подумала: брошу-ка я своего барина, на что он мне – у меня есть свои интересы, а мне до барина нет никакого дела. Пусть себе сидит на диване, как сыч.
Боже ж ты мой, как обидно!
В передней звонок.
О счастье! Неужели обо мне кто-нибудь вспомнил? Неужели я еще не старая кляча, всеми позабытая и оставленная?
Незнакомая барыня в лиловой шляпке входит в мой кабинет, садится на стул, долго осматривает меня при свете зажженных мною ламп.
– Вот вы какой! – говорит она, внимательно меня оглядывая. – Как странно: читаю вас несколько лет, а вижу в первый раз.
Бодрое настроение возвращается ко мне (я не забыт!).
– Читаете несколько лет, а видите в первый раз? Печально, если бы было наоборот, – усмехаюсь я.
– Вы и в жизни такой же веселый, как в ваших рассказах?
– А разве мои рассказы веселые?
– Помилуйте! Иногда, читая их, просто как сумасшедшая смеешься.
– Вот не думал. Когда я пишу свои рассказы, я не подозреваю, что они могут рассмешить.
– Еще как! Вы знаете, почему я пришла к вам? Я пришла поблагодарить вас за хорошие минуты, которые вы доставили мне своими рассказами. Ах, вы так чудно, так чудно пишете…
Почему-то делается жаль уплывших сумерек, гулких шагов и голосов неведомых пешеходов, и рояля, который тоже притих, будто сообразив, что он уже не в тоне сумерек и голосов за окном.
– Некоторые ваши рассказы я прямо наизусть знаю…
– Вы, право, избалуете меня… Ну, какой же рассказ запомнился вам?
– Я как-то не запоминаю заглавий. Одним словом, о чиновнике, который хотел учиться кататься на лошади, а потом упал с нее, и его родственники смеялись над ним и невеста тоже… отказалась выйти за него замуж.
– Позвольте, сударыня… Да у меня нет такого рассказа.
– Быть не может!
– Уверяю вас.
– Значит, я что-нибудь спутала. Ах, я, знаете, такая рассеянная! Совсем как та старушка в вашем рассказе, которая забыла надеть юбку да так и пошла по улице без юбки. Я страшно смеялась, когда читала этот рассказ.
– Сударыня! У меня и такого рассказа нет!
– Вы меня просто удивляете! Какие же у вас рассказы есть, если того нет, этого нет!.. Ну, есть у вас такой рассказ, как еврейка выколола в шутку сыну глаз, а потом повезла его к зубному доктору?
– Вроде этого: она не выколола сыну глаз, а просто у него заболел глаз; бедная мать в суматохе схватила не того ребенка, завернула его в платок и повезла на последние деньги в другой город к доктору, у которого эта роковая для матери ошибка и обнаружилась.
– Ну да, что-то вроде этого. Мы с сестрой так смеялись…
– Простите, но этот рассказ не смешной; это очень печальная история.
– Да? А мы с сестрой смеялись…
– Напрасно.
Мы молчим.
– Я вам сейчас не помешала?
– Нет.
– Вам, наверное, надоели всякие поклонницы!..
– Нет, что вы! Ничего.
– И вы на меня не смотрите, как на сумасшедшую?..
– Почему же?..
– Вам нравится моя наружность?
– Хорошая наружность.
– Нет, серьезно! Или вы просто из вежливости говорите?
– Зачем же из вежливости?
– Ну вот, вы писатель… Скажите: можно было бы мною серьезно увлечься?
– Отчего же.
– А вдруг вы всем женщинам говорите одно и то же?
– Зачем же всем.
– Я вас видела недавно в театре, и вы мне безумно понравились. Я тогда же решила с вами познакомиться.
– Спасибо.
– В вас есть что-то притягательное. Садитесь сюда.
– Сейчас. В каком театре вы меня видели?
– Это не важно. Вы, наверное, очень избалованы женщинами?
– Нет.
– Вы меня не прогоните, если я еще раз приду? С вами так хорошо… Вы какой-то… особенный.
– Да, на это меня взять, – уныло соглашаюсь я.
– Я знакома еще и с другими писателями… С Белясовым.
– Не знаю Белясова.
– Серьезно? Странно. А он вас знает. Он вам страшно завидует. Говорил даже, что вы все ваши рассказы берете из какого-то английского журнала, но я не верю. Врет, я думаю.
– Белясов-то? Конечно, врет.
– Ну, вот видите. Просто завидует. А я вас люблю. Вас можно любить?
– Можно.
– Спасибо. Вы такой чуткий. Я пойду… Ах, как не хочется от вас уходить. Век бы сидела…
* * *
Ушла.
И сказал я сам себе: будь же счастлив, не тоскуй. Ты не одинок. Сейчас ты вкусил славу, любовь женщин и зависть коллег. Тобой зачитываются, в тебя влюбляются, тебе завидуют. Будь же счастлив!! Ну? Чего же ты стонешь?
Я погасил огни, упал ничком на диван, закусил зубами угол подушки, и одиночество – уже грозное и суровое, как рыхлая могильная земля, осыпаясь, покрывает гроб – осыпалось и покрыло меня.
Сумерки сгустились в ночь, рояль глухо забарабанил сухими аккордами, а с улицы донеслись два голоса:
– Эх, напьюсь же я нынче!
– С чего это такое?
– Манька опять к своему слесарю побежала.
Прошли. Тишина. Вечер. Рояль.
Опасно, если в такой вечер близко бритва лежит. Зарезаться можно.
Блины Доди
Без сомнения, у Доди было свое настоящее имя, но оно как-то незаметно стерлось, затерялось, и хотя этому парню уже шестой год – он для всех Додя, и больше ничего.
И будет так расти этот мужчина с загадочной кличкой «Додя», будет расти, пока не пронюхает какая-нибудь проворная гимназисточка в черном передничке, что пятнадцатилетнего Додю на самом деле зовут иначе, что неприлично ей звать взрослого кавалера какой-то собачьей кличкой, и впервые скажет она замирающим от волнения голосом:
– Ах, зачем вы мне такое говорите, Дмитрий Михайлович?..
И сладко забьется тогда сердце Доди, будто впервые шагнувшего в заманчивую остро-любопытную область жизни взрослых людей: «Дмитрий Михайлович!..» О, тогда и он докажет же ей, что он взрослый человек: он женится на ней.
– Дмитрий Михайлович, зачем вы целуете мою руку! Это нехорошо.
– О, не отталкивайте меня, Евгения (это вместо Женички-то!) Петровна.
Однако все это в будущем. А пока Доде – шестой год, и никто, кроме матери и отца, не знает, как его зовут на самом деле: Даниил ли, Дмитрий ли, или просто Василий (бывают и такие уменьшительные у нежных родителей).
* * *
Характер Доди едва-едва начинает намечаться. Но грани этого характера выступают довольно резко: он любит все приятное и с гадливостью, омерзением относится ко всему неприятному: в восторге от всего сладкого; ненавидит горькое, любит всякий шум, чем бы и кем бы он ни был произведен; боится тишины, инстинктивно, вероятно, чувствуя в ней начало смерти… С восторгом измазывается грязью и пылью с головы до ног; с ужасом приступает к умыванию; очень возмущается, когда его наказывают; но и противоположное ощущение – ласки близких ему людей – вызывают в нем отвращение.
Однажды в гостях у Додиных родителей сидели двое: красивая молодая дама Нина Борисовна и молодой человек Сергей Митрофанович, не спускавший с дамы застывшего в полном восторге взора. И было так: молодой человек, установив прочно и надолго свои глаза на лице дамы, машинально взял земляничную «соломку» и стал рассеянно откусывать кусок за куском, a дама, заметив вертевшегося тут же Додю, схватила его в объятия и, тиская мальчишку, осыпала его целым градом бурных поцелуев.
Додя отбивался от этих ласк с энергией утопающего матроса, борящегося с волнами, извивался в нежных теплых руках, толкал даму в высокую пышную грудь и кричал с интонациями дорезываемого человека:
– Пусс… ти, дура! Ос… ставь, дура!
Ему страшно хотелось освободиться от «дуры» и направить все свое завистливое внимание на то, как рассеянный молодой человек поглощает земляничную соломку. И Доде страшно захотелось быть на месте этого молодого человека, a молодому человеку еще больше хотелось быть на месте Доди. И один, отбиваясь от нежных объятий, a другой, печально похрустывая земляничной соломкой, – с бешеной завистью поглядывали друг на друга.
Так – слепо и нелепо распределяет природа дары свои.
Однако справедливость требует отметить, что молодой человек, в конце концов, добился от Нины Борисовны таких же ласк, который получил и Додя. Только молодой человек вел себя совершенно иначе: не отбивался, не кричал: «оставь, дура», a тихо, безропотно, с оттенком даже одобрения, покорился своей вековечной мужской участи…
Кроме перечисленных Додиных черт, в характере его есть еще одна черта: он – страшный приобретатель. Черта эта тайная, он не высказывает ее. Но увидев, например, какой-нибудь красивый дом, шепчет себе под нос: «хочу, чтобы дом был мой». Лошадь ли он увидит, первый ли снежок, выпавший на дворе, или приглянувшегося ему городового, – Додя, шмыгнув носом, сейчас же прошепчет: «Хочу, чтобы лошадь была моя; чтоб снег был мой; чтобы городовой был мой».
Рыночная стоимость желаемого предмета не имеет значения. Однажды, когда Додина мать сказала отцу:
«А, знаешь, доктор нашел у Марины Кондратьевны камни в печени», – Додя сейчас же прошептал себе под нос: «хочу, чтобы у меня были камни в печени».
Славный, бескорыстный ребенок.
* * *
Когда мама, поглаживая шелковистый Додин затылок, сообщила ему:
– Завтра у нас будут блины…
Додя не преминул подумать: «хочу, чтобы блины были мои», и спросил вслух:
– А что такое блины?
– Дурачок! Разве ты не помнишь, как у нас были блины в прошлом году?
Глупая мать не могла понять, что для пятилетнего ребенка протекший год – это что-то такое громадное, монументальное, что, как Монблан, заслоняет от его глаз предыдущие четыре года. И с годами эти Монбланы все уменьшаются и уменьшаются в росте, делаются пригорками, которые не могут заслонить от зорких глаз зрелого человека его богатого прошлого, ниже, ниже делаются пригорки, пока не останется один только пригорок – увенчанный каменной плитой да покосившимся крестом.
Год жизни наглухо заслонил от Доди прошлогодние блины. Что такое блины? Едят их? Можно ли на них кататься? Может, это народ такой – блины? Ничего, в конце концов, неизвестно.
Когда кухарка Марья ставила с вечера опару – Додя смотрел на нее с почтительным удивлением и даже, боясь втайне, чтобы всемогущая кухарка не раздумала почему-нибудь делать блины, – искательно почистил ручонкой край ее черной кофты, вымазанной мукой. Этого показалось ему мало:
– Я люблю тебя, Марья, – признался он дрожащим голосом.
– Ну, ну. Ишь, какой ладный мальчушечка.
– Очень люблю. Хочешь, я для тебя у папы папиросок украду?
Марья дипломатично промолчала, чтобы не быть замешанной в назревающей уголовщине, a Додя вихрем помчался в кабинет и сейчас же принес пять папиросок. Положил на край плиты.
И снова дипломатичная Марья сделала вид, что не заметила награбленного добра. Только сказала ласково:
– А теперь иди, Додик, в детскую. Жарко тут, братик.
– А блины-то… будут?
– А для чего же опару ставлю!
– Ну, то-то.
Уходя, подкрепил на всякий случай:
– Ты красивая, Марья.
* * *
Положив подбородок на край стола, Додя надолго застыл в немом восхищении…
Какие красивые тарелки! Какая чудесная черная икра… Что за поражающая селедка, убранная зеленым луком, свеклой, маслинами. Какая красота – эти плотные, слежавшиеся сардинки. А в развалившуюся на большой тарелке неизвестную нежно-розовую рыбу Додя даже ткнул пальцем, спрятав моментально этот палец в рот с делано-рассеянным видом… (– Гм!.. Соленое.)
А впереди еще блины – это таинственное странное блюдо, ради которого собираются гости, делается столько приготовлений, вызывается столько хлопот.
– «Посмотрим, посмотрим, – думает Додя, бродя вокруг стола. – Что это там у них за блины такие?..»
Собираются гости… Сегодня Додя первый раз посажен за стол вместе с большими, и поэтому у него широкое поле для наблюдений. Сбивает его с толку поведение гостей:
– Анна Петровна – семги! – настойчиво говорит мама.
– Ах, что вы, душечка, – ахает Анна Петровна. – Это много! Половину этого куска. Ах, нет, я не съем.
«Дура», – решает Додя.
– Спиридон Иваныч! Рюмочку наливки. Сладенькой, а?
– Нет, уж я лучше горькой рюмочку выпью.
«Дурак!» – удивляется про себя Додя.
– Семен Афанасьич! Вы, право, ничего не кушаете!..
«Врешь, – усмехается Додя. – Он ел больше всех. Я видел».
– Сардинки? Спасибо, Спиридон Иваныч. Я их не ем.
«Сумасшедшая какая-то, – вздыхает Додя. – Хочу, чтоб сардинки были мои…»
Марина Кондратьевна, та самая, у которой камни в печени, берет на кончик ножа микроскопический кусочек икры.
«Ишь ты, – думает Додя. – Наверное, боится побольше-то взять: мама так по рукам и хлопнет за это. Или просто задается, что камни в печени. Рохля».
Подают знаменитые долгожданные блины. Все со зверским выражением лица набрасываются на них. Набрасывается и Додя. Но тотчас же опускает голову в тарелку и, купая локон темных волос в жидком масле, горько плачет.
– Додик, милый, что ты? Кто тебя обидел?!.
– Бли… ны…
– Ну? Что блины? Чем они тебе не нравятся?
– Такие… круглые…
– Господи… Так что ж из этого? Обрежу тебе их по краям, – будут четырехугольные…
– И со сметаной…
– Так можно без сметаны, чудачина ты!
– Так они тестяные!
– А ты какие бы хотел? Бумажные, что ли?
– И… не сладкие.
– Хочешь, я тебе сахаром посыплю?
Тихий плач переходит в рыдание. Как они не хотят понять, эти большие тупоголовые дураки, что Доде блины просто не нравятся, что Додя разочаровался в блинах, как разочаровывается взрослый человек в жизни! И никаким сахаром его не успокоить.
Плачет Додя.
Боже! Как это все красиво, чудесно началось – все, начиная от опары и вкусного блинного чада – и как все это пошло, обыденно кончилось: Додю выслали из-за стола.
* * *
Гости разошлись.
Измученный слезами, Додя прикорнул на маленьком диванчике. Отыскав его, мать берет на руки отяжелевшее от дремоты тельце и ласково шепчет:
– Ну, ты… блиноед африканский… Наплакался?
И тут же, обращаясь к отцу, перебрасывает свои мысли в другую плоскость:
– А знаешь, говорят, Антоновски получал от Мразича оскорбление действием.
И, подымая отяжелевшие веки, с усилием, шепчет обуреваемый приобретательским инстинктом Додя:
– Хочу, чтобы мне было оскорбление действием.
Тихо мерцает в детской красная лампадка. И еще слегка пахнет всепроникающим блинным чадом…
Страшный Мальчик
Обращая взор свой к тихим розовым долинам моего детства, я до сих пор испытываю подавленный ужас перед Страшным Мальчиком.
Широким полем расстилается умилительное детство – безмятежное купанье с десятком других мальчишек в Хрустальной бухте, шатанье по Историческому бульвару с целым ворохом наворованной сирени под мышкой, бурная радость по поводу какого-нибудь печального события, которое давало возможность пропустить учебный день, «большая перемена» в саду под акациями, змеившими золотисто-зеленые пятна по растрепанной книжке «Родное Слово» Ушинского, детские тетради, радовавшие взор своей снежной белизной в момент покупки и внушавшие на другой день всем благомыслящим людям отвращение своим грязным пятнистым видом, тетради, в которых по тридцати, сорока раз повторялось с достойным лучшей участи упорством: «Нитка тонка, a Ока широка» или пропагандировалась несложная проповедь альтруизма: «Не кушай, Маша, кашу, оставь кашу Мише», переснимочные картинки на полях географии Смирнова, особый сладкий сердцу запах непроветренного класса – запах пыли и прокисших чернил, ощущение сухого мела на пальцах после усердных занятий у черной доски, возвращение домой под ласковым весенним солнышком, по протоптанным среди густой грязи, полупросохшим, упругим тропинкам, мимо маленьких мирных домиков Ремесленной улицы, и, наконец, – среди этой кроткой долины детской жизни, как некий грозный дуб, возвышается крепкий, смахивающий на железный болт, кулак, венчающий худую, жилистую, подобно жгуту из проволоки, руку Страшного Мальчика.
Его христианское имя было Иван Аптекарев, уличная кличка сократила его на «Ваньку Аптекаренка», a я в пугливом кротком сердце моем окрестил его: Страшный Мальчик.
Действительно, в этом мальчике было что-то страшное: жил он в местах, совершенно неисследованных – в нагорной части Цыганской Слободки; носились слухи, что у него были родители, но он, очевидно, держал их в черном теле, не считаясь с ними, запугивая их; говорил хриплым голосом, поминутно сплевывая тонкую, как нитка, слюну сквозь выбитый Хромым Возжонком (легендарная личность!) зуб; одевался же он так шикарно, что никому из нас даже в голову не могло прийти скопировать его туалет: на ногах рыжие, пыльные башмаки с чрезвычайно тупыми носками, голова венчалась фуражкой, измятой, переломленной в неподлежащем месте, и с козырьком, треснувшим посредине самым вкусным образом.
Пространство между фуражкой и башмаками заполнялось совершенно выцветшей форменной блузой, которую охватывал широченный кожаный пояс, спускавшийся на два вершка ниже, чем это полагалось природой, a на ногах красовались штаны, столь вздувшиеся на коленках и затрепанные внизу, – что Страшный Мальчик одним видом этих брюк мог навести панику на население.
Психология Страшного Мальчика была проста, но совершенно нам, обыкновенным мальчикам, непонятна. Когда кто-нибудь из нас собирался подраться, он долго примеривался, вычислял шансы, взвешивал и, даже все взвесив, долго колебался, как Кутузов перед Бородино. А Страшный Мальчик вступал в любую драку просто, без вздохов и приготовлений: увидев не понравившегося ему человека или двух или трех, – он крякал, сбрасывал пояс и, замахнувшись правой рукой так далеко, что она чуть его самого не хлопала по спине, бросался в битву.
Знаменитый размах правой руки делал то, что первый противник летел на землю, вздымая облако пыли; удар головой в живот валил второго; третий получал неуловимые, но страшные удары обеими ногами… Если противников было больше, чем три, то четвертый и пятый летели от снова молниеносно закинутой назад правой руки, от методического удара головой в живот – и так далее.
Если же на него напали пятнадцать, двадцать человек, то сваленный на землю Страшный Мальчик стоически переносил дождь ударов по мускулистому гибкому телу, стараясь только повертывать голову с тем расчетом, чтобы приметить, кто в какое место и с какой силой бьет, дабы в будущем закончить счеты со своими истязателями.
Вот что это был за человек – Аптекаренок.
Ну, неправ ли я был, назвав его в сердце своем Страшным Мальчиком?
* * *
Когда я шел из училища в предвкушении освежительного купанья на «Хрусталке», или бродил с товарищем по Историческому бульвару в поисках ягод шелковицы, или просто бежал неведомо куда, по неведомым делам, – все время налет тайного не осознанного ужаса теснил мое сердце: сейчас где-то бродит Аптекаренок в поисках своих жертв… Вдруг он поймает меня и изобьет меня в конец – «пустит юшку», по его живописному выражению.
Причины для расправы у Страшного Мальчика всегда находились…
Встретив как-то при мне моего друга Сашку Ганнибоцера, Аптекаренок холодным жестом остановил его и спросил сквозь зубы:
– Ты чего на нашей улице задавался?
Побледнел бедный Ганнибоцер и прошептал безнадежным тоном:
– Я – не задавался.
– А кто у Снурцына шесть солдатских пуговиц отнял?
– Я не отнял их. Он их проиграл.
– А кто ему по морде дал?
– Так он же не хотел отдавать.
– Мальчиков на нашей улице нельзя бить, – заметил Аптекаренок и, по своему обыкновению, с быстротой молнии перешел к подтверждению высказанного положения: со свистом закинул руку за спину, ударил Ганнибоцера в ухо, другой рукой ткнул «под вздох», отчего Ганнибоцер переломился надвое и потерял всякое дыхание, ударом ноги сбил оглушенного, увенчанного синяком Ганнибоцера на землю, и полюбовавшись на дело рук своих, сказал прехладнокровно:
– А ты… (это относилось ко мне, замершему при виде Страшного Мальчика, как птичка перед пастью змеи)… А ты что? Может, тоже хочешь получить?
– Нет, – пролепетал я, переводя взор с плачущего Ганнибоцера на Аптекаренка. – За что же… Я ничего.
Загорелый, жилистый, не первой свежести кулак закачался, как маятник, у самого моего глаза.
– Я до тебя давно добираюсь… Ты мне попадешь под веселую руку. Я тебе покажу, как с баштана незрелые арбузы воровать!
«Все знает проклятый мальчишка», – подумал я. И спросил, осмелев:
– А на что они тебе… Ведь это не твои.
– Ну, и дурак. Вы воруете все незрелые, a какие же мне останутся? Если еще раз увижу около баштана – лучше бы тебе и на свет не родиться.
Он исчез, a я после этого несколько дней ходил по улице с чувством безоружного охотника, бредущего по тигровой тропинке и ожидающего, что вот-вот зашевелится тростник, и огромное, полосатое тело мягко и тяжело мелькнет в воздухе.
Страшно жить на свете маленькому человеку.
* * *
Страшнее всего было, когда Аптекаренок приходил купаться на камни в Хрустальную бухту.
Ходил он всегда один, несмотря на то, что все окружающие мальчики ненавидели его и желали ему зла.
Когда он появлялся на камнях, перепрыгивая со скалы на скалу, как жилистый поджарый волчонок, все невольно притихали и принимали самый невинный вид, чтобы не вызвать каким-нибудь неосторожным жестом или словом его сурового внимания.
А он в три-четыре методических движения сбрасывал блузу, зацепив на ходу и фуражку, потом штаны, стянув заодно с ними и ботинки, и уже красовался перед нами, четко вырисовываясь смуглым, изящным телом спортсмена на фоне южного неба. Хлопал себя по груди и если был в хорошем настроении, то, оглядев взрослого мужчину, затесавшегося каким-нибудь образом в нашу детскую компанию, говорил тоном приказания:
– Братцы! А ну, покажем ему «рака».
В этот момент вся наша ненависть к нему пропадала – так хорошо проклятый Аптекаренок умел делать «рака».
Столпившиеся, темные, поросшие водорослями скалы образовывали небольшое пространство воды, глубокое, как колодезь… И вот вся детвора, сгрудившись у самой высокой скалы, вдруг начинала с интересом глядеть вниз, охая и по-театральному всплескивая руками:
– Рак! Рак!
– Смотри, рак! Черт знает, какой огромадный! Ну, и штука же!
– Вот так рачище!.. Гляди, гляди – аршина полтора будет.
Мужичище – какой-нибудь булочник при пекарне или грузчик в гавани, – конечно, заинтересовывался таким чудом морского дна и неосторожно приближался к краю скалы, заглядывая в таинственную глубь «колодца».
А Аптекаренок, стоявший на другой, противоположной скале, вдруг отделялся от нее, взлетал аршина на два вверх, сворачивался в воздухе в плотный комок – спрятав голову в колени, обвив плотно руками ноги – и, будто повисев в воздухе на полсекунды, обрушивался в самый центр «колодца».
Целый фонтан – нечто вроде смерча – взвивался кверху, и все скалы сверху донизу заливались кипящими потоками воды.
Вся штука заключалась в том, что мы, мальчишки, были голые, a мужик – одетый и после «рака» начинал напоминать вытащенного из воды утопленника. Как не разбивался Аптекаренок в этом узком скалистом колодце, как он ухитрялся поднырнуть в какие-то подводные ворота и выплыть на широкую гладь бухты – мы совершенно недоумевали. Замечено было только, что после «рака» Аптекаренок становился добрее к нам, не бил нас и не завязывал на мокрых рубашках «сухарей», которые приходилось потом грызть зубами, дрожа голым телом от свежего морского ветерка.
* * *
Пятнадцати лет от роду мы все начали «страдать». Это – совершенно своеобразное выражение, почти не поддающееся объяснению. Оно укоренилось среди всех мальчишек нашего города, переходящих от детства к юности, и самой частой фразой при встрече двух «фрайеров» (тоже южное арго) было:
– Дрястуй, Сережка. За кем ты стрядаешь?
– За Маней Огневой. А ты?
– А я еще ни за кем.
– Ври больше. Что же ты, дрюгу боишься сказать, чтолича?
– Да мине Катя Капитанаки очень привлекает.
– Врешь?
– Накарай мине Господь.
– Ну, значит, ты за ней стрядаешь.
Уличенный в сердечной слабости, «страдалец за Катей Капитанаки» конфузится и для сокрытия прелестного полудетского смущения загибает трехэтажное ругательство.
После этого оба друга идут пить бузу за здоровье своих избранниц. Это было время, когда Страшный Мальчик превратился в Страшного Юношу. Фуражка его по-прежнему вся пестрела противоестественными изломами, пояс спускался чуть не на бедра (необъяснимый шик), a блуза верблюжьим горбом выбивалась сзади из-под пояса (тот же шик); пахло от Юноши табаком довольно едко.
Страшный Юноша, Аптекаренок, переваливаясь, подошел ко мне на тихой вечерней улице и спросил своим тихим, полным грозного величия голосом:
– Ты чиво тут делаешь, на нашей улице?
– Гуляю… – ответил я, почтительно пожав протянутую мне в виде особого благоволения руку.
– Чиво ж ты гуляешь?
– Да так себе.
Он помолчал, подозрительно оглядывая меня.
– А ты за кем стрядаешь?
– Да не за кем.
– Ври!
– Накарай меня Госп…
– Ври больше! Ну? Не будешь же ты здря (тоже словечко) шляться по нашей улице. За кем стрядаешь?
И тут сердце мое сладко сжалось, когда я выдал свою сладкую тайну:
– За Кирой Костюковой. Она сейчас после ужина выйдет.
– Ну, это можно.
Он помолчал. В этот теплый нежный вечер, напоенный грустным запахом акаций, тайна распирала и его мужественное сердце. Помолчав спросил:
– А ты знаешь, за кем я стрядаю?
– Нет, Аптекаренок, – ласково сказал я.
– Кому Аптекаренок, a тебе дяденька, – полушутливо, полусердито проворчал он. – Я, братец ты мой, стрядаю теперь за Лизой Евангопуло. А раньше я стрядал (произносить я вместо а – был тоже своего рода шик) за Маруськой Королькевич. Здорово, а? Ну, брат, твое счастье. Если бы ты что-нибудь думал насчет Лизы Евангопуло, то…
Снова его уже выросший и еще более окрепший жилистый кулак закачался у моего носа.
– Видал? А так ничего, гуляй. Что ж… всякому страдать приятно.
Мудрая фраза в применении к сердечному чувству.
* * *
12 ноября 1914 года меня пригласили в лазарет прочесть несколько моих рассказов раненым, смертельно скучавшим в мирной лазаретной обстановке.
Только что я вошел в большую, уставленную кроватями палату, как сзади меня с кровати послышался голос:
– Здравствуй, фрайер. Ты чего задаешься на макароны?
Родной моему детскому уху тон прозвучал в словах этого бледного, заросшего бородой раненого.
Я с недоумением поглядел на него и спросил:
– Вы это мне?
– Так-то, не узнавать старых друзей? Погоди, попадешься ты на нашей улице, – узнаешь, что такое Ванька Аптекаренок.
– Аптекарев?!
Страшный Мальчик лежал передо мной, слабо и ласково улыбаясь мне.
Детский страх перед ним на секунду вырос во мне и заставил и меня и его (потом, когда я ему признался в этом) рассмеяться.
– Милый Аптекаренок? Офицер?
– Да.
– Ранен?
– Да.
И, в свою очередь: – Писатель?
– Да.
– Не ранен?
– Нет.
– То-то. А помнишь, как я при тебе Сашку Ганнибоцера вздул?
– Еще бы. А за что ты тогда «до меня добирался»?
– А за арбузы с баштана. Вы их воровали, и это было нехорошо.
– Почему?
– Потому что мне самому хотелось воровать.
– Правильно. А страшная у тебя была рука, нечто в роде железного молотка. Воображаю, какая она теперь…
– Да, брат, – усмехнулся он. – И вообразить не можешь.
– А что?
– Да вот, гляди.
И показал из-под одеяла короткий обрубок.
– Где это тебя так?
– Батарею брали. Их было человек пятьдесят. А нас, этого… Меньше.
Я вспомнил, как он, с опущенной головой и закинутой назад рукой, слепо бросался на пятерых, – и промолчал.
Бедный Страшный Мальчик!
* * *
Когда я уходил, он, пригнув мою голову к своей, поцеловал меня и шепнул на ухо:
– За кем теперь страдаешь?
И такая жалость по ушедшем сладком детстве, по книжке «Родное Слово» Ушинского, по «большой перемене» в саду под акациями, по украденным пучкам сирени, – такая жалость затопила наши души, что мы чуть не заплакали.
Нечистая сила
Несколько слов по поводу этого, которое
Иногда усталому, притомившемуся путнику приходится на ночь остановиться в полуразрушенном замке, пользующемся в окрестностях дурной славой.
– Я вам, сударь, не советую искать ночлега в замке, – предостерегает путника встреченный на дороге поселянин. – Там нечистая сила пошаливает.
Но утомился путник, и не до того ему, чтобы разбирать, нечистая или чистая сила пошаливает в замке.
И вот всходит он по гулким каменным ступеням, покрытым щебнем и мягкой пылью… Луна заглядывает в огромные разбитые окна, а под покрытым черной паутиной потолком бесшумные летучие мыши чертят свои причудливые узоры… А внизу мышеписки, стрекотанье, вздохи и треск – не то рассохшихся половиц, не то неотпетых человечьих костей.
Завернулся усталый путник в свой плащ, лег – и пошло тут такое, от чего волосы наутро делаются белыми, взгляд надолго застывает стеклянным ужасом…
Много всякого выползло, вышагнуло, выпрыгнуло и закружилось около путника в безумном хороводе: незакопанные покойники с веревкой на шее, вурдалаки, нежить разносортная, синие некрещеные младенцы с огромными водяночными головами и тонкими цепкими лапками, похожие на пауков, – шишиги, упыри, чиганашки – все, что неразборчивая и небрезгливая ночь скрывает в своих темных складках.
И кажется путнику, что уж нельзя больше выносить этого ужаса, что еще минутка, еще секундочка одна – и разорвется сердце от бешеных толчков, от спазма леденящего страха… Но чу! Что это? В самый последний, в предсмертный момент – вдруг раздался крик петуха – предвестника зари, света, солнца и радости.
Слабый это крик, еле слышный – и куда что девалось: заметалась, зашелестела вся нечисть, вся нежить, запищала последним писком и скрылась – кто куда.
А свет разгорается все больше и больше, а петух поет все громче и громче…
Здравствуй, милый петух!
Это не тот страшный «красный петух», что прогулялся по России от края до края и спалил все живое, это не изысканный галльский шантеклер, возвещающий зарю только в том случае, если ему будут уплачены проценты по займам и признаны все долги; это и не тот петух, после пения которого ученик трижды отрекся от своего божественного Учителя.
Нет, это наш обыкновенный честный русский петух, который бодро и весело орет, приветствуя зарю и забивая своим простодушным криком осиновый кол в разыгравшуюся в ночи нечистую силу.
Еще клубятся повсюду синие некрещеные младенцы, вурдалаки, упыри и шишиги – но уже раскрыт клюв доброго русского петуха – вот-вот грянет победный крик его…
А что это за нечистая сила, разыгравшаяся на Руси, – тому следуют пункты:
Наваждение
Вы, которым шестьдесят лет, или даже вы, которым сорок лет, или даже вы, молокососы, которым только двадцать лет, – вы помните, как жила вся необъятная Россия совсем еще недавно?
Ну как же вам не помнить: ведь прежняя жизнь складывалась столетиями, и не скоро ее забудешь!
Каждый день вставало омытое росой солнышко, из труб одноэтажных домиков валил приветливый дымок, с рынка тащились хозяйки, тяжело нагруженные говядиной, рыбой, яйцами, хлебом, овощами и фруктами, – все это за рубль серебра, а если семья большая, примерно из 6 или 7 душ, – то и все полтора рубля оставляла хозяйка на грабительском рынке. Немало бывало и воркотни:
– Проклятые купчишки опять вздули цену на сахарный песок, вместо 13 с половиной дерут по 14 копеечек – мыслимо ли этакое? А к курице прямо и не приступись: шесть гривен за такую, что и смотреть не на что!
Веселой гурьбой рассыпались по городу школьники, и пока еще были 5—10 минут свободных до звонка – с озабоченными лицами производили покупки для своего многосложного обихода: покупали бублик за копейку, маковник за копейку, вареное яйцо за копейку, перо за копейку, – и только трехкопеечная тетрадь надолго расстраивала и расшатывала весь бюджет юного финансиста. Единственное, что служило ему утешением, – это что за те же три копейки тороватым продавцом к тетради прилагалась бесплатно переснимочная картинка; картинка эта очень скоро при помощи сложного химического процесса, в котором участвовала слюна и указательный палец, – занимала почетное место в углу первой страницы Малинина и Буренина.
Из всех кузниц, из всех слесарных мастерских с самого раннего утра неслось бодрое постукивание – не диво ли? Кузнецы, слесаря, медники работали! А в другом месте свистящий рубанок плотника ловко закручивал причудливую, вкусно пахнущую сосновую стружку, а в третьем месте замасленный извозчик до седьмого поту торговался с прижимистым седоком из-за медного – о, настоящего медного – пятака:
– Веришь совести, сударь мой, – сено-то нониче почем? По сорок копеечек за пуд дерут, оглоеды!
А в четвертом месте каменщики на постройке дома уже успели пошабашить на обед, и – любо глядеть, как огромная корявая лапа, истово перекрестив лоб, тянет из общей миски ложку каши едва-едва не с полфунта весом.
А в пятом месте «грабители-купчишки», успев сделать неслыханное злодеяние – взвинтить на полкопейки цену за сахарный песок, уже выдули по громадному чайнику кипятку ценой в копейку и уже уселись за вечные шашки со своими «молодцами» или с соседним грабителем-купчишкой.
Из окон белого домика с зеленой крышей несутся волны фортепианных пассажей, причудливо смешиваясь с запахом поджаренного в масле лука и визгом ошпаренной кухаркой собачонки, – и даже полицеймейстер занят делом: приподнявшись с сиденья пролетки и стоя одной ногой на подножке, он распекает околоточного за беспорядок: у самой обочины тротуара лежит труп кошки с оскаленными зубами.
Да что там полицеймейстер? – даже городской сумасшедший, дурачок Трошка, выдумал себе работу: набрал в коробочку щепочек, обгорелых спичек, старых пуговиц и зычно кричит на всю площадь:
– А вот ягода садовая, а вот фрукта! Здравия желаем, ваше превосходительство!
Солнце парит, петухи, окруженные вечно голодным гаремом, чуть не по горло зарылись в пыль в поисках съестного – и только одни лентяи и оболтусы стрижи носятся в знойном воздухе безо всякого смысла и дела.
А в воскресный день картина была иная – помните?
Нет уж кузнечных и слесарных стуков, над городом нависла прозрачная стеклянная праздничная тишина, и тишину эту только изредка разбивает густой басистый звон колокола соборной церкви; и, пролетев над городом, звон этот долго еще стелется гудящими волнами над прозрачной, как стекло, застывшей в зное прозрачного дня речкой, окаймленной осокой и вербами…
Тихо тут, и даже терпеливый воскресный рыболов, имеющий свои виды на пескаря или ершишку, – и тот не нарушает мертвой торжественной тишины – разве что иногда звучно вздохнет от напряженного ожидания.
А в городе так празднично, что прямо сил нет: у школьников накрахмаленные парусиновые блузы топорщатся, у каменщиков кумачовые праздничные рубахи топорщатся, волосы смочены лучшим лампадным маслом, лица с утра, пока не выпито, деревянно-торжественно-благоговейные, и даже праздничный полицеймейстер в парадном праздничном мундире накрахмален вместе с лошадью, кучером и пролеткой.
Сегодня он не ругается – только что у обедни благоговейно приложился к кресту и к руке отца протопопа – шутка ли?
А девушка из зеленого домика ради праздника, вместо гамм и упражнений, разрешила себе не только «Молитву Девы», но даже кусочек «Риголетто». А юная сестра ее с томиком Тургенева в руке тихо и чинно шагает в тенистый городской сад, и золотая коса, украшенная пышным лиловым бантом, еще больше золотится и сверкает на летнем воскресном солнце, а лицо – под полями соломенной шляпы – в тени, и такое это милое девичье русское лицо, что хочется нежно прильнуть к нему губами или просто заплакать от тихой сладкой печали и налетевшей откуда-то тоски неизвестного, неведомого происхождения.
В трактире Огурцова душно, накурено, пахнет пролитой на прилавок водкой и прокисшим пивом, но весело необыкновенно!
Гудит машина, и весь рабочий народ, как рой пчел, сгрудился около прилавка и за столиками, уставленными неприхотливой снедью: жареной рыбой, огурцами, битками с луком, яичницей-глазуньей ценой в пятиалтынный, – и целым океаном хлеба: черного, белого, пеклеванного – на что душа потянет.
Тяжелые стаканчики толстого зеленого стекла то и дело опрокидываются в отверстые бородатые, усатые пасти… Пасти крякают, захлопываются, а через секунду огурец звучно хрустит на белых, как кипень, зубах.
Да позвольте! Как же рабочему человеку не выпить? Оно и не рабочему хорошо выпить, а уж рабочему и бог велел.
Благословляю вас, голубчики мои, – пейте! Отдыхайте. Может быть, гармошка есть у кого? А ну, ушкварь, Вася! Расступись шире ты, православный народ! А ну, Спирька Шорник, покажи им где раки зимуют – не жалей подметок – жарь вовсю – Фома Кривой за целковый новые подбросит. Эх, люди-братие! Поработали вы за недельку – так теперь-то хоть тряхните усталыми плечами так, чтобы чертям было тошно! Эй, заворачивай-разворачивай! Ой, жги-жги-жги, говори!!
Пляшет Спирька, как бес перед заутреней, свирепо терзает двухрядку Вася, так что она только знай поеживается, да хрюкает, да повизгивает, а из собора, отстояв позднюю обедню, важно бредет восвояси купец с золотой медалью на красной ленте у самого горла под рыжей бородой. Не менее важно рядом с ним вышагивает кум-посудник, приглашенный на рюмку смородиновки и на воскресный пирог с рыбой, визигой, рисом, яйцами – с чертом в ступе…
Праздничные сумерки тихо опустились над притихшим городом…
В садиках под грушей, под липой, под кленом – кое-кто пьет вечерний чай с вишневым, смородиновым или клубничным вареньем; тут же густые сливки, кусок пирога от обеда, пузатый графин наливки и тихий усталый говор… Через забор в другом садике наиболее неугомонные сговариваются насчет стуколки, а поэтичный казначейский чиновник сидит на деревянном крылечке и, вперив задумчивые глаза в первые робкие звезды, тихо нащипывает струны гитарные…
Тссс… засыпает городок. Пусть: не будите, завтра ведь рабочий день.
Так вот и жили мы – помните?
Даже вы, двадцатилетние молокососы – нечего там, – должны это помнить…
* * *
И вдруг – трах-тара-рах! Бабах!!!
Что такое? В чем дело? Угодники святые!
Кто это перед нами стоит, избочась и нагло поблескивая налитыми кровью глазами? Неужели ты, Спирька Шорник? Владычица Пресвятая, Казанская Божья Матерь!! В чем же дело?
– А у том, собственно, – цедит сквозь зубы пренебрежительный Спирька, – что никакой Владычицы, никакой Казанской и нет, и все это был один обман и народная тьма. А есть Циммервальд, и есть у нас один вождь красного пролетариата, краса и гордость авангарда мировой революции – Лев Давидович Троцкий! Отречемся от старого ми-и-ра…
Вот тебе и пирог с вязигой!
Было праздничное богослужение, народ трепетно прикладывался к кресту, а теперь взяли ни с того ни с сего и вздернули пастыря на той самой липе, под которой так хорошо пили чай со сдобными булочками, с малиновым и смородиновым вареньем.
И какое там, к черту, малиновое варенье, когда кислое повидло с тараканами 1500 рубликов фунт стоит.
А Спирька уже не шорник, а председатель совдепа, назначенный самим Совнаркомом, и скоро, поговаривают, будет назначен главкомвоенмором.
Позвольте, при чем тут главкомвоенмор? А где та девушка с золотой косой и томиком Тургенева под мышкой? Помните, та, что шла воскресным утром в тенистый городской сад?
– А! Неужели не слышали? Ее вместе с отцом, председателем Казенной палаты, доставили за контрреволюцию в чрезвычайку, а когда она выразила несогласие с системой допроса избитого отца – ее, как говорит русская пословица: «при попытке бежать застрелили».
– Опомнитесь! Есть ли у вас бог в душе!
– Говорят же вам, что декретом Совнаркома бог отменен за мелкобуржуазность, а вместо него – не хотите ли Карла Либкнехта плюс Розу Люксембург – многие одобряют!
Да, чуть не забыл! Казначейский-то чиновник… Помните, что еще играл по вечерам на гитаре…
– Ну? Ну?!!
– Уже не играет на гитаре. Разбили гитару об голову за отказ выдать ключи от казначейской кассы.
– Кто же это разбил?
– Председатель совнархоза.
– Это что еще за кушанье?!
– Помилуйте! Совет народного хозяйства. Всем продовольствием ведает.
– Да ведь продовольствия нет?!
– Это точно, что нет. А совнархоз есть, это тоже точно.
Дивны дела твои, господи. Тащила хозяйка за рубль серебра с рынка и говядину, и мучицу, и овощь всякую, и фрукту – и не было тогда совнархоза. Волос дыбом, когда подумаешь, как по-свински жили – безо всякого совнархоза, без агитпросвета и политкома обходились, как дикари какие-то… Убоину каждый день лопали, пироги, да поросенка, да курчонка ценой в полтину.
А нынче Спирька – главкомвоенмор, всюду агитпросветы и пролеткульты… У барышни, игравшей по воскресеньям «Молитву Девы», рояль реквизировали, школьники, бездумно переводившие намоченными пальцами переснимочные картинки, передохли от социалистической голодухи, а купца с медалью на красной ленте просто утопили в речке за то, что был «мелкий хозяйчик и саботировал Продком».
Каменщики уже не работают, плотничьи рубанки уже не завивают прихотливых стружек, а кузнецы если и постукивают, так не по наковальням, а по головам несогласного с их платформой буржуазиата.
И не стрижи уже весело вьются, носятся над тихим городом… Имя этим новым, весело порхающим по городу птичкам иное – вороны, коршуны-стервятники. Вот уж кто питается – так на совесть!
Вот уж кому обильный Продком устроен!
Суммируя все вышесказанное – что, собственно, случилось?
В лето 1917-е приехали из немецкой земли в запечатанном вагоне некие милостивые государи, захватили дом балерины, перемигнулись, спихнули многоглаголивого господина, одуревшего от красот Зимнего дворца, спихнули, значит, и, собрав около себя сотню-другую социалистически настроенных каторжников, в один год такой совдеп устроили, что в сто лет не расхлебаешь.
Сидел Спирька Шорник у себя в мастерской, мирно работал, никого не трогал – явились к нему:
– Брось, дурак, работу – мы тебя главкомвоенмором сделаем. Грабь награбленное!
– А ежели бог накажет?
– Эва! Да ведь бога-то нет.
– А начальство?
– Раков в речке кормит.
– Да как же, наша матушка Расея…
– Нету матушки Расеи. Есть батюшка Интернационал.
– Да ну! Комиссия отца Денисия!
– Ну, брат, теперь комиссия без отца Денисия. Аки плод на древе, красуется колеблемый ветром отец Денисий.
Крякнул только Спирька, натянул на лохматую голову шапчонку и, замурлыкав пророческий псалом:
«Эх, яблочко… куда котишься?» – пошел служить в комиссию без отца Денисия.
Покатился.
* * *
Ну что, голубчики русские… Обокрали нас, а! Без отмычек обокрали, без ножа зарезали…
И когда при мне какой-нибудь слащавый многодумец скажет:
– Что ни говорите, а Ленин и Троцкий замечательные люди…
Мне хочется спихнуть его со стула и, дав пинка – ногой в бок, вежливо согласиться с ним:
– А что вы думаете! Действительно, замечательные люди! Такие же, как один из учеников Спасителя мира – тоже был замечательный человек: самого Христа предал.
Так уж если Христа, самого бога, человек предал, то предать глупую, доверчивую Россию куда легче.
* * *
И когда снова Спирька возьмется за свои седла и уздечки, когда снова ароматная сосновая стружка завьется под рубанком плотника, когда купец будет торговать, а не плавать, как тюлень, в проруби, когда тонкие девичьи пальцы коснутся клавиш не подлежащего реквизиции рояля, и хозяйки побредут с рынка, сгибаясь не под тяжестью ненужных кредиток, а под благодетельной тяжестью дешевых мяс, хлебов и овощей, когда неповешенный пастырь благословит с амвона свое трудящееся мирное стадо, когда в воскресном воздухе понесутся волны запахов пирогов с визигой, ароматной вишневки, когда вместо зловещего коршунья и воронья – в синем, теплом воздухе снова закружатся стрижи – я скажу:
– Велик бог земли Русской!.. Мы три года метались в страшном, кошмарном сне, и земной поклон, великое спасибо тем, которые, взяв сонного русака за шиворот, тряхнули его так, что весь сон как рукой сняло. Тряхнули так, что, как говорится, «аж черти посыпались».
Голубеет небо, носятся, как угорелые, стрижи, плывет святорусский звон колокола, и прекрасная белокурая девушка – символ новой, но вечно старой России – снова идет с книжкой в уютный тенистый сад, где ласково кивают ей зеленеющие ветви:
– Милости просим: отдохни, девушка! Слава в вышних Богу, на земле мир, в человецех благоволение…
– Отдохни, девушка.
Ах, как мы все устали, и как нам нужно отдохнуть.
И тем нужно отдохнуть, что бежали, преследуемые, и тем, что по канавам валялись расстрелянные, и тем, что гнили по чрезвычайкам, избитые, оплеванные, униженные грязной продажной лапой комиссара.
И этим нужно отдохнуть – вот этим самым комиссарам – всем этим Лениным и Троцким, Зиновьевым, Каменевым, Луначарским, Дыбенкам – имена же их ты, диаволе, веси – и они поработали усердно и имеют право на сладкий отдых…
И отдых им один, отдых до конца дней их, до тех пор, пока огонек жизни будет теплиться в них: «Отдых на крапиве!..»
Добрые друзья за рамсом
Мы, обыкновенные люди, так уж устроены, что не любим ничего абстрактного. Нам подавай конкретное, покажи нам такое, чтобы мы могли не только пощупать собственными руками, а, пожалуй, еще и понюхать, а, пожалуй, еще и лизнуть языком: «Сладко ли, мол? Не кисло ли?»
Вот только тогда мы, действительно, всеми чувствами нашими поймем, «що воно таке».
Например, я: сколько ни читал сухих, очень дельных исторических монографий об Екатерине Второй и Потемкине – все не мог себе живо представить: что это были за люди во плоти и крови?
Сухая передача их дел и подвигов ни капельки не волновала меня и не заставляла работать мое воображение.
И представились они мне ясно, во весь рост, только тогда, когда я прочитал следующие несколько строк, брошенных вскользь русским писателем.
О Потемкине… «Минуту спустя вошел в сопровождении целой свиты величественного роста, довольно плотный человек в гетманском мундире, в желтых сапожках. Волосы на нем были растрепаны, один глаз немножко крив, на лице изображалась надменная величавость, во всех движениях была привычка повелевать». И дальше: «Потемкин молчал и небрежно чистил небольшой щеточкой свои бриллианты, которыми были унизаны его руки».
То же и об Екатерине II: «…Вакула осмелился поднять голову и увидел стоящую перед собой небольшого роста женщину, несколько даже дородную, напудренную, с голубыми глазами и вместе с тем величественно улыбающимся видом… – «Светлейший обещал меня познакомить сегодня с моим народом, которого я еще не видала», – говорила дама с голубыми глазами, рассматривая с любопытством запорожцев». И дальше: «Государыня, которая точно имела самые стройные и прелестные ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплимент из уст простодушного кузнеца…»
Всего несколько пустяковых штрихов – и обе фигуры стоят передо мной как живые.
* * *
Сейчас – нет спору – в России две самые интересные фигуры – Ленин и Троцкий. И за ними еще две – Горький и Луначарский.
А как мы можем их себе представить конкретно, этих живых людей, которые ходят, говорят, едят и любят?
Не по сухим же советским сводкам, не по очередному же выступлению Троцкого в ЦИКе, не по бескровным же унылым и вялым фельетонам Горького и Луначарского.
Поэтому и отношение у нас к ним такое, как к героям отечественной сказки, происходящей в некотором царстве, в тридевятом государстве, где бесшумно и бесплотно бродят какие-то абстрактные символы.
Нет, ты возьми каркас, скелет их возьми, да обложи его мясом, да перетяни сухожилиями, да обтяни кожей, да наполни живой теплой кровью, да заставь их ходить и говорить – вот я тогда сразу представлю себе, что такое Троцкий и Луначарский.
Да моему сердцу одна пустяковая фраза Ленина, оброненная мимоходом: «Товарищ Марфушка, ты опять к столу теплый монополь-сек подала? Ну что мне с тобой, дурищей, делать?!» – скажет больше, чем целая его декларация о текущем моменте, произнесенная на съезде перед сотней партийных дураков!..
И поэтому я иногда сам, для собственного удовольствия, представляю – как они там себе живут?
Одно лицо, приехавшее из Совдепии и заслуживающее уважения, рассказывая о тамошнем житье-бытье, бросило вскользь фразу:
– С Горьким у них дружба. Луначарский по вечерам ездит к Горькому в рамс играть. Иногда и Троцкий заезжает. Выпьют, закусят… Жизнь самая обыкновенная.
Стоп! Довольно. Больше ничего не надо.
Схватываю двумя пальцами эту маленькую закорючку хвостика и вытаскиваю на свет божий целую конкретную картину.
* * *
Кабинет Максима Горького. Зимний вечер. По мягкому ковру большими неслышными шагами ходит Горький, и спустившаяся прядь длинных прямых волос в такт шагам прыгает, танцует на квадратном лбу. Руки спрятаны в карманы черной суконной куртки, наглухо застегнутой у ворота, весь вид задумчивый.
На оттоманке в углу уютно устроилась с вязаньем жена его – артистка Андреева, управляющая ныне всеми столичными театрами.
– О чем задумался? – спрашивает Андреева.
– Вообще, так… Сегодня на Моховой видел человека мертвого: не то замерз, не то от голода. И все проходят совершенно равнодушно, а многие, вероятно, думают: завтра свалюсь я – и пройдут другие мимо меня так же равнодушно. Ужас, а?
– Сегодня ждешь кого-нибудь?
– Да, Луначарский звонил, что заедет. Троцкий с заседания обещал завернуть. Кстати, у нас закусить чего-нибудь найдется?
– Телятина есть холодная, куском. Макароны могу велеть сварить с пармезаном. Рыба заливная… Ну, консервы можно открыть. Сыр есть.
– А вино?
– Вино только красное. Портвейну всего три бутылки. Впрочем, водки почти не начатая четверть, та, что на лимонной корке настоял… А! Анатолий Васильевич… Забыли вы нас: три дня и глаз не казали. Нехорошо, нехорошо.
В дверях стоял, сощурив темные близорукие глаза, Луначарский и, облизывая языком ледяную сосульку, повисшую на рыжеватом усе, – усиленно протирал запотевшее в жаркой комнате пенсне.
– Холодище, – пробормотал он хрипловатым баритоном. – Я думаю, градусов 20. Мерзнет святая Русь, хе-хе. Ну что ж нынче – сразимся? Только если вы мне вкатите такой же ремиз, как третьего дня, – прямо отказываюсь с вами играть.
– А что же ваша супруга? – любезно спросила Марья Федоровна, складывая рукоделие.
– Да приключение с ней неприятное. Так сказать: приключилось умаленькое инкоммодите! [1] Пошла вчера вечером пешком из театра – прогуляться ей, вишь, захотелось, это при двух-то автомобилях! – в темноте споткнулась на какой-то трупище, валявшийся на тротуаре, упала и все плечо себе расшибла. Такой синяк, что…
– Какой ужас! Компресс надо.
– Не по Моховой шла? – задумчиво спросил Горький.
– Ну где именье, где Днепр!.. При чем тут Моховая? А Лев Давидыч будет?
– Обещал заехать после заседания. А здорово, знаете, он играет в рамс. Умная башка!
– А жарковато у вас тут! Ф-фу!
– Да… Маруся любит тепло. Это у нее еще из Италии осталось.
– Анатолий Васильевич! Могу сообщить вам новость по вашей части: у нас почти весь сахар кончился.
– Отложил для вас полтора пудика. А мука как, что вчера послал, – хороша?
– О, прелесть. Настоящая крупчатка. Где это вы такую достали?
– А мне знакомые латыши спроворили. Очень полезный народ. Все как из-под земли достают. Например, любите малороссийскую колбасу?..
– Злодей! Он еще спрашивает!
– Слушаюсь! Будет. А вот и наш Леон Дрей. По гудку узнаю его автомобиль.
В кабинет вошел, молодцевато подергивая обтянутыми в коричневый френч плечами, Лев Давидыч Троцкий. На крепких бритых щеках остался еще налет тающего инея, желтые щегольские гетры до колен весело поскрипывали при каждом шаге.
– Драгоценная Мария Федоровна! Ручку. Здорово, панове! А я, простите, задержался – на пожаре был.
– Где пожар?
– На Глазовой. Эти канальи от холода готовы даже дома жечь, чтобы согреться. Я двух все-таки приказал арестовать – типичные поджигатели.
– Ну не будем терять золотого времени, – хлопотливо пробормотал Луначарский, посматривая на золотые часы. – Кстати, Левушка, об аресте… Помнишь, я тебя просил за того старика профессора, что сдуру голодный бунт на Петроградской стороне устроил? Выпустили вы его?
– Ах, да! К сожалению, поздно ты за него попросил. Звоню я в чрезвычайку на другой день, а его только что израсходовали. Еще тепленький.
– А, черт бы вас разодрал! И куда вы так вечно спешите. Ведь совершенно безобидный старик. Три дочери от голодного тифа скапустились. Он и того… Кому сдавать? Вам, Алексей Максимыч. Так-с. Я не покупаю. Ну зайдем с валетика, что ли. А это как вам понравится? А это!! Хе-хе… Все пять – мои; пишите ремизы.
Вошла горничная.
– Домна спрашивает – телятину подогреть?
– Наоборот, – поднял голову от карт Алексей Максимыч. – Красное вино подогрей, а телятина пусть холодная. С огурчиком.
* * *
– Господа, пожалуйте закусить. Вам телятинки сначала, рыбки или макарон? Рюмочку лимонной! Сам настаивал, хе-хе.
* * *
Так они и живут, эти приятели, так дорого обошедшиеся России.
Город чудес
Написано Аркадием Аверченко при любезном содействии его коллеги Герберта Джорджа Уэллса, эсквайра
Получив соответствующее разрешение, компания американских миллионеров-предпринимателей выпустила на купленный за чертой города участок земли целую тучу архитекторов, инженеров и, главное, специалистов по всем отраслям предполагаемого предприятия – самым мельчайшим.
Весь участок обнесли высочайшим забором, и только на южной стороне ограды были проделаны монументальные ворота с огромной вывеской, на которой горела и сверкала всеми цветами радуги огненная надпись:
«Город Чудес».
А ниже:
«День пребывания в Городе Чудес и осмотра его стоит 5 миллионов руб. Спешите! Лучшая аттракция мира! Важно для русской «взыскующей града» души!!».
Беспрерывная адская работа кипела 3 месяца.
Наконец последняя гайка была привинчена, последний гвоздик вбит куда следует – и предприятие было объявлено открытым для широкой публики.
* * *
Беря у входной кассы билеты и платя за них жирную пачку керенок в пятьдесят тысяч, Иван Николаевич Трошкин говорил своему другу Филимону Петровичу Грымзину:
– То есть, знаешь, – если бы не так дорого драли, – ни за что бы не пошел!
– Еще бы, – рассудительно поддакивал Грымзин, – этакие деньжища не жалко и заплатить.
– Чего это они нам покажут?
– Говорят тебе – Город Чудес. Значит, чудеса будут – ясно!
– Пожалуйста сначала в контору, ваше сиятельство, – сказал швейцар, снимая фуражку и изгибаясь в три погибели.
– Слышь ты, – толкнул локтем приятеля Грымзин. – Чудеса, брат, уже начались. «Сиятельством» назвал.
В конторе щеголевато одетый клерк почтительно вручил им какую-то проштемпелеванную бумажку и указал на кассовое окошечко:
– Там получите деньги на расходы!
И когда кассир пододвинул им столбик золотых монет, рублей на двести, на столько же романовских и целую кучу серебряных рублей и мелочи – оба друга только промычали что-то и, боясь громко ступать по вылощенному паркету, направились к выходу.
Вдруг Трошкин застыл перед огромным, висящим на стене отрывным календарем и, не могши вымолвить слова, только головой дернул:
– Смотри!
На календаре было: «1908 год. 18 августа».
– Виноват, – робко обратился к клерку Трошкин. – Какое у нас сегодня число?
– 18 августа.
– А… год?
– Неужели не знаете? 1908-й. Тут же написано.
– Ну-ну, – покрутили головой друзья.
Вышли. Ошарашенные, зашагали по городу.
По улице мчался мальчишка, оглашая воздух неистовыми воплями:
– Ин-те-рресные газеты: «Новое Время» [2] , «Русское Слово», «Речь»!! «Биржевка»!!
– Постой, постой! За какое число «Новое Время»?
– Ясно – за сегодняшнее.
– Сколько тебе?
– Две за «Биржевку», пятак за «Новое Время»!
– Ф-фу!! Зайдем-ка в кафе, почитаем. Барышня! Два кофе по-варшавски, полдесятка пирожных. Ну-ка, что они там пишут?.. Гм! Статья Меньшикова [3] :
«Сколько раз мы уже твердили о том, что Финляндия готова предать Россию в первый же удобный момент. Еврейская левая пресса, которая спит и видит – поднять в России революцию…»
– А посмотри хронику.
– Изволь. «Его Величество Государю императору имели высокую честь представляться представители тамбовского дворянства. Выслушав речь предводителя дворянства, Его Величество соизволил ответить: «Рад слышать, что тамбовские дворянские традиции остались неизменны». – «Увольняется в полугодовой отпуск д.с.с. Криворучко». – «Орденом Станислава 3-й ст. награждается старший советник градоначаль…»
– Буренинский фельетон есть?
– Все на своем месте.
– Кого ругает-то?
– Валерия Брюсова.
– А, брат Ваня? Каково! Времена-то какие!..
– Барышня, получите. Сколько? 75 копеек? Дороговато. Хи-хи!
Вышли. На улице их внимание привлекла масса зеленых и розовых билетиков, наклеенных на парадных дверях.
– Чего это, Ваня?
– Квартиры все сдаются. Время осеннее скоро – сам понимаешь!.. А это что за вывеска… Во, брат! «Доминик». Зайдем… А? У буфета по рюмочке… А? С пирожком, а?
У буфетного прилавка толпилось много делового народа.
– Я, – говорил один другому, – могу продать вам вагон сахару по четыре с полтиной за пуд.
– Ваня… Что же это?
– Статисты, нешто не понимаешь. Для нас все эти разговоры. Для нас поставлены. Да-с – не зря деньги содрали. Буфетчик! Пирожки-то свежие?
– Помилуйте! Вам ординарную или двуспальную, за гривенник?
– Ваня! Обедать хочу, шампанского хочу, музыки хочу! Всего хочу. Деньжищ-то у нас уйма. 498 с полтинником осталось. Это из пятисот-то, Ваня. Спервоначалу обедать, потом в театр, потом в шантан.
Вышли. Пошли к «Медведю». Пообедали. Снова вышли.
– Ваничка, голубчик мой!!! Ей-богу, городовой стоит. Ваня, пойдем поцелуем. Не могу я видеть равнодушно. Стоит, голубчик, глазками смотрит. Гор-родовой!!
Не спеша приблизился городовой.
– Чего орешь зря? В участок захотел?
– Ваня… Слова-то какие: «орешь», «участок»!.. Городовой! Я протестую. Почему у вас не старая жизнь? Почему вы новые революционные порядки вводите?
Лицо городового приняло сразу новый, интеллигентно-испуганный вид.
– Что вы, мистер? Этого у нас не может быть. Помилуйте, наша фирма…
– А вон, почему на углу очередь стоит? Разве в хорошее время очередь стояла?
– Это же на Шаляпина, сэр, всегда бывала, сэр.
И тут же вызверился на проезжавшего извозчика:
– Я т-тебе покажу, дьявол желтоглазый… Не знаешь, какой стороны держаться?! Экие шалманы!..
– Барин, пожалуйте за четвертачок… Куда надо?
– Ваня! Изнемогаю от счастья. Три бутылочки шампанского мы с тобой охолостили, а я изнемогаю не от шампанского, а от радости бытия, Ваничка… Ваня, в театр бы ахнуть!..
С таинственным видом приблизился барышник.
– Билетиков у кассы не достанете. Желаете у меня? Второго ряда, вместо восьми целковых – десять только и возьму. Пожалуйте-с.
В театре Филимон Петрович снова ахнул:
– Ваня! Кто это там с хором на сцене на коленках стоит? Неужто ж Шаляпин?! Ах, голубчик ты мой! Это значит Высочайшее-то присутствие, а? Что делается… Все, как раньше… Ах, молодчины американцы!
И с переполненным сердцем влез Ваня на стул и завопил радостно:
– Товарищи… Нет, извините, к черту товарищей… Граждане!! Жертвую от полноты чувств на американский Красный Крест сто тысяч!!
Подошел капельдинер. Снял Ваню со стула и внушительно шепнул:
– Сэр! Вы, очевидно, не рассчитали. Сто тысяч золотом, – а других денег мы не признаем! – там за оградой будут стоить миллиард вашими… Опомнитесь.
И сел Ваня на стул, и горько заплакал Ваня…
В красивую, полную пышной грезы и блеска, жизнь – ворвалась пошлая, тяжелая проза, и сразу потускнела вся американская позолота, и сделался жалким комедиантом стоящий на коленях актер, так великолепно загримированный Шаляпиным…
Отрывок будущего романа (Написано по рецепту «Алой Чумы» [4] )
1
В тысяча девятьсот таком-то году большевики наконец завоевали всю Россию. Вне их власти остался только Крым, который и висел небольшим привеском на неизмеримом пространстве холодной и голодной Совдепии, как болтается несъедобный золотой брелок на огромном брюхе голодного, отощавшего людоеда.
Что касается окружающих государств, то они выстроили по всей границе высокую крепкую стену, напутали на гребне ее колючей проволоки и вывесили огромные плакаты через каждые пятьсот шагов:
«Вход посторонним строго воспрещается».
Совдепия была предоставлена самой себе.
Ни ввоза, ни вывоза; ни торговли, ни промышленности; ни законов Божеских, ни законов человеческих; ни наук, ни искусств…
Как человеческая голова, которую заботливая рука не стрижет, не бреет и не моет, постепенно зарастает дремучим волосом и наполняется тучей насекомых, так и бывшая Россия как-то заросла дремучими лесами, высокой травой, и в лесах и в траве развелось неисчислимое количество волков и медведей, лосей, зубров, лисиц и оленей…
Иногда стадо диких свиней смело перебегало заброшенный, запорошенный многолетней пылью, заросший маками и кашкой, ржавый рельсовый путь, иногда зоркая рысь, притаившись в мрачной развалине фасада ситценабивной или бумагопрядильной фабрики, часами подстерегала серого зайчишку; орлы вили гнездо в поломанных, лишенных стекол трубах разрушенных обсерваторий… А в стенах бывшего Московского университета свила гнездо страшная шайка разбойников-китайцев, от которых трепетала вся округа.
Население разделялось на три резко обособленных касты или племени: племя совнаркомов, племя исполкомов и племя трудообязанных…
Племя совнаркомов состояло всего из одного человека: неограниченного правителя Совдепии Миши I, сына покойного неограниченного правителя Льва I, из рода Троцких. Монархический принцип вводился постепенно и так незаметно, что никто даже не почухался, когда Льва I похоронили в усыпальнице московских государей.
Племя исполкомов было нечто вроде воевод – оно правило. Каждый исполком состоял из одного человека и отчитывался только перед совнаркомом Мишей I.
Племя трудообязанных работало, сеяло хлеб, охотилось на зубров, шило одежды из звериных шкур и курило вино, за что получало от исполкомов право на жизнь и одну треть сработанного в свою пользу. Другая треть шла исполкому, третья – совнаркому Мише.
Население городов жило в землянках или юртах из оленьих шкур, остальные спали в дуплах вековых деревьев, в пещерах или просто шатались по степи, подстерегая диких кабанов и медведей.
* * *
Стоял тихий погожий вечер лета 1950 года… На опушке огромного леса у развалины корня высокой корявой сосны весело пылал костер, вокруг которого расположились трое: сухая, коричневая сморщенная старуха, завернутая в лохмотья засаленной плюшевой портьеры, и двое мальчишек, задрапированных волчьими шкурами. Каждый из них был вооружен топориком из остро отточенного кремня, насаженного на дубовую палку.
– А где старший брат? – спросила старуха, обгрызая желтыми зубами волчью кость.
– Мы его делегировали на пленарное заседание Совнархоза. Люди нашего племени поймали нескольких эсеров-интернационалистов. Теперь идут дебаты о том – съесть ли их или выменять на некоторых из нашей коммунистической ячейки, попавших в плен к интернационалистам.
– О, наказание! – воскликнула старуха. – И когда эта проклятая война кончится?! Эх, если бы он хоть кусочек этого интернационалиста домой принес.
– Да, дожидайся, – проворчал внук. – Помнишь того англичанина, который семь лун тому назад перелетел к нам через стену на какой-то странной штуке… Поймали его наши и тут же слопали – даже полпальца не принесли… А когда отец с охоты вернется?
– Солнце шести раз не покажется на востоке, как он будет здесь. Исполком дал ему определенный мандат. Что это у тебя в руках?
– А я когда на куропаток силки ставил, нашел в лесу… Что-то вроде ореха, да я никак не мог разгрызть.
– Покажи-ка, – с любопытством попросила старуха. – Да это гайка!!
– Что это значит: гайка?
– Этими штуками когда-то рельсы скреплялись.
– Какие рельсы?
– Железная дорога. Из железа.
– Какое странное слово: железо.
– Да ты ж видел у меня в числе фамильных драгоценностей гвоздь? Знаешь, такой стержень со шляпкой. Это и есть железо.
– Да как же из этого можно целую дорогу сделать? В землю эти гвозди один около другого вколачивались, что ли?
Старуха заметила, что внук слишком далеко хватил, и усмехнулась:
– Ну, брат, это ты, действительно, ахнул. Из железа делались рельсы… Такие длинные-предлинные палки… И по ним быстро бегали железные дома, в десять раз больше нашего.
– Сколько же лошадей нужно было для этого?!
– Зачем лошади? Воды в котел нальют, дровец подбросят, оно и летит – никакой лошади не догнать.
– Кто ж это делал?
– Инженеры.
– Они вкусные?
– Не знаю, не пробовала. Когда я была молодая – за меня один инженер сватался.
– Чего-о?
– Ты этого слова не поймешь. Жениться хотел. Руку мне свою предлагал. Я отказалась.
– Вот дура-то старая. От руки отказалась! Взяла бы и съела. Она нежная.
– Ох, как с вами трудно разговаривать!
И потом мечтательно улыбнулась:
– Он мне записки писал…
– Что это значит: «писал»?
– Брали такую палочку с железной штучкой на конце, обмакивали в черную краску и делали на бумаге знаки.
– Какое смешное слово: бумага.
– Да ты разве не видел? У меня в числе фамильных драгоценностей один трамвайный билет есть. Если поймаешь зайца – покажу.
Наступило молчание. Костер тихо потрескивал, догорая.
Один из внуков потянулся, засмеялся и сказал:
– Вчера новый приезжий, кооптированный от Пролеткульта, чуть не женился на нашей соседке: схватил за волосы и потащил в лес.
– Что ж ее прежний жених?
– Он вынес резолюцию протеста, осуждающую это самочинное выступление без мандата от исполкома.
– А формула перехода к очередным делам?
– Обыкновенная: зарезал приезжего топориком, а невесту привязал к дереву и содрал скальп.
– Какая прелесть! Совсем роман!
– Чего-о-о-о?..
Но старуха молчала, задумавшись о прошлом…
Все было безмолвно, только слышался далекий олений рев в чаще да порсканье охотившейся за совой рыси на опушке.
Международный ревизор
Начало комедии
Действие происходит в Москве в кремлевских палатах.
Троцкий . Я пригласил вас, господа, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет международная комиссия!
Луначарский . Как комиссия?!
Петерс . Как комиссия?!
Ленин . Вот не было заботы, так подай!..
Троцкий . По своей части я кое-какие распоряжения сделал – советую и вам. Особенно вам, Петерс! Комиссия, конечно, захочет осмотреть чрезвычайки – так уж сделайте так, чтобы все было прилично. А то у вас на заключенных посмотреть страшно: худые, голодные, в синяках и кровоподтеках.
Петерс . Кровоподтеки белилами замазать можно.
Троцкий . Ну, да уж я не знаю, что там полагается. Можно бы также всех заключенных одеть в боярские костюмы и чтобы они, как придет их осматривать комиссия, проплясали бы перед комиссией русскую. Хотя… как мы их заставим?..
Петерс . Это можно. Я им надену сапоги с гвоздями внутри. Уж будьте покойны: на месте не устоят, тут тебе и русскую, и французскую, и испанскую всякую отпляшут.
Троцкий . Потом у вас там эти разные аппараты, которые вы… этого… употребляете при допросах. Оно, конечно, может, так по-вашему, по-ученому, и надо, а все же, если комиссия увидит все эти ваши зажималки для пальцев, прессы да резины – ан и нехорошо. Впечатление может получиться не того…
Петерс . А мы на дверях этой комнаты напишем «гимнастический кабинет». Кстати же, англичане любят спорт.
Троцкий . Вам виднее; только смотрите, чтобы англичане не стали сдуру на себе пробовать этой гимнастики… Вам также, товарищ Луначарский… Советую обратить внимание на учебные заведения. Очень уж мало в них учебного. Намедни захожу, а ученицы на коленях у учеников сидят и кокаин нюхают. Может быть, оно так для усвоения научных предметов и надо, да французы из комиссии ведь народ легкомысленный, примут ваше учебное заведение за что-либо другое и начнут между партами канкан плясать…
Луначарский . Да ведь сами же вы говорили, чтобы в школах была полная свобода. Впрочем, однако, насколько я знаю, и раньше, при полицейско-бюрократическом режиме, ученики и ученицы в наказание бывали на коленях.
Троцкий . Так ведь то на собственных, а не на чужих. И по вашей части, товарищ комендант города, тоже попросил бы… Вы позволяете жителям ходить по городу почти без всего: эта дрянная публика наденет только сверх рубахи рваный пиджачишко, а внизу ничего нету!
Комендант . Слушаю-с… Мы этаких на время приезда комиссии выберем всех из города да на общественные работы и погоним.
Троцкий . А ежели комиссия будет вообще останавливать на улицах прохожих да спрашивать: «Довольны ли жизнью?» – то чтоб говорили: «Всем довольны, господа сэры или там мусью». А который будет недоволен, мы ему после такое неудовольствие пропишем!.. Впрочем, это уж по вашей части, Христиан Иванович.
Петерс . Будьте покойны!.. Мы его, недовольного-то, сразу же в гимнастический кабинет. Тама останется доволен!..
Троцкий. Вообще я бы отобрал из жителей человек сто тех, которые посытее да повеселее, подкормил бы их еще до приезда комиссии да и выпустил бы на улицу: пусть все время по пути следования комиссии на глаза подвертываются. Да развесить им на шеи медальон с портретом Карла Маркса! Пусть видят иностранцы, какие мы есть социалисты. А который каналья сбросит с шеи портрет, я ему такую пеньковую цацу навешу… Впрочем, это по вашей части, Христиан Иванович.
Петерс . Будьте благонадежны.
Троцкий . Да вот еще что: тут за последнее время вы, товарищ Луначарский, наставили памятников – как, бывало, раньше Держиморда фонари ставил – кому нужно, кому и не нужно. Тут тебе и Урицкому, и Стеньке Разину, и Робеспьеру, и Нахамкису, и Емельяну Пугачеву. Наши-то «товарищи» ничего – слопают… А перед иностранцами как-то неловко. Снять бы их, что ли! И что это, ей-богу, за скверный город! Только поставь где-нибудь один памятник – сейчас же целую сотню всякой дряни нанесут и наставят.
Луначарский . А как же быть с вашим памятником?
Троцкий . Ну, мой можно оставить. Только временно надпись на нем переделайте. Напишите: Гарибальди, что ли.
Луначарский . Да ведь Гарибальди с большой бородой!
Троцкий . Ну, времени столько прошло, что мог успеть и побриться. Кажется, теперь все. Фф-фу!.. Ну, вот комедия и кончена!..
Луначарский . Вы думаете – кончена? Я думаю, она только после приезда международной комиссии и начнется!..
Моя старая шкатулка
У меня есть старая шкатулка палисандрового дерева, выложенная по крышке инкрустацией, – совсем такая, какую возил с собой Павел Иванович Чичиков.
Я свою тоже теперь вожу за собой.
С сентября позапрошлого года.
А раньше она стояла в углу кабинета моей петербургской квартиры и служила хранилищем трофеев побед моей горничной надо мной.
Дело в том, что у меня с моей горничной шла глухая, тайная, незаметная, но свирепая, неумолимая борьба. Всякий из нас терпел свои поражения и одерживал победы, но на ее долю приходилось побед больше, чем поражений…
Каждый день утром, сидя за письменным столом, я просматривал корреспонденцию и прочитанное, ненужное бросал на пол; просматривал поданные счета и, отметив в записной книжке итоги на предмет уплаты, счета бросал на пол, вынимал содержимое боковых карманов, отбирал ненужное – бросал на пол. И уходил из дому.
А потом являлась горничная, тщательно подметала пол, а все брошенное не менее тщательно собирала и аккуратной пачкой засовывала между подсвечником и часами около чернильницы на письменном столе.
Приходил я. Замечал засунутую пачку; бросал на пол.
Приходила она. Собирала с пола. Засовывала между подсвечниками и часами.
Приходил я. И, признав себя побежденным, совал всю пачку в старую шкатулку палисандрового дерева с инкрустацией.
Замечательнее всего, что у нас с горничной никогда не было разговора об этом. Ведь смертельно враждующие армии не ведут между собой переговоров. Не правда ли?
* * *
Мой отъезд из Петербурга был вынужденно срочным, лихорадочно поспешным. Уезжая, я совал в большой чемодан первое, что подворачивалось под руку…
Так и увез с собой палисандровую шкатулку.
А сегодня – открыл ее и стал перебирать старое, пожелтевшее, основательно забытое.
В этой шкатулке нет ни золотых локонов, ни медальонов с портретом любимой, ни засохших и рассыпающихся при первом прикосновении цветов.
Выбираю из беспорядочной, перемешавшейся от дорожной тряски груды первое попавшееся:
Ресторан «Вена». Счет. Итог – 270 рублей.
Что такое?!
A-а… Помню! Праздновал в большом кабинете свои именины, 26 января. Гостей 24 персоны.
А ну, посмотрим:
Помню я эти именины… Хозяин «Вены» – незабвенный покойник Иван Сергеич Соколов – постарался: украсил мое место цветами и за свой счет, в виде подарка, отпечатал юмористическое меню на 24 персоны.
Вот оно: огромное красное «26 января», а под ним:
«Закуски острые, сатириконские; водка горькая, как цензура; борщок авансовый; осетрина по-русски без опечаток; утка – не газетная; трубочки с кремом а lа годовой подписчик».
Бедный остряк, Иван Сергеич… И косточки твои, вероятно, уже рассыпались.
Бросаю на пол и счет и меню – пойди-ка подбери снова это все, моя петербургская горничная!.. Далеко ты.
Беру следующую бумажку:...
«Дорогой Аркадий! Погода хорошая. Бери на Конюшенной таксомотор: поедем покатаемся на Стрелку. Можно и к Фелисьену».
Н-да-с. Катались раньше мы. Пили кровушку.
На пол бумажку! Следующая:
...
«Зачем презираете скромную Финляндию? Райвола и мой замок [5] по вас соскучились. Приехали бы и Радакова [6] привезли. Ах, какой у него чудесный рисунок – «Песня голода» [7] . Ждем. Ваш Леонид Андреев ».
Благоговейно откладываю в сторону. Рука, набросавшая эти торопливые строки, уже не будет скользить пером по бумаге.
Спи крепко и спокойно, любимый писатель и человек.
А это что?
«Аркадий, выкупай заложников…
…Сидим у Давыдки, в безумной оргии прокутили 7 р. 20 коп., а нет ни соверена. Твои заложники жизни П. Маныч , Сергей Соломин [8] и др.».
Сергей Соломин умер давно. Петр Маныч, говорят, расстрелян, да и «др.», я думаю, едва ли уцелели…
На пол, на пол!..
«Солнышко мое! Тысячу раз целую и нежно обним…»
Гм!.. Нет, это не то. А вот!!
«Аркадий! Управляющий конторой мне передал, что ты распорядился повысить цену на «Сатирикон» с 12 к. до 15 к. Не делай этого безумства, не роняй тираж. Ты знаешь, что значит для читателя 3 копейки. Твой Ре-Ми».
Призадумался я… Ре-Ми где-то за границей, а я в Севастополе, а петербургский читатель, рассчитывавший в 3-х копейках, купил, вероятно, недавно на последние полторы тысячи полфунта плохо выпеченного хлеба, съел и тихо отправился туда, где и Иван Сергеич Соколов, и Леонид Андреев, и Гейне, и Шекспир.
Мимо, мимо.
Это еще что такое?
«Г. Аверченко! У меня почти все комнаты пустуют. Не направите ли ко мне хорошего жильца? С почтением ваша бывшая квартирная хозяйка И. М.».
...
«Счет от портного Анри.
2 пиджачных костюма – 210 р.
1 жакет – 135 р.
1 фрак с 2 бел. жил. – 195 р.».
Этот жакет и сейчас у меня. Еще на прошлой неделе портной за перемену истершейся шелковой подкладки на коленкоровую взял 17 000 рублей.
Телеграммы:
«Дорогой дружище. Это лето я свободен. Если будет месяца 2 времени – поедем север Африки, проберемся Египет, если месяц – успеем Венеция или Нормандия».
Да. Ездили. Весь мир был наш.
...
«Магазин Вейс. Счет. 2 пары ботинок на пуговицах, с замшевым верхом – 36 р., одна пара туфель открыт, фрачн. –16 руб.».
Ожесточенно комкаю. Бросаю.
А вот и еще записочка. Какая милая записочка, жизнерадостная: «Петроград. 1 марта.
Итак, друг Аркадий – свершилось! Россия свободна!! Пал мрачный гнет, и новая заря свободы и светозарного счастья для всех грядет уже! Боже, какая прекрасная жизнь впереди. Задыхаюсь от счастья!! Вот теперь мы покажем, кто мы такие. Твой Володя».
Да… показали.
Опускаю усталую голову на еще неразобранную груду, и – нет слез, нет мыслей, нет желаний – все осталось позади и тысячью насмешливых глаз глядит на нас, бедных.
История – одна из тысячи
К петербургскому гражданину свободной Советской России явился человечек из комиссариата и сказал:
– Вы – Григорий Недорезов?
– Я – Григорий Недорезов.
– Вы назначены быть на митинге завтра около цирка Модерн.
– В качестве чего?
– Что значит в качестве чего? В качестве публики.
– Слушаю-с. А когда аплодировать?
– Там впереди будет такой чернявенький, в прыщах, – как захлопает, так вы все за ним. Только всего и дела. И с тем счастливо оставаться.
– Как? Как вы сказали?!
– Я говорю – «счастливо оставаться». Хе-хе.
– Хе-хе.
Оба рассмеялись друг другу в лицо скрежещущим, лязгающим смехом и, отскочив друг от друга, разошлись.
* * *
Чтоб не пропустить телеграфических знаков чернявенького с прыщами – Григорий Недорезов пробрался в самые первые ряды в двух шагах от оратора и погрузился с головой в волшебный мир сладких звуков ораторского голоса.
– Товарищи! – ревел оратор, почти переламываясь пополам. – Завоеванной нами свободе грозит опасность! С одной стороны, на нас наступают польские империалисты, с другой – южная крымская белогвардейщина. Только последним гигантским усилием мы можем спасти нашу дорогую матушку-свободу, а для этого – все на красный фронт!! Правильно я говорю?
Слушатели вздохнули, переступили с ноги на ногу и кротко промолчали.
– Правильно я говорю?!
Вздох и молчание.
– Чего же вы молчите? Может, я неправильно говорю, так вы скажите… Ну? Что же? Правильно я говорю?
Пытливый взор оратора померк, нахмурился и уперся прямо в грудь Григория Недорезова, в ту грудь, откуда, по предположению оратора, должен быть исторгнут могучий вопль:
– Пр-равильно!
– Ну, что же?.. Вы вот там… товарищ в женской безрукавке и одном башмаке! Чего же вы молчите? Я спрашиваю: правильно или неправильно?
Григорий Недорезов тоскливо вздохнул и потупился.
– Вы что? Может быть, вы глухонемой?
– Нет, я ничего… Спасибо.
– Так чего же вы молчите и только рот открываете и захлопываете, как рыба, вынутая из воды?.. Вот вы нам и скажите: правильно я говорил или неправильно?
Григорий Недорезов был молчалив, как его старый башмак. Даже, пожалуй, еще молчаливее; башмак хоть разевал рот и настойчиво просил каши, сверкая белыми деревянными зубами, а рот Недорезова Григория был закрыт, как чемодан, от которого потеряли ключ.
Оратор сокрушенно покачал головой и вздохнул:
– Ну, что ж… Товарищ Упокойников! Отведите этого, который молчит, я с ним после поговорю.
– Пожалуйте!
– Куда вы меня ведете?
– Там вас какая-то барышня спрашивает. Очень хорошенькая. Ждет на углу. Пойдешь ты или приклада между лопаток захотел, сволочь!
Как и предполагал Недорезов, изящное галантное сообщение о ждущей его хорошенькой барышне оказалось сильно преувеличенным или преуменьшенным – как угодно: это было не на углу, а в совершенно закрытом помещении, и не барышня его ждала, а ему пришлось подождать.
Вместо барышни через полчаса пришел давешний оратор, сел верхом на стул, покачался перед стоящим с понуренной головой Недорезовым и сказал потягиваясь:
– Ну-с… значит, там, на людях, вы со мной разговаривать не хотели. Посмотрим теперь… Правильно я говорил или неправильно?..
Башмак, разевая рот до ушей, вопил на весь крещеный мир, требуя законной порции каши… Владелец его, наоборот, молчал как убитый.
– Так-с, – вздохнул бывший оратор. – Очень хорошо. Товарищ Гробов! Отведите этого молчаливого товарища в тюрьму. А если будет попытка к побегу – стреляйте.
– Даю вам честное слово, – торопливо заговорил Недорезов, – что попытки к побегу не будет! Ей-богу, честное слово!..
– Ну да… Вы можете и не бежать, а им вдруг покажется, что вы побежали. Народ у нас все усталый, замотавшийся: где ж тут тихий шаг от рыси отличишь.
Недорезов вдруг решительно тряхнул тем местом, где у него должны были бы находиться кудри, если бы не – и так далее.
– Хорошо! – воскликнул он. – Раз все равно пропадать – я скажу, почему я молчал!! Извольте! Я молчал потому, что не знал, что ответить: «правильно» или «неправильно».
– Да что ж, у вас нет головы на плечах, что ли?
– Э, господин-товарищ! Нет дождя перед дождем, нет денег перед деньгами, есть голова перед тем, как ее не будет. Были у меня два брата: Сережа Недорезов и Алеша Недорезов; и за пять минут до того, как они потеряли голову, они ее имели, казалось, приделанную к плечам наглухо…
– Ну-с?
– Начну с Сережи. Парень был голова – министр! Огонь! Орел! Все понимал, что к чему. Думал он, думал да приходит к одному такому… главному – вроде вас… И говорит: неправильно все это у вас! Обещали хлеб народу – все с голоду пухнут; обещали мир – с одного фронта на другой, как соленых зайцев, гоняете; обещали свободу – а для того, чтобы ребенка похоронить или с одной квартиры на другую переехать, – десять разрешений и мандатов требовается!.. Неправильно! Нехорошо!» Пожевал губами нарком, выслушал все до конца и спрашивает:
– Значит, неправильно?
– Очень даже неправильно.
– Хорошо. Отведите его туда-растуда, и при попытке бежать – распорядитесь.
– Да я, – говорит, – не буду бежать!
– Все равно распорядиться нужно.
Повели его и распорядились. Узнали мы с Алешей, поплакали, потом Алеша и говорит: «Я, говорит, буду теперь совсем иначе с ними разговаривать… Я уж знаю как!»… Пошел к наркому и говорит: «Ах, говорит, до чего у нас все хорошо, до чего все правильно! Обещали, скажем, хлеб – сделайте ваше такое одолжение – есть и хлеб, и жиры, и азотистые – хоть залейся. Мир народу обещали – извольте! Царит мир, тишь, гладь да Божья благодать… Свободу сулили? Боже ты мой! Это ли не свобода! Только теперь солнышко и увидели, только теперь свежего воздуха и глотнули. Очень все правильно сделано!»
Пожевал нарком губами.
– Правильно, значит?
– Оч-чень правильно.
– Ну-с, отведите его куда следует, а при попытке бежать – распорядитесь.
– За что же, помилуйте?
– За то самое. За издевательство и насмешку. Потому – то, что вы говорили, можно только в издевку сказать! Товарищ Скелетов! Распорядитесь.
Распорядились.
Так теперь посудите вы сами, товарищ оратор, как и что мне вам было ответить?! Ответить – «правильно!», скажут: распорядись, Скелетов! Ответить – «неправильно» – все равно: Скелетов, распорядись! Так уж лучше я молчать буду!
Бывший оратор сокрушенно покачал головой.
– Да, и молчать нехорошо. Молчание на категорически поставленный вопрос суть саботаж, бойкот правительства, наказуемый по нашим законам тюрьмой, а при попытке бежать… Одним словом, товарищ Гробов, распорядитесь.
* * *
Редкие прохожие видели на пустынной мостовой Недорезова Григория, который, несмотря на честное слово и настойчивые свои заверения, очевидно, все-таки пытался бежать…
Он лежал на мостовой, с поджатыми ногами, и казалось, что он, действительно, пытается убежать.
И казалось тоже, что у него два отверстых рта на обоих полюсах застывшего тела: один рот – полный белых деревянных зубов – на башмаке… Этот рот вопил, он был разинут в бешеном требовании каши, обращенном к пыльному небу.
Другой рот – обыкновенный человеческий, без передних, вышибленных прикладом зубов – был тоже открыт, но молчал. Молчал.
До Страшного суда.
Слабая голова
Позвонили мне по телефону.
– Кто говорит? – спросил я.
– Из дома умалишенных.
– Ага. Здравствуйте. Я ведь ничего, я только так. Хи-хи. Ну, как поживают больные?
– Насчет одного из них мы и звоним. Вы знавали Павла Гречухина?
– Ну как же! Приятели были. Да ведь он, бедняга, в 1915 году с ума сошел…
– Поздравляем вас! Только что совершенно выздоровел. Просится, чтобы вы его забрали отсюда.
– Павлушу-то? Да с удовольствием!
Заехал я за ним, привез к себе.
* * *
– Ф-фу! – сказал он, опускаясь в кресло. – Будто я снова на свет божий народился. Ведь, ты знаешь, я за это время совершенно был отрезан от мира. Рассказывай мне все! Ну как Вильгельм?
– Ничего себе, спасибо.
– Ты мне прежде всего скажи вот что: кто кого победил – Германия Россию или Россия Германию?
– Союзники победили Германию.
– Слава богу! Значит, Россия – победительница?
– Нет, побежденная.
– Фу ты, дьявол, ничего не пойму. А как же союзники допустили?
– Видишь ли, это очень сложно. Ты на свежую голову не поймешь. Спрашивай о другом.
– Как поживает Распутин?
– Ничего себе, спасибо, убит.
– Сейчас в России монархия?
– А черт его знает. Четвертый год выясняем.
– Однако, образ правления…
– Образа нет. Безобразие.
– Так-с. Печально. Спички есть? Смерть курить хочется.
– Нету спичек, не курю.
– Позови горничную.
– Маша-а-а!
– Вот что, Машенька, или как вас там… Вот вам три копеечки, купите мне сразу три коробки спичек.
– Хи-хи…
– Чего вы смеетесь? Слушай, чего она смеется?
– А видишь ли… У нас сейчас три коробки спичек дороже стоят.
– Намного?
– Нет, на пустяки. На пятьсот рублей.
– Только-то? Гм! Чего ж оно так?
– Да, понимаешь, за последнее время много поджогов было. Пожары все. Спрос большой. Вот и вздорожали.
– Так-с. Эва, как ботиночки мои разлезлись… Слушай, ты мне не одолжишь ли рублей пятьсот?
– На что тебе?
– Да немного экипироваться хотел: пальтецо справлю, пару костюмчиков, ботиночки, кое-что из бельеца.
– Нет, таких денег у меня нет.
– Неужели пяти катеринок не найдется?
– Теперь этого мало. Два миллиона надо.
Павлуша странно поглядел на меня и замолчал.
– Чего ты вдруг умолк?
– Да так, знаешь. Ну дай мне хоть сто рублишек. Поеду в Питер – там у меня родные.
– Они уже умерли.
– Как? Все?
– Конечно, все. Зря, брат, там в живых никто не останется.
– Ну я все-таки поеду. Хоть наследство получу.
– Оно уже получено. Теперь все наследства получает коммуна.
Взор его сделался странным. Каким-то чужим. Он посмотрел в потолок и тихо запел:
– Тра-та-та, тра-та-та,
Вышла кошка за кота.
Мне почему-то сделалось жутко. Чтобы отвлечь его мысли, я сообщил новость:
– А знаешь, твой кузен Володя служит в подрайонном исполкоме Совдепа.
Павлуша внимательно поглядел на меня и вежливо ответил:
– Ду-ю спик энглиш? Гай-ду-ду. Кис ми квик [9] . Слушай… Ну, я в Москву поеду…
– Да не попадешь ты туда, чудак!
– Почему, сэр?
– Дойдешь ты до Михайловки, за Михайловкой большевики.
– Кто-о?
– Это тебе долго объяснять. Проехал ты, скажем, большевиков – начинается страна махновцев; проехал, если тебя не убьют, махновцев – начинается страна петлюровцев. Предположим, проехал ты и их… Только что въехал в самую Совдепию – возьмут тебя и поставят к стенке.
– Ну что ж, что поставят. А я постою и уйду.
– Да, уйдешь, как же. Они в тебя стрелять будут.
– За что?
– За то, что ты белогвардеец.
– Да я не военный.
– Это, видишь ли, тебе долго объяснять. Конечно, если ты достанешь мандат харьковского реввоенсовета или хоть совнархоза…
Павлуша схватился за голову, встал с кресла и стал танцевать на ковре, припевая:
Чикалу, ликалу
Не бывать мне на балу!
Чика-чика-чикалочки —
Едет черт на палочке…
– Знаешь что, Павлуша, – предложил я, – поедем прокатимся. Заедем по дороге в сумасшедший дом. Я там давеча портсигар забыл.
Он поглядел на меня лукавым взглядом помешанного.
– Ты ж не куришь?
– А я в портсигаре деньги ношу.
– Пожалуй, поедем, – согласился Павлуша, хитро улыбаясь. – Если ты устал, я тебя там оставлю, отдохнешь. Два-три месяца, и, глядишь, все будет хорошо.
Поехали.
Он думал, что везет меня, а я был уверен, что везу его.
Когда вошли в вестибюль, Павлуша отскочил от меня и, спрятавшись за колонну, закричал:
– Берите вот этого! Он с ума сошел.
Ко мне подошел главный доктор.
– Зачем вы его опять привезли? Ведь он выздоровел.
Я махнул рукой.
– Опять готов!
Павлуша вышел из-за колонны, расшаркался перед доктором и вежливо сказал:
– Простите, сэр, что я до сих пор не удосужился поджечь ваш прелестный дом. Но спички стоят так дорого, что лучше уж я стану к стеночке.
* * *
Взяли Павлушу. Повели.
Слава богу: хоть одного человека я устроил как следует.
Разговор за столом
Когда соберутся вместе за самоваром или за бутылкой вина несколько русских людей, живущих по воле судьбы и большевиков – в Феодосии, Ялте или Севастополе, – я заранее с математической точностью знаю, с чего начнется их разговор.
Чем кончится разговор, конечно, никогда нельзя предугадать, но начинается он всегда с поразительной точностью одинаково.
* * *
Вот пятеро – три дамы и двое мужчин – уселись за стол вокруг шумящего самовара; хозяйка вручила каждому по чашке чаю, пододвинула печенье, варенье, кекс, конфеты.
Минута молчания. Переглянулись.
– Ну-с, – начал разговор мужчина, тот, что помоложе. – Когда же мы будем в Петербурге?
– Да-а-а, – неопределенно тянут все три дамы. – Интересно, когда мы туда попадем?
– Теперь уж скоро, – хмуря многозначительно седые брови, говорит старичок. – Мелитополь взят. (А раньше он говорил Курск, а раньше – Харьков.)
Первая стадия разговора кончена.
Вторая:
– Я получила сведения, что моя квартира в Петербурге совершенно разграблена.
– Мне писали, что моя квартира в Москве сохранилась. Какой-то комиссар живет.
– А я не имею никаких сведений о своей квартире.
– У меня там сестра живет. Не знаю – жива ли?
– У меня отец и тетка. Не знаю – живы ли?
– Там голод.
– Там страшный голод.
– Там умирают с голоду.
– Совершенно умирают. Почти все.
Вторая стадия разговора окончена.
Третья:
– Говорят, муж Анны Спиридоновны поступил в Москве на службу к большевикам.
– Вот негодяй!
– Форменный. Вешать таких людей мало.
* * *
И вдруг одна из дам неожиданным энергичным броском руля сразу повернула неуклюжий широкобокий корабль вялого разговора из узкого шаблонного канала, где корабль то и дело стукался боками о края канала, – сразу повернула и вывела этот корабль в широкое море необозримых отвлеченных предположений.
Именно она сказала:
– А что бы вы, mesdames, сделали с Троцким, если бы этот ужасный негодяй попал в ваши руки?
– Ах, ах, – сказала с бешеной ненавистью вторая дама, то, что называется – роскошная блондинка, и даже сверкнула большими серыми глазами. – Я не знаю даже, что бы я с ним сделала! Я… я даже руки бы ему не подала.
– Тоже… – кисло улыбнулась худощавая. – Придумали наказание. Нет, попадись мне в руки Троцкий, я уж знаю, что бы я сделала с ним.
– А что именно?
– Я? Я бы выстрелила в него!!!
– Ну, это тоже ему не страшно, – скривилась, подумавши, третья дама, та самая, которая перевела разговор в другой галс. – Нет, попадись мне в руки Троцкий, я бы уж знаю, что бы я сделала! Узнал бы он, почем фунт гребешков, узнал бы, как губить бедную Россию!..
– Ну, а что? Что бы вы ему сделали?
И сказала третья дама свистящим шепотом, как гусенок, которому птичница наступила на лапу.
– Я бы купила булавок… много, много… ну, тысячу, что ли. И каждую минутку втыкала бы в него булавочку, булавочку, булавочку… Сидела бы и втыкала.
– Только и всего?
– Ну, а потом отрезала бы голову и выбросила свиньям!
– Только и всего?
Бедная фантазией худощавая обвела сердитым взглядом насмешливые лица и отрывисто закончила:
– А после этого воткнула бы в него еще тысячу булавок!!
Мужчина помоложе снисходительно засмеялся:
– Эх вы. Милые вы дамы, очаровательные, но фантазии у вас ни на копейку. Эко придумали: утыкать человека булавками, отрезать голову, выстрелить в него… Нет, господа, нет! Он столько сделал зла, что и расплата с ним должна быть королевская!..
– Например?! – в один голос воскликнули все три дамы.
– А вот… Только разрешите для настроения уменьшить свет. Слушайте меня в полутьме. Вот так… То, что я буду говорить, очень страшно. Итак: по приказу Троцкого, как вам известно, расстреливаются тысячи людей – совершенно безвинных – по обвинению в контрреволюционности. И вот! Если бы ко мне в руки попался Троцкий – я его не убивал бы. А взял бы последнего расстрелянного из этих тысяч, взял бы еще теплый труп этого убитого Троцким человека и крепко привязал бы его к Троцкому – грудь с грудью, лицо с лицом. И я бы кормил и поил Троцкого, чтобы он жил, но труп убитого им человека не отвязывал бы от него. И вот – постепенно убитый Троцким начинает гнить на Троцком… Троцкий каждую минуту, каждую секунду видит синее разложившееся лицо с оскаленными зубами, голова у Троцкого кружится от нестерпимого трупного запаха, и когда он почувствует около своей груди что-то живое, когда клубок трупных червей завороч…
Раздается дикий пронзительный крик блондинки:
– Не могу!! Довольно!.. Дайте свет… Мне страшно!!
Дали свет. Автор последнего хитроумного проекта сидел, положив голову на руки, и угрюмо молчал.
И заговорил старичок… Мягким, кротким голосом заговорил:
– Позвольте и мне сказать кой-что по этому вопросу. Видите ли… Я бы не резал и не бил бы Троцкого, не привязывал бы к нему упокойников, – я бы пальцем его не тронул, а я бы применил к нему штуку, самую справедливую…
Старичок облизнул губы и заговорил еще мягче, еще задушевнее:
– Я посадил бы его в комнату вместе с обыкновенным убийцей, повинившимся ну… в пяти душах, что ли. И я досыта кормил бы их. Хорошо кормил бы. На закусочку королевскую селедочку в уксусе, икорку паюсную, огурчики солененькие… На обед селяночку жидкую с соленой рыбкой, гуляш венгерский с красным перчиком, с перчиком! и пудинг – сладкий-пресладкий. А чтобы они не боялись есть эти солененькие и сладенькие вещицы – я бы около них поставил по огромному стеклянному кувшину с хорошим русским квасом, знаете, этакий московский хлебный темненький квасок со льдом и с желтой пеной наверху, как, бывало, в московской «Праге» подавали. Острый, шипучий, приятный – в нос шибает… Вот кушали бы они, родименькие, кушали… И когда, накушавшись, потянулся бы простой убийца за кваском, я остановил бы его руку и сказал:
– Послушай, раб Божий, убийца… а заслужил ли ты своими деяниями сие питие усладительное. Вот давай мы это по-Божьему рассудим. Секретарь! А ну-ка читай поименно всех убиенных сим рабом Божиим!
И стал бы читать секретарь:
– Убиты сим убийцей: Марья, Николай…
И после каждого имени выплескивал бы я в парашу по глотку этого кваску холодненького. И сказал бы дальше секретарь мой:
– Петр, Семен, Поликарп… Все!
И выплеснул бы я пять глотков по числу убиенных сим человеком, и остальной квас – три четверти кувшина – вручил бы убийце:
– На, сын мой! Вот твой остаток. Увлажняй свое пересохшее горло хоть до вечера.
И потянулся бы Троцкий к своему кувшину.
– Нет, постой, сын мой, – сказал бы я. – То, что в остатке будет, то и выпьешь ты, тем и увлажнишься. Читай, секретарь, имена убиенных сим – а я по глоточку отливать буду. Читай, не торопясь, каждое имечко – через минуточку, хе-хе…
И читал бы он и читал – о, велик список убиенных сим Троцким! – а я бы медленно, по глоточку, выплескивал этот душистый холодненький квасок в парашу, в парашу, в парашу.
А Троцкий сидел бы и смотрел да лизал бы языком свои проклятые пересохшие губы, те губы, которые в свое время шевелились, называя имена приговоренных к мукам и умерщвлению.
Кончился бы квасок – я бы еще чего принес: пивца холодненького, альбо сельтерской воды этакий сифонище притащил. Назовет секретарь имечко, а я сифончик давану, оттуда струйка – порск! Назовет, а я – порск! А другой убийца сидит рядом, душистый квасок попивает, а у Троцкого и горло, и пищевод, как кора сухая, покоробившаяся, а желудок, как высохший пузырь, стянулся – да нет ему водички – ибо текут, текут имена – десятки, сотни, тысячи имен убиенных – и так до скончания века его…
– Это страшно… – прошептала блондинка, проведя языком по запекшимся губам, и поспешно проглотила чашку полуостывшего чаю.
* * *
А на диване, в глубине столовой, сидел никем не замеченный доселе офицер, только что вернувшийся с фронта, сидел, закинув голову на спинку дивана, и молчал.
Когда же старичок окончил свой тихий елейный задушевный рассказ – встал с места офицер и вошел в светлый круг, образуемый настольной лампой.
– A-а, – сказала худощавая дама, – а мы и не знали, что вы тут. Ну, теперь ваша очередь. Что бы вы с ним сделали, с Троцким? Воображаю, какой ужас вы придумаете!..
Резко освещенный лампой офицер неопределенно усмехнулся.
– Видите ли, господа… Если бы вместо этого стола было изрытое окопами поле и вместо этой бутылки рома были бы неприятельские укрепления, а там, где стоит кекс, – наша батарея, спрятанная за эту вазу с вареньем, изображающую наши окопы, – то тогда вы бы ясно представили, что бы я делал: я бы сначала обстрелял Троцкого, укрывающегося в этом укреплении, а потом, после артиллерийской подготовки, бросился бы со своими солдатами вперед и энергичным штыковым ударом…
– Да вы не то говорите! Я спрашиваю, что бы вы сделали, если бы Троцкий попался вам в руки?
– Боюсь, что в бою, в этой суматохе я пристрелил бы его, как бешеную собаку.
– Ну, да – мы это понимаем; а если бы он без боя очутился в ваших руках?
Глаза офицера сверкнули и засветились, как две свечки.
– Так я бы его тогда, подлеца, в суд!..
– Как в суд? В какой суд?
– А как же?.. Ежели он виновен – надо его в суд! Пусть судят.
Молчание сгустилось, нависло, нагромоздилось над присутствующими, как насыщенная электричеством густая туча.
И только через минуту пышная блондинка пролепетала растерянно:
– Какое странное время: у штатских такая масса воинственной кровожадности, а военные рассуждают, как штатские!
Петербургский бред
Это я не выдумал.
Это мне рассказал один приезжий из Петербурга.
И произошло это в Петербурге же, в странном, фантастическом, ни на что не похожем городе…
Только в этом призрачном городе тумана, больной грезы и расшатанных нервов могла родиться нижеследующая маленькая бредовая история.
* * *
Ежедневный большой прием у большевистского вельможи – Анатолия Луначарского.
Время уже подползало к концу приема, когда наступают сумерки, и у вельможи от целой тучи всяких просьб, претензий, приветствий и разного другого коммунистического дрязга опухает голова, в висках стучат молоточки, в глазах плывут красные кружки, и смотрит вельможа на последних просителей остолбенелыми, оловянными, плохо видящими и соображающими очами, по десяти раз переспрашивая и потирая ладонью натруженную голову.
Уже представилась вторая подсекция красной башкирской коммунистической ячейки, уже, стуча сапогами и переругиваясь, вышли из кабинета представители морпродкома Центробалта.
– Ф-фу, кажется, все, – выпустил, как паровоз, струю воздуха смертельно утомленный Луначарский.
И вдруг в этот момент в сумеречном свете около кафельной печи завозились две серые фигуры и двинулись разом на Луначарского.
– Кто вы такие? – испуганно спросил Луначарский. – Что нужно, товарищи?
– Так что, мы насчет березовых дров, – ответили серые фигуры. – Это дело нужно разобрать, товарищ.
– Какие дрова? Что такое?..
– Березовые, понятное дело. Бумага на реквизицию выдана Всеотопом – нам, а они свезли самую лучшую березу, а нам говорят – вам осталась сосна. Нешто этой сыростью протопишь?..
– Кто свез лучшую березу?
– Как кто? Трепетун.
– Да вы-то кто такой?
– Я от Перпетуна.
– А этот товарищ кто?
– Говорю же вам: Трепетун. Мы вот и пришли, чтобы вы нас, как говорится, разобрали.
Луначарский потер рукой пылающую голову и несмело повторил:
– Расскажите еще. Яснее.
– Да что ж тут рассказывать: раз Всеотоп выдал реквизиционную квитанцию Перпетуну, так при чем тут Трепетун будет захватывать лучшую березу? Нешто это дело? Не Трепетуний это поступок.
Луначарский уже было открыл рот, чтобы спросить, кто такие эти таинственные Перпетун и Трепетун, но тут же спохватился, что неудобно ему, председателю Пролеткульта, показывать такое невежество…
Он только неуверенно спросил:
– Да как же так Трепетун мог захватить?
– А вот вы спросите! Перпетун уже и место приготовил для склада, и сторожей нашел, а Трепетун – на тебе! Из-под самого носа! Да я вам так скажу, товарищ, что у Трепетуна и склада нет, все одно на улице будет лежать, товарищи разворуют.
– Нет, ты, брат, извини, – хрипло прогудел защитник интересов Трепетуна, – Перпетун-то по бумажке получает, а Трепетун еще летось обращался к Всеотопу, и ему лично без бумажки ответили, что береза ему в первую голову.
– Ловкий какой! А Перпетуну, значит, сосна?
– А по-твоему, кто ж – Трепетун должен сосной топиться?
– Идол ты, да ведь Перпетун по квитанции!
– А Трепетун без квитанции, зато раньше!
И, снова схватившись за пылающую, раскаленную голову, выбежал бедный Луначарский в канцелярию.
– Товарищи! Не знаете, что такое Перпетун и Трепетун?!!
– А кто его знает. По-моему, так: Трепетун – это трус, который, так сказать, трепещет…
– Так-с! А кто же в таком случае Перпетун?
– Может быть – перпетуум? Вроде перпетуум-мобиле – вечное такое движение.
Вернулся Луначарский снова в кабинет в полном изнеможении.
– Так как же нам быть, товарищ Луначарский?
– Кому – вам?
– Да вот – Перпетуну и Трепетуну?..
– Позвольте, а вы какое имеете к ним отношение?
– А мы делегированы.
– Ке-ем?!
– Перпетуном же и Трепетуном.
– Ну, так вот что я вам скажу, – простонал Луначарский, хватаясь за пульсирующие виски. – Пока они сами не придут – ничего я разбирать не буду!!
– Кто чтоб пришел?!
– Да вот эти… Перпетун и Трепетун.
– Шутите, товарищ. Как им, хе-хе, – с места сдвинуться.
– Кому-у?!
– Да опять же Перпетуну и Трепетуну.
– Провалитесь вы, анафемы! Да кто они, наконец, такие, эти проклятые Трепетун и Перпетун: скаковые лошади, башкирские начальники или пишущие машины?!
И тут обе серые фигуры впервые чрезвычайно удивились:
– Неужто не знаете, товарищ? Я от Первого Петроградского университета, а он от Третьего Петроградского районного. Это ж наше сокращенное имя: Перпетун и Трепетун.
Миша Троцкий
Как известно, у большевистского вождя Льва Троцкого – есть сын, мальчик лет 10–12.
Не знаю, может быть, у него еще есть дети – за истекший год я не читал «Готского альманаха», – но о существовании этого сына, мальчика лет 10–12, я знаю доподлинно: позапрошлым летом в Москве он вместе с отцом принимал парад красных войск.
Не знаю, как зовут сына Троцкого, но мне кажется – Миша. Это имя как-то идет сюда.
И когда он вырастет и сделается инженером, на медной дверной доске будет очень солидно написано:
«Михаил Львович Бронштейн, гражданский инженер».
Но мне нет дела до того времени, когда Миша сделается большим. Большие – народ не очень-то приятный. Это видно хотя бы по Мишиному папе.
Меня всегда интересовал и интересует маленький народ, все эти славные, коротко остриженные, лопоухие, драчливые Миши, Гриши, Ваньки и Васьки.
И вот когда я начинаю вдумываться в Мишину жизнь – в жизнь этого симпатичного, ни в чем не повинного мальчугана, – мне делается нестерпимо жаль его…
За какие, собственно, грехи попал мальчишка в эту заваруху?
Не спорю, – может быть, жизнь этого мальчика обставлена с большою роскошью, – может быть, даже с большею, чем позволяет цивильный лист: может быть, у него есть и гувернер – француз, и немка, и англичанка, и игрушки, изображающие движущиеся паровозы на рельсах, огромные заводные пароходы, из труб которых идет настоящий дым, – это все не то!
Я все-таки думаю, что у мальчика нет настоящего детства.
Все детство держится на традициях, на уютном, как ритмичный шелест волны, быте. Ребенок без традиций, без освященного временем быта – прекрасный материал для колонии малолетних преступников в настоящем и для каторжной тюрьмы в будущем.
Для ребенка вся красота жизни в том, что вот, дескать, когда Рождество, то подавайте мне елку, без елки мне жизнь не в жизнь; ежели Пасха – ты пошли прислугу освятить кулич, разбуди меня ночью да дай разговеться; а ежели яйца не крашеные, так я и есть их не буду – мне тогда и праздник не в праздник. И я должен для моего детского удовольствия всю Страстную есть постное и ходить в затрепанном затрапезном костюмчике, а как только наступит это великолепное Воскресение, ты обряди меня во все новое, все чистое, все сверкающее да пошли с прислугой под качели! Вот что-с!
Да что там – качели! Я утверждаю, что для ребенка праздник может быть совсем погублен даже тем, что на глазированной шапке кулича нет посредине традиционного розана или сливочное масло поставлено на праздничный стол не в форме кудрявого барашка, к чему мальчишка так привык.
Я не знаю, какие праздничные обычаи в доме Троцких – русские или еврейские, – но если даже еврейские, и еврейская пасха имеет целый ряд обольстительно-приятных для детского глаза подробностей.
Увы, я думаю, что Миша Троцкий – живет без всяких традиций, чем так крепко детство, – без русских и без еврейских. Я думаю, папа его совсем запутался в Интернационале – до русских ли тут, до еврейских ли обычаев, – когда целые дни приходится толковать с создателями новой России – с латышами, китайцами, немцами, башкирами, – это тебе не красное яичко, не розан в центре высокого, обаятельно пахнущего сдобой кулича.
* * *
Что Миша читает?
Совершенно не могу себе этого представить. Мальчик без Майн Рида – это цветок без запаха.
А Миша Майн Рида не читает.
Может быть, когда-нибудь ему и попались случайно в руки «Тропинка войны» или «Охотники за черепами», и, может быть, на некоторое время околдовало Мишу приволье и красота ароматных американских степей. Может быть, чудесной музыкой заиграли в его ушах такие заманчивые своей звучностью и поэзией слова:
«Сьерра-Невада, Эль-Пасо, Дель-Норте!..»
Но, прочтя эту книжку, принялся бродить притихший зачарованный Миша по огромным пустым комнатам папиного дворца, забрался в папин кабинет и, свернувшись незаметно клубочком на дальнем диване, услышал от представляющихся папе коммунистов и латышей совсем другие слова, почуял совсем другие образы:
– С тех пор, как, – серым однотонным голосом бубнит коммунист, – с тех пор, как мы ввели уезземелькомы, они стали в резкую оппозицию губпродкомам. Комбеды приняли их сторону, но уездревкомы приняли свои меры…
Потом подходит к столу латыш.
– Ну что, Лацис? Всех допросили…
– 28 человек. Из них 19 уже расстрелял, остальных после передопроса.
Лежит Миша, притихнув на диване, и меркнут в мозгу его образы, созданные капитаном Майн Ридом.
Какая там героическая борьба индейцев с белыми, вождя Дакоты с охотниками Рюбе и Гареем, какое там оскальпирование, когда вот стоит человек и, рассеянно вертя в руках пресс-папье, говорит, что он сегодня убил 19 живых людей.
А на красивые, звучные слова – Эль-Пасо, Дель-Норте, Сьерра-Невада, Кордильеры – наваливаются другие слова – тяжелые, дикие, похожие на тарабарский язык свирепых сиуксов: Губпродком, Центробалт, Уезземельком.
Поднимается с дивана Миша и, как испуганный мышонок, старается проскользнуть незаметно в детскую.
Но папа замечает его.
– А, Миша! Что ж ты не здороваешься с дядей Лацисом. Дай дяде ручку.
Эта операция не особенно привлекает Мишу, но он робко протягивает худенькую лапку, и она без остатка тонет в огромной, мясистой, жесткой «рабочей» лапе дяди Лациса.
– Ну иди, Миша, не мешай нам. Скажите, а с теми тремя, арестованными позавчера, вы кончили или…
Но Миша уже не слышит. Опустив голову, он идет в детскую с полураздавленной рукой и вконец расплющенным сердцем.
* * *
В конце концов, если у меня и есть на кого слабая надежда – так это на Мишину мать.
Авось, она не выдаст Мишу, и одним своим прикосновением ласковой руки к горячей голове расправит измятые полуоборванные лепестки детского сердца.
За обедом спросит:
– Чего ты такой скучный, Миша? Чего ты ничего не кушаешь?
– Мне скучно, мама.
В разговор ввязывается папа:
– Его уже нужно в училище отдать, так ему тогда не будет скучно. Хочешь, я тебя отдам в Первую Коммунистическую Нормальную Школу, а?
И вдруг коммунистическая мать вспыхивает и взлетает, как ракета.
– Ты! Ты! – кричит она, сжигая сверкающими глазами коммунистического папу. – Ты мне эти штуки с моим ребенком брось! Я знаю ваши «Нормальные» школы для мальчиков и девочек!! Ты там можешь себе проводить какую хочешь политику, но в семью этой дряни не вноси. Чтобы я послала своего сына на разврат? Лева, слышишь? Об этом больше нет разговора!
– Ну хорошо, ну ладно. Раскудахталась. Миша! Ну, если тебе скучно, поедем опять принимать парад красных войск – хочешь?
– Что ты со своими паршивыми парадами к ребенку пристал? Он же один, ему же нужны товарищи, а ты ему своими парадами-марадами голову морочишь!
– Ему нужны товарищи! Так чего же ты молчишь? Хочешь, я к нему пришлю поиграть сына Лациса – Карлушу?
– Лева! Я же тебе в тысячный раз повторяю: оставляй свою политику на пороге нашего дома! Чтобы я позволила моему сыну играть с этим латышонком, с сыном палача, который…
– Со-ня!!! Или ты замолчишь, или я уйду из-за стола! Что это за разговоры такие?
За столом – тяжелое, душное молчание.
Миша сидит, положив на тарелку вилку и ножик, не притронувшись к цыпленку, и смотрит невидящими глазами в стену.
– Что ты? – озабоченно спрашивает отец. – О чем задумался?
– Папа, ты знаешь, что такое Эль-Пасо и Дель-Норте?
– М… М… Не знаю. Я думаю, это сокращенное название какой-нибудь организации.
– А знаешь ты, что такое «Охотники за черепами»?
Лицо папы сначала бледнеет, потом краснеет:
– Послушай, ты! Дрянь-мальчишка… Если ты еще раз позволишь себе сказать что-либо подобное, я не посмотрю на тебя, что ты большой, – выдеру как сидорову козу! Понял?
Нет, Миша не понял.
На совести Мишиного папы тысячи пудов преступлений.
Но это его преступление – гибель Мишиной души – неуследимое, неуловимое, как пушинка, – и, однако, оно в моих глазах столь же подлое, отвратительное, как и прочие его убийства.
Перед лицом смерти
Кусочек материала к истории русской революции
Сколь различна психология и быт русского и французского человека.
Французская революция оставила нам такой примечательный факт:
Добрые, революционно настроенные парижане поймали как-то на улице аббата Мори. Понятно, сейчас же сделали из веревки петлю и потащили аббата к фонарю.
– Что это вы хотите делать, добрые граждане? – с весьма понятным любопытством осведомился Мори.
– Вздернем тебя вместо фонаря на фонарный столб.
– Что ж вы думаете – вам от этого светлее станет? – саркастически спросил остроумный аббат.
Толпа, окружавшая аббата, состояла из чистокровных французов, да еще парижан к тому же.
Ответ аббата привел всех в такой буйный восторг, что тут же единогласно ему было вотировано сохранение жизни.
Это французское.
А вот русское [10] .* * *
В харьковской чрезвычайке, где неистовствовал «товарищ» Саенко, расстрелы производились каждый день.
Делом этим, большею частью, занимался сам Саенко…
Накокаинившись и пропьянствовав целый день, он к вечеру являлся в помещение, где содержались арестованные, со списком в руках и, став посредине, вызывал назначенных на сегодня к расстрелу.
И все, чьи фамилии он называл, покорно вздыхая, вставали с ящиков, служивших им нарами, и отходили в сторону.
Понятно, что никто не молил, не просил – все прекрасно знали, что легче тронуть заштукатуренный камень капитальной стены, чем сердце Саенко.
И вот однажды, за два дня до прихода в Харьков добровольцев, явился, по обыкновению, Саенко со своим списком за очередными жертвами.
– Акименко!
– Здесь.
– Отходи в сторону.
– Васюков!
– Тут.
– Отходи.
– Позвольте мне сказать…
– Ну вот еще чудак… Разговаривает. Что за народ, ей-богу. Возиться мне с тобой еще. Сказано отходи – и отходи. Стань в сторонку. Кормовой!
– Здесь.
– Отходи. Молчанов!
– Да здесь я.
– Вижу я. Отойди. Никольский! – Молчание. – Никольский!!
Молчание. Помолчали все: и ставшие к стенке, и сидящие на нарах, и сам Саенко.
А Никольский в это время, сидя как раз напротив Саенко, занимался тем, что, положив одну разутую ногу в опорке на другую, тщательно вертел в пальцах папиросу-самокрутку.
– Никольский!!!
И как раз в этот момент налитые кровью глаза Саенко уставились в упор на Никольского.
Никольский не спеша провел влажным языком по краю папиросной бумажки, оторвал узкую ленточку излишка, сплюнул, так как крошка табаку попала ему на язык, и только тогда отвечал вяло, с ленцой, с развальцем:
– Что это вы, товарищ Саенко, по два раза людей хотите расстреливать? Неудобно, знаете.
– А что?
– Да ведь вы Никольского вчера расстреляли!
– Разве?!
И все опять помолчали: и отведенные в сторону, и сидящие на нарах.
– А ну вас тут, – досадливо проворчал Саенко, вычеркивая из списка фамилию. – Запутаешься с вами.
– То-то и оно, – с легкой насмешкой сказал Никольский, подмигивая товарищам, – внимательней надо быть.
– Вот поговори еще у меня. Пастухов!
– Иду!
А через два дня пришли добровольцы и выпустили Никольского.
* * *
Не знаю, как на чей вкус…
Может быть, некоторым понравился аббат Мори, а мне больше нравится наш русский Никольский.
У аббата-то, может быть, когда он говорил свою остроумную фразу, нижняя челюсть на секунду дрогнула и отвисла, а дрогни челюсть у Никольского, когда он, глядя Саенко в глаза, дал свою ленивую реплику, – где бы он сейчас был?
Разрыв с друзьями
Посвящается В. С. фон Гюнтер
I
Вы – грязны, оборваны; на вас неумело заплатанное, дурно пахнущее платье; давно небритая щетина на лице, пыльные всклокоченные волосы, траур на ногтях, выпученные на коленках брюки и гнусного вида стоптанные опорки на ногах.
Представьте это себе.
Вы – опустившийся, подлый, пропитанный дешевой сивухой ночлежный человечишко, – и вдруг в одном из гнилых, пахнущих воровством переулков вы встретили своего бывшего, прежнего друга – представьте себе это!!
Он одет в черное, прекрасно сшитое пальто, на руках свежие замшевые перчатки, на голове изящная фетровая шляпа, из-под атласного лацкана пальто виден чудесно завязанный галстук, приятно выделяющийся синим пятном на белоснежном белье; только что выбритые щеки еще не успели покрыться синевой, на них еще остался еле уловимый след дорогой пудры, а ноги обуты в изящные лаковые ботинки с замшевым верхом; а пахнет от вашего прежнего старого друга герленовскими Rue de la Paix…
Он добр; он радушен; он не замечает вашей гнусности, оскудения и грязи…
Радостно протягивает к вам руки и приветливо восклицает:
– Ба! Приятная встреча! Ну, пойдем. И-и, нет, нет, – и не думай отказываться! Пойдем со мной в ресторанчик – тут есть такой с кабинетами – закусим, выпьем, старину вспомним. Ну же, друг, не ломайся.
И вот мы с ним в теплом чистом кабинете ресторана: на столе – свежая икра, этакие серые влажные зерна, – до того крупные, что их пересчитать можно, и к икре поджаренные гренки; и ветчина – розовая, тонкая, прозрачная, как кожа ребенка; и желтый балык, нарезанный так, что похож на бабочку, раскинувшую крылья, – упругий, с хрящиком, осетровый балык; и бутылка «Кордон Вер» кажет свое зеленое горло из серебряного ведра со льдом.
А друг ваш небрежно роняет благоговейно внимающему лакею:
– Ну, дайте там чего-нибудь горяченького: на первое ушицы можно, если стерлядка подвернется, а на второе… Ну, чего бы? Котлетку можно Мари-Луиз и спаржи, что ли?..
И тут же, отпустив слугу, радушно поворачивается к вам и говорит красивым вежливым языком, без брани и заушения, к чему вы так привыкли в вашей alma mater – ночлежке:
– Ну-с, так вот, значит, как. Рад тебя видеть, очень рад. А я, брат, только что из-за границы… Прожил два месяца в Виареджио, проскучал недельку в Милане, преотчаянно влюбился в одну американку в Остенде – и, чтобы излечиться от страсти, махнул обратно в нашу милую Россию… Ну, что здесь? Встречаешь кого-нибудь из старых приятелей? Я слышал, князь Сергей женился и уехал в свое подмосковное? А наш милейший Боб? По-прежнему занимается коллекционерством фарфора? А его papa, как и раньше, проедает третье баронское наследство на ужинах у Кюба? Говорят, его лошадь победила на дерби? Что ты сидишь такой… скучный, а? Да развеселись же, голубчик; mа parole [11] , ты раньше был живиальней.
Ма parole?! Князь Сергей?.. Виареджио? А вот мне вчера Сенька Обормот чуть голову не проломил денатуратной бутылкой – это тебе не Виареджио!..
И вы сидите против него – грязный, небритый, весь окутанный еще неостывшими ночлежными заботами, – и этот голос из другого, чудесного, недоступного для вас, ушедшего от вас мира доводит вас до того – представьте себе это, – что вы вот-вот сейчас броситесь на него, вцепитесь в горло и с ненавистью начнете рвать сверкающее белье на беззаботной холеной груди…
II
Впрочем – это все присказка.
А сказка – тяжелая, мрачная, угрюмая – впереди. Идя в ногу с общей жизнью, я чувствую себя грязным, небритым, опустившимся человеком; впрочем, такова сейчас вся Россия.
Но в левом углу на деревянной полке расставлена у меня пестрая компания старых друзей, которых я так любил раньше, без которых дня не мог прожить и от которых я сейчас шарахаюсь, как от чумы.
Потому что удовольствие от встречи с любым из них – на час, а расстройства на целый день.
Я не могу! Я отравлен! Я не виноват, хотя друзья мои остались те же – ни одна буквочка в них не изменилась, а вот я другой; я – бывший человек из ночлежки Аристида Кувалды [12] .
Я – грубое, мрачное, опустившееся на дно существо, а они все такие чистенькие, корректные, напечатанные на прекрасной белой бумаге и облаченные в изящные золоченые коленкоровые переплеты.
Ну, хорошо; ну, ладно; ну, вот я беру с полки одну книгу, развертываю ее, читаю.
Могу я так сосредоточиться, как раньше?
О чем написано в этой книге? Почему эти голоса звучат, как доносящиеся из другого, будто навсегда погребенного мира?
Ну, вот я читаю, по прежнему времени, самые невинные строки:
«Она опустила голову низко, низко и, машинально катая тонкими пальцами хлебные шарики, прошептала: если ты хочешь доказательств – я брошу для тебя детей и разведусь с мужем…»
Ну, вот – я читаю это. И вы думаете, моя мысль следует за разворачивающейся драмой любящей женской души?
Как бы не так! Черта с два!
Главная мысль у меня такая: катает хлебные шарики… Ишь ты! А хлеб-то, небось, не по карточкам. В очереди не стояла, дрянь этакая, так можно катать, не жалеючи хлеба.
«Чтоб потом я же оказался палачом, разлучником с твоими детьми?!» – крикнул он, стукнув по столу так, что тарелка с маслом задребезжала…»
Стучи, стучи! Небось, если бы, как теперь, масло стоило пять тысяч фунтик, – не постучал бы… А интересно, где они его доставали? Наверное, в молочной покупали. Посмотри-ка ты на них: сливочное масло лопают, да еще и ссорятся, а?
Бросаю эту книгу, раскрываю другую:
«…Прошло уже несколько лет, но перед его глазами все время как живая стояла эта страшная картина: раненый человек полулежит на земле и между его пальцами струится кровь из раны на груди. Лицо его постепенно бледнеет, глаза затуманиваются какой-то пленкой…»
Подумаешь, важность! Да я в позапрошлом году видел, как в Москве латыши расстреляли на улице днем в Каретном ряду восемь человек, – и то ничего. Вели их, вели, потом перекинулись словом, остановили и давай в упор расстреливать. Так уж тут, при таком оптовом зрелище, нешто разглядишь, у кого «глаза затуманились какой-то пленкой» и кто «постепенно бледнел…».
Ухлопали всех, да и пошли дальше.
И сразу после этого московского зрелища делаются неинтересными все кисло-сладкие подробности об одном раненом, который, как потом оказалось, и не умер-то вовсе.
Бросаю эту книгу, беру третью:
«…Так ты меня жди в Крыму, – сказал он, нежно целуя ее. – Когда соскучишься, пришли ко мне в Питер срочную, и я через двое суток уже в твоих объятиях».
Тьфу! Даже читать противно: «срочная из Крыма в Питер», «через двое суток»!
А срочную через двадцать дней не хочешь получить?
А полтора месяца не хочешь ехать?
А из вагона тебя батько Махно не вышвырнет, как котенка? А Петлюра деньги и чемодан у тебя не отнимет?
Все ложь, ложь и ложь.
Все – расстройство моей души!
Все – напоминание о том, когда мы еще не были «бывшими людьми».
Простите вы меня, но не могу я читать на пятидесяти страницах о «Смерти Ивана Ильича».
Я теперь привык так: матрос Ковальчук нажал курок; раздался сухой звук выстрела… Иван Ильич взмахнул руками и брякнулся оземь. «Следующий!» – привычным тоном воскликнул Ковальчук.
Вот и все, что можно сказать об Иване Ильиче.
* * *
Прощайте, мои книги, прощайте, мои верные друзья… Сжечь бы вас, каналий, следовало за то, что вы так можете человека расстроить.
Если на ваших страницах босяк выпивает бутылку водки (стоит теперь 10 000 рублей), если извозчик за четвертак везет через весь город и, получив гривенник прибавки, называет седока вашим сиятельством, если скромный ужин студента состоит «из куска ростбифа и бутылки дешевого красного вина», если шикарная кокотка за ночь любви получает 50 рублей, если ваши герои могут переноситься в двое суток из Петербурга в Крым, если вы можете на ста страницах размазывать, как умирает Черт Иванович, если «к подъезду графа мягко подкатил пятитысячный лимузин» – если все это, – то нам с вами не по дороге: катите себе дальше на «пятитысячном лимузине» или сядьте «на шикарного лихача за трешницу», а мы скромно усядемся на империале конки за пятьсот целковых.
Прощайте! Поцелуйте от меня студента, убого поужинавшего ростбифом и бутылкой дешевого вина…
Ну, с Богом. Трогай, пятисотрублевая конка!
Античные раскопки
Когда шестилетний Котя приходит ко мне – первое для него удовольствие рыться в нижнем левом ящике моего письменного стола, где напихана всякая ненужная дрянь; а для меня первое удовольствие следить за ним, изучать совершенно дикариные вкусы и стремления.
Наперед никогда нельзя сказать, что понравится Коте: он пренебрежительно отбросит прехорошенькую бронзовую собачку на задних лапках и судорожно ухватится за кусок закоптелого сургуча или за поломанный ободок пенсне… Суконная обтиралка для перьев в форме разноцветной бабочки оставляет его совершенно равнодушным, а пустой пузырек из-под нашатырного спирта приводит в состояние длительного немого восторга.
Сначала я думал, что для Коти самое важное, издает ли предмет какой-либо запах, потому что и сургуч, и пузырек благоухали довольно сильно.
Но Котя сразу разбил это предположение, отложив бережно для себя металлический колпачок от карандаша и забраковав прехорошенький пакетик саше для белья.
Однако обо всяком подвернувшемся предмете он очень толково расспросит и внимательно выслушает:
– Дядя, а это что?
– Обтиралка для перьев.
– Для каких перьев?
– Для стальных. Которыми пишут.
– Пишут?
– Да.
– А ты умеешь писать?
– Да, ничего себе. Умею.
– А ну-ка, напиши.
Пишу ему на клочке бумаги: «Котька прекомичный пузырь».
– Да, умеешь. Верно. А это что?
– Ножик для разрезания книг.
Молча берет со стола книгу в переплете и, вооружившись костяным ножом, пытается разрезать книгу поперек.
После нескольких напрасных усилий вздыхает:
– Наверное, врешь.
– Ах, вру? Тогда между нами все кончено. Уходи от меня.
– Ну не врешь, не врешь. Пусть я вру – хорошо? Не гони меня, я тебе ручку поцелую.
– Лучше щечку.
Мир скрепляется небрежным, вялым поцелуем, и опять:
– Дядя, а это что?
В руках у него монетница белого металла с пружинками – для серебряных гривенников, пятиалтынных и двугривенных.
– Слушай, что это такое?
– Монетница.
Нюхает. Подавил пальцем пружинки, потом подул в них.
– Слушай, оно не свистит.
– Зачем же ему свистеть? Эта штука, брат, для денег. Вот видишь, сюда денежка засовывается. – Долго смотрит, прикладывая глазом.
– Она же четырехугольная!
– Кто?
– Да эти вот, которые… деньги.
Сует руку в боковой карманчик блузы и вынимает спичечную коробку – место хранения всех его капиталов.
Недоверчиво косясь на меня глазом (не вздумаю ли я, дескать, похитить что-либо из его денежных запасов), вынимает измятый, старый пятиалтынный.
– Видишь – вот. Как же положить?
– Чудак ты! Сюда кладут металлические деньги. Твердые. Вроде как эта часовая цепочка.
– Железные?
– Да, одним словом, металлические. Круглые.
– Круглые? Врешь ты… Нет, нет, не врешь… Я больше не буду! Хочешь, ручку поцелую? Слушай, а слушай…
– Ну?
– Ты показал бы мне такую… железную. Я никогда не видел…
– Нет у меня.
– Что ты говоришь? Значит, ты бедный?
– Все мы, брат, бедные.
– Дядя, чего ты сделался такой? Я ведь не сказал, что ты врешь. Хочешь, поцелую ручку?
– Отстань ты со своей ручкой!
Снова роется Котя в разной рухляди и – только в действительной жизни бывают такие совпадения – вдруг вытаскивает на свет божий настоящий серебряный рубль, неведомо как и когда затесавшийся среди двух половинок старого разорванного бумажника.
– А это что?
– Вот же они и есть – видишь? Те деньги, о которых я давеча говорил.
– Какие смешные. Совсем как круглые. Сколько тут?
– Рубль, братуха.
Денежный счет он знает. Из своей спичечной коробки вытаскивает грязный, склеенный в двух местах, рубль, долго сравнивает.
Из последующего разговора выясняется, до чего дьявольски практичен этот мальчишка.
– Слушай, он же тяжелый.
– Ну так что?
– Как же их на базар брали?
– Так и брали.
– Значит, в мешке тащили?
– Зачем же в мешке?
– Ну, если покупали мясо, картошку, капусту, яблоки… разные там яйца…
– Да мешок-то зачем?
– Пять-то тысяч штук отнести на базар надо или нет? Мать каждый день дает пять тысяч!
– Э-э… голубчик, – смеясь, прижимаю я его к груди. – Вот ты о чем! Тогда и парочки таких рублей было предовольно!
Смотрит он на меня молча, но я ясно вижу – на влажных губах его дрожит, вот-вот соскочит невысказанная любимая скептическая фраза: «Врешь ты, брат!..»
Но так и не слетает с уст эта фраза: Котька очень дорожит дружбой со мной.
Только вид у него делается холодно-вежливый: видишь, мол, в какое положение ты меня ставишь, – и врешь, а усумниться нельзя.
Возвращение
«…Тарас тут же, при самом въезде в Сечь, встретил множество знакомых лиц… Только и слышались приветствия: «А, это ты, Печерица!» – «Здравствуй, Козолуп!» – «Откуда Бог несет тебя, Тарас?» – «Ты как сюда зашел, Долото?» – «Здорово, Кидряга!» – «Здорово, Густый!» – «Думал ли я видеть тебя, Ремень?» [13]
И витязи, собравшиеся со всего разгульного мира великой России, целовались взаимно, и тут понеслись вопросы: «А что Касьян? Что Бородавка? Что Колопер? Что Пидсышок?»
И слышал только в ответ Тарас Бульба, что Бородавка повешен в Толопане, что с Колопера содрали кожу под Кизикирменом, что Пидсышкова голова посолена в бочке и отправлена в Царьград…»
* * *
Чует, чует наше общее огромное русское сердце, что совсем уж скоро побегут красные разбойники, что падет скоро Москва и сдастся Петроград…
Без толку, зря, как попугаи, к месту и не к месту, к слову и не к слову твердили в свое время болтуны и краснобаи – все сплошные керенские, черновы и гоцлиберданы: «Приближается конец! Бьет двенадцатый час». Им ли, выращенным в затхлом табачном воздухе швейцарских кофеен и пивных, было дано учуять двенадцатый час нашей родины? Без толку, как попугаи, картавили они: «Бьет двенадцатый час! Бьет двенадцатый час!» И вовсе не бил он… Это шел пятый, шестой, седьмой час…
А вот теперь мы все, все наше русское огромное сердце, почуяли этот час ликвидации и расчета, и скоро, скоро грянет грозное, как звон тысячи колоколов, как рев тысячи пушек: «Бьет двенадцатый час! К расчету!»
* * *
С грохотом, стоном и визгом понесется с теплого юга на холодный север огромная железная птица, дымящая и пыхтящая с натуги, понесется, как бешеная, на север – вопреки инстинкту других птиц, которые на зиму глядя тянутся не с юга на север, а с севера на юг. И будет чрево той птицы, этой первой ласточки, которая сделает весну, набито битком разным русским людом, взор которого, как магнитная стрелка, обратится к северу, а на лице напишется одна мысль, звучащая в такт лязгу колес: «Что там? Что там? Что там?»…
Там у них все! Жены, оторвавшиеся от мужей, мужья от жен, дети от родителей, там десятки лет свивавшиеся гнезда, там друзья, привязанности, дела и воспоминанья – там все, что было так прочно налажено, так крепко сшито – и о чем целые годы никто не имел ни слуху, ни духу:
«Что там, что там, что там?»…
Вы, южане, сидящие тут на своих прочных, насиженных местах, – поймете ли вы ни с чем не сравнимое, небывалое еще во всемирной истории ощущение петербуржца, когда он впервые за полтора-два года спрыгивает с подножки вагона на перрон Николаевского вокзала, быстрыми шагами оставляя далеко позади себя носильщика, промчится к выходу на площадь, украшенную слоновым монументом Александра III [14] , выбежит на ступеньки вокзала и… поползет кверху бровь его:
– Где же памятник?!! Его нет! То, что казалось нам привычным, несокрушимым, что ставилось на сотни лет, – исчезло!
Ах, друзья! Знаете ли вы ощущение человека, который столкнулся лицом к лицу с близким другом – и видит он с ужасом, что у этого друга нет носа. Провалился нос.
Вот какое ощущение будет у петербуржца, когда он увидит, что исчез огромный, неуклюжий, осмеянный в свое время, облитый ядом очередной неглубокой петербургской иронии, – но бесконечно дорогой и любимый наш памятник, как немой символ тяжелой длани царя – «Миротворца», как неотделимая часть нашего прекрасного, колдовского, волшебного Петербурга!..
Нет памятников. Провалился нос на лице.
И вдруг тут же на площади встретит он пробегающего знакомого, чудом из чудес выжившего, не протянувшего скелетообразных ног в этом аду.
И пойдут тут поцелуи и взаимные приветствия: «А что Парфентьев? Что Николай Иваныч? А где Полосухин? А что поделывает Горбачев?»
И услышит он в ответ, как в свое время Тарас Бульба, – что расстрелян Полосухин за саботаж, что замучили в чрезвычайке Парфентьева, что умер от голода на широком красавце Невском сиромаха Николай Иваныч, что и Лизочка Караваева повесилась от мук невыносимого «организованного» голода, и Маруси Грибановой нет, и Катерины Ивановны, и Димочки Овсюкова – все, все «сошли под вечны своды».
Вздохнет только приезжий петербуржец, свесит голову и тихо побредет по Невскому…
Батюшки мои! Да разве же это Невский?! Где его великолепные человеческие волны?! Где его могучий шум, шум океанского прибоя, чудная для моего уха музыка рева автомобильных гудков, трамвайных звонков, воплей газетчиков, – вся та сложная симфония, которая слагается из людской молви, конского топа, торгашеского вопля и железного лязга трамвайных рельс?
Где его пышные стены, сверху донизу усеянные, унизанные сплошь так, что и для визитной карточки нет места, – обвешанные вывесками, плакатами, витринами, всем этим птичьим гамом пестрой шумной рекламы – лучшей свидетельницы бодрой, нормальной, веселой, деловой, хлопотливой, суетливой, энергичной жизни столицы?
Молчит немая улица, угрюмо принахмурились обнаженные, будто раздетые, лишенные своей пышной одежды – вывесок – дома.
И только внизу, у самой панели, как ажурные кружева из-под юбки развратницы, как дессу кафешантанной блудницы, – виднеется грязно-белая пена большевистских декретов, постановлений, воззваний и заклинаний обожравшейся, издыхающей гадины.
Ужасная улица – этот былой красавец Невский; тысячи пороков, грязи и преступлений написаны на гордом прежде челе его.
Но идет все дальше, все дальше петербуржец – и вот уже его улица, вот уже его дом, уже виднеются окна его квартиры, где любовно и хлопотливо вил он семейное гнездо свое, где любил, боролся, падал и снова поднимался…
«Что там, что там, что там?»…
Цела ли обстановка? Осталось ли там хоть что-нибудь? И чудится ему отбитая штукатурка, разобранный паркет, которым вместо дров топили печи, ободранные обои, разбитые грязные стекла и сорванные с петель двери…
Дворник встречает его в воротах – тот же дворник – эти-то уцелеют при всяких режимах и переворотах!
Но что это? Чудо из чудес! Сдергивает поспешно с головы шапчонку этот всероссийский привратник, и в глазах его уже не наглость зарвавшегося дешевого хама, а настоящая русская, сияющая добродушной радостью, ласка и приветливость.
– Да неужто ж барин? Вот-то радость какая, Господи! Заждались мы вас! Шутка ли – больше двух лет!..
– А что… моя… квартира?.. – с тайным трепетом спросит петербуржец, обнимая, как родного, как кровного брата, сияющего дворника.
– Цела-с, пожалуйте. Комиссар тут жил – тем только и сохранили! Пианино, правду говоря, маленько «Яблочком» расшатали да абажур в гостиной разбили… Позавчера только и бежал комиссар… Жидка Варвара на расправу!.. Вот-с ключик.
Сладостное, чудесное ощущение!
Моя старая квартира! Мои картины, мои ковры, мои книги, на страницах которых, может быть, остались следы неуклюжих жирных пальцев, но тем дороже вы мне, мои книги, потому что этим самым вместо одной – две повести расскажете вы мне, когда голубоватым светом засветится родная лампа, когда приветливо затрещат дрова в камине, и я, придвинув к огню мягкое старое кресло, начну вас перелистывать, прихлебывая из стакана доброе старое бордо, чудом уцелевшее под откидным сиденьем оттоманки.
И когда в эти тихие сумерки зазвонит вдруг телефон на письменном столе и голос друга прозвучит издали: «Я взял тебе билет в Мариинку, сегодня премьера», когда, переодевшись в вечерний костюм, выйдет петербуржец из дому и окунется в эту милую петербургскую туманную, слякотную полумглу, в которой так призрачно, еле намеченно светят матовые шары фонарей, когда окунется он в этот суетливый гомон огромной столицы, – схватится он за голову и подумает громко:
«Сон то был или явь? Дьявольское наваждение, бесовское действо или… на всю будущую жизнь глубокое, грозное, печальное memento mori…»
Дюжина ножей в спину революции
Предисловие
Может быть, прочтя заглавие этой книги, какой-нибудь сердобольный читатель, не разобрав дела, сразу и раскудахчется, как курица:
– Ах, ах! Какой бессердечный, жестоковыйный молодой человек – этот Аркадий Аверченко!! Взял да и воткнул в спину революции ножик, да и не один, а целых двенадцать!
Поступок – что и говорить – жестокий, но давайте любовно и вдумчиво разберемся в нем.
Прежде всего спросим себя, положа руку на сердце:
– Да есть ли у нас сейчас революция?..
Разве та гниль, глупость, дрянь, копоть и мрак, что происходит сейчас, – разве это революция?
Революция – сверкающая прекрасная молния, революция – божественно красивое лицо, озаренное гневом рока, революция – ослепительно яркая ракета, взлетевшая радугой среди сырого мрака!..
Похоже на эти сверкающие образы то, что сейчас происходит?..
Скажу в защиту революции более того – рождение революции прекрасно, как появление на свет ребенка, его первая бессмысленная улыбка, его первые невнятные слова, трогательно умилительные, когда они произносятся с трудом лепечущим, неуверенным в себе розовым язычком…
Но когда ребенку уже четвертый год, а он торчит в той же колыбельке, когда он четвертый год сосет свою всунутую с самого начала в рот ножку, превратившуюся уже в лапу довольно порядочного размера, когда он четвертый год лепечет те же невнятные, невразумительные слова, вроде: «совнархоз», «уезземельком», «совбур» и «реввоенком» – так это уже не умилительный, ласкающий глаз младенец, а, простите меня, довольно порядочный детина, впавший в тихий идиотизм.
Очень часто, впрочем, этот тихий идиотизм переходит в буйный, и тогда с детиной никакого сладу нет!
Не смешно, а трогательно, когда крохотный младенчик протягивает к огню розовые пальчики, похожие на бутылочки, и лепечет непослушным языком:
– Жижа, жижа!.. Дядя, дай жижу…
Но когда в темном переулке встречается лохматый парень с лицом убийцы и, протягивая корявую лапу, бормочет: «А ну, дай, дядя, жижи, прикурить цигарки или скидывай пальто», – простите меня, но умиляться при виде этого младенца я не могу!
Не будем обманывать и себя и других: революция уже кончилась, и кончилась она давно!
Начало ее – светлое, очищающее пламя, средина – зловонный дым и копоть, конец – холодные обгорелые головешки.
Разве мы сейчас не бродим среди давно потухших головешек – без крова и пищи, с глухой досадой и пустотой в душе.
Нужна была России революция?
Конечно, нужна.
Что такое революция? Это – переворот и избавление.
Но когда избавитель перевернуть – перевернул, избавить – избавил, а потом и сам так плотно уселся на ваш загорбок, что снова и еще хуже задыхаетесь вы в предсмертной тоске и судороге голода и собачьего существования, когда и конца-краю не видно этому сиденью на вашем загорбке, то тогда черт с ним и с избавителем этим! Я сам, да, думаю, и вы тоже, если вы не дураки, – готовы ему не только дюжину, а даже целый гросс «ножей в спину».
Правда, сейчас еще есть много людей, которые, подобно плохо выученным попугаям, бормочут только одну фразу:
– Товарищи, защищайте революцию!
Позвольте, да вы ведь сами раньше говорили, что революция – это молния, это гром стихийного божьего гнева… Как же можно защищать молнию?
Представьте себе человека, который стоял бы посреди омраченного громовыми тучами поля и, растопырив руки, вопил бы:
– Товарищи! Защищайте молнию! Не допускайте, чтобы молния погасла от рук буржуев и контрреволюционеров!!
Вот что говорит мой собрат по перу, знаменитый русский поэт и гражданин К. Бальмонт, мужественно боровшийся в прежнее время, как и я, против уродливостей минувшего царизма.
Вот его буквальные слова о сущности революции и защите ее:
«Революция хороша, когда она сбрасывает гнет. Но не революциями, а эволюцией жив мир. Стройность, порядок – вот что нужно нам, как дыхание, как пища. Внутренняя и внешняя дисциплина и сознание, что единственное понятие, которое сейчас нужно защищать всеми силами, это понятие Родины, которая выше всяких личностей и классов и всяких отдельных задач, – понятие настолько высокое и всеобъемлющее, что в нем тонет все, и нет разнствующих в нем, а только сочувствующие и слитно работающие – купец и крестьянин, рабочий и поэт, солдат и генерал».
«Когда революция переходит в сатанинский вихрь разрушения – тогда правда становится безгласной или превращается в ложь. Толпами овладевает стихийное безумие, подражательное сумасшествие, все слова утрачивают свое содержание и свою убедительность. Если такая беда овладевает народом, он неизбежно возвращается к притче о бесах, вошедших в стадо свиней»…
«Революция есть гроза. Гроза кончается быстро и освежает воздух, и ярче тогда жизнь, красивее цветут цветы. Но жизни нет там, где грозы происходят беспрерывно. А кто умышленно хочет длить грозу, тот явный враг строительства и благой жизни. И выражение «защищать революцию», должен сказать, мне кажется бессмысленным и жалким. Настоящая гроза не нуждается в защите и подпорках. Уж какая же это гроза, если ее, как старушку, нужно закутывать в ватное одеяло».
Вот как говорит К. Бальмонт… И в одном только он ошибается – сравнивая нашу «выросшую из пеленок» революцию с беспомощной старушкой, которую нужно кутать в ватное одеяло.
Не старушка это – хорошо бы, коли старушка, – а полупьяный детина с большой дороги, и не вы его будете кутать, а он сам себя закутает вашим же, стащенным с ваших плеч, пальто.
Да еще и ножиком ткнет в бок.
Так такого-то грабителя и разорителя беречь? Защищать?
Да ему не дюжину ножей в спину, а сотню – в дикобраза его превратить, чтобы этот пьяный, ленивый сутенер, вцепившийся в наш загорбок, не мешал нам строить Новую Великую Свободную Россию!
Правильно я говорю, друзья-читатели? А?
И если каждый из вас не бестолковый дурак или не мошенник, которому выгодна вся эта разруха, вся эта «защита революции», то всяк из вас отдельно и все вместе должны мне грянуть в ответ:
– Правильно!!!
Фокус великого кино
Отдохнем от жизни.
Помечтаем. Хотите?
Садитесь, пожалуйста, в это мягкое кожаное кресло, в котором тонешь чуть не с головой. Я подброшу в камин угля, а вы закурите эту сигару. Недурной «Боливар», не правда ли? Я люблю, когда в полумраке кабинета, как тигровый глаз, светится огонек сигары. Ну, наполним еще раз наши рюмки темно-золотистым хересом – на бутылочке-то пыли сколько наросло – вековая пыль, благородная, – а теперь слушайте…
* * *
Однажды в кинематографе я видел удивительную картину. Море. Берег. Высокая этакая отвесная скала, саженей в десять. Вдруг у скалы закипела вода, вынырнула человеческая голова, и вот человек, как гигантский, оттолкнувшийся от земли мяч, взлетел на десять саженей кверху, стал на площадку скалы – совершенно сухой – и сотворил крестное знамение так: сначала пальцы его коснулись левого плеча, потом правого, потом груди и, наконец, лба.
Он быстро оделся и пошел прочь от моря, задом наперед, пятясь, как рак. Взмахнул рукой, и окурок папиросы, валявшийся на дороге, подскочил и влез ему в пальцы. Человек стал курить, втягивая в себя дым, рождающийся в воздухе. По мере курения, папироса делалась все больше и больше и, наконец, стала совсем свежей, только что закуренной. Человек приложил к ней спичку, вскочившую ему в руку с земли, вынул коробку спичек, чиркнул загоревшуюся спичку о коробочку, отчего спичка погасла, вложил спичку в коробочку; папиросу, торчащую во рту, сунул обратно в портсигар, нагнулся – и плевок с земли вскочил ему прямо в рот. И пошел он дальше также задом наперед, пятясь, как рак. Дома сел перед пустой тарелкой и стаканом, вылил изо рта в стакан несколько глотков красного вина и принялся вилкой таскать изо рта куски цыпленка, кладя их обратно на тарелку, где они под ножом срастались в одно целое. Когда цыпленок вышел целиком из его горла, подошел лакей и, взяв тарелку, понес этого цыпленка на кухню – жарить… Повар положил его на сковородку, потом снял сырого, утыкал перьями, поводил ножом по его горлу, отчего цыпленок ожил и потом весело побежал по двору.
* * *
Не правда ли, вам понятно, в чем тут дело: это обыкновенная фильма, изображающая обыкновенные человеческие поступки, но пущенные в обратную сторону.
Ах, если бы наша жизнь была похожа на послушную кинематографическую ленту!..
Повернул ручку назад – и пошло-поехало…
Передо мной – бумага, покрытая ровными строками этого фельетона. Вдруг – перо пошло в обратную сторону, будто соскабливая написанное, и когда передо мной – чистая бумага, я беру шляпу, палку и, пятясь, выхожу на улицу…
Шуршит лента, разматываясь в обратную сторону.
Вот сентябрь позапрошлого года. Я сажусь в вагон, поезд дает задний ход и мчится в Петербург.
В Петербурге чудеса: с Невского уходят, забирая свои товары, селедочницы, огуречницы, яблочницы и невоюющие солдаты, торгующие папиросами… Большевистские декреты, как шелуха, облетают со стен, и снова стены домов чисты и нарядны. Вот во весь опор примчался на автомобиле задним ходом Александр Федорович Керенский. Вернулся?!
Крути, Митька, живей!
Въехал он в Зимний дворец, а там, глядишь, все новое и новое мелькание ленты: Ленин и Троцкий с компанией вышли, пятясь, из особняка Кшесинской, поехали задом наперед на вокзал, сели в распломбированный вагон, тут же его запломбировали – и укатила вся компания задним ходом в Германию.
А вот совсем приятное зрелище: Керенский задом наперед вылетает из Зимнего дворца – давно пора, – вскакивает на стол и напыщенно говорит рабочим: «Товарищи! Если я вас покину – вы можете убить меня своими руками! До самой смерти я с вами».
Соврал, каналья. Как иногда полезно пустить ленту в обратную сторону!
Быстро промелькнула февральская революция. Забавно видеть, как пулеметные пули вылетали из тел лежащих людей, как влетали они обратно в дуло пулеметов, как вскакивали мертвые и бежали задом наперед, размахивая руками.
Крути, Митька, крути!
Вылетел из царского дворца Распутин и покатил к себе в Тюмень. Лента-то ведь обратная.
Жизнь все дешевле и дешевле… На рынках масса хлеба, мяса и всякого съестного дрязгу.
А вот и ужасная война тает, как кусок снега на раскаленной плите; мертвые встают из земли и мирно уносятся на носилках обратно в свои части. Мобилизация быстро превращается в демобилизацию, и вот уже Вильгельм Гогенцоллерн стоит на балконе перед своим народом, но его ужасные слова, слова паука-кровопийцы об объявлении войны, не вылетают из уст, а, наоборот, глотает он их, ловя губами в воздухе. Ах, чтоб ты ими подавился!..
Митька, крути, крути, голубчик!
Быстро мелькают поочередно четвертая Дума, третья, вторая, первая, и вот уже на экране четко вырисовываются жуткие подробности октябрьских погромов.
Но, однако, тут это не страшно. Громилы выдергивают свои ножи из груди убитых, те шевелятся, встают и убегают, летающий в воздухе пух аккуратно сам слетается в еврейские перины, и все принимает прежний вид.
А что это за ликующая толпа, что за тысячи шапок, летящих кверху, что это за счастливые лица, по которым текут слезы умиления?!
Почему незнакомые люди целуются, черт возьми!
Ах, это Манифест 17 октября, данный Николаем II свободной России…
Да ведь это, кажется, был самый счастливый момент во всей нашей жизни!
Митька! Замри!! Останови, черт, ленту, не крути дальше! Руки поломаю!..
Пусть замрет. Пусть застынет.
– Газетчик! Сколько за газету? Пятачок?
– Извозчик! Полтинник на Конюшенную, к «Медведю». Пошел живей, гривенник прибавлю. Здравствуйте! Дайте обед, рюмку коньяку и бутылку шампанского. Ну как не выпить на радостях… С Манифестом вас! Сколько с меня за все? Четырнадцать с полтиной? А почему это у вас шампанское десять целковых за бутылку, когда в «Вене» – восемь? Разве можно так бессовестно грабить публику?
Митька, не крути дальше! Замри. Хотя бы потому остановись, что мы себя видим на пятнадцать лет моложе, почти юношами. Ах, сколько было надежд, и как мы любили, и как нас любили.
Отчего же вы не пьете ваш херес! Камин погас, и я не вижу в серой мгле – почему так странно трясутся ваши плечи: смеетесь вы или плачете?
Поэма о голодном человеке
Сейчас в первый раз я горько пожалел, почему мама в свое время не отдала меня в композиторы.
То, о чем я хочу сейчас написать, ужасно трудно выразить в словах… Так и подмывает сесть за рояль, с треском опустить руки на клавиши – и все, все как есть, перелить в причудливую вереницу звуков, грозных, тоскующих, жалобных, тихо-стонущих и бурно-проклинающих.
Но немы и бессильны мои негибкие пальцы, но долго еще будет молчать хладнокровный, неразбуженный рояль, и закрыт для меня пышный вход в красочный мир звуков…
И приходится писать мне элегии и ноктюрны привычной рукой – не на пяти, а на одной линейке, – быстро и привычно вытягивая строку за строкой, перелистывая страницу за страницей. О, богатые возможности, дивные достижения таятся в слове, но не тогда, когда душа морщится от реального прозаического трезвого слова, – когда душа требует звука, бурного, бешеного движения обезумевшей руки по клавишам…
Вот моя симфония – слабая, бледная в слове…
* * *
Когда тусклые серо-розовые сумерки спустятся над слабым, голодным, устало смежившим свои померкшие, свои сверкающие прежде очи Петербургом, когда одичавшее население расползется по угрюмым берлогам коротать еще одну из тысячи и одной голодной ночи, когда все стихнет, кроме комиссарских автомобилей, бодро шныряющих, проворно, как острое шило, вонзающихся в темные безглазые русла улиц, – тогда в одной из квартир Литейного проспекта собираются несколько серых бесшумных фигур и, пожав друг другу дрожащие руки, усаживаются вокруг стола пустого, освещенного гнусным воровским светом сального огарка.
Некоторое время молчат, задыхающиеся, усталые от целого ряда гигантских усилий: надо было подняться по лестнице на второй этаж, пожать друг другу руки и придвинуть к столу стул – это такой нестерпимый труд!..
Из разбитого окна дует… но заткнуть зияющее отверстие подушкой уж никто не может – предыдущая физическая работа истощила организм на целый час.
Можно только сидеть вокруг стола, оплывшей свечи и журчать тихим, тихим шепотом…
Переглянулись.
– Начнем, что ли? Сегодня чья очередь?
– Моя.
– Ничего подобного. Ваша позавчера была. Еще вы рассказывали о макаронах с рубленой говядиной.
– О макаронах Илья Петрович рассказывал. Мой доклад был о панированной телячьей котлете с цветной капустой. В пятницу.
– Тогда ваша очередь. Начинайте. Внимание, господа!
Серая фигура наклонилась над столом еще ниже, отчего черная огромная тень на стене переломилась и заколебалась. Язык быстро, привычно пробежал по запекшимся губам, и тихий хриплый голос нарушил могильное молчание комнаты.
– Пять лет тому назад – как сейчас помню – заказал я у «Альбера» навагу фрит и бифштекс по-гамбургски. Наваги было 4 штуки – крупная, зажаренная в сухариках, на масле, господа! Понимаете, на сливочном масле, господа. На масле! С одной стороны лежал пышный ворох поджаренной на фритюре петрушки, с другой – половина лимона. Знаете, этакий лимон ярко-желтого цвета и в разрезе посветлее, кисленький такой разрез… Только взять его в руку и подавить над рыбиной… Но я делал так: сначала брал вилку, кусочек хлебца (был черный, был белый, честное слово) и ловко отделял мясистые бока наваги от косточки…
– У наваги только одна косточка, посредине, треугольная, – перебил, еле дыша, сосед.
– Тсс! Не мешайте. Ну, ну?
– Отделив куски наваги, причем, знаете ли, кожица была поджарена, хрупкая этакая и вся в сухарях… в сухарях, – я наливал рюмку водки и только тогда выдавливал тонкую струю лимонного сока на кусок рыбы… И я сверху прикладывал немного петрушки – о, для аромата только, исключительно для аромата, – выпивал рюмку и сразу кусок этой рыбки – гам! А булка-то, знаете, мягкая, французская этакая, и ешь ее, ешь, пышную, с этой рыбкой. А четвертую рыбку я даже не доел, хе-хе!
– Не доели?!!
– Не смотрите на меня так, господа. Ведь впереди был бифштекс по-гамбургски – не забывайте этого. Знаете, что такое – по-гамбургски?
– Это не яичница ли сверху положена?
– Именно!! Из одного яйца. Просто так, для вкуса. Бифштекс был рыхлый, сочный, но вместе с тем упругий и с одного боку побольше поджаренный, а с другого – поменьше. Помните, конечно, как пахло жареное мясо, вырезка – помните? А подливки было много, очень много, густая такая, и я любил, отломив корочку белого хлебца, обмакнуть ее в подливочку и с кусочком нежного мясца – гам!
– Неужели жареного картофеля не было? – простонал кто-то, схватясь за голову, на дальнем конце стола.
– В том-то и дело, что был! Но мы, конечно, еще не дошли до картофеля. Был также наструганный хрен, были капорцы – остренькие, остренькие, а с другого конца чуть не половину соусника занимал нарезанный этакими ромбиками жареный картофель. И черт его знает, почему он так пропитывается этой говяжьей подливкой. С одного бока кусочки пропитаны, а с другого совершенно сухие и даже похрустывают на зубах. Отрежешь, бывало, кусочек мясца, обмакнешь хлеб в подливку, да зацепив все это вилкой, вкупе с кусочком яичницы, картошечкой и кружочком малосольного огурца…
Сосед издал полузаглушенный рев, вскочил, схватил рассказчика за шиворот и, тряся его слабыми руками, закричал:
– Пива! Неужели ты не запивал этого бифштекса с картофелем крепким пенистым пивом!
Вскочил в экстазе и рассказчик.
– Обязательно! Большая тяжелая кружка пива, белая пена наверху, такая густая, что на усах остается. Проглотишь кусочек бифштекса с картофелем да потом как вопьешься в кружку…
Кто-то в углу тихо заплакал:
– Не пивом! не пивом нужно было запивать, а красным винцом, подогретым! Было там такое бургундское, по три с полтиной бутылка… Нальешь в стопочку, поглядишь на свет – рубин, совершенный рубин…
Бешеный удар кулаком прервал сразу весь этот плывший над столом сладострастный шепот.
– Господа! Во что мы превратились – позор! Как мы низко пали! Вы! Разве вы мужчины? Вы сладострастные старики Карамазовы! Источая слюну, вы смакуете целыми ночами то, что у вас отняла кучка убийц и мерзавцев! У нас отнято то, на что самый последний человек имеет право – право еды, право набить желудок пищей по своему неприхотливому выбору – почему же вы терпите? Вы имеете в день хвост ржавой селедки и 2 лота хлеба, похожего на грязь, – вас таких много, сотни тысяч! Идите же все, все идите на улицу, высыпайте голодными отчаянными толпами, ползите, как миллионы саранчи, которая поезд останавливает своим количеством, идите, навалитесь на эту кучку творцов голода и смерти, перегрызите им горло, затопчите их в землю, и у вас будет хлеб, мясо и жареный картофель!!
– Да! Поджаренный в масле! Пахнущий! Ура! Пойдем! Затопчем! Перегрызем горло! Нас много! Ха-ха-ха! Я поймаю Троцкого, повалю его на землю и проткну пальцем глаз! Я буду моими истоптанными каблуками ходить по его лицу! Ножичком отрежу ему ухо и засуну ему в рот – пусть ест!!
– Бежим же, господа. Все на улицу, все голодные!
При свете подлого сального огарка глаза в черных впадинах сверкали, как уголья… Раздался стук отодвигаемых стульев и топот ног по комнате.
И все побежали… Бежали они очень долго и пробежали очень много: самый быстрый и сильный добежал до передней, другие свалились – кто на пороге гостиной, кто у стола столовой.
Десятки верст пробежали они своими окостеневшими, негнущимися ногами… Лежали, обессиленные, с полузакрытыми глазами, кто в передней, кто в столовой – они сделали, что могли, они ведь хотели.
Но гигантское усилие истощилось, и тут же все погасли, как растащенный по поленьям сырой костер.
А рассказчик, лежа около соседа, подполз к его уху и шепнул:
– А знаешь, если бы Троцкий дал мне кусочек жареного поросенка с кашей – такой, знаешь, маленький кусочек, – я бы не отрезывал Троцкому уха, не топтал бы его ногами! Я бы простил ему…
– Нет, – шепнул сосед, – не поросенок, а знаешь что?.. Кусочек пулярки, такой, чтобы белое мясо легко отделялось от нежной косточки… И к ней вареный рис с белым кисленьким соусом…
Другие лежащие, услышав шепот этот, поднимали жадные головы и постепенно сползались в кучу, как змеи от звуков тростниковой дудки…
Жадно слушали.
* * *
Тысяча первая голодная ночь уходила… Ковыляя, шествовало на смену тысяча первое голодное утро.
Трава, примятая сапогом
– Как ты думаешь, сколько мне лет? – спросила небольшая девочка, перепрыгивая с одной ноги на другую, потряхивая темными кудрями и поглядывая на меня сбоку большим серым глазом…
– Тебе-то? А так я думаю, что тебе лет пятьдесят.
– Нет, серьезно. Ну пожалуйста, скажи.
– Тебе-то? Лет восемь, что ли?
– Что ты! Гораздо больше: восемь с половиной.
– Ну?! Порядочно. Как говорится: старость не радость. Небось и женишка уже припасла?
– Куда там! (Глубокая поперечная морщина сразу выползла откуда-то на ее безмятежный лоб.) Разве теперь можно обзаводиться семьей? Все так дорого.
– Господи, боже ты мой, какие солидные разговоры пошли!.. Как здоровье твоей многоуважаемой куклы?
– Покашливает. Я вчера с ней долго сидела у реки. Кстати, хочешь, на речку пойдем, посидим. Там хорошо: птички поют. Я вчера очень комичную козявку поймала.
– Поцелуй ее от меня в лапку. Но как же мы пойдем на реку: ведь в той стороне, за рекой, стреляют.
– Неужели ты боишься? Вот еще глупый. Ведь снаряды не долетают сюда, это ведь далеко. А я тебе зато расскажу стих. Пойдем?
– Ну раз стих – это дело десятое. Тогда не лень и пойти.
По дороге, ведя меня за руку, она сообщила:
– Знаешь, меня ночью комар как укусит, за ногу.
– Слушаю-с. Если я его встречу, я ему дам по морде.
– Знаешь, ты ужасно комичный.
– Еще бы. На том стоим.
На берегу реки мы преуютно уселись на камушке под развесистым деревцем. Она прижалась к моему плечу, прислушалась к отдаленным выстрелам, и снова та же морщинка озабоченности и вопроса, как гнусный червяк, вползла на чистый лоб.
Она потерлась порозовевшей от ходьбы щечкой о шершавую материю моего пиджака и, глядя остановившимися глазами на невозмутимую гладь реки, спросила:
– Скажи, неужели Ватикан никак не реагирует на эксцессы большевиков?..
Я испуганно отодвинулся от нее и поглядел на этот розовый ротик с будто чуть-чуть припухшей верхней губкой, посмотрел на этот ротик, откуда только что спокойно вылетела эта чудовищная по своей деловитости фраза, и переспросил:
– Чего, чего?
Она повторила.
Я тихо обнял ее за плечи, поцеловал в голову и прошептал на ухо:
– Не надо, голубчик, об этом говорить, хорошо? Скажи лучше стихи, что обещала.
– Ах, стихи! Я и забыла. О Максе:
Максик вечно ноет,
Максик рук не моет,
У грязнухи Макса
Руки, точно вакса.
Волосы, как швабра,
Чешет их не храбро…
Правда, комичные стишки? Я их в старом «Задушевном Слове» прочитала.
– Здорово сработано. Ты их маме-то читала?
– Ну, знаешь, маме не до того. Прихварывает все.
– Что ж с ней такое?
– Малокровие. Ты знаешь, она целый год при большевиках в Петербурге прожила. Вот и получила. Жиров не было, потом эти… азотистые вещества тоже в организм не… этого… не входили. Ну, одним словом, коммунистический рай.
– Бедный ты ребенок, – уныло прошептал я, приглаживая ей волосы.
– Еще бы же не бедный. Когда бежали из Петербурга, я в вагоне кроватку куклиную потеряла, да медведь пищать перестал. Не знаешь, отчего это он мог перестать пищать?
– Очевидно, азотистых веществ ему не хватило. Или просто саботаж.
– Ну ты прямо-таки прекомичный! На мою резиновую собачку похож. А ты можешь нижней губой до носа достать?
– Где там! Всю жизнь мечтал об этом – не удается.
– А знаешь, у меня одна знакомая девочка достает; очень комично.
С противоположного берега дунуло ветерком, и стрельба сразу сделалась слышней.
– Вишь ты, как пулеметы работают, – сказал я, прислушиваясь.
– Что ты, братец, какой же это пулемет? Пулемет чаще тарахтит. Знаешь, совсем как швейная машина щелкает. А это просто пачками стреляют. Вишь ты: очередями жарят.
Ба-бах!
– Ого, – вздрогнул я, – шрапнелью ахнули.
Ее серый лукавый глаз глянул на меня с откровенным сожалением:
– Знаешь, если ты не понимаешь – так уж молчи. Какая же это шрапнель? Обыкновенную трехдюймовку со шрапнелью спутал. Ты знаешь, между прочим, шрапнель, когда летит, так как-то особенно шуршит. А бризантный снаряд воет, как собака. Очень комичный.
– Послушай, клоп, – воскликнул я, с суеверным страхом оглядывая ее розовые пухлые щечки, вздернутый носик и крохотные ручонки, которыми она в этот момент заботливо подтягивала спустившиеся к башмачкам носочки. – Откуда ты все это знаешь?!
– Вот комичный вопрос, ей-богу! Поживи с мое – не то еще узнаешь.
А когда мы возвращались домой, она, забыв уже о «реагировании Ватикана» и «бризантных снарядах», щебетала, как воробей, задрав кверху задорный носик:
– Ты знаешь, какого мне достань котеночка? Чтоб у него был розовенький носик и черные глазки. Я ему голубенькую ленточку с малюсеньким таким золотым бубенчиком привяжу, у меня есть. Я люблю маленьких котенков. Что же я, дура! Я и забыла, что мой бубенчик был с маминым золотом в сейфе, и коммунисты его по мандату комфина реквизировали!
* * *
По зеленой молодой травке ходят хамы в огромных тяжелых сапожищах, подбитых гвоздями.
Пройдут по ней, примнут ее.
Прошли – полежал, полежал примятый, полураздавленный стебелек, пригрел его луч солнца, и опять он приподнялся и под теплым дыханием дружеского ветерка шелестит о своем, о малом, о вечном.
Чертово колесо
I
– Усаживайся, не бойся. Тут очень весело.
– Чем же весело?
– Ощущение веселое.
– Да чем же веселое?
– А вот как закрутится колесо, да как дернет тебя с колеса, да как швырнет о барьер, так глаза в лоб выскочут! Очень смешно.
Это – разговор на «чертовом колесе»…
Несколько лет тому назад компания ловких предпринимателей устроила в Петербурге «Луна-Парк».
Я любил хаживать туда по причине несколько пикантной: в «Луна-Парке» я находил для своей коллекции дураков такие чудесные махровые экземпляры и в таком изобилии, как нигде в другом месте.
Вообще, «Луна-Парк» – это рай для дураков: все сделано для того, чтобы дураку было весело…
Подойдет он к выпуклому зеркалу, увидит трехаршинные ноги, будто выходящие прямо из груди, увидит вытянутое в аршин лицо – и засмеется дурак, как ребенок; сядет в «веселую бочку», да как столкнут его вниз, да как почнет бочка стукаться боками о вертикально воткнутые по дороге бревна, да как станет дурака трясти, как дробинку в детской погремушке, круша ребра и ушибая ноги, – тут-то и поймет дурак, что есть еще беззаботное веселье на свете; и к «веселой кухне» подойдет дурак, и тут он увидит, что это настоящая его, дуракова, тихая пристань. Впрочем, она не особенно тихая, эта пристань. Потому что «веселая кухня» заключалась в том, что на расстоянии нескольких аршин от барьера на полках были расставлены бракованные тарелки, блюда, бутылки и стаканы, в которые дурак имеет право метать деревянными шарами, купив это завидное право и привилегию за рубль серебра. И прибыли-то дураку никакой не было – ни приза за разбитие тарелок ему не давали, ни одобрения зрителей он не получал, потому что раскокать блюдо на трехаршинном расстоянии было легче легкого, – а вот поди ж ты – излюбленное это было дурацкое удовольствие – сокрушать десятки тарелок и бутылок… А из «веселой кухни», разгорячив свою пылкую кровь, – направлялся дурак для охлаждения прямехонько в «таинственный замок»… Это было помещение, входя в которое вы должны были приготовиться ко всему: бредете ли вы по абсолютно темным узким коридорам, а вам тут и привидения, натертые фосфором, являются, и задушает вас невидимая рука, и скатываетесь вы по какой-то трубе вниз на какие-то мягкие мешки, а главное, когда вы, радостный, выходите наконец в залитый светом воздушный мостик, открытый глазам толпящейся внизу публики, – снизу дунет на вас таким ураганным ветром, что, если вы мужчина, пальто ваше взвивается выше к голове, как два крыла, шляпа бешено взлетает кверху, а если вы дама, то вся гривуазно настроенная публика ознакомится не только с цветом ваших подвязок, но и со многим другим, чему место не в политическом фельетоне, а на самой лучшей, крепкой, круто замешенной эротической странице специалиста по этим делам, Михайлы Арцыбашева [15] .
Вот что такое «Луна-Парк» – рай для дураков, ад для среднего, случайно забредшего туда человека и – широкое необозримое поле научных наблюдений для вдумчивого человека, изучающего русского дурака в его нормальной, привычной и самой удобной обстановке.
II
Приглядываюсь я к русской революции, приглядываюсь и – ой, как много разительно схожего в ней с «Луна-Парком» – даже жутко от целого ряда поразительно точных аналогий…
Все новое, революционное, по-большевистски радикальное строительство жизни, все разрушение старого, якобы отжившего, – ведь это же «веселая кухня»! Вот тебе на полках расставлен старый суд, старые финансы, церковь, искусство, пресса, театр, народное просвещение – какая пышная выставка!
И вот подходит к барьеру дурак, выбирает из корзины в левую руку побольше деревянных шаров, берет в правую один шар, вот размахнулся – трах! Вдребезги правосудие. Трах! – в кусочки финансы.
Бац! – и уже нет искусства, и только остается на месте какой-то жалкий покосившийся пролеткультский огрызок.
А дурак уже разгорячился, уже пришел в азарт – благо шаров в руках много – и вот летит с полки разбитая церковь, трещит народное просвещение, гудит и стонет торговля. Любо дураку, а кругом собрались, столпились посторонние зрители – французы, англичане, немцы – и только, знай, посмеиваются над веселым дураком, а немец еще и подзуживает:
– Ай, ловкий! Ну, и голова же! А ну, шваркни еще по университету. А долбани-ка в промышленность!..
Горяч русский дурак – ох, как горяч… Что толку с того, что потом, когда очухается он от веселого азарта, долго и тупо будет плакать свинцовыми слезами и над разбитой церковью, и над сокрушенными вдребезги финансами, и над мертвой уже наукой, зато теперь все смотрят на дурака! Зато теперь он – центр веселого внимания, этот самый дурак, которого прежде и не замечал никто.
III
А кто это там поехал вниз в «веселой бочке», стукаясь боками о сотни торчащих тумб, теряя шляпу, круша ребра и ломая коленные чашечки? Ба! Это русский человек с семьей путешествует в наше веселое революционное время из Чернигова в Воронеж. Бац о тумбу – из вагона ребенок вылетел, бац о другую – самого петлюровцы выбросили, трах о третью – махновцы чемодан отняли.
А кто стоит перед кривым зеркалом и корчится не то от смеха, не то от слез, сам себя не узнавая… А это, видите, доверчивый человек подошел к непримиримой чужепартийной газете, и она его «отразила».
А этот «таинственный замок» – где вас ведут по темным, как ночь, извилинам, где пугают вас, толкают, калечат и кажут вам разных, леденящих душу своим видом, чудовищ – не чрезвычайка ли это – самое яркое порождение Третьего Интернационала – потому что все интернационально сгруппировались там: и латыши, и русские, и евреи, и китайцы – палачи всех стран, соединяйтесь!..
IV
Но самое замечательное, самое одуряюще схожее – это «чертово колесо»!
Вот вам февральская революция – начало ее, когда колесо еще не закрутилось… Посредине его, в самом центре, стоит самый замечательный «дурак» современности – Александр Керенский, и кричит он зычным митинговым голосом:
– Пожалуйте, товарищи! Делайте игру. Сейчас закрутим. Милюков [16] ! Садись, не бойся. Тут весело.
– Чем же весело?
– Ощущение веселое…
– А вот как закрутит, да как начнет всех швырять к барьеру… Впрочем, ты садись в самый центр, около меня, – тогда удержишься… И ты, Гучков [17] , садись – не бойся… Славно закрутим… Ну… все сели? Давай ход! Поехала!
Поехала.
Несколько оборотов «чертова колеса» – и вот уже ползет, с выпученными глазами, тщетно стараясь удержаться за соседа, – Павел Милюков.
Взззз! – свистит раскрученное колесо, быстро скользит по отполированной предыдущими «опытами» поверхности Милюков – трах – и больно стукается о барьер бедняга, вышвырнутый из центра непреодолимой центробежной силой.
А вот и Гучков пополз вслед за ним, уцепясь за рукав Скобелева [18] … Отталкивает его Скобелев, но – поздно… Утеряна мертвая точка, и оба разлетаются, как пушинки от урагана.
– А! – радостно кричит Церетели [19] , уцепясь за ногу Керенского. – Дэржись крепче, как я. – Самые левые и самые правые летят, а мы – центр – удэржимся…
Куда там! Уже оторвался и скользит Церетели, за ним Чхеидзе [20] – эк их куда выкинуло – к самому барьеру, «на сей погибельный Кавказ порасшвыривало».
Радостно посмеивается Керенский, бешено вертясь в самом центре, – кажется, и конца не будет этому сладостному ощущению… Любо молодому главковерху. Но вот у ног его заклубился бесформенный комок из трех голов и шести ног, называемый в просторечии – Гоцлибердан [21] , – уцепился комок за Керенского, обвился вокруг его ноги, жалобно закричал главковерх, сдвинулся на вершок влево – но… для «чертова колеса» достаточно и этого!..
Заскрипела полированная поверхность, и летит начальник, или, по-нынешнему, «комиссар чертова колеса», вверх тормашками, не только к барьеру, а даже за барьер беднягу выкинуло, и грянулся он где-то не то в Лондоне, не то в Париже.
Расшвыряло, всех расшвыряло по барьеру «чертово колесо», и постепенно замедляется его ход, и почти останавливается оно, а тут уже – глядь! – налезла на полированный круг новая веселая компания: Троцкий, Ленин, Нахамкис [22] , Луначарский, и кричит новый «комиссар чертова колеса» – Троцкий:
– К нам, товарищи! Ближе! Те дураки не удержались, но мы-то удержимся! Ходу! Крути, валяй! Поехала!!
– Взззз!..
А мы сейчас стоим кругом и смотрим: кто первый поползет окорачь по гладкой полированной поверхности, где не за что уцепиться, не на чем удержаться, и кого на какой барьер вышвырнет.
– Ах, поймать бы!
Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина
Ровно десять лет тому назад рабочий Пантелей Грымзин получил от своего подлого, гнусного хозяина-кровопийцы поденную плату за 9 часов работы – всего два с полтиной!!!
«Ну, что я с этой дрянью сделаю?.. – горько подумал Пантелей, разглядывая на ладони два серебряных рубля и полтину медью… – И жрать хочется, и выпить охота, и подметки к сапогам нужно подбросить, старые – одна, вишь, дыра… Эх ты, жизнь наша распрокаторжная!!»
Зашел к знакомому сапожнику: тот содрал полтора рубля за пару подметок.
– Есть ли на тебе крест-то? – саркастически осведомился Пантелей.
Крест, к удивлению ограбленного Пантелея, оказался на своем месте, под блузой, на волосатой груди сапожника.
«Ну вот остался у меня рупь целковый, – со вздохом подумал Пантелей. – А что на него сделаешь? Эх!..»
Пошел и купил на целковый этот полфунта ветчины, коробочку шпрот, булку французскую, полбутылки водки, бутылку пива и десяток папирос – так разошелся, что от всех капиталов только четыре копейки и осталось.
И когда уселся бедняга Пантелей за свой убогий ужин, так ему тяжко сделалось, так обидно, что чуть не заплакал.
– За что же, за что?.. – шептали его дрожащие губы. – Почему богачи и эксплуататоры пьют шампанское, ликеры, едят рябчиков и ананасы, а я, кроме простой очищенной, да консервов, да ветчины – света божьего не вижу… О, если бы только мы, рабочий класс, завоевали себе свободу!.. То-то бы мы пожили по-человечески!
* * *
Однажды весной 1920 года рабочий Пантелей Грымзин получил свою поденную плату за вторник: всего 2700 рублей.
«Что ж я с ними сделаю, – горько подумал Пантелей, шевеля на ладони разноцветные бумажки. – И подметки к сапогам нужно подбросить, и жрать, и выпить чего-нибудь – смерть хочется!»
Зашел Пантелей к сапожнику, сторговался за две тысячи триста и вышел на улицу с четырьмя сиротливыми сторублевками.
Купил фунт полубелого хлеба, бутылку ситро, осталось 14 целковых… Приценился к десятку папирос, плюнул и отошел.
Дома нарезал хлеба, откупорил ситро, уселся за стол ужинать… и так горько ему сделалось, что чуть не заплакал.
– Почему же, – шептали его дрожащие губы, – почему богачам все, а нам ничего… Почему богач ест нежную розовую ветчину, объедается шпротами и белыми булками, заливает себе горло настоящей водкой, пенистым пивом, курит папиросы, а я, как пес какой, должен жевать черствый хлеб и тянуть тошнотворное пойло на сахарине!.. Почему одним все, другим – ничего?..
* * *
Эх, Пантелей, Пантелей… Здорового ты дурака свалял, братец ты мой!
Новая русская сказка
(Вместо предисловия)
Матери!
Вот уже несколько лет вы бессознательно обманываете ваших детей, рассказывая им старый ложный вариант сказки о Красной Шапочке и Сером Волке.
Пора, наконец, открыть вам глаза на истинное положение вещей, пора пролить свет истины на клеветническое измышление о бедном добродушном Сером Волке!..
Вот как было дело:
Сказка о Красной Шапочке, об одном заграничном мальчике и о Сером ВолкеУ одного отца было три сына: до первых двух нам нет дела, а младший был дурак.
Состояние его умственных способностей видно из того, что когда у него родилась и подросла дочь – он подарил ей красную шапочку.
Почему именно красную?
Именно потому, что дурак красному рад.* * *
И вот однажды зовет дуракова жена дочку и говорит ей:
– Нечего зря баклуши бить! Отнеси бабушке горшочек маслица, лепешечку да штоф вина: может, старуха наклюкается, протянет ноги, а мы тогда все ее животишки и достатки заберем.
– Я, конечно, пойду, – отвечает Красная Шапочка. – Но только, чтобы идти не больше восьмичасового рабочего дня. А насчет бабушки – это мысль.
Перемигнулись; хихикнула Красная Шапочка и, напялив свой дурацкий головной убор, пошла к бабушке.
Идти пришлось лесом. Идет, «Интернационал» напевает, красную гвоздику рвет. Вдруг из-за куста выходит некий таинственный мальчик и говорит:
– Позвольте представиться: заграничный мальчик Лев Троцкий. Чего несете? О-о, да тут прекрасные вещи! Дай-ка, я их тово… Да ты не плачь – я ведь тебе стаканчик-другой поднесу.
– А что же я бабушке-то скажу?
– Скажи – Серый русский Волк слопал. Вали, как на мертвого.
Пришла, пошатываясь, к бабушке Красная Шапочка. Старуха к ней:
– Принесла?
– Да, как же! Держи карман шире. Разве этот грабитель, Серый Волк, пропустит – все слопал!
Только облизнулась бедная старуха.
А в это время, как известно, жил-был у бабушки Серенький Козлик. Вздумалось козлику в лес погуляти.
– Отпусти ты его, буржуя, – советует Красная Шапочка. – Пусть идет в лес. Довольно ему, саботажнику, дома лодырничать. Как говорится: все на фронт.
Отпустила бабушка Серенького Козлика в сопровождении Красной Шапочки, а той только того и нужно. Едва вошли в лес – из-за куста давешний мальчик:
– А что, товарищ, не слопать ли нам козла?
– А что я бабушке скажу?
Подмигнул мальчик, хихикнул.
– А Серый русский Волк на что? Вали на него – вывезет. Кстати, старуха-то сама фартовая? Клев есть?
– Да ежели потрясти – есть чего. Только на мокрое дело я не пойду. Чтобы без убийства.
– А Серый Волк на что? Свалим на эту скотину. Айда!
Пошли и «пришили» старушку.
Зажили в старухином доме припеваючи. Мальчик на старухиной кровати развалился, целый день валяется, а Красная Шапочка по хозяйству хлопочет, сундуки взламывает.
* * *
А в это время по всему лесу пошел нехороший и для добродушного Серого Волка позорный слух: что будто бы он не только людей провизии и продуктов лишает, не только буржуазного козленка зарезал, но и самое бабушку прикончил.
Обидно стало Серому. Пойду, думает, к старухе, лично все выясню.
Приходит – те-те-те! Полуштоф пустой на столе стоит, на стене козлиная шкура, а Красная Шапочка уже в бабушкиных нарядах щеголяет.
– Ловко сработано, – с горечью подумал Серый Волк.
Подошел к Троцкому, подсел на краешек кровати и спрашивает:
– Отчего у тебя такой язык длинный?
– Чтобы на митингах орать.
– Отчего у тебя такой носик большой?
– При чем тут национальность?
– Отчего у тебя большие ручки?
– Чтобы лучше сейфы вскрывать! Знаешь наш лозунг: грабь награбленное!
– Отчего у тебя такие ножки большие?
– Идиотский вопрос! А чем же я буду, когда засыплюсь, в Швейцарию убегать?!
– Ну, нет, брат, – вскричал Волк и в тот же миг – гам! – и съел заграничного мальчика, сбил лапой с головы глупой девчонки красную шапочку, и, вообще, навел Серый такой порядок, что снова в лесу стало жить хорошо и привольно.
Кстати, в прежнюю старую сказку, в самый конец, впутался какой-то охотник.
В новой сказке – к черту охотника.
Много вас тут, охотников, найдется к самому концу приходить…
Короли у себя дома
Все почему-то думают, что коронованные особы – это какие-то небожители, у которых на голове алмазная корона, во лбу звезда, а на плечах горностаевая мантия, хвост которой волочится сажени на три сзади.
Ничего подобного. Я хорошо знаю, что в своей частной, интимной жизни коронованные особы живут так же обывательски просто, как и мы, грешные.
Например, взять Ленина и Троцкого.
На официальных приемах и парадах они – одно, а в своей домашней обстановке – совсем другое. Никаких громов, никаких перунов.
Ну, скажем, вот:
* * *
Серенькое московское утро. Кремль. Грановитая палата.
За чаем мирно сидят Ленин и Троцкий.
Троцкий, затянутый с утра в щеголеватый френч, обутый в лакированные сапоги со шпорами, с сигарой, вставленной в длинный янтарный мундштук, – олицетворяет собой главное, сильное, мужское начало в этом удивительном супружеском союзе. Ленин – madame, представитель подчиняющегося, более слабого, женского начала.
И он одет соответственно: затрепанный халатик, на шее нечто вроде платка, потому что в Грановитой палате всегда несколько сыровато, на ногах красные шерстяные чулки от ревматизма и мягкие ковровые туфли.
Троцкий, посасывая мундштук, совсем, с головой, ушел в газетный лист; Ленин перетирает полотенцем стаканы.
Молчание. Только самовар напевает свою однообразную вековую песенку.
– Налей еще, – говорит Троцкий, не отрывая глаз от газеты.
– Тебе покрепче или послабее?
Молчание.
– Да брось ты свою газету! Вечно уткнет нос так, что его десять раз нужно спрашивать.
– Ах, оставь ты меня в покое, матушка! Не до тебя тут.
– Ага! Теперь уже не до меня! А когда сманивал меня из-за границы в Россию, тогда было до меня!.. Все вы, мужчины, одинаковы.
– Поехала!
Троцкий вскакивает, нервно ходит по палате, потом останавливается. Сердито:
– Кременчуг взят. На Киев идут. Понимаешь?
– Что ты говоришь! А как же наши доблестные красные полки, авангард мировой революции?..
– Доблестные? Да моя бы воля, так я бы эту сволочь…
– Левушка… Что за слово…
– Э, не до слов теперь, матушка. Кстати, ты транспорт-то со снарядами послала в Курск?
– Откуда же я их возьму, когда тот завод не работает, этот бастует… Рожу я тебе их, что ли? Ты вот о чем подумай!
– Да? Я должен думать?! Обо всем, да? Муж и воюй, и страну организуй, и то и се, а жена только по диванам валяется да глупейшего Карла Маркса читает? Эти романчики пора уже оставить…
– Что ты мне своей организацией глаза колешь?! – вспылил Ленин, нервно отбрасывая мокрое полотенце. – Нечего сказать – организовал страну: по улицам пройти нельзя: или рабочий мертвый лежит, или лошадь дохлая валяется.
– А чего ж они, подлецы, не убирают… Я ведь распорядился. Господи! Простой чистоты соблюсти не могут.
– Ах, да разве только это? Ведь нам теперь и глаз к соседям не покажи – засмеют. Устроили страну, нечего сказать; на рынке ни к чему приступу нет – курица 8000 рублей, крупа – 3000, масло… э, да и что там говорить!! Ходишь на рынок, только расстраиваешься.
– Ну что ж… разве я тебе в деньгах отказывал? Не хватает – можно подпечатать. Ты скажи там, в экспедиции заготовления…
– Э, да разве только это. А венгерская социальная революция… Курам на смех! Твой же этот самый придворный поэт во всю глотку кричал:
Мы на горе всем буржуям,
Мировой пожар раздуем…
– Раздули пожар… тоже! Хвалилась синица море зажечь. Ну, с твоей ли головой такой страной управлять, скажи, пожалуйста?!
– Замолчишь ли ты, проклятая баба! – гаркнул Троцкий, стукнув кулаком по столу. – Не хочешь, не нравится – скатертью дорога!
– Скатертью? – вскричал Ленин и подбоченился. – Это куда же скатертью? Куда я теперь поеду, когда благодаря твоей дурацкой войне мы со всех сторон окружены? Завлек, поиграл, поиграл, а теперь вышвыриваешь, как старый башмак? Знала бы, лучше пошла бы за Луначарского.
Бешеный огонь ревности сверкнул в глазах Троцкого.
– Не смей и имени этого соглашателя произносить!! Слышишь? Я знаю, ты ему глазки строишь, и он у тебя до третьего часу ночи просиживает; имей в виду: застану – искалечу. Это что еще? Слезы? Черт знает что! Каждый день скандал – чаю не дадут дома спокойно выпить! Ну довольно! Если меня спросят – скажи, я поехал принимать парад доблестной Красной армии. А то если этих мерзавцев не подтягивать… Поняла? Положи мне папирос в портсигар да платок сунь в карман чистый! Что у нас сегодня на обед?
Вот как просто живут коронованные особы. Горностай да порфира – это на людях, а у себя в семье, когда муж до слез обидит, можно и в затрапезный шейный платок высморкаться.
Усадьба и городская квартира
Когда я начинаю думать о старой, канувшей в вечность, России, то меня больше всего умиляет одна вещь: до чего это была богатая, изобильная, роскошная страна, если последних три года повального, всеобщего, равного, тайного и явного грабежа – все-таки не могут истощить всех накопленных старой Россией богатств.
Только теперь начинаешь удивляться и разводить руками:
– Да, что ж это за хозяин такой был, у которого даже после смерти его – сколько ни тащат, все растащить не могут…
Большевики считали все это «награбленным» и даже клич такой во главу угла поставили:
– Грабь награбленное.
Ой, не награбленное это было. Потому что все, что награблено, никогда впрок не идет: тут же на месте пропивается, проигрывается в карты, раздаривается дамам сердца грабителей – «марухам» и «шмарам».
А старая Россия не грабила; она накапливала.
Закрою я глаза – и чудится мне старая Россия большой помещичьей усадьбой…
Вот миновал мой возок каменные, прочно сложенные, почерневшие от столетий, ворота, и уже несут меня кони по длинной без конца-края липовой аллее, ведущей к фасаду русского, русского, русского – такого русского, близкого сердцу дома с белыми колоннами и старым-престарым фронтоном.
Солнце пробивается сквозь листву лип, и золотые пятна бегают по дорожке и колеблются, как живые…
А на террасе уже стоит вальяжный, улыбающийся хозяин и радостно приветствует меня.
Объятия, троекратные поцелуи, по русскому обычаю, и первый вопрос:
– Обедали?
И праздный вопрос, потому что мой ответ все равно не нужен хозяину: пусть сытый гость лопнет по всем швам, но обедом он будет накормлен…
Те же золотые пятна бегают уже по белоснежной скатерти, зажигаются рубинами на домашней наливке, вспыхивают изумрудами на смородиновке, настоянной на молодых остропахнущих листьях, и уже дымится перед гостем и хозяином наваристый борщ и пыжится пухлая, как пуховая перина, кулебяка…
– А вы пока маринованных грибков – домашние! И вот рыбки этой – из собственного пруда… А квасом – прямо говорю – могу похвастаться; в нос так и шибает – сама жена у меня по этому делу ходок…
Тихо прячется за березовую рощу красное утомленное солнце. Смягченная далью, грустно и красиво доносится еле слышная песня косарей.
– Эй, – кричит кому-то вниз разошедшийся хозяин. – По случаю приезда дорогого гостя – выдать косарям по две чарки водки! А вы, голубчик, не устали ли? Может, отдохнуть хотите? Пойдемте, покажу вашу комнату…
В моей комнате уже зажжена лампа… Усталые ноги мягко ступают по толстым половикам, а взор так и тянется к свежим холодноватым простыням раскрытой постели…
– Вот вам спички, вот свеча, вот графин грушевого квасу – вдруг да пить ночью захотите. Да вы, может быть, съели бы чего-нибудь на ночь? Перепелочки есть, осетрина холодная… Нет? Ну, Господь с вами. Спите себе.
Я один… Подхожу к этажерке, что важно выпятилась в углу сотней прочных кожаных книжных переплетов, начинаю перебирать книги: Гоголь, Достоевский, Толстой, Успенский…
Почитаю…
Ах, как хорошо в русской России почитать русскому человеку русского писателя, ах, как хорошо знать, что ты под гостеприимным кровом русского приветливого хлебосола, что, когда ты погасишь лампу, в окно к тебе будут заглядывать бледные русские звезды, а за окном тихо и ласково будут перешептываться о твоих делах на своем непонятном языке скромные, застенчивые русские березки и елочки…
Все задремывает… И разнокалиберная шумливая птица в птичнике, и толстая, неповоротливая, обильно кормленная и поенная скотина в хлеву, и золотой хлеб в закромах, и свертки плотного домотканого полотна в темных, окованных железом укладках, и старые седые бутылки в дедовском погребе – все спит – плотное, солидное, накопленное не в год и не на год, а так, что еще и внукам останется…
С расчетом жили люди, замахиваясь в своих делах и планах на десятки лет, жили плотно, часто лениво, иногда скучно, но всегда сытно, но всегда нося в себе эволюционные семена более горячего, более живого и бойкого будущего…
Все стояло на своем месте, и во всем был так необходимый простому русскому сердцу уют.
* * *
А теперь новая русская «власть» живет не в дедовской помещичьей усадьбе, а в городе: съехали жильцы с квартиры, так вот теперь эти новые и взяли покинутую квартиру, значит.
Ясно, что, когда с квартиры съезжают, она какой вид имеет: голые стены, с оторванными кое-где обоями, с ярко-желтыми прямоугольниками в тех местах, где стоял комод или шкаф… В выбитое окно тянет сырым ветерком, на полу обрывки веревок, окурки, какие-то рваные бумажки, два-три аптечных пузырька с выцветшим рецептом, в углу поломанный, продавленный стул, брошенный за ненадобностью.
Переехала сюда «новая власть»… Нет у нее ни мебели, ни ковров, ни портретов предков…
Переехали – даже комнат не подмели…
На окнах появились десятки опорожненных бутылок, огрызков засохшей колбасы, в угол поставили утащенный откуда-то роскошный шелковый диван с ободранным боком и около него примостили опрокинутый пивной бочонок, в виде ночного столика.
На стене на огромных крюках – ружья, в углу обрывок израсходованной пулеметной ленты и старые полуистлевшие обмотки.
Сор на полу так и не подметают, и нога все время наталкивается то на пустую консервную коробку, то на расплющенную голову селедки…
Приходит новый хозяин. В мокрой, пахнущей кислым шинели, отяжелевший от спирта-сырца, валится прямо на диван.
А в бывшем кабинете помещаются угрюмые латыши, а в бывшей детской, где еще валяется забытый игрушечный зайчонок с оторванными лапами, спят вонючие китайцы и «красные башкиры»…
Никто из живущих в этой квартире не интересуется ею, и никто не собирается устроиться в ней по-человечески.
Никому и в голову не придет вставить разбитые стекла, вымести сор, разостлать белые с синей каймой половички, развесить любимые портреты, застлать кровать чистой простыней.
Зачем? День прошел, и слава Интернационалу. День да ночь – сутки прочь.
Никто не верит в возможность устроиться в новой квартире хоть года на три…
Стоит ли? А вдруг придет хозяин и даст по шеям.
Так и живут. Зайдет этакий в квартиру, наследит сапогами, плюнет, бросит окурок, размажет для собственного развлечения на стене клопа и пойдет по своим делам: расстреливать контрреволюционера и пить спирт-сырец.
Неприютно живет, по-собачьему.
Таков новый хозяин новой России.
Хлебушко
У главного подъезда монументального здания было большое скопление карет и автомобилей.
Мордастый швейцар то и дело покрикивал на нерасторопных кучеров и тут же низкими поклонами приветствовал господ во фраках и шитых золотом мундирах, солидно выходящих из экипажей и автомобилей.
Худая деревенская баба в штопаных лаптях и белом платке, низко надвинутом на загорелый лоб, робко подошла к швейцару.
Переложила из одной руки в другую узелок и поклонилась в пояс…
– Тебе чего, убогая?
– Скажи-ка мне, кормилец, что это за господа такие?
– Междусоюзная конференция дружественных держав по вопросам мировой политики!
– Вишь ты, – вздохнула баба в стоптанных лапотках. – Сподобилась видеть.
– А ты кто будешь? – небрежно спросил швейцар.
– Россия я, благодетель, Россеюшка. Мне бы тут за колонкой постоять да хоть одним глазком поглядеть: какие-таки бывают конференции. Может, и на меня, сироту, кто-нибудь глазком зыркнет да обратит свое такое внимание.
Швейцар подумал и, хотя был иностранец, но тут же сказал целую строку из Некрасова:
– «Наш не любит оборванной черни»… А впрочем, стой – мне что.
По лестнице всходили разные: и толстые, и тонкие, и ощипанные, во фраках, и дородные, в сверкающих золотом сюртуках с орденами и лентами.
Деревенская баба всем низко кланялась и смотрела на всех с робким испугом и тоской ожидания в слезящихся глазах.
Одному – расшитому золотом с ног до головы и обвешанному целой тучей орденов – она поклонилась ниже других.
– Вишь ты, – тихо заметила она швейцару. – Это, верно, самый главный!
– Какое! – пренебрежительно махнул рукой швейцар. – Внимания не стоит. Румын.
– А какой важный. Помню, было время, когда у меня под окошком на скрипочке пиликал, а теперь – ишь ты! И где это он так в орденах вывалялся?..
И снова на лице ее застыло вековечное выражение тоски и терпеливого ожидания… Даже зависти не было в этом робком сердце.
* * *
Английский дипломат встал из-за зеленого стола, чтобы размяться, подошел к своему коллеге-французу и спросил его:
– Вы не знаете, что это там за оборванная баба около швейцара в вестибюле стоит?
– Разве не узнали? Россия это.
– Ох, уж эти мне бедные родственники! И чего ходит, спрашивается? Сказано ведь: будет время – разберем и ее дело. Стоит с узелком в руке и всем кланяется… По-моему, это шокинг.
– Да… Воображаю, что у нее там в узле… Наверное, полкаравая деревенского хлеба, и больше ничего.
– Как вы говорите?.. хлеб?
– Да. А что ж еще?
– Вы… уверены, что там у нее хлеб?
– Я думаю.
– Гм… да. А впрочем, надо бы с ней поговорить, расспросить ее. Все-таки мы должны быть деликатными. Она нам в войну здорово помогла. Я – сейчас!
И англичанин поспешно зашагал к выходу.
* * *
Вернулся через пять минут, оживленный:
– Итак… На чем мы остановились?
– Коллега, у вас на подбородке крошки…
– Гм… Откуда бы это? А вот мы их платочком.
* * *
Увязывая свой похудевший узелок, баба тут же быстро и благодарно крестилась и шептала швейцару.
– Ну, слава богу… Сам-то обещал спомочь. Теперь, поди, недолго и ждать.
И побрела восвояси, сгорбившись и тяжко ступая усталыми ногами в стоптанных лапотках.
Эволюция русской книги
Этап первый (1916 год)
– Ну, у вас на этой неделе не густо: всего три новых книги вышло. Отложите мне «Шиповник» и «Землю». Кстати, есть у вас «Любовь в природе» Бельше? Чье издание? Сытина? Нет, я бы хотел саблинское. Потом, нет ли «Дети греха» Катюль Мендеса? Только, ради бога, не «Сфинкса» – у них перевод довольно неряшлив. А это что? Недурное издание. Конечно, Голике и Вильборг? Ну нашли тоже, что роскошно издавать: «Евгений Онегин» – всякий все равно наизусть знает. А чьи иллюстрации? Самокиш-Судковской? Сладковаты. И потом формат слишком широкий: лежа читать неудобно!..
Этап второй (1920 год)
– Барышня! Я записал по каталогу вашей библиотеки 72 названия – и ни одного нет. Что ж мне делать?
– Выберите что-нибудь из той пачки на столе. Это те книги, что остались.
– Гм! Вот три-четыре более или менее подходящие: «Описание древних памятников Олонецкой губернии», «А вот и она – вновь живая струна», «Макарка Душегуб» и «Собрание речей Дизраэли (лорда Биконсфилда)»…
– Ну вот и берите любую.
– Слушайте… А «Памятники Олонецкой губернии» – интересная?
– Интересная, интересная. Не задерживайте очереди.
Этап третий
– Слышали новость?!!
– Ну, ну?
– Ивиковы у себя под комодом старую книгу нашли! Еще с 1917 года завалялась! Везет же людям. У них по этому поводу вечеринка.
– А как называется книга?
– Что значит как: книга! 480 страниц! К ним уже записались в очередь Пустошкины, Бильдяевы, Россомахины и Партачевы.
– Побегу и я.
– Не опоздайте. Ивиковы, кажется, собираются разорвать книгу на 10 тоненьких книжечек по 48 страниц и продать.
– Как же это так: без начала, без конца?
– Подумаешь – китайские церемонии.
Этап четвертый
Публикация:
«Известный чтец наизусть стихов Пушкина ходит по приглашению на семейные вечера – читает всю «Полтаву» и всего «Евгения Онегина». Цены по соглашению. Он же дирижирует танцами и дает напрокат мороженицу».
Разговор на вечере:
– Слушайте! Откуда вы так хорошо знаете стихи Пушкина?
– Выучил наизусть.
– Да кто ж вас выучил: сам Пушкин, что ли?
– Зачем Пушкин. Он мертвый. А я, когда еще книжки были, так по книжке вызубрил.
– А у него почерк хороший?
– При чем тут почерк? Книга напечатана.
– Виноват, это как же?
– А вот делали так: отливали из свинца буквочки, ставили одну около другой, мазнут сверху черной краской, приложат к белой бумаге да как даванут – оно и отпечатается.
– Прямо чудеса какие-то! Не угодно ли присесть! Папиросочку! Оля, Петя, Гуля – идите послушайте, мусье Гортанников рассказывает, какие штуки выделывал в свое время Пушкин! Мороженицу тоже лично от него получили?
Этап пятый
– Послушайте! Хоть вы и хозяин только мелочной лавочки, но, может быть, вы поймете вопль души старого русского интеллигента и снизойдете.
– А в чем дело?
– Слушайте… Ведь вам ваша вывеска на ночь, когда вы запираете лавку, не нужна? Дайте мне ее почитать на сон грядущий – не могу заснуть без чтения. А текст там очень любопытный – и мыло, и свечи, и сметана – обо всяком таком описано. Прочту – верну.
– Да… все вы так говорите, что вернете. А намедни один тоже так-то вот – взял почитать доску от ящика с бисквитами Жоржа Бормана, да и зачитал. А там и картиночка, и буквы разные… У меня тоже, знаете ли, сын растет!..
Этап шестой
– Откуда бредете, Иван Николаевич?
– А за городом был, прогуливался. На виселицы любовался, поставлены у заставы.
– Тоже нашли удовольствие: на виселицы смотреть!
– Нет, не скажите. Я, собственно, больше для чтения: одна виселица на букву «Г» похожа, другая – на «И» – почитал и пошел. Все-таки чтение – пища для ума.
Русский в Европах
Летом 1921 года, когда все «это» уже кончилось, в курзале одного заграничного курорта собралась за послеобеденным кофе самая разношерстная компания: были тут и греки, и французы, и немцы, были и венгерцы, и англичане, один даже китаец был…
Разговор шел благодушный, послеобеденный.
– Вы, кажется, англичанин? – спросил француз высокого бритого господина. – Обожаю я вашу нацию: самый дельный вы, умный народ в свете.
– После вас, – с чисто галльской любезностью поклонился англичанин. – Французы в минувшую войну делали чудеса… В груди француза сердце льва.
– Вы, японцы, – говорил немец, попыхивая сигарой, – изумляли и продолжаете изумлять нас, европейцев. Благодаря вам слово «Азия» перестало быть символом дикости, некультурности…
– Недаром нас называют «немцами Дальнего Востока», – скромно улыбнувшись, ответил японец, и немец вспыхнул от удовольствия, как пук соломы.
В другом углу грек тужился, тужился и наконец сказал:
– Замечательный вы народ, венгерцы!
– Чем? – искренно удивился венгерец.
– Ну как же… Венгерку хорошо танцуете. А однажды я купил себе суконную венгерку, расшитую разными этакими штуками. Хорошо носилась! Вино опять же; нарезаться венгерским – самое святое дело.
– И вы, греки, хорошие.
– Да что вы говорите?! Чем?
– Ну… вообще. Приятный такой народ. Классический. Маслины вот тоже. Периклы всякие.
А сбоку у стола сидел один молчаливый бородатый человек и, опустив буйную голову на ладони рук, сосредоточенно печально молчал.
Любезный француз давно уже поглядывал на него. Наконец, не выдержал, дотронулся до его широкого плеча:
– Вы, вероятно, мсье, турок? По-моему, одна из лучших наций в мире!
– Нет, не турок.
– А кто же, осмелюсь спросить?
– Да так, вообще, приезжий. Да вам, собственно, зачем?
– Чрезвычайно интересно узнать.
– Русский я!!
Когда в тихий дремлющий летний день вдруг откуда-то сорвется и налетит порыв ветра, как испуганно и озабоченно закачаются, зашелестят верхушки деревьев, как беспокойно завозятся и защебечут примолкшие от зноя птицы, какой тревожной рябью вдруг подернется зеркально-уснувший пруд!
Вот так же закачались и озабоченно, удивленно защебетали венгерские, французские, японские головы; так же доселе гладкие зеркально-спокойные лица подернулись рябью тысячи самых различных взаимно борющихся между собою ощущений.
– Русский? Да что вы говорите? Настоящий?
– Детки! Альфред, Мадлена! Вы хотели видеть настоящего русского – смотрите скорее! Вот он, видите, сидит.
– Бедняга!
– Бедняга-то бедняга, да я давеча, когда расплачивался, бумажник два раза вынимал. Переложить в карманы брюк, что ли?
– Смотрите, вон русский сидит.
– Где, где?! Слушайте, а он бомбу в нас не бросит?
– Может, он голодный, господа, а вы на него вызверились. Как вы думаете, удобно ему предложить денег?
– Немца бы от него подальше убрать. А то немцы больно уж ему насолили… как бы он его не тово!
Француз сочувственно, но с легким оттенком страха жал ему руку, японец ласково с тайным соболезнованием в узких глазках гладил его по плечу, кое-кто предлагал сигару, кое-кто плотней застегнулся. Заботливая мать, захватив за руки плачущего Альфреда и Мадлену, пыхтя, как буксирный пароход, утащила их домой.
– Очень вас большевики мучили? – спросил добрый японец.
– Скажите, а правда, что в Москве собак и крыс ели?
– Объясните, почему русский народ свергнул Николая и выбрал Ленина и Троцкого? Разве они были лучше?
– А что такое взятка? Напиток такой или танец?
– Правда ли, что у вас сейфы вскрывали? Или, я думаю, это одна из тысячи небылиц, распространенных врагами России… А правда, что, если русскому рабочему запеть «Интернационал», он сейчас же начинает вешать на фонаре прохожего человека в крахмальной рубашке и очках?
– А правда, что некоторые русские покупали фунт сахару за пятьдесят рублей, а продавали за тысячу?
– Скажите, совнарком и совнархоз опасные болезни? Правда ли, что разбойнику Разину поставили на главной площади памятник?
– А вот, я слышал, что буржуазные классы имеют тайную ужасную привычку, поймав рабочего, прокусывать ему артерию и пить теплую кровь, пока…
– Горит!! – крикнул вдруг русский, шваркнув полупудовым кулаком по столу.
– Что горит? Где? Боже мой… А мы-то сидим…
– Душа у меня горит! Вина!! Эй, кельнер, камерьере, шестерка – как тебя там?! Волоки вина побольше! Всех угощаю!! Поймете ли вы тоску души моей?! Сумеете ли заглянуть в бездну хаотической первозданной души славянской. Всем давай бокалы. Эх-ма! «Умру, похоро-о-нят, как не жил на свете»…
Сгущались темно-синие сумерки.
Русский, страшный, растрепанный, держа в одной руке бутылку «Поммери-сек», а кулаком другой руки грозя заграничному небу, говорил:
– Сочувствуете, говорите? А мне чихать на ваше такое заграничное сочувствие!! Вы думаете, вы мне все, все, сколько вас есть, мало крови стоили, мало моей жизни отняли? Ты, немецкая морда, ты мне кого из Циммервальда прислал? Разве так воюют? А ты, лягушатник, там… «Мон ами, да мон ами, бон да бон», а сам взял да большевикам Крым и Одессу отдал. Разве это боновое дело? Разве это фратерните? [23] Разве я могу забыть? А тебе разве я забуду, как ты своих носатых китайских чертей прислал – наш Кремль поганить, нашу дор… доррогую Россию губить, а? А венгерец… тоже и ты хорош: тебе бы мышеловками торговать да венгерку плясать, а ты в социалистические революции полез. Бела Кунов, черт их подери, на престолы сажать… а? Ох, горько мне с вами, ох, тошнехонько… Пить со мной мое вино вы можете сколько угодно, но понять мою душеньку?! Горит внутри, братцы! Закопал я свою молодость, свою радость в землю сырую… «Умру-у, похоронят, как не-е жил на свете!»
И долго еще в опустевшем курзале, когда все постепенно, на цыпочках, разошлись, долго еще разносились стоны и рыдания полупьяного одинокого человека, непонятного, униженного в своем настоящем трезвом виде и еще более непонятного в пьяном… И долго лежал он так, неразгаданная мятущаяся душа, лежал, положив голову на ослабевшие руки, пока не подошел метрдотель:
– Господин… Тут счет.
– Что? Пожалуйста! Русский человек за всех должен платить! Получите сполна.
Осколки разбитого вдребезги
Оба они сходятся у ротонды севастопольского Приморского бульвара, перед закатом, когда все так неожиданно меняет краски: море из зеркально-голубого переходит в резко-синее, с подчеркнутым под верхней срезанной половинкой солнца горизонтом; солнце из ослепительно-оранжевого превращается в огромный полукруг, нестерпимо красного цвета; а спокойное голубое небо, весь день томно дрожавшее от ласк пылкого зноя, к концу дня тоже вспыхивает и загорается ярким предвечерним румянцем, – одним словом, когда вся природа перед отходом ко сну с неожиданной энергией вспыхивает новыми красками и хочет поразить пышностью, тогда сходятся они у ротонды, садятся они на скамеечку под нависшими ветвями маслины и начинают говорить…
У одного красивый старческий профиль чрезвычайно правильного рисунка, маленькая белая, очень чистенькая бородка и черные, еще живые глаза. Он петербуржец, бывший сенатор, на всех торжествах появляется в шитом золотом мундире и белых панталонах; был богат, щедр, со связями. Теперь на артиллерийском складе поденно разгружает и сортирует снаряды.
Другой – маленький рыжий старичок, с бесцветным петербургским личиком и медлительными движениями человека, привыкшего повелевать. Он был директором огромного металлургического завода, считавшегося первым на Выборгской стороне. Теперь он – приказчик комиссионного магазина и в последнее время приобрел даже некоторую опытность в оценке поношенных дамских капотов и плюшевых детских медведей, приносимых на комиссию.
Сойдясь и усевшись друг против друга, они долго молчат, будто раскачиваясь; да и в самом деле раскачивают головами, как два белых медведя во время жары в бассейне Зоологического сада.
Наконец, первым раскачивается сенатор:
– Резкие краски, – говорит он, указывая на горизонт. – Нехорошо.
– Аляповато, – укоризненно соглашается приказчик комиссионного магазина. – Все краски на палитре не смешаны, все краски грубо подчеркнуты.
– А помните наши петербургские закаты…
– Ну!!
– Небо – розовое с пепельным, вода – кусок розового зеркала, все деревья – темные силуэты, как вырезанные. Темный рисунок Казанского собора на жемчужном фоне…
– И не говорите! Не говорите! А когда зажгут фонари Троицкого моста…
– А кусочек канала, где Спас на Крови…
– А тяжелая арка в конце Морской, где часы…
– Не говорите!
– Ну скажите: что мы им сделали? Кому мы мешали?
– Не говорите!
* * *
Оба старика поникают головами… Потом один из них снова распускает белые паруса сладких воспоминаний и несется в быстрой чудесной лодке, убаюкиваемый – все назад, назад, назад…
– Помните постановку «Аиды» в Музыкальной драме?
– Да уж Лапицкий [24] был – ловкая шельма! Умел сделать. Бал у Лариных, например, в «Онегине», а?
– А второй акт «Кармен»?
– А оркестр в Мариинке [25] ? Помните, как вступят скрипки да застонут виолончели – Господи, думаешь: где же это я – на земле или на небе?
– Ах, Направник [26] , Направник!..
Сенаторская голова, седая голова с профилем римского патриция, никнет…
Рядом два восточных человека, в изумительно выутюженных белых костюмах и безукоризненных воротничках, тоже перебрасываются тихими фразами:
– С утра только я и успел взять из таможни 7 ящиков лимонов и 12 – спичек. Понимаешь?
– А Амбарцун?
– Амбарцуна мануфактурой завалили.
– А Вилли Ферреро в Дворянском собрании?! Это Божье чудо, это будто Христос в детстве вторично спустился на землю!.. Половина публики тихо рыдала…
– А что с какао?
– Амбарцуна какаом завалили.
– Чего я никогда уже, вероятно, не услышу – это игры Гофмана [27] …
– А помните, как Никиш [28] …
Из ресторана ветерок доносит дразнящий запах жареного мяса.
– Вчера с меня за отбивную котлету спросили 8 тысяч…
– А помните «Медведя»?
– Да. У стойки. Правда, рюмка лимонной водки стоила полтинник, но за этот же полтинник приветливые буфетчики буквально навязывали вам закуску: свежую икру, заливную утку, соус кумберленд, салат оливье, сыр из дичи.
– А могли закусить и горяченьким: котлетками из рябчика, сосисочками в томате, грибочками в сметане… Да!!! Слушайте – а расстегаи?!
– Ах, Судаков, Судаков!..
– Мне больше всего нравилось, что любой капитал давал тебе возможность войти в соответствующее место: есть у тебя 50 рублей – пойди к Кюба, выпей рюмочку мартеля, проглоти десяток устриц, запей бутылочкой шабли, заешь котлеткой даньон, запей бутылочкой поммери, заешь гурьевской кашей, запей кофе с джинжером… Имеешь 10 целковых – иди в «Вену» или в «Малый Ярославец». Обед из пяти блюд с цыпленком в меню – целковый, лучшее шампанское 8 целковых, водка с закуской 2 целковых… А есть у тебя всего полтинник – иди к Федорову или к Соловьеву: на полтинник и закусишь, и водки выпьешь, и пивцом зальешь…
– Эх, Федоров, Федоров!.. Кому это мешало?..
– А летом в «Буфф» поедешь: музыка гремит, на сцене Тамара «Боккаччо» изображает… Помните? Как это она: «Так надо холить по-о-чку»… Ах, Зуппе [29] ! Ах, Оффенбах!..
Восточные человеки наговорились о своих делах, прислушиваются к разговору сенатора и директора завода. Слушают, слушают – и полное непонимание на их лицах, украшенных солидными носами… На каком языке разговор?..
– А «Маскотта»? «Сядем в почтовую карету, скорей»… А джонсовская «Гейша»?.. [30] «Глупо, наивно попала в сети я»…
– Ну!.. А «Луна-Парк»!
– А Айседора [31] !
– А премьеры в Троицком или в Литейном!!
– А пуант с Фелисьеном и ужинами под румын, у воды!..
– А аттракционы в Вилла Роде?..
– А откровения психографолога Моргенштерна! Хе-хе…
– А разве лезло утром кофе в горло без «Петербургской газеты»?! [32]
– Да! С романом Брешки [33] внизу! Как это он: «Виконт надел галифе, засунул в карман парабеллум, затянулся «Боливаром», вскочил на гунтера, дал шенкеля и поскакал к авантюристу Петко Мирковичу!» Слова-то все какие подобраны, хе-хе…
– А «Сатирикон» [34] по субботам! С утра торопишь Агафью, чтобы сбегала за угол за журналом…
– А премьеры андреевских пьес… Какое волнующее чувство.
– А когда художественники приезжали…
И снова склоненные головы, и снова щемящий душу рефрен:
– Чем им мешало все это…
Подходит билетер с книжечкой билетов и девица с огромным денежным ящиком.
– Возьмите билеты, господа…
– Мы… это… нам не надо. Почем билеты?
– По пятьсот…
– Только за то, чтобы посидеть на бульваре?! Пятьсот?..
– Помилуйте, у нас музыка…
– Пойдем, Алексей Валерьяныч…
Понурившись, уходят.
У выхода приостанавливаются.
– А наш Летний сад, помните? Эти дряхлые статуи, скамеечки… Музыка тоже играла…
– А «Канавка у Дворца» [35] . «Уж полночь, а Германна все нет»! Какие голоса были!.. Ах, Лиза, Лиза…
– За что они Россию так?..
Экспедиция в Западную Европу сатириконцев: Южакина Сандерса, Мифасова и Крысакова
…И в то же время мы устраивали «сатириконские балы», ухитряясь в неделю записывать декоративные полотна во всю величину Дворянского собрания, устраивали вечера, юмористические лекции, выставки карикатур, совершали «образовательные» экспедиции за границу и выпускали книги.
Поверит ли кто-нибудь, что нами за эти пять лет, совместно с М. Г. Корнфельдом, было выпущено на рынок свыше двух миллионов книг.
Не верится? Увы… Цифра эта точна.
Это уже сделано. Это позади.
А если бы пять лет тому назад пришел какой-нибудь провидец и сказал бы: «Господа! Вы должны за пять лет сделать следующее:
1. Составить 300 номеров журнала.
2. Выпустить 2 000 000 книг.
3. Писать пьесы, декорации к ним, устраивать выставки, балы, над которыми возни 2–3 месяца, колесить по Европе, негодовать, возмущаться, бороться с цензурой и сверх всего этого – обязательно сохранять хорошее, ровное расположение духа, без которого «веселая» работа немыслима».
Если бы все это сказал нам пять лет тому назад провидец, каждый из нас выслушал бы его, молча повернулся спиной, выбрал бы по крепкой, прочной веревке – и сразу освободился бы и от книг, и от журнала, и от всего другого.
Теперь все это позади. Хорошо!
А. Т. Аверченко. Мы за пять лет . 1913 г.
I. Введение
О пользе путешествий. – Кто такой Крысаков. – Душевные и телесные свойства Мифасова. – Кое-что о Сандерсе. – Я. – Наш слуга Митя
Как часто случалось нам останавливаться в восторге и восхищении, с раскрытым сердцем перед чудесами природы, созданной всемогущими руками Творца!
Некоторые восторженные простоватые натуры раскрывают даже при этом рот и на закрытие его соглашаются только при усиленных уговорах или после применения физического насилия.
Спрашивается: каким же образом можем мы получать наслаждение от созерцания природы во всем ее буйном размахе и многообразии?
Ответ один: путешествуя.
Да! Путешествие – очень полезное препровождение времени. Оно расширяет кругозор и облагораживает человека… Один мой приятель, живя безвыездно в России, приводил всех в ужас огрубением своего нрава: он беспрестанно и виртуозно ругался самыми отчаянными словами, не подозревая, что существует кроме брани и обыкновенный разговорный язык.
Однажды поехал он за границу. Объездил Германию, Францию, Италию и Испанию. Вернулся… и что же! После возвращения этот человек стал ругаться и поносить встречных не только по-русски, но и на немецком, французском, итальянском и испанском языках.
Такое поведение вызвало всеобщее изумление, и дела его поправились.
Даже небольшие путешествия облагораживают и развивают человека. Это можно видеть на примере обыкновенных учеников. Ежедневные краткие их путешествия в училище делают из них образованных людей, которые никогда не заблудятся в лесу, несмотря на то, что главная его составная часть – буква «ѣ» [36] .
А открытие Америки? Была ли бы она открыта, если бы Колумб не путешествовал? Конечно, нет. А неоткрытие Америки вызвало бы экономические неурядицы. Европейские герцоги и принцы, не встречая богатых американок, впадали бы в бедность и вымирали, а американки, не подозревая о существовании материка, битком набитого гербами, титулами и высокопоставленными их носителями – быстро разбогатели бы до того, что денег девать было некуда, ценность их упала, и экономический кризис, этот бич народов, обрушился бы от одного океана до другого на этот замечательный материк.
А что может быть прекраснее путешествия в тропическую страну, например Африку? Я читал об одном англичанине, который задумал исследовать берега таинственной Танганайки; он взял с собой палатку, носильщиков, верблюдов и чемоданы. На берегу таинственной Танганайки он наткнулся на такое прожорливое племя, что оно съело, помимо англичанина, верблюдов и носильщиков, – даже чемоданы и съедобные части палатки.
Даже в этом трагическом случае можно наблюсти пользу и культурное значение путешествий: невежественные дикари приняли чрезвычайно цивилизованный вид, украсив уши своих жен коробками из-под консервов, а королю нахлобучив на голову, вместо короны, керосиновую кухню.
Это пустяк, конечно. Но это – первый шаг в обширную область культуры.
Я мог бы еще сотнями примеров доказать пользу и значение путешествий, но не хочу ломиться в открытую дверь. Это только гимназисты в классных сочинениях на тему «о пользе путешествий» измышляют, как бы поосновательнее доказать, что дважды два – четыре.
1
Четверо нас (кроме слуги Мити) единогласно решили совершить путешествие в Западную Европу. Цели и стремления у нас были разные: кое-кто хотел просто «расширить кругозор», кое-кто мечтал по возвращении «принести пользу дорогой России», у одного явилось скромное желание «просто поболтаться», а слуге Мите рисовалась единственная заманчивая перспектива, между нами говоря, довольно убогая: утереть, по возвращении, своим коллегам нос.
В этом месте я считаю необходимым сказать несколько слов о каждом из четырех участников экспедиции, потому что читателю впоследствии придется неоднократно сталкиваться на страницах этой книги со всеми четырьмя, не считая слуги Мити.
Крысаков (псевдоним). Его всецело можно причислить к категории «оптовых» людей, если существует такая категория. Он много ест, много спит, еще больше работает, а еще больше лентяйничает, хохочет без умолку, в глубине сердца чрезвычайно деликатен, но на ногу наступить себе не позволит. При необходимости полезет в драку или в огонь, без необходимости – проваляется на диване неделю, читая какую-нибудь «Эволюцию эстетики» или «Собрание светских анекдотов на предмет веселья». Иногда не прочь, ради курьеза, соврать, но, уличенный, не спорит, а вместо этого бросается на уличителя и начинает его щекотать и тормошить, заискивающе хихикая. В жизни неприхотлив. Спокойно доливает поданную чашку кофе – пивом, размешивает его с сахаром, а если тут же стоит молоко, то и молоко переливается в чашку. Пепел, упавший случайно в эту бурду, размешивается ложечкой для того, «чтобы не было заметно». Любит задавать официантам нелепые, бессмысленные вопросы. Раздеваясь у ресторанной вешалки, обязательно осведомится: приходил ли Жюль Верн? И чрезвычайно счастлив, если получит ответ:
– Полчаса как ушли.
Беззаботность и лень его иногда доходят до героизма. Когда мы выехали из России, то, начиная от Берлина, у него постепенно стали отваливаться пуговицы от всех частей одежды. Постепенно же он заменял их булавками, иголками и главным образом замысловатой комбинацией из спичек и проволоки от лимонадных бутылок. Чтобы панталоны его сидели как следует, ему приходилось надменно выпячивать вперед живот и беспрестанно, с кажущейся беззаботностью, засовывать руки в карманы.
Положение его ухудшалось с каждым днем. Хотя еще стояла прекрасная весна, но крысаковские пуговицы, вероятно, совершенно созрели, потому что падали сами собою, без посторонней помощи.
В Венеции наступил крах. Когда мы собрались идти обедать в какое-то «Капелла Неро», Крысаков сел в своем номере на кровать и тоскливо сказал:
– Идите, а я посижу.
– Что ты, крысеночек, – участливо спросил я, – болен?
– Нет.
– Тебя кто-нибудь обидел?
– Нет.
– А что же?
– У меня не осталось ни одной…
– Лиры?
– Пуговицы.
– Купи другой костюм.
– Да у меня есть костюм.
– Где же он?
– В чемодане.
– Так чего ж ты, чудак, грустишь? Достань его, переоденься и пойдем.
– Не могу. Потерял ключ.
– Взломай!
– Попробуйте! Он из крокодиловой кожи.
Из угла вытащили огромный, чудовищно распухший чемодан и с озверением набросились на него. Схватили сначала за ручки – отлетели. Схватили за ремни – ремни лопнули.
– Раскрывайте ему челюсти, – хлопотливо советовал художник Мифасов, лежа на постели. – Засуньте ему палку в пасть.
После получасовой борьбы чудовище сдалось. Замок застонал, крякнул, крышки разжались, и душа его полетела к небу.
Первое, что лежало на самом верху, – было зимнее пальто, под ним галоши, ящик из-под красок и шелковый цилиндр, доверху наполненный мелом, зубным порошком и зубными щетками.
– Вот они! – сказал радостно Крысаков. – А я их с самого Вержболова искал. А это что? Ваза для кистей… Зачем же я, черт возьми, взял вазу для кистей?
– Лучше бы ты, – сказал Сандерс, – взял стеклянный футляр для каминных часов или стенную полку для книг.
– Братцы! – восторженно сказал Крысаков, вынимая какую-то часть туалета. – Пуговиц, пуговиц-то сколько!.. Прямо в глазах рябит…
Он переоделся и, схватив свой чемодан, похожий на животное с распоротым брюхом, из которого вывалились внутренности, оттащил его в угол.
– Жалко его, – растроганно сказал он, выпрямляясь, – я так люблю животных…
– Что это у тебя сейчас упало?
– Ах, черт возьми! Пуговица.
Так он и ездил с нами – веселый, неприхотливый, пускавшийся иногда среди шумных бульваров в пляс, любующийся на красоту мира и таскавший за обрывок ручки свой ужасный полураскрытый чемодан, из которого изредка вываливался то тюбик краски, то ботинок, то фаянсовая пепельница, то рукав сорочки, радостно подпрыгивавший на неровностях тротуара.
Второй член нашей экспедиции – Мифасов (псевдоним) был молодцом совсем другого склада. Я не встречал человека рассудительнее, осмотрительнее и осведомленнее его. Этот юноша все видел, все знает – ни природа, ни техника не являются для него книгой тайн. Ему 25 лет, но по спокойному достоинству его манер и мудрости суждений – ему можно дать 50. По внешности и костюму он – полная противоположность бедняге Крысакову. Все у него зашито, прилажено, манжеты аккуратно высовываются из рукавов, не прячась внутрь и не вылезая за четверть аршина, воротничок рассудительно подпирает щеки, и шея подвязана настоящим галстуком, а не подкладкой от рукава старого сюртука (излюбленная манера Крысакова одеваться шикарно).
Осведомленность Мифасова приводила нас в изумление.
Уже спустя несколько часов после отъезда из Петрограда этот энциклопедический словарь, эта справочная машина заработала.
– Мы будем проезжать через Вильно? – спросил Крысаков.
– Что вы! – поднял плечи Мифасов. – Где наша дорога, а где Вильно. Совсем противоположная сторона. Неужели вы даже этого не знаете?
В глазах его светилась ласковая укоризна.
Мы проезжали через Вильно.
– Мифасов! – сказал я, наклоняясь к нему (он лежа читал книгу). – Ты говорил, что Вильно в стороне, а между тем мы его сейчас проехали.
Он скользнул по мне взглядом, сомкнул глаза и захрапел.
Перед Нюрнбергом он долго и подробно рассказывал о красоте замка Барбароссы и потом, по нашей просьбе, сообщил старинное предание о знаменитом тысячелетнем дубе, посаженном во дворе замка графиней Брунгильдой. Притихшие, очарованные, слушали мы прекрасную легенду о Брунгильде.
В одном только Мифасов, рассказывая это, оказался прав – он действительно рассказывал легенду: потому что дерево, как выяснилось, посадила не Брунгильда, а Кунигунда – и не дуб, а липу, которая, по сравнению с тысячелетним дубом, была сущей девчонкой.
По этому поводу Мифасов саркастически заметил:
– Нам не нужно было ехать через Вильно. Тогда бы все оказалось в порядке.
Свободное время Мифасов распределял аккуратно на две половины. Первая – безжалостно ухлопывалась на чистку ногтей, вторая – на боязнь заболеть. Между нами была та разница, что мы любили жизнь, а осторожный Мифасов боялся смерти. Каждое утро он брал зеркало, засматривал себе в горло, ощупывал тело и с сомнением качал головой.
– Что? – спрашивал его порывистый Крысаков. – Еще нет чахотки? Сибирская язва привилась? Дифтерит разыгрывается?
– Не оваите упосей, – невнятно бормотал Мифасов, ощупывая язык.
– Что?
– Я говорю: не говорите глупостей!
– Смотрите на меня! – восторженно кричал Крысаков, вертясь перед своим другом. – Вот я становлюсь в позу, и вы можете дотронуться до любой части моего тела, а я вам буду говорить.
– Что?
– Увидите!
Мифасов деликатно дотрагивался до его груди.
– Плеврит!
Дотрагивался Мифасов до живота.
– Аппендицит!
До рук.
– Подагра!
До носа.
– Полипы!
До горла.
– Катар горла!
Мифасов пожимал плечами:
– И вы думаете, это хорошо?
Мы бессовестно эксплуатировали осторожного Мифасова во время завтраков или обедов.
Если креветки были особенно аппетитны и Мифасов протягивал к ним руку, Крысаков рассеянно, вскользь говорил:
– Безобидная ведь штука на вид, а какая опасная! Креветки, говорят, самый энергичный распространитель тифа.
– Ну? Почему же вы мне раньше не сказали; я уже 2 штуки съел.
– Ну, две-то не опасно, – подхватывал я успокоительно. – Вот три, четыре – это уже риск.
Подавали фрукты.
– Холера нынче гуляет – ужас! – сообщал таинственно Крысаков, набивая рот сливами. – Как они рискуют сейчас подавать фрукты?!
– Да, пожалуй, еще и немытые, – говорил я с отвращением, захватывая последнюю охапку вишен.
Оставалась пара абрикос.
– Мифасов, кушайте абрикосы. Вы ведь не из трусливого десятка. Правда, по статистике, абрикосы – наиболее питательная почва для вибрионов…
– Я не боюсь! – возражал Мифасов. – Только мне не хочется.
– Почему же? Скушайте. Вот ликеров – этого не пейте. От них бывают почечные камни…
В чем Мифасов – в противоположность своей обычной осторожности – был безумно смел, расточителен и стремителен – это [37] был прекраснейший человек и галантный мужчина.
В наших скитаниях за границей он восхищал всех иностранцев своим своеобразным шиком в разговоре на чужом языке и чистотой произношения.
Правда, багаж слов у него был так невелик, что свободно мог поместиться в узелке на одном из углов носового платка. Но эти немногие слова произносились им так, что мы зеленели от зависти.
Этот человек сразу умел ориентироваться во всякой стране.
В Германии, входя в ресторан, он первым долгом оглядывался и очертя голову бросал эффектное «Кёльнер!», в Италии: «Камерьере!» и во Франции: «Гарсон!»
Когда же перечисленные люди подбегали к нему и спрашивали, чего желает герр, сеньор или мсье – он бледнел, как спирит, неосторожно вызвавший страшного духа, и начинал вертеть руками и чертить воздух пальцами, графически изображая тарелку, вилку, курицу или рыбу, пылающую на огне.
Сжалившись над несчастным, мы сейчас же устраивали ему своего рода подписку, собирали с каждого по десятку слов и подносили ему фразу, которую он тотчас же и тратил на свои надобности.
Третьим в нашей компании был Сандерс (псевдоним) – человек, у которого хватило энергии только на то, чтобы родиться, и совершенно ее не хватало, чтобы продолжать жить. Его нельзя было назвать ленивым, как Мифасова или меня, как нельзя назвать ленивыми часы, которые идут, но в то же время регулярно отстают каждый час на двадцать минут.
Я полагаю, что хотя ему в действительности и 26 лет, но он тянул эти годы лет сорок, потому что так нудно влачиться по жизненной дороге можно, только отставая на двадцать минут в час.
От слова до слова он делал промежутки, в которые мы успевали поговорить друг с другом a part, а между двумя фразами мы отыскивали номер в гостинице, умывались и, приведя себя в порядок, спускались к обеду.
Плетясь сзади за нами, он задерживал всю процессию, потому что, подняв для шага ногу, погружался в раздумье: стоит ли вообще ставить ее на тротуар? И только убедившись, что это неизбежно, со вздохом опускал ногу; в это время ее подруга уже висела в воздухе, слабо колеблясь от весеннего ветерка и вызывая у обладателя тяжелое сомнение: хорошо ли будет, если и эта нога опустится на тротуар?
Кто бывал в Париже, тот знает, что такое – движение толпы на главных бульварах. Это – вихрь, стремительный водопад, воды которого бурно несутся по ущелью, составленному из двух рядов громадных домов, несутся, чтобы потом разлиться в речки, ручейки и озера на более второстепенных улицах, переулках и площадях.
И вот, если бы кто-нибудь хотел найти в этом бешеном потоке Сандерса – ему было бы очень легко это сделать: стоило только влезть на любую крышу и посмотреть вниз… Потому что среди бешеного потока людей маячила только одна неподвижная точка – голова задумавшегося Сандерса, подобно торчащему из воды камню, вокруг которого еще больше бурлит и пенится сердитая стремнина.
Однажды я сказал ему с упреком:
– Знаете что? Вы даже ходите и работаете из-за лени.
– Как?
– Потому что вам лень лежать.
Он задумчиво возразил:
– Это пара…
Я побежал к себе в номер, взял папиросу и, вернувшись, заметил, что не опоздал:
– …докс, – закончил он.
Сандерс – человек небольшого роста, с сонными голубыми глазами и такими большими усами, что Крысаков однажды сказал:
– Вы знаете, когда Сандерс разговаривает, когда он цедит свои словечки, то часть их застревает у него в усах, а ночью, когда Сандерс спит, эти слова постепенно выбираются из чащи и вылетают. Когда я спал с ним в одной комнате, мне часто приходилось наблюдать, как вылетают эти застрявшие в усах слова.
Сандерс промямлил:
– Я брежу. Очень про…
– Ну, ладно, ладно… сто? Да? Вы, хотели сказать: «просто»? После договорите. Пойдем.
При его медлительности у него есть одна чрезвычайная страсть: спорить.
Для того, чтобы доказать свою правоту в споре на тему, что от царь-колокола до царь-пушки не триста, а восемьсот шагов, он способен взять свой чемоданчик, уложиться и, ни слова никому не говоря, поехать в Москву. Если он вернется ночью, то, не смущаясь этим, пойдет к давно забывшему этот спор оппоненту, разбудит его и торжествующе сообщит:
– А что? Кто был прав?
Таков Сандерс. Забыл сказать: его большие голубые глаза прикрываются громадными веками, которые непоседливый Крысаков называет шторами:
– Ну, господа! Нечего ему дрыхнуть! Давайте подымем ему шторы – пусть посмотрит в окошечки. Интересно, где у него шнурочек от этих штор. Вероятно, в ухе. За ухо дернешь – шторы и взовьются кверху.
Крысаков очень дружен с Сандерсом. Иногда остановит посреди улицы задумчивого Сандерса, снимет ему котелок и, не стесняясь прохожих, благоговейно поцелует в начинающее лысеть темя.
– Зачем? – хладнокровно осведомится Сандерс.
– Инженер вы. Люблю я чивой-то инженеров…
Четвертый из нашей шумливой, громоздкой компании – я.
Из всех четырех лучший характер у меня. Я не так бесшабашен, как Крысаков, не особенно рассудителен и сух, чем иногда грешит Мифасов; делаю все быстро, энергично, выгодно отличаясь этим свойством от Сандерса. При всем том, при наших спорах и столкновениях – в словах моих столько логики, а в голосе столько убедительности, что всякий сразу чувствует, какой он жалкий, негодный, бесталанный дурак, ввязавшись со мной в спор.
Я не теряю пуговицы, как Крысаков, не даю авторитетных справок о Кунигунде и ее дубе, не еду в Москву из-за всякого пустяка… Но при случае буду веселиться и плясать, как Крысаков, буду в обращении обворожителен, как Мифасов, буду методичен и аккуратен, как Сандерс.
Я не писал бы о себе всего этого, если бы все это не было единогласно признано моими друзьями и знакомыми.
Даже мать моя – и та говорит, что никогда она не встречала человека лучше меня…
Будет справедливым, если я скажу несколько слов и о слуге Мите – этом замечательном слуге.
Мите уже девятнадцать лет, но он до сих пор не может управлять как следует своими телодвижениями.
Обыкновенная походка его напоминает грохот обвалившегося шкапа со стеклянной посудой. Желая пошевелить руками, он приводит их в такое бешеное движение, что оно грозит опасностью прежде всего самому Мите. Рассчитывая перешагнуть одну ступеньку лестницы, он, неожиданно для себя, взлетает на самый верх площадки; однажды при мне он, желая чинно поклониться знакомому, так мотнул головой, что зубы его лязгнули и шапка сама слетела, описав эффектный полукруг. Митя бросился к шапке таким стремительным прыжком, что перескочил через нее, обернулся, опять бросился на нее, перескочил, и только в третий раз она далась ему в руки. Вероятно, если человека заставить носить до двадцати лет свинцовые башмаки, а потом снять их, – он также будет перехватывать в своих телодвижениях и прыжках.
Почему это происходит с Митей – неизвестно.
О своей наружности он мнения очень определенного. Стоит ему только увидеть какое-нибудь зеркало, как он подходит к нему и на несколько минут застывает в немом восхищении. Его неприхотливая натура выносит даже созерцание самого себя в крышку от коробки с ваксой или в донышко подстаканника. Он кивает себе дружески головой, подмигивает, и рот его распускается в такую широчайшую улыбку, что углы губ сходятся где-то на затылке.
У Крысакова и у меня установилась такая система обращения с ним: при встрече – обязательно выбранить, упрекнуть или распечь неизвестно за что.
Качества этой системы строго проверены, потому что Митя всегда в чем-нибудь виноват.
Иногда, еще будучи у себя в кабинете, я слышу приближающийся стук, грохот и топот. Вваливается Митя, зацепившись одним дюжим плечом за дверь, другим за шкап.
Он не попадался мне на глаза дня три, и я не знаю за ним никакой вины; тем не менее, подымаю глаза и строго говорю:
– Ты что же это, а? Ты смотри у меня!
– Извините, Аркадий Тимофеевич.
– «Извините»… я тебя так извиню, что ты своих не узнаешь. Я не допущу этого безобразия!!! Я научу тебя! Молодой мальчишка, а ведет себя черт знает как! Если еще один раз я узнаю…
– Больше не буду! Я немножко.
– Что немножко?
– Да выпил тут с Егором. И откуда вы все узнаете?
– Я, братец, все знаю. Ты у меня узнаешь, как пьянствовать! От меня, брат, не скроешься.
У Крысакова манера обращения с Митей еще более простая. Встретив его в передней, он сердито кричит одно слово:
– Опять?!!
– Простите, Алексей Александрович, не буду больше. Мы ведь не на деньги играли, а на спички.
– Я тебе покажу спички! Ишь ты, картежник выискался.
Митя никогда не оставляет своего хозяина в затруднении: на всякий самый необоснованный окрик и угрозу – он сейчас же подставляет готовую вину.
Кроме карт и вина, слабость Мити – женщины. Если не ошибаюсь, система ухаживать у него пассивная – он начинает хныкать, стонать и плакать, пока терпение его возлюбленной не лопнет, и она не подарит его своей благосклонностью.
Однажды желание отличиться перед любимой женщиной толкнуло его на рискованный шаг.
Он явился ко мне в кабинет, положил на стол какую-то бумажку и сказал:
– Стихи принесли.
– Кто принес?
– Молодой человек.
– Какой он собою?
– Красивый такой блондин, высокий… Говорит, «очень хорошие стихи»!
– Ладно, – согласился я, разворачивая стихи. – Ему лучше знать. Посмотрим.
Вы, Лукерья Николаевна,
Выглядите очень славно.
Ваши щеки, как малина,
Я люблю вас, очень сильно —
Вот стихи на память вам,
Досвиданица, мадам.
– Когда он придет еще раз, скажи ему, Митя: «досвиданьица, мадам». Ступай.
На другой день, войдя в переднюю, я увидел Митю.
Машинально я закричал сердито обычное:
– Ты что же это, а? Как ты смел?
– Что, Аркадий Тимофеевич?
– «Что»?! Будто не знаешь?!
– Больше не буду. Я думал, может, сгодятся для журнала. Я еще одно написал и больше не буду.
– Что написал?
– Да одни еще стишки.
И широкая виноватая улыбка перерезала его лицо на две половины.
Когда мы объявили ему, что он едет с нами за границу – радости его не было пределов.
– Только вот что, – серьезно сказал Крысаков. – Отвечай мне… Ты наш слуга?
– Слуга.
– И должен исполнять все то, что тебе прикажут?
– Да-с.
– Так вот – я приказываю тебе изучить до отъезда немецкий язык. Через неделю мы едем. Ступай!
Сейчас же Крысаков и забыл об этом распоряжении. Но Митя за день перед отъездом явился к нам и сказал:
– Готово.
– Что готово?
– Немецкий язык.
– Какой?
– Коммензи мейн либер фрейлен, их либези, данке, зицен-зи, гиб мир эйн кусс.
– Все?
– Все.
– Проваливай.
Думал ли Митя, что за границей его постигнет такая страшная, никем не предугаданная судьба.
2
Краткое описание Европы. – Статистические данные. – Флора. – Фауна. – Климат. – Мои беседы с путешественниками
Начиная описание нашего путешествия, я полагаю, будет нелишне дать краткий обзор места наших будущих подвигов…
Европа лежит между 36-й и 71-й параллелями Северного полушария. Мы собственными глазами видели это.
Берега Европы омывают два океана сразу: Северный Ледовитый и Атлантический. Не знаю, как омывает Европу Ледовитый океан, но Атлантический – особой тщательностью в возложенной на него работе не отличается – грязи на берегу сколько угодно.
Относительно общей фигуры Европы во всех учебниках географии говорится одно и то же:
«Фигура Европы не представляет никакой правильности… Но если срезать три самых больших полуострова – Скандинавию, Бретань и Ютландию, то окажется, что форма материка – прямоугольный треугольник».
Это очень наглядно. Можно то же сказать при описании фигуры жирафы: «если срезать у нее шею и ноги, то получится обыкновенный прямоугольный треугольник».
Конечно, если вздорное самолюбие европейцев завлечет их так далеко, что из желания жить в прямоугольном треугольнике они отрежут от материка упомянутые полуострова – я готов признать на будущее время эту форму типичной для Европы.
Пока же об этом говорить преждевременно…
Народонаселение Европы достигает 400 миллионов людей.
Здесь нелишне будет привести (кажется, это всегда делается в подобных случаях) несколько наглядных статистических данных.
1) Если бы все народонаселение Европы поставить друг на друга, то высота этой пирамиды была бы свыше 300 000 верст. Мы знаем, что от Москвы до Петрограда 600 верст, следовательно, все народонаселение Европы уложилось бы 500 раз, немного менее ста раз на версту.
2) Если у каждого европейца выдернуть из головы только по одному волоску, то количество собранных волос, посаженных в землю, займет пространство величиной в 4½ акра. Чтобы скосить этот «урожай», потребуется работа 2 7/8 косарей в течение 9 суток!
3) Наиболее наглядным является такой статистический пример: если бы кто-нибудь захотел лично познакомиться со всем народонаселением Европы, то, считая полторы секунды на каждое рукопожатие, этому человеку пришлось бы затратить на знакомство (считая восьмичасовой рабочий день) около 600 лет. Средняя продолжительность человеческой жизни 68 лет, т. е., другими словами, для этого опыта потребовалось бы 8,9 человека. Во что бы превратились правые руки этих тружеников?
Откуда же взялось такое количество людей?
Детские учебники географии отвечают на этот вопрос довольно точно:
«Потому что Европа лежит в умеренном климате, способствующем наибольшему развитию и напряжению человеческих способностей».
Всю эту ораву в 400 миллионов человек приходится одевать и кормить. Отсюда выросла промышленность и сельское хозяйство.
Промышленность распределяется так: в России – главным образом добывающая, за границей – обрабатывающая. Я до сих пор не могу забыть, как хозяин римского отеля обсчитал меня на 60 лир, добытых в России.
Фауна Европы очень бедна: в городах – собаки, лошади, автомобили; за городом – гуси, коровы, автомобили. В одной России до сих пор водятся медведи, и то вожаками, на цепи.
Флора Европы богаче – растет почти все, от апельсин и морошки до процентов на банковские ссуды. Особое внимание уделяется винограду, потому что всякая страна гордится каким-нибудь вином, кроме Англии, которая никаких вин не имеет. Оттого-то, вероятно с горя, англичане такие горькие пьяницы.
Первенство в отношении вин надо, конечно, отдать Франции. Оттого-то во Франции и пьют так много.
Впрочем, немцы качеством своих вин не уступают французам, и поэтому пьянство немцев вошло в пословицу.
В России виноделие стоит на очень низкой ступени. Поэтому ли или по другой причине, но встречаешь трезвого русского чрезвычайно редко.
Справедливо будет упомянуть еще об испанцах. Отношение их к вину таково, что даже свои лучшие города они прозвали «Хересом» и «Малагой». Не думаю, чтоб кто-нибудь из испанцев отважился на это в трезвом виде. В этом отношении португальцы гораздо скромнее: хотя и поглощают свой портвейн и мадеру в неимоверном количестве, но города носят приличные названия: Опорто, Мадейра и т. д.
В том же учебнике географии, автор которого безуспешно пытался срезать все европейские полуострова, сказано:
«В Америке, где пьют довольно много, трезвость европейцев вошла в пословицу».
Климат Европы разнообразный: есть много европейцев, которые с трудом излечивались от солнечного удара для того, чтобы через шесть месяцев замерзнуть самым неизлечимым образом. Ученые связывают климат Европы с какими-то воздушными течениями, то холодными, то теплыми. К сожалению, холодные течения появляются всегда зимой, а теплые летом, что никого устроить и утешить не может.
Площадь, занимаемая Европой, равняется 9 миллионам верст, т. е. на каждую квадратную версту приходится 44½ человека. Таким образом в Европе абсолютно невозможно заблудиться в безлюдном месте. Скорее есть риск быть зарезанным этими 44½ людьми, с целью получить лишний клочок свободной земли.
Начиная описание нашего путешествия, я должен оговориться, что нам удалось объехать лишь небольшую часть 9 миллионов верст и увидеть только ничтожный процент 400 миллионов народонаселения. Но это неважно. Если самоубийца хочет определить сорт дерева, на котором ему предстоит повеситься, он не будет изучать каждый листок в отдельности.
Перед отъездом я попытался собрать кое-какие справки о тех странах, которые нам предстояло проезжать.
Мои попытки ни к чему не привели, хотя я и беседовал с людьми, уже бывавшими за границей.
Я пробовал подробно расспрашивать их, выпытывать, тянул из них клещами каждое слово, думая, что человек, побывавший за границей, сразу должен ошеломить меня целым каскадом метких наблюдений, оригинальных характеристик и тонких штришков, которые дали бы мне самое полное представление о «загранице».
Пробовали вы беседовать с таким, обычного сорта, путешественником?
Вы. Ну, расскажите же, милый, рассказывайте поскорее – как там и что, за границей?
Он (холодно). Да что ж… Ничего. Очень мило.
Вы. Ну, как вообще, там… люди, жизнь?
Он. Да, жизнь ничего себе. В некоторых местах хорошая, в некоторых плохая. В Париже трудно через улицу переходить. Задавят. А то – ничего.
Вы. Ага! Так, так!.. Ну, а Эйфелеву башню… видели? Какое впечатление?
Он. Большая. Длинная такая, предлинная. Я еще и в Италии был.
Вы. Ну, что в Италии?!! Расскажите!!!
Он (зевая). Да так как-то… Дожди. А в общем, ничего.
Вы. Колизей видели?
Он. Ко… Колизей? Позвольте… гм… Сдается мне, что видел. Да, пожалуй, видел я и Колизей.
Вы. Ну, а что произвело там на вас, в Италии, самое яркое впечатление?
Он. Улицы там какие-то странные…
Вы. Чем же странные…
Он. Да так какие-то… То широкие, то узкие… Вообще, знаете, Италия!
Вы (обрадовавшись. Лихорадочно). Ага! Что Италия?! Что Италия!
Он. Гостиницы скверные, рестораны. Альберго, по-ихнему. Ну, впрочем, есть и хорошие…
Попробуйте беседовать с этим бревном час, два часа – ничего он вам путного не скажет. Вытянете вы из него клещами, с помощью хитрости, неожиданных уловок и ошеломляющих вопросов, только то, что в Германии хорошее пиво, что горы в Швейцарии «очень большие, чрезвычайно большие», что «Вена веселый город, а Берлин скучный город», что в Венеции его поразило обилие каналов, такое обилие, которого ему нигде не приходилось встречать…
Да пожалуй еще, если он расщедрится, то сообщит вам, что Париж – это город моды, роскоши и кокоток, а в Испании в гостиницах двери не запираются.
И потом внезапно замолчит, как граммофон, в механизм которого сунули зонтик…
Или начнет такой путешественник нести отчаянный вздор. Долго плачется на то, что, будучи в Страсбурге, целый день разыскивал прославленный Кельнский собор, а никакого Кельнского собора и нет… Куда он девался – неизвестно.
У некоторых путешественников есть другая манера – все отрицать, всякое установившееся мнение, сложившуюся репутацию – переворачивать кверху ногами…
Вы. Говорят, итальянки очень красивы?
Он. Чепуха! Не верьте. Толстые, неуклюжие и – удивительно – почему-то на одну ногу прихрамывают. Одни разговоры о прославленной красоте итальянок!Ошибочно думать, что этот глупец изучил итальянских женщин со всех сторон, во всех деталях. Просто был он в Риме два дня, все это время проторчал в грязном кабачке на окраине, и прислуживала ему одна-единственная итальянка, толстая, неуклюжая, прихрамывающая на одну ногу.
Вы. А в Испании, небось, жарко?
Он. Вздор! Дожди вечно жарят такие, что ужас. Без непромокаемого пальто не показывайся. (Два часа. От поезда до поезда – случайно шел дождь.)
Вы. А француженки – очень интересны?
Он. Ну, что вы! Накрашены, потерты и при первом же знакомстве папироску клянчат.
Вышеизложенные характеристики посторонних путешественников приведены для того, чтобы подчеркнуть: а сатириконцы (и Митя) не такие, а сатириконцы (и Митя) будут вдумчиво, внимательно и своеобразно подходить к укладу заграничной жизни и постараются осветить в ней такие стороны, что все раскроют удивленно глаза и ахнут.
Германия вообще
Один немец спросил меня:
– Нравится вам наша Германия?
– О, да, – сказал я.
– Чем же?
– Я видел у вас, в телеграфной конторе, около окошечка телеграфиста сбоку маленький выступ с желобками; в эти желобки кладут на минутку свои сигары те лица, которые подают телеграммы и руки которых заняты. При этом над каждым желобком стоят цифры – 1, 2, 3, 4, 5 – чтобы владелец сигары не перепутал ее с чужой сигарой.
– Только-то? – сухо спросил мой собеседник. – Это все то, что нравится?
– Только.
Он обиделся.
Но я был искренен: никак не мог придумать – чем еще Германия могла мне понравиться.
Немцы чистоплотны, – но англичане еще чистоплотнее.
Немцы вежливы [38] – но итальянцы гораздо вежливее.
Немцы веселы – французы, однако, веселее.
Немцы милосердны [39] – нет народа милосерднее русских – в частности, славян – вообще.
Немцы честны [40] – но кто же может поставить это кому-нибудь в заслугу? Это пассивное качество, а не активное.
Ни один огурец не сделал в течение своей жизни ни одной подлости или мошенничества; следовательно, огурец следует назвать честным? Отнюдь. Честность его просто следствие недостатка воображения.
Большинство немцев честны по той же причине – по недостатку воображения.
Не то хорошо, что немцы честны, а то плохо, что все остальные народы, исключая французов и англичан, отъявленные мошенники.
Когда в России встречаешься с французской или английской честностью – это производит крайне выгодное впечатление.
Однажды в Харькове я зашел в английский магазин купить шляпу.
– Сколько стоит эта шляпа? – спросил я.
– Десять рублей, – сказал хозяин.
– Хорошо, заверните. Вот вам 25 рублей – позвольте сдачу.
– Пожалуйста.
– Позвольте!.. Мне нужно сдачи 15 рублей, а вы даете 18. Вы ошиблись в мою пользу.
– Нет, не ошибся. Дело в том, что шляпа стоит всего 7 рублей, и я не могу взять за нее больше…
– А почему же вы сказали раньше – 10.
– Я думал, вы будете торговаться – русские всегда торгуются. Я бы и сбросил 3 рубля. Но раз вы не торгуетесь – не могу же я взять за нее больше…
Вот я рассказал этот эпизод. Но если бы русские купцы не были такими мошенниками – мне и в голову бы не пришло восхищаться поступком иностранца-шляпника.
* * *
Немецкая аккуратность, немецкая методичность – это все выводит настоящего русского из себя.
В Берлине мы зашли однажды в какой-то музей военных трофеев.
Подошли в первой зале к монументальному сторожу и спросили:
– А где тут знамена?
Он оглядел нас и стал со вкусом медленно чеканить:
– Знамена есть налево; знамена есть направо; знамена есть впереди; знамена есть в нижнем этаже; знамена есть в верхнем этаже; знамена есть в среднем этаже. Какие именно знамена хотели бы вы видеть?
В одной немецкой гостинице я наблюдал следующий факт: какой-то человек постучал в дверь первого номера и сказал:
– Очень прошу извинения – не здесь ли находится в гостях господин Шульц; он мне нужен по одному мануфактурному делу.
После этого он постучал во второй номер:
– Очень прошу извинения – не здесь ли находится в гостях господин Шульц; он мне нужен по одному мануфактурному делу. Я уже спрашивал в первом номере – его нет.
То же самое он повторил в третьем, четвертом и пятом номерах. В шестом уже добавлял: я искал господина Шульца в первом номере, я искал господина Шульца во втором номере, в третьем и в четвертом, я искал господина Шульца также в пятом – его там не было. Нет ли у вас господина Шульца, необходимого мне по мануфактурному делу?
У нас в России после этого монолога открылась бы дверь третьего или четвертого номера и сапог полетел бы в голову незадачливого мануфактурщика.
А в немецкой гостинице голоса отвечали из-за дверей:
– Я очень сожалею, но у меня в пятом номере нет в гостях господина Шульца, необходимого вам по мануфактурному делу; но нет ли господина Шульца в номере шестом?
Все немецкие двери украшены надписями: «выход», будто кто-нибудь без этой надписи воспользуется дверью, как машинкой для раздавливания орехов, или, уцепившись за дверную ручку, будет кататься взад и вперед. Надписи, украшающие стены уборных в немецких вагонах, – это целая литература: «просят нажать кнопку», «просят бросать сюда ненужную бумагу», под стаканом надпись «стакан», под графином «графин», «благоволите повернуть ручку», в «эту пепельницу покорнейше просят бросать окурки сигар, а также других табачных изделий».
Одним словом, всюду – битте-дритте, как говорил Крысаков.
Существует и немецкая любовь к изящному: в Берлине большинство автомобилей раскрашено разноцветными розочками; всякая вещь, которая поддается позолоте, – золотится; не поддается позолоте – ее украсят розочкой…
Наряд немецкой женщины – это целая симфония. На голове зеленая шляпа с желтым пером и красной розочкой. Юбка голубая, обшита внизу оранжевыми полосками. Только кофточка отличается скромным фиолетовым цветом, но одета она так, что грудь делается плоской, а спина пузырится, как волдырь на обваренном месте; башмаки хотя из грубой кожи, но зато большие; чулки прекрасной верблюжьей шерсти.
Из этих элементов составляется вся немецкая женщина, из женщин – толпа на главных улицах, толпа дает физиономию всему Берлину, а Берлин – Германии.
Немецкий мужчина – это вторая сторона вышеописанной физиономии. Средний немецкий мужчина не имеет ни страданий, ни сомнений, ни очень возвышенных, ни очень низменных чувств.
Он любит прежде всего себя, за то, что никогда не доставлял сам себе ненужных страданий; потом семью, потому что дети не огорчают его, а жена не изменяет, по недостатку темперамента или поклонников; наконец, любит родину, потому что она заботится о нем, пишет на каждых дверях «выход» и устраивает удобные перенумерованные желобки для сигар у телеграфных окошечек.
Он спокоен за себя, за семью и за родину.
Спокойствие дает ему возможность веселиться, и он действительно каждый день веселится, но не утром или днем – когда нужно устраивать свое благосостояние, – а вечером.
Как он веселится?
За столом в любимой пивной собирается каждый день одна и та же компания: Фриц Штумпе, Яков Миллер, Иоганн Миткраут и Адольф Гроссшток.
Целый вечер взрывы хохота несутся со стороны стола, занятого веселыми собутыльниками.
– Эге, – думает зритель в отдалении, – наверное, что-нибудь забавное рассказывают. Прислушаюсь-ка…
Прислушивается…
– Герр Штумпе! Отчего вы сегодня молчите? Не бьет ли вас ваша жена?
Взрыв гомерического хохота следует за этими словами.
– Ох, – говорит Иоганн Миткраут, задыхаясь от смеха. – Вечно этот Миллер придумает какую-нибудь штуку. А? «Не бьет ли», говорит, «вас ваша жена?» Ха-ха-ха!
– Хо-хо-хо!
Всеобщий восторг пьянит толстую голову Миллера; надо сказать что-нибудь еще, чтобы закрепить за собой славу присяжного весельчака и юмориста.
– Герр Штумпе! Говорят, что вы уже целый год не носите ваших сбережений в ваш банк?
– Почему? – недоумевает простоватый Штумпе.
– Потому что весь ваш бюджет уходит на покупку ваших зонтиков, которые ломает о вашу спину ваша жена.
Будто скала обрушилась – такой хохот потрясает стены пивной.
– Хо-хо-хо! – стонет басом изнемогающий Гроссшток.
– Хи-хи-хи, – октавой выше заливается, нагнув к столу голову, совершенно измученный Миткраут.
– Хе-хе-хе!
– Хо-хо-хо!!
– Э, – думает Штумпе, – дай-ка и я что-нибудь отмочу. Тоже когда-то острили не хуже.
– Вы, герр Миллер, кажется, купили вашего нового мопса? – спрашивает Штумпе, обводя компанию взглядом, который ясно говорит: «слушайте, слушайте! Сейчас я выкину штуку еще позабористее».
– Да, герр Штумпе. Не хотите ли вы на нем покататься верхом? – подмигивает неистощимый Миллер, вызывая долгий хохот.
– Нет, герр Миллер. Но теперь нам опасно прийти в ваш дом есть ваш обед.
– Почему? – хором спрашивают все, затаив дыхание.
– Потому что вы можете угостить нас вашими сосисками из вашего мопса.
– Хо-хо-хо!!!
– Хи-хи!
– Хо-хо. Кххх… Рррр. Однако этот Штумпе тоже с язычком! Хо-хо… Так как вы говорите? «Колбаса из мопса?» Ну, и чудак же! Вам бы попробовать написать что-нибудь в «Lustige Blatter»…
Так они веселятся до двух часов ночи. Потом каждый платит за себя и все мирно возвращаются под теплое крылышко жены.
– Сегодня мы прямо помирали от хохоту, – говорит длинный Гроссшток, накрываясь периной и почесывая живот. – Этот чудила Штумпе такую штуку выкинул! «Накорми-ка нас, говорит, герр Миллер, собачьими колбасами». Все со смеху полопались.
Человек за бортом
Сейчас я буду писать о том, что наполовину испортило наше путешествие, о том, что повергло нас в чрезвычайное уныние и благодаря чему мы потеряли человека, который доставлял нам немало хороших веселых минут.
Одним словом – я расскажу об инциденте с Митей.
Митя, пожив несколько дней в Берлине, начал уже приобретать некоторый навык в языке и стал понемногу отставать от неряшливой привычки путать: «бутер» и «брудер», «шинкен» и «тринкен».
Уже лицо его приняло выражение некоторого превосходства над нами, а разговор – тон легкого снисхождения к нашим словам и шуткам.
Уже он, отправляясь куда-нибудь с Крысаковым и надев яркий галстук и старую панаму, пытался изредка принимать вид барина, путешествующего со слугой, так как шел он впереди, заложив руки в карманы и насвистывая марш, в то время как безропотный Крысаков, неся в одной руке ящик с красками, в другой – фотографический аппарат, скромно плелся сзади.
Мы не могли налюбоваться на него, когда он, проходя по Фридрихштрассе, бросал влюбленный взгляд на свое отражение, затем задевал плечом пробегавшую мимо горничную с покупками и говорил густым, как из пустой бочки, голосом:
– Пардон!
Горничная испуганно оглядывалась, а он пускал ей вслед самый лучший излюбленный прием своего несложного донжуанства:
– Гиб мир эйн кусс.
И все-таки то, что случилось с Митей, было для нас совсем неожиданно. Постараюсь восстановить весь инцидент в полном объеме, как он выяснился потом из расспросов, справок и сопоставлений.
Прошло уже несколько дней после нашего приезда в Берлин.
Так как ясные дни были для нас очень дороги, то мы, выбрав одно туманное, дождливое утро, решили посвятить его Вертгейму. Кто из бывших в Берлине не знает этого колоссального сарая, этого апофеоза немецкой промышленности, этого живого памятника берлинской дешевизны, удобства и безвкусицы?
– Митя! – сказали мы, поднявшись в башмачное отделение. – Этот магазин очень велик, и тут легко заблудиться и потеряться. Ты парень, может быть, и неглупый, да только не на немецкой почве. Поэтому сядь вот тут за столиком в ресторанном отделении, попроси стакан чаю и жди нас.
– Слушаю-с, – сказал он, смотря в потолок. – Ой-ой, как тут высоко…
– Митя! – строго крикнул Крысаков. – Опять?!
– Что, Алексей Александрыч?
– «Что»… Будто я не знаю. Я тебя насквозь вижу!
– Простите… И откуда вы все знаете? Я всего только одну кружечку выпью. Мюнхенского. Чаю не хочется. Удивительно – только подумаешь, а вы уже знаете.
– Ну, ладно. Только одну кружечку, не больше.
Мы оставили его за столиком, ушли в бельевое отделение – и больше его не видели. Вернулись, нашли столик пустым, обегали все этажи, но так как у Вертгейма миллион закоулков – пришлось махнуть на поиски рукой, надеясь на то, что каким-нибудь образом добрался Митя до нашей гостиницы и ждет нас в номере.
Увы! Его не было там; он не пришел и вечером; не пришел на другой день. Мы заявили полиции, сделали публикацию в трех берлинских газетах – о Мите не было ни слуху, ни духу. А на третий день нам уже нужно было ехать дальше, в Дрезден. Мы оставили консулу некоторые распоряжения, немного денег и, полные мрачных предчувствий и грусти – уехали. Что же делал Митя?
Оставшись один, он выпил кружку пива, потом еще одну, и еще; мир показался ему светлым, радостным, а люди добрыми и благожелательными.
– Пока мои хозяева вернутся – пойду-ка я полюбуюсь на магазин. Я думаю, они не рассердятся.
Он нацарапал карандашом на мраморном столике (мы не заметили тогда этой надписи):
«Немножко я погуляю пока звините скоро завернусь пейте хорош, пиво Саветую. Прият, опетита. Ваш слу. Митя».
После этого Митя принялся бродить по галереям, спускаясь с каких-то лестниц, подымаясь куда-то на лифте и заглядывая во все закоулки.
Не прошло и получаса, как Митя должен был убедиться, что он заблудился. Он искал ресторан – ресторан как в воду канул.
Он остановил какого-то покупателя, с целью спросить, где ресторан, но тут же вспомнил, что не знает, как по-немецки ресторан…
Хмель выскочил из головы, и Митя почувствовал, что тонет.
У него было два выхода: или найти нас, или отправиться в гостиницу; но второе было неисполнимо – он не знал названия гостиницы.
Всему виной было его неуместное франтовство. Предусмотрительный Крысаков по приезде в Берлин заставил Сандерса изготовить следующий плакат на немецком языке для ношения на груди:
«Добрые туземцы! То, на чем навешен этот плакат, принадлежит нам, четырем чужестранцам, и называется слугой Митей. Если он потеряется – доставьте этого человека Отель Бангоф, № 26. Просят обращаться ласково; от жестокого обращения хиреет».
Плакат был составлен очень мило, наглядно, но, как я сказал выше, в Митю вселился бес франтовства: он категорически отказался от вывешивания на груди плаката.
– Почему же? – увещевал его Крысаков. – Хочешь, мы сделаем приписку, как в скверах: «волос не рвать, на велосипедах по нем не ездить».
Митя отказался – и теперь жестоко платился за это.
Долго бродил он, усталый, измученный, по разным лестницам и отделениям. Теперь он желал только одного: найти выход на улицу.
Но это было не так-то легко. Митя, шатаясь от усталости, ходил между чуждыми ему людьми, наполнявшими магазин, и призрак голодной смерти рисовался ему в чужом городе, в громадном магазине, среди чужих, не понимавших его людей.
Один раз он остановил покупательницу и попытался навести справки о выходе:
– Мейн герр! Битте цаллен. Их либе зи.
Нищенский запас немецких слов, имевшийся в его распоряжении, связывал его мысль; и весь разговор его, волей-неволей, должен был вращаться в сфере ресторанных или сердечных представлений.
Дама изумленно посмотрела на растрепанного Митю, пробормотала что-то и нырнула в толпу.
– Гм… – печально подумал Митя. – Не понимает.
Он обратился к господину:
– Где выход, а? Такой, знаете? Дверь, дверь! Понимаете?
– Was?
– Я говорю, выход. Гиб мир эйн кусс. Битте цаллен. Цузамен.
Господин задрожал от страха и убежал.
Бродил Митя так до вечера; покупатели стали редеть, зажглись огни… Мучимый голодом Митя заметил около одной покупательницы на стуле коробку конфет; потихоньку стащил ее, забрался в укромный уголок чемоданного отделения, съел добычу – и сон сморил его.
Только утром нашли его; он спал, положив под голову пустую раздавленную коробку из-под конфет, и на лице его были видны следы ночных слез. Бедный Митя…
Вот что последовало за этим: сердобольные продавщицы накормили его, одна из них поговорила с ним по-русски, выяснила положение, но так как нашего адреса Митя не знал, то дальнейший путь его жизни резко разошелся с нашим.
Мы уехали в Дрезден, а Митя, поддержанный вертгеймовскими продавщицами, которые были очарованы его простодушным немецким разговором и веселостью нрава, Митя открыл торговлю: стал продавать газеты, спички и букетики цветов – одним словом, все то, сбыт чего не требовал знания тонкостей немецкого диалекта.
Только на обратном пути в Россию отыскали мы через вертгеймовских продавщиц нашего Митю; он сначала встретил нас презрительно, потом обрушился на нас с упреками, а в конце концов расплакался и признался, что хотя богатство и прельщает его, но родину он не забывает и, вернувшись, сделает для нее все, что может.
Тироль
Инсбрук. – Пернатые. – Тяжелый разговор. – О немецком остроумии. – Теория приливов и отливов. – Сандерс болен. – Еще одна теория. – В Штейнах. – Зловещее место. – Ссора с Крысаковым. – Отъезд в Фаркартен
Инсбрук – столица Тироля. Правильнее, Инсбрук – мировая столица скуки, самодовольно-мелкого прозябания, сытости и сентиментальной тирольской глупости.
Приехав в Инсбрук, мы первым долгом на вокзале наткнулись на существо, которое во всяком нормальном здравомыслящем русском должно было вызвать смешанное чувство изумления и веселья.
Это был краснощекий, туполицый, голоногий тиролец, с ног до головы убранный разноцветными лентами и утыканный перьями, точно петух, которого кухарка начала ощипывать и, не окончив, побежала в мелочную лавочку за бутылкой прованского масла.
Голова этого дюжего парня была украшена какой-то бумажной короной, а за ушами торчали два пучка цветов.
Он что-то мурлыкал и приплясывал.
– Если бы не перья, – сказал Крысаков, – я мог бы предположить, что это человек.
– Больше того, – поддержал Мифасов. – Это похоже на девушку. Смотрите, сколько на ней лент.
В это время откуда-то вынырнул еще десяток людей, разукрашенных подобным же странным образом.
– Боже ты мой! Вероятно, где-нибудь поблизости лопнул сумасшедший дом и содержимое его вытекло на потеху мальчишек и на страх взрослым.
Но сейчас же мы заметили, что странная компания не только не пугала аборигенов, но даже не останавливала на себе ничьего мимолетного внимания. Взрослые тирольцы, тирольки и маленькие тирольчата проходили мимо не оглядываясь, и только некоторые раскланивались с предводителем группы.
– Сандерс, – сказал Крысаков, – узнай, что с ними случилось? Не надо ли им чего?
Если судить о немецком языке по Сандерсову разговору – можно вывести заключение, что нет на свете языка длиннее, сложнее и утомительнее.
Сандерсу нужно было сказать только две фразы: «Кто вы такие? Почему так странно одеты?»
Он подошел к предводителю тирольцев из семейства ленточных, понурился и пробормотал что-то.
Тиролец ему ответил. Сандерс покачал головой с безнадежным видом и сказал такую длинную фразу, что два поезда успели уйти и один подкатил к вокзалу. Тиролец хлопнул себя по бедрам, прищелкнул пальцами и стал что-то объяснять, перепрыгивая с ноги на ногу. Объяснения тирольца не могли вырвать Сандерса из бездны уныния, угнетенности и сомнения. Он собрался с духом и размотал с невидимой катушки такую длинную фразу, что тиролец начал линять. Он потерял два пера с короны и одно с плеча, и, не заметив убытка, высказал Сандерсу такое количество слов, что в них должно было заключаться географическое описание Тироля, характеристика нравов народонаселения и перечисление главнейших видов флоры и фауны. Утешило ли это Сандерса? Разъяснило ли ему что-нибудь? Нет! Он потрогал зеленую пуговицу на толстом животе тирольца и вытянул из себя длинную, как осенняя ночь, фразу.
И только получив обоснованный ответ на это, отошел он от тирольца, переваливаясь, как объевшаяся утка.
– Ну?! – спросил нетерпеливый Крысаков.
– Обыкновенные тирольцы. Ферейн. Возвращаются после воскресной экскурсии.
– Скрытный народец, – подмигнул Крысаков. – Трудненько было вам вытянуть у этого оболтуса столь краткие сведения.
– Нет, ничего, – пожал плечами Сандерс. – Я только спросил, кто они такие, а он ответил…
– Тошнит меня от этих тирольцев, – признался Крысаков. – Чистенькие, куцые, кругозор ограничен горами и собственным недомыслием, благонравно ухаживают за тирольками и благонравно женятся. Здесь не бывает сцен ревности, убийств, измен и сильных душевных движений, как в сторону благородства, так и в сторону подлости. Шесть дней благонравно трудятся, седьмой день благонравно пляшут в какой-нибудь таверне. Кстати, как неимоверно сладок и противен их дефрегер! Брр! Самодовольно пляшут и самодовольно острят. Вы знаете, что такое ихние остроты? Вообще немецкое остроумие! В Берлине один господин с гордостью говорил, что немецкие дети не чета нашим. Они смелы, находчивы, сообразительны и в ответах не смущаются, а отвечают метко и остроумно. Мы сделали даже опыт… Встретили какого-то известного своей находчивостью знакомого господину школьника и вступили с ним в беседу. «Что ты любишь больше всего на свете?» – «Свою прекрасную родину». – «Неужели? А я думал, что больше всего тебе должно нравиться заехать в ухо мальчишке, который обидел бы тебя!» – «О нет. Вступать в драку стыдно. Лучше сообщить о нехорошем поступке мальчика его родителям, которые скажут ему, что он их огорчил, и ему станет стыдно». – «Та-ак… И, наверное, по воскресеньям вы собираетесь в школе и поете духовные псалмы?» – «О, да. Это лучший наш отдых в свободное время». – «Видите, – сказал мне господин, когда мы отошли. – Преострый мальчуган. За словом в карман не лезет». – «Может быть, может быть». И тут только я заметил, что мой господин тоже немецкий дуралей. Кстати о немцах. Меня томит жажда. Не выпить ли нам пива?
В этих случаях инициатива всегда принадлежала Крысакову. И удивительно, что мы – поднимавшие бесконечные споры по поводу выбора номера в гостинице или места в вагоне – в этом случае никогда не возражали и не спорили.
– Вы хотите выпить? Пойдем.
– А вы разве не хотите?
Все мы сразу делались чрезвычайно предупредительны к Крысакову, оставляя в забвении собственное желание и настроение.
– При чем тут мы? Раз вы хотите – пойдем.
– Да мне неудобно, что вы из-за меня идете.
– Ну, вот глупости. Отчего вам и не доставить удовольствия.
Иногда от меня исходило предложение «кой-чего перекусить». И в этом случае – наша дружба разыгрывалась в полном блеске.
– Отчего же вы не обедали вместе с нами?
– Я тогда не хотел, а теперь хочу.
– Эх, ну что с вами делать. Придется пойти с вами.
– Вы можете посидеть. Я скоро закушу.
– Да чего там… Вы не спешите. Я тоже чего-нибудь глотну.
Покорные желанию Крысакова, мы уселись, и нам подали четыре кружки прекрасного пенистого пива. Крысаков отхлебнул и благодушно сказал:
– Не люблю я, чивой-то, Тироля. Отчего у них, братцы, колени голые? Что это за обычай?
После недолгого раздумья я нерешительно сказал:
– Я думаю – это в целях сохранения тирольской нравственности…
– При чем тут нравственность?
– А как же? Местность у них гористая, мужчины же при объяснении девицам в любви обязательно становятся на колени.
– Ну?!
– Ну, а в гористой местности на голые колени не очень-то встанешь…
– Это вздор! Нет ничего нелепее ваших теорий.
– А у вас никаких теорий и вообще-то нет.
– Вы думаете? А моя теория причины приливов и отливов? Это не мысль, а молния!
– Воображаю!
– Вы знаете, господа? По-моему – на земном шаре не хватает воды. Все дело в том, что два противоположных берега океана можно сравнить с головой и ногами спящего человека, прикрытого коротким одеялом – океаном. Теперь: если натянуть короткое одеяло на голову, обнажаются ноги, натянуть на ноги – обнажается голова. Так и океан – если тут прилив, там должен быть отлив. Понятно?
– Садитесь! Два!
– Не два, а четыре.
– Идея. Кельнер! Еще четыре кружки.
– Я не хочу пива, – неожиданно сказал Сандерс, глядя на нас помутневшими глазами. – Мне нездоровится.
Мы засуетились, а больше всех Крысаков:
– Ну, вот! Говорил я, что вам не нужно было есть яиц утром.
– Да при чем тут яйца?
Крысаков не медик, но у него своя стройная система распознания болезней и лечения их; кроме того, у него собственное, ни у кого не заимствованное представление о человеческом организме.
– Как при чем яйца? У вас еще вчера была немного повышена температура. Крутые яйца при повышении температуры являются бродильным ферментом и, давя на печень, производят отлив крови от сердца.
– Вот-то чепуха.
Крысаков рассвирепел:
– «Чепуха»? Сначала не слушаете меня, а потом – чепуха?! Говорил я вчера, чтобы вы взяли холодную ванну? Говорил?
– Говорили.
– Ну, вот. А вы не взяли. У меня, батенька, отец доктор.
– Наверное, прекрасный доктор, – вежливо поддержал я. – Я думаю, тысяча его бывших больных возносят на том свете за него молитвы.
– Сандерс! Сейчас же в постель! Мы поднимемся на фуникулере на гору, посидим с полчасика и потом займемся вами.
Опечаленные, поднимались мы по головоломной дороге в хрупком вагончике на вершину горы.
Крысаков рассеянно смотрел на зеленеющий скат, сбегавший к серебряной реке, и несколько раз бормотал про себя:
– Да, несомненно… Типичный брюшной тиф. Без впрыскивания кокаина не обойтись. Гм… Ножные ванны.
Его красивое лицо с орлиным носом было сумрачно.
Чтобы отвлечь его от печальных мыслей, я спросил:
– Интересно, какой силой этот вагончик поднимается в гору.
– Очень просто, – пожал плечами Мифасов. – Один вагончик ползет вверх, другой вниз. Тот, который ползет вниз, подымает своей тяжестью первый, то есть идущий вверх.
– Я не техник, – возразил я, – но здравый смысл подсказывает, что это не так. По твоей теории выходит, что вагон, ползущий вниз, должен быть всегда в несколько раз тяжелее ползущего вверх.
– Он и тяжелее.
– А как же тогда следующая очередь, когда тяжелый должен ползти вверх, а легкий вниз?
– Очевидно, перекладывают какую-нибудь тяжесть.
– Как же перекладывать, когда вагончики ни разу не сходятся вместе внизу или вверху.
– Ну, это уже дело техники. Я говорю только то, что знаю наверное.
– А я думаю, что тяга электрическая…
– Что?!! Ха-ха! Ну и скажет же, ей-богу.
Немного спустя выяснилось, что тяга, действительно, электрическая.
– Ну что? – безжалостно спросил я Мифасова. – Кто был прав?
– Что? Ну, милый мой – мне, вообще, ни тепло ни холодно, какая там тяга. Вообще, не приставай ко мне.
Через час Сандерс с термометром под мышкой сидел, окруженный нами, и говорил:
– Ну, ребятки, плохо мне. Ужасно не хотелось бы умереть в Тироле.
Сердца наши разрывались от тоски и жалости.
– Подумайте, господа, – сказал я. – Четыре иностранца, сыны бедной России, заброшены судьбой в далекую тирольскую дыру. И вот один умирает… Как раз тот самый, который хоть и не спеша, но разговаривал по-немецки. Остаемся мы… Трое… Надо его хоронить, обычаев мы не знаем, положение отчаянное. Идем в лесок, срубаем дерево, выдалбливаем гробик и кладем туда Сандерса… И вот тирольцы видят странную, щемящую душу процессию. Три весельчака, понурив головы, в черных шапках, плетутся за гробом четвертого, влекомого равнодушной ко всему тирольской лошадью…. Это сатириконцы хоронят своего товарища… Опустили гроб в могилу… «Прощай, товарищ! Недолго ты прожил среди нас… Спи спокойно…»
Крысаков всхлипнул, Мифасов сделал вид, что рассеянно глядит в окно; он махнул перед лицом рукой, будто сгоняя с него назойливую муху. Было тихо… Только слышалось тяжелое дыхание Сандерса.
– Да… вернемся мы втроем… Первый раз втроем! Придем в свои комнаты. У стены сиротливо лежит чемоданчик Сандерса. Он ему уже не нужен! «А что, господа, – скажет тихо Крысаков, – ведь в этом чемоданчике лежат деньжонки, которые Сандерсу уже не нужны. Не поделиться ли нам? Жаль, что он такого маленького роста, а то бы можно было и одежонкой его воспользоваться…»
– Я бы пива выпил, – неожиданно сказал больной.
Поднялась буря протестов.
Решили сделать так: мы с Мифасовым уезжаем немедленно прямо в Штейнах, до которого час езды, а Крысаков остается с больным в Инсбруке.
– Я его вылечу! – сурово обещал Крысаков.
– Он на меня все время кричит, – пожаловался больной. – В Дрездене чуть не поколотил меня…
– Как же вас не бить? Представьте себе, господа, я ему говорю: у вас ангина, вам нужно есть для очищения горла орехи, а он не хочет.
С тяжелым сердцем уехали мы с Мифасовым, оставив за своей спиной эту странную пару.
Крупный дождь… ветер гнул деревья, шумел, метался и выл в тесных горах. У подножия одной из них приютился Штейнах.
До сих пор мы все не можем выяснить, почему, по каким соображениям дремлющий Сандерс включил Штейнах в наш маршрут. После громадного, чудовищного Берлина, веселого красивого Мюнхена – эта таинственная дыра с вымершим населением в несколько десятков человек – показалась нам тюрьмой, тем более, что горы со всех сторон окружили ее, стеснили ее, сдавили ее.
Помню крохотный вокзал, у которого поезд приостановился на одну минуту, помню черный, как вакса, вечер, мокрую от дождя землю и абсолютное страшное безмолвие.
Мы выползли со своими чемоданами, постояли минут пять и наконец в ужасе завыли:
– Треге-е-ер!!
– Здесь нет трегеров, – ответил нам откуда-то с неба неизвестно чей голос.
– О, черт возьми! Изво-о-озчик!!
– Здесь нет извозчиков, – ответил тот же беспощадный голос с неба.
– Швейцар из гостиницы!!
– Швейцаров нет.
– Дайте нам какого-нибудь человека.
И прозвучало похоронное:
– Здесь нет людей.
– Да вы-то кто? Не человек?
– Я начальник здешней станции.
– Где вы?
– Наверху. Во втором этаже.
– Посоветуйте, как нам найти гостиницу?
– Идите прямо.
– Да тут забор!
– Идите влево.
– Тут тоже забор!
Проклятый начальник станции неожиданно замолчал, будто ему заткнули платком рот.
– Эй, вы-ы! Как вас!! Тут забо-о-ры!
Дождь обливал нас сверху, грязь хлюпала внизу под ногами… Молча взвалили мы на плечи чемоданы, перелезли через забор и наткнулись на какую-то дверь.
– Это что?
– Гостиница.
Так мы приехали в Штейнах. Приезд был невеселый, житье наше печальное и отъезд угрюмый.
Все мы ко дню отъезда перессорились в самых разнообразных комбинациях: Крысаков с Сандерсом, я с Сандерсом, Сандерс с Мифасовым.
Вообще, должен признаться, к стыду нашему, что ссорились мы частенько. При этом ссора кого-нибудь из нас с товарищем вызывала необычайное повышение симпатии в поссорившемся – к остальным. Другими словами, если X разрывал отношение с Y, то к Z он относился настолько повышенно нежнее, насколько это чувство расходовалось раньше на Y.
Ничто в мире не пропадает, и ничто вновь не появляется.
Самая тяжелая ссора случилась в Берлине, когда Крысаков оказался на одной стороне, а мы трое – на другой.
Впечатлительный Крысаков выносил такое положение вещей только сутки… На другое утро он взял свой незакрывающийся чемодан, ящик с красками и, скорбно понурившись, сказал Мите (единственному, с кем отношения были хороши):
– Митя! Проведи меня до вокзала… Я уезжаю. Что уж там… Пожили! Эх, эх…
Я не выдержал:
– Вы с ума сошли! Куда вы уезжаете?
Он опустился на чемодан и, ни на кого не глядя, под журчание Митиных слез сказал:
– Уеду… Что ж, и без меня проживете. Не бойтесь, я поездку не бросаю… Только эти четыре дня, что вы проживете в Берлине, – я посижу в том благословенном местечке, которое приглядел еще давеча.
– Какое местечко! Что вы задумали?!
– Такое… Я думаю, там будет тихо… Ни криков, ни попреков. Посижу там один. Может, когда меня не будет, вы поймете.
– Ну, слушайте, это черт знает что! Какое там вы местечко выбрали, не зная языка, с вашим «битте-дритте»? Мы вас не пустим!
– Нет уж, что уж там. Митенька, бери чемодан. Тебе не тяжело, милый Митя… дорогой Митечка?
По принятому обыкновению, вся любовь и приязнь изливалась теперь на единственного человека, который был с ним в хороших отношениях, – на Митю.
– Извини меня, Митенька, что я тебя затрудняю… Может быть, мне самому лучше понести чемодан, а ты, Митя, отдохни.
Вокзал был в двух шагах, и поэтому берлинцы могли любоваться диковинной, нелепой процессией: впереди шагал плачущий, растроганный слуга с чемоданом, сзади барин с видом погребальной лошади, нагруженный ящиком для красок, а сбоку бежали три друга, умоляя непреклонного Крысакова одуматься, уговаривая и успокаивая его.
– Нет уж… не уговаривайте. Уеду… Не поминайте лихом!
– Ну, куда? куда вы едете? В какое местечко?
– Сейчас узнаете.
Он подошел к билетному окошечку и грустно сказал кассиру:
– Битте-дритте, эйн билет! В Фаркартен!
– Куда? – ахнули мы.
– В Фаркартен. Это, вероятно, такое местечко под Берлином. Я тут на доске прочел. С указательным пальцем. Туда и поеду. Уж вы не удерживайте. Раз я облюбовал.
– Вы знаете, что такое фаркартен? – зловеще спросил Сандерс.
– А что? Может быть, очень болотистое место?
– Нет. Фаркартен значит – «дорожные билеты».
– Митечка! – сказал Крысаков, помолчав: – Бери-ка, тащи назад чемодан. Битте-дритте!
Мы подхватили его под руки и с заискивающим смехом повлекли обратно.
К сожалению, впоследствии частенько случалось, что у каждого из нас поочередно мутился разум, и он, забыв дружбу, «собирался в Фаркартен»…
Заканчивая эту главу, искренно хочу крикнуть:
– Да здравствует дружба! Долой проклятый Фар-картен!
Венеция
1
Город лени и музыки. – Cartolina postale. – Способ Крысакова. – Способ Мифасова. – Способ Сандерса. – Демократия и аристократия. – Пир с нищенкой. – Сандерс втягивается в лихорадку. – Лечение
Мы в Венеции.
Если бы какой-нибудь гениальный писатель обладал таким совершенным пером, что дал бы читателю, не видевшему Венеции, настоящее о ней представление, – такой писатель принес бы много несчастья и тоски читателям. Потому что узнать, что такое Венеция, и не увидеть ее, это сделаться навеки отравленным, до самой смерти неудовлетворенным.
Когда я приехал в Венецию, я подумал:
«Ведь миллионы людей живут и умирают, не видя Венеции. Если бы они знали то, чего они лишены, жизнь их потеряла бы краски, и тоска по далекой невыразимой красоте иссушила бы сердце».
Я пишу эти строки в холодном угрюмом Петрограде, но стоит мне только закрыть глаза, как я до последних мелочей вижу Венецию. Она врезалась в память неизгладимо, я по ней тоскую и мечтаю, как о далекой прекрасной любовнице, свидание с которой сделает меня снова счастливым.
Я закрываю глаза…
Мягкий густой вечерний воздух, нежащий, как прикосновение, невыразимая истома во всем теле; хочется встать в гондоле и закричать от полноты настоящего наслаждения и счастья. Но не встаешь… Наоборот, развалившись на уютных подушках, погружаешься в блаженную неподвижность и всем телом, всеми органами, всеми порами впитываешь в себя ленивый, теплый, сладкий воздух, сладкую песню, лениво доносящуюся издалека, и молчишь, молчишь… Черная густая вода тихо журчит за гондолой, нежно плещет весло ленивого парня на корме и таинственно молчат сбежавшиеся к воде старые-престарые дома, среди которых скользит тихая лениво-проворная гондола. Узенький канал кончился… Над головой мелькнул еще видимый изгиб мостика – и мы выносимся на широкий canale grande. Здесь широкое, пышное небо черным бархатом разметалось над нами и застыло, усеянное редкими сверкающими осколками-звездами. И внизу плещется черная теплая, слепая вода, и плывет далеко по каналу нежная, сладострастная серенада оттуда, где целый сноп огней, фонариков собрал полчища гондол, как свеча собирает мотыльков. Какие-то фигуры мелькают на огненном фоне и изредка песню прорезает смех и веселый говор.
Замерла посреди канала большая, изукрашенная фонариками, барка. На ней море огня, а все остальное зачернено ночью. Десятки гондол сползлись к огню, окружили его и, притихшие, почти невидимые, колышутся. Изредка багровый свет на барке выхватит из темноты резной нос гондолы, блеснет на металле и погаснет.
Тихо колышутся гондолы; сладко нежит песня; все необычно; рядом с нашей гондолой трется о ее борт чужая, за ней еще одна, а остальные тонут, невидимые… Боже мой, как хорошо! Пусть все это искусственное, пусть барка принадлежит корыстолюбивому антрепренеру, а у певцов, наверно, грязные руки, а какие-то подозрительные молодцы с ухватками кошек или разбойников ползают по бортам ваших гондол, собирая за пение сольди и лиры…
Все равно, не убить им этой Божьей красоты, пышного теплого неба и теплой воды, которая, как добрая нянька-колыбель – качает нашу гондолу. Пусть певцы нахальны и жадны, а немцы, самодовольно развалившиеся на подушках гондол, скупы до омерзения. Я все же нашел красоту, и ее у меня не отнять – я крепко прижал ее к моему сердцу. Боже, как далеко от меня Россия, Петроград, холод, грабежи, грязные участки, глупые октябристы, мой журнал, корректуры, цензурный комитет и немолчный телефон!..
Поют… Тихо постукивают гондолы боками одна о другую. Качаются.
Хорошо, когда усталого баюкают.
А утром другая – томительно-сладкая жизнь; зазвучит все по-другому… засверкает ослепительное солнце, четко вырежется на голубом небе кружево белых дворцов и легких мостиков, зазвучит музыкальная брань гондольеров, польется с неба золотой зной, и замелькают всюду живые, проворные, как обезьяны, и ленивые, как черепахи, итальянцы, наполняя жгучий воздух немолчным жужжаньем.
Ах, эти итальянцы… Над ними можно смеяться, но не любить их нельзя.
Уличная толпа сплошь состоит из беспардонных лгунов, мелких мошенников и попрошаек, но это такая веселая живая толпа, плутовство их так по-дикарски примитивно и неопасно, что не сердишься, а только добродушно смеешься и отмахиваешься!
– Cartolina postale.
– No, signore.
– Cartolina postale!!
– No, no!
– Cartolina postale!!
– He надо, тебе говорят!!
– Русски! Ошень кароши cartolina… Molto bene.
– Русски, а? Купаться! Шеловек! Берешь cartolina postale?
– Убирайся к черту! Алевузан, пока тебе не попало.
– Господин, купаться, а? – заискивающе лепечет этот разбойничьего вида детина, стараясь прельстить вас бессмысленными русскими словами, Бог весть когда и где перехваченными у проезжих forestieri russo.
Я сначала недоумевал – чем живут эти люди, от которых все отворачиваются, товар которых находится в полном презрении и его никто не покупает?
Но скоро нашел; именно тогда, когда этот парень шел за мной несколько улиц, переходил мостики, дожидался меня у дверей магазинов, ресторана и, в конце концов, заставил купить эти намозолившие глаза венецианские открытки.
– Ну, черт с тобой, – сердито сказал я. – Грабь меня!
– О, руссо… очень карашо! Крапь.
– Именно – грабь и провались в преисподнюю. Ведь ты, братец, мошенник?
– Купаться, – подтвердил он, подмигивая.
Замечательно, что венецианцы знают одно только это русское слово и употребляют его в самых разнообразных случаях.
У Крысакова, по обыкновению, своя манера обращаться с этими надоедливыми комарами.
Он мерно шагает, не обращая ни малейшего внимания на приставания грязнорукого, темнолицего молодца, нагруженного пачками открыток и альбомов. Тот распинается, немолчно выхваляет свой товар, забегает спереди и сбоку, заглядывает Крысакову в лицо – Крысаков с каменным, сонным лицом шагает, как автомат. И вдруг, среди этой болтовни и упрашиваний Крысаков неожиданно оборачивается к преследователю, раскрывает сомкнутый рот и издает неожиданно такой пронзительный нечеловеческий крик, что итальянец в смертельном ужасе, как бомба, отлетает шагов на двадцать. У Крысакова опять спокойное каменное лицо, и он равнодушно продолжает свой путь.
Мифасов, наоборот, враг таких эксцентричностей. Разговор его с этими паразитами – образец логики и внушительности.
– Cartolina postale! – в десятый раз ревет продавец.
– Милый мой, – оборачивается к нему Мифасов. – Ведь мы уже тебе сказали, что нам не надо твоих открыток, зачем же ты пристаешь? Когда нам будет нужно, мы сами купим, а пока – настойчивость твоя останется без всякого результата.
У каждого свой характер. Сандерс и здесь остается Сандерсом.
– Carrrrrtolina postale!!!
Сандерс останавливается и начинает аккуратно пересматривать все открытки. Он берет каждую и медленно подносит ее к близоруким глазам. Пять, десять, двадцать минут…
– Нет, брат. Плохие открыточки.
Умирающий от скуки итальянец рад, наконец, когда эта пытка кончается, хватает забракованные открытки и удирает в какую-нибудь щель, чтобы прийти в себя и собраться с духом.
Когда мы подъезжали к Германии, Крысаков лаконично сказал:
– Тут пьют пиво.
И мы, покорные обычаям приютившей нас страны, принялись поглощать в неимоверном количестве этот национальный напиток.
В Венеции, едва мы переоделись после дороги и спустились на еще не остывшую от дневного зноя пьяцетту, Крысаков потянул носом воздух и сказал:
– Жареным пахнет. Вы спросите, что здесь пьют? Вино. Кьянти.
И началось царство кьянти. Добросовестность наша в этом случае стояла вне сомнений. Мы решились есть и пить во всякой стране только то, чем эта страна славится.
Поэтому в Германии выработался свой шаблон.
– Четыре кружки пива, бульон «мит ай», шницель и братвурст мит краут.
К этому заказу Крысаков неизменно прибавлял единственную немецкую фразу, которую он сам сочинил и которой оперировал в самых разнообразных случаях:
– Битте-дритте.
Он был ошеломляющим среди скучных немцев, со своим сияющим лицом, костюмом, осунувшимся от отсутствия пуговиц, чемоданом, распухшим, как дохлый слон, внутри которого скопились газы, и неизменным припевом ко всем нашим распоряжениям:
– Битте-дритте.
Ехал он в Европу с самым независимым видом, обещая поддержать нас в смысле языка, но в Германии ему не пришлось этого сделать, так как он знал только французский язык, в Италии его французского языка итальянцы не понимали, а во Франции французы вполне присоединились в этом смысле к итальянцам.
Так он и остался со своим загадочным:
– Битте-дритте.
Начиная с Венеции, мы разбились на две резкие группы: Мифасов и Сандерс – благомыслящая, умеренная группа, я с Крысаковым – бесшабашная разгульная пара, неприхотливая и небрезгливая до последней степени. Мы якшались с подонками населения, пили ужасное грошовое вино, ели каких-то пауков, каракатиц и разных морских чудовищ, пожирали червяков, похожих на макароны, и макароны, очень смахивавшие на червяков, а Мифасов и Сандерс, обедая в приличных дорогих ресторанах, лишь изредка ходили за нами, наблюдая издали за нашими поступками.
Однажды мы затащили их в такую остерию, что Мифасов, прежде чем сесть на скамью, покрыл ее осторожно газетой.
– Ну, ребятки, – оскалил зубы Крысаков. – Покушаем, ха-ха, покушаем… Женщина! Синьора хозяйка! Дайте нам вон этих штучек и этих… Эту рыбку зажарьте да макарон закатите посмешнее. Да кьянти не забудьте, лучшее, что есть в вашем погребе.
Нам подали стряпню, о которой лучше не говорить, и вино, о котором нужно сказать только то, что хотя бутылка и была покрыта паутиной, но, вероятно, в этом погребе паук содержался на определенном жалованье – так все было нехорошо сделано.
– А вы что же, милые? – радушно обратился Крысаков к Мифасову и Сандерсу. – Кушайте, угощайтесь.
– Я сыт, – осторожно сказал Мифасов, – и, кроме того, сейчас иду в ресторан.
Бедному Сандерсу очень хотелось заслужить наше расположение; он принял молодецкий вид, наложил себе на тарелку немного кушанья и, осмотрев его, спросил:
– Это что? Рыба или мясо?
– Бог его знает. Среднее между рыбой и мясом. Земноводное. Во всяком случае, оно уже умерло, и вы его не жалейте.
Наши друзья смотрели на нас с отвращением, мы на них с презрением…
Утолили голод прекрасно, хотя на тарелке осталась целая гора макарон; в остерию зашла нищенка, увидела, что мы оставили недоеденным лакомое блюдо, и попросила разрешения докончить его.
Мы радушно усадили ее между застывшим Мифасовым и Крысаковым, налили ей винца, чокнулись и выпили за благополучие красавицы Венеции.
Без хвастовства могу сказать, что мы двое чувствовали себя вполне в своей тарелке, отличаясь этим от макарон, быстро перешедших с тарелки в желудок нашей соседки.
– Что, миленькие мои, – язвительно спросил Крысаков, когда мы вышли. – Вы ведь привыкли «спускаться к обеду, когда ударит гонг»? Здесь это проще: трахнет один гость другого бутылкой по голове – вот тебе и гонг. Можешь обедать с чехлом от чемодана на плечах вместо смокинга…
Сандерс и Мифасов нас презирали, не скрываясь – это было ясно.
– Вы заболеете от такой пищи! – предупредил Сандерс.
Он угадал: на другой день я был болен легкой лихорадкой, но, к несчастью, заболел и Сандерс, который питался «по гонгу». Этим блестяще опровергалась его теория.
И опять Крысаков трогательно, как сестра милосердия, ухаживал за нами. Сочинял нам разные лекарства, натирал нас вином и коньяком, отделяя для себя известный процент этих медикаментов в виде гонорара; совал нам под мышку термометры, вскакивал ночью и, встревоженный, прибегал к нам, чтобы пробудить нас от крепкого сна; мне рекомендовал холодную ванну, а Сандерсу горячую, хотя симптомы были у нас совершенно одинаковые…
2 Купанье на Лидо. – «Русским языком я тебе говорю!» – Гондолы. – Паразиты. – Собор Св. Марка. – Перепроизводство дожей. – Школа Св. Маргариты. – Снова и снова Сандерс болен. – Как мы купалисьЧерез два дня Крысаков нашел нас совершенно здоровыми и повез на Лидо купаться.
И опять на долгое время погрузился я в состояние тихого восторга. Небо, какого нет нигде, вода, которой нет нигде, и берег, которого нет нигде.
Милые, милые итальянцы!.. Они не стыдливы и просты, как первые люди в раю. И удивительно, как сатириконцы быстро ко всему приспосабливаются: едва мы разделись и натянули на себя «трусики» величиной в носовой платок – как сразу почувствовали себя маленькими детьми, которых нянька полощет в ванне. Похлопывая себя по груди и бокам, ринулись мы на песок, не стесняясь присутствием дам, зарылись в него, выскочили, огласили воздух победным криком и обрушились в воду, подняв такое волнение, что, вероятно, не одно судно, паруса которых мелькали вдали, перевернулось и пошло ко дну.
Мужчины и дамы, полоскавшиеся около, смотрели на нас с некоторым удивлением. Эта обуглившаяся от солнца публика долго любовалась на наши белые, как молоко, северные тела, причем один из ротозеев соболезнующе сказал:
– Это недолго. Через три дня почернеете.
– О, милые! – возразил Крысаков. – Мы пожираем таких же пауков и спрутов, каких пожираете вы, пьем ваше кьянти, готовы петь и плясать по-вашему целый день, разделись голые, как вы сейчас, не стесняясь дам, – почему же нам и не сделаться такими же черными, как вы?
Мы упали животами на песок и, надвинув на затылки панамы, подставили свои плечи и ноги под жгучий каскад горячего, как кипяток, солнца.
Крысаков, впрочем, нашел в себе силы доползти до Сандерса, приподнять его панаму и нежно поцеловать в темя.
– Зачем? – лениво спросил Сандерс.
– Инженер. Люблю инженеров.
И мы погрузились в нирвану.
Когда мы одевались, я услышал в соседней кабинке странный диалог.
Незнакомый сиплый голос говорил:
– Русским языком я тебе говорю или нет: принеси мне лампадочку вермутцу позабористее.
Голос слуги при кабинках – старого, выжженного солнцем итальянца-старика в матроске (я его видел раньше) отвечал:
– Нон каписко.
– Не каписко! Чертова голова! Не каписко, а вермут. Ну? Русским языком я тебе, кажется, говорю: вермут принеси, понимаешь? винца!
– Нон каписко.
– Да ты с ума сошел? Кажется, русским языком я тебе говорю… и т. д.
– Слушайте! – крикнул я. – Вы русский?
– Да, конечно! Кажется, русским языком говоришь этому ослу…
– На них это не действует… Скажите ему по-итальянски…
– Да я не умею.
– Как-нибудь… «прего, синьоре камерьере, дате мио гляччио вермуто…» Только ударение на «у» ставьте. А то не поймет.
– Ага! Мерси. Эй ты, смейся паяччио! Дате мио, как говорится, вермуто. Да живо!
– Субито, синьоре, – обрадовался итальянец.
– То-то, брат. Морген фри.
Мы оделись, уселись на пароход и покатили в Венецию, свежие, безоблачно радостные, голодные, как волки зимой.
Это были прекрасные дни. Долгими часами бродили мы по закоулкам среди старых величавых дворцов, любуясь небом, прислушиваясь к мрачной тишине узеньких каналов, которую редко-редко когда нарушит тяжело нагруженная кирпичом или овощами лодка. В лодке – итальянец и, конечно, он спит, прикрыв шляпой бронзовое лицо и щедро подставляя под солнце бронзовые руки и ноги…
По всей Венеции разлит сладкий яд невыразимой лени и медлительности… Уличного шума нет, потому что нет грохота экипажей и криков извозчиков. А венецианские гондольеры, в большинстве случаев, молчаливы и сосредоточенны. Жизнь – вечный медленный праздник. Публика шагает не спеша, останавливаясь на каждом шагу, гондолы ползут лениво, потому что спешить некуда и пассажир все равно дремлет, изредка поднимая отяжелевшие от истомы веки и скользя ленивым взглядом по облупившимся фасадам примолкших дворцов и покосившимся причалам, которые зыбкой линией отражаются в черной воде уснувшего канала…
На пьяццете, у берега большого канала, жизнь шумнее. Здесь десятки черных гондол мерно качают своими благородными, прекрасной формы носами, а лодочники, как стая разбойников, притаившись, стерегут проходящего форестьера, растерянного и сбитого с толку необычностью всего окружающего.
Стоит только показаться иностранцу, как поднимается неимоверный крик десятков хриплых глоток:
– Гондола, гондола, гондола!
Выйдя из гостиницы (тут же на пьяццете), я подхожу к берегу и делаю знак. С радостным воем гондольер прыгает в гондолу и, как птица, подлетает ко мне. Сейчас же откуда-то из-за угла дома вылетают: 1) здоровенный парень, роль которого – подсадить меня, поддержав двумя пальцами под локоть; 2) другой здоровенный парень, по профессии придерживатель гондолы у берега какой-то палочкой, – хотя гондола и сама знает, как вести себя в этом случае; 3) нищий – по профессии пожелатель доброго пути; и 4) мальчишка-зритель, который вместе с остальными тремя потребует у вас сольди за то, что вы привлекли этой церемонией его внимание.
Я сажусь; поднимается радостный вой, маханье шапками и пожелания счастья, будто бы я уезжаю в Африку охотиться на слонов, а не в ресторанчик через две улицы.
При этом все изнемогают от работы: парень, который подсаживал меня двумя пальцами, утирает пот с лица, охает и, тяжело дыша, придерживает рукой готовое разорваться сердце; парень, уцепившийся тоненькой палочкой за борт гондолы, стонет от натуги, кряхтит и всем своим видом показывает, что если в Италии и существуют каторжные работы, то только здесь, в этом месте; нищий желает вам таких благ и рассыпается в таких изысканных комплиментах, что не дать ему – преступно; а ротозей-мальчишка вдруг бросается в самую средину этого каторжного труда и немедленно принимает в нем деятельное участие: поддерживает под локоть того парня, который поддерживал меня.
Если вдумаешься в происшествие, то только всего и случилось, что я сел в лодку… Но сколько потрачено энергии, слов, споров, советов и пожеланий. Четыре руки с четырьмя шляпами протягиваются ко мне, и четверо тружеников, получив деньги, дают клятвенное уверение, что теперь, после моего благородного поступка, обо мне позаботятся и святая Мария, и Петр, и Варфоломей!
Я говорю гондольеру адрес, мы отчаливаем, тихо скользим по густой воде и, после получасовой езды, подплываем к самому ресторану. Кто-то на берегу приветствует меня радостными кликами. Кто это? Ба! Уже знакомые мне: придерживатель гондолы, подсаживатель под руку, пожелатель счастья и мальчишка поддерживатель поддерживателя под руку.
Они объясняют мне, что слышали сказанный мною гондольеру адрес и почли долгом прийти сюда, чтобы не оставить доброго синьора в безвыходном положении. Опять кипит работа: один придерживает гондолу, другой суетливо призывает благословение на мою голову, третий меня придерживает под руку, а четвертый поддерживает третьего.
Милая, голодная, веселая, мелко-жульническая и бесконечно-красивая даже в этом жульничестве Италия!
Нас обманывали на каждом шагу, но так мелко, так дешево, что мы только посмеивались.
У собора Св. Марка целая туча гидов. Показывают собор, показывают могилу какого-то знаменитого дожа, настолько знаменитого, что потом в каждой церкви нам показывали могилу, где лежали настоящие, подлинные останки этого удивительного дожа.
Однажды я не вытерпел и спросил:
– Вы говорите, что это настоящая могила, в которой лежит настоящее, подлинное тело дожа Марка X?
– Си, сеньоре, только у нас!
– Странно… я до вас был в семи церквах и в каждой мне показывали настоящее трупохранилище Марка X.
– Они вам показывали? – презрительно возразил проводник. – Хотел бы я посмотреть ихнего дожа! Воображаю… Вероятно, что-нибудь курам на смех. Туда же… лезут со своими дожами. У нас, синьор, такой дож Марко X похоронен, что пальчики оближете.
У меня осталось смутное впечатление, что в прежние времена трупы знаменитых дожей заготовлялись оптовым способом на одной из немецких фабрик и потом рассылались во все церкви, чтобы никому не было обидно…
Когда мы осмотрели собор Св. Марка, гид, показывавший нам собор, опустил голову, отошел поодаль и задумался: «Что бы еще такое показать?»
Вспомнил. Показал то место, где Барбаросса стоял перед папой на коленях. Место было самое обыкновенное. Задумался. Вспомнил. Показал то место, где сидел папа.
– Ну, довольно, – сказали мы. – Все!
– Нет! – остановился гид.
Задумался. Вспомнил. Показал то место, на котором Барбаросса не стоял. Мы внимательно осмотрели указанное место. Понравилось.
– Я сейчас вам покажу мраморную колонну, отнятую у турок.
– Не надо, – сухо сказали мы.
– Покажу то место, где стояли кардиналы, когда Барбаросса…
– Не надо!
Он призадумался.
– Хотите, может быть, красивую синьору? Очень скромная, молодая, а?
– Пойди к черту!
– Открыток не надо ли? Вот хорошие есть. Эй, Джузеппе! Иди сюда, вот господам нужно открытки.
– К дьяволу! Ничего нам не нужно.
– Ага! Я знаю, что вам показать… Хотите видеть школу Святой Елизаветы?
– Это интересно, – сказал Крысаков, обращаясь к нам. – Мне очень хотелось бы видеть, как у них поставлено учение… Ведите!
Мы последовали за гидом.
Он привел нас в какое-то помещение, одна часть которого была занята венецианским стеклом, а другая – несколькими десятками рабочих, копавшихся над какими-то мраморными статуэтками и мозаикой.
– Вот, – сказал гид, подмигивая хозяину, – эти господа хотят что-нибудь купить.
– Это что такое? – сурово спросил Мифасов.
– Школа Святой Елизаветы!
– Это такая же школа, как ты честный человек. Ах ты, мошенник! Какая это школа?! Разве такие школы бывают?
– Я не понял синьоров, – сказал гид, сверкая зубами… – Школу желаете? Пожалуйте, я проведу вас в школу. Школу Святой Маргариты! Синьоры останутся довольны.
Он повел нас, треща, как попугай, приплясывая и беспрестанно оборачиваясь…
Привел… Среди десятка манекенов сидели и плели кружева несколько прехорошеньких девушек.
– Вот, – сказал гид. – Настоящие венецианские кружева.
Меня удивило, что никто из нас не рассердился.
Наоборот, все подошли к красавицам и с захватывающим интересом стали следить за их работой.
Крысаков настолько заинтересовался проворством маленьких ручек, что взял одну из них и поцеловал.
– Нет, – сказал гид. – Я только хотел предложить вам купить кружева.
В другом углу Сандерс внимательно рассматривал плетенье, остановив работу самым примитивным способом: взял обе руки работницы в свои.
– Мифасов! – печально сказал я. – Только мы с тобой и отличаемся суровой нравственностью и закаленным сердцем.
– Да, да… Послушай… Тебе не нужен тот цветочек, что торчит в твоей петлице? Дай мне. Я приколю его к груди той, вон, высокой, черной…
– Боже, – подумал я с отвращением. – Эти люди, как тигры, набросились на беззащитных девушек…
Глубокое чувство сожаления охватило меня. Я нежно-покровительственно обвил талию ближайшей работницы и шепнул:
– Не бойтесь! Я не подпущу их к вам.
– Пойдем, синьоры, – сказал гид, лицо которого вытянулось. – Я вижу, что вы ничего не купите…
Действительно, мы вышли из «школы Маргариты», не купив даже аршина кружев.
– Все-таки, – задумчиво сказал Крысаков, – у них школьное дело обставлено недурно.
Когда наступил назначенный заранее день нашего отъезда из Венеции, мы с Сандерсом снова заболели.
Поезд уходил в пять часов вечера, и мы аккуратно пролежали до 4½ часов вечера.
– Теперь уже на поезд не успеешь? – осторожно спросил Сандерс.
– Нет. Пока соберемся, пока гондола доползет…
– Ну, значит, можно вставать. Господи! Какое счастье еще один денек пожить в Венеции!
Мы вскочили, оделись и пошли бродить.
На другой день печаль разрывала наши сердца – нужно было уезжать.
Мы обошли все уголки, простились с Венецией, но… случилась непредвиденная вещь: в три часа дня заболел Мифасов.
– Плохо мне что-то, – сказал он. – Знаю, что нынче обязательно нужно ехать, но не могу встать.
– Гм… Ну, ты полежи, а мы поедем на Лидо купаться. Все равно уж, раз остались…
– И я с вами…
– С ума вы сошли! Смотрите-ка! У него лихорадка, а он – купаться!
Укутали Мифасова, пошли завтракать, побродили по переулкам и поехали на Лидо.
Разделись, легли на песок. Вдруг Крысаков поднялся на локтях и, глядя в воду, неуверенно сказал:
– Гм! Если бы Мифасов сейчас не лежал в Венеции в жестокой лихорадке, я бы подумал, что это он!
– А, это вы братцы, – пролепетал Мифасов, сконфуженно потирая тощую грудь. – А мне сделалось этого, знаете… как его? лучше! Да, сделалось лучше – я и приехал.
Признаться ли? Все мы втайне были благодарны за его ловкий прием. Пожить еще один день в Венеции! Этот Мифасов всегда придумает что-нибудь остроумное.
И в последний раз вошли мы в лазурные воды Лидо…
У всякого была своя манера купаться. Сандерс заплывал так далеко, что я, теряя его из вида, начинал подумывать о приискании, по возвращении в Россию, нового секретаря.
Крысаков, повертевшись в воде две минуты и наглотавшись соленой воды, вполне удовлетворенный, выбегал на берег и принимался за разные гадости: бросал в нас песком, завязывал узлы на рубашках и носился, как сорвавшийся с цепи слон, по всему побережью.
Мифасов входил в воду с таким лицом, что будто бы он уже махнул рукой на жизнь и что морская пучина – близкая его могила. Валился на полуаршинной глубине во весь свой длинный рост и, выпучив в безумном паническом ужасе глаза, размахивал бешено руками с видом человека, решившегося дорого продать жизнь.
Со стороны казалось, что это человек среди океана борется с гигантским волнением и тонет, одинокий… На самом деле стоило ему только протянуть руку, чтобы она коснулась берега.
В первый раз, когда я увидел его полный отчаяния взгляд и бешеные спазматические движения на полуаршинной глубине, то, обеспокоенный, спросил:
– Боже мой! Что это ты делаешь?
– Плаваю! – прохрипел этот лихой малый.
– Где? Ведь тут глубины не больше двух футов.
– Что ты! Я ведь ногами до самого дна достаю.
Я не хотел ему говорить, что этого же результата он достигает на любой городской улице, где воды нет. Но, взглянув на его покрытое предсмертным потом лицо и отчаянный лихой взгляд – промолчал.
Может быть, кто-нибудь спросит, как плаваю я?
Боже мой! Да конечно – превосходно.Флоренция
Мнение путеводителя. – Испорченный механизм Мифасова. – Фьезоле. – Катанье в странном экипаже. – Человек, перещеголявший Сандерса. – Мы растерялись. – Поиски. – Остроумный плакат. – Опять Фьезоле
В путеводителе – о Флоренции сказано:
– Этот город можно назвать самым красивым из всех итальянских городов.
А о Венеции в том же путеводителе сказано:
– Этот город считается самым красивым из всех итальянских городов.
К Риму составитель путеводителя относится так:
– Рим можно назвать самым красивым из всех итальянских городов.
Можно сказать с уверенностью, что жена составителя путеводителя в своей семейной жизни была не особенно счастлива. Каждую встретившуюся женщину увлекающийся супруг находил «лучше всех».
Венеция – царица, а Флоренция – ее красивая фрейлина, поддерживающая царственный шлейф. В Венеции нужно наслаждаться жизнью, во Флоренции – отдыхать от жизни.
Благородным спокойствием обвеяна Флоренция.
Улицы без крика и гомона, роскошная зелень недвижно дремлет около белых дворцов, а солнце гораздо ласковее, нежнее, чем в пылкой Венеции.
Едва мы умылись в гостинице и переоделись, я спросил:
– Что хотел бы каждый из вас сейчас сделать?
– Меня интересует, – нерешительно сказал Мифасов, – постановка их школьного дела.
Крысаков пожал плечами и взглянул на часы:
– Поздно! Они уже, наверно, кончили свои кружевные дела. Меня интересует – едят ли здесь что-нибудь? Я хочу есть.
– А вы, Сандерс, чего хотите?
Он вздохнул, поглядел в окно, передвинул ногой чемодан и сказал:
– Я…
Мы терпеливо подождали.
– Ну, ладно! Выскажетесь по дороге. Некогда.
– Надо, господа, ехать во Фьезоле, – предложил Мифасов. – Полчаса езды на трамвае. Там прекрасно. Красивое местоположение, зелень.
Совет Мифасова поставил нас в затруднительное положение. За час перед этим я заглядывал в путеводитель и нашел такие сведения: «Фьезоле, полчаса езды от Флоренции в трамвае; прекрасное местоположение, масса зелени».
Но раз это же самое утверждал Мифасов, я усомнился: нет ли ошибки в путеводителе? Потому что не было большего неудачника в подобных случаях, чем Мифасов. У него была прекрасная память, но какая-то негативная: все запоминалось наоборот.
– Может быть, Фьезоле не около Флоренции, а около Рима? – спросил, колеблясь, я.
– Нет, здесь.
– Может быть, это какая-нибудь скверная дыра? Не спутал ли ты, Коленька… А? Ну-ка, вспомни.
– Нет, там хорошо.
И что же… Не успел трамвай доехать до места назначения, как мы убедились, что это Фьезоле и что оно действительно прекрасно.
– Тут есть, господа, остатки древнего цирка. Можно взять лошадок и съездить посмотреть. Близко.
– Коля, – осторожно сказал Крысаков, – может быть, это не цирк, а театр, а? И не старый, а новый? Ну-ка вспомни-ка. Может, до него далеко? Может, тут не лошадки возят, а мулы или верблюды?
В механизме Мифасова что-то испортилось: цирк был действительно древний и находился он близехонько.
Когда я сравниваю себя с товарищами, мне прежде всего бросается в глаза разница нашей духовной организации. Попробуйте спросить меня, что осталось в моей памяти от Флоренции и Нюрнберга? Я отвечу в первом случае: красивая грусть, которой проникнуто было все; во втором случае: идиллическое настроение на фоне суровых, тесно сдвинувшихся зданий, в окна которых, казалось, грозно глядят прошлые, серые века, закованные в латы и отягощенные доспехами. А спросите о Флоренции и Нюрнберге моих товарищей. От всего Нюрнберга уцелел толстый немец Герцог, хозяин кабачка, в котором нас угостили несравненными кровяными колбасами, брат-вурстом и изумительным пивом. Я до сих пор не могу забыть ни этих колбас, ни этого пива… Флоренция? Фьезоле? О, конечно, при этом слове у моих друзей засверкают глаза и польются воспоминания:
– Помните кьянти? Нигде во всей Италии нам не давали такой прелести! А асти? Нигде нет такого! А мартаделла, а гарганзола!! А какая-то курица, приготовленная таинственно и чудесно. Ах, Фьезоле, Фьезоле!..
Действительно, должен сознаться, что ни этого вина, ни этих чудесных кушаний забыть нельзя. Ах, Фьезоле, Фьезоле!
После этого чудесного пира мы, ласковые и разнеженные, вышли из увитого зеленью дворика крохотного ресторана и бодро зашагали, полные искренней любви друг к другу. Крысаков не преминул снять с Сандерса шляпу и нежно поцеловать его в темя.
– Почему? – спросил сонно Сандерс.
– Славный вы человек. Дай Бог вам всего такого…
Идя сзади под руку с Мифасовым, я шепнул ему:
– В сущности, они хорошие ребята, не правда ли?
– Превосходные. В них есть что-то такое…
Он споткнулся, но я дружески поддержал его.
– Стойте! – закричал Крысаков. – Экипаж! Поедем на нем. Эй, ты! Свободен?
Это был большой, черный, поместительный экипаж, влекомый парой лошадей, которых вел под уздцы парень в грязном, темном костюме.
– А флорентийцы, как и венецианцы, – люди одного вкуса. Все у них выдержано в черных тонах. Садитесь, господа! Фу ты, как неудобно…
Кучер что-то закричал и стал прыгать и кривляться около экипажа.
– Что он делает?
– Наверное, какая-нибудь секта. Эти итальянцы, вообще…
– Может быть, он занят? Спросите его по-французски.
По-французски возница не понимал.
– Свободен? – спросил Мифасов. – Либро? Э? Твоя экипажа свободна есть? Либро?
Экипаж оказался свободен и, тем не менее, возница очень не хотел, чтобы мы садились. Он кричал и бесновался…
– Покажите этому флорентийскому ослу пять лир. Может быть, это его успокоит.
Мы показали смятую бумажку и победоносно полезли в экипаж.
Возница застонал, всплеснул руками, вскочил на облучок, ударил по лошадям – и экипаж поскакал, бешено подпрыгивая на каменистой мостовой.
Прохожие, встречаясь с нами, взмахивали руками и кричали что-то нам вслед; мальчишки бежали за нами, приплясывая и оглашая воздух немолчными воплями.
– Какое приветливое народонаселение, – сказал Мифасов удовлетворенно. – Вообще итальянцы всегда хорошо относятся к иностранцам.
– А может быть, они принимают нас за каких-нибудь должностных лиц? – спросил честолюбивый Крысаков.
– Ну, знаете… Мы больше смахиваем на конокрадов.
– О, черт. Ударился головой о верх! Знаете, я думаю, этот экипаж не создан для быстрой езды.
В справедливости слов Крысакова мы не замедлили убедиться через две минуты. Навстречу нам очень медленно подвигался такой же самый экипаж. Возница степенно вел четырех лошадей под уздцы, а сзади шагали погруженные в задумчивость люди. В экипаже был только один пассажир, и тот не сидел, а лежал, чинно сложив на груди руки.
– Посмотрите-ка, что это?
– Д-а-а… Гм!..
– Знаете что? Тут уж нам недалеко; пройдемся пешком.
– Идея! А то мы совсем без движения…
– Растолстеешь, – согласился Крысаков, поспешно спрыгивая с нашего странного экипажа.
Домой мы добрели молча. Говорить не хотелось.
Уезжали на другой день утром. Во Флоренции нам удалось видеть самого медлительного человека в мире. Сандерс казался перед ним человеком-молнией.
Наша гостиница была около самого вокзала, через дорогу. Портье сказал, что он довезет наши вещи на тележке, а мы можем пойти вперед, брать билеты. До поезда оставалось двадцать пять минут. Мы взяли билеты, просмотрели юмористические журналы; до поезда осталось десять минут. Выпили бутылку вина, проверили билеты, проверили время отхода – осталось три минуты.
– Проклятое животное! Мы опоздали. Не украл ли он наши вещи?
– Пусть кто-нибудь побежит за ним.
– А вдруг он сейчас откуда-нибудь вынырнет?
– Как же мы поедем без одного. Нам разлучаться нельзя.
– Теперь уж не разлучимся.
– Почему?
– А вот… наш поезд… тронулся.
Когда хвост поезда скрылся где-то за горизонтом, послышалось тихое пение, и портье, мурлыча популярную канцонетту и толкая впереди тележку с нашими вещами, показался из-за угла. Он подвигался популярным среди нас «шагом Сандерса» со скоростью десяти ругательств спутника в минуту.
Остановился… Вытер лицо красным платком, закурил сигару, пожал руку знакомому факкино и, заметив в углу нашу молчаливую группу, благодушно спросил:
– Опоздали? Поезд ушел?
– Ушел.
– Та-ак.
– Ну, что новенького в Риме? – спросил, сдерживая себя, Крысаков.
– О, я, синьоры, к сожалению, не был там.
– Неужели? Я думал, вы сейчас туда заезжали по дороге. Благополучно ли вы переправились через неприступное ущелье, отделяющее гостиницу от вокзала?
– О, синьоры, дорога совершенно прямая.
– Знаете, кто вы такой, синьор портье? Идиот, грязное животное, негодяй и бригант!
К французскому языку он относился совершенно равнодушно, что было видно из того, что лицо его оставалось сонным, и под градом ругательств он сладко затягивался отвратительной сигарой.
– По-итальянски бы его, – свирепо сказал я.
– Ладно. Кто будет?
– Говорите вы. А мы будем составлять фразы.
Каждый из нас знал по несколько итальянских ругательств, но это было плохое, разрозненное издание. Приходилось собирать у каждого по несколько слов, систематизировать и потом уже в готовом виде подносить их Крысакову для передачи по адресу.
Мы расселись на своих чемоданах, и фабрика заработала. Мы с Мифасовым произносили слова, Сандерс их склеивал, а Крысаков громовым голосом бросал уже готовый фабрикат в лицо обвиняемому.
Обвиняемый присел на пустую тележку, надвинул шапчонку на глаза и закрыл лицо руками.
Когда мы с Мифасовым опустошили себя, оказалось, что негодяй заснул.
– Пойдем жаловаться хозяину гостиницы.
Они ушли, а я остался около вещей. Прошло очень много времени; я видел, как ушел второй поезд на Рим, и узнал, что следующий уходит только через три часа. Велел факкино отнести вещи в багаж, а сам пошел бродить по городу, чтобы протянуть время до поезда. Обиженный, покинутый, плотно позавтракал. За час до отхода поезда вернулся на вокзал. Никого не было. Потом оказалось, что Сандерс, Крысаков и Мифасов пришли после моего ухода на вокзал. Увидели, что меня нет, и отправились искать меня по городу. Зашли по дороге в альберго, хорошо позавтракали. Потом опять искали. А я пришел на вокзал, никого не нашел и, встревоженный, отправился на поиски. Искал долго, устал… Зашел в ресторан пообедать. В это время потерянные друзья опять навестили вокзал, не нашли меня и снова пустились в поиски; заглядывали в рестораны, остерии; в одной решили пообедать. А поезда приходили из Рима, уходили в Рим, сновали туда и сюда, не дожидаясь несчастной, расползшейся по всему городу компании. Группа «Мифасов, Сандерс и Крысаков» устроила заседание по поводу потерявшейся группы «Южакин», и решила поставить поиски на самую широкую ногу: город был разбит на районы; на углах улиц поставлена была цепь сторожевых (Мифасов); член этой человеколюбивой экспедиции Сандерс был командирован на вокзал со специальным поручением: наклеить в багажном отделении на мой чемодан глубокомысленный плакат:
«Если вы придете на вокзал, забирайте вещи и идите в гостиницу «Палермо», где мы ночуем. А если не придете на вокзал, мы вечером – в шантанчике у Рынка Свиньи, туда прямо и идите».
Ниже приписка карандашом:
«Впрочем, что я за дурак: если вы не придете на вокзал, как же вы узнаете, что мы вечером у Рынка Свиньи? Тогда ведь вы не будете знать, где мы. В таком случае, поезжайте в «Палермо» и вечером просто ложитесь спать. Крысаков кланяется».
– А, ну вас, – подумал я. – Не люблю людей, делающих ложные шаги. К черту ваш Рынок Свиньи! Поеду-ка я лучше на Фьезоле, в этот милый кабачок.
Потом я выяснил, что мои спутники к концу вечера растеряли друг друга и каждый очутился в одиночестве. Это произошло потому, что Крысаков, вместо того чтобы ждать Сандерса в условленном месте, решил пойти ему навстречу; Сандерс, наоборот, решил зайти по дороге за Мифасовым, а Мифасов отправился к Крысакову, не нашел его, полетел на вокзал, – и четыре человека весь день бродили в одиночестве по флорентийским улицам. Каждый из них был раздражен глупостью других и, не желая их видеть, решил провести вечер в одиночестве.
Поэтому Крысаков был чрезвычайно изумлен, обнаружив меня на Фьезоле, в излюбленном ресторанчике, а Сандерс и Мифасов, появившиеся почти в одно время за нашими спинами, сочли это каким-то колдовством.
Сначала, усевшись, мы сделали кое-какую попытку разобраться в происшедшем, но это оказалось таким сложным, что все махнули рукой, дали клятву не разлучаться и… курица по-итальянски, выплывшая из ароматной струи асти, смягчила ожесточившиеся сердца.
Рим
Сандерс сокрушается. – Старина. – Я стараюсь перещеголять гида. – Колизей. – Сандерс в катакомбах. – Музей. – Тяжелая жизнь. – Художественное чутье. – Дорогая палка. – Уна лира
Рим не на всех нас произвел одинаковое впечатление. Когда мы осмотрели его как следует, Сандерс засунул руки в карманы и спросил:
– Это вот и есть Рим?
– Да.
– Это такой Рим?
– Ну, конечно. А что?
– Гм, да… – протянул он, ехидно усмехаясь. – Так вот он, значит, какой Рим…
– Да, такой. Вам он не нравится?
– О, помилуйте! Что вы! Как же может Рим не нравиться? Смею ли я…
Свесив голову, он долго повторял:
– Да-с, да-с… Вот оно как! Рим… Хи-хи. А я-то думал…
– Что вы думали?
– Ничего, ничего. Городок-с… Городочек-с! Хи-хи.
Мы пробовали рассеять его огорчение.
– Он, правда, немножко староват… Но зато…
– Да, да… Староват. Но зато он и скучноват. Он и грязноват. Он и жуликоват. Хи-хи!
В этом смысле я резко разошелся с Сандерсом. Рим покорил мое сердце. Я не мог думать без умиления о том, что каждому встречному камню, каждому обломку колонны – две, три тысячи лет от роду. Тысячелетние памятники стояли скромно на всех углах, в количестве, превышающем фонарные столбы в любом губернском городе.
А всякая вещь, насчитывавшая пятьсот, шестьсот лет, не ставилась ни во что, как девчонка, замешавшаяся в торжественную процессию взрослых.
Я долго бродил с гидом по Форуму, среди печальных обломков старины, и в ушах моих звенели диковинные цифры:
– Две тысячи лет, две с половиной! Около трех тысяч лет…
Когда мы брели усталые по сонным от жары улицам, я остановился около мраморного, позеленевшего от воды и лет фонтана и сказал:
– О! Вот тоже штучка. Я думаю, не из новых.
Гид пожал плечами, сплюнул в струю воды и возразил:
– Дрянь! Всего-то восемьсот лет.
На углу меня заинтересовала чья-то бронзовая статуя.
– Господин, – сказал гид, – если мы будем останавливаться около таких пустяков – у нас не хватит недели.
– Вы это считаете пустяком?
– О, Господи ж! Поставлен в прошлом столетии.
– Однако, – сказал я. – Как же вы терпите эту ужасную новую ярко-позолоченную конную статую Виктора-Эммануила?
– О, ведь это вещь временная. Этот памятник еще не готов.
– Почему?
– Он будет готов через шестьсот-семьсот лет, когда позолота слезет. Тогда это будет благороднейшее старинное произведение искусства.
– Странный обычай. У нас, в России, таким способом заготовляют только огурцы впрок. Раз он не готов – не нужно было его открывать…
– Закрытыми такие вещи нельзя держать, – возразил гид. – Тогда позолота и в тысячу лет не слезет.
Я проникся культом старины даже гораздо раньше, чем этого мог ожидать гид.
В сумерки он зашел ко мне в гостиницу и предложил, лукаво ухмыляясь:
– Не желает ли господин посмотреть тут один шантанчик?
– Старый? – спросил я.
– О, нет, совершенно новый, недавно отремонтированный.
– Так что ж вы мне его предлагаете! Еще если лет восемьсот, девятьсот…
– О, тогда господину нужно пойти в кафе Греко.
– Старое?
– О, да. Еще в восемнадцатом веке…
– Только-то? Нет, мой дорогой. Я полагаю – его можно будет посещать лет через триста… и то с большой натяжкой…
Я имею основание думать, что гид почувствовал ко мне тайное почтение. Он поклонился и сказал:
– В таком случае, не посмотрите ли вы завтра собор Святого Петра?
– О, – равнодушно пожимая плечами, промямлил я. – Вы говорите – святого? Это, вероятно, что-нибудь уже после Рождества Христова?
– Да, но…
– Знаете что? Отложим это до будущего приезда. Все-таки будет годиком больше, а?
– Ну, я знаю, что господину нужно… Он завтра утром посмотрит Колизей и термы Каракаллы.
– Ну что ж, – сказал я. – Я полагаю, что это меня позабавит.
На другой день утром автомобиль в двадцать минут доставил нас прямо к Колизею. Был прекрасный жаркий день.
Лицо гида сияло гордостью и торжеством.
– Вот-с! Извольте видеть.
– А где же Колизей?
Гид побледнел:
– Как… где?.. Вот он, перед вами!
– Такой маленький? Тут повернуться негде.
– Что вы, господин! – жалобно вскричал гид. – Он громаден! Это одно из величайших зданий мира. Пожалуйте, я вам сейчас покажу ямы, где содержались звери до представления и откуда их выпускали на христиан.
– Там сейчас никого нет? – осторожно спросил положительный Мифасов.
– О, синьор, конечно. Вам со мной нечего бояться. Вот видите, остатки этих громадных стен; все они были облицованы белым мрамором – такую работу могли сделать только рабы.
– А где же мрамор?
– Монахи утащили в Ватикан. Весь Ватикан построен из награбленного отсюда мрамора.
– Ага! – сказал Сандерс, – око за око… Сначала звери в Колизее драли христиан, потом христиане ободрали Колизей.
– О, – сказал гид, – христианство погубило красоту Рима. Это была месть язычеству. Лучшие памятники разграблены и уничтожены Ватиканом. Вам еще нужно взглянуть на бани Каракаллы и на катакомбы.
Добросовестный гид потащил нас куда-то в сторону, и мы наткнулись на грандиозные развалины, на стенах которых еще кое-где сохранилась живопись, а на полу – чудесная мозаика.
Мы, притихшие, очарованные, долго стояли перед этим потрясающим памятником рабства и изнеженности, над которым несколько тысячелетий пронеслись, как опустошительный ураган, пощадив только то немногое, что могло дать представление нам, узкогрудым потомкам, о мощном размахе предков.
И мне захотелось остаться тут одному, опуститься на обломок колонны и погрузиться в сладкие мечты о безвозвратно минувшем прошлом. Так хотелось, чтобы никого около меня не было, ни гида, ни Сандерса, с его сонным видом и вечным стремлением завязать спор по всякому ничтожному поводу, ни размашистого громогласного Крысакова, ни самоуверенного кокетливого Мифасова, которому до седой старины такое же дело, как и ей до него.
В это время ко мне приблизился Мифасов и сказал тихонько:
– Вот она, старина-то!.. Так хочется побыть одному, без этого хохотуна Крысакова, без вялого дремлющего Сандерса, которому, в сущности, наплевать на всякую старину… Так хочется посидеть часик совсем одному.
За моей спиной послышался шепот Сандерса:
– Вас не смешат, Крысаков, эти два дурака, которые, вместо того чтобы замереть от восторга, шепчутся о чем-то? Как бы мне хотелось, чтобы никого из них не было!.. Сесть бы в уголочке да помечтать.
– Да, да, – сказал Крысаков. – Мне тоже. Чтобы никого не было!.. Ну, разве только вы, – деликатно добавил он.
Были мы в катакомбах. Сырой, холодный воздух, зловещий шорох наших ног, огонек свечи, освещающий пространство в ладонь величиной, и тяжелое смутное настроение, которое еще больше усиливали вопросы Сандерса, неожиданно вступившего в полосу разговорчивости в этом неподходящем месте.
– Почему тут так темно? – осведомился он у монаха.
– Катакомбы.
– Ну, я понимаю – катакомбы! А все-таки могло быть светлее. Тут никто не живет?
– Конечно, нет. Здесь хоронили мучеников, а в последнее время – пап.
– Чьих? – бессмысленно спросил Сандерс, отколупывая пальцем кусок воска от свечки.
– Римских.
– Ага! Теперь уже, вероятно, нет древних христиан? Времени-то, слава Богу, прошло немало.
– Ради Бога, довольно! – сурово перебил Крысаков. – Теперь я понимаю, почему Сандерс так редко разговаривает… У него есть солидные основания.
Большую часть времени, проведенного в Риме, мы тратили на хождение по музеям и картинным галереям.
Я подозреваю, что с музеями у нас с самого начала вышло недоразумение: художники боялись показаться мне и Сандерсу людьми некультурными, не интересующимися искусством и потому, едва успев приехать в город, уже неслись с искаженными тоской лицами во все картинные галереи города; мы, не желая показать себя перед художниками людьми отсталыми, равнодушными к их профессии, носились за ними.
Сколько мы видели картинных галерей? Сколько музеев обежали мы за все время наших скитаний по Европе? Какое количество картин больших и маленьких промелькнуло перед нашими утомленными глазами? Берлин, Дрезден, Мюнхен, Нюрнберг, Венеция, Флоренция, Рим, Неаполь, Генуя, Париж… Всюду целое море полотна – зеленого, красного, розового, старинного и нового…
В Ватикане Сандерс заснул в музее за дверью, а в другом музее – забыл его название – мы так разошлись, что, поднимаясь все выше и выше, попали в большую комнату, уставленную столами, за которыми сидели несколько живых стариков. Мы тупо осмотрели их, постояли добросовестно около портрета Виктора-Эммануила и потом потащились обратно, шатаясь от усталости.
– Вот столб какой-то, – указал Мифасов, когда мы спускались по темной лестнице.
– Старинный?
– Бог его знает! Спокойнее будет, если осмотрим.
Осмотрели столб. Как говорится, ничего особенного.
Начиная с Мюнхена, мы, по приезде в каждый город, усвоили привычку робко спрашивать у обывателей:
– Нет ли тут каких-нибудь музеев или картинных галерей?
И если музеи были, Крысаков решительно надевал шляпу и с суровой складкой у углов рта с видом подвижника говорил:
– Ну, ничего не поделаешь… Надо идти.
Остальные трое безропотно надевали шляпы и шагали за ним, угрюмо опустив головы.
– Может быть, он закрыт? – шептал Сандерс, с надеждой поглядывая на Крысакова.
– Глупости! Почему бы ему быть закрытым?
– Ремонт… Или по случаю пожара.
– Вздор! Пойдем. Я вам покажу тут такого Луку Кранаха, что даже ахнете.
Как люди деликатные, мы с Сандерсом ахали.
– Смотри, Сандерс, – Кранах!
– Да, да! Лука. Изумительно.
Крысаков и Мифасов распознавали художников и их картины по общепринятой системе; у Сандерса же была своя система – очень дикая, но, к общему изумлению, довольно верная. Например, Рубенса он узнавал по цвету женских колен, а какого-то французского художника единственно по тому признаку, что на всякой его картине в центре была нарисована белая лошадь. И действительно – в десятке разбросанных картин было заключено десять лошадей, и все белые, и каждая в центре.
Я с завистью смотрел на трех друзей, которые издали безошибочно, по одним им известным признакам, узнавали среди десятков – какого-нибудь Гверчино, Зурбарана или Луку Кранаха.
В конце концов, я придумал следующий практичный и простой способ конкурировать с ними: когда они застывали в изумлении перед какой-нибудь картиной, я потихоньку прокрадывался в следующую комнату, прочитывал подписи под картинами, возвращался и потом, шествуя в хвосте в эту следующую комнату, говорил, выглядывая из-за спин товарищей:
– А! Что это? Если не ошибаюсь, эта старина Лауренс? Похоже на его письмо…
– Да, это Лауренс, – неохотно соглашался Крысаков.
– Еще бы! Я думаю. А этот, вот в углу висит – убейте меня, если это не Берн-Джонс. Сразу можно узнать этого дьявольского виртуоза! Ну конечно. Да тут, если я не ошибаюсь, и Гэнсборо, и Рейнольдс!
Сандерс, Мифасов и Крысаков изредка ошибались. Я никогда не ошибался.
– Смотрите! – говорил Крысаков. – Ведь это Коро! Его сразу можно узнать.
Я читал на дощечке:
«Ван-Хиггинс, Голландская школа».
– Неужели? А ведь совсем Коро!.. Не правда ли, Мифасов?
– Да! – подтверждал Мифасов, очень ревниво относившийся к поддержанию их профессионального престижа. – Ну, Добиньи, конечно, вы сразу узнали?
– Это не Добиньи, – поправлял я. – Это Курбе.
– Ну, Курбе! Их часто смешивают.
– У Курбе всегда толстое дерево сбоку, – авторитетно замечал дремавший Сандерс.
И мы шли дальше, пробегая одним взглядом десятки картин, лениво волоча усталые ноги и судорожным движением выпрямляя изредка натруженные спины и затылки.
Когда уже все было осмотрено, несносный проныра Крысаков неожиданно говорил:
– А вот тут есть еще один закоулочек – мы в нем не были.
– Ну, какой там закоулочек… Стоит ли? Я уверен, там ничего путного нет.
– Нет, Сандерс, – так нельзя. Нужно все осматривать…
– Милые мои! Отпустите вы меня…
– Что вы! Там целых два Фрагонара.
– Два?.. Эх! Ну, идем!!
Всюду нам сопутствовала компания англичанок. Англичанки все, как на подбор, были старые – ни одной молоденькой, ни одной красивой.
За все время мы видели несколько сот англичанок – все они были старые, отвратительные. Я уверен, что в Англии есть много и молодых, но они на континенте не показываются. Их, вероятно, держат где-нибудь взаперти, выдерживают в каком-то погребе, дожидаясь, пока они постареют. А когда они готовы – их выпускают на континент большими партиями. Ездят они всюду по куковскому маршруту, сопровождаемые длинными, иссохшими от времени англичанами; забавно видеть, как куковский проводник набивает чудовищно-громадный автомобиль этим старым мясом, хватая леди и джентльменов за шиворот и пропихивая их ногой в затруднительных местах. Ничего, довольны.
И бродят они, несчастные, подобно нам, застывая с видом загипнотизированных кроликов перед какой-нибудь «головой старика» или «туманным вечером в Нидерландах».
Это позор и несчастье – изучать сокровища искусства таким образом. Что у меня осталось в памяти? Несколько Рубенсов, два-три Рембрандта, полдюжины Бёклинов и кое-что испанское: поразительные Хулоага, Англада и Саролла-Бастила. А сколько я видел? Зеленые, желтые пейзажи, розовые тела, разные девушки с кошкой, девушки без кошек и кошки без девушек; цветы, сырая рыба рядом с персиками и вечный святой Себастьян, которого не изображал только тот, кто вместо живописи занимался другими делами. Потом было много каких-то уродливых облупленных картин с детской перспективой и кривыми телами.
Корректный Мифасов считал необходимым восхищаться и этими облупленными обрывками старины; а хронический протестант Сандерс в таких случаях ввязывался в ожесточенный спор:
– Замечательно! Ах, как это замечательно! Крысаков! Посмотрите, какой это чудесный тон! И как проштудировано!
– Да, действительно… тон, – деликатно подтверждал Крысаков.
– Послушайте, – начинал Сандерс, как бык, потупив голову и озираясь. – Неужели эта ерунда вам нравится?
– Милый мой, это не ерунда!
– Это не ерунда? Вы посмотрите, как нарисовано! Теперь гимназист пятнадцати лет нарисует лучше.
– Вы забываете исторические перспективы.
– Тогда при чем здесь «тон», «проштудировано»? Изумляйтесь исторически – и этого будет довольно.
– Вы варвар!
– А вы сноб!
– Ах, так? Надеюсь, наши отношения…
– Ну, поехала! – кривился Крысаков. – «Не осенний мелкий дождичек»…
И Крысаков, и Мифасов, как авгуры, упорно охраняли своих богов, а мы, честные, откровенные люди без традиций – не церемонились. Впрочем, однажды, изловив Крысакова в темном уголку, я путем вопросов довел до его сознания, что Боттичелли не так уж хорош, чтобы захлебываться перед ним. На сцену, правда, выступила историческая перспектива, но я налег – и Крысаков сдался. Это меня тронуло, и я, помню, очень расхвалил какую-то незначительную картинку, которая ему понравилась.
Он очень любил живопись, но под конец нашего путешествия, если по приезде в новый город в нем не оказывалось музея, Крысаков оживлялся, шутил и вообще начинал чувствовать себя превосходно.
К концу нашего путешествия мы с Крысаковым оказались обладателями очень драгоценных предметов: я – палки, он – фотографического аппарата. Эти две вещи мы вывезли из России, и на месте они стоили: палка – рубль, аппарат – двенадцать рублей.
Мы с ними нигде не расставались, и поэтому при входе во всякий музей или галерею у нас их отбирали, а потом взыскивали за хранение.
В Риме я решил бросить эту дрянную рублевую палку, но она уже стоила около пятидесяти лир, – было жаль. В Неаполе цена ее возросла до семидесяти лир, начиная от Генуи – до ста, а после Парижа – потеря ее совершенно бы меня разорила. Эта палка и сейчас находится у меня. Любопытные долго ее осматривают и очень удивляются, что такая неказистая на вид вещь обошлась мне около двухсот франков. А крысаковский аппарат к концу путешествия разорил своего хозяина, потому что, как верная собака, таскался за ним в самые неподходящие места.
Рим в отношении поборов – самый корыстолюбивый город. Там за все берут лиру: пойдете ли вы в Колизей, захотите ли взглянуть на картинную галерею, на памятник или даже на собственные часы.
В Ватикане с нас брали просто за Ватикан (лира!), за картинную галерею Ватикана (лира!), за левую сторону галереи (лира!), за правую (тоже!), за Сикстинскую капеллу (лира!) и еще за какой-то закоулочек, где стоит подсвечник, – ту же лиру.
Немудрено, что самый захудалый папский кардинал имеет возможность носить бархатную шапку.
Все это сделано на наши лиры.
Извиняюсь за это лирическое отступление, но оно необходимо для того, чтобы пристыдить некоторых итальянцев, если они прочтут эту книгу.
Неаполь
1
Неаполитанцы. – Случай с монетой. – Город нищих. – Неаполитанский купец. – Первое появление Габриэля. – Аквариум. – Позилиппо. – Тарантелла. – Мы разрываем с Габриэлем. – Кафе-концерт. – Ресторанная тактика. – Помпея. – Гривуазность Габриэля. – Самая богатая страна
В путеводителе сказано, что Неаполь один из самых больших городов Италии – в нем свыше полумиллиона жителей.
Я думаю, путеводитель сказал на этот раз правду, потому что уже на вокзале я насчитал очень много народу.
Неаполитанцы у нас, в России, известны своими оркестрами. Мифасов сообщил нам некоторые сведения об оригинальном подразделении этого народа на группы: весь Неаполь делится на так называемые оркестры, а оркестры делятся на отдельных жителей, мужчин (игра на гитаре и пение) и женщин (пение и танцы).
Конечно, Сандерс не преминул вступить с ним в бесконечный спор, оспаривая правильность этого простого и ясного подразделения. Мне оно понравилось.
Стремление неаполитанца надуть туриста возведено в культ. В Венеции и Риме это делается спешно, по-любительски, без установленных приемов и твердой организации. Неаполь же может похвастаться серьезным и добросовестным отношением к своему делу.
Один мой знакомый рассказывал следующий случай из неаполитанской жизни…
Сидел он однажды в кафе и пил кофе. Народу было мало – несколько итальянцев за мороженым и одинокий турист-англичанин, мирно пивший в углу кофе. Выпив его, англичанин вынул портмоне, стал рыться в нем и при этом нечаянно выронил золотую монету. Никто не трогался с места. Только один слуга прошел в этот момент мимо, обремененный подносом с новыми порциями мороженого.
Англичанин позвал других слуг, попросил поднять монету, но – монета как в воду канула. Все слуги искали ее на глазах у англичанина – утаить было невозможно, монета не могла куда-нибудь закатиться, потому что щелей в полу не было.
И тем не менее монета исчезла.
Выругавшись, англичанин расплатился и ушел.
Тогда мой знакомый подозвал к себе человека, несшего в момент потери громадный поднос, и потихоньку сказал:
– Послушайте, камерьере… Я не буду поднимать истории – расскажите мне, как вы это сделали?
– Что я сделал?
– Ну, вот… Укр… присвоили себе монету. Каким это образом?
– Господин ошибается. Я никакой монеты и не видел, – возразил итальянец, скаля зубы.
– Послушайте… я же прекрасно видел, как она упала, как вы, проходя, наступили на нее ногой и как она сейчас же исчезла…
– Не знаю, о чем синьор говорит.
– О, черт возьми! Я ведь не полицейский, и мне все равно, но, если вы не расскажете, я заявлю обо всем хозяину кафе.
– В таком случае, – усмехнулся слуга, – дело это очень простое. Средина моей подметки была смазана клеем. Я увидел, как монета упала, и сию же секунду наступил на нее. Вот и все.
– Послушайте… Но ведь не могли же вы сегодня, когда смазывали подметку сапога, предвидеть, что кто-нибудь уронит золотую монету?
– О, сударь, золотая, серебряная – это все равно, – возразил добрый слуга, – и падают они, конечно, не так часто, но подметки – все мы смазываем с утра на всякий случай.
Это ли не организация?
И, вместе с тем, нет итальянца ленивее, чем неаполитанец. Целыми днями валяются они на набережной, в узких кривых переулках и между мраморных колонн домов. Вероятно, лежат и мечтают: как бы почуднее надуть туриста?
Но трудно собраться с мыслями, когда солнце так приятно поджаривает оборванца, а море дышит в самое лицо вкусным соленым запахом.
Много ли ему нужно? На целый день оборванцу заработать, найти или украсть пару сольди. На эту пышную сумму он по заходе солнца купит в грязной, шумной обжорной улице, сплошь заставленной громадными чанами с кипящей снедью, – какую-нибудь жареную рыбку или тарелочку макарон, и тут же съест все это бок о бок с таким же оборванным любителем dolce far niente. Жаркий климат много еды не требует, и в пище все очень умеренны.
Все жизненные потребности до смешного невелики.
Проезжая по рынку – одно из самых интересных живописных зрелищ Неаполя, – я видел такого рода купцов: около корзиночки, сооруженной из щепочек и наполненной двумя крохотными жалкими полудохлыми рыбками, сидит продавец и пронзительным голосом выкликает свой товар. Сколько могут стоить эти рыбки величиной с ладонь – в Неаполе, в этом рыбном царстве? Нужно добавить, что грязная простоволосая женщина, которая закупит оптом весь запас этого товара, будет торговаться до седьмого пота, хватая несчастных рыбок, подбрасывая их, перевертывая, нюхая и, вообще, стараясь выжать из флегматичного купца все, что можно.
Большинство неаполитанских промышленников – это «купец, продающий пару рыбок».
Часто мы встречали целую длинную процессию: два дюжих итальянца везут крохотную тележку, на которой стоит обыкновенная шарманка. Третий, мускулистый мужчина, гордо идет сбоку, положив одну руку на шарманку (очевидно, это настоящий владелец ее), а еще два здоровяка подталкивают тележку сзади.
В сущности, эту тележку могла бы повезти вскачь обыкновенная кошка; но пять верзил присосались к шарманке, как пиявки, и каждый всеми силами старается доказать, что он честным трудом зарабатывает свой хлеб.
Шарманка останавливается… Двое начинают вертеть ручку, меняясь с видом полного изнеможения каждые две минуты; один горланит какое-нибудь «sole mio», а остальные двое энергично собирают у слушателей деньги.
Соберут копеек десять, покроют чехлом шарманочку и поплетутся дальше, придерживая, подпихивая и таща тележку, точно русские многострадальные бурлаки по берегу Волги баржу тянут.
Ленивые… Если у итальянца чешется затылок, он не почешет его до того случая, когда встретится со знакомым и снимет шляпу; тогда заодно и почешется.
Вся нечеловеческая энергия целиком, как в громадных коллекторах, собралась в продавцах открыток и разносчиках газет.
Только в Неаполе возможен такой прямо-таки невероятный способ распространения газет.
Газетчик, опережая вас, вдруг ловко подбрасывает вам под ноги какую-нибудь «Миланскую газету» или «Popolo Romano» с таким расчетом, чтобы вы с разгону наступили ногой на газету… Тогда газетчик поднимает крик и взыскивает деньги за якобы испорченную вашей ногой газету.
Добродушные туземцы, зная этот способ, остерегаются и ставят ногу с разбором, а форестьеры всегда попадаются.
Никаким промыслом не брезгуют оборванные юнцы, если можно получить несколько чентезимов.
Один итальянский мальчишка, пробегая мимо меня, вдруг остановился и указал мне на проходившего жирного патера.
– Ну? Что?
– Патер.
– Прекрасно. Что же дальше?
– Это патер. Господин мне даст что-нибудь?
– За что?!
– За то, что я указал господину патера.
Таких указателей патеров в Неаполе несметное количество.
Едва мы приехали и, оставив вещи в гостинице, отправились купаться, как перед нами выросла фигура молодца самого подозрительного вида, с грязными руками и бегающими вороватыми глазами.
Этот человек на все время нашего пребывания в Неаполе сделался нашей тенью, нашим эхом, нашим вторым я.
Увидев, что он отделился от группы людей не менее подозрительных, мы инстинктивно сдвинулись ближе и вынули руки из карманов, но грязный парень сказал:
– Господа путешественники! Я могу предложить себя в качестве гида. Хорошо знаю город, могу показать самое интересное.
– Не надо! – хором ответили мы.
– Могу показать вам Везувий, повезти вас на Позилиппо и порекомендовать самый лучший кафешантан в городе.
– Не надо!
– В таком случае, я знаю, что заинтересует молодых путешественников (он засмеялся с самым развратным видом) – тарантелла!
– А-а, тарантелла, – заинтересовались мы. – Это любопытно. Посмотрим…
– Где господа остановились? «Эксцельсиор»? Тут за углом! Знаю. Я сегодня вечером зайду. Сейчас купаться? Знаю! Пойдемте, я вас провожу.
– Да не надо, – сказали мы. – Зачем же? Купальня ведь в двух шагах.
– Нет, что вы! Я вам помогу. Разве можно? Вот тут купальня. Видите – вот она. А это вот будка, где продают билеты! Здравствуйте, мамарелла! Вам, конечно, нужны билеты? Вот этим господам нужны билеты! Дайте им билеты! Они очень нуждаются в билетах! Пожалуйста, три билета. Вот они платят вам деньги. Позвольте, я заплачу. Нет, нет, не беспокойтесь. Вот их деньги, мамарелла. Сдачи! А, вот сдача. Получите сдачу, синьоры. Это сдача. Позвольте, я проведу вас в купальню. Это вот называется купальня. Это тут раздеваются, а там вот купаются, видите, где вода. Прислужник! Вот эти господа хотят выкупаться. Это прислужник, господа. Не бойтесь, господа, – он славный малый. А то вон пароход идет. Здесь вот раздевайтесь. Позвольте, я вам расстегну жилет – вам неудобно. Я вам расшнурую ботинки. Сядьте на стул, а ножку свою поставьте мне на колено. Прислужник! Эти господа будут купаться. Они добрые, хорошие господа. Надо, чтобы им было хорошо купаться. Позвольте, я галстук развяжу.
– Ради бога, нам ничего не нужно! Мы все сами сделаем.
– Позвольте, я разверну вам простыню.
– Ничего, ничего не надо. Мы сами все сделаем – вернитесь к своим повседневным делам.
– Так я вас тут около купальни подожду…
Он ушел с глубоким сожалением. «Вернулся к своим повседневным делам», по выражению Мифасова.
Но, очевидно, кроме нас – у него никаких повседневных дел не было. Вообще, этот человек произвел, в конце концов, на нас такое впечатление, что до нашего приезда у него никаких дел не было, что все его существование на этой планете приспособлено исключительно к нашему появлению в Неаполе и что после нашего отъезда он, исполнив свое земное предназначение, вернется к небытию.
Когда мы вышли, он ждал нас у входа, задремав на закатном солнышке.
Мы хотели потихоньку пройти мимо, но он очнулся, вскочил, рассыпался в извинениях и завертелся, как мельница.
– Господа искупались и идут в гостиницу? Я провожу их в гостиницу.
– Не надо! Нам тут два шага. Мы знаем, где гостиница.
Он замотал головой и, отстраняя попавшегося нам навстречу прохожего, понесся на всех парах.
– Я вас провожу! Пустите, прохожий, этих господ. Они идут к себе в гостиницу, не преграждайте им пути. Они в гостинице, вероятно, освежившись купаньем, будут пить чай или вино, не так ли?
– Прованское масло! – отвечал Сандерс. – Пустите нас, или я задушу вас, как котенка.
– Ха-ха-ха! Господин очень веселый, он шутит. Итальянцы тоже веселые. Эввива, руссо! Швейцар! Вот эти господа пришли в вашу гостиницу, они тут остановились. Это хорошие господа, и ты, швейцар, относись к ним внимательно. Не нужно ли вам разложить ваши чемоданы, ваши вещи? Что? К черту? О, господин большой весельчак. Имею честь кланяться. До вечера!
Стоя внизу, в пролете лестницы, он долго посылал нам приветственные знаки и махал грязным платком.
Через час я вышел на улицу с целью побриться. Первое лицо, которое я увидел около гостиницы, был Габриэль, наш знакомец.
– Что вы тут делаете? – изумленно спросил я.
– Ожидаю. Может быть, синьорам что-нибудь понадобится.
– Ничего не надо. Как дойти до парикмахерской: налево или направо?
– О, я, конечно, провожу вас! Пойдемте, я знаю, где парикмахерская. О, действительно, хорошо было бы, если бы Габриэль не знал, где парикмахерская.
– Не надо провожать меня. Я просто возьму извозчика.
– Извозчика? Сейчас!
Он исчез, и через полминуты ко мне подкатил экипаж. Я взглянул на извозчика…
Это был Габриэль.
– Как?! Разве вы и извозчик?!
– Я все, господин. Все, что вам понадобится.
– Я хочу акробата, – пошутил я.
Габриэль камнем скатился на мостовую, положил бич и, хлопнув в ладоши, стал на голову. Еле уговорил я его усесться на козлы.
В тот же день мы с Сандерсом отправились в знаменитый неаполитанский аквариум.
Человек, продававший билеты, попросил на чай, человек, отбиравший билеты, попросил на чай же, и сторож при рыбах попросил тоже на чай за то, что он палочкой пошевелил какого-то гада.
Аквариум действительно был чудесный. Громадные омары и крабы медленно шевелились за стеклом, беззвучно перебирая чудовищными клешнями… Отвратительные осьминоги такого вида, который только и может пригрезиться в ночных кошмарах, смотрели на нас страшным неподвижным взглядом, присосавшись к стеклу и медленно втягивая и вытягивая тошнотворные лапы, покрытые, как маленькими белыми блюдцами, присосками.
Какие-то толстые рыбы с презрительно отвисшей нижней губой, точно сытые бюрократы, еле шевелили плавниками в тупой дремоте… Стаи юрких рыбок стрелой неслись по воде, моментально, как по команде, поворачивались и так же стройно неслись в другую сторону. Одна суетливая рыба чрезвычайно напомнила нам провинциальную сплетницу: она без толку шныряла от одной группы к другой, подсматривала, что делают омары, и, взмахнув возмущенно плавниками, неслась сейчас же к угрям, рассказывала о виденном и, махнув хвостом, летела уже к сонному крабу, донося на поведение угрей. Всюду она вынюхивала, шпионила и подслушивала. И еще потому была она похожа на человеческую сплетницу, что имела рот узенький, собранный в ниточку, глазки остренькие, а на голове нечто вроде природного капора.
В то время, как я за ней наблюдал, Сандерс задумчиво стоял около другого стеклянного ящика, изредка вертя головой во все стороны.
– Вот чудаки! – сказал он. – Насыпали песку и поставили пустой ящик.
Сторож, услышав это, по выражению лиц заметил наше недоумение и, хлопнув Сандерса ободряюще по плечу, исчез.
Через минуту он явился с длинной палкой. Сунул ее в пустую вазу, и – вдруг песок зашевелился, разорвался на десяток кусков, и каждый кусок песку оказался плоской рыбой, – до смешного точно – сотворенной мудрой природой под цвет и вид настоящего песка.
– Мимикрия! Защитный цвет. До сих пор я видел это только у бабочек.
Так как мы не были одарены свойством мимикрии и не могли слиться с окружающей нас обстановкой, то сторож, вернувшись, без труда отыскал нас и потребовал на чай за то, что пошевелил палкой.
Осьминог, присосавшись к стене, смотрел, как мы расплачивались, и в его страшных выпученных глазах тоже ясно читалось всеобщее, как эпидемия, желание получить с форестьера на чай.
– А вот, – сказал я Сандерсу, – посмотрите-ка, какие хорошие раковины. Если бы на каждой из них было еще написано: «Привет из Ялты» – совсем они были бы настоящими раковинами.
– А вот это так называемая чернильная рыба, – сказал Сандерс, – кстати, надо будет нынче вечером написать домой письмо.
Сандерс никогда ни в чем не хотел от меня отставать. Стоило только сострить мне, как острил и он.
– Однако, – ледяным тоном сказал я. – Атмосфера начинает сгущаться. Пожмите осьминогам лапы и пойдем отсюда.
Конечно, Габриэль уже дожидался при выходе. И, конечно, он уговорил нас ехать на Позилиппо.
Мы не жалели, что поехали. Чудесная живописная дорога… С одной стороны обрывистый берег моря, с другой – непрерывный многоверстный ряд домишек, населенных ужасающей беднотой. Но все это так красиво, грязные растрепанные дети, ленивые прохожие, тяжелые простоволосые простолюдинки, перебрасывающиеся из окна с соседкой тихими односложными словами или перебегающие дорогу с фьяской вина под мышкой, живописное тряпье, развешанное на стенах и окнах домишек, обрывок песни, донесшейся слева, запах свежей рыбы, донесшийся справа, клуб золотой от заходящего солнца пыли впереди и крики мальчишек, бегущих сзади за экипажем в чаянии получить что-нибудь с ошалелого иностранца…
Позилиппо… Ресторан с верандой на громадной высоте, над морем. Вдали выгнулась из воды мощная спина Капри – место невольного заточения Максима Горького [41] .
Чисто физическое, животное чувство довольства охватило нас, когда мы, потребовав вина и музыки, погрузились в созерцание тихого синего моря, теплого неба и осколка бледно-розовой луны в чистой прозрачной высоте.
Нежная, сладкая итальянская песня, тихий рокот двух гитар, теплота наступающего вече…
– Cartolina postale!!
– О, чтоб тебя черти забрали! Что такое?
– Cartolina postale…
– Провались ты с ними вместе! Даже сюда забрался, каналья.
– Возьмите. Хорошие карточки.
– Отстань, тебе говорят.
– Тогда, знаете что? Я вас познакомлю с барышней… Синьоритта беллиссима! Рариссима! Чрезвычайно честная девушка, но вы сами понимаете… Отец бедный…
– Не надо.
– Уверяю вас – красавица…
Сандерс сделал вид, что заинтересовался. Стал участливо расспрашивать:
– Неужели красавица?
– О, mio Dio!..
– И вы говорите – честная девушка?
– Чрезвычайно честная.
– Ну что вы говорите?! Это неслыханно! А отец бедный?
– О, очень бедный!
– Неужели? Что же это он так… Работы нет?
– Нет. Так хотите – поедем?
– Вы говорите – красавица?
– Да, очень. Но бедность – сами понимаете…
– Ничего, ничего. И очень красивая, вы говорите?
– О, да.
– Она, может быть, просто хорошенькая… Или действительно – красавица?
– Настоящая!
– Так, так… Ну, ступайте! Нам ничего не надо.
– Синьоры! Это вас ни к чему не обязывает, – отчаянно возопил продавец открыток, видя, что добыча ускользает. – Вы только можете посмотреть! Право, поедем.
Но в это время Габриэль, подойдя к веранде, услышал его слова и налетел на него, как коршун, – изгнав беднягу в одну минуту.
Смысл его протеста был такой, что, дескать, эти хорошие господа принадлежат ему, он их нашел, честно около них кормится и никому другому не позволит переходить себе дорогу.
Они спорили, будто два гуртовщика о стаде баранов.
Впрочем, мы их умиротворили, выслав остатки вина и мартаделлы; вся компания продавцов открыток и просто ротозеев, под предводительством Габриэля, уселась на ступеньках и стала пировать, издавая в нашу честь восторженные крики и произнося заздравные тосты.
Я заметил, что Сандерс был на верху блаженства: около нас гремела специально нанятая нами музыка, пели для нас певцы, внизу пировала восторженная чернь под командой нашего первого министра… Я подозреваю: не чувствовал ли Сандерс себя в этот момент королем среди своего доброго народа?
Вечером каналья Габриэль действительно повез нас «смотреть тарантеллу».
В этот вечер изучение неаполитанского быта ни на шаг не подвинулось вперед.
Мы были бессовестно обмануты.
Вас, путешественников, которые когда-нибудь попадут в Неаполь, – хочу я предупредить, что такое «тарантелла», которую так усиленно рекомендуют нечестные гиды…
Нас (меня и Сандерса) ввели в большую круглую комнату, стены и потолок которой были покрыты зеркалами. Вокруг стен диваны, посредине комнаты круглое бархатное возвышение – все это аляповатое, ужасающе грубое.
– Садитесь, господа, – загадочно ухмыляясь, сказал Габриэль и сейчас же засуетился, обращаясь к тучной женщине, на лице которой была написана целая книга былых преступлений и порока: – Вот эти господа, мамарелла, очень желают видеть тарантеллу, им нужно показать тарантеллу… Ах, да покажите же этим добрым господам вашу тарантеллу. Это прекрасные и хорошие господа, и им надлежит посмотреть тарантеллу.
«Мамарелла» хлопнула в жирные ладони, и тотчас же шесть женщин выбежали из боковых дверей.
Были они в том, «в чем», по русской поговорке, «мать родила», и даже еще меньше, принимая во внимание, что какая-нибудь из них в свое время родилась в сорочке. Одним словом, были они абсолютно, безусловно и радикально голы.
С заученными жестами дефилировала эта армия перед нами, а мы сидели с Сандерсом, опечаленные этим обманом, оскорбленные в нашей скромности.
– Нравится? – спросила торжествующим тоном бесхитростная мамарелла.
Бедняге и в голову не могло прийти, что ее «тарантелла» могла в ком-нибудь не вызвать одушевления.
– Гм, да… – смущенно сказал Сандерс. – Вещь забавноватая. Недурно, как говорится, задумано. Женщины?
– Конечно. Вы же видите.
– Так, так… Гм… Не холодно?
Пансион мамареллы, привыкший к скотской разнузданности немцев и к шумному поведению галантных французов, – был изумлен нашей сдержанностью; все поглядывали на нас с недоумением.
– Протанцуйте им, деточки, – скомандовала мамарелла. – Пусть посмотрят вашу тарантеллу.
Она взяла в руки бубен, и шесть женщин закружились, заплясали; откормленные торсы сотрясались от движений, и вообще, все это было крайне предосудительно.
– Помпейские позы! – скомандовала мамарелла, уловив на нашем лице определенное выражение холодности и осуждения.
Но и помпейские позы не развеселили нас. Женщины становились в неприличные сладострастные позы с таким деловым, небрежным от частых повторений видом, как утомленный приказчик мануфактурного магазина к концу вечера показывает надоевшим покупательницам куски товара.
На сцене вдруг появился дожидавшийся где-то неподалеку Габриэль.
– О!.. А почему господа так скромно сидят? Почему они не приласкают этих красавиц? Смотрите, какие красоточки. Вот эта или эта… Или вот эта! Настоящая богиня. А эта! Красавица, а? Не нравится? Пошла вон. Тогда, может, эта? Украшение Неаполя, знаменитая красав… Не надо? Ну ты, лошадь, отойди, не мешайся тут. А вот эта… Что вы о ней скажете, синьоры?..
Он с деланным восторгом хлопал женщину по плечам, трепал по щекам, отгонял равнодушно «первых красавиц» и «богинь», а красавицы и богини с таким же холодным видом шептались около нас, ожидая нашего одобрения и благосклонности.
– Пойдем! – сказал Сандерс.
– Что вы, синьоры! Куда? Неужели вам не нравится?!
– Не нравится? Мы в восторге! Это прямо что-то феерическое… Когда-нибудь после… гм… на днях… Мы уж, так сказать, к вам денька на три. А теперь – прощайте.
Мы, угрюмые, замкнутые, спускались по лестнице, а Габриэль вертелся около нас, юлил и заглядывал в наши лица, стараясь отгадать впечатление.
– Видишь вот эту улицу? – обратился к нему Сандерс. – И вот эту улицу?.. Ты иди по этой, а мы по этой… И если ты еще к нам пристанешь – мы дадим тебе по хорошей зуботычине.
Он захныкал, завертелся, заскакал, но мы были непреклонны. Отношения были прерваны навсегда.
Я уверен, что настоящим неаполитанцам никогда бы в голову не пришло пойти на тарантеллу и «помпейские позы». Все это создано для туристов и ими же поддерживается. Для них же весь Неаполь принял облик какого-то громадного дома разврата.
Пусть иностранец попробует пройтись в сумерки по Неаполю. Из-за каждого угла, из каждой подворотни, буквально на каждом шагу к нему подойдет гнусного вида незнакомец и тихо, но назойливо предложит «красивую синьору», «обольстительную синьору» или даже рогаццину (девочку).
Эти поставщики осаждали нас, как мухи варенье.
– Что такое?
– Синьоры… берусь показать вам одну прекрасную даму. Познакомлю даже… тут сейчас за углом. Пойдем…
– К ней? К даме? Явиться одетому по-дорожному – что вы! Это неудобно.
– Ничего! Я ручаюсь вам – можно.
– Ну, что вы… И потом неловко же являться в чужой дом, не будучи знакомыми.
– Пустяки! С ней нечего – хи-хи – церемониться.
– Ну, вам-то нечего – вы, конечно, хорошо знакомы… По праву старой дружбы можете и без смокинга. А нам неудобно.
– Но я вам ручаюсь…
– Милостивый государь! Мы знаем правила хорошего тона и не хотим делать бестактности. Мы уверены, что дама будет шокирована нашим бесцеремонным вторжением. Она примет нас за сумасшедших.
…Итальянский кафе-концерт – зрелище, полное интереса и разных неожиданностей.
Действие происходит больше в публике, чем на сцене. Весь зал подпевает, притоптывает, вступает с певицей в разговоры, бешено аплодирует или бешено свищет.
Если певица не нравится – петь ей не дадут. Понравится – измучают повторениями.
У всех душа нараспашку. Подстерегают всякого удобного случая, чтобы выкинуть коленце, посмеяться или посмешить публику. Зал набит порохом, взрывающимся от малейшей искры.
Всякого вновь входящего зрителя сидящая публика приветствует единогласным доброжелательным:
– А-а-а!..
Приветствуемый, гордый всеобщим вниманием, пробирается на свое место и через минуту присоединяет уже свой голос к новому приветствию:
– А-а-а!
Выходит на сцену толстая немка… берет несколько хриплых нот.
Музыкальная публика этого не переносит:
– Баста. Баста!!
– Баста!!!
Немка, не смущаясь, тянет дальше.
И тогда гром невероятных по шуму и длительности аплодисментов обрушивается сверху, перекатывается и растет, как весенний гром.
Петь невозможно. Виден только раскрытый рот, растерянные глаза. Забракованная певица исчезает под гомерический свист.
Когда мы покупали билеты, перед нами вынырнул Габриэль.
– А-а, синьоры идут сюда! Сейчас, сейчас! Кассир! Выдайте этим хорошим господам билеты… Они желают иметь билеты. Это мои знакомые господа – дайте им лучшие билеты. Вот сдача. Вот билеты. Красивые красные билетики. Я вас тут подожду. Когда выйдете – поедем в одно местечко.
– Отстаньте, – сурово сказали мы. – Не смейте нас дожидаться – мы все равно не поедем с вами. Напрасно только потеряете время. И ни чентезима не получите и потеряете время.
– О, добрые господа! Зачем вы обижаете Габриэля? Он бедный человек и подождет вас.
Конечно, когда мы через три часа вышли – бедный человек ждал нас.
– Пройдемся, господа, – сказал Крысаков. – Прелестная ночь.
– Пожалуйте! – подкатил Габриэль. – Тут как раз четыре места. Я вас ждал.
– Убирайся к дьяволу! Мы тебе сказали, что ты не нужен? Отъезжай! Мы хотим идти пешком…
Мы зашагали по озаренному луной тротуару, а Габриэль шагом потянулся за нами.
Узкие улицы, еще сохранившие в каменных стенах и мостовой теплоту солнца, накалившего их днем, – нежились и дремали под луной… И везде нам приходилось шагать через груды беспорядочно разметавшихся тел. Весь голодный, нищенский Неаполь спит на улицах… это красиво и жутко. Будто весь город, все дома вывернуты наизнанку.
Аршина два макарон днем и аршина два тротуарной плиты ночью – весь обиход оборванного гражданина прекрасной Италии. Господь Бог хорошо обеспечил этих бездельников…
Странные жуткие улицы.
Какой-нибудь англичанин верхом на осле медленно пробирается среди этой беспорядочной гекатомбы спящих и пожирающих макароны тел, медленно пробирается, напоминая смешную пародию на Штуковскую картину «Бог войны».
– Зайдем в ресторан, господа. Закусим.
Когда мы взбирались по лестнице ресторана, Габриэль крикнул:
– Я подожду вас, синьоры!
– Убирайся к черту!
– Синьоры только крикнут – и я уже тут как тут.
В итальянских ресторанах средней руки у нас своя линия поведения, выработанная общими усилиями хитроумного Сандерса и изобретательного Крысакова.
Дело в том, что рестораторы и слуги – невероятные бестии, жадные, трусливые, нахальные, только и помышляющие о том, как бы надуть бедного путешественника, подсунув ему вместо асти – помои, заменив заказанное кушанье отвратительным месивом и приписав к счету процентов пятьдесят.
Поэтому мы, являясь в ресторан, с места в карьер подчеркиваем – с кем им придется иметь дело.
– Почему на скатерти пятно? – яростно кричит Крысаков, свирепо вращая глазами. – Что? Где? Вот оно! Если вы вытираете сапоги скатертью, так можете сунуть ее в карман, а не подсовывать нам!! Это что?? Это что?! Вода? А графин? Его когда мыли? Такие графины на стол ставят?! Позвать метрдотеля! Хозяина сюда! Как же вы нас накормите, если у вас так обращаются с гостями!! На ножах ржавчина! Ложки погнуты! Одна ножка стола короче других!! А? Позовите сюда полицию… Мы консулу пожалуемся!!! Все ваше гнусное заведение по косточкам разнесем!!!
Все обитатели ресторана мечутся около нас в паническом ужасе.
– Будет, – деловито говорит Мифасов. – Довольно. Теперь они подготовлены…
Мы сразу успокаивались.
И, действительно – после этого за нами ухаживали, как за принцами. Подавали лучшее вино, прекрасное кушанье, и счет предъявлялся потом такой честный и скромный, что всякий не отказался бы выдать за него собственную дочь.
– Хорошо ли поужинали, синьоры? Габриэль ждет вас – и лошадка его тоже ждет добрых великодушных синьоров… Какие-то господа сейчас нанимали нас, но мы с лошадкой отказались.
– Вы знаете, что? – дрожа от негодования, вскричал Мифасов. – Я думаю, что нам придется из-за этого проклятого человека уехать из Неаполя раньше времени. Вы подумайте, если он умрет с голоду, мы будем виновниками его смерти… Потому что он не пьет, не ест и ездит за нами с утра до ночи. Он ничего не зарабатывает, не получает ни от нас, ни от других пассажиров, которым он из-за нас отказывает! Что привязало его к нам? Какую несбыточную мечту лелеет он, привязавшись к нам, как пиявка к бескровному железу. Постойте! Я ему сейчас скажу все как следует!
– Не надо! Самое лучшее не обращать на него внимания… Представим себе, что его нет.
Мы пошли дальше, весело беседуя, а Габриэль плелся за нами на своей лошаденке, изредка окликая нас, льстя и заискивая.
С этого вечера мы стали прикидываться, что совершенно не замечаем его, не слышим его голоса и не видим тела. Он вертелся около нас, предлагал, клянчил, а мы продолжали начатую беседу и смотрели сквозь него, как сквозь оконное стекло, равнодушным, неостанавливающимся взглядом.
Утром возник спор, ехать ли в Помпею и на Везувий или только в одну Помпею.
– На что нам Везувий? – говорил Сандерс. – Обыкновенная гора с дырой посредине. Ни красоты, ни смысла. Тем более что она ведь и не дымится.
– Тогда, значит, и Траянову арку не нужно было смотреть: обыкновенная арка, с дырой посредине и тоже не дымится.
– Это не то. Не можем же мы рассматривать все интересные предметы только с двух сторон: дымятся они или не дымятся. А вулкан должен дымиться. Это его профессия. Если же он этого не делает – не стоит и смотреть на лодыря.
– Господа! Кто за Везувий, – сказал Крысаков, – пусть подымет руки.
Было так жарко, что никто и не пошевелился. Даже сам Крысаков – поклонник вулканов – помахал рукой, но поднять ее не имел силы.
Везувий провалился.
Гид, нанятый через контору гостиницы, повез нас в Помпею.
Конечно, почти всю дорогу за нами ехал Габриэль, взывая к нам, предлагая освободить нас от гида и суля различные диковинные уголки в Помпее, о которых гид и не слыхивал.
Пустые угрюмые развалины Помпеи производят тягостное, хватающее за душу впечатление. Стоят одинокие пустые, как глазницы черепа, примолкшие дома, облитые жестоким, палящим глаза солнцем… В каждом закоулке, в каждом крошечном мозаичном дворике притаились тысячелетия, перед которыми такими смешными, жалкими кажутся наши «завтра», «на той неделе» и «в позапрошлом году».
Останавливает внимание и углубляет мысль не главное, не вся улица или дом, а какой-нибудь трогательный по жизненности пустяк: камень, лежащий посреди узкой улицы на повороте и служивший помпейским гражданам для перехода в грязную погоду с одной стороны улицы на другую; какой-нибудь каменный прилавок с углублением посредине для вина – в том домишке, который когда-то был винной лавкой.
Это дает такое до жгучести яркое представление о прошлой повседневной жизни! Так хочется закрыть глаза, задуматься и представить толстого, обрюзгшего продавца вина, разгульных покупателей, толпящихся в лавчонке, стук сандалий промелькнувшей мимо женщины; стан ее лениво изгибается от тяжести кувшина с водой, и черные глаза щурятся от солнца, разбивающего золотые лучи о белый мрамор стен…Спит мертвая теперь, высохшая, изглоданная временем, как мумия, Помпея – скелет, открытый через две тысячи лет.
Только проворные изумрудные ящерицы быстро и бесшумно скользят среди расщелин стены, покрытой тысячелетней пылью, да болтливый, жадный, вертлявый гид оглашает немолчной трескотней мертвые, как раскрытый гроб, улицы.
Вот посреди улицы фонтан… Бронзовый фавн с раскрытым ртом, из которого когда-то лилась вода. Гид обращает наше внимание: нижняя губа и часть щеки фавна совершенно стерты; на мраморе водоема видна большая глубокая впадина – будто оттиск руки в мягком тесте. Это – следы миллионов прикосновений уст жаждущих помпеян – на лице бронзового фавна, и миллионы прикосновений рук, опиравшихся на мраморный край водоема, в то время когда губы сливались с бронзовыми губами фавна…
В Риме, в соборе Св. Петра, большой палец бронзовой статуи Петра наполовину стерт поцелуями верующих; в какой-то другой церкви мраморная статуя популярного святого имеет странный вид – одна нога обута в бронзовый башмак. Зачем? Мрамор очень непрочный материал для поцелуев. Надолго его не хватит.
Этот стертый рот фавна и большой палец св. Петра дают такое ясное представление о времени, мере и числе, что сжимаешься, делаешься маленьким-маленьким и чувствуешь себя песчинкой, подхваченной могучим самумом, рядом с миллионами других песчинок, увлекаемых в общую мировую могилу…
– Что он вам показывает какого-то дурацкого фавна. Пойдем со мной, добрые, великодушные синьоры!.. Я вам покажу такие пикантные фрески, что вы ахнете. Только мужчинам их показывают, дорогие, прекрасные синьоры!
Из-за расщелины стены показывается орошенная обильным потом плутоватая физиономия Габриэля.
– Что он вам показывает? Все какую-то чепуху… А я вам, синьоры, мог бы показать неприличную статую фавна.
Наш гид настроен серьезно, академично, мошенник же Габриэль, наоборот, весь погряз в эротике, и вне гривуазности и сала – никакого смысла жизни не видит.
Гид отгоняет его, но он увязывается за нами и, следуя сзади, с сардонической улыбкой выслушивает объяснения гида.
– Вот тут, в этом доме, при раскопках нашли мать и ребенка, которые теперь находятся в здешнем музее. Мать, засыпаемая лавой, не нашла в себе силы выбраться из дома – так и застыла, прижав к груди ребенка…
– А неприличную собаку видели, синьоры? – вмешивается Габриэль. – Вот-то штучка… Хи-хи…
Никто ему не отвечает.
В каком-то доме мы, наконец, к превеликому восторгу Габриэля, натыкаемся на висящий на стене деревянный футляр, в виде шкапчика…
Его открывают… Если в античные времена эта фреска красовалась без всякого прикрытия – античная публика имела о стыдливости и пристойности особое представление.
Габриэль корчится от циничного смеха; наш гид снисходительно подмигивает, обращая наше внимание на некоторые детали.
Человек, который показывает эту непристойность, просит на чай; тот человек, который впустил нас в дом, – тоже просит на чай; и тот человек, который пропустил нас в какие-то ворота, – взял на чай.
В помпейском музее брали с нас за вход в каждую дверь; неизвестный человек указал пальцем на иссохшее тело помпейца, лежащее под стеклом, сказал:
– Это тело помпейца.
И протянул руку за подаянием.
Я указал ему на Крысакова и сказал:
– Это тело Крысакова.
После чего, в свою очередь, протянул ему руку за подаянием.
Он ничего мне не заплатил, хотя мои сведения были ценнее его сведений: я знал, что его помпеец – помпеец, а он не знал, что мой Крысаков – Крысаков.
Возвращаясь обратно на станцию, мы наткнулись на громадные штабели лавы, сложенной здесь после раскопок; на несколько верст тянулись эти штабели.
Вышел из хижины человек, взял несколько кусков лавы в орех величиной и роздал нам на память. Потом попросил уплатить ему за это.
– Сколько? – серьезно спросил Мифасов.
– О, это сколько будет вам угодно!..
– Нет – так нельзя. Всякая вещь должна быть оплачена ее стоимостью. Во сколько вы цените врученные нам кусочки?
– Если синьоры дадут мне лиру – я буду доволен.
– Сандерс! Уплатите ему лиру.
Мифасов оглядел необозримое пространство, покрытое лавой, и завистливо сказал:
– Какая богатая страна – Италия!
– Почему?
– Четыре кусочка лавы общим весом в четверть фунта – стоят одну лиру. Сколько же должно стоить все, что тут лежит? Интересно высчитать.
Возвращались усталые.
– Видели в музее сохранившиеся зерна пшеницы, кусочки почерневшего хлеба и даже остатки какого-то кушанья… Это изумительно!
– Понимаю, – подмигнул Крысаков, – просто вы проголодались и потому сворачиваете все на съестное. Вон, кстати, и ресторанчик.
Первый стакан кьянти приободрил нас.
– Милое винцо! Смотрите, господа, что это Сандерс такой задумчивый? Сандерс! Что с вами?
Он рассеянно поднял опущенные глаза и сказал:
– Приблизительно около двенадцати с половиной миллиардов пудов на общую сумму девятьсот миллиардов рублей.
– Чего?!!
– Лавы. Тут.
2
Розовая черепаха. – Максим Горький. – Итальянская толпа. – Старик. – Тяжелое путешествие. – Последнее мошенничество. – Опять Габриэль
На Капри пароход отходил утром.
Так как весь Неаполь пропитан звуками музыки и пения, то и на пароходе оказался целый оркестр.
Хорошо живется бездельничающему туристу. Сидит он, развалясь под тентом, а ему играют неаполитанские канцонетты, пляшут перед ним, охлаждают пересохшее от жары горло какой-то лимонной дрянью со льдом – и за все это лиры, лиры, лиры…
Тут же у ног пресмыкается продавец черепаховых изделий и кораллов.
Крысаков, осажденный продавцом, пробует притвориться глухим, но когда это не помогает, прибегает к странному способу: он берет нитку кораллов, осматривает их и пренебрежительно говорит:
– Ну, милый мой, какая же это черепаха!.. Ничего общего.
– Да это, синьор, не черепаха. Это кораллы.
– Что? Не слышу. Ты можешь мне клясться хоть отцом родным – я не поверю, что это черепаха. Разве розовые черепахи бывают?
– Но это не черепаха! Я и не говорю, что это черепаха. Это кораллы.
– Что? Не слышу. А это что? Коралл? Почему же он в форме гребенки?.. Ты, братец, изолгался; ну разве бывает коралл прозрачный, коричневого цвета. Это что-то среднее между янтарем и агатом. Что? Не слышу!
Продавец орет Крысакову в самое ухо:
– Это и есть, господин, черепаха! Настоящий черепаховый гребень.
– Врешь, врешь! Он на коралл ни капельки не похож. Как не стыдно?! Господа, разве это коралл?
– Конечно, не коралл, – в один голос поддерживаем мы.
– Ну, вот видишь. Ты уж думаешь, если мы иностранцы, русские, – так и ничего не понимаем. У нас, братец, за такие штуки в полицию тянут. Ступайте, чужеземец.
Скрипки заливаются, солнце печет, винт оставляет сзади на чудесном лазурном зеркале воды – длинную вспаханную борозду.
У «голубой пещеры» пароход останавливается. Туча лодок подлетает к пароходу, лодочники разбирают пассажиров, и мы, улегшись на дно лодки, вползаем в пещеру.
За то, что пещера, действительно, голубая – с нас берет по лире главный лодочник, берут простые лодочники и потом еще взыскивают в пользу какого-то акционерного общества, которое эксплуатирует голубую пещеру.
Туристы нисколько не напоминают баранов, потому что баранов стригут два раза в год, а туристов – каждый день.
Я не сказал о цели нашей поездки на Капри – мы ехали к Максиму Горькому.
Я бы мог многое рассказать об этом чудесном, интереснейшем человеке нашего времени, об этой кристальной душе, узнав которую, нельзя не полюбить крепко и надолго; я бы мог рассказать о его жизни, так непохожей теперь на печение булок в пекарне, о его мастерском увлекательном разговоре, о детском смехе и незлобии, с которым он рассказывает о попытках компатриотов в гороховых пальто залучить его на родину; бедные гороховые пальто потратились на дорогу, приехали, организовали слежку, но все это было так глупо устроено, что веселые итальянцы за животы хватались от смеху. Так ни с чем и уехали компатриоты; разве что только русский престиж среди итальянцев подняли.
Я бы мог рассказать о той исключительной приветливости и радушии, с которыми мы были встречены писателем…
Но, щадя его скромность, пропущу все это.
А вот нижеизложенное имеет некоторое отношение к этой книге…
Мы говорили о Неаполе.
– О, видите ли, – сказал Горький, – есть два Неаполя. Один Неаполь туристов: жадный, плутоватый, испорченный и распутный; другой – просто Неаполь. Этот чудесен. И неаполитанцы тоже бывают разные… К сожалению, иностранца встречают только отбросы, специально живущие на счет туристов, обирающие их. Будьте уверены, что настоящий неаполитанец с глубоким отвращением относится ко всем этим «тарантеллам», ко всему тому, что специально создано для нездорового спроса форестьера. Нужно пожить между итальянцами, чтобы узнать их. Они добры, великодушны, горячи и неизменно веселы. Я вам расскажу сейчас один случай, очень характеризующий славных неаполитанцев…
Пришло в Неаполь однажды какое-то русское судно. Матрос, отпросившись на берег, стал бродить по городу, дивясь на незнакомую обстановку, пока не наткнулся на кинематограф. Бедняге вятичу или костромичу, взятому от сохи, никогда не приходилось видеть раньше кинематографа, и он решил посмотреть. Купил билет, сел. Просмотрел всю программу – пришел в такой восторг, что остался снова ее смотреть… Билета с него второй раз не спросили, но покосились… Просмотрел второй раз программу… Восхищение его было так велико, что он остался и на третий раз. Тут уж хозяин не выдержал – потребовал, чтобы матросик взял второй билет. Матросик заспорил и, по незнанию ли итальянского языка или по чему другому – но дал хозяину зуботычину. Поднялся крик – матросика схватили и потащили в полицию.
Итальянская толпа любопытна до истерики. Увидели, что ведут чужеземца в полицию, заинтересовались:
– За что? Что сделал?
Хозяин кинематографа рассказал; «смотрел, дескать, человек программу два раза, да еще хотел и в третий раз смотреть. А деньги за билет уплатить отказался, да, кроме того, когда его стали выводить – вступил в драку».
Посмотрели неаполитанцы на матросика.
– Знаете что, – обращаются к полицейским и хозяину. – Отпустите вы его.
– Как так, отпустите?
– Ну, чего там… Бедный человек, видит кинематограф впервые, обрадовался, что дорвался, – за что его в полицию?
– В самом деле, отпустите его.
Толпа загудела – сначала просительно, потом – не просительно.
– Отпустите этого человека! Отпустите его! – гудела вся улица.
Итальянская толпа шутить не любит. Просят, значит, надо сделать.
– Ну, бог с тобой, – согласился кинематографщик. – Ступай! Отпустите его, я ничего против него не имею.
Торжествующая толпа бросилась качать кинематографщика, полицейских; потом устроила овацию матросику, подхватила его на руки и с веселым пеньем и плясками повела в ближайший кинематограф.
Ввалились, просмотрели программу, подхватили опять матросика на руки и с той же восторженностью повлекли в другой кинематограф, оттуда в третий, четвертый, и так до самого вечера, пока несчастный матросик не взмолился:
– Братцы, отпустите меня! Тошнит меня от него…
Вот и вся история. Но сколько в ней неожиданности, добродушия и милой шутки. Ко всякому поводу придерется неаполитанец, чтобы погорланить, повеселиться и поплясать.
До сих пор не могу сказать точно, какое впечатление произвели мы на Максима Горького.
Говорю это потому, что знаю – порознь каждый из нас сносный человек, но все мы in corpore [42] – представляем собою потрясающее зрелище. Человек с самыми крепкими нервами выносит пребывание в нашей компании не больше двух-трех часов. Шутки и веселье хороши, как приправа, но если устроить человеку обед из трех блюд: на первое соль, на второе горчица и на третье уксус – он на половине обеда взвоет и сбежит.
Однажды ехали мы из Петрограда в Москву – Крысаков, Мифасов и я. В четырехместное купе к нам сел какой-то сумрачный старик. Он начал сурово прислушиваться к нашему разговору… Постепенно морщины на его лице стали разглаживаться, через пять минут он стал усмехаться, а через полчаса хохотал как сумасшедший, радуясь, что попал в такую хорошую компанию. В начале второго часа смех его заменился легкой, немного усталой усмешкой, в середине второго часа усмешка сбежала с лица, и весь он осунулся, со страхом поглядывая на нашу компанию, а к исходу второго часа – схватил свои вещи и в ужасе убежал отыскивать другое купе.
Мы же были свежи и бодры, как втянувшиеся в алкоголь пьяницы, которых и бутылка рому не свалит с ног.На другой день мы решили сами (безо всякой просьбы со стороны Горького) покинуть Капри и вернуться на родину – в Неаполь.
Пароход отходил в 4 часа дня, но был другой способ добраться до Неаполя – на лодке.
Мы с Крысаковым сначала колебались в выборе, но когда Мифасов и Сандерс подали голоса за пароход – мы решили ехать на лодке.
Минусы были таковы: 30 верст по палящей жаре. Если не будет ветра – на веслах 6–7 часов езды (на пароходе 1½ часа), если же будет ветер, то будет и качка. Цена – на пароходе 8 лир, на лодке 30.
Облив Сандерса и Мифасова потоком холодных, ядовитых, презрительных слов и замечаний, мы вдвоем сели в 10 часов утра и поехали.
Ветер оказался таков: не настолько сильный, чтобы надуть паруса, и не настолько слабый, чтобы не было качки.
Поэтому мы стояли на месте, и нас качало. Я немедленно подружился с лодочниками. Откупорил бутылку кьянти, угостил этих добрых людей, эти добрые люди угостили меня какой-то колбасой с хлебом, и потом я с этими добрыми людьми принялся горланить неаполитанские песни.
Что в это время делалось с Крысаковым – говорить не буду; он частенько наклонялся за борт, и не знаю, что заставляло его вести себя так – проклятая качка, которой он не переносил, или наше энергичное, но нестройное пение.
А сверху палило прежестокое, обваривавшее нас, как раков, солнце, а внизу колыхалась изумрудная вода, и вялый парус ласково трепал Крысакова по лицу.
Бедняга частенько наклонялся за борт, и мы из деликатности отворачивались, рассматривая какую-нибудь чайку и заглушая его стоны визгливым пением «Bella Napoli» и «Sole mio».
Приехали мы на полчаса (они выехали в 4 часа!) позднее Сандерса и Мифасова. То есть приехал я почти один, потому что от большого могучего Крысакова осталась одна оболочка, которую я, как плед, перекинул через руку, выходя из лодки.
Нужно было три дня, чтобы набить эту опустевшую оболочку пищей и чтобы эта оболочка приняла некоторое подобие контуров прежнего Крысакова.
Очнувшись, он протянул мне слабую руку, и первые слова его были таковы:
– Теперь вы можете представить, как я вас люблю, если согласился, ради вас, на такую штуку!
– Спасибо, – добродушно сказал я. – Обещаю вам, что первую попавшуюся картинную галерею исхожу с вами вдоль и поперек…
Прощай, прекрасный Неаполь!.. Мы уезжаем.
Заключительный неаполитанский аккорд был таков: собираясь ехать на пристань, мы с Сандерсом наняли извозчика; сели, тронулись.
Меланхоличный Сандерс, бродя рассеянным взором по окружающему, увидел на стекле таксометра нашего извозчика какую-то маленькую прилипшую бумажечку, в полтинник величиной; от скуки он стал пальцем соскабливать ее. Бумажечка сейчас же отклеилась и – о чудо! Под ней на таксометре красовалась цифра – 2 лиры!
Мы только что тронулись, и поэтому с нас могло следовать не более двадцати чентезимов…
– Стой! – заорали мы. – Это что такое? Откуда у тебя две лиры?
Извозчик сразу прикинулся не понимающим по-французски (в Италии почти все говорят довольно внятно по-французски) и стал что-то объяснять нам, спорить, кричать.
Бедняга не знал нашей системы. Мы сразу подняли такой вой и крик, что сбежалось пол-Неаполя.
– В полицию! – ревел я. – К консулу! Телеграмму посланнику!! Разбойники!..
– Стреляйте в него, – кричал Сандерс. – Где ваш ножик? Нас грабят!! Перережьте ему горло!
Извозчик обрел неожиданный дар французской речи. Подобострастно вскочил, низко кланяясь, перевел механизм таксометра, и мы, сразу заговорив обыкновенными спокойными голосами, двинулись под восторженные клики собравшейся толпы.
Больше всех был в восторге наш возница. Он смотрел на нас с восхищением, оборачивался, хлопал меня по коленке и говорил:
– Добрый синьор руссо – умный, понимающий человек. Он прекрасный чудесный путешественник, и пусть он не сердится на Беппо. Ну, вышла маленькая ошибочка – чего там… Хе-хе.
Мы приехали на пристань.
Правду говорит пословица: «Кто на море не бывал, тот горя не видал», – пароход задержался с погрузкой, и нам пришлось ожидать четыре часа.
Всякий развлекался как хотел: Крысаков ел, Сандерс спал, а мы с Мифасовым бросали в воду серебряные монеты. Несколько юрких мальчишек бросались за ними с пристани, ныряли и доставали со дна. Были изумительные искусники.
Какой-то немец тоже бросал монеты, но, как человек экономный, не желающий даром тратить денег, он – или забрасывал монету за двадцать метров от намеченного ныряльщиками места, или старался попасть ныряльщикам в голову…
Прогудел уже второй гудок, и в это время на пристани показался Габриэль. Он долго отыскивал нас глазами, а найдя – закричал, заплясал и стал посылать нам воздушные поцелуи.
– А что, господа, – сказал Мифасов. – Может быть, он всюду увязывался за нами не из-за выгоды, не из-за денег, а просто потому, что искренно полюбил нас. А мы не понимали его, гнали, унижали и не замечали.
Это было совершенно новое освещение поступков Габриэля. Мы наскоро сложились, завернули в бумагу несколько лир и бросили это сооружение Габриэлю.
И за этим последовал не дождь, а целый ливень воздушных поцелуев… с обеих сторон.
– Прощай, Габриэль! Кланяйся иссохшему помпейскому человеку! Поцелуй от нас мартаделлу.
Бедный, милый Габриэль!.. Прощай. Ты ведь никогда, никогда, вероятно, не узнаешь, что я, где-то в далекой России, вспоминаю о тебе в книге, написанной непонятным тебе, кроме слова «купаться», языком и напечатанной непонятными буквами.На пароходе из Неаполя в Геную
– А братья есть у вас?
– О, да. Семь миллионов, три миллиона и четырнадцать с половиной.
– Простите… что вы такое говорите?
– В этих суммах выражается состояние каждого из них! Трое.
– А матушка ваша… жива?
– Нет. Скончалась. Позвольте… дайте вспомнить… Да! Двадцать восемь тысяч долларов было истрачено на ее похороны.
– Вероятно, ваша семья сильно горевала?
– Еще бы! Приостановка дела на четыре дня дала по конторе убытку около четырехсот тысяч… А когда умерла бабка Стивенсон, их горе не стоило и сотняги тысяч. Вот вы и смекните.
– Да? Какое бессердечие… Смотрите, что за чудесное облако направо от нашего парохода!..
– Будущий атмосферный осадок. Если бы его перегнать на сушу, да спустить на пшеницу – ого!
– А что?
– А то, что за него всякий неглупый сельский хозяин пару сотен отвалит.
Это было мое первое знакомство и первый разговор с мистером Джошуа Перкинсом. Он казался самым обыкновенным американцем: одетый в брюки отвратительного американского фасона и ботинки, похожие больше на лошадиные копыта, он шатался по всему пароходу без пиджака и жилета, с засученными рукавами, распевал пронзительным, фальшивым голосом ужасные американские песенки и презирал всех так откровенно и беззаботно, что все полюбили его.
Только ко мне он благоволил, потому что при первой встрече я выказал себя еще большим американцем, чем он: выйдя после обеда на палубу и заметив, что мистер Перкинс развалился на занятом мною longue chaise’e, я подошел и, лениво зевнув, опустился к нему на колени.
Он забился подо мной, завыл и, сбросив меня, в бешенстве вскочил на ноги.
– Простите, – заметил я, – но я сел на свое место. Вот карточка с моим именем на спинке.
Он захохотал и, пересев на соседний стул, вступил со мной в вышеприведенный разговор.
После замечания относительно облака он посвистал немного и спросил:
– Женаты?
– Был.
– Жена?
– Умерла.
– От чего?
– О, это тяжелая история… Она сгорела на моих глазах от лопнувшей бутылки с бензином.
– А!
В глазах его засветился живой интерес к моим словам.
– Тяжелая история?
– Да. Очень.
– Хотите дело?
– ?..
– Я, вероятно, не говорил вам, что у меня в Нью-Йорке есть две газеты… Опишите вашу историю погуще – у вас есть литературное имя – я смогу заплатить вам по полдоллара за строчку.
– Нет. Не хочу.
– Почему? Мне просто хочется утереть такой штукой нос этому зазнавшемуся каналье Чарли Пегготу. Он изо дня в день пичкает своих читателей историями о вырытых трупах и взбесившихся животных – этот мошенник Пеггот…
– Я не могу принять вашего предложения, – сухо отвечал я.
Он похлопал меня по плечу.
– Молодец! Я, признаться, хотел испытать вас – настоящий вы мужчина или нет. Вы сразу раскусили меня. Действительно, полдоллара за строчку – это сор. Аll right! Я заплачу вам доллар.
– Не находите ли вы, – угрюмо возразил я, – что покойница, дорогая сердцу мужа, – плохое средство для утирания носов зазнавшимся Чарли Пегготам.
Джошуа Перкинс смутился и крепко пожал мою руку.
– Простите, если я не так выразился. Конечно, утирание носа Пегготу вашей… дорогой покойницей… это скорее метафорический оборот…
– Ничего. Прекратим этот разговор. Вы давно путешествуете по Европе?
– Третий месяц.
– Что же вас тут больше всего интересует?
– Искусство.
– Значит – музеи, картинные галереи, да?
– Да. Есть изумительные вещи. Говорят, тут за одного Рубенса отвалили около двух миллионов?
– Да.
– Вот это приемная вещь!
– Что это такое – приемная?
– Вещь, которую не стыдно повесить в приемной. А, откровенно говоря, все эти Луки Кранахи да Паоло Веронезе – ведь это так… для кабинета или в другую какую комнату… а?
Он нерешительно заглянул в мое непроницаемое лицо.
– А? как вы думаете?
– Да… Это правда. Кранахом Пегготу носа не утрешь!
– Вы думаете? Это, пожалуй, верно. Можете представить, у него в буфетной комнате, в дверцах буфета, вделаны четыре настоящих Фрагонара!
– Шикарно! Надеюсь, вы утерли нос этому зазнавшемуся выскочке?
Джошуа подмигнул мне:
– Собираюсь. Да так, что он и не ожидает! Хе-хе!
Мы оба долго смеялись.
– Небось, – предположил я, – обмеблируете свою квартиру египетскими мумиями? Они стоят бешеных денег. А живот ей выдолбить, да устроить там погребец для ликеров… То-то позеленеет ваш Пеггот.
– Нет, это почище мумий. Вы знаете, я подыскиваю себе старинный замок!
– Для чего?
– Жить в нем. Буду приезжать месяца на три в год, да и жить в нем. Не правда ли, комфортабельно?
– Нашли что-нибудь подходящее?
– Нет. Есть или простые развалины, или хорошие замки, но не продают. Я приторговывал замок Барбароссы в Нюрнберге… Нет, говорят, нельзя. Почему? – неизвестно!
– Как же вы думаете устроиться?
– Я уже говорил с архитектором. Он обещал выстроить новый, но как бы старый. Как вы думаете?
Я подумал немного и сказал решительно:
– Нет, это не то.
– Ну, что вы говорите!..
– В старых замках обыкновенно есть прекрасные галереи портретов, где так сладостно-жутко и страшно по ночам, когда желтая луна тускло светит в разбитые, затканные паутиной окна…
– О, за этим дело не станет. Любой антикварий развесит за гроши целую галерею!.. Стекла, если их разбить…
– Пожалуй. Но где летучие мыши, гнездящиеся под потолком полуразрушенной башни, где треск ветхой мебели, шорохи под полом и завывание ветра в трубе громадного, веками закопченного камина?
– Да, это так. Гм…
Джошуа поднял ноги, положил их на перила палубы и, осмотрев свои похожие на лошадиные копыта башмаки, спросил:
– А вы не знаете, как их разводят?
– Кого?
– Летучих мышей.
– Кто же их разводит… Сами разводятся. Черт их знает как. Пустите одну пару для завода, а там видно будет. Остальное, конечно, пустяки. Камин можно закоптить порохом, под полом поставить несколько аппаратов, которые трещали бы при ходьбе, ветер в трубе прекрасно имитируется парой органных труб, вековая пыль в нежилых комнатах оседает в три дня, если десяток дюжин рабочих будет посменно шаркать пыльными сапогами… Все это не так трудно. И устроите вы такое помещеньице, что утрете нос самому Барбароссе… Одного только у вас не будет.
– Ого!
– Да-с. Не будет у вас старого зловещего привидения, которое бродило бы по ночам, пугая обитателей замка.
– Да ведь привидений-то вообще нет.
– Ну, это смотря где. Конечно, в вашем нью-йоркском небоскребе ему не ужиться, а в старых замках их целые гнезда.
– Может быть, и у меня заведется…
– Не-ет, дорогой мой… На имитацию его не подловишь. Оно, как тесто на муке, замешивается на легенде, на каком-нибудь старинном злодеянии. А старинного злодеяния вам за миллион не устроить.
Джошуа был огорошен искренно и серьезно.
– Наловить их в развалинах да напустить ко мне…
– Убегут. Главное дело – легенды нет. Злодеяния нет.
– Есть дело! – сказал Джошуа, хлопнув меня по колену. – Вы писатель? Так придумайте мне легенду. Легенду старинного замка Джошуа Перкинса.
– Да что ж тут можно придумать? Есть определенные американские легенды: железнодорожные короли Дженкинс и Бридж, имея две параллельные железнодорожные линии, конкурировали в ценах на перевозку скота из места, где его было много, в места, где его было мало. Дженкинс спустил цены за перевозку до минимума, а Бридж, по американскому обычаю, захотел «утереть нос» Дженкинсу и назначил цены себе в громадный убыток. Что же делает умный Дженкинс? Он начинает сам покупать скот и отправлять его за гроши по дороге своего конкурента, кладя в карман огромные прибыли, чем и разоряет его. Вот вам и легенда. А что из нее сделаешь? Если даже Бридж повесился, то и тогда что он скажет Дженкинсу, явившись к нему темной страшной ночью – в качестве привидения? «Дженкинс, Дженкинс, – скажет он только, – зачем ты отправлял скот по моей дороге?» – «Да ведь и ты, голубчик, – основательно возразит ему Дженкинс, – спустил цены так, что хоть ложись да помирай. Не надо было зарываться». Нет. Такой легенды никакой замок не выдержит.
Джошуа сосредоточился, что-то припоминая.
– А вот у меня дед скончался при крайне таинственных обстоятельствах.
– Именно?
– Его повесили в Канзасе за кражу лошадей…
Я скептически пожал плечами:
– Уж и легенда! Да махните рукой на привидение. Живите так.
– Это не то. Не комфортабельно. Впрочем, я поговорю с архитектором.
– Вам бы жениться лучше, – посоветовал я.
– О, это очень трудная вещь – брак. У меня есть две девушки на примете – не знаю, на какой из них остановиться.
– А какая между ними разница?
– Хлебный элеватор.
– Удивляюсь я вам, американцам… Все вы сводите на деньги да на элеваторы. Могли бы хоть тут последовать влечению сердца. Каковы они собою?
– Одна миниатюрная, небольшого роста, килограммов около пятидесяти весу, другая высокая, хорошо развитая девушка.
– Килограммов в семьдесят?
– Да, около этого. Вот вы тут и посоветуйте!..
– И советовать нечего. Женитесь на той, которая весит больше.
Он с сомнением посмотрел на меня – не смеюсь ли я.
– Однако… Это, мне кажется, несколько меркантильный взгляд…
– Ничуть! – горячо возразил я. – Вы подумайте. Что такое жена? Это нечто такое, что дороже всего человеку. И если этого дорогого, прекрасного будет на двадцать процентов больше, то не ясно ли, даже не умеющему считать, что от этого счастье обладания любимым существом подымется на такое же количество процентов.
Он снисходительно пожал плечами:
– Эти европейцы неисправимые идеалисты. Впрочем… Пароход наш уже подходит к Генуе… Мы сейчас расстанемся. Я совершенно незаметно провел с вами два часа сорок семь минут. Очень рад. Не откажитесь принять от меня на память эту любопытную вещицу!
Джошуа вынул из бумажника зубочистку и благоговейно протянул ее мне.
– Это что такое?
– Это замечательные зубочистки. Их всего у меня три, и каждая обошлась мне в 300 долларов.
– Из чего же они сделаны? – изумился я.
Он самодовольно улыбнулся:
– Из пера на шляпе Наполеона Первого, на той самой шляпе, в которой он был на Аркольском мосту. Мне было очень трудно достать эту вещь!
Джошуа Перкинс пожал мне руку, надел пиджак, засвистал фальшиво и зашагал за носильщиком.
Я подошел к борту парохода, бросил наполеоновскую зубочистку в воду и стал смотреть на закат…
Генуя
Генуя знаменита своим Campo Santo; Campo Santo знаменито мраморными памятниками; памятники знамениты своей скульптурой, а так как скульптура эта – невероятная пошлятина, то о Генуе и говорить не стоит.
Впрочем, есть люди, которые с умилением взирают на такие, например, скульптурные мотивы:
1) Мраморный детина, в мешковатом сюртуке, брюках старого покроя и громадных ботинках, стоит у чайницы, долженствующей, по мысли скульптора, изображать могилу отца детины; детина, положив под мышку котелок, плачет. Ангел, сидя на чайнице, тычет в нос безутешному молодцу какую-то ветку.
2) Огромный барельеф: внизу на крышке гроба стоит ангел и передает, вытянув руки, парящему наверху ангелу – покойника, с безмолвной просьбой распорядиться им по своему усмотрению.
3) Безносая смерть тащит упирающуюся девицу в склеп.
4) А вот девица, судьба которой лучше – ее просто два ангела ведут под руки к вечному блаженству.
5) Целая композиция: мраморный хозяин умирает на мраморной кровати, окруженный домочадцами; налево господин в мраморном галстуке не то утешает, не то щекочет пальцем даму, возведшую глаза горе.
Всюду невероятное смешение старомодных сюртуков и панталон с ангельскими крыльями, ангельскими хитонами, ангельскими факелами в руках.
Ангельское терпение нужно, чтобы пересмотреть всю эту бессмыслицу.
Во время нашего путешествия по этому бесконечному морю испорченного мрамора произошел странный инцидент.
Именно: Крысаков, который задержался около стучащейся в райские двери девицы, вдруг догнал нас бледный и в ужасе зашептал:
– Со мной что-то случилось…
– Что такое?
– Сколько кьянти выпили мы за завтраком? – спросил Крысаков, дрожа от страха.
– Сколько каждому хотелось – ни на каплю больше. А что случилось?
– Дело в том – я не знаю, что со мной сделалось, но я сразу стал понимать по-итальянски.
– Как так? Почему?
– Видите ли, около той «девушки у врат» стоит публика. Вдруг кто-то из них заговорил – и я сразу чувствую, что понимаю все, что он говорит!
– Какой вздор! Этого не может быть.
– Уверяю вас! Другой ему ответил – и что же! Я чувствую, что понял и ответ.
– Тут что-то неладно… Пойдем к ним!
Мы подошли.
– Слышите, слышите? Я прекрасно сейчас понимаю, о чем они говорят… О том, что такой сюжет они уже встречали в Риме… Хотите, я вам буду переводить?
– Не стоит. Это излишне.
– По… почему?
– Потому что они говорят по-русски.
Мифасов оглядел фигуру смущенного Крысакова и уронил великолепное:
– Удивительно, как вы еще понимаете по-русски.
Страшный путь
Путь из Генуи в Ниццу был ужасен. Отвратительные, грязные вагоны, копоть, духота.
Все мы грязные, немытые – и умыться негде.
Едим ветчину, разрывая ее пальцами, и пьем кьянти из апельсинных шкурок и свернутых в трубочку визитных карточек.
Солнце склонялось к закату. Все мы сидели злые, мрачные и все время поглядывали подстерегающими взорами друг на друга, только и ожидая удобного случая к чему-нибудь придраться.
В вагоне сразу стемнело.
– Удивительно, как на юге быстро наступает ночь, – заметил Мифасов. – Не успеешь оглянуться, как уже и стемнело.
– Удивительно, как вы все знаете, – саркастически заметил Сандерс.
– В вас меня удивляет обратное, – возразил Мифасов.
Вдруг в вагоне стало проясняться, и опять дневной свет ворвался в окно.
– Удивительно, – захихикал Сандерс, – как на юге быстро светлеет.
Поезд опять нырнул в туннель.
– Удивительно, – сказал Крысаков, – как на юге быстро темнеет…
– Черт возьми, – проворчал Сандерс, – как быстро время летит. Сегодня только выехали, и уже прошло три денечка.
– Опять темнеет! Четвертая ночка!
– А вот уже и рассвет… Четвертый денечек. С добрым утром, господа.
Угрюмо озираясь, сидел затравленный Мифасов.
Чем дальше, тем туннели попадались чаще, и до границы мы проехали их не меньше сотни.
Когда, по выражению Крысакова, «наступила ночка», я вдруг почувствовал, что какое-то тяжелое тело навалилось на меня и стало колотить меня по спине. Я с силой ущипнул неизвестное тело за руку, оно взвизгнуло и отпрыгнуло.
Поезд вылетел из туннеля – все смирно сидели на своих местах, апатично поглядывая друг на друга.
– Хорошо же, – подумал я.
Едва только поезд нырнул в следующий туннель, как я вскочил и стал бешено колотить кулаками, куда попало.
– Ой, кто это? Черрт!
Опять светло… Все сидят на своих местах, подозрительно поглядывая друг на друга.
– Кто это дерется? Что за свинство, – спросил сонный Сандерс.
– Действительно, – подхватил я, – безобразие! Вести себя не умеют.
Тьма хлынула в окна. И опять поднялась в вагоне неимоверная возня, рев, крики и протесты.
– Стойте! – раздался могучий голос Крысакова. – Я поймал того, который нас бьет. Держу его за руку… Нет, голубчик, не вырвешься!
Засиял свет и – мы увидели бьющегося в крысаковских руках Сандерса.
Все набросились на него с упреками, но я заметил, как змеилась хитрая улыбочка на губах Мифасова.
От Монте-Карло к нам в купе подсели две француженки.
Одна из них обвела нас веселым взглядом и вдруг нахлобучила Крысакову на нос его шляпу.
– Ура! – гаркнул Крысаков из-под шляпы. – Отселе, значит, начинается Франция!
Ницца – небольшой городок, утыканный пальмами.
Мы попали в него в такое время, когда все приезжее народонаселение состояло из шести человек: нас четырех и тех двух француженок, которых мы встретили в вагоне.
У бедняжек, очевидно, в сезоне были такие плохие дела, что уехать было не на что, и поэтому они влачили вдвоем жалкое существование, надеясь на случай.
Но случай не подвертывался, потому что, кроме нас, никого не было, а наши принципы удерживали нас от легкомысленных поступков и преступного общения с женщинами.
Нам не нужно было тратить много времени, чтобы заметить, что вся Ницца живет только нами и для нас; все гостиницы были закрыты, кроме одной, в которой жили мы; все извозчики бездельничали, кроме двух, которые возили нас, магазины отпирались для нас, музыка по праздникам на площади гремела для нас, и только легкомысленные бабочки, кружившиеся около нас, были вне этого распорядка – спрос на женскую привязанность стоял до смешного низко.
Когда мы уезжали, было такое впечатление, что душа Ниццы отлетает и тело сейчас замрет в последней агонии.
В Париж! В Париж!
Париж
Тоска по родине. – Мы четверо. – Призрак голода. – Муки. – 14 июля. – Лирическое отступление. – Деньги отыскиваются. – Последние усилия. – Драка. – Победа. – В Россию. – Последнее merci…
Наиболее остро это началось с Парижа.
Первым был пойман Мифасов: пойман на месте преступления в то время, когда, сидя в маленьком кафе на бульваре Мишель и увидя нас, пытался со сконфуженным видом спрятать в карман клочок бумаги.
– Погодите! – строго сказал Крысаков. – Дайте-ка сюда. Ну, конечно, я так и подозревал.
Это был обрывок русской газеты.
– А наше слово? Наше слово – не читать русских газет, не вспоминать о России, не пить русской водки?..
Опустив голову, смущенно шаркал ногой по цементному полу Мифасов.
Вторым попался Сандерс.
Однажды идя по улице впереди него и неожиданно оглянувшись, мы заметили, что он отмахнулся два раза от какого-то попрошайки, а потом вдруг остановился, прислушался к его словам, и лицо его, как будто очарованное сладкой музыкой, распустилось в блаженную улыбку.
– О! – сказал Сандерс, – вы говорите – вы русский! Неужели? Не обманываете ли вы меня?
– Русский! Ей-богу! Поверьте, третий день уже хожу – ни шиша…
– Как? Как вы сказали? «Ни шиша?» О, это очень мило! Какое образное русское слово! Это очень хорошо, что вы русский. Это благородно с вашей стороны!
– Обносился, оборвался я, как босявка…
Склонив голову набок, Сандерс сладко слушал…
– О, что за язык! «Босявка»… «оборвался»… Почему никто из товарищей моих не говорит так по-русски? Давно я не слыхал от них русского слова. Все стараются французить… Русский! Я желаю вас выручить, русский. Вот вам пять франков.
Крысакова однажды поймали ночью уже на лестнице в то время, когда он, крадучись, со своим распухшим, больным чемоданом пробирался к выходу…
– Неужели, господа, вы не можете потерпеть несколько дней? – возмущался я, – до нашего срока отпуска – двух месяцев – осталось всего шесть суток.
Но в тот же вечер я сам, подойдя к открытому окну, увидел на небе нашу русскую добродушную луну. И мне захотелось, как собаке, положить лапы на подоконник, вытянуть кверху голову, да как завыть!.. Завыть от тоски по нашей несчастной, милой родине…
В предыдущих очерках я уделял наибольшее внимание этнографическим описаниям; Париж настолько всем известен, что я считаю себя вправе заняться, главным образом, путешественниками – Мифасовым, Крысаковым, Сандерсом и мною.
Всякий, конечно, был верен себе: Сандерс однажды задремал с булкой в руках, остановившись на полпути между прилавком и нашим столиком; он же, заспорив как-то о том: какой из двух путей, ведущих к Лувру, ближе, – встал в шесть часов утра и пошел проверять тот и другой путь; среди сна все трое были разбужены и оповещены о том, какой хороший, умный человек Сандерс и как он всегда бывает прав.
Всякий, конечно, был верен себе: Мифасов после обеда потащил нас в кафешантан Марини; он же возмутился бешеными ценами на места в этом учреждении; он же предложил поехать в какой-нибудь из маленьких шантанчиков на Севастопольском бульваре, утверждая, что хотя это далеко, но зато дешевизна тамошних кабачков баснословная, он же, в ответ на наши сомнения, сказал, что ему приходилось бывать там и что спорить с ним, опытным кутилой, глупо. «За свои слова я ручаюсь головой». По приезде на место выяснилось, что цены в кафе-концерте на Севастопольском бульваре выше цен Марини на 40 %.
Всякий, конечно, был верен себе: шокируя Мифасова и Сандерса, мы с Крысаковым присаживались за столиком в третьеклассном кафе, требовали пива, а потом Крысаков мчался к тележке, развозившей всякую снедь, покупал на 10 су паштета из телячьей печенки, на 3 су хлеба, и мы устраивали такой пир, что все с восхищением глядели на нас, кроме Мифасова и Сандерса.
– Кушайте, – добродушно угощал Крысаков, похлопывая ладонью по своему паштету. – Битте-дритте.
Должен заметить, что паштетом питались и наши антагонисты – Мифасов и Сандерс. Должен заметить, что и насыщение паштетами за 10 су и хлебом за 3 су, и возмущение ценами шантана – все это имело под собой основательную почву: дело в том, что мы разорились.
Кто был виноват в этом? Что было причиной этому: склонность ли Мифасова к фешенебельным ресторанам, «обедам под гонг», страсть ли Сандерса к эффектным одеждам, покупка ли массы оружия, которое всякий из нас приобрел для защиты жизни от могущих посягнуть на нее врагов? Вероятно, все вместе повредило нам.
Правда, мы ждали солидного перевода на Лионский кредит, и перевод этот должен был получиться в Париже 12 июля. Но 12 июля банки были закрыты потому, что через два дня предстояло огромное празднование 14 июля – день взятия Бастилии; 13 июля банки не открывались потому, что оставался всего один день до 14-го; 14-го праздновали Бастилию; 15-го отпраздновали первый день после взятия Бастилии, а 16-го была какая-то генеральная проверка всех банковских касс; так как 17-го было воскресенье – то мы, очутившись 11-го без денег – могли ожидать их получения только 18-го.
Грозный призрак голода протянул к нам свои костлявые, когтистые лапы.
Первые признаки бедствия выяснились неожиданно: 11 июля, после роскошного завтрака в ресторане на Итальянском бульваре, мы взяли мотор и полетели в Булонский лес.
Сандерс был задумчив. Вдруг на полдороге он хлопнул ладонью по доске мотора и с несвойственной ему энергией воскликнул:
– Стойте! Сколько показывает таксометр?
– 6 франков 50.
– Мотор! Назад!
– Что случилось?
И, как гробовой молоток, прозвучали слова Сандерса:
– У нас всего 8 франков… (общественными суммами заведовал Сандерс).
Раздались крики ужаса; мотор повернули, и он, как вестник бедствия, полетел со страшным ревом и плачем в город.
– Стойте! До дому версты полторы. Дойдем пешком, – предложил благоразумный Крысаков. – Шоферу нужно, конечно, заплатить полным рублем, но на чай, ввиду исключительности положения, не давать; пусть каждый пожмет ему руку; это все, чем мы можем располагать.
Все с чувством пожали шоферу руку и поплелись домой.
Вечером прибегли к паштету с пивом, а утром на другой день Мифасов засел за большую композицию «Голодающие в Индии».
– Как жаль, что нет с нами Мити, – заметил Крысаков. – Его можно бы послать собирать милостыню. Самим нам неудобно, а он мог бы поработать на бедных хозяев.
– Бедный Митя! – вздохнул Мифасов. – Он, вероятно, умирает от голоду в Берлине, мы – в Париже. О, жизнь! Ты шутишь иногда жестоко, и твоя улыбка напоминает часто гримасу смерти.
Сандерс обошел кругом Крысакова и, щелкнув зубами, сказал:
– Думал ли я, что рагу из Крысакова будет казаться мне таким заманчивым?!
Крысаков, взволнованный, встал, поцеловал Сандерса в темя и выбежал из нашей комнаты в свою.
Потом вернулся, положил на стол золотой и сурово сказал:
– Последний! Прятал на похороны. Берите!
Радостный крик сотряс наши груди.
– Беру в кассу, – сказал Сандерс. – Что мы сделаем на эти деньги?
– Тут я на углу видел один ресторанчик… – несмело заметил Мифасов.
«Голодающие» на его рисунке сразу пополнели. Он приделал им животы, округлил щеки, прибавил мяса на руках и ногах и сказал:
– Произведения художника есть продукт его настроения. Налево за углом, вход с бульвара. Обед два франка с вином!!
– Браво, Мифасов! Он заслуживает качанья. В первую же хорошую качку на море вы будете вознаграждены! За угол, господа, за угол!!
Было 13-е число. Весь Париж наряжался, украшался, обвешивался разноцветными лампочками; на улицах строили эстрады для музыкантов, драпируя их материей национального цвета. Уже приближался вечер, и пылкие французы не могли дождаться завтрашнего дня, зажгли кое-где иллюминацию и плясали на улице под теплым небом, под звуки скрипок и флейт.
А мы сидели в комнате Мифасова без лампы, озаренные светом луны, и тоска – этот спутник сирых и голодных – сжимала наши сердца, которые теперь переместились вниз и свили себе гнездо в желудке.
Недоконченный этюд «Голодающие в Индии», снова реставрированный в сторону худобы и нищенства, – смутно белел на столе своими страшными скелетообразными фигурами.
– Мама, мама, – прошептал я. – Знаешь ли ты, что испытывает твой сын, твой милый первенец?
– Постойте, – сказал Мифасов, очевидно, после долгой борьбы с собой. – У меня есть тоже мать, и я не хочу, чтобы ее сын терпел какие-нибудь лишения. В тот день, когда голод подкрадывался к нам – у меня были запрятанные 50 франков. Я спрятал их на крайний случай… на самый крайний случай, когда мы начнем питаться кожей чемоданов и безвредными сортами масляных красок!.. Но больше я мучиться не в силах. Музыка играет так хорошо, и улицы оживлены, наполнены веселыми лицами… сотни прекрасных дочерей Франции освещают площади светом своих глаз, их мелодичный смех заставляет сжиматься сердца сладко и мучи…
– По 12 с половиной франков, – сказал Сандерс. – Господи! Умываться, бриться! Черт возьми! Да здравствует Бастилия!
И мы, как подтаявшая льдина с горы, низринулись с лестницы на улицу.
Какое-то безумие охватило Париж. Все улицы были наполнены народом, звуки труб и барабанов прорезали волны человеческого смеха, тысячи цветных фонариков кокетливо прятались в темной зелени деревьев, и теплое летнее небо разукрасилось на этот раз особенно роскошными блистающими звездами, которые весело перемигивались, глядя на темные силуэты пляшущих, пьющих и поющих людей.
Милый, прекрасный Париж!..
Как танцуют на улице? Играют оркестры?!
Невероятным кажется такое веселье русскому человеку.
Бедная, темная Русь!.. Когда же ты весело запляшешь и запоешь, не оглядываясь и не ежась к сторонке?
Когда твои юноши и девушки беззаботно сплетутся руками и пойдут танцевать и выделывать беззаботные скачки?
Желтые, красные, зеленые ленты серпантина взвиваются над толпой и обвивают намеченную жертву, какую-нибудь черномазую модистку или простоволосую девицу, ошалевшую от музыки и веселья.
На двести тысяч разбросает сегодня щедрый Париж бумажных лент – целую бумажную фабрику, миллион сгорит на фейерверке и десятки миллионов проест и пропьет простолюдин, празднуя свой национальный праздник.
Сандерс тоже не дремлет. Он нагрузился серпантином, какими-то флажками, бумажными чертями и сам, вертлявый, как черт, носится по площади, вступая с девицами в кокетливые битвы и расточая всюду улыбки; элегантный Мифасов взобрался верхом на карусельного слона и летит на нем с видом завзятого авантюриста. Мы с Крысаковым скромно пляшем посреди маленькой кучки поклонников, вполне одобряющих этот способ нашего уважения к французам. Писк, крики, трубный звук и рев карусельных органов.
А на другое утро Сандерс, найдя у себя в кармане обрывок серпантина, скорбно говорил:
– Вот если бы таких обрывков побольше, склеить бы их, свернуть опять в спираль, сложить в рулон и продать за 50 сантимов; двадцать таких штучек изготовить – вот тебе и 10 франков.
Крысаков вдруг открыл рот и заревел.
– Что с вами?
– Голос пробую. Что, если пойти нынче по кафе и попробовать петь русские национальные песни; франков десять, я думаю, наберешь.
– Да вы умеете петь такие песни?
– Еще бы!
И он фальшиво, гнусавым голосом запел:
Матчиш прелестный танец —
Шальной и жгучий…
Привез его испанец —
Брюнет могучий.
– Если бы были гири, – скромно предложил я. – Я мог бы на какой-нибудь площади показать работу гирями… Мускулы у меня хорошие.
– Неужели вы бы это сделали? – странным, дрогнувшим голосом спросил Сандерс.
Я вздохнул:
– Сделал бы.
– Гм, – прошептал он, смахивая слезу. – Значит, дело действительно серьезно. Вот что, господа! Мифасов берег деньги на случай питания масляными красками и кожей чемоданов. Я заглянул дальше; на самый крайний, на крайнейший случай, – слышите? – когда среди нас начнет свирепствовать цинга и тиф – я припрятал кровные 30 франков. Вот они!
– Браво! – крикнул, оживившись, Крысаков. – у меня как раз цинга!
– А у меня тиф!
Мифасов сказал:
– Тут… на углу… я…
– Пойдем.
Грохот восьми ног по лестнице разбудил тишину нашего мирного пансиона.
Когда мы были в «Кабачке мертвецов» и Сандерс, уходя, сказал шутовскому привратнику этого кабачка, где слуги поносили гостей, как могли: «Прощайте, сударь!» – тот ответил ему привычным, заученным тоном: «Прощайте, туберкулезный!»
Конечно, это была шаблонная шутка, имевшая успех в этом заведении, но сердце мое сжалось: что, если в самом деле слабый здоровьем Сандерс заболеет с голодухи и умрет?..
Последние десять франков ухлопали мы на это кощунственное жилище мертвых, будто бы для того придя сюда, чтобы привыкнуть постепенно к неизбежному концу.
– Удивляюсь я вам, – сказал мне Крысаков. – Человек вы умный, а не догадались сделать того, что сделал каждый из нас! Припрятать деньжонок про запас. Вот теперь и голодай. До открытия банков два дня, а я уже завтра с утра начинаю питаться верблюжьим хлебом.
– Чем?
– Верблюжьим хлебом. В Зоологическом саду верблюдов кормят. Я пробовал – ничего. Жестко, но дешево. Хлебец стоит су.
– Ну, – принужденно засмеялся я, – у вас, вероятно, у кого-нибудь найдется еще несколько припрятанных франков – «уже на самый крайний случай – чумы или смерти».
– Я отдал все! – возмутился Мифасов. – Запасы имеют свои границы.
– И я.
– И я!
– Я тоже все отдал, – признался я. – Натура я простодушная, без хитрости, я не позволю утаивать что-нибудь от товарищей, «на крайний случай». А тут – чем я вам помогу? Не этой же бесполезной теперь бумажонкой, которая не дороже обрывка газеты, раз все меняльные учреждения закрыты.
И я, вынув из кармана русскую сторублевку, пренебрежительно бросил ее наземь.
– В «Олимпию», – взревел Крысаков. – В «Олимпию» – в это царство женщин! Я знаю – там меняют всякие деньги!
Как нам ни противно было очутиться в этом царстве кокоток и разгула – пришлось пойти.
Меняли деньги… Крысаков был очень вежлив, но его «битте-дритте» звучало так сухо, что все блестящие ночные бабочки отлетали от него, как мотыльки от электрического фонаря, ударившись о твердое стекло.
В тот момент, когда, наконец, для французов красные, а для нас черные дни – кончились и наступили будни, мы получили пачку разноцветных кредиток и золота.
И в тот же момент в один истерический крик слились четыре голоса:
– В Россию!
– Домой!
– В Петроград!
– К маме!
Но кто проследит пути судьбы нашей? Кто мог бы предсказать нам, что именно в день отъезда случится такой яркий потрясающий факт, который до сих пор вызывает в нас трех смешанное чувство ужаса, восторга и удивления?!
Милый, веселый, неприхотливый Крысаков… Ты заслуживаешь пера не скромного юмориста с однотонными красками на палитре, а, по крайней мере, могучего орлиного пера Виктора Гюго или героического размаха автора «Трех мушкетеров».
Постараюсь быть просто протокольным – иногда протокол действует сильнее всего.
Было раннее утро. Крысаков накануне вечером сговорился с нами идти в Центральный рынок поглазеть на «чрево Парижа», но, конечно, каждый из нас придерживался совершенно новой оригинальной пословицы: «вечер утра мудренее». Вечером можно было строить какие угодно мудрые, увлекательные планы, а утром – владычествовал один тупой, бессмысленный стимул: спать!
Крысаков собрался один. Жил он в другом пансионе с женой, приехавшей из Ниццы; с утра обыкновенно заходил к нам и не расставался до вечера.
В шесть часов утра хозяйка пансиона видела жильца, который на цыпочках, стараясь не шуметь, пробирался к выходу с вещами (ящик для красок и этюдник); в девять часов утра та же хозяйка заметила жену жильца, выходившую из своей комнаты с картонкой в руках.
Хозяйка преградила ей путь и сказала:
– Прежде чем тайком съезжать, милые мои, – надо бы уплатить денежки.
– С чего вы взяли, что мы съезжаем? – удивилась жена Крысакова. – Я еду к модистке, а муж поехал на этюды, на рынок.
– На этюды? Все вы, русские, мошенники. И ваш муж мошенник.
– Не больше, чем ваш муж, – вежливо ответила жена нашего друга.
Затем произошло вот что: хозяйка раскричалась, толкнула квартирантку в грудь, отобрала ключ от комнаты, несмотря на уверения, что деньги лежат в комнате и могут быть заплачены сейчас, а потом квартирантка была изгнана из коридора и поселилась она в помещении гораздо меньшем, чем раньше, – именно на уличной тумбочке у парадных дверей, где она, плача, просидела до двух часов дня.
Она не знала, где найти мужа, который в это время, ничего не подозревая, весело завтракал с нами на полученные из Лионского кредита денежки.
Позавтракав, он вспомнил о семейном очаге, поехал домой и наткнулся на плачущую жену на тумбочке.
Наскоро расспросив ее, вошел побледневший Крысаков в зал пансиона, где за общим табль д’от сидело около двадцати человек аборигенов.
Мирно завтракали ветчиной и какой-то зеленью.
– Где хозяин? – спросил Крысаков.
– Я.
– Почему ваша жена безо всякого повода позволила себе толкнуть в грудь мою жену?
– О, – возразил хозяин, пренебрежительно махнув рукой. – Вы русские?
– Да.
– Так ведь русских всегда бьют. Русские привыкли, чтобы их били.
Привычному человеку, конечно, не особенно больно, когда его бьют. Но непривычный француз, получив удар кулаком в живот, заревел, как бык, и обрушился на маленький столик с цветочным горшком.
Несколько французов вскочили и бросились на славного, веселого, кроткого Крысакова.
Крысаков повел могучими плечами, ударил ногой по громадному столу, и все слилось в одну ужасающую симфонию звона разбитой посуды, стона раненых и яростного крика взбешенного Крысакова.
Вот подите ж: глупые разные «Земщины» и «Колоколы» с истинно дурацким постоянством из номера в номер уверяют десяток своих читателей, что сатириконцы – это жиды (?!) без всякого национального чувства и достоинства.
А Крысаков безрассудно, без всякого колебания, полез один на двадцать человек именно за одну нотку в голосе хозяина, которая показалась ему безмерно горькой и обидной.
И вот когда зажиревший в свободах француз поднял, по примеру всероссийского городового, руку на русского – в голове должно помутиться и рассудок должен отойти в сторону…
– Мерзавцы, – гремел голос нашего товарища. – Русских бьют? Не так ли вот? Или, может быть, этак?
Двое пытались уползти от него в дверь, один выскочил в раскрытое окно; какой-то глупец схватил палку, взбежал по винтовой лестнице в углу комнаты и пытался поразить оттуда всесокрушающего Крысакова; но тот схватил палку, стащил ее вместе с обладателем с лестницы и, задав ему солидную трепку, бросил палку под ноги двум последним удиравшим противникам.
Поломанные стулья, разбитая посуда, хрустящим ковром покрывавшая пол, и посредине Крысаков с мужественно поднятыми руками и ногой на животе лежащего без чувств хозяина…
Момент – и он забился в шести дюжих руках… Три полисмена схватили его, приглашенные расторопной хозяйкой пансиона.
– Полиция? – сказал Крысаков. – Сдаюсь. Это уже закон!
Но когда его привели в участок и комиссар предложил в резкой форме снять шляпу, Крысаков с любопытством спросил:
– А почему вы в шляпе?
Полисмен сзади ударом ладони сбил с Крысакова шляпу, но Крысаков повернулся и в один момент посбивал с полисменов кепи (по своей теории – «иногда и русские бьют»).
Нужно ли говорить еще что-нибудь?
Личное задержание, штраф, убытки за поломанную посуду и поврежденных французов – одним словом, мы уехали вдвоем с Сандерсом, оставив Крысакову для подкрепления Мифасова.
Потом они передавали нам, что русский консул, к которому Крысаков обратился за заступничеством, сказал:
– Знаете что? Не стоит поднимать истории… Заплатите им штраф и убытки. Правда, они первые оскорбили вашу жену… Но если бы недалеко были наши броненосцы, я бы говорил с ними. А так, что я могу сказать?! Что мы можем сказать?
Жалкое, забитое существо этот консул.
Нам говорили опытные люди, что если русский человек хочет найти серьезное заступничество – он должен обратиться к английскому консулу.
И вот мы едем в Россию.
В Вержболове поздоровались с жандармом, а Сандерс, изнемогая, остановил носильщика и сказал:
– Я хочу услышать от тебя хоть одно русское слово. Истосковался. Скажи мне его, это слово, вот тебе за это целковый.
– Мерси, – ответил расторопный носильщик.
Пахло щами.
КОНЕЦ
Сноски
1
Недомогание ( фр. ).
2
«Новое время» – ежедневная петербургская политическая и литературная газета (1868–1917). С 1876 г. издателем был А. С. Суворин, определивший патриотическую направленность газеты. «Русское слово» – литературная и политическая газета либерального направления. Выходила в Москве с 1894 по 1917 г. С 1897 г. издатель И. Д. Сытин. «Речь» – политическая и литературная газета (1906–1917). Печатный орган кадетов. «Биржевка» – «Биржевые ведомости» (1886–1917) – петербургская газета по вопросам политики, литературы и искусства. Основана С. М. Проппером, биржевым маклером.
3
Меньшиков Михаил Осипович (1859–1918) – русский публицист, постоянный сотрудник либеральной газеты «Неделя», консервативного «Нового времени». Выступал против деятельности Государственной думы, инородцев.
4
«Алая Чума» – фантастическая повесть Джека Лондона, в которой отразились мрачные футурологические взгляды писателя на бездушную цивилизацию, что породила смертоносных бацилл, уничтоживших основную часть живого на Земле; людям, по мысли автора, грозило одичание.
5
«…мой замок…» – Л. Н. Андреев приглашает А. Т. Аверченко к себе на дачу в Финляндию. В 1910-х гг. «Дом на Черной речке» Л. Андреева стал излюбленным местом встреч его друзей.
6
Радаков Алексей Александрович – русский советский художник и писатель. Сотрудник журналов «Сатирикон», «Новый Сатирикон», «Красный перец», «Крокодил».
7
«Песня голода» – очевидно, речь идет об иллюстрации к трагедии Л. Н. Андреева «Царь Голод».
8
П. Маныч – Петр Дмитриевич Маныч (ум. в 1918) – русский писатель, как называли его современники – «коновод литературной богемы». Соломин (настоящая фамилия Стечкин) Сергей Яковлевич (1864–1913) – русский писатель, автор историко-публицистических произведений «Исторический момент», «Разрушение терема» и др.
9
Вы говорите по-английски? Как поживаете? Поцелуйте меня побыстрее ( искаж. англ. ).
10
Факт этот рассказан автору одним вполне заслуживающим доверия харьковцем. ( Прим. авт. )
11
Ma parole ( фр .) – честное слово.
12
Аристид Кувалда – герой рассказа М. Горького «Бывшие люди» (1897). Автор так писал о своем герое: «Кувалда – прозвище отставного офицера… удивил меня независимостью поведения перед судьей…» (Письмо И. Груздеву, 1926).
13
«Тарас тут же…» – А. Т. Аверченко неточно цитирует фрагмент II главы повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба».
14
…промчится к выходу на площадь, украшенную слоновым монументом Александра III… – памятник Александру III стоял па Знаменской площади в Петербурге.
15
Михайла Арцыбашев – Михаил Петрович Арцыбашев (1878–1927) – автор нашумевших романов «Санин», «У последней черты». С 1923 г. в эмиграции.
16
Милюков Павел Николаевич (1859–1943) – русский политический деятель, историк. Один из организаторов партии конституционных демократов. В 1917 г. – министр иностранных дел Временного правительства.
17
Гучков Александр Иванович (1862–1936) – русский промышленник, лидер октябристов. В 1917 г. был министром военных и морских сил Временного правительства.
18
Скобелев Матвей Иванович (1885–1939) – министр труда Временного правительства.
19
Церетели Ираклий Георгиевич (1881–1959) – министр Временного правительства, один из лидеров меньшевизма.
20
Чхеидзе Николай Семенович (1864–1926) – меньшевик. В 1917 г. председатель Петросовета.
21
Гоцлибердан – имеются в виду Гоц Абрам Рафаилович (1882–1940) – эсер. После 1917 г. – лидер фракции эсеров в Петросовете. Либер (настоящая фамилия Гольдман) Михаил Исаакович (1880–1937) – один из лидеров Бунда, меньшевик. В 1917 г. – член исполкома Петросовета. Дан (настоящая фамилия Гурвич) Федор Ильич (1871–1947) – один из лидеров меньшевизма. В 1917 г. был членом Петросовета.
22
Нахамкис (Стеклов Юрий Михайлович) (1873–1941) – большевик, писатель. С 1917 г. редактор газеты «Известия ВЦИК».
23
Братство ( фр .).
24
Лапицкий Иосиф Михайлович (1876–1944) – оперный и драматический артист, режиссер. Основал в Петербурге «Театр музыкальной драмы» в 1912 г.
25
Мариинка – Мариинский театр в Петербурге, построен архитектором А. К. Кавосом в 1860 г.
26
Направник Эдуард Францевич (1839–1916) – русский дирижер, композитор. По происхождению чех, в 1861 г. переехал в Россию, по его признанию, «из-за симпатий к России, как у всех чехов». Автор опер «Нижегородцы» (1868), «Дубровский» (1894).
27
Гофман Иосиф (1876–1957) – польский пианист, неоднократно гастролировал в России с 1895 по 1913 г.
28
Никиш Артур (1855–1922) – венгерский дирижер и композитор.
29
Зуппе Франц фон (настоящие имя и фамилия Франческо Эценьеле Зуппе-Демелли) (1819–1895) – австрийский композитор и дирижер, один из создателей венской оперетты.
30
Джонсовская «Гейша» – популярная оперетта английского композитора Сидни Джонса (1861–1946).
31
Дункан Айседора (1877–1927) – американская танцовщица, в 1921–1924 гг. жила в СССР.
32
«Петербургская газета» – политическая и литературная газета (1867–1918). С 20 августа 1914 г. выходила под названием «Петроградская газета».
33
…роман Брешки… – Николай Николаевич Брешко-Брешковский (1874–1943) – прозаик, журналист. Автор многочисленных «бульварных» романов («Гадины тыла», 1915; «Ремесло Сатаны», 1916, и др.). С 1920 г. – в эмиграции.
34
«Сатирикон» – русский еженедельный сатирический журнал. Выходил в Петербурге с 1908 по 1914 г. С 1908 г. (№ 9) редактором был А. Т. Аверченко.
35
«Канавка у Дворца» – сцена из оперы «Пиковая дама» П. И. Чайковского (действие III, картина II).
36
Здесь игра слов, основанная на старом написании слова «лес» – через букву «ять». Эта буква, совпадавшая по звуку с «е», была упразднена послереволюционной орфографической реформой.
37
Цензуровано Мифасовым.
38
Настоящая книга написана до войны с немцами.
39
До войны мы, русские, все думали это.
40
До войны мы, русские, все думали это.
41
Написано в 1912 году. ( Авт .)
42
in corpore – все вместе, в целом ( лат .).


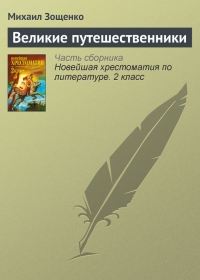


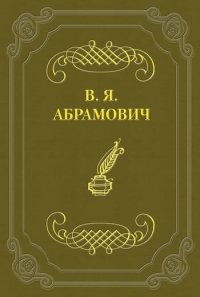
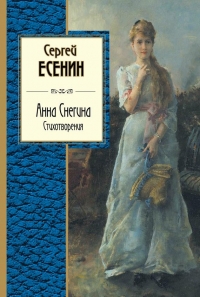
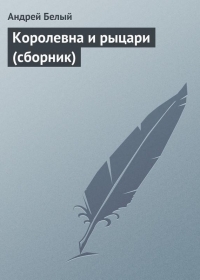

Комментарии к книге «Чудеса в решете (сборник)», Аркадий Тимофеевич Аверченко
Всего 0 комментариев