Александр Пушкин Поэмы
© Издательство «Детская литература». Оформление серии, составление, 2002
© С. М. Бонди. Комментарии, наследники
© Ю. В. Иванов. Иллюстрации, 2002
* * *
1799–1837
Кавказский пленник Повесть
Посвящение
Н. Н. Раевскому[1]
Прими с улыбкою, мой друг, Свободной музы приношенье: Тебе я посвятил изгнанной лиры пенье И вдохновенный свой досуг. Когда я погибал, безвинный, безотрадный, И шепот клеветы внимал со всех сторон, Когда кинжал измены хладный, Когда любви тяжелый сон Меня терзали и мертвили, Я близ тебя еще спокойство находил; Я сердцем отдыхал – друг друга мы любили: И бури надо мной свирепость утомили, Я в мирной пристани богов благословил. Во дни печальные разлуки Мои задумчивые звуки Напоминали мне Кавказ, Где пасмурный Бешту (1)[2], пустынник величавый, Аулов (2) и полей властитель пятиглавый, Был новый для меня Парнас[3]. Забуду ли его кремнистые вершины, Гремучие ключи, увядшие равнины, Пустыни знойные, края, где ты со мной Делил души младые впечатленья; Где рыскает в горах воинственный разбой И дикий гений вдохновенья Таится в тишине глухой? Ты здесь найдешь воспоминанья, Быть может, милых сердцу дней, Противуречия страстей, Мечты знакомые, знакомые страданья И тайный глас души моей. Мы в жизни розно шли: в объятиях покоя Едва, едва расцвел и вслед отца-героя В поля кровавые, под тучи вражьих стрел, Младенец избранный, ты гордо полетел. Отечество тебя ласкало с умиленьем, Как жертву милую, как верный свет надежд. Я рано скорбь узнал, постигнут был гоненьем; Я жертва клеветы и мстительных невежд; Но, сердце укрепив свободой и терпеньем, Я ждал беспечно лучших дней; И счастие моих друзей Мне было сладким утешеньем.Часть первая
В ауле, на своих порогах, Черкесы праздные сидят. Сыны Кавказа говорят О бранных[4], гибельных тревогах, О красоте своих коней, О наслажденьях дикой неги; Воспоминают прежних дней Неотразимые набеги, Обманы хитрых узденей (3), Удары шашек (4) их жестоких, И меткость неизбежных стрел, И пепел разоренных сел, И ласки пленниц чернооких. Текут беседы в тишине; Луна плывет в ночном тумане; И вдруг пред ними на коне Черкес. Он быстро на аркане Младого пленника влачил. «Вот русский!» – хищник возопил. Аул на крик его сбежался Ожесточенною толпой; Но пленник хладный и немой, С обезображенной главой, Как труп, недвижим оставался. Лица врагов не видит он, Угроз и криков он не слышит; Над ним летает смертный сон И холодом тлетворным дышит. И долго пленник молодой Лежал в забвении тяжелом. Уж полдень над его главой Пылал в сиянии веселом; И жизни дух проснулся в нем, Невнятный стон в устах раздался; Согретый солнечным лучом, Несчастный тихо приподнялся; Кругом обводит слабый взор… И видит: неприступных гор Над ним воздвигнулась громада, Гнездо разбойничьих племен, Черкесской вольности ограда. Воспомнил юноша свой плен, Как сна ужасного тревоги, И слышит: загремели вдруг Его закованные ноги… Всё, всё сказал ужасный звук; Затмилась перед ним природа. Прости, священная свобода! Он раб. За саклями (5) лежит Он у колючего забора. Черкесы в поле, нет надзора, В пустом ауле всё молчит. Пред ним пустынные равнины Лежат зеленой пеленой; Там холмов тянутся грядой Однообразные вершины; Меж них уединенный путь В дали теряется угрюмой — И пленника младого грудь Тяжелой взволновалась думой… В Россию дальный путь ведет, В страну, где пламенную младость Он гордо начал без забот; Где первую познал он радость, Где много милого любил, Где обнял грозное страданье, Где бурной жизнью погубил Надежду, радость и желанье И лучших дней воспоминанье В увядшем сердце заключил. …………………….. …………………….. Людей и свет изведал он И знал неверной жизни цену. В сердцах друзей нашед измену, В мечтах любви безумный сон, Наскуча жертвой быть привычной Давно презренной суеты, И неприязни двуязычной, И простодушной клеветы, Отступник света, друг природы, Покинул он родной предел[5] И в край далекий полетел С веселым призраком свободы. Свобода! он одной тебя Еще искал в пустынном мире. Страстями чувства истребя, Охолодев к мечтам и к лире, С волненьем песни он внимал, Одушевленные тобою, И с верой, пламенной мольбою Твой гордый идол обнимал. Свершилось… целью упованья Не зрит он в мире ничего. И вы, последние мечтанья, И вы сокрылись от него. Он раб. Склонясь главой на камень, Он ждет, чтоб с сумрачной зарей Погас печальной жизни пламень, И жаждет сени гробовой. Уж меркнет солнце за горами; Вдали раздался шумный гул; С полей народ идет в аул, Сверкая светлыми косами. Пришли; в домах зажглись огни, И постепенно шум нестройный Умолкнул; всё в ночной тени Объято негою спокойной; Вдали сверкает горный ключ, Сбегая с каменной стремнины; Оделись пеленою туч Кавказа спящие вершины… Но кто, в сиянии луны, Среди глубокой тишины Идет, украдкою ступая? Очнулся русский. Перед ним, С приветом нежным и немым, Стоит черкешенка младая. На деву молча смотрит он И мыслит: это лживый сон, Усталых чувств игра пустая. Луною чуть озарена, С улыбкой жалости отрадной Колена преклонив, она К его устам кумыс (6) прохладный Подносит тихою рукой. Но он забыл сосуд целебный; Он ловит жадною душой Приятной речи звук волшебный И взоры девы молодой. Он чуждых слов не понимает; Но взор умильный, жар ланит[6], Но голос нежный говорит: Живи! и пленник оживает. И он, собрав остаток сил, Веленью милому покорный, Привстал и чашей благотворной Томленье жажды утолил. Потом на камень вновь склонился Отягощенною главой; Но всё к черкешенке младой Угасший взор его стремился И долго, долго перед ним Она, задумчива, сидела; Как бы участием немым Утешить пленника хотела; Уста невольно каждый час С начатой речью открывались; Она вздыхала, и не раз Слезами очи наполнялись. За днями дни прошли как тень. В горах, окованный, у стада Проводит пленник каждый день. Пещеры тёмная прохлада Его скрывает в летний зной; Когда же рог луны сребристой Блеснет за мрачною горой, Черкешенка, тропой тенистой, Приносит пленнику вино, Кумыс, и ульев сот душистый, И белоснежное пшено; С ним тайный ужин разделяет; На нем покоит нежный взор; С неясной речию сливает Очей и знаков разговор; Поет ему и песни гор, И песни Грузии счастливой (7) И памяти нетерпеливой Передает язык чужой. Впервые девственной душой Она любила, знала счастье; Но русский жизни молодой Давно утратил сладострастье: Не мог он сердцем отвечать Любви младенческой, открытой — Быть может, сон любви забытой Боялся он воспоминать. Не вдруг увянет наша младость, Не вдруг восторги бросят нас, И неожиданную радость Еще обнимем мы не раз; Но вы, живые впечатленья, Первоначальная любовь, Небесный пламень упоенья, Не прилетаете вы вновь. Казалось, пленник безнадежный К унылой жизни привыкал. Тоску неволи, жар мятежный В душе глубоко он скрывал. Влачася меж угрюмых скал В час ранней, утренней прохлады, Вперял он любопытный взор На отдаленные громады Седых, румяных, синих гор. Великолепные картины! Престолы вечные снегов, Очам казались их вершины Недвижной цепью облаков, И в их кругу колосс двуглавый, В венце блистая ледяном, Эльбрус огромный, величавый, Белел на небе голубом (8). Когда, с глухим сливаясь гулом, Предтеча бури, гром гремел, Как часто пленник над аулом Недвижим на горе сидел! У ног его дымились тучи, В степи взвивался прах летучий; Уже приюта между скал Елень[7] испуганный искал; Орлы с утесов подымались И в небесах перекликались; Шум табунов, мычанье стад Уж гласом бури заглушались… И вдруг на долы дождь и град Из туч сквозь молний извергались; Волнами роя крутизны, Сдвигая камни вековые, Текли потоки дождевые — А пленник, с горной вышины, Один, за тучей громовою, Возврата солнечного ждал, Недосягаемый грозою, И бури немощному вою С какой-то радостью внимал. Но европейца всё вниманье Народ сей чудный привлекал. Меж горцев пленник наблюдал Их веру, нравы, воспитанье, Любил их жизни простоту, Гостеприимство, жажду брани, Движений вольных быстроту, И легкость ног, и силу длани[8]; Смотрел по целым он часам, Как иногда черкес проворный, Широкой степью, по горам, В косматой шапке, в бурке черной, К луке склонясь, на стремена Ногою стройной опираясь, Летал по воле скакуна, К войне заране приучаясь. Он любовался красотой Одежды бранной и простой. Черкес оружием обвешен; Он им гордится, им утешен: На нем броня, пищаль[9], колчан, Кубанский лук, кинжал, аркан И шашка, вечная подруга Его трудов, его досуга. Ничто его не тяготит, Ничто не брякнет; пеший, конный — Всё тот же он; всё тот же вид Непобедимый, непреклонный. Гроза беспечных казаков, Его богатство – конь ретивый, Питомец горских табунов, Товарищ верный, терпеливый, В пещере иль в траве глухой Коварный хищник с ним таится И вдруг, внезапною стрелой, Завидя путника, стремится; В одно мгновенье верный бой Решит удар его могучий, И странника в ущелья гор Уже влечет аркан летучий. Стремится конь во весь опор, Исполнен огненной отваги; Всё путь ему: болото, бор, Кусты, утесы и овраги; Кровавый след за ним бежит, В пустыне топот раздается; Седой поток пред ним шумит — Он в глубь кипящую несется; И путник, брошенный ко дну, Глотает мутную волну, Изнемогая, смерти просит И зрит ее перед собой… Но мощный конь его – стрелой На берег пенистый выносит. Иль, ухватив рогатый пень, В реку низверженный грозою, Когда на холмах пеленою Лежит безлунной ночи тень, Черкес на корни вековые, На ветви вешает кругом Свои доспехи боевые: Щит, бурку, панцирь и шелом[10], Колчан и лук – и в быстры волны За ним бросается потом, Неутомимый и безмолвный. Глухая ночь. Река ревет; Могучий ток его несет Вдоль берегов уединенных, Где на курганах возвышенных, Склонясь на копья, казаки Глядят на темный бег реки — И мимо их, во мгле чернея, Плывет оружие злодея… О чем ты думаешь, казак? Воспоминаешь прежни битвы, На смертном поле свой бивак, Полков хвалебные молитвы И родину?.. Коварный сон! Простите, вольные станицы, И дом отцов, и тихий Дон, Война и красные девицы! К брегам причалил тайный враг, Стрела выходит из колчана — Взвилась – и падает казак С окровавленного кургана. Когда же с мирною семьей Черкес в отеческом жилище Сидит ненастною порой, И тлеют угли в пепелище; И, спрянув с верного коня, В горах пустынных запоздалый, К нему войдет пришлец усталый И робко сядет у огня: Тогда хозяин благосклонный С приветом, ласково, встает И гостю в чаше благовонной Чихирь (9) отрадный подает. Под влажной буркой, в сакле дымной, Вкушает путник мирный сон, И утром оставляет он Ночлега кров гостеприимный (10). Бывало, в светлый Баиран (11) Сберутся юноши толпою; Игра сменяется игрою: То, полный разобрав колчан, Они крылатыми стрелами Пронзают в облаках орлов; То с высоты крутых холмов Нетерпеливыми рядами, При данном знаке, вдруг падут, Как лани, землю поражают, Равнину пылью покрывают И с дружным топотом бегут. Но скучен мир однообразный Сердцам, рожденным для войны, И часто игры воли праздной Игрой жестокой смущены. Нередко шашки грозно блещут В безумной резвости пиров, И в прах летят главы рабов, И в радости младенцы плещут. Но русский равнодушно зрел Сии кровавые забавы. Любил он прежде игры славы И жаждой гибели горел. Невольник чести беспощадной, Вблизи видал он свой конец, На поединках твердый, хладный, Встречая гибельный свинец. Быть может, в думу погруженный, Он время то воспоминал, Когда, друзьями окруженный, Он с ними шумно пировал… Жалел ли он о днях минувших, О днях, надежду обманувших, Иль, любопытный, созерцал Суровой простоты забавы И дикого народа нравы В сем верном зеркале читал — Таил в молчанье он глубоком Движенья сердца своего, И на челе его высоком Не изменялось ничего. Беспечной смелости его Черкесы грозные дивились, Щадили век его младой И шепотом между собой Своей добычею гордились.Часть вторая
Ты их узнала, дева гор, Восторги сердца, жизни сладость; Твой огненный, невинный взор Высказывал любовь и радость. Когда твой друг во тьме ночной Тебя лобзал немым лобзаньем, Сгорая негой и желаньем, Ты забывала мир земной, Ты говорила: «Пленник милый, Развесели свой взор унылый, Склонись главой ко мне на грудь, Свободу, родину забудь. Скрываться рада я в пустыне С тобою, царь души моей! Люби меня; никто доныне Не целовал моих очей; К моей постели одинокой Черкес младой и черноокий Не крался в тишине ночной; Слыву я девою жестокой, Неумолимой красотой. Я знаю жребий мне готовый: Меня отец и брат суровый Немилому продать хотят В чужой аул ценою злата; Но умолю отца и брата, Не то – найду кинжал иль яд. Непостижимой, чудной силой К тебе я вся привлечена; Люблю тебя, невольник милый, Душа тобой упоена…» Но он с безмолвным сожаленьем На деву страстную взирал И, полный тяжким размышленьем, Словам любви ее внимал. Он забывался. В нем теснились Воспоминанья прошлых дней, И даже слезы из очей Однажды градом покатились. Лежала в сердце, как свинец, Тоска любви без упованья. Пред юной девой наконец Он излиял свои страданья: «Забудь меня: твоей любви, Твоих восторгов я не стою. Бесценных дней не трать со мною: Другого юношу зови. Его любовь тебе заменит Моей души печальный хлад; Он будет верен, он оценит Твою красу, твой милый взгляд, И жар младенческих лобзаний, И нежность пламенных речей; Без упоенья, без желаний Я вяну жертвою страстей. Ты видишь след любви несчастной, Душевной бури след ужасный; Оставь меня; но пожалей О скорбной участи моей! Несчастный друг, зачем не прежде Явилась ты моим очам, В те дни, как верил я надежде И упоительным мечтам! Но поздно: умер я для счастья, Надежды призрак улетел; Твой друг отвык от сладострастья, Для нежных чувств окаменел… Как тяжко мертвыми устами Живым лобзаньям отвечать И очи, полные слезами, Улыбкой хладною встречать! Измучась ревностью напрасной, Уснув бесчувственной душой, В объятиях подруги страстной Как тяжко мыслить о другой!.. Когда так медленно, так нежно Ты пьешь лобзания мои, И для тебя часы любви Проходят быстро, безмятежно; Снедая слезы в тишине, Тогда рассеянный, унылый, Перед собою, как во сне, Я вижу образ вечно милый; Его зову, к нему стремлюсь, Молчу, не вижу, не внимаю; Тебе в забвенье предаюсь И тайный призрак обнимаю. Об нем в пустыне слезы лью; Повсюду он со мною бродит И мрачную тоску наводит На душу сирую[11] мою. Оставь же мне мои железы[12], Уединенные мечты, Воспоминанья, грусть и слезы: Их разделить не можешь ты. Ты сердца слышала признанье; Прости… дай руку – на прощанье. Недолго женскую любовь Печалит хладная разлука: Пройдет любовь, настанет скука, Красавица полюбит вновь». Раскрыв уста, без слез рыдая, Сидела дева молодая: Туманный, неподвижный взор Безмолвный выражал укор; Бледна как тень, она дрожала: В руках любовника лежала Ее холодная рука; И наконец любви тоска В печальной речи излилася: «Ах, русский, русский, для чего, Не зная сердца твоего, Тебе навек я предалася! Не долго на груди твоей В забвенье дева отдыхала; Не много радостных ночей Судьба на долю ей послала! Придут ли вновь когда-нибудь? Ужель навек погибла радость?.. Ты мог бы, пленник, обмануть Мою неопытную младость, Хотя б из жалости одной, Молчаньем, ласкою притворной; Я услаждала б жребий твой Заботой нежной и покорной; Я стерегла б минуты сна, Покой тоскующего друга; Ты не хотел… Но кто ж она, Твоя прекрасная подруга? Ты любишь, русский? ты любим?.. Понятны мне твои страданья… Прости ж и ты мои рыданья, Не смейся горестям моим». Умолкла. Слезы и стенанья Стеснили бедной девы грудь. Уста без слов роптали пени[13]. Без чувств, обняв его колени, Она едва могла дохнуть. И пленник, тихою рукою Подняв несчастную, сказал: «Не плачь: и я гоним судьбою, И муки сердца испытал. Нет! я не знал любви взаимной, Любил один, страдал один, И гасну я, как пламень дымный, Забытый средь пустых долин. Умру вдали брегов желанных; Мне будет гробом эта степь; Здесь на костях моих изгнанных Заржавит тягостная цепь…» Светила ночи затмевались; В дали прозрачной означались Громады светлоснежных гор; Главу склонив, потупя взор, Они в безмолвии расстались. Унылый пленник с этих пор Один окрест аула бродит. Заря на знойный небосклон За днями новы дни возводит; За ночью ночь вослед уходит; Вотще свободы жаждет он. Мелькнет ли серна меж кустами, Проскачет ли во мгле сайгак[14], — Он, вспыхнув, загремит цепями, Он ждет, не крадется ль казак, Ночной аулов разоритель, Рабов отважный избавитель. Зовет… но всё кругом молчит; Лишь волны плещутся бушуя, И человека зверь почуя В пустыню темную бежит. Однажды слышит русский пленный, В горах раздался клик военный: «В табун, в табун!» Бегут, шумят; Уздечки медные гремят, Чернеют бурки, блещут брони, Кипят оседланные кони, К набегу весь аул готов, И дикие питомцы брани Рекою хлынули с холмов И скачут по брегам Кубани Сбирать насильственные дани. Утих аул; на солнце спят У саклей псы сторожевые. Младенцы смуглые, нагие В свободной резвости шумят; Их прадеды в кругу сидят, Из трубок дым виясь синеет. Они безмолвно юных дев Знакомый слушают припев, И старцев сердце молодеет.ЧЕРКЕССКАЯ ПЕСНЯ
1 В реке бежит гремучий вал; В горах безмолвие ночное; Казак усталый задремал, Склонясь на копие стальное. Не спи, казак: во тьме ночной Чеченец ходит за рекой. 2 Казак плывет на челноке, Влача по дну речному сети. Казак, утонешь ты в реке, Как тонут маленькие дети, Купаясь жаркою порой: Чеченец ходит за рекой. 3 На берегу заветных вод[15] Цветут богатые станицы; Веселый пляшет хоровод. Бегите, русские певицы, Спешите, красные, домой: Чеченец ходит за рекой. Так пели девы. Сев на бреге, Мечтает русский о побеге; Но цепь невольника тяжка, Быстра глубокая река… Меж тем, померкнув, степь уснула, Вершины скал омрачены. По белым хижинам аула Мелькает бледный свет луны; Елени дремлют над водами, Умолкнул поздний крик орлов, И глухо вторится горами Далекий топот табунов. Тогда кого-то слышно стало, Мелькнуло девы покрывало, И вот – печальна и бледна — К нему приближилась она. Уста прекрасной ищут речи; Глаза исполнены тоской, И черной падают волной Ее власы на грудь и плечи. В одной руке блестит пила, В другой кинжал ее булатный; Казалось, будто дева шла На тайный бой, на подвиг ратный. На пленника возведши взор, «Беги, – сказала дева гор, — Нигде черкес тебя не встретит. Спеши; не трать ночных часов; Возьми кинжал: твоих следов Никто во мраке не заметит». Пилу дрожащей взяв рукой, К его ногам она склонилась: Визжит железо под пилой, Слеза невольная скатилась — И цепь распалась и гремит. «Ты волен, – дева говорит, — Беги!» Но взгляд ее безумный Любви порыв изобразил. Она страдала. Ветер шумный, Свистя, покров ее клубил. «О друг мой! – русский возопил, — Я твой навек, я твой до гроба. Ужасный край оставим оба, Беги со мной…» – «Нет, русский, нет! Она исчезла, жизни сладость; Я знала всё, я знала радость, И всё прошло, пропал и след. Возможно ль? ты любил другую!.. Найди ее, люби ее; О чем же я еще тоскую? О чем уныние мое?.. Прости! любви благословенья С тобою будут каждый час. Прости – забудь мои мученья, Дай руку мне… в последний раз». К черкешенке простер он руки, Воскресшим сердцем к ней летел, И долгий поцелуй разлуки Союз любви запечатлел. Рука с рукой, унынья полны, Сошли ко брегу в тишине — И русский в шумной глубине Уже плывет и пенит волны, Уже противных[16] скал достиг, Уже хватается за них… Вдруг волны глухо зашумели, И слышен отдаленный стон… На дикий брег выходит он, Глядит назад, брега яснели И опененные белели; Но нет черкешенки младой Ни у брегов, ни под горой… Всё мертво… на брегах уснувших Лишь ветра слышен легкий звук, И при луне в водах плеснувших Струистый исчезает круг. Всё понял он. Прощальным взором Объемлет он в последний раз Пустой аул с его забором, Поля, где пленный стадо пас, Стремнины, где влачил оковы, Ручей, где в полдень отдыхал, Когда в горах черкес суровый Свободы песню запевал. Редел на небе мрак глубокий, Ложился день на темный дол, Взошла заря. Тропой далекой Освобожденный пленник шел, И перед ним уже в туманах Сверкали русские штыки, И окликались на курганах Сторожевые казаки.Эпилог
Так муза, легкий друг мечты, К пределам Азии летала И для венка себе срывала Кавказа дикие цветы. Ее пленял наряд суровый Племен, возросших на войне, И часто в сей одежде новой Волшебница являлась мне; Вокруг аулов опустелых Одна бродила по скалам И к песням дев осиротелых Она прислушивалась там; Любила бранные станицы, Тревоги смелых казаков, Курганы, тихие гробницы, И шум, и ржанье табунов. Богиня песен и рассказа, Воспоминания полна, Быть может, повторит она Преданья грозного Кавказа; Расскажет повесть дальних стран, Мстислава (12) древний поединок, Измены, гибель россиян На лоне мстительных грузинок; И воспою тот славный час, Когда, почуя бой кровавый, На негодующий Кавказ Подъялся наш орел двуглавый; Когда на Тереке седом Впервые грянул битвы гром И грохот русских барабанов, И в сече, с дерзостным челом, Явился пылкий Цицианов; Тебя я воспою, герой, О Котляревский, бич Кавказа! Куда ни мчался ты грозой — Твой ход, как черная зараза, Губил, ничтожил племена… Ты днесь[17] покинул саблю мести, Тебя не радует война; Скучая миром, в язвах чести, Вкушаешь праздный ты покой И тишину домашних долов… Но се[18] – Восток подъемлет вой!.. Поникни снежною главой, Смирись, Кавказ: идет Ермолов![19] И смолкнул ярый крик войны: Всё русскому мечу подвластно. Кавказа гордые сыны, Сражались, гибли вы ужасно; Но не спасла вас наша кровь, Ни очарованные брони, Ни горы, ни лихие кони, Ни дикой вольности любовь! Подобно племени Батыя[20], Изменит прадедам Кавказ, Забудет алчной брани глас, Оставит стрелы боевые. К ущельям, где гнездились вы, Подъедет путник без боязни, И возвестят о вашей казни Преданья темные молвы.Примечания
1 Бешту, или, правильнее, Бештау, кавказская гора в 40 верстах от Георгиевска. Известна в нашей истории.
2 Аул. Так называются деревни кавказских народов.
3 Уздень, начальник или князь.
4 Шашка, черкесская сабля.
5 Сакля, хижина.
6 Кумыс делается из кобыльего молока; напиток сей в большом употреблении между всеми горскими и кочующими народами Азии. Он довольно приятен вкусу и почитается весьма здоровым.
7 Счастливый климат Грузии не вознаграждает сию прекрасную страну за все бедствия, вечно ею претерпеваемые. Песни грузинские приятны и по большей части заунывны. Они славят минутные успехи кавказского оружия, смерть наших героев: Бакунина и Цицианова, измены, убийства – иногда любовь и наслаждения.
8 Державин в превосходной своей оде графу Зубову первый изобразил в следующих строфах дикие картины Кавказа:
О юный вождь, сверша походы, Прошел ты с воинством Кавказ, Зрел ужасы, красы природы: Как с ребр там страшных гор лиясь, Ревут в мрак бездн сердиты реки; Как с чел их с грохотом снега Падут, лежавши целы веки; Как серны, вниз склонив рога, Зрят в мгле спокойно под собою Рожденье молний и громов. Ты зрел, как ясною порою Там солнечны лучи, средь льдов, Средь вод, играя, отражаясь, Великолепный кажут вид; Как, в разноцветных рассеваясь Там брызгах, тонкий дождь горит; Как глыба там сизоянтарна, Навесясь, смотрит в темный бор; А там заря златобагряна Сквозь лес увеселяет взор.Жуковский, в своем послании к г-ну Воейкову, также посвящает несколько прелестных стихов описанию Кавказа:
Ты зрел, как Терек в быстром беге Меж виноградников шумел, Где, часто притаясь на бреге, Чеченец иль черкес сидел Под буркой, с гибельным арканом; И вдалеке перед тобой, Одеты голубым туманом, Гора вздымалась над горой, И в сонме их гигант седой, Как туча, Эльборус двуглавый. Ужасною и величавой Там всё блистает красотой: Утесов мшистые громады, Бегущи с ревом водопады Во мрак пучин с гранитных скал; Леса, которых сна от века Ни стук секир, ни человека Веселый глас не возмущал, В которых сумрачные сени Еще луч дневный не проник, Где изредка одни елени, Орла послышав грозный крик, Теснясь в толпу, шумят ветвями, И козы легкими ногами Перебегают по скалам. Там всё является очам Великолепие творенья! Но там – среди уединенья Долин, таящихся в горах, — Гнездятся и балкар, и бах, И абазех, и камуцинец, И карбулак, и албазинец, И чечереец, и шапсук; Пищаль, кольчуга, сабля, лук И конь – соратник быстроногий Их и сокровища и боги; Как серны скачут по горам, Бросают смерть из-за утеса; Или, по топким берегам, В траве высокой, в чаще леса Рассыпавшись, добычи ждут: Скалы свободы их приют; Но дни в аулах их бредут На костылях угрюмой лени: Там жизнь их – сон; стеснясь в кружок И в братский с табаком горшок Вонзивши чубуки, как тени, В дыму клубящемся сидят И об убийствах говорят, Иль хвалят меткие пищали, Из коих деды их стреляли; Иль сабли на кремнях острят, Готовясь на убийства новы…9 Чихирь, красное грузинское вино.
10 Черкесы, как и все дикие народы, отличаются пред нами гостеприимством. Гость становится для них священною особою. Предать его или не защитить почитается меж ними за величайшее бесчестие. Кунак (т. е. приятель, знакомый) отвечает жизнию за нашу безопасность, и с ним вы можете углубиться в самую средину кабардинских гор.
11 Байран, или Байрам, праздник разговенья. Рамазан, мусульманский пост.
12 Мстислав, сын св. Владимира, прозванный Удалым, удельный князь Тмутаракана (остров Тамань). Он воевал с косогами (по всей вероятности, нынешними черкесами) и в единоборстве одолел князя их Редедю. См. Ист. Гос. Росс. Том II.
Братья разбойники
Не стая воронов слеталась На груды тлеющих костей, За Волгой, ночью, вкруг огней Удалых шайка собиралась. Какая смесь одежд и лиц, Племен, наречий, состояний! Из хат, из келий, из темниц Они стеклися для стяжаний! Здесь цель одна для всех сердец — Живут без власти, без закона. Меж ними зрится и беглец С брегов воинственного Дона, И в черных локонах еврей, И дикие сыны степей, Калмык, башкирец безобразный, И рыжий финн, и с ленью праздной Везде кочующий цыган! Опасность, кровь, разврат, обман — Суть узы страшного семейства; Тот их, кто с каменной душой Прошел все степени злодейства; Кто режет хладною рукой Вдовицу с бедной сиротой, Кому смешно детей стенанье, Кто не прощает, не щадит, Кого убийство веселит, Как юношу любви свиданье. Затихло всё, теперь луна Свой бледный свет на них наводит, И чарка пенного вина Из рук в другие переходит. Простерты на земле сырой, Иные чутко засыпают: И сны зловещие летают Над их преступной головой. Другим рассказы сокращают Угрюмой ночи праздный час; Умолкли все – их занимает Пришельца нового рассказ, И всё вокруг его внимает: «Нас было двое: брат и я. Росли мы вместе; нашу младость Вскормила чуждая семья: Нам, детям, жизнь была не в радость; Уже мы знали нужды глас, Сносили горькое презренье, И рано волновало нас Жестокой зависти мученье. Не оставалось у сирот Ни бедной хижинки, ни поля; Мы жили в горе, средь забот, Наскучила нам эта доля, И согласились меж собой Мы жребий испытать иной: В товарищи себе мы взяли Булатный нож да темну ночь; Забыли робость и печали, А совесть отогнали прочь. Ах, юность, юность удалая! Житье в то время было нам, Когда, погибель презирая, Мы всё делили пополам. Бывало, только месяц ясный Взойдет и станет средь небес, Из подземелия мы в лес Идем на промысел опасный. За деревом сидим и ждем: Идет ли позднею дорогой Богатый жид иль поп убогий, — Всё наше! всё себе берем. Зимой, бывало, в ночь глухую Заложим тройку удалую, Поем и свищем, и стрелой Летим над снежной глубиной. Кто не боялся нашей встречи? Завидели в харчевне свечи — Туда! к воротам, и стучим, Хозяйку громко вызываем, Вошли – всё даром: пьем, едим И красных девушек ласкаем! И что ж? попались молодцы; Не долго братья пировали; Поймали нас – и кузнецы Нас друг ко другу приковали, И стража отвела в острог. Я старший был пятью годами И вынесть больше брата мог. В цепях, за душными стенами Я уцелел – он изнемог. С трудом дыша, томим тоскою, В забвенье, жаркой головою Склоняясь к моему плечу, Он умирал, твердя всечасно: «Мне душно здесь… я в лес хочу… Воды, воды!..» – но я напрасно Страдальцу воду подавал: Он снова жаждою томился, И градом пот по нем катился. В нем кровь и мысли волновал Жар ядовитого недуга; Уж он меня не узнавал И поминутно призывал К себе товарища и друга. Он говорил: «Где скрылся ты? Куда свой тайный путь направил? Зачем мой брат меня оставил Средь этой смрадной темноты? Не он ли сам от мирных пашен Меня в дремучий лес сманил И ночью там, могущ и страшен, Убийству первый научил? Теперь он без меня на воле Один гуляет в чистом поле, Тяжелым машет кистенем[21] И позабыл в завидной доле Он о товарище своем!..» То снова разгорались в нем Докучной совести мученья: Пред ним толпились привиденья, Грозя перстом издалека. Всех чаще образ старика, Давно зарезанного нами, Ему на мысли приходил; Больной, зажав глаза руками, За старца так меня молил: «Брат! сжалься над его слезами! Не режь его на старость лет… Мне дряхлый крик его ужасен… Пусти его – он не опасен; В нем крови капли теплой нет… Не смейся, брат, над сединами, Не мучь его… авось мольбами Смягчит за нас он Божий гнев!..» Я слушал, ужас одолев; Хотел унять больного слезы И удалить пустые грезы. Он видел пляски мертвецов, В тюрьму пришедших из лесов, То слышал их ужасный шепот, То вдруг погони близкий топот, И дико взгляд его сверкал, Стояли волосы горою, И весь, как лист, он трепетал. То мнил уж видеть пред собою На площадях толпы людей, И страшный ход до места казни, И кнут, и грозных палачей… Без чувств, исполненный боязни, Брат упадал ко мне на грудь. Так проводил я дни и ночи, Не мог минуты отдохнуть, И сна не знали наши очи. Но молодость свое взяла: Вновь силы брата возвратились, Болезнь ужасная прошла, И с нею грезы удалились. Воскресли мы. Тогда сильней Взяла тоска по прежней доле; Душа рвалась к лесам и к воле, Алкала воздуха полей. Нам тошен был и мрак темницы, И сквозь решетки свет денницы[22], И стражи клик, и звон цепей, И легкий шум залетной птицы. По улицам однажды мы, В цепях, для городской тюрьмы Сбирали вместе подаянье И согласились в тишине Исполнить давнее желанье; Река шумела в стороне, Мы к ней – и с берегов высоких Бух! поплыли в водах глубоких. Цепями общими гремим, Бьем волны дружными ногами, Песчаный видим островок И, рассекая быстрый ток, Туда стремимся. Вслед за нами Кричат: «Лови! лови! уйдут!» Два стража издали плывут, Но уж на остров мы ступаем, Оковы камнем разбиваем, Друг с друга рвем клочки одежд, Отягощенные водою… Погоню видим за собою; Но смело, полные надежд, Сидим и ждем. Один уж тонет, То захлебнется, то застонет И, как свинец, пошел ко дну. Другой проплыл уж глубину, С ружьем в руках, он вброд упрямо, Не внемля крику моему, Идет, но в голову ему Два камня полетели прямо — И хлынула на волны кровь; Он утонул – мы в воду вновь, За нами гнаться не посмели, Мы берегов достичь успели И в лес ушли. Но бедный брат… И труд, и волн осенний хлад Недавних сил его лишили: Опять недуг его сломил, И злые грезы посетили. Три дня больной не говорил И не смыкал очей дремотой; В четвертый грустною заботой, Казалось, он исполнен был; Позвал меня, пожал мне руку, Потухший взор изобразил Одолевающую муку; Рука задрогла, он вздохнул И на груди моей уснул. Над хладным телом я остался, Три ночи с ним не расставался, Всё ждал, очнется ли мертвец? И горько плакал. Наконец Взял заступ; грешную молитву Над братней ямой совершил И тело в землю схоронил… Потом на прежнюю ловитву Пошел один… Но прежних лет Уж не дождусь: их нет как нет! Пиры, веселые ночлеги И наши буйные набеги — Могила брата всё взяла. Влачусь угрюмый, одинокий, Окаменел мой дух жестокий, И в сердце жалость умерла. Но иногда щажу морщины: Мне страшно резать старика; На беззащитные седины Не подымается рука. Я помню, как в тюрьме жестокой Больной, в цепях, лишенный сил, Без памяти, в тоске глубокой За старца брат меня молил».Бахчисарайский фонтан
Многие, так же как и я, посещали сей фонтан; но иных уже нет, другие странствуют далече.
Сади[23] Гирей сидел, потупя взор; Янтарь[24] в устах его дымился; Безмолвно раболепный двор Вкруг хана грозного теснился. Всё было тихо во дворце; Благоговея, все читали Приметы гнева и печали На сумрачном его лице. Но повелитель горделивый Махнул рукой нетерпеливой: И все, склонившись, идут вон. Один в своих чертогах он; Свободней грудь его вздыхает, Живее строгое чело Волненье сердца выражает. Так бурны тучи отражает Залива зыбкое стекло. Что движет гордою душою? Какою мыслью занят он? На Русь ли вновь идет войною, Несет ли Польше свой закон, Горит ли местию кровавой, Открыл ли в войске заговор, Страшится ли народов гор, Иль козней Генуи лукавой? Нет, он скучает бранной славой, Устала грозная рука; Война от мыслей далека. Ужель в его гарем измена Стезей преступною вошла, И дочь неволи, нег и плена Гяуру[25] сердце отдала? Нет, жены робкие Гирея, Ни думать, ни желать не смея, Цветут в унылой тишине; Под стражей бдительной и хладной На лоне скуки безотрадной Измен не ведают оне. В тени хранительной темницы Утаены их красоты: Так аравийские цветы Живут за стеклами теплицы. Для них унылой чередой Дни, месяцы, лета проходят И неприметно за собой И младость, и любовь уводят. Однообразен каждый день, И медленно часов теченье. В гареме жизнью правит лень: Мелькает редко наслажденье. Младые жены, как-нибудь Желая сердце обмануть, Меняют пышные уборы, Заводят игры, разговоры Или при шуме вод живых, Над их прозрачными струями, В прохладе яворов[26] густых Гуляют легкими роями. Меж ними ходит злой эвнух[27], И убегать его напрасно: Его ревнивый взор и слух За всеми следует всечасно. Его стараньем заведен Порядок вечный. Воля хана Ему единственный закон; Святую заповедь Корана[28] Не строже наблюдает он. Его душа любви не просит; Как истукан, он переносит Насмешки, ненависть, укор, Обиды шалости нескромной, Презренье, просьбы, робкий взор, И тихий вздох, и ропот томный. Ему известен женский нрав; Он испытал, сколь он лукав И на свободе, и в неволе: Взор нежный, слез упрек немой Не властны над его душой; Он им уже не верит боле. Раскинув легкие власы, Как идут пленницы младые Купаться в жаркие часы, И льются волны ключевые На их волшебные красы, Забав их сторож неотлучный, Он тут; он видит, равнодушный, Прелестниц обнаженный рой; Он по гарему в тьме ночной Неслышными шагами бродит: Ступая тихо по коврам, К послушным крадется дверям, От ложа к ложу переходит; В заботе вечной, ханских жен Роскошный наблюдает сон, Ночной подслушивает лепет; Дыханье, вздох, малейший трепет, — Всё жадно примечает он: И горе той, чей шепот сонный Чужое имя призывал Или подруге благосклонной Порочны мысли доверял! Что ж полон грусти ум Гирея? Чубук в руках его потух; Недвижим и дохнуть не смея, У двери знака ждет эвнух. Встает задумчивый властитель; Пред ним дверь настежь. Молча, он Идет в заветную обитель Еще недавно милых жен. Беспечно ожидая хана, Вокруг игривого фонтана На шелковых коврах оне Толпою резвою сидели И с детской радостью глядели, Как рыба в ясной глубине На мраморном ходила дне. Нарочно к ней на дно иные Роняли серьги золотые. Кругом невольницы меж тем Шербет[29] носили ароматный И песнью звонкой и приятной Вдруг огласили весь гарем:ТАТАРСКАЯ ПЕСНЯ
1 «Дарует небо человеку Замену слез и частых бед: Блажен факир[30], узревший Мекку[31] На старости печальных лет. 2 Блажен, кто славный брег Дуная[32] Своею смертью освятит: К нему навстречу дева рая С улыбкой страстной полетит. 3 Но тот блаженней, о Зарема, Кто, мир и негу возлюбя, Как розу, в тишине гарема Лелеет, милая, тебя». Они поют. Но где Зарема, Звезда любви, краса гарема? — Увы, печальна и бледна, Похвал не слушает она; Как пальма, смятая грозою, Поникла юной головою; Ничто, ничто не мило ей: Зарему разлюбил Гирей. Он изменил!.. Но кто с тобою, Грузинка, равен красотою? Вокруг лилейного чела Ты косу дважды обвила; Твои пленительные очи Яснее дня, чернее ночи. Чей голос выразит сильней Порывы пламенных желаний? Чей страстный поцелуй живей Твоих язвительных лобзаний? Как сердце, полное тобой, Забьется для красы чужой? Но, равнодушный и жестокий, Гирей презрел твои красы И ночи хладные часы Проводит мрачный, одинокий С тех пор, как польская княжна В его гарем заключена. Недавно юная Мария Узрела небеса чужие; Недавно милою красой Она цвела в стране родной; Седой отец гордился ею И звал отрадою своею. Для старика была закон Ее младенческая воля. Одну заботу ведал он, Чтоб дочери любимой доля Была, как вешний день, ясна, Чтоб и минутные печали Ее души не помрачали, Чтоб даже замужем она Воспоминала с умиленьем Девичье время, дни забав, Мелькнувших легким сновиденьем. Всё в ней пленяло: тихий нрав, Движенья стройные, живые И очи томно-голубые. Природы милые дары Она искусством украшала; Она домашние пиры Волшебной арфой оживляла; Толпы вельмож и богачей Руки Марииной искали, И много юношей по ней В страданье тайном изнывали. Но в тишине души своей Она любви еще не знала И независимый досуг В отцовском замке меж подруг Одним забавам посвящала. Давно ль? И что же! Тьмы татар На Польшу хлынули рекою: Не с столь ужасной быстротою По жатве стелется пожар. Обезображенный войною, Цветущий край осиротел; Исчезли мирные забавы; Уныли селы и дубравы, И пышный замок опустел. Тиха Мариина светлица… В домовой церкви, где кругом Почиют мощи[33] хладным сном, С короной, с княжеским гербом Воздвиглась новая гробница… Отец в могиле, дочь в плену. Скупой наследник в замке правит И тягостным ярмом бесславит Опустошенную страну. Увы! Дворец Бахчисарая[34] Скрывает юную княжну. В неволе тихой увядая, Мария плачет и грустит. Гирей несчастную щадит: Ее унынье, слезы, стоны Тревожат хана краткий сон, И для нее смягчает он Гарема строгие законы. Угрюмый сторож ханских жен Ни днем, ни ночью к ней не входит: Рукой заботливой не он На ложе сна ее возводит; Не смеет устремиться к ней Обидный взор его очей; Она в купальне потаенной Одна с невольницей своей; Сам хан боится девы пленной Печальный возмущать покой; Гарема в дальнем отделенье Позволено ей жить одной: И, мнится, в том уединенье Сокрылся некто неземной. Там день и ночь горит лампада Пред ликом Девы Пресвятой; Души тоскующей отрада, Там упованье в тишине С смиренной верой обитает, И сердцу всё напоминает О близкой, лучшей стороне… Там дева слезы проливает Вдали завистливых подруг; И между тем как всё вокруг В безумной неге утопает, Святыню строгую скрывает Спасенный чудом уголок. Так сердце, жертва заблуждений, Среди порочных упоений Хранит один святой залог, Одно божественное чувство… ……………………. ……………………. Настала ночь; покрылись тенью Тавриды[35] сладостной поля; Вдали, под тихой лавров сенью Я слышу пенье соловья; За хором звезд луна восходит; Она с безоблачных небес На долы, на холмы, на лес Сиянье томное наводит. Покрыты белой пеленой, Как тени легкие мелькая, По улицам Бахчисарая, Из дома в дом, одна к другой, Простых татар спешат супруги Делить вечерние досуги. Дворец утих; уснул гарем, Объятый негой безмятежной; Не прерывается ничем Спокойство ночи. Страж надежный, Дозором обошел эвнух. Теперь он спит; но страх прилежный Тревожит в нем и спящий дух. Измен всечасных ожиданье Покоя не дает уму. То чей-то шорох, то шептанье, То крики чудятся ему; Обманутый неверным слухом, Он пробуждается, дрожит, Напуганным приникнув ухом… Но всё кругом его молчит; Одни фонтаны сладкозвучны Из мраморной темницы бьют, И, с милой розой неразлучны, Во мраке соловьи поют; Эвнух еще им долго внемлет, И снова сон его объемлет. Как милы темные красы Ночей роскошного Востока! Как сладко льются их часы Для обожателей Пророка! Какая нега в их домах, В очаровательных садах, В тиши гаремов безопасных, Где под влиянием луны Всё полно тайн и тишины И вдохновений сладострастных! ………………………. Все жены спят. Не спит одна. Едва дыша, встает она; Идет; рукою торопливой Открыла дверь; во тьме ночной Ступает легкою ногой… В дремоте чуткой и пугливой Пред ней лежит эвнух седой. Ах, сердце в нем неумолимо: Обманчив сна его покой!.. Как дух, она проходит мимо. …………………….. Пред нею дверь; с недоуменьем Ее дрожащая рука Коснулась верного замка… Вошла, взирает с изумленьем… И тайный страх в нее проник. Лампады свет уединенный, Кивот[36], печально озаренный, Пречистой Девы кроткий лик И крест, любви символ священный, Грузинка! всё в душе твоей Родное что-то пробудило, Всё звуками забытых дней Невнятно вдруг заговорило. Пред ней покоилась княжна, И жаром девственного сна Ее ланиты оживлялись И, слез являя свежий след, Улыбкой томной озарялись: Так озаряет лунный свет Дождем отягощенный цвет; Спорхнувший с неба сын эдема[37], Казалось, ангел почивал И, сонный, слезы проливал О бедной пленнице гарема… Увы, Зарема, что с тобой? Стеснилась грудь ее тоской, Невольно клонятся колени, И молит: «Сжалься надо мной, Не отвергай моих молений!..» Ее слова, движенье, стон Прервали девы тихий сон. Княжна со страхом пред собою Младую незнакомку зрит; В смятенье, трепетной рукою Ее подъемля, говорит: «Кто ты?.. Одна, порой ночною, Зачем ты здесь?» – «Я шла к тебе, Спаси меня; в моей судьбе Одна надежда мне осталась… Я долго счастьем наслаждалась, Была беспечней день от дня… И тень блаженства миновалась; Я гибну. Выслушай меня. Родилась я не здесь, далеко, Далеко… но минувших дней Предметы в памяти моей Доныне врезаны глубоко. Я помню горы в небесах, Потоки жаркие в горах, Непроходимые дубравы, Другой закон, другие нравы; Но почему, какой судьбой Я край оставила родной, Не знаю; помню только море И человека в вышине Над парусами… Страх и горе Доныне чужды были мне; Я в безмятежной тишине В тени гарема расцветала И первых опытов любви Послушным сердцем ожидала. Желанья тайные мои Сбылись. Гирей для мирной неги Войну кровавую презрел, Пресек ужасные набеги И свой гарем опять узрел. Пред хана в смутном ожиданье Предстали мы. Он светлый взор Остановил на мне в молчанье, Позвал меня… и с этих пор Мы в беспрерывном упоенье Дышали счастьем; и ни раз Ни клевета, ни подозренье, Ни злобной ревности мученье, Ни скука не смущала нас. Мария, ты пред ним явилась… Увы, с тех пор его душа Преступной думой омрачилась! Гирей, изменою дыша, Моих не слушает укоров; Ему докучен сердца стон; Ни прежних чувств, ни разговоров Со мною не находит он. Ты преступленью не причастна; Я знаю: не твоя вина… Итак, послушай: я прекрасна; Во всем гареме ты одна Могла б еще мне быть опасна; Но я для страсти рождена, Но ты любить, как я, не можешь; Зачем же хладной красотой Ты сердце слабое тревожишь? Оставь Гирея мне: он мой; На мне горят его лобзанья, Он клятвы страшные мне дал, Давно все думы, все желанья Гирей с моими сочетал; Меня убьет его измена… Я плачу; видишь, я колена Теперь склоняю пред тобой, Молю, винить тебя не смея, Отдай мне радость и покой, Отдай мне прежнего Гирея… Не возражай мне ничего; Он мой; он ослеплен тобою. Презреньем, просьбою, тоскою, Чем хочешь, отврати его; Клянись… (хоть я для Алкорана[38], Между невольницами хана, Забыла веру прежних дней; Но вера матери моей Была твоя) клянись мне ею Зарему возвратить Гирею… Но слушай: если я должна Тебе… кинжалом я владею, Я близ Кавказа рождена». Сказав, исчезла вдруг. За нею Не смеет следовать княжна. Невинной деве непонятен Язык мучительных страстей, Но голос их ей смутно внятен, Он странен, он ужасен ей. Какие слезы и моленья Ее спасут от посрамленья? Что ждет ее? Ужели ей Остаток горьких юных дней Провесть наложницей презренной? О Боже! если бы Гирей В ее темнице отдаленной Забыл несчастную навек Или кончиной ускоренной Унылы дни ее пресек! С какою б радостью Мария Оставила печальный свет! Мгновенья жизни дорогие Давно прошли, давно их нет! Что делать ей в пустыне мира? Уж ей пора, Марию ждут И в небеса, на лоно мира, Родной улыбкою зовут. …………………….. Промчались дни; Марии нет. Мгновенно сирота почила. Она давно-желанный свет, Как новый ангел, озарила. Но что же в гроб ее свело? Тоска ль неволи безнадежной, Болезнь, или другое зло?.. Кто знает? Нет Марии нежной!.. Дворец угрюмый опустел; Его Гирей опять оставил; С толпой татар в чужой предел Он злой набег опять направил; Он снова в бурях боевых Несется мрачный, кровожадный: Но в сердце хана чувств иных Таится пламень безотрадный. Он часто в сечах роковых Подъемлет саблю, и с размаха Недвижим остается вдруг, Глядит с безумием вокруг, Бледнеет, будто полный страха, И что-то шепчет, и порой Горючи слезы льет рекой. Забытый, преданный презренью, Гарем не зрит его лица; Там, обреченные мученью, Под стражей хладного скопца Стареют жены. Между ними Давно грузинки нет; она Гарема стражами немыми В пучину вод опущена. В ту ночь, как умерла княжна, Свершилось и ее страданье. Какая б ни была вина, Ужасно было наказанье! Опустошив огнем войны Кавказу близкие страны И селы мирные России, В Тавриду возвратился хан И в память горестной Марии Воздвигнул мраморный фонтан, В углу дворца уединенный. Над ним крестом осенена Магометанская луна[39] (Символ, конечно, дерзновенный, Незнанья жалкая вина). Есть надпись: едкими годами Еще не сгладилась она. За чуждыми ее чертами Журчит во мраморе вода И каплет хладными слезами, Не умолкая никогда. Так плачет мать во дни печали О сыне, падшем на войне. Младые девы в той стране Преданье старины узнали, И мрачный памятник оне Фонтаном слез именовали. Покинув север наконец, Пиры надолго забывая, Я посетил Бахчисарая В забвенье дремлющий дворец. Среди безмолвных переходов Бродил я там, где, бич народов, Татарин буйный пировал И после ужасов набега В роскошной лени утопал. Еще поныне дышит нега В пустых покоях и садах; Играют воды, рдеют розы, И вьются виноградны лозы, И злато блещет на стенах. Я видел ветхие решетки, За коими, в своей весне, Янтарны разбирая четки, Вздыхали жены в тишине. Я видел ханское кладбище, Владык последнее жилище. Сии надгробные столбы, Венчанны мраморной чалмою, Казалось мне, завет судьбы Гласили внятною молвою. Где скрылись ханы? Где гарем? Кругом всё тихо, всё уныло, Всё изменилось… но не тем В то время сердце полно было: Дыханье роз, фонтанов шум Влекли к невольному забвенью, Невольно предавался ум Неизъяснимому волненью, И по дворцу летучей тенью Мелькала дева предо мной!.. ……………………. Чью тень, о други, видел я? Скажите мне: чей образ нежный Тогда преследовал меня, Неотразимый, неизбежный? Марии ль чистая душа Являлась мне, или Зарема Носилась, ревностью дыша, Средь опустелого гарема? Я помню столь же милый взгляд И красоту еще земную, Все думы сердца к ней летят, Об ней в изгнании тоскую… Безумец! полно! перестань, Не оживляй тоски напрасной, Мятежным снам любви несчастной Заплачена тобою дань — Опомнись; долго ль, узник томный, Тебе оковы лобызать И в свете лирою нескромной Свое безумство разглашать? Поклонник муз, поклонник мира, Забыв и славу и любовь, О, скоро вас увижу вновь, Брега веселые Салгира![40] Приду на склон приморских гор, Воспоминаний тайных полный, И вновь таврические волны[41] Обрадуют мой жадный взор. Волшебный край, очей отрада! Всё живо там: холмы, леса, Янтарь и яхонт винограда, Долин приютная краса, И струй и тополей прохлада — Всё чувство путника манит, Когда, в час утра безмятежный, В горах, дорогою прибрежной, Привычный конь его бежит И зеленеющая влага Пред ним и блещет, и шумит Вокруг утесов Аю-дага[42]…Цыганы
Цыганы шумною толпой По Бессарабии кочуют. Они сегодня над рекой В шатрах изодранных ночуют. Как вольность, весел их ночлег И мирный сон под небесами. Между колесами телег, Полузавешенных коврами, Горит огонь; семья кругом Готовит ужин; в чистом поле Пасутся кони; за шатром Ручной медведь лежит на воле. Всё живо посреди степей: Заботы мирные семей, Готовых с утром в путь недальний, И песни жен, и крик детей, И звон походной наковальни. Но вот на табор кочевой Нисходит сонное молчанье, И слышно в тишине степной Лишь лай собак да коней ржанье. Огни везде погашены, Спокойно всё, луна сияет Одна с небесной вышины И тихий табор озаряет. В шатре одном старик не спит; Он перед углями сидит, Согретый их последним жаром, И в поле дальное глядит, Ночным подернутое паром. Его молоденькая дочь Пошла гулять в пустынном поле. Она привыкла к резвой воле, Она придет: но вот уж ночь, И скоро месяц уж покинет Небес далеких облака; Земфиры нет как нет, и стынет Убогий ужин старика. Но вот она. За нею следом По степи юноша спешит; Цыгану вовсе он неведом. «Отец мой, – дева говорит, — Веду я гостя: за курганом Его в пустыне я нашла И в табор на ночь зазвала. Он хочет быть, как мы, цыганом; Его преследует закон, Но я ему подругой буду. Его зовут Алеко; он Готов идти за мною всюду».Старик
Я рад. Останься до утра Под сенью нашего шатра Или пробудь у нас и доле, Как ты захочешь. Я готов С тобой делить и хлеб и кров. Будь наш, привыкни к нашей доле, Бродящей бедности и воле; А завтра с утренней зарей В одной телеге мы поедем; Примись за промысел любой: Железо куй иль песни пой И селы обходи с медведем.Алеко
Я остаюсь.Земфира
Он будет мой: Кто ж от меня его отгонит? Но поздно… месяц молодой Зашел; поля покрыты мглой, И сон меня невольно клонит… Светло. Старик тихонько бродит Вокруг безмолвного шатра. «Вставай, Земфира: солнце всходит, Проснись, мой гость, пора, пора! Оставьте, дети, ложе неги». И с шумом высыпал народ, Шатры разобраны, телеги Готовы двинуться в поход; Всё вместе тронулось: и вот Толпа валит в пустых равнинах. Ослы в перекидных корзинах Детей играющих несут; Мужья и братья, жены, девы, И стар и млад вослед идут; Крик, шум, цыганские припевы, Медведя рев, его цепей Нетерпеливое бряцанье, Лохмотьев ярких пестрота, Детей и старцев нагота, Собак и лай, и завыванье, Волынки[43] говор, скрып телег — Всё скудно, дико, всё нестройно; Но всё так живо-непокойно, Так чуждо мертвых наших нег, Так чуждо этой жизни праздной, Как песнь рабов однообразной! Уныло юноша глядел На опустелую равнину И грусти тайную причину Истолковать себе не смел. С ним черноокая Земфира, Теперь он вольный житель мира, И солнце весело над ним Полуденной красою блещет; Что ж сердце юноши трепещет? Какой заботой он томим? Птичка Божия не знает Ни заботы, ни труда, Хлопотливо не свивает Долговечного гнезда, В долгу ночь на ветке дремлет; Солнце красное взойдет, Птичка гласу Бога внемлет, Встрепенется и поет. За весной, красой природы, Лето знойное пройдет — И туман и непогоды Осень поздняя несет: Людям скучно, людям горе; Птичка в дальные страны, В теплый край, за сине море Улетает до весны. Подобно птичке беззаботной И он, изгнанник перелетный, Гнезда надежного не знал И ни к чему не привыкал. Ему везде была дорога, Везде была ночлега сень; Проснувшись поутру, свой день Он отдавал на волю Бога, И жизни не могла тревога Смутить его сердечну лень. Его порой волшебной славы Манила дальная звезда, Нежданно роскошь и забавы К нему являлись иногда; Над одинокой головою И гром нередко грохотал; Но он беспечно под грозою И в вёдро ясное дремал. И жил, не признавая власти Судьбы коварной и слепой; Но Боже, как играли страсти Его послушною душой! С каким волнением кипели В его измученной груди! Давно ль, надолго ль усмирели? Они проснутся: погоди.Земфира
Скажи, мой друг: ты не жалеешь О том, что бросил навсегда?Алеко
Что ж бросил я?Земфира
Ты разумеешь: Людей отчизны, города.Алеко
О чем жалеть? Когда б ты знала, Когда бы ты воображала Неволю душных городов! Там люди в кучах, за оградой, Не дышат утренней прохладой, Ни вешним запахом лугов; Любви стыдятся, мысли гонят, Торгуют волею своей, Главы пред идолами клонят И просят денег да цепей. Что бросил я? Измен волненье, Предрассуждений[44] приговор, Толпы безумное гоненье Или блистательный позор.Земфира
Но там огромные палаты, Там разноцветные ковры, Там игры, шумные пиры, Уборы дев там так богаты!Алеко
Что шум веселий городских? Где нет любви, там нет веселий; А девы… Как ты лучше их И без нарядов дорогих, Без жемчугов, без ожерелий! Не изменись, мой нежный друг! А я… одно мое желанье С тобой делить любовь, досуг И добровольное изгнанье.Старик
Ты любишь нас, хоть и рожден Среди богатого народа; Но не всегда мила свобода Тому, кто к неге приучен. Меж нами есть одно преданье: Царем когда-то сослан был Полудня[45] житель к нам в изгнанье. (Я прежде знал, но позабыл Его мудреное прозванье.) Он был уже летами стар, Но млад и жив душой незлобной: Имел он песен дивный дар И голос, шуму вод подобный. И полюбили все его, И жил он на брегах Дуная, Не обижая никого, Людей рассказами пленяя. Не разумел он ничего, И слаб, и робок был, как дети; Чужие люди за него Зверей и рыб ловили в сети; Как мерзла быстрая река И зимни вихри бушевали, Пушистой кожей покрывали Они святого старика; Но он к заботам жизни бедной Привыкнуть никогда не мог; Скитался он иссохший, бледный, Он говорил, что гневный Бог Его карал за преступленье, Он ждал: придет ли избавленье. И всё несчастный тосковал, Бродя по берегам Дуная, Да горьки слезы проливал, Свой дальный град воспоминая. И завещал он, умирая, Чтобы на юг перенесли Его тоскующие кости, И смертью – чуждой сей земли — Не успокоенные гости.Алеко
Так вот судьба твоих сынов, О Рим, о громкая держава! Певец любви, певец богов, Скажи мне: что такое слава? Могильный гул, хвалебный глас, Из рода в роды звук бегущий Или под сенью дымной кущи[46] Цыгана дикого рассказ? Прошло два лета. Так же бродят Цыганы мирною толпой; Везде по-прежнему находят Гостеприимство и покой. Презрев оковы просвещенья, Алеко волен, как они; Он без забот и сожаленья Ведет кочующие дни. Всё тот же он, семья всё та же; Он, прежних лет не помня даже, К бытью цыганскому привык. Он любит их ночлегов сени, И упоенье вечной лени, И бедный, звучный их язык. Медведь, беглец родной берлоги, Косматый гость его шатра, В селеньях, вдоль степной дороги, Близ молдаванского двора Перед толпою осторожной И тяжко пляшет, и ревет, И цепь докучную грызет. На посох опершись дорожный, Старик лениво в бубны бьет, Алеко с пеньем зверя водит, Земфира поселян обходит И дань их вольную берет; Настанет ночь; они все трое Варят нежатое пшено; Старик уснул – и всё в покое… В шатре и тихо, и темно. Старик на вешнем солнце греет Уж остывающую кровь; У люльки дочь поет любовь. Алеко внемлет и бледнеет.Земфира
Старый муж, грозный муж, Режь меня, жги меня: Я тверда, не боюсь Ни ножа, ни огня. Ненавижу тебя, Презираю тебя; Я другого люблю, Умираю любя.Алеко
Молчи. Мне пенье надоело, Я диких песен не люблю.Земфира
Не любишь? мне какое дело! Я песню для себя пою. Режь меня, жги меня; Не скажу ничего; Старый муж, грозный муж, Не узнаешь его. Он свежее весны, Жарче летнего дня; Как он молод и смел! Как он любит меня! Как ласкала его Я в ночной тишине! Как смеялись тогда Мы твоей седине!Алеко
Молчи, Земфира, я доволен…Земфира
Так понял песню ты мою?Алеко
Земфира!..Земфира
Ты сердиться волен, Я песню про тебя пою.<c>(Уходит и поет: Старый муж и проч.)
Старик
Так, помню, помню: песня эта Во время наше сложена. Уже давно в забаву света Поется меж людей она. Кочуя на степях Кагула[47], Ее, бывало, в зимню ночь Моя певала Мариула, Перед огнем качая дочь. В уме моем минувши лета Час от часу темней, темней; Но заронилась песня эта Глубоко в памяти моей. Всё тихо; ночь; луной украшен Лазурный юга небосклон, Старик Земфирой пробужден: «О мой отец, Алеко страшен: Послушай, сквозь тяжелый сон И стонет, и рыдает он».Старик
Не тронь его, храни молчанье. Слыхал я русское преданье: Теперь полунощной порой У спящего теснит дыханье Домашний дух; перед зарей Уходит он. Сиди со мной.Земфира
Отец мой! шепчет он: «Земфира!»Старик
Тебя он ищет и во сне: Ты для него дороже мира.Земфира
Его любовь постыла мне, Мне скучно, сердце воли просит, Уж я… но тише! слышишь? он Другое имя произносит…Старик
Чье имя?Земфира
Слышишь? хриплый стон И скрежет ярый!.. Как ужасно! Я разбужу его.Старик
Напрасно, Ночного духа не гони; Уйдет и сам.Земфира
Он повернулся, Привстал; зовет меня; проснулся. Иду к нему. – Прощай, усни.Алеко
Где ты была?Земфира
С отцом сидела. Какой-то дух тебя томил, Во сне душа твоя терпела Мученья. Ты меня страшил: Ты, сонный, скрежетал зубами И звал меня.Алеко
Мне снилась ты. Я видел, будто между нами… Я видел страшные мечты.Земфира
Не верь лукавым сновиденьям.Алеко
Ах, я не верю ничему: Ни снам, ни сладким увереньям, Ни даже сердцу твоему.Старик
О чем, безумец молодой, О чем вздыхаешь ты всечасно? Здесь люди вольны, небо ясно, И жены славятся красой. Не плачь: тоска тебя погубит.Алеко
Отец, она меня не любит.Старик
Утешься, друг; она дитя, Твое унынье безрассудно: Ты любишь горестно и трудно, А сердце женское шутя. Взгляни: под отдаленным сводом Гуляет вольная луна; На всю природу мимоходом Равно сиянье льет она. Заглянет в облако любое, Его так пышно озарит, И вот – уж перешла в другое И то недолго посетит. Кто место в небе ей укажет, Примолвя: там остановись! Кто сердцу юной девы скажет: Люби одно, не изменись? Утешься!Алеко
Как она любила! Как нежно, преклонясь ко мне, Она в пустынной тишине Часы ночные проводила! Веселья детского полна, Как часто милым лепетаньем Иль упоительным лобзаньем Мою задумчивость она В минуту разогнать умела! И что ж? Земфира неверна! Моя Земфира охладела.Старик
Послушай: расскажу тебе Я повесть о самом себе. Давно, давно, когда Дунаю Не угрожал еще москаль (Вот видишь: я припоминаю, Алеко, старую печаль) — Тогда боялись мы султана; А правил Буджаком[48] паша[49] С высоких башен Аккермана[50] — Я молод был; моя душа В то время радостно кипела, И ни одна в кудрях моих Еще сединка не белела; Между красавиц молодых Одна была… и долго ею, Как солнцем, любовался я И наконец назвал моею. Ах, быстро молодость моя Звездой падучею мелькнула! Но ты, пора любви, минула Еще быстрее: только год Меня любила Мариула. Однажды близ кагульских вод Мы чуждый табор повстречали; Цыганы те, свои шатры Разбив близ наших у горы, Две ночи вместе ночевали. Они ушли на третью ночь, И, брося маленькую дочь, Ушла за ними Мариула. Я мирно спал; заря блеснула; Проснулся я: подруги нет! Ищу, зову – пропал и след. Тоскуя, плакала Земфира, И я заплакал!.. с этих пор Постыли мне все девы мира; Меж ими никогда мой взор Не выбирал себе подруги, И одинокие досуги Уже ни с кем я не делил.Алеко
Да как же ты не поспешил Тотчас вослед неблагодарной И хищникам и ей, коварной, Кинжала в сердце не вонзил?Старик
К чему? вольнее птицы младость. Кто в силах удержать любовь? Чредою всем дается радость; Что было, то не будет вновь.Алеко
Я не таков. Нет, я, не споря, От прав моих не откажусь; Или хоть мщеньем наслажусь. О, нет! когда б над бездной моря Нашел я спящего врага, Клянусь, и тут моя нога Не пощадила бы злодея; Я в волны моря, не бледнея, И беззащитного б толкнул; Внезапный ужас пробужденья Свирепым смехом упрекнул, И долго мне его паденья Смешон и сладок был бы гул.Молодой цыган
Еще одно, одно лобзанье!Земфира
Пора: мой муж ревнив и зол.Цыган
Одно… но доле! на прощанье.Земфира
Прощай, покамест не пришел.Цыган
Скажи – когда ж опять свиданье?Земфира
Сегодня; как зайдет луна, Там, за курганом над могилой…Цыган
Обманет! не придет она.Земфира
Беги – вот он. Приду, мой милый. Алеко спит. В его уме Виденье смутное играет; Он, с криком пробудясь во тьме, Ревниво руку простирает; Но обробелая рука Покровы хладные хватает — Его подруга далека… Он с трепетом привстал и внемлет… Всё тихо: страх его объемлет, По нем текут и жар и хлад; Встает он, из шатра выходит, Вокруг телег, ужасен, бродит; Спокойно всё; поля молчат; Темно; луна зашла в туманы, Чуть брезжит звезд неверный свет, Чуть по росе приметный след Ведет за дальные курганы: Нетерпеливо он идет, Куда зловещий след ведет. Могила на краю дороги Вдали белеет перед ним, Туда слабеющие ноги Влачит, предчувствием томим, Дрожат уста, дрожат колени, Идет… и вдруг… иль это сон? Вдруг видит близкие две тени И близкий шепот слышит он Над обесславленной могилой.1-й голос
Пора.2-й голос
Постой!1-й голос
Пора, мой милый.2-й голос
Нет, нет! постой, дождемся дня.1-й голос
Уж поздно.2-й голос
Как ты робко любишь. Минуту!1-й голос
Ты меня погубишь.2-й голос
Минуту!1-й голос
Если без меня Проснется муж…Алеко
Проснулся я. Куда вы? не спешите оба; Вам хорошо и здесь у гроба.Земфира
Мой друг, беги, беги!Алеко
Постой! Куда, красавец молодой? Лежи!<c>(Вонзает в него нож.)
Земфира
Алеко!Цыган
Умираю!Земфира
Алеко! ты убьешь его! Взгляни: ты весь обрызган кровью! О, что ты сделал?Алеко
Ничего. Теперь дыши его любовью.Земфира
Нет, полно, не боюсь тебя, Твои угрозы презираю, Твое убийство проклинаю.Алеко
Умри ж и ты!<c>(Поражает ее.)
Земфира
Умру любя. Восток, денницей озаренный, Сиял. Алеко за холмом, С ножом в руках, окровавленный Сидел на камне гробовом. Два трупа перед ним лежали; Убийца страшен был лицом; Цыганы робко окружали Его встревоженной толпой; Могилу в стороне копали, Шли жены скорбной чередой И в очи мертвых целовали. Старик отец один сидел И на погибшую глядел В немом бездействии печали; Подняли трупы, понесли И в лоно хладное земли Чету младую положили. Алеко издали смотрел На всё. Когда же их закрыли Последней горстию земной, Он молча, медленно склонился И с камня на траву свалился. Тогда старик, приближась, рек: «Оставь нас, гордый человек! Мы дики, нет у нас законов, Мы не терзаем, не казним, Не нужно крови нам и стонов; Но жить с убийцей не хотим. Ты не рожден для дикой доли, Ты для себя лишь хочешь воли; Ужасен нам твой будет глас: Мы робки и добры душою, Ты зол и смел; – оставь же нас, Прости! да будет мир с тобою». Сказал, и шумною толпою Поднялся табор кочевой С долины страшного ночлега, И скоро всё в дали степной Сокрылось. Лишь одна телега, Убогим крытая ковром, Стояла в поле роковом. Так иногда перед зимою, Туманной, утренней порою, Когда подъемлется с полей Станица поздних журавлей И с криком вдаль на юг несется, Пронзенный гибельным свинцом Один печально остается, Повиснув раненым крылом. Настала ночь; в телеге темной Огня никто не разложил, Никто под крышею подъемной До утра сном не опочил.Эпилог
Волшебной силой песнопенья В туманной памяти моей Так оживляются виденья То светлых, то печальных дней. В стране, где долго, долго брани Ужасный гул не умолкал, Где повелительные грани Стамбулу русский указал[51], Где старый наш орел двуглавый Еще шумит минувшей славой, Встречал я посреди степей Над рубежами древних станов Телеги мирные цыганов, Смиренной вольности детей. За их ленивыми толпами В пустынях часто я бродил, Простую пищу их делил И засыпал пред их огнями. В походах медленных любил Их песен радостные гулы — И долго милой Мариулы Я имя нежное твердил. Но счастья нет и между вами, Природы бедные сыны! И под издранными шатрами Живут мучительные сны, И ваши сени кочевые В пустынях не спаслись от бед, И всюду страсти роковые, И от судеб защиты нет.Граф Нулин
Пора, пора! рога трубят; Псари в охотничьих уборах Чем свет уж на конях сидят, Борзые прыгают на сворах. Выходит барин на крыльцо, Всё, подбочась, обозревает; Его довольное лицо Приятной важностью сияет. Чекмень[52] затянутый на нем, Турецкий нож за кушаком, За пазухой во фляжке ром, И рог на бронзовой цепочке. В ночном чепце, в одном платочке, Глазами сонными жена Сердито смотрит из окна На сбор, на псарную тревогу. Вот мужу подвели коня; Он холку хвать и в стремя ногу, Кричит жене: «Не жди меня!» — И выезжает на дорогу. В последних числах сентября (Презренной прозой говоря) В деревне скучно: грязь, ненастье, Осенний ветер, мелкий снег Да вой волков. Но то-то счастье Охотнику! Не зная нег, В отъезжем поле он гарцует, Везде находит свой ночлег, Бранится, мокнет и пирует Опустошительный набег. А что же делает супруга Одна в отсутствие супруга? Занятий мало ль есть у ней? Грибы солить, кормить гусей, Заказывать обед и ужин, В анбар и в погреб заглянуть. Хозяйки глаз повсюду нужен: Он вмиг заметит что-нибудь. К несчастью, героиня наша… (Ах! я забыл ей имя дать. Муж просто звал ее Наташа, Но мы – мы будем называть Наталья Павловна) к несчастью, Наталья Павловна совсем Своей хозяйственною частью Не занималася, затем, Что не в отеческом законе Она воспитана была, А в благородном пансионе У эмигрантки Фальбала[53]. Она сидит перед окном; Пред ней открыт четвертый том Сентиментального романа: Любовь Элизы и Армана, Иль переписка двух семей — Роман классический, старинный, Отменно длинный, длинный, длинный, Нравоучительный и чинный, Без романтических затей. Наталья Павловна сначала Его внимательно читала, Но скоро как-то развлеклась Перед окном возникшей дракой Козла с дворовою собакой И ею тихо занялась. Кругом мальчишки хохотали. Меж тем печально, под окном, Индейки с криком выступали Вослед за мокрым петухом; Три утки полоскались в луже; Шла баба через грязный двор Белье повесить на забор; Погода становилась хуже: Казалось, снег идти хотел… Вдруг колокольчик зазвенел. Кто долго жил в глуши печальной, Друзья, тот верно знает сам, Как сильно колокольчик дальный Порой волнует сердце нам. Не друг ли едет запоздалый, Товарищ юности удалой?.. Уж не она ли?.. Боже мой! Вот ближе, ближе. Сердце бьется. Но мимо, мимо звук несется, Слабей… и смолкнул за горой. Наталья Павловна к балкону Бежит, обрадована звону, Глядит и видит: за рекой, У мельницы, коляска скачет. Вот на мосту – к нам точно… нет, Поворотила влево. Вслед Она глядит и чуть не плачет. Но вдруг… о радость! косогор; Коляска на бок. – «Филька, Васька! Кто там? скорей! Вон там коляска: Сейчас везти ее на двор И барина просить обедать! Да жив ли он?.. беги проведать: Скорей, скорей!» Слуга бежит. Наталья Павловна спешит Взбить пышный локон, шаль накинуть, Задернуть завес, стул подвинуть, И ждет. «Да скоро ль, мой творец?» Вот едут, едут наконец. Забрызганный в дороге дальной, Опасно раненный, печальный Кой-как тащится экипаж; Вслед барин молодой хромает; Слуга-француз не унывает И говорит: «Аllons, courage!»[54] Вот у крыльца; вот в сени входят. Покамест барину теперь Покой особенный отводят И настежь отворяют дверь, Пока Picard[55] шумит, хлопочет, И барин одеваться хочет, Сказать ли вам, кто он таков? Граф Нулин, из чужих краев, Где промотал он в вихре моды Свои грядущие доходы. Себя казать, как чудный зверь, В Петрополь едет он теперь С запасом фраков и жилетов, Шляп, вееров, плащей, корсетов, Булавок, запонок, лорнетов, Цветных платков, чулков à jour[56], С ужасной книжкою Гизота[57], С тетрадью злых карикатур, С романом новым Вальтер-Скотта[58], С bons-mots[59] парижского двора, С последней песней Беранжера[60], С мотивами Россини, Пера[61], Et cetera, et cetera[62]. Уж стол накрыт; давно пора; Хозяйка ждет нетерпеливо; Дверь отворилась, входит граф; Наталья Павловна, привстав, Осведомляется учтиво, Каков он? что нога его? Граф отвечает: ничего. Идут за стол; вот он садится, К ней подвигает свой прибор И начинает разговор: Святую Русь бранит, дивится, Как можно жить в ее снегах, Жалеет о Париже страх. – «А что театр?» – «О! сиротеет, C’est bien mauvais, ça fait pitie[63]. Тальма[64] совсем оглох, слабеет, И мамзель Марс[65], увы! стареет. Зато Потье, le grand Potier![66] Он славу прежнюю в народе Доныне поддержал один». – «Какой писатель нынче в моде?» – «Всё d’Arlincourt и Ламартин»[67]. – «У нас им также подражают». – «Нет! право? так у нас умы Уж развиваться начинают. Дай Бог, чтоб просветились мы!» – «Как тальи носят?» – «Очень низко. Почти до… вот по этих пор. Позвольте видеть ваш убор; Так… рюши, банты, здесь узор; Всё это к моде очень близко». – «Мы получаем Телеграф»[68]. – «Ага! хотите ли послушать Прелестный водевиль?»[69] И граф Поет. «Да, граф, извольте ж кушать». – «Я сыт и так…» Из-за стола Встают. Хозяйка молодая Черезвычайно весела; Граф, о Париже забывая, Дивится, как она мила. Проходит вечер неприметно; Граф сам не свой: хозяйки взор То выражается приветно, То вдруг потуплен безответно. Глядишь – и полночь вдруг на двор. Давно храпит слуга в передней, Давно поет петух соседний, В чугунну доску сторож бьет, В гостиной свечки догорели. Наталья Павловна встает: «Пора, прощайте! ждут постели. Приятный сон!..» С досадой встав, Полувлюбленный нежный граф Целует руку ей. И что же? Куда кокетство не ведет? Проказница – прости ей, Боже! — Тихонько графу руку жмет. Наталья Павловна раздета; Стоит Параша перед ней. Друзья мои! Параша эта Наперсница ее затей: Шьет, моет, вести переносит, Изношенных капотов просит, Порою с барином шалит, Порой на барина кричит И лжет пред барыней отважно. Теперь она толкует важно О графе, о делах его, Не пропускает ничего — Бог весть, разведать как успела. Но госпожа ей наконец Сказала: «Полно, надоела!» Спросила кофту и чепец, Легла и выйти вон велела. Своим французом между тем И граф раздет уже совсем. Ложится он, сигару просит, Моnsieur Picard ему приносит Графин, серебряный стакан, Сигару, бронзовый светильник, Щипцы с пружиною[70], будильник И неразрезанный роман. В постеле лежа, Вальтер-Скотта Глазами пробегает он. Но граф душевно развлечен: Неугомонная забота Его тревожит; мыслит он: «Неужто вправду я влюблен? Что, если можно?.. вот забавно; Однако ж это было б славно; Я, кажется, хозяйке мил» — И Нулин свечку погасил. Несносный жар его объемлет, Не спится графу – бес не дремлет И дразнит грешною мечтой В нем чувства. Пылкий наш герой Воображает очень живо Хозяйки взор красноречивый, Довольно круглый, полный стан, Приятный голос, прямо женский, Лица румянец деревенский — Здоровье краше всех румян. Он помнит кончик ножки нежной, Он помнит: точно, точно так, Она ему рукой небрежной Пожала руку; он дурак, Он должен бы остаться с нею, Ловить минутную затею. Но время не ушло: теперь Отворена, конечно, дверь — И тотчас, на плеча накинув Свой пестрый шелковый халат И стул в потемках опрокинув, В надежде сладостных наград, К Лукреции Тарквиний новый[71] Отправился, на всё готовый. Так иногда лукавый кот, Жеманный баловень служанки, За мышью крадется с лежанки: Украдкой, медленно идет, Полузажмурясь подступает, Свернется в ком, хвостом играет, Разинет когти хитрых лап И вдруг бедняжку цап-царап. Влюбленный граф в потемках бродит, Дорогу ощупью находит, Желаньем пламенным томим, Едва дыханье переводит, Трепещет, если пол под ним Вдруг заскрыпит. Вот он подходит К заветной двери и слегка Жмет ручку медную замка; Дверь тихо, тихо уступает; Он смотрит: лампа чуть горит И бледно спальню освещает; Хозяйка мирно почивает Иль притворяется, что спит. Он входит, медлит, отступает — И вдруг упал к ее ногам. Она… Теперь, с их позволенья, Прошу я петербургских дам Представить ужас пробужденья Натальи Павловны моей И разрешить, что делать ей? Она, открыв глаза большие, Глядит на графа – наш герой Ей сыплет чувства выписные И дерзновенною рукой Коснуться хочет одеяла, Совсем смутив ее сначала… Но тут опомнилась она, И, гнева гордого полна, А впрочем, может быть, и страха, Она Тарквинию с размаха Дает пощечину, да, да! Пощечину, да ведь какую! Сгорел граф Нулин от стыда, Обиду проглотив такую; Не знаю, чем бы кончил он, Досадой страшною пылая, Но шпиц косматый, вдруг залая, Прервал Параши крепкий сон. Услышав граф ее походку И проклиная свой ночлег И своенравную красотку, В постыдный обратился бег. Как он, хозяйка и Параша Проводят остальную ночь, Воображайте, воля ваша! Я не намерен вам помочь. Восстав поутру молчаливо, Граф одевается лениво, Отделкой розовых ногтей, Зевая, занялся небрежно, И галстук вяжет неприлежно, И мокрой щеткою своей Не гладит стриженых кудрей. О чем он думает, не знаю; Но вот его позвали к чаю. Что делать? Граф, преодолев Неловкий стыд и тайный гнев, Идет. Проказница младая, Насмешливый потупя взор И губки алые кусая, Заводит скромно разговор О том, о сем. Сперва смущенный, Но постепенно ободренный, С улыбкой отвечает он. Получаса не проходило, Уж он и шутит очень мило, И чуть ли снова не влюблен. Вдруг шум в передней. Входит. Кто же? «Наташа, здравствуй». – «Ах, мой Боже! Граф, вот мой муж. Душа моя, Граф Нулин». – «Рад сердечно я. Какая скверная погода! У кузницы я видел ваш Совсем готовый экипаж. Наташа! там у огорода Мы затравили русака… Эй, водки! Граф, прошу отведать: Прислали нам издалека. Вы с нами будете обедать!» – «Не знаю, право, я спешу». – «И полно, граф, я вас прошу. Жена и я, гостям мы рады. Нет, граф, останьтесь!» Но с досады И все надежды потеряв, Упрямится печальный граф, Уж подкрепив себя стаканом, Пикар кряхтит за чемоданом. Уже к коляске двое слуг Несут привинчивать сундук. К крыльцу подвезена коляска, Пикар всё скоро уложил, И граф уехал… Тем и сказка Могла бы кончиться, друзья; Но слова два прибавлю я. Когда коляска ускакала, Жена всё мужу рассказала И подвиг графа моего Всему соседству описала. Но кто же более всего С Натальей Павловной смеялся? Не угадать вам. – Почему ж? Муж? – Как не так. Совсем не муж. Он очень этим оскорблялся, Он говорил, что граф дурак, Молокосос; что если так, То графа он визжать заставит, Что псами он его затравит. Смеялся Лидин, их сосед, Помещик двадцати трех лет. Теперь мы можем справедливо Сказать, что в наши времена Супругу верная жена, Друзья мои, совсем не диво.Полтава
The power and glory of the war, Faithless as their vain votaries, men, Had pass’d to the triumphant Czar. Byron[72]Посвящение
Тебе – но голос музы темной Коснется ль уха твоего? Поймешь ли ты душою скромной Стремленье сердца моего? Иль посвящение поэта, Как некогда его любовь, Перед тобою без ответа Пройдет, не признанное вновь? Узнай, по крайней мере, звуки, Бывало, милые тебе — И думай, что во дни разлуки, В моей изменчивой судьбе, Твоя печальная пустыня, Последний звук твоих речей Одно сокровище, святыня, Одна любовь души моей.Песнь первая
Богат и славен Кочубей (1). Его луга необозримы; Там табуны его коней Пасутся вольны, нехранимы. Кругом Полтавы хутора (2) Окружены его садами, И много у него добра, Мехов, атласа, серебра И на виду, и под замками. Но Кочубей богат и горд Не долгогривыми конями, Не златом, данью крымских орд, Не родовыми хуторами — Прекрасной дочерью своей Гордится старый Кочубей (3). И то сказать: в Полтаве нет Красавицы, Марии равной. Она свежа, как вешний цвет, Взлелеянный в тени дубравной. Как тополь киевских высот, Она стройна. Ее движенья То лебедя пустынных вод Напоминают плавный ход, То лани быстрые стремленья. Как пена, грудь ее бела. Вокруг высокого чела, Как тучи, локоны чернеют. Звездой блестят ее глаза; Ее уста, как роза, рдеют. Но не единая краса (Мгновенный цвет!) молвою шумной В младой Марии почтена: Везде прославилась она Девицей скромной и разумной. Зато завидных женихов Ей шлет Украйна и Россия; Но от венца, как от оков, Бежит пугливая Мария. Всем женихам отказ – и вот За ней сам гетман сватов шлет (4). Он стар. Он удручен годами, Войной, заботами, трудами; Но чувства в нем кипят, и вновь Мазепа ведает любовь. Мгновенно сердце молодое Горит и гаснет. В нем любовь Проходит и приходит вновь, В нем чувство каждый день иное: Не столь послушно, не слегка, Не столь мгновенными страстями Пылает сердце старика, Окаменелое годами. Упорно, медленно оно В огне страстей раскалено; Но поздний жар уж не остынет И с жизнью лишь его покинет. Не серна под утес уходит, Орла послыша тяжкий лёт; Одна в сенях невеста бродит, Трепещет и решенья ждет. И, вся полна негодованьем, К ней мать идет и, с содроганьем Схватив ей руку, говорит: «Бесстыдный! старец нечестивый! Возможно ль?.. нет, пока мы живы, Нет! он греха не совершит. Он, должный быть отцом и другом Невинной крестницы своей… Безумец! на закате дней Он вздумал быть ее супругом». Мария вздрогнула. Лицо Покрыла бледность гробовая, И, охладев, как неживая, Упала дева на крыльцо. Она опомнилась, но снова Закрыла очи – и ни слова Не говорит. Отец и мать Ей сердце ищут успокоить, Боязнь и горесть разогнать, Тревогу смутных дум устроить… Напрасно. Целые два дня, То молча плача, то стеня, Мария не пила, не ела, Шатаясь, бледная как тень, Не зная сна. На третий день Ее светлица опустела. Никто не знал, когда и как Она сокрылась. Лишь рыбак Той ночью слышал конский топот, Казачью речь и женский шепот, И утром след осьми подков Был виден на росе лугов. Не только первый пух ланит Да русы кудри молодые, Порой и старца строгий вид, Рубцы чела, власы седые В воображенье красоты Влагают страстные мечты. И вскоре слуха Кочубея Коснулась роковая весть: Она забыла стыд и честь, Она в объятиях злодея! Какой позор! Отец и мать Молву не смеют понимать. Тогда лишь истина явилась С своей ужасной наготой. Тогда лишь только объяснилась Душа преступницы младой. Тогда лишь только стало явно, Зачем бежала своенравно Она семейственных оков, Томилась тайно, воздыхала И на приветы женихов Молчаньем гордым отвечала; Зачем так тихо за столом Она лишь гетману внимала, Когда беседа ликовала И чаша пенилась вином; Зачем она всегда певала Те песни, кои он слагал (5), Когда он беден был и мал, Когда молва его не знала; Зачем с неженскою душой Она любила конный строй, И бранный звон литавр, и клики Пред бунчуком и булавой Малороссийского владыки… (6) Богат и знатен Кочубей. Довольно у него друзей. Свою омыть он может славу. Он может возмутить Полтаву; Внезапно средь его дворца Он может мщением отца Постигнуть гордого злодея; Он может верною рукой Вонзить… но замысел иной Волнует сердце Кочубея. Была та смутная пора, Когда Россия молодая, В бореньях силы напрягая, Мужала с гением Петра. Суровый был в науке славы Ей дан учитель: не один Урок нежданный и кровавый Задал ей шведский паладин. Но в искушеньях долгой кары, Перетерпев судеб удары, Окрепла Русь. Так тяжкий млат, Дробя стекло, кует булат. Венчанный славой бесполезной, Отважный Карл скользил над бездной. Он шел на древнюю Москву, Взметая русские дружины, Как вихорь гонит прах долины И клонит пыльную траву, Он шел путем, где след оставил В дни наши новый, сильный враг, Когда падением ославил Муж рока[73] свой попятный шаг (7). Украйна глухо волновалась. Давно в ней искра разгоралась. Друзья кровавой старины Народной чаяли войны, Роптали, требуя кичливо, Чтоб гетман узы их расторг, И Карла ждал нетерпеливо Их легкомысленный восторг. Вокруг Мазепы раздавался Мятежный крик: пора, пора! Но старый гетман оставался Послушным подданным Петра. Храня суровость обычайну, Спокойно ведал он Украйну, Молве, казалось, не внимал И равнодушно пировал. «Что ж гетман? – юноши твердили, — Он изнемог; он слишком стар; Труды и годы угасили В нем прежний, деятельный жар. Зачем дрожащею рукою Еще он носит булаву? Теперь бы грянуть нам войною На ненавистную Москву! Когда бы старый Дорошенко (8), Иль Самойлович молодой (9), Иль наш Палей (10), иль Гордеенко (11) Владели силой войсковой, Тогда б в снегах чужбины дальной Не погибали казаки И Малороссии печальной Освобождались уж полки» (12). Так, своеволием пылая, Роптала юность удалая, Опасных алча перемен, Забыв отчизны давний плен, Богдана[74] счастливые споры, Святые брани, договоры И славу дедовских времен. Но старость ходит осторожно И подозрительно глядит. Чего нельзя и что возможно, Еще не вдруг она решит. Кто снидет в глубину морскую, Покрытую недвижно льдом? Кто испытующим умом Проникнет бездну роковую Души коварной? Думы в ней, Плоды подавленных страстей, Лежат погружены глубоко, И замысел давнишних дней, Быть может, зреет одиноко. Как знать? Но чем Мазепа злей, Чем сердце в нем хитрей и ложней, Тем с виду он неосторожней И в обхождении простей. Как он умеет самовластно Сердца привлечь и разгадать, Умами править безопасно, Чужие тайны разрешать! С какой доверчивостью лживой, Как добродушно на пирах, Со старцами, старик болтливый, Жалеет он о прошлых днях, Свободу славит с своевольным, Поносит власти с недовольным, С ожесточенным слезы льет, С глупцом разумну речь ведет! Не многим, может быть, известно, Что дух его неукротим, Что рад и честно, и бесчестно Вредить он недругам своим; Что ни единой он обиды, С тех пор как жив, не забывал, Что далеко преступны виды Старик надменный простирал; Что он не ведает святыни, Что он не помнит благостыни, Что он не любит ничего, Что кровь готов он лить как воду, Что презирает он свободу, Что нет отчизны для него. Издавна умысел ужасный Взлелеял тайно злой старик В душе своей. Но взор опасный, Враждебный взор его проник. «Нет, дерзкий хищник, нет, губитель! — Скрежеща мыслит Кочубей, — Я пощажу твою обитель, Темницу дочери моей; Ты не истлеешь средь пожара, Ты не издохнешь от удара Казачьей сабли. Нет, злодей, В руках московских палачей, В крови, при тщетных отрицаньях, На дыбе, корчась в истязаньях, Ты проклянешь и день, и час, Когда ты дочь крестил у нас, И пир, на коем чести чашу Тебе я полну наливал, И ночь, когда голубку нашу Ты, старый коршун, заклевал!..» Так! было время: с Кочубеем Был друг Мазепа; в оны дни, Как солью, хлебом и елеем, Делились чувствами они. Их кони по полям победы Скакали рядом сквозь огни; Нередко долгие беседы Наедине вели они — Пред Кочубеем гетман скрытный Души мятежной, ненасытной Отчасти бездну открывал И о грядущих измененьях, Переговорах, возмущеньях В речах неясных намекал. Так, было сердце Кочубея В то время предано ему. Но, в горькой злобе свирепея, Теперь позыву одному Оно послушно; он голубит Едину мысль и день и ночь: Иль сам погибнет, иль погубит — Отмстит поруганную дочь. Но предприимчивую злобу Он крепко в сердце затаил. «В бессильной горести, ко гробу Теперь он мысли устремил. Он зла Мазепе не желает; Всему виновна дочь одна. Но он и дочери прощает: Пусть Богу даст ответ она, Покрыв семью свою позором, Забыв и небо, и закон…» А между тем орлиным взором В кругу домашнем ищет он Себе товарищей отважных, Неколебимых, непродажных. Во всем открылся он жене (13): Давно в глубокой тишине Уже донос он грозный копит, И, гнева женского полна, Нетерпеливая жена Супруга злобного торопит. В тиши ночей, на ложе сна, Как некий дух, ему она О мщенье шепчет, укоряет, И слезы льет, и ободряет, И клятвы требует – и ей Клянется мрачный Кочубей. Удар обдуман. С Кочубеем Бесстрашный Искра (14) заодно. И оба мыслят: «Одолеем; Врага паденье решено. Но кто ж, усердьем пламенея, Ревнуя к общему добру, Донос на мощного злодея Предупрежденному Петру К ногам положит, не робея?» Между полтавских казаков, Презренных девою несчастной, Один с младенческих годов Ее любил любовью страстной. Вечерней, утренней порой, На берегу реки родной, В тени украинских черешен, Бывало, он Марию ждал, И ожиданием страдал, И краткой встречей был утешен. Он без надежд ее любил, Не докучал он ей мольбою: Отказа б он не пережил. Когда наехали толпою К ней женихи, из их рядов Уныл и сир он удалился. Когда же вдруг меж казаков Позор Мариин огласился И беспощадная молва Ее со смехом поразила, И тут Мария сохранила Над ним привычные права. Но если кто хотя случайно Пред ним Мазепу называл, То он бледнел, терзаясь тайно, И взоры в землю опускал. …………………….. Кто при звездах и при луне Так поздно едет на коне? Чей это конь неутомимый Бежит в степи необозримой? Казак на север держит путь, Казак не хочет отдохнуть Ни в чистом поле, ни в дубраве, Ни при опасной переправе. Как сткло, булат его блестит, Мешок за пазухой звенит, Не спотыкаясь, конь ретивый Бежит, размахивая гривой. Червонцы нужны для гонца, Булат – потеха молодца, Ретивый конь – потеха тоже, Но шапка для него дороже. За шапку он оставить рад Коня, червонцы и булат, Но выдаст шапку только с бою, И то лишь с буйной головою. Зачем он шапкой дорожит? Затем, что в ней донос зашит, Донос на гетмана-злодея Царю Петру от Кочубея. Грозы не чуя между тем, Не ужасаемый ничем, Мазепа козни продолжает. С ним полномощный езуит (15) Мятеж народный учреждает И шаткий трон ему сулит. Во тьме ночной они, как воры, Ведут свои переговоры, Измену ценят меж собой, Слагают цифр[75] универсалов (16), Торгуют царской головой, Торгуют клятвами вассалов. Какой-то нищий во дворец Неведомо отколе ходит, И Орлик (17), гетманов делец, Его приводит и выводит. Повсюду тайно сеют яд Его подосланные слуги: Там на Дону казачьи круги Они с Булавиным (18) мутят; Там будят диких орд отвагу; Там за порогами Днепра Стращают буйную ватагу Самодержавием Петра. Мазепа всюду взор кидает И письма шлет из края в край: Угрозой хитрой подымает Он на Москву Бахчисарай. Король ему в Варшаве внемлет, В стенах Очакова паша[76], Во стане Карл и царь. Не дремлет Его коварная душа; Он, думой думу развивая, Верней готовит свой удар; В нем не слабеет воля злая, Неутомим преступный жар. Но как он вздрогнул, как воспрянул, Когда пред ним внезапно грянул Упадший гром! когда ему, Врагу России самому, Вельможи русские (19) послали В Полтаве писанный донос И вместо праведных угроз, Как жертве, ласки расточали; И, озабоченный войной, Гнушаясь мнимой клеветой, Донос оставя без вниманья, Сам царь Иуду[77] утешал И злобу шумом наказанья Смирить надолго обещал! Мазепа, в горести притворной, К царю возносит глас покорный. «И знает Бог, и видит свет: Он, бедный гетман, двадцать лет Царю служил душою верной; Его щедротою безмерной Осыпан, дивно вознесен… О, как слепа, безумна злоба!.. Ему ль теперь у двери гроба Начать учение измен И потемнять благую славу? Не он ли помощь Станиславу (20) С негодованьем отказал, Стыдясь, отверг венец Украйны, И договор, и письма тайны К царю, по долгу, отослал? Не он ли наущеньям хана (21) И цареградского салтана Был глух? Усердием горя, С врагами белого царя[78] Умом и саблей рад был спорить, Трудов и жизни не жалел, И ныне злобный недруг смел Его седины опозорить! И кто же? Искра, Кочубей! Так долго быв его друзьями!..» И с кровожадными слезами, В холодной дерзости своей, Их казни требует злодей… (22) Чьей казни?.. старец непреклонный! Чья дочь в объятиях его? Но хладно сердца своего Он заглушает ропот сонный. Он говорит: «В неравный спор Зачем вступает сей безумец? Он сам, надменный вольнодумец, Сам точит на себя топор. Куда бежит, зажавши вежды? На чем он основал надежды? Или… но дочери любовь Главы отцовской не искупит. Любовник гетману уступит, Не то моя прольется кровь». Мария, бедная Мария, Краса черкасских дочерей! Не знаешь ты, какого змия Ласкаешь на груди своей. Какой же властью непонятной К душе свирепой и развратной Так сильно ты привлечена? Кому ты в жертву отдана? Его кудрявые седины, Его глубокие морщины, Его блестящий, впалый взор, Его лукавый разговор Тебе всего, всего дороже: Ты мать забыть для них могла. Соблазном постланное ложе Ты отчей сени предпочла. Своими чудными очами Тебя старик заворожил, Своими тихими речами В тебе он совесть усыпил; Ты на него с благоговеньем Возводишь ослепленный взор, Его лелеешь с умиленьем — Тебе приятен твой позор, Ты им, в безумном упоенье, Как целомудрием горда — Ты прелесть нежную стыда В своем утратила паденье… Что стыд Марии? что молва? Что для нее мирские пени, Когда склоняется в колени К ней старца гордая глава, Когда с ней гетман забывает Судьбы своей и труд, и шум, Иль тайны смелых, грозных дум Ей, деве робкой, открывает? И дней невинных ей не жаль, И душу ей одна печаль Порой, как туча, затмевает: Она унылых пред собой Отца и мать воображает; Она, сквозь слезы, видит их В бездетной старости, одних, И, мнится, пеням их внимает… О, если б ведала она, Что уж узнала вся Украйна! Но от нее сохранена Еще убийственная тайна.Песнь вторая
Мазепа мрачен. Ум его Смущен жестокими мечтами. Мария нежными очами Глядит на старца своего. Она, обняв его колени, Слова любви ему твердит. Напрасно: черных помышлений Ее любовь не удалит. Пред бедной девой с невниманьем Он хладно потупляет взор И ей на ласковый укор Одним ответствует молчаньем. Удивлена, оскорблена, Едва дыша, встает она И говорит с негодованьем: «Послушай, гетман, для тебя Я позабыла всё на свете. Навек однажды полюбя, Одно имела я в предмете: Твою любовь. Я для нее Сгубила счастие мое, Но ни о чем я не жалею — Ты помнишь: в страшной тишине, В ту ночь, как стала я твоею, Меня любить ты клялся мне. Зачем же ты меня не любишь?»Мазепа
Мой друг, несправедлива ты. Оставь безумные мечты; Ты подозреньем сердце губишь: Нет, душу пылкую твою Волнуют, ослепляют страсти. Мария, верь: тебя люблю Я больше славы, больше власти.Мария
Неправда: ты со мной хитришь. Давно ль мы были неразлучны? Теперь ты ласк моих бежишь; Теперь они тебе докучны; Ты целый день в кругу старшин, В пирах, разъездах – я забыта; Ты долгой ночью иль один, Иль с нищим, иль у езуита. Любовь смиренная моя Встречает хладную суровость. Ты пил недавно, знаю я, Здоровье Дульской. Это новость; Кто эта Дульская?Мазепа
И ты Ревнива? Мне ль, в мои ли лета Искать надменного привета Самолюбивой красоты? И стану ль я, старик суровый, Как праздный юноша, вздыхать, Влачить позорные оковы И жен притворством искушать?Мария
Нет, объяснись без отговорок И просто, прямо отвечай.Мазепа
Покой души твоей мне дорог, Мария; так и быть: узнай. Давно замыслили мы дело; Теперь оно кипит у нас. Благое время нам приспело; Борьбы великой близок час. Без милой вольности и славы Склоняли долго мы главы Под покровительством Варшавы, Под самовластием Москвы. Но независимой державой Украйне быть уже пора: И знамя вольности кровавой Я подымаю на Петра. Готово всё: в переговорах Со мною оба короля; И скоро в смутах, в бранных спорах, Быть может, трон воздвигну я. Друзей надежных я имею: Княгиня Дульская и с нею Мой езуит, да нищий сей К концу мой замысел приводят. Чрез руки их ко мне доходят Наказы, письма королей. Вот важные тебе признанья. Довольна ль ты? Твои мечтанья Рассеяны ль?Мария
О милый мой, Ты будешь царь земли родной! Твоим сединам как пристанет Корона царская!Мазепа
Постой. Не всё свершилось. Буря грянет; Кто может знать, что ждет меня?Мария
Я близ тебя не знаю страха — Ты так могущ! О, знаю я: Трон ждет тебя.Мазепа
А если плаха?..Мария
С тобой на плаху, если так. Ах, пережить тебя могу ли? Но нет: ты носишь власти знак.Мазепа
Меня ты любишь?Мария
Я! люблю ли?Мазепа
Скажи: отец или супруг Тебе дороже?Мария
Милый друг, К чему вопрос такой? тревожит Меня напрасно он. Семью Стараюсь я забыть мою. Я стала ей в позор; быть может (Какая страшная мечта!), Моим отцом я проклята, А за кого?Мазепа
Так я дороже Тебе отца? Молчишь…Мария
О Боже!Мазепа
Что ж? отвечай.Мария
Реши ты сам.Мазепа
Послушай: если было б нам, Ему иль мне, погибнуть надо, А ты бы нам судьей была, Кого б ты в жертву принесла, Кому бы ты была ограда?Мария
Ах, полно! сердце не смущай! Ты искуситель.Мазепа
Отвечай!Мария
Ты бледен; речь твоя сурова… О, не сердись! Всем, всем готова Тебе я жертвовать, поверь; Но страшны мне слова такие. Довольно.Мазепа
Помни же, Мария, Что ты сказала мне теперь. Тиха украинская ночь. Прозрачно небо. Звезды блещут. Своей дремоты превозмочь Не хочет воздух. Чуть трепещут Сребристых тополей листы. Луна спокойно с высоты Над Белой Церковью[79] сияет И пышных гетманов сады, И старый замок озаряет. И тихо, тихо всё кругом; Но в замке шепот и смятенье. В одной из башен, под окном, В глубоком, тяжком размышленье, Окован, Кочубей сидит И мрачно на небо глядит. Заутра казнь. Но без боязни Он мыслит об ужасной казни; О жизни не жалеет он. Что смерть ему? желанный сон. Готов он лечь во гроб кровавый. Дрема долит. Но, Боже правый! К ногам злодея, молча, пасть Как бессловесное созданье, Царем быть отдану во власть Врагу царя на поруганье, Утратить жизнь – и с нею честь, Друзей с собой на плаху весть, Над гробом слышать их проклятья, Ложась безвинным под топор, Врага веселый встретить взор И смерти кинуться в объятья, Не завещая никому Вражды к злодею своему!.. И вспомнил он свою Полтаву, Обычный круг семьи, друзей, Минувших дней богатство, славу, И песни дочери своей, И старый дом, где он родился, Где знал и труд, и мирный сон, И всё, чем в жизни насладился, Что добровольно бросил он, И для чего? Но ключ в заржавом Замке гремит – и, пробужден, Несчастный думает: вот он! Вот на пути моем кровавом Мой вождь под знаменем креста. Грехов могущий разрешитель, Духовной скорби врач, служитель За нас распятого Христа, Его святую кровь и тело Принесший мне, да укреплюсь. Да приступлю ко смерти смело И жизни вечной приобщусь! И с сокрушением сердечным Готов несчастный Кочубей Перед всесильным, бесконечным Излить тоску мольбы своей. Но не отшельника святого, Он гостя узнает иного: Свирепый Орлик перед ним. И, отвращением томим, Страдалец горько вопрошает: «Ты здесь, жестокий человек? Зачем последний мой ночлег Еще Мазепа возмущает?»Орлик
Допрос не кончен: отвечай.Кочубей
Я отвечал уже: ступай, Оставь меня.Орлик
Еще признанья Пан гетман требует.Кочубей
Но в чем? Давно сознался я во всем, Что вы хотели. Показанья Мои все ложны. Я лукав, Я строю козни. Гетман прав. Чего вам более?Орлик
Мы знаем, Что ты несчетно был богат; Мы знаем: не единый клад Тобой в Диканьке (23) укрываем. Свершиться казнь твоя должна; Твое имение сполна В казну поступит войсковую — Таков закон. Я указую Тебе последний долг: открой, Где клады, скрытые тобой?Кочубей
Так, не ошиблись вы: три клада В сей жизни были мне отрада. И первый клад мой честь была, Клад этот пытка отняла; Другой был клад невозвратимый Честь дочери моей любимой. Я день и ночь над ним дрожал: Мазепа этот клад украл. Но сохранил я клад последний, Мой третий клад: святую месть. Ее готовлюсь Богу снесть.Орлик
Старик, оставь пустые бредни: Сегодня покидая свет, Питайся мыслию суровой. Шутить не время. Дай ответ, Когда не хочешь пытки новой: Где спрятал деньги?Кочубей
Злой холоп! Окончишь ли допрос нелепый? Повремени: дай лечь мне в гроб, Тогда ступай себе с Мазепой Мое наследие считать Окровавленными перстами, Мои подвалы разрывать, Рубить и жечь сады с домами. С собой возьмите дочь мою; Она сама вам всё расскажет, Сама все клады вам укажет; Но ради Господа молю, Теперь оставь меня в покое.Орлик
Где спрятал деньги? укажи. Не хочешь? – Деньги где? скажи, Иль выйдет следствие плохое. Подумай: место нам назначь. Молчишь? – Ну, в пытку. Гей, палач! (24) Палач вошел… О, ночь мучений! Но где же гетман? где злодей? Куда бежал от угрызений Змеиной совести своей? В светлице девы усыпленной, Еще незнанием блаженной, Близ ложа крестницы младой Сидит с поникшею главой Мазепа тихий и угрюмый. В его душе проходят думы, Одна другой мрачней, мрачней. «Умрет безумный Кочубей; Спасти нельзя его. Чем ближе Цель гетмана, тем тверже он Быть должен властью облечен, Тем перед ним склоняться ниже Должна вражда. Спасенья нет: Доносчик и его клеврет[80] Умрут». Но, брося взор на ложе, Мазепа думает: «О Боже! Что будет с ней, когда она Услышит слово роковое? Досель она еще в покое — Но тайна быть сохранена Не может долее. Секира, Упав поутру, загремит По всей Украйне. Голос мира Вокруг нее заговорит!.. Ах, вижу я: кому судьбою Волненья жизни суждены, Тот стой один перед грозою, Не призывай к себе жены. В одну телегу впрячь неможно Коня и трепетную лань. Забылся я неосторожно: Теперь плачу безумства дань… Всё, что цены себе не знает, Всё, всё, чем жизнь мила бывает, Бедняжка принесла мне в дар, Мне, старцу мрачному, – и что же? Какой готовлю ей удар!» И он глядит: на тихом ложе Как сладок юности покой! Как сон ее лелеет нежно! Уста раскрылись; безмятежно Дыханье груди молодой; А завтра, завтра… содрогаясь, Мазепа отвращает взгляд, Встает и, тихо пробираясь, В уединенный сходит сад. Тиха украинская ночь. Прозрачно небо. Звезды блещут. Своей дремоты превозмочь Не хочет воздух. Чуть трепещут Сребристых тополей листы. Но мрачны странные мечты В душе Мазепы: звезды ночи, Как обвинительные очи, За ним насмешливо глядят. И тополи, стеснившись в ряд, Качая тихо головою, Как судьи, шепчут меж собою. И летней, теплой ночи тьма Душна, как черная тюрьма. Вдруг… слабый крик… невнятный стон Как бы из замка слышит он. То был ли сон воображенья, Иль плач совы, иль зверя вой, Иль пытки стон, иль звук иной — Но только своего волненья Преодолеть не мог старик И на протяжный слабый крик Другим ответствовал – тем криком, Которым он в веселье диком Поля сраженья оглашал, Когда с Забелой, с Гамалеем[81] И – с ним… и с этим Кочубеем Он в бранном пламени скакал. Зари багряной полоса Объемлет ярко небеса. Блеснули долы, холмы, нивы, Вершины рощ и волны рек. Раздался утра шум игривый, И пробудился человек. Еще Мария сладко дышит, Дремой объятая, и слышит Сквозь легкий сон, что кто-то к ней Вошел и ног ее коснулся. Она проснулась – но скорей С улыбкой взор ее сомкнулся От блеска утренних лучей. Мария руки протянула И с негой томною шепнула: «Мазепа, ты?..» Но голос ей Иной ответствует… о Боже! Вздрогнув, она глядит… и что же? Пред нею мать…Мать
Молчи, молчи; Не погуби нас: я в ночи Сюда прокралась осторожно С единой, слезною мольбой. Сегодня казнь. Тебе одной Свирепство их смягчить возможно. Спаси отца.Дочь (в ужасе)
Какой отец? Какая казнь?Мать
Иль ты доныне Не знаешь?.. нет! ты не в пустыне, Ты во дворце; ты знать должна, Как сила гетмана грозна, Как он врагов своих карает, Как государь ему внимает — Но вижу: скорбную семью Ты отвергаешь для Мазепы; Тебя я сонну застаю, Когда свершают суд свирепый, Когда читают приговор, Когда готов отцу топор. Друг другу, вижу, мы чужие… Опомнись, дочь моя! Мария, Беги, пади к его ногам, Спаси отца, будь ангел нам: Твой взгляд злодеям руки свяжет, Ты можешь их топор отвесть. Рвись, требуй – гетман не откажет: Ты для него забыла честь, Родных и Бога.Дочь
Что со мною? Отец… Мазепа… казнь – с мольбою Здесь, в этом замке мать моя — Нет, иль ума лишилась я, Иль это грезы.Мать
Бог с тобою, Нет, нет – не грезы, не мечты. Ужель еще не знаешь ты, Что твой отец ожесточенный Бесчестья дочери не снес И, жаждой мести увлеченный, Царю на гетмана донес, Что в истязаниях кровавых Сознался в умыслах лукавых, В стыде безумной клеветы, Что, жертва смелой правоты, Врагу он выдан головою, Что пред громадой войсковою[82], Когда его не осенит Десница вышняя Господня, Он должен быть казнен сегодня, Что здесь покамест он сидит В тюремной башне.Дочь
Боже, Боже!.. Сегодня! – бедный мой отец! И дева падает на ложе, Как хладный падает мертвец. Пестреют шапки. Копья блещут. Бьют в бубны. Скачут сердюки (25). В строях равняются полки. Толпы кипят. Сердца трепещут. Дорога, как змеиный хвост, Полна народу, шевелится. Средь поля роковой намост. На нем гуляет, веселится Палач и алчно жертвы ждет: То в руки белые берет, Играючи, топор тяжелый, То шутит с чернию веселой. В гремучий говор всё слилось: Крик женский, брань, и смех, и ропот. Вдруг восклицанье раздалось, И смолкло всё. Лишь конский топот Был слышен в грозной тишине. Там, окруженный сердюками, Вельможный гетман с старшинами Скакал на вороном коне. А там по киевской дороге Телега ехала. В тревоге Все взоры обратили к ней. В ней, с миром, с небом примиренный, Могущей верой укрепленный, Сидел безвинный Кочубей, С ним Искра, тихий, равнодушный, Как агнец, жребию послушный. Телега стала. Раздалось Моленье ликов[83] громогласных. С кадил куренье поднялось. За упокой души несчастных Безмолвно молится народ, Страдальцы за врагов. И вот Идут они, взошли. На плаху, Крестясь, ложится Кочубей. Как будто в гробе, тьмы людей Молчат. Топор блеснул с размаху, И отскочила голова. Всё поле охнуло. Другая Катится вслед за ней, мигая. Зарделась кровию трава — И, сердцем радуясь во злобе, Палач за чуб поймал их обе И напряженною рукой Потряс их обе над толпой. Свершилась казнь. Народ беспечный Идет, рассыпавшись, домой И про свои работы вечны Уже толкует меж собой. Пустеет поле понемногу. Тогда чрез пеструю дорогу Перебежали две жены. Утомлены, запылены, Они, казалось, к месту казни Спешили, полные боязни. «Уж поздно», – кто-то им сказал И в поле перстом указал. Там роковой намост ломали, Молился в черных ризах поп, И на телегу подымали Два казака дубовый гроб. Один пред конною толпой Мазепа, грозен, удалялся От места казни. Он терзался Какой-то страшной пустотой. Никто к нему не приближался, Не говорил он ничего; Весь в пене мчался конь его. Домой приехав, «что Мария?» Спросил Мазепа. Слышит он Ответы робкие, глухие… Невольным страхом поражен, Идет он к ней; в светлицу входит: Светлица тихая пуста — Он в сад, и там смятенный бродит; Но вкруг широкого пруда, В кустах, вдоль сеней безмятежных Всё пусто, нет нигде следов — Ушла! – Зовет он слуг надежных, Своих проворных сердюков. Они бегут. Храпят их кони — Раздался дикий клик погони, Верхом – и скачут молодцы Во весь опор во все концы. Бегут мгновенья дорогие. Не возвращается Мария. Никто не ведал, не слыхал, Зачем и как она бежала. Мазепа молча скрежетал. Затихнув, челядь трепетала. В груди кипучий яд нося, В светлице гетман заперся. Близ ложа там во мраке ночи Сидел он, не смыкая очи, Нездешней мукою томим. Поутру посланные слуги Один явились за другим. Чуть кони двигались. Подпруги, Подковы, узды, чепраки[84] — Всё было пеною покрыто, В крови, растеряно, избито — Но ни один ему принесть Не мог о бедной деве весть. И след ее существованья Пропал, как будто звук пустой, И мать одна во мрак изгнанья Умчала горе с нищетой.Песнь третия
Души глубокая печаль Стремиться дерзновенно вдаль Вождю Украйны не мешает. Твердея в умысле своем, Он с гордым шведским королем Свои сношенья продолжает. Меж тем, чтоб обмануть верней Глаза враждебного сомненья, Он, окружась толпой врачей, На ложе мнимого мученья, Стоная, молит исцеленья. Плоды страстей, войны, трудов, Болезни, дряхлость и печали, Предтечи смерти, приковали Его к одру. Уже готов Он скоро бренный мир оставить; Святой обряд он хочет править, Он архипастыря зовет К одру сомнительной кончины: И на коварные седины Елей таинственный течет[85]. Но время шло. Москва напрасно К себе гостей ждала всечасно, Средь старых вражеских могил Готовя шведам тризну тайну. Незапно Карл поворотил И перенес войну в Украйну. И день настал. Встает с одра Мазепа, сей страдалец хилый, Сей труп живой, еще вчера Стонавший слабо над могилой. Теперь он мощный враг Петра. Теперь он, бодрый, пред полками Сверкает гордыми очами И саблей машет – и к Десне Проворно мчится на коне. Согбенный тяжко жизнью старой, Так оный хитрый кардинал[86], Венчавшись римскою тиарой, И прям, и здрав, и молод стал. И весть на крыльях полетела. Украйна смутно зашумела: «Он перешел, он изменил, К ногам он Карлу положил Бунчук покорный». Пламя пышет, Встает кровавая заря Войны народной. Кто опишет Негодованье, гнев царя? (26) Гремит анафема[87] в соборах; Мазепы лик терзает кат (27). На шумной раде[88], в вольных спорах Другого гетмана творят. С брегов пустынных Енисея Семейства Искры, Кочубея Поспешно призваны Петром. Он с ними слезы проливает. Он их, лаская, осыпает И новой честью, и добром. Мазепы враг, наездник пылкий, Старик Палей из мрака ссылки В Украйну едет в царский стан. Трепещет бунт осиротелый. На плахе гибнет Чечель (28) смелый И запорожский атаман. И ты, любовник бранной славы, Для шлема кинувший венец, Твой близок день, ты вал Полтавы Вдали завидел наконец. И царь туда ж помчал дружины. Они, как буря, притекли — И оба стана средь равнины Друг друга хитро облегли: Не раз избитый в схватке смелой, Заране кровью опьянелый, С бойцом желанным наконец Так грозный сходится боец. И, злобясь, видит Карл могучий Уж не расстроенные тучи Несчастных нарвских беглецов, А нить полков блестящих, стройных, Послушных, быстрых и спокойных И ряд незыблемый штыков. Но он решил: заутра бой. Глубокий сон во стане шведа. Лишь под палаткою одной Ведется шепотом беседа. «Нет, вижу я, нет, Орлик мой, Поторопились мы некстати: Расчет и дерзкий, и плохой, И в нем не будет благодати. Пропала, видно, цель моя. Что делать? дал я промах важный: Ошибся в этом Карле я. Он мальчик бойкий и отважный; Два-три сраженья разыграть, Конечно, может он с успехом, К врагу на ужин прискакать (29), Ответствовать на бомбу смехом (30); Не хуже русского стрелка Прокрасться в ночь ко вражью стану; Свалить, как нынче, казака И обменять на рану рану (31); Но не ему вести борьбу С самодержавным великаном: Как полк, вертеться он судьбу Принудить хочет барабаном; Он слеп, упрям, нетерпелив, И легкомыслен, и кичлив, Бог весть, какому счастью верит; Он силы новые врага Успехом прошлым только мерит — Сломить ему свои рога. Стыжусь: воинственным бродягой Увлекся я на старость лет; Был ослеплен его отвагой И беглым счастием побед, Как дева робкая».Орлик
Сраженья Дождемся. Время не ушло С Петром опять войти в сношенья: Еще поправить можно зло. Разбитый нами, нет сомненья, Царь не отвергнет примиренья.Мазепа
Нет, поздно. Русскому царю Со мной мириться невозможно. Давно решилась непреложно Моя судьба. Давно горю Стесненной злобой. Под Азовом Однажды я с царем суровым Во ставке ночью пировал: Полны вином кипели чаши, Кипели с ними речи наши. Я слово смелое сказал. Смутились гости молодые — Царь, вспыхнув, чашу уронил И за усы мои седые Меня с угрозой ухватил. Тогда, смирясь в бессильном гневе, Отмcтить себе я клятву дал; Носил ее – как мать во чреве Младенца носит. Срок настал. Так, обо мне воспоминанье Хранить он будет до конца. Петру я послан в наказанье; Я терн в листах его венца: Он дал бы грады родовые И жизни лучшие часы, Чтоб снова, как во дни былые, Держать Мазепу за усы. Но есть еще для нас надежды: Кому бежать, решит заря. Умолк и закрывает вежды Изменник русского царя. Горит восток зарею новой. Уж на равнине, по холмам Грохочут пушки. Дым багровый Кругами всходит к небесам Навстречу утренним лучам. Полки ряды свои сомкнули. В кустах рассыпались стрелки. Катятся ядра, свищут пули; Нависли хладные штыки. Сыны любимые победы, Сквозь огнь окопов рвутся шведы; Волнуясь, конница летит; Пехота движется за нею И тяжкой твердостью своею Ее стремление крепит. И битвы поле роковое Гремит, пылает здесь и там; Но явно счастье боевое Служить уж начинает нам. Пальбой отбитые дружины, Мешаясь, падают во прах. Уходит Розен сквозь теснины; Сдается пылкий Шлипенбах[89]. Тесним мы шведов рать за ратью; Темнеет слава их знамен, И бога браней благодатью Наш каждый шаг запечатлен. Тогда-то свыше вдохновенный Раздался звучный глас Петра: «За дело, с Богом!» Из шатра, Толпой любимцев окруженный, Выходит Петр. Его глаза Сияют. Лик его ужасен. Движенья быстры. Он прекрасен, Он весь, как Божия гроза. Идет. Ему коня подводят. Ретив и смирен верный конь. Почуя роковой огонь, Дрожит. Глазами косо водит И мчится в прахе боевом, Гордясь могущим седоком. Уж близок полдень. Жар пылает. Как пахарь, битва отдыхает. Кой-где гарцуют казаки. Равняясь, строятся полки. Молчит музыка боевая. На холмах пушки, присмирев, Прервали свой голодный рев. И се – равнину оглашая, Далече грянуло ура: Полки увидели Петра. И он промчался пред полками, Могущ и радостен, как бой. Он поле пожирал очами. За ним вослед неслись толпой Сии птенцы гнезда Петрова — В пременах жребия земного, В трудах державства и войны Его товарищи, сыны: И Шереметев благородный, И Брюс, и Боур, и Репнин, И, счастья баловень безродный, Полудержавный властелин[90]. И перед синими рядами Своих воинственных дружин, Несомый верными слугами, В качалке, бледен, недвижим, Страдая раной, Карл явился. Вожди героя шли за ним. Он в думу тихо погрузился. Смущенный взор изобразил Необычайное волненье. Казалось, Карла приводил Желанный бой в недоуменье… Вдруг слабым манием руки На русских двинул он полки. И с ними царские дружины Сошлись в дыму среди равнины: И грянул бой, Полтавский бой! В огне, под градом раскаленным, Стеной живою отраженным, Над падшим строем свежий строй Штыки смыкает. Тяжкой тучей Отряды конницы летучей, Браздами[91], саблями звуча, Сшибаясь, рубятся сплеча. Бросая груды тел на груду, Шары чугунные повсюду Меж ними прыгают, разят, Прах роют и в крови шипят. Швед, русский – колет, рубит, режет. Бой барабанный, клики, скрежет, Гром пушек, топот, ржанье, стон, И смерть и ад со всех сторон. Среди тревоги и волненья На битву взором вдохновенья Вожди спокойные глядят, Движенья ратные следят, Предвидят гибель и победу И в тишине ведут беседу. Но близ московского царя Кто воин сей под сединами? Двумя поддержан казаками, Сердечной ревностью горя, Он оком опытным героя Взирает на волненье боя. Уж на коня не вскочит он, Одрях, в изгнанье сиротея, И казаки на клич Палея Не налетят со всех сторон! Но что ж его сверкнули очи, И гневом, будто мглою ночи, Покрылось старое чело? Что возмутить его могло? Иль он, сквозь бранный дым, увидел Врага Мазепу, и в сей миг Свои лета возненавидел Обезоруженный старик? Мазепа, в думу погруженный, Взирал на битву, окруженный Толпой мятежных казаков, Родных, старшин и сердюков. Вдруг выстрел. Старец обратился. У Войнаровского[92] в руках Мушкетный ствол еще дымился. Сраженный в нескольких шагах, Младой казак в крови валялся, А конь, весь в пене и пыли, Почуя волю, дико мчался, Скрываясь в огненной дали. Казак на гетмана стремился Сквозь битву с саблею в руках, С безумной яростью в очах. Старик, подъехав, обратился К нему с вопросом. Но казак Уж умирал. Потухший зрак Еще грозил врагу России; Был мрачен помертвелый лик, И имя нежное Марии Чуть лепетал еще язык. Но близок, близок миг победы. Ура! мы ломим; гнутся шведы. О славный час! о славный вид! Еще напор – и враг бежит (32): И следом конница пустилась, Убийством тупятся мечи, И падшими вся степь покрылась, Как роем черной саранчи. Пирует Петр. И горд, и ясен, И славы полон взор его. И царский пир его прекрасен. При кликах войска своего, В шатре своем он угощает Своих вождей, вождей чужих, И славных пленников ласкает, И за учителей своих Заздравный кубок подымает. Но где же первый, званый гость? Где первый, грозный наш учитель, Чью долговременную злость Смирил полтавский победитель? И где ж Мазепа? где злодей? Куда бежал Иуда в страхе? Зачем король не меж гостей? Зачем изменник не на плахе? (33) Верхом, в глуши степей нагих, Король и гетман мчатся оба. Бегут. Судьба связала их. Опасность близкая и злоба Даруют силу королю. Он рану тяжкую свою Забыл. Поникнув головою, Он скачет, русскими гоним, И слуги верные толпою Чуть могут следовать за ним. Обозревая зорким взглядом Степей широкий полукруг, С ним старый гетман скачет рядом. Пред ними хутор… Что же вдруг Мазепа будто испугался? Что мимо хутора помчался Он стороной во весь опор? Иль этот запустелый двор, И дом, и сад уединенный, И в поле отпертая дверь Какой-нибудь рассказ забвенный Ему напомнили теперь? Святой невинности губитель! Узнал ли ты сию обитель, Сей дом, веселый прежде дом, Где ты, вином разгоряченный, Семьей счастливой окруженный, Шутил, бывало, за столом? Узнал ли ты приют укромный, Где мирный ангел обитал, И сад, откуда ночью тёмной Ты вывел в степь… Узнал, узнал! Ночные тени степь объемлют. На бреге синего Днепра Между скалами чутко дремлют Враги России и Петра. Щадят мечты покой героя, Урон Полтавы он забыл. Но сон Мазепы смутен был. В нем мрачный дух не знал покоя. И вдруг в безмолвии ночном Его зовут. Он пробудился. Глядит: над ним, грозя перстом, Тихонько кто-то наклонился. Он вздрогнул, как под топором… Пред ним с развитыми власами, Сверкая впалыми глазами, Вся в рубище, худа, бледна, Стоит, луной освещена… «Иль это сон?.. Мария… ты ли?»Мария
Ах, тише, тише, друг!.. Сейчас Отец и мать глаза закрыли… Постой… услышать могут нас.Мазепа
Мария, бедная Мария! Опомнись! Боже!.. Что с тобой?Мария
Послушай: хитрости какие! Что за рассказ у них смешной? Она за тайну мне сказала, Что умер бедный мой отец, И мне тихонько показала Седую голову – творец! Куда бежать нам от злоречья? Подумай: эта голова Была совсем не человечья, А волчья – видишь: какова! Чем обмануть меня хотела! Не стыдно ль ей меня пугать? И для чего? чтоб я не смела С тобой сегодня убежать! Возможно ль? С горестью глубокой Любовник ей внимал жестокий. Но, вихрю мыслей предана, «Однако ж, – говорит она, — Я помню поле… праздник шумный… И чернь… и мертвые тела… На праздник мать меня вела… Но где ж ты был?.. С тобою розно Зачем в ночи скитаюсь я? Пойдем домой. Скорей… уж поздно. Ах, вижу, голова моя Полна волнения пустого: Я принимала за другого Тебя, старик. Оставь меня. Твой взор насмешлив и ужасен. Ты безобразен. Он прекрасен: В его глазах блестит любовь, В его речах такая нега! Его усы белее снега, А на твоих засохла кровь!..» И с диким смехом завизжала, И легче серны молодой Она вспрыгнула, побежала И скрылась в темноте ночной. Редела тень. Восток алел. Огонь казачий пламенел. Пшеницу казаки варили; Драбанты[93] у брегу Днепра Коней расседланных поили. Проснулся Карл. «Ого! пора! Вставай, Мазепа. Рассветает». Но гетман уж не спит давно. Тоска, тоска его снедает; В груди дыханье стеснено. И молча он коня седлает, И скачет с беглым королем, И страшно взор его сверкает, С родным прощаясь рубежом. Прошло сто лет – и что ж осталось От сильных, гордых сих мужей, Столь полных волею страстей? Их поколенье миновалось — И с ним исчез кровавый след Усилий, бедствий и побед. В гражданстве северной державы, В ее воинственной судьбе, Лишь ты воздвиг, герой Полтавы, Огромный памятник себе. В стране – где мельниц ряд крылатый Оградой мирной обступил Бендер[94] пустынные раскаты[95], Где бродят буйволы рогаты Вокруг воинственных могил, — Останки разоренной сени, Три углубленные в земле И мхом поросшие ступени Гласят о шведском короле. С них отражал герой безумный, Один в толпе домашних слуг, Турецкой рати приступ шумный, И бросил шпагу под бунчук; И тщетно там пришлец унылый Искал бы гетманской могилы: Забыт Мазепа с давних пор; Лишь в торжествующей святыне Раз в год анафемой доныне, Грозя, гремит о нем собор. Но сохранилася могила, Где двух страдальцев прах почил: Меж древних праведных могил Их мирно церковь приютила (34). Цветет в Диканьке древний ряд Дубов, друзьями насажденных; Они о праотцах казненных Доныне внукам говорят. Но дочь преступница… преданья Об ней молчат. Ее страданья, Ее судьба, ее конец Непроницаемою тьмою От нас закрыты. Лишь порою Слепой украинский певец, Когда в селе перед народом Он песни гетмана бренчит, О грешной деве мимоходом Казачкам юным говорит.Примечания
1 Василий Леонтьевич Кочубей, генеральный судия, один из предков нынешних графов.
2 Хутор – загородный дом.
3 У Кочубея было несколько дочерей; одна из них была замужем за Обидовским, племянником Мазепы. Та, о которой здесь упоминается, называлась Матреной.
4 Мазепа в самом деле сватал свою крестницу, но ему отказали.
5 Предание приписывает Мазепе несколько песен, доныне сохранившихся в памяти народной. Кочубей в своем доносе также упоминает о патриотической думе, будто бы сочиненной Мазепою. Она замечательна не в одном историческом отношении.
6 Бунчук и булава – знаки гетманского достоинства.
7 Смотр. Мазепу Байрона.
8 Дорошенко, один из героев древней Малороссии, непримиримый враг русского владычества.
9 Григорий Самойлович, сын гетмана, сосланный в Сибирь в начале царствования Петра I.
10 Симеон Палей, хвастовский полковник, славный наездник. За своевольные набеги сослан был в Енисейск по жалобам Мазепы. Когда сей последний оказался изменником, то и Палей, как закоренелый враг его, был возвращен из ссылки и находился в Полтавском сражении.
11 Костя Гордеенко, кошевой атаман запорожских казаков. Впоследствии передался Карлу XII. Взят в плен и казнен в 1708 г.
12 20 000 казаков было послано в Лифляндию.
13 Мазепа в одном письме упрекает Кочубея в том, что им управляет жена его, гордая и высокоумная.
14 Искра, полтавский полковник, товарищ Кочубея, разделивший с ним его умысел и участь.
15 Езуит Заленский, княгиня Дульская и какой-то болгарский архиепископ, изгнанный из своего отечества, были главными агентами Мазепиной измены. Последний в виде нищего ходил из Польши в Украйну и обратно.
16 Так назывались манифесты гетманов.
17 Филипп Орлик, генеральный писарь, наперсник Мазепы, после смерти (в 1710) сего последнего получил от Карла XII пустой титул Малороссийского гетмана. Впоследствии принял магометанскую веру и умер в Бендерах около 1736 года.
18 Булавин, донской казак, бунтовавший около того времени.
19 Тайный секретарь Шафиров и гр. Головкин, друзья и покровители Мазепы; на них, по справедливости, должен лежать ужас суда и казни доносителей;
20 В 1705 году. См. примечания к Истории Малороссии, Бантыша-Каменского.
21 Во время неудачного похода в Крым Казы-Гирей предлагал ему соединиться с ним и вместе напасть на русское войско.
22 В своих письмах он жаловался, что доносителей пытали слишком легко, неотступно требовал их казни, сравнивал себя с Сусанною[96], неповинно оклеветанною беззаконными старцами, а графа Головкина с пророком Даниилом.
23 Деревня Кочубея.
24 Уже осужденный на смерть, Кочубей был пытан в войске гетмана. По ответам несчастного видно, что его допрашивали о сокровищах, им утаенных.
25 Войско, состоявшее на собственном иждивении гетманов.
26 Сильные меры, принятые Петром с обыкновенной его быстротой и энергией, удержали Украйну в повиновении.
«1708 ноября 7-го числа, по указу государеву, казаки по обычаю своему вольными голосами выбрали в гетманы полковника стародубского Ивана Скоропадского.
8-го числа приехали в Глухов киевский, черниговский и переяславский архиепископы.
А 9-го дня предали клятве Мазепу оные архиереи публично; того же дня и персону (куклу) оного изменника Мазепы вынесли и, сняв кавалерию (которая на ту персону была надета с бантом), оную персону бросили в палачевские руки, которую палач, взяв и прицепя за веревку, тащил по улице и по площади даже до виселицы, и потом повесили.
В Глухове же 10-го дня казнили Чечеля и прочих изменников…» (Журнал Петра Великого).
27 Малороссийское слово. По-русски – палач.
28 Чечель отчаянно защищал Батурин против войск князя Меншикова.
29 В Дрезден к королю Августу. Cм.: Voltaire. Histoire de Charles XII.
30 «Ах, ваше величество! бомба!..» – «Что есть общего между бомбою и письмом, которое тебе диктуют? пиши». Это случилось гораздо после.
31 Ночью Карл, сам осматривая наш лагерь, наехал на казаков, сидевших у огня. Он поскакал прямо к ним и одного из них застрелил из собственных рук. Казаки дали по нем три выстрела и жестоко ранили его в ногу.
32 Благодаря прекрасным распоряжениям и действиям князя Меншикова, участь главного сражения была решена заранее. Дело не продолжалось и двух часов. Ибо (сказано в Журнале Петра Великого) непобедимые господа шведы скоро хребет свой показали, и от наших войск вся неприятельская армия весьма опрокинута. Петр впоследствии времени многое прощал Данилычу за услуги, оказанные в сей день генералом князем Меншиковым.
33 L’Empereur Moscovite, pеnеtre d’une joie qu’il ne se mettait pas en peine de dissimuler (было о чем и радоваться), recevait sur le champ de bataille les prisonniers qu’on lui amenait en foule et demandait à fout moment: où est donc mon frère Gharles? ………………. Alors prenant un verre de vin: A la sante, ditil, de mes maîtres dans l’art de la guerre! – Renschild lui demanda: qui etaient ceux qu’il honorait d’un si beau titre.– Vous, Messieurs les generaux Suedois; reprit le Czar. – Votre Majeste est donc bien ingrate, reprit le Gomte, d’avoir tant maltraite ses maîtres[97].
34 Обезглавленные тела Искры и Кочубея были отданы родственникам и похоронены в Киевской лавре; над их гробом высечена следующая надпись:
«Кто еси мимо грядый о насъ невѣдущiй, Елицы здѣ, естесмо положены сущи, Понеже намъ страсть и смерть повелѣ молчати, Сей камень возопiеть о насъ ти вѣщати, И за правду и вѣрность къ Монарсѣ нашу Страданiя и смерти испiймо чашу, Злуданьемъ Мазепы, всѣ вѣчно правы, Посеченны зоставше топоромъ во главы; Почиваемъ въ семъ мѣстѣ Матери Владычнъ Подающiя всѣмъ своимъ рабомъ животъ вѣчный.Року 1708, месяца iюля 15 дня, посѣчены средь Обозу Войсковаго, за Бѣлою Церковiю на Борщаговцѣ и Ковшевомъ, благородный Василiй Кочубей, судiя генеральный; Iоаннъ Искра, полковникъ полтавскiй. Привезены же тѣла ихъ iюля 17 въ Кiевъ и того жъ дни въ обители святой Печерской на семь мѣстѣ погребены.
Домик в Коломне
I
Четырехстопный ямб[98] мне надоел: Им пишет всякий. Мальчикам в забаву Пора б его оставить. Я хотел Давным-давно приняться за октаву[99]. А в самом деле: я бы совладел С тройным созвучием. Пущусь на славу! Ведь рифмы запросто со мной живут; Две придут сами, третью приведут.II
А чтоб им путь открыть широкий, вольный, Глаголы тотчас им я разрешу… Вы знаете, что рифмой наглагольной Гнушаемся мы. Почему? спрошу. Так писывал Шихматов богомольный[100]; По большей части так и я пишу. К чему? скажите; уж и так мы голы. Отныне в рифмы буду брать глаголы.III
Не стану их надменно браковать, Как рекрутов, добившихся увечья, Иль как коней, за их плохую стать, — А подбирать союзы да наречья; Из мелкой сволочи[101] вербую рать. Мне рифмы нужны; все готов сберечь я, Хоть весь словарь; что слог, то и солдат — Все годны в строй: у нас ведь не парад.IV
Ну, женские и мужеские слоги![102] Благословясь, попробуем: слушай! Равняйтеся, вытягивайте ноги И по три в ряд в октаву заезжай! Не бойтесь, мы не будем слишком строги; Держись вольней и только не плошай, А там уже привыкнем, слава Богу, И выедем на ровную дорогу.V
Как весело стихи свои вести Под цифрами, в порядке, строй за строем. Не позволять им в сторону брести, Как войску, в пух рассыпанному боем! Тут каждый слог замечен и в чести, Тут каждый стих глядит себе героем. А стихотворец… с кем же равен он? Он Тамерлан[103] иль сам Наполеон.VI
Немного отдохнем на этой точке. Что? перестать или пустить на пе?..[104] Признаться вам, я в пятистопной строчке Люблю цезуру[105] на второй стопе. Иначе стих то в яме, то на кочке, И хоть лежу теперь на канапе, Всё кажется мне, будто в тряском беге По мерзлой пашне мчусь я на телеге.VII
Что за беда? не всё ж гулять пешком По невскому граниту иль на бале Лощить паркет или скакать верхом В степи киргизской. Поплетусь-ка дале, Со станции на станцию шажком, Как говорят о том оригинале, Который, не кормя, на рысаке Приехал из Москвы к Неве-реке.VIII
Скажу, рысак! Парнасский иноходец[106] Его не обогнал бы. Но Пегас Стар, зуб уж нет. Им вырытый колодец Иссох. Порос крапивою Парнас; В отставке Феб[107] живет, а хороводец Старушек муз уж не прельщает нас. И табор свой с классических вершинок Перенесли мы на толкучий рынок.IX
Усядься, муза; ручки в рукава, Под лавку ножки! не вертись, резвушка! Теперь начнем. – Жила-была вдова, Тому лет восемь, бедная старушка, С одною дочерью. У Покрова Стояла их смиренная лачужка За самой будкой[108]. Вижу, как теперь, Светелку, три окна, крыльцо и дверь.X
Дни три тому туда ходил я вместе С одним знакомым перед вечерком. Лачужки этой нет уж там. На месте Ее построен трехэтажный дом. Я вспомнил о старушке, о невесте, Бывало, тут сидевших под окном, О той поре, когда я был моложе, Я думал: живы ли они? – И что же?XI
Мне стало грустно: на высокий дом Глядел я косо. Если в эту пору Пожар его бы охватил кругом, То моему б озлобленному взору Приятно было пламя. Странным сном Бывает сердце полно; много вздору Приходит нам на ум, когда бредем Одни или с товарищем вдвоем.XII
Тогда блажен, кто крепко слово правит И держит мысль на привязи свою, Кто в сердце усыпляет или давит Мгновенно прошипевшую змию; Но кто болтлив, того молва прославит Вмиг извергом… Я воды Леты[109] пью, Мне доктором запрещена унылость: Оставим это, – сделайте мне милость!XIII
Старушка (я стократ видал точь-в-точь В картинах Рембрандта[110] такие лица) Носила чепчик и очки. Но дочь Была, ей-ей, прекрасная девица: Глаза и брови – темные, как ночь, Сама бела, нежна – как голубица; В ней вкус был образованный. Она Читала сочиненья Эмина[111],XIV
Играть умела также на гитаре И пела: Стонет сизый голубок, И Выдулья[112], и то, что уж постаре, Всё, что у печки в зимний вечерок, Иль скучной осенью при самоваре, Или весною, обходя лесок, Поет уныло русская девица, Как музы наши, грустная певица.XV
Фигурно иль буквально: всей семьей, От ямщика до первого поэта, Мы все поем уныло. Грустный вой Песнь русская. Известная примета! Начав за здравие, за упокой Сведем как раз. Печалию согрета Гармония и наших муз, и дев. Но нравится их жалобный напев.XVI
Параша (так звалась красотка наша) Умела мыть и гладить, шить и плесть; Всем домом правила одна Параша, Поручено ей было счеты весть, При ней варилась гречневая каша (Сей важный труд ей помогала несть Стряпуха Фекла, добрая старуха, Давно лишенная чутья и слуха).XVII
Старушка мать, бывало, под окном Сидела; днем она чулок вязала, А вечером за маленьким столом Раскладывала карты и гадала. Дочь, между тем, весь обегала дом, То у окна, то на дворе мелькала, И кто бы ни проехал иль ни шел, Всех успевала видеть (зоркий пол!).XVIII
Зимою ставни закрывались рано, Но летом до́ ночи растворено Всё было в доме. Бледная Диана[113] Глядела долго девушке в окно. (Без этого ни одного романа Не обойдется; так заведено!) Бывало, мать давным-давно храпела, А дочка – на луну еще смотрелаXIX
И слушала мяуканье котов По чердакам, свиданий знак нескромный, Да стражи дальный крик, да бой часов — И только. Ночь над мирною Коломной Тиха отменно. Редко из домов Мелькнут две тени. Сердце девы томной Ей слышать было можно, как оно В упругое толкалось полотно.XX
По воскресеньям, летом и зимою, Вдова ходила с нею к Покрову И становилася перед толпою У крылоса налево. Я живу Теперь не там, но верною мечтою Люблю летать, заснувши наяву, В Коломну, к Покрову – и в воскресенье Там слушать русское богослуженье.XXI
Туда, я помню, ездила всегда Графиня… (звали как, не помню, право) Она была богата, молода; Входила в церковь с шумом, величаво; Молилась гордо (где была горда!). Бывало, грешен! всё гляжу направо, Всё на нее. Параша перед ней Казалась, бедная, еще бедней.XXII
Порой графиня на нее небрежно Бросала важный взор свой. Но она Молилась Богу тихо и прилежно И не казалась им развлечена. Смиренье в ней изображалось нежно; Графиня же была погружена В самой себе, в волшебстве моды новой, В своей красе надменной и суровой.XXIII
Она казалась хладный идеал Тщеславия. Его б вы в ней узнали; Но сквозь надменность эту я читал Иную повесть: долгие печали, Смиренье жалоб… В них-то я вникал, Невольный взор они-то привлекали… Но это знать графиня не могла И, верно, в список жертв меня внесла.XXIV
Она страдала, хоть была прекрасна И молода, хоть жизнь ее текла В роскошной неге; хоть была подвластна Фортуна[114] ей; хоть мода ей несла Свой фимиам[115], – она была несчастна. Блаженнее стократ ее была, Читатель, новая знакомка ваша, Простая, добрая моя Параша.XXV
Коса змией на гребне роговом, Из-за ушей змиею кудри русы, Косыночка крест-накрест иль узлом, На тонкой шее восковые бусы — Наряд простой; но пред ее окном Всё ж ездили гвардейцы черноусы, И девушка прельщать умела их Без помощи нарядов дорогих.XXVI
Меж ими кто ее был сердцу ближе, Или равно для всех она была Душою холодна? увидим ниже. Покамест мирно жизнь она вела, Не думая о балах, о Париже, Ни о дворе (хоть при дворе жила Ее сестра двоюродная, Вера Ивановна, супруга гоффурьера[116]).XXVII
Но горе вдруг их посетило дом: Стряпуха, возвратясь из бани жаркой, Слегла. Напрасно чаем и вином, И уксусом, и мятною припаркой Ее лечили. В ночь пред Рождеством Она скончалась. С бедною кухаркой Они простились. В тот же день пришли За ней и гроб на Охту[117] отвезли.XXVIII
Об ней жалели в доме, всех же боле Кот Васька. После вдовушка моя Подумала, что два, три дня – не доле — Жить можно без кухарки; что нельзя Предать свою трапезу Божьей воле. Старушка кличет дочь: «Параша!» – «Я!» – «Где взять кухарку? сведай у соседки, Не знает ли. Дешевые так редки».XXIX
– «Узнаю, маменька». И вышла вон Закутавшись. (Зима стояла грозно, И снег скрыпел, и синий небосклон, Безоблачен, в звездах, сиял морозно.) Вдова ждала Парашу долго; сон Ее клонил тихонько; было поздно, Когда Параша тихо к ней вошла, Сказав: «Вот я кухарку привела».XXX
За нею следом, робко выступая, Короткой юбочкой принарядясь, Высокая, собою недурная, Шла девушка и, низко поклонясь, Прижалась в угол, фартук разбирая. «А что возьмешь?» – спросила, обратясь, Старуха. – «Всё, что будет вам угодно», — Сказала та смиренно и свободно.XXXI
Вдове понравился ее ответ. «А как зовут?» – «А Маврой». – «Ну, Мавруша, Живи у нас; ты молода, мой свет; Гоняй мужчин. Покойница Феклуша Служила мне в кухарках десять лет, Ни разу долга чести не наруша. Ходи за мной, за дочерью моей, Усердна будь; присчитывать не смей».XXXII
Проходит день, другой. В кухарке толку Довольно мало; то переварит, То пережарит, то с посудой полку Уронит; вечно всё пересолит, Шить сядет – не умеет взять иголку; Ее бранят – она себе молчит; Везде, во всем уж как-нибудь подгадит. Параша бьется, а никак не сладит.XXXIII
Поутру, в воскресенье, мать и дочь Пошли к обедне. Дома лишь осталась Мавруша; видите ль: у ней всю ночь Болели зубы; чуть жива таскалась; Корицы нужно было натолочь, — Пирожное испечь она сбиралась. Ее оставили; но в церкви вдруг На старую вдову нашел испуг.XXXIV
Она подумала: «В Мавруше ловкой Зачем к пирожному припала страсть? Пирожница, ей-ей, глядит плутовкой! Не вздумала ль она нас обокрасть Да улизнуть? Вот будем мы с обновкой Для праздника! Ахти, какая страсть!» Так думая, старушка обмирала И наконец, не вытерпев, сказала:XXXV
«Стой тут, Параша. Я схожу домой, Мне что-то страшно». Дочь не разумела, Чего ей страшно. С паперти долой Чуть-чуть моя старушка не слетела; В ней сердце билось, как перед бедой. Пришла в лачужку, в кухню посмотрела, — Мавруши нет. Вдова к себе в покой Вошла – и что ж? о Боже! страх какой!XXXVI
Пред зеркальцем Параши, чинно сидя, Кухарка брилась. Что с моей вдовой? «Ах, ах!» – и шлепнулась. Ее увидя, Та, второпях, с намыленной щекой Через старуху (вдовью честь обидя) Прыгнула в сени, прямо на крыльцо, Да ну бежать, закрыв себе лицо.XXXVII
Обедня кончилась; пришла Параша. «Что, маменька?» – «Ах, Пашенька моя! Маврушка…» – «Что, что с ней?» «Кухарка наша… Опомниться досель не в силах я… За зеркальцем… вся в мыле…» – «Воля ваша, Мне, право, ничего понять нельзя; Да где ж Мавруша?» – «Ах, она разбойник! Она здесь брилась!.. точно мой покойник!»XXXVIII
Параша закраснелась или нет, Сказать вам не умею; но Маврушки С тех пор как не было – простыл и след; Ушла, не взяв в уплату ни полушки И не успев наделать важных бед. У красной девушки и у старушки Кто заступил Маврушу? признаюсь, Не ведаю и кончить тороплюсь.XXXIX
«Как, разве всё тут? шутите!» – «Ей-богу». – «Так вот куда октавы нас вели! К чему ж такую подняли тревогу, Скликали рать и с похвальбою шли? Завидную ж вы избрали дорогу! Ужель иных предметов не нашли? Да нет ли хоть у вас нравоученья?» – «Нет… или есть: минуточку терпенья…ХL
Вот вам мораль: по мненью моему, Кухарку даром нанимать опасно; Кто ж родился мужчиною, тому Рядиться в юбку странно и напрасно: Когда-нибудь придется же ему Брить бороду себе, что несогласно С природой дамской… Больше ничего Не выжмешь из рассказа моего».Медный всадник Петербургская повесть
Предисловие
Происшествие, описанное в сей повести, основано на истине. Подробности наводнения заимствованы из тогдашних журналов. Любопытные могут справиться с известием, составленным В. Н. Берхом.Вступление
На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел. Пред ним широко Река неслася; бедный челн По ней стремился одиноко. По мшистым, топким берегам Чернели избы здесь и там, Приют убогого чухонца; И лес, неведомый лучам В тумане спрятанного солнца, Кругом шумел. И думал он: Отсель грозить мы будем шведу. Здесь будет город заложен Назло надменному соседу. Природой здесь нам суждено В Европу прорубить окно (1), Ногою твердой стать при море. Сюда по новым им волнам Все флаги[118] в гости будут к нам, И запируем на просторе. Прошло сто лет, и юный град, Полнощных стран краса и диво, Из тьмы лесов, из топи блат Вознесся пышно, горделиво; Где прежде финский рыболов, Печальный пасынок природы, Один у низких берегов Бросал в неведомые воды Свой ветхий невод, ныне там По оживленным берегам Громады стройные теснятся Дворцов и башен; корабли Толпой со всех концов земли К богатым пристаням стремятся; В гранит оделася Нева; Мосты повисли над водами; Темно-зелеными садами Ее покрылись острова, И перед младшею столицей Померкла старая Москва, Как перед новою царицей Порфироносная вдова[119]. Люблю тебя, Петра творенье, Люблю твой строгий, стройный вид, Невы державное теченье, Береговой ее гранит, Твоих оград узор чугунный, Твоих задумчивых ночей Прозрачный сумрак, блеск безлунный, Когда я в комнате моей Пишу, читаю без лампады, И ясны спящие громады Пустынных улиц, и светла Адмиралтейская игла[120], И, не пуская тьму ночную На золотые небеса, Одна заря сменить другую Спешит, дав ночи полчаса (2). Люблю зимы твоей жестокой Недвижный воздух и мороз, Бег санок вдоль Невы широкой, Девичьи лица ярче роз, И блеск, и шум, и говор балов, А в час пирушки холостой Шипенье пенистых бокалов И пунша пламень голубой. Люблю воинственную живость Потешных[121] Марсовых полей, Пехотных ратей и коней Однообразную красивость, В их стройно зыблемом строю Лоскутья сих знамен победных, Сиянье шапок этих медных, Насквозь простреленных в бою. Люблю, военная столица, Твоей твердыни[122] дым и гром, Когда полнощная[123] царица Дарует сына в царский дом, Или победу над врагом Россия снова торжествует, Или, взломав свой синий лед, Нева к морям его несет И, чуя вешни дни, ликует. Красуйся, град Петров, и стой Неколебимо, как Россия, Да умирится же с тобой И побежденная стихия; Вражду и плен старинный свой Пусть волны финские забудут И тщетной злобою не будут Тревожить вечный сон Петра! Была ужасная пора, Об ней свежо воспоминанье… Об ней, друзья мои, для вас Начну свое повествованье. Печален будет мой рассказ.Часть первая
Над омраченным Петроградом Дышал ноябрь осенним хладом. Плеская шумною волной В края своей ограды стройной, Нева металась, как больной В своей постеле беспокойной. Уж было поздно и темно; Сердито бился дождь в окно, И ветер дул, печально воя. В то время из гостей домой Пришел Евгений молодой… Мы будем нашего героя Звать этим именем. Оно Звучит приятно; с ним давно Мое перо к тому же дружно[124]. Прозванья нам его не нужно. Хотя в минувши времена Оно, быть может, и блистало И под пером Карамзина В родных преданьях прозвучало; Но ныне светом и молвой Оно забыто. Наш герой Живет в Коломне; где-то служит, Дичится знатных и не тужит Ни о почиющей родне, Ни о забытой старине. Итак, домой пришед, Евгений Стряхнул шинель, разделся, лег. Но долго он заснуть не мог В волненье разных размышлений. О чем же думал он? о том, Что был он беден, что трудом Он должен был себе доставить И независимость и честь; Что мог бы Бог ему прибавить Ума и денег. Что ведь есть Такие праздные счастливцы, Ума недальнего, ленивцы, Которым жизнь куда легка! Что служит он всего два года; Он также думал, что погода Не унималась; что река Всё прибывала; что едва ли С Невы мостов уже не сняли[125] И что с Парашей будет он Дни на два, на три разлучен. Евгений тут вздохнул сердечно И размечтался, как поэт: «Жениться? Ну… зачем же нет? Оно и тяжело, конечно, Но что ж, он молод и здоров, Трудиться день и ночь готов; Он кое-как себе устроит Приют смиренный и простой И в нем Парашу успокоит. Пройдет, быть может, год-другой — Местечко получу – Параше Препоручу хозяйство наше И воспитание ребят… И станем жить, и так до гроба Рука с рукой дойдем мы оба, И внуки нас похоронят…» Так он мечтал. И грустно было Ему в ту ночь, и он желал, Чтоб ветер выл не так уныло И чтобы дождь в окно стучал Не так сердито… Сонны очи Он наконец закрыл. И вот Редеет мгла ненастной ночи И бледный день уж настает… (3) Ужасный день! Нева всю ночь Рвалася к морю против бури, Не одолев их буйной дури… И спорить стало ей невмочь… Поутру над ее брегами Теснился кучами народ, Любуясь брызгами, горами И пеной разъяренных вод. Но силой ветров от залива Перегражденная Нева Обратно шла, гневна, бурлива, И затопляла острова, Погода пуще свирепела, Нева вздувалась и ревела, Котлом клокоча и клубясь, И вдруг, как зверь остервенясь, На город кинулась. Пред нею Всё побежало, всё вокруг Вдруг опустело – воды вдруг Втекли в подземные подвалы, К решеткам хлынули каналы, И всплыл Петрополь[126], как тритон, По пояс в воду погружен. Осада! приступ! злые волны, Как воры, лезут в окна. Челны С разбега стекла бьют кормой. Лотки под мокрой пеленой. Обломки хижин, бревны, кровли, Товар запасливой торговли, Пожитки бледной нищеты, Грозой снесенные мосты, Гроба с размытого кладбища Плывут по улицам! Народ Зрит Божий гнев и казни ждет. Увы! всё гибнет: кров и пища! Где будет взять? В тот грозный год Покойный царь[127] еще Россией Со славой правил. На балкон, Печален, смутен, вышел он И молвил: «С Божией стихией Царям не совладеть». Он сел И в думе скорбными очами На злое бедствие глядел. Стояли стогны[128] озерами, И в них широкими реками Вливались улицы. Дворец Казался островом печальным. Царь молвил – из конца в конец, По ближним улицам и дальным, В опасный путь средь бурных вод Его пустились генералы (4) Спасать и страхом обуялый И дома тонущий народ. Тогда, на площади Петровой[129], Где дом в углу вознесся новый, Где над возвышенным крыльцом С подъятой лапой, как живые, Стоят два льва сторожевые, На звере мраморном верхом, Без шляпы, руки сжав крестом, Сидел недвижный, страшно бледный Евгений. Он страшился, бедный, Не за себя. Он не слыхал, Как подымался жадный вал, Ему подошвы подмывая, Как дождь ему в лицо хлестал, Как ветер, буйно завывая, С него и шляпу вдруг сорвал. Его отчаянные взоры На край один наведены Недвижно были. Словно горы, Из возмущенной глубины Вставали волны там и злились, Там буря выла, там носились Обломки… Боже, Боже! там — Увы! близехонько к волнам, Почти у самого залива — Забор некрашеный да ива И ветхий домик: там оне, Вдова и дочь, его Параша, Его мечта… Или во сне Он это видит? иль вся наша И жизнь ничто, как сон пустой, Насмешка неба над землей? И он, как будто околдован, Как будто к мрамору прикован, Сойти не может! Вкруг него Вода и больше ничего! И, обращен к нему спиною, В неколебимой вышине, Над возмущенною Невою Стоит с простертою рукою Кумир[130] на бронзовом коне.Часть вторая
Но вот, насытясь разрушеньем И наглым буйством утомясь, Нева обратно повлеклась, Своим любуясь возмущеньем И покидая с небреженьем Свою добычу. Так злодей, С свирепой шайкою своей В село ворвавшись, ломит, режет, Крушит и грабит; вопли, скрежет, Насилье, брань, тревога, вой!.. И, грабежом отягощенны, Боясь погони, утомленны, Спешат разбойники домой, Добычу на пути роняя. Вода сбыла, и мостовая Открылась, и Евгений мой Спешит, душою замирая, В надежде, страхе и тоске К едва смирившейся реке. Но, торжеством победы полны, Еще кипели злобно волны, Как бы под ними тлел огонь, Еще их пена покрывала, И тяжело Нева дышала, Как с битвы прибежавший конь. Евгений смотрит: видит лодку; Он к ней бежит, как на находку; Он перевозчика зовет — И перевозчик беззаботный Его за гривенник охотно Чрез волны страшные везет. И долго с бурными волнами Боролся опытный гребец, И скрыться вглубь меж их рядами Всечасно с дерзкими пловцами Готов был челн – и наконец Достиг он берега. Несчастный Знакомой улицей бежит В места знакомые. Глядит, Узнать не может. Вид ужасный! Всё перед ним завалено; Что сброшено, что снесено; Скривились домики, другие Совсем обрушились, иные Волнами сдвинуты; кругом, Как будто в поле боевом, Тела валяются. Евгений Стремглав, не помня ничего, Изнемогая от мучений, Бежит туда, где ждет его Судьба с неведомым известьем, Как с запечатанным письмом. И вот бежит уж он предместьем, И вот залив, и близок дом… Что ж это?.. Он остановился. Пошел назад и воротился. Глядит… идет… еще глядит. Вот место, где их дом стоит; Вот ива. Были здесь вороты — Снесло их, видно. Где же дом? И, полон сумрачной заботы, Всё ходит, ходит он кругом, Толкует громко сам с собою — И вдруг, ударя в лоб рукою, Захохотал. Ночная мгла На город трепетный сошла; Но долго жители не спали И меж собою толковали О дне минувшем. Утра луч Из-за усталых, бледных туч Блеснул над тихою столицей И не нашел уже следов Беды вчерашней; багряницей[131] Уже прикрыто было зло. В порядок прежний всё вошло. Уже по улицам свободным С своим бесчувствием холодным Ходил народ. Чиновный люд, Покинув свой ночной приют, На службу шел. Торгаш отважный, Не унывая, открывал Невой ограбленный подвал, Сбираясь свой убыток важный На ближнем выместить. С дворов Свозили лодки. Граф Хвостов[132], Поэт, любимый небесами, Уж пел бессмертными стихами Несчастье невских берегов. Но бедный, бедный мой Евгений… Увы! его смятенный ум Против ужасных потрясений Не устоял. Мятежный шум Невы и ветров раздавался В его ушах. Ужасных дум Безмолвно полон, он скитался. Его терзал какой-то сон. Прошла неделя, месяц – он К себе домой не возвращался. Его пустынный уголок Отдал внаймы, как вышел срок, Хозяин бедному поэту. Евгений за своим добром Не приходил. Он скоро свету Стал чужд. Весь день бродил пешком, А спал на пристани; питался В окошко поданным куском. Одежда ветхая на нем Рвалась и тлела. Злые дети Бросали камни вслед ему. Нередко кучерские плети Его стегали, потому Что он не разбирал дороги Уж никогда; казалось – он Не примечал. Он оглушен Был шумом внутренней тревоги. И так он свой несчастный век Влачил, ни зверь, ни человек, Ни то ни сё, ни житель света Ни призрак мертвый… Раз он спал У невской пристани. Дни лета Клонились к осени. Дышал Ненастный ветер. Мрачный вал Плескал на пристань, ропща пени И бьясь об гладкие ступени, Как челобитчик[133] у дверей Ему не внемлющих судей. Бедняк проснулся. Мрачно было: Дождь капал, ветер выл уныло, И с ним вдали во тьме ночной Перекликался часовой… Вскочил Евгений; вспомнил живо Он прошлый ужас; торопливо Он встал; пошел бродить, и вдруг Остановился, и вокруг Тихонько стал водить очами С боязнью дикой на лице. Он очутился под столбами Большого дома. На крыльце С подъятой лапой, как живые, Стояли львы сторожевые, И прямо в темной вышине Над огражденною скалою Кумир с простертою рукою Сидел на бронзовом коне. Евгений вздрогнул. Прояснились В нем страшно мысли. Он узнал И место, где потоп играл, Где волны хищные толпились, Бунтуя злобно вкруг него, И львов, и площадь, и того, Кто неподвижно возвышался Во мраке медною главой, Того, чьей волей роковой Под морем город основался… Ужасен он в окрестной мгле! Какая дума на челе! Какая сила в нем сокрыта! А в сем коне какой огонь! Куда ты скачешь, гордый конь, И где опустишь ты копыта? О мощный властелин судьбы! Не так ли ты над самой бездной, На высоте, уздой железной Россию поднял на дыбы? (5) Кругом подножия кумира Безумец бедный обошел И взоры дикие навел На лик державца полумира. Стеснилась грудь его. Чело К решетке хладной прилегло, Глаза подернулись туманом, По сердцу пламень пробежал, Вскипела кровь. Он мрачен стал Пред горделивым истуканом И, зубы стиснув, пальцы сжав, Как обуянный силой черной, «Добро, строитель чудотворный! — Шепнул он, злобно задрожав, — Ужо тебе!..» И вдруг стемглав Бежать пустился. Показалось Ему, что грозного царя, Мгновенно гневом возгоря, Лицо тихонько обращалось… И он по площади пустой Бежит и слышит за собой — Как будто грома грохотанье — Тяжело-звонкое скаканье По потрясенной мостовой. И, озарен луною бледной, Простерши руку в вышине, За ним несется Всадник Медный На звонко-скачущем коне; И во всю ночь безумец бедный, Куда стопы ни обращал, За ним повсюду Всадник Медный С тяжелым топотом скакал. И с той поры, когда случалось Идти той площадью ему, В его лице изображалось Смятенье. К сердцу своему Он прижимал поспешно руку, Как бы его смиряя муку, Картуз изношенный сымал, Смущенных глаз не подымал И шел сторонкой. Остров малый На взморье виден. Иногда Причалит с неводом туда Рыбак на ловле запоздалый И бедный ужин свой варит, Или чиновник посетит, Гуляя в лодке в воскресенье, Пустынный остров. Не взросло Там ни былинки. Наводненье Туда, играя, занесло Домишко ветхий. Над водою Остался он, как черный куст. Его прошедшею весною Свезли на барке. Был он пуст И весь разрушен. У порога Нашли безумца моего, И тут же хладный труп егоПохоронили ради Бога[134].
Примечания
1 Альгаротти где-то сказал: «Petersbourg est la fenêtre par laquelle la Russe regarde en Europe»[135].
2 Смотри стихи кн. Вяземского к графине З***[136].
3 Мицкевич прекрасными стихами описал день, предшествовавший петербургскому наводнению, в одном из лучших своих стихотворений – Oleszkiewicz[137]. Жаль только, что описание его не точно. Снегу не было – Нева не была покрыта льдом. Наше описание вернее, хотя в нем и нет ярких красок польского поэта.
4 Граф Милорадович и генерал-адъютант Бенкендорф[138].
5 Смотри описание памятника в Мицкевиче. Оно заимствовано из Рубана, как замечает сам Мицкевич.
Комментарии
Поэмы Пушкина
В пушкинском творчестве поэмы занимают самое большое место наряду с лирикой. Пушкиным написано двенадцать поэм (одна из них – «Тазит» – осталась неоконченной), и еще более двенадцати сохранилось в набросках, планах, начальных строках.
В лицее Пушкин начал, но не закончил очень слабую, еще совсем детскую шутливую поэму «Монах» (1813) и шутливую сказочную поэму «Бова» (1814). В первой – пародируется в духе вольтерианского вольнодумия христианская церковная легенда, во второй – популярная народная сказка.
В этих произведениях юный Пушкин еще не самостоятельный поэт, а только необыкновенно талантливый ученик своих предшественников, русских и французских поэтов (Вольтера, Карамзина, Радищева). Но не с этих юношеских опытов начинается история пушкинской поэмы; да они и не были напечатаны при жизни автора.
В 1817 году Пушкин начал самую большую свою поэму – «Руслан и Людмила» – и писал ее целых три года.
Это были годы подъема революционных настроений среди дворянской молодежи, когда создавались тайные кружки и общества, подготовившие декабрьское восстание 1825 года.
Пушкин, не будучи членом тайного общества, активно участвовал в деятельности этого движения, писал революционные стихи, которые тотчас в рукописных копиях расходились по всей стране.
Пушкину пришлось вести борьбу с реакционными идеями и в легальной, печатной литературе. В 1817 году. Жуковский напечатал фантастическую поэму «Вадим» – вторую часть большой поэмы «Двенадцать спящих дев» (первая часть ее – «Громобой» – вышла еще в 1811 г.). Стоя на консервативных позициях, Жуковский хотел этим произведением увести молодежь от политики в область романтических, религиозно окрашенных мечтаний. Его герой (которому поэт не случайно дал имя Вадима – легендарного героя восстания новгородцев против князя Рюрика) – идеальный юноша, стремящийся к подвигам и в то же время чувствующий в своей душе таинственный зов к чему-то неизвестному, потустороннему. Он в конце концов преодолевает все земные соблазны и, следуя неуклонно этому зову, находит счастье в мистическом соединении с одной из двенадцати дев, которых он пробуждает от их чудесного сна. Эта поэма написана с большой поэтической силой, прекрасными стихами, и Пушкин имел все основания опасаться сильнейшего влияния ее на развитие молодой русской литературы. К тому же «Вадим» был в то время единственным крупным произведением, созданным представителем новой литературной школы – романтизма, только что окончательно победившего в борьбе с классицизмом.
На «Вадима» Пушкин ответил «Русланом и Людмилой», тоже сказочной поэмой из той же эпохи, с рядом сходных эпизодов. Но вместо таинственно-мистических чувств и почти бесплотных образов – у Пушкина все земное, материальное. Полемический смысл поэмы вполне раскрывается в начале четвертой песни, где поэт прямо указывает на объект этой полемики – поэму Жуковского «Двенадцать спящих дев» – и пародирует ее, превращая ее героинь, мистически настроенных чистых дев, «инокинь святых», в легкомысленных обитательниц придорожной «гостиницы», заманивающих к себе путников.
Остроумная, блестящая, искрящаяся весельем поэма Пушкина сразу рассеяла мистический туман, окружавший в поэме Жуковского народные сказочные мотивы и образы, и поставила Пушкина на первое место среди русских поэтов. О нем стали писать и в западноевропейских журналах.
Однако, будучи крупнейшим явлением в русской литературе и общественной жизни, шутливая сказочная поэма Пушкина еще не ставила русскую литературу в один ряд с литературой Запада, где действовали в те годы Гёте в Германии, Байрон и Шелли в Англии, Шатобриан и Бенжамен Констан во Франции, каждый по-своему решавшие в своем творчестве важнейшие вопросы современности.
С 1820 года Пушкин включается в этот ряд, создавая одну за другой свои романтические поэмы, серьезные и глубокие по содержанию, современные по проблематике и высокопоэтические по форме. С этими поэмами («Кавказский пленник», «Братья разбойники», «Бахчисарайский фонтан») в русскую литературу входит новое направление: передовой, революционный романтизм – поэтическое выражение чувств и взглядов самого передового общественного слоя, революционно настроенной дворянской молодежи, наиболее активной частью которой были декабристы. Резкое недовольство всем окружающим, всем общественным укладом, при котором жизнь представляется тюрьмой, а человек – узником; пламенное стремление к свободе; свобода как предмет почти религиозного культа[139] – это одна сторона мироощущения революционных романтиков 1820-х годов. В то же время их социальное одиночество, отсутствие живой связи с народом, страданиям которого они глубоко сочувствовали, но чью жизнь плохо знали и мало понимали, – все это придавало трагический и крайне субъективный, индивидуалистический характер их мировоззрению. Чувства и трагические переживания одинокой, гордой, высоко над толпой стоящей личности стали основным содержанием романтического творчества Пушкина. Протест против всякого гнета, тяготеющего над человеком в «цивилизованном» обществе, – гнета политического, социального, морального, религиозного, – заставлял его, как и всех революционных романтиков того времени, сочувственно изображать своего героя преступником, нарушителем всех принятых в обществе норм – религиозных, юридических, моральных. Излюбленный романтиками образ – «преступник и герой», который «и ужаса людей и славы был достоин». Наконец, характерным для романтиков было стремление увести поэзию от воспроизведения ненавистной им обыденной действительности в мир необычного, экзотики, географической или исторической. Там они находили нужные им образы природы – могучей и мятежной («пустыни, волн края жемчужны, и моря шум, и груды скал») – и образы людей, гордых, смелых, свободных, не затронутых еще европейской цивилизацией.
Большую роль в поэтическом воплощении этих чувств и переживаний сыграло творчество Байрона, во многом близкое мироощущению русских передовых романтиков. Пушкин, а за ним и другие поэты использовали прежде всего удачно найденную английским поэтом форму «байронической поэмы», в которой чисто лирические переживания поэта облечены в повествовательную форму с вымышленным героем и событиями, далекими от реальных событий жизни поэта, но прекрасно выражающими его внутреннюю жизнь, его душу. «Он создал, – писал Пушкин в заметке о трагедиях Байрона, – себя вторично, то под чалмою ренегата, то в плаще корсара, то гяуром, издыхающим под схимиею…» Так и Пушкин в своих романтических поэмах пытался «создать себя вторично»: то пленником на Кавказе, то бежавшим «неволи душных городов» Алеко. Пушкин сам не раз указывал на лирический, почти автобиографический характер своих романтических героев.
Внешние особенности южных поэм Пушкина также связаны с байроновской традицией: простой, неразвитый сюжет, малое количество действующих лиц (двое, трое), отрывочность и иногда нарочитая неясность изложения.
Всегдашнее свойство пушкинского поэтического таланта – умение зорко наблюдать действительность и стремление точными словами говорить о ней. В поэмах это сказалось в том, что, создавая романтические образы природы и людей, Пушкин не выдумывал их, не писал (как, например, Байрон о России или, позже, Рылеев о Сибири) о том, чего сам не видел, а всегда основывался на живых личных впечатлениях – Кавказа, Крыма, бессарабских степей.
Поэмы Пушкина создали и надолго предопределили тип романтической поэмы в русской литературе. Они вызвали многочисленные подражания второстепенных поэтов, а также оказали сильное влияние на творчество таких поэтов, как Рылеев, Козлов, Баратынский и, наконец, Лермонтов.
Помимо «Кавказского пленника», «Братьев разбойников» и «Бахчисарайского фонтана», написанных до 1824 года и вскоре напечатанных, Пушкин задумывал и другие романтические поэмы. «У меня в голове бродят еще поэмы», – писал он Дельвигу в марте 1821 года. В рукописях его остались наброски нескольких поэм, где Пушкин по-разному, с различными сюжетами и в различной национальной среде, думал разработать тот же «героический» или «преступный» романтический образ и показать его неминуемо трагическую судьбу.
В 1823 году Пушкин переживает сильнейший кризис своего романтического мировоззрения. Разочаровавшись в надежде на близкое осуществление победы революции сначала на Западе, а затем и в России – а в этой победе Пушкин, полный «беспечной веры», был совершенно убежден, – он скоро разочаровался и во всех своих романтических идеалах – свободы, возвышенного героя, высокого назначения поэзии, романтической вечной любви. Он пишет в это время ряд мрачных, горьких стихотворений, изливая в них свою «желчь» и «цинизм» (по его выражению): «Сеятель», «Демон», «Разговор книгопродавца с поэтом» (а немного позже – «Сцену из Фауста») и другие, оставшиеся в рукописи неоконченными.
К числу подобных произведений относится и поэма «Цыганы», написанная в 1824 году. Поэма переломного, переходного периода, она является в идейном и художественном отношении громадным шагом вперед по сравнению с предыдущими поэмами. Несмотря на вполне романтический характер и стиля ее, и экзотической обстановки, и героев, Пушкин здесь впервые применяет метод чисто реалистической проверки верности своих романтических идеалов. Он не подсказывает речей и действий своим персонажам, а просто помещает их в данную обстановку и прослеживает, как они проявляют себя в обстоятельствах, с которыми сталкиваются. Эта «объективная» позиция автора «Цыган» по отношению к действиям и чувствам его героев сказалась и в самой форме: большинство эпизодов поэмы даны в диалогах, в драматической форме, где отсутствует голос автора, а говорят и действуют сами персонажи.
Летом 1824 года Пушкин был выслан из Одессы в Михайловское, без права выезда оттуда. Постоянное и близкое общение с крестьянами, с народом, видимо, более всего другого содействовало преодолению тяжелого кризиса в мировоззрении поэта. Он убедился в несправедливости своих горьких упреков народу в нежелании бороться за свою свободу[140], он понял, что «свобода» не есть какое-то отвлеченное морально-философское понятие, а конкретно-историческое, всегда связанное с общественной жизнью. Он должен был увидеть, что все его разочарования в прежних романтических идеалах – результат недостаточного знания самой действительности, ее объективных закономерностей, результат малого поэтического интереса к ней самой. В 1825 году в творчестве Пушкина происходит крутой поворот. Его поэзия приобретает ясный и в целом светлый, оптимистический характер. Прежняя задача его поэзии (выражение своих собственных чувств и страданий, поэтический отклик на несовершенства жизни, противоречащей субъективным, хотя и благородным требованиям романтика, воплощение романтических идеалов в образах необычного – экзотической, идеализированной природы и необыкновенных героев) заменяется новой. Пушкин сознательно делает свою поэзию средством познания отвергавшейся им прежде обычной действительности, стремится актом поэтического творчества проникнуть в нее, понять ее типичные явления, объективные закономерности. Стремление верно объяснить человеческую психологию неминуемо приводит его к изучению и художественному воплощению общественной жизни, к изображению в тех или иных сюжетных формах социальных конфликтов, отражением которых и является психология человека.
То же стремление познать действительность, современность толкает его и к изучению прошлого, к воспроизведению важных моментов истории.
В связи с этими новыми творческими задачами изменяется и характер изображаемых объектов у Пушкина, и самый стиль изображения: вместо экзотики, необычного – обыденная жизнь, природа, люди; вместо поэтически-возвышенного, отвлеченного, метафорического стиля – простой, близкий к разговорному, но тем не менее высокопоэтический стиль.
Пушкин создает новое направление в литературе – реализм, сделавшийся позже (с 1840-х годов) ведущим направлением русской литературы.
Основное, преимущественное воплощение этого нового, реалистического направления Пушкин дает в это время не столько в поэмах, сколько в других жанрах: в драме («Борис Годунов», «Маленькие трагедии»), в прозаической повести («Повести Белкина», «Капитанская дочка» и др.), в стихотворном романе – «Евгений Онегин». В этих жанрах Пушкину легче было осуществлять новые принципы и разрабатывать новые методы реалистического творчества.
Разгром декабрьского восстания 1825 года и наступившая вслед за этим политическая и общественная реакция, временная остановка в развитии русского революционного движения изменили характер русской литературы: из нее на несколько лет ушла тема борьбы за свободу. Пушкин, возвращенный Николаем I из ссылки, получивший возможность общаться с друзьями, пользующийся громадной популярностью среди публики, тем не менее не чувствовал себя счастливым.
Душная общественная атмосфера после разгрома декабристов, трусливые, обывательские настроения, поддерживаемые новой реакционной журналистикой, воцарившиеся в обществе и заразившие многих из его друзей, – все это вызывало временами у Пушкина приступы полного отчаяния, выразившиеся в таких стихах его, как «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?..» или «В степи мирской, печальной и безбрежной…» («Последний ключ – холодный ключ забвенья, он слаще всех жар сердца утолит»).
Мысль о том, что смерть предпочтительней жизни, Пушкин думал положить в основу начатой им в 1826 году мрачной поэмы о герое евангельской легенды – Агасфере («Вечном Жиде»), наказанном за свое преступление перед Богом бессмертием. Однако эти мрачные темы остались временным эпизодом в творчестве Пушкина. Он сумел преодолеть свое тяжелое настроение, и поэма об Агасфере была оставлена в самом начале.
В эти годы общественного упадка творческая работа Пушкина не прекращается, но он разрабатывает в это время темы, непосредственно не связанные с темой освободительного движения. Предметом пристального внимания поэта становятся человеческая психика, характеры, «страсти», их влияние на душу человека (центральные главы «Евгения Онегина», «Маленькие трагедии», наброски прозаических повестей).
Среди произведений Пушкина 1826–1830 годов, вдохновленных «психологической» темой, мы не находим ни одной поэмы. Более подходящей формой для художественного анализа человеческой психологии были роман в стихах, драматический этюд, прозаический рассказ или повесть.
В эти годы Пушкин пишет и ряд крупных произведений политического содержания. В его творчестве этого времени находит свое воплощение тема русского государства, судьбы России в борьбе с Западом за свою самостоятельность. Параллельно с этим он поэтически разрабатывает и важнейшую тему многонациональности русского государства, пишет об исторической закономерности объединения в одно государственное целое множества различных народов. В поэме «Полтава» эти темы развиваются на историческом материале борьбы России начала XVIII века с сильнейшим тогда военным государством – Швецией. Здесь же Пушкин поэтически раскрывает свою оценку взаимоотношений России и Украины. В другой, неоконченной поэме «Тазит» на основании впечатлений Пушкина от его второго кавказского путешествия (1829) и размышлений о сложности и трудности вопроса о прекращении вражды народов Кавказа с русскими развивается та же национально-политическая тема.
В 1830-х годах творчество Пушкина снова почти целиком посвящается разработке социальных вопросов. Народ, крепостное крестьянство, его жизнь, его поэзия, его борьба за свое освобождение, становится одной из основных тем Пушкина – художника и историка, каким он делается в эти годы.
В эти годы Пушкин вводит в литературу нового героя – страдающего, угнетенного «маленького человека», жертву несправедливого социального устройства – в прозаической повести «Станционный смотритель», в начатом стихотворном романе «Езерский», в поэме «Медный всадник».
Пушкин остро реагирует на происходящие на его глазах изменения в классовом составе интеллигенции, в частности писательской среды. Если прежде «литературой у нас занимались только дворяне», как не раз повторял Пушкин, видя в этом причину независимого поведения писателя по отношению к власти, к правительству, то теперь все большую и большую роль в литературе начинают играть представители разночинной, буржуазной интеллигенции. В те годы эта новая демократия не была еще «революционной демократией», наоборот, большинство из ее деятелей, борясь с представителями господствующего дворянского, помещичьего класса за свое место в жизни, никаких оппозиционных настроений по отношению к правительству, к царю не обнаруживало.
Единственной силой, способной противопоставить свою независимость правительственному произволу, быть «мощным защитником» народа, Пушкин считал то дворянство, из которого вышли декабристы, дворянство обедневшее, но «с образованием», «с ненавистью против аристокрации». «Эдакой страшной стихии мятежей нет и в Европе, – писал Пушкин в дневнике. – Кто были на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько ж их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется, много».
Эти мысли о роли старинного дворянства в освободительном движении (в прошлом и в будущем), осуждение представителей его, не понимающих своей исторической миссии и пресмыкающихся перед властью, перед «новой знатью», царскими прислужниками, Пушкин воплощал не только в публицистических заметках, но и в художественных произведениях, в частности, они-то и составляют основное, главное содержание написанных Пушкиным первых строф «Езерского».
В 1830-е годы Пушкину пришлось вести ожесточенную литературную борьбу. Его противниками были завладевшие читательской массой реакционные, недобросовестные журналисты и критики, потакающие обывательским вкусам читателей из мелких помещиков и чиновников, не гнушающиеся политическими доносами на своих литературных врагов. Они преследовали Пушкина за все то новое, что он вводит в литературу, – реалистическое направление, простоту выражения, нежелание морализировать… Полемика с современной журналистикой о задачах литературы включена была Пушкиным в начальные строфы «Езерского», эта же полемика составляет основное содержание целой поэмы – «Домик в Коломне».
Длинный ряд поэм, написанных с 1820 по 1833 год, Пушкин завершил «Медным всадником» – поэмой о конфликте между счастьем отдельной личности и благом государства. Это лучшее его произведение, замечательное как по необыкновенной глубине и смелости мысли, остроте поставленной поэтом исторической и социальной проблемы, так и по совершенству художественного выражения. Это произведение и до сих пор вызывает споры и различные толкования.
Пушкин использовал в своем творчестве многие жанры, но поэма всегда оставалась любимой формой для выражения его «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». Почти каждый этап своего развития Пушкин отмечал поэмой, почти каждая из встававших перед ним жизненных проблем находила выражение в поэме. Громадное расстояние между легкой, блестящей поэмой двадцатилетнего Пушкина – «Руслан и Людмила» и глубоко философской поэмой «Медный всадник», написанной тридцатичетырехлетним мудрецом поэтом, – показывает наглядно стремительность пути Пушкина, крутизну вершины, на которую поднялся Пушкин, а вместе с ним и вся русская литература.
Кавказский пленник
«Кавказский пленник» – первая из четырех романтических, так называемых «южных», поэм Пушкина. Написана в 1820–1821 годах во время южной ссылки поэта.
В «Кавказском пленнике» Пушкин хотел разрешить несколько задач. Во-первых, создать поэтический образ нового, «романтического героя», переживания которого близки ему самому и в то же время характерны для эпохи. Пушкин писал в письме своему приятелю о характере пленника: «Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи XIX века». Вторая задача – противопоставить обыденной, «прозаической» действительности яркие и впечатляющие картины могучей и дикой природы Кавказа и быта черкесов. В связи с этим вставала перед поэтом еще одна, третья задача: необходимо было для этого совершенно нового содержания выработать новый поэтический язык и стиль – эмоциональный, романтически приподнятый и в то же время несколько «туманный»…
Пушкин очень много работал над этой небольшой поэмой. Первоначальное название ее было «Кавказ». Пушкин написал уже около пятидесяти стихов поэмы, а затем отказался от этого начала (и от заглавия) и начал работу снова. Закончив поэму в черновике, он три раза переписывал ее набело, всякий раз то уничтожая уже написанные строки и слова, то вставляя новое, то меняя композицию произведения.
Много трудился он над образом пленника. Кроме «старости души» и «равнодушия к жизни», ему хотелось воплотить в этом лирическом образе и страстную любовь к свободе, и ненависть к рабству, свойственные ему самому, и свои же собственные страдания от неразделенной любви… Такое сочетание делало характер героя противоречивым и неясным. Пушкин сам был им недоволен. «Характер пленника неудачен, – писал он в одном письме. – Это доказывает, что я не гожусь в герои романтического стихотворения».
Гораздо более удалось Пушкину описание Кавказа и черкесов. Наблюдательность Пушкина помогла ему создать (правда, в несколько идеализированной форме) верные картины малознакомого тогдашним читателям быта и природы. Признавая, что эти слишком разросшиеся описания недостаточно связаны с сюжетом, он все же был ими доволен. «Черкесы, их обычаи и нравы, – писал он, – занимают большую и лучшую часть моей повести; но все это ни с чем не связано и есть истинный hors-d’oeuvre[141]».
Несмотря на эти (и другие) критические высказывания Пушкина о своей поэме, он все же любил ее. В письме к поэту Гнедичу он писал: «…Вы видите, что отеческая нежность не ослепляет меня насчет «Кавказского пленника», но, признаюсь, люблю его, сам не зная за что; в нем есть стихи моего сердца. Черкешенка моя мне мила, любовь ее трогает душу…»
В эпилоге «Кавказского пленника» Пушкин касается военно-политических вопросов. Нет сомнения, конечно, что поэт-романтик не собирался воспевать завоевательную политику русского правительства. «Пылкий» Цицианов, «бич Кавказа» Котляревский, Ермолов, от приближения которого «Восток подъемлет вой», – в них молодой романтик искал живого воплощения того же образа «романтического героя».
Братья разбойники
Поэма написана в 1821–1822 годах. Она представляет собой отрывок из большой поэмы «Разбойники», написанной Пушкиным до половины и затем уничтоженной самим поэтом. Судя по сохранившимся планам, героем этой поэмы был романтический злодей – атаман волжских разбойников. У него – любовница. Разбойники нападают на купеческий корабль, берут в плен дочь купца. Атаман влюбляется в нее. Прежняя его возлюбленная от ревности сходит с ума. Новая его не любит и вскоре умирает. «Он пускается на все злодейства. Есаул предает его».
История двух братьев разбойников была вступительной главой поэмы «Разбойники». Уничтожив эту поэму, Пушкин сохранил начало ее и превратил его в самостоятельное произведение – поэму «Братья разбойники». В ней вовсе нет «романтического героя», ее разбойники лишены всякого ореола величия – это просто злодеи, грабящие и убивающие и богатых и бедных, и стариков и детей.
Опасность, кровь, разврат, обман — Суть узы страшного семейства; Тот их, кто с каменной душой Прошел все степени злодейства; Кто режет хладною рукой Вдовицу с бедной сиротой, Кому смешно детей стенанье, Кто не прощает, не щадит, Кого убийство веселит, Как юношу любви свиданье.В поэме подробно показаны два эпизода: болезнь юного разбойника, его бред и муки совести и второй эпизод – бегство из тюрьмы двух скованных общей цепью братьев разбойников.
В первом – замечательно поэтическое, эмоционально насыщенное воспроизведение болезненного бреда разбойника, страшные образы жертв его преступлений.
В описании бегства братьев из тюрьмы Пушкин, по его словам, изобразил подлинное событие, свидетелем которого он, видимо, был сам. Он писал в одном письме: «Истинное происшествие подало мне повод написать этот отрывок. В 1820 году, в бытность мою в Екатеринославе[142], два разбойника, закованные вместе, переплыли через Днепр и спаслись. Их отдых на островке, потопление одного из стражей мною не выдуманы».
«Братья разбойники» отличаются от других романтических поэм своим стилем и языком. Пушкин переходит от романтически приподнятого лирического стиля к живому просторечию. Он вводит в свою поэму бытовые, прозаические, «низкие» слова, совершенно чуждые высокой поэзии романтизма: «харчевня», «кнут», «острог», «поп»… Все это, конечно, еще далеко от реализма, к которому Пушкин пришел через несколько лет и для этого создал новый язык, где простые, обычные, «прозаические» слова звучали поэтично, входили закономерно в поэтическую ткань произведения. Но все же это новаторство стиля в «Братьях разбойниках» было несомненно шагом вперед в русской поэзии. Пушкин, видимо, чувствовал это сам и в одном письме того времени, говоря о своей новой поэме, соглашался с критикой ее сюжета, «но как слог, – говорил он, – я ничего лучше не написал».
Бахчисарайский фонтан
Пушкин работал над поэмой в 1821, 1822 и 1823 годах. По своему характеру это самая романтическая, «байроническая» из всех южных поэм Пушкина. Герой ее более всего похож на традиционного героя-злодея с глубокими и высокими чувствами. Отрывочность формы, иногда намеренная несвязность рассказа, нарочитая неясность (в сообщении о гибели Марии и Заремы), лиризм, пронизывающий всю поэму, – все это максимально приближает «Бахчисарайский фонтан» к поэмам Байрона. В сюжете его Пушкин воспользовался схемой сюжета уничтоженной им поэмы «Разбойники» (см. комментарий к поэме «Братья разбойники»): мрачный герой и две женщины – его возлюбленная и ее соперница.
Образ романтического хана Гирея не очень удался Пушкину. Зато Зарема, по сравнению с черкешенкой из «Кавказского пленника», есть шаг вперед в создании живого характера с яркими индивидуальными чертами. Ее речь, обращенная к Марии, необыкновенно разнообразна по чувствам, тону и содержанию: здесь и мольбы, и угрозы, и поэтический рассказ о раннем детстве, и выражение ревности, и воспоминания о любви и счастье…
Самое замечательное в поэме – удивительная поэтичность и музыкальность ее стиха и языка: гармоническая звукопись, мелодическое течение речи, необыкновенная художественность, волнующая ритмичность в развертывании описаний, чередовании образов: например, изображение гарема, крымской ночи, заключительные стихи поэмы и т. п.
Отзывы самого Пушкина о его поэме почти все отрицательны: «Бахчисарайский фонтан, между нами, дрянь, но эпиграф его – прелесть»[143] (из письма к Вяземскому); «Бахчисарайский фонтан» в рукописи назван был «Харемом»[144], но меланхолический эпиграф (который, конечно, лучше всей поэмы) соблазнил меня» (статья «Опровержение на критики»,1830). В этой же статье Пушкин следующим образом сформулировал свое отношение к этой самой романтической из своих поэм: «Бахчисарайский фонтан» слабее «Пленника» и, как он[145], отзывается чтением Байрона, от которого я с ума сходил. Сцена Заремы с Марией имеет драматическое достоинство… А. Раевский[146] хохотал над следующими стихами:
Он часто в сечах роковых Подъемлет саблю – и с размаха Недвижим остается вдруг, Глядит с безумием вокруг, Бледнеет, будто полный страха, И что-то шепчет, и порой Горючи слезы льет рекой[147]. ?Молодые писатели вообще не умеют изображать физические движения страстей. Их герои всегда содрогаются, хохочут дико, скрежещут зубами и проч. Все это смешно, как мелодрама».
После разгрома декабристов, казни пятерых и ссылки многих в Сибирь Пушкин использовал текст эпиграфа к «Бахчисарайскому фонтану» как политический намек. В заключительной строфе «Евгения Онегина» (написанной в 1830 г.) он писал:
…Но те, которым в дружной встрече Я строфы первые читал… Иных уж нет, а те далече, Как Сади некогда сказал. Без них Онегин дорисован…Цыганы
Поэма написана в 1824 году. Ее содержание – критическое разоблачение романтического героя и романтического идеала свободы.
Герой поэмы – романтический изгнанник, которому Пушкин дает свое имя (Алеко – это Александр), подобно кавказскому пленнику, в поисках свободы бежит от культурного общества, из «неволи душных городов» к свободным, живущим простой, близкой к природе жизнью цыганам. Изображенные Пушкиным «вольные» и «веселые» цыгане, конечно, не похожи на подлинных бессарабских цыган, живших тогда в «крепостном состоянии». Но Пушкину нужно было создать своему герою такую обстановку, в которой он мог бы полностью удовлетворить свое страстное желание абсолютной, ничем не ограниченной свободы. И тут обнаруживается, что Алеко, требующий свободы для себя и пользующийся ею в цыганском таборе, не желает признавать ее для других (для Земфиры), если эта свобода затрагивает его интересы, нарушает его мнимые «права». («Я не таков, – говорит он старому цыгану, – нет, я не споря от прав моих не откажусь…») Поэт развенчивает романтического героя, показывая его подлинную сущность…
В «Цыганах» развенчивается также и романтический идеал неограниченной свободы. Пушкин убедительно показывает, что полная свобода действий, отсутствие ограничений и обязательств в общественной жизни осуществимо только для общества людей примитивных в своих потребностях, ленивых, праздных, да к тому же робких и мягкотелых[148]. Абсолютная свобода в любовных отношениях, не создающая никаких взаимных обязательств, никакой духовной связи между любящими, показана Пушкиным на примере Земфиры и ее матери Мариулы. Земфире «скучно, сердце воли просит», и она легко, без угрызений совести изменяет горячо любящему ее Алеко. Когда в соседнем таборе оказался красивый цыган, после короткого знакомства, «брося маленькую дочь» и мужа, «ушла за ними Мариула».
К тому же эта полная свобода в поступках вовсе не дает «вольным» цыганам счастья. Старый цыган так же несчастлив, как и Алеко[149], но только он смиряется перед своим несчастьем, считая, что это – естественный порядок, что «чредою всем дается радость, что было, то не будет вновь».
Развенчав в своей поэме и романтический идеал свободы, и романтического героя, Пушкин еще тогда, в 1824 году, не знал, что придет на смену этих идеалов, можно ли на реальной основе построить свое мировоззрение… Поэтому и заключение поэмы звучит трагически безнадежно:
И всюду страсти роковые, И от судеб защиты нет.Эти выстраданные Пушкиным глубокие мысли и чувства облечены в «Цыганах» в совершенную поэтическую форму. Свободная и в то же время четкая и ясная композиция поэмы, яркие картины жизни и быта цыган, насыщенные лиризмом описания чувств и переживаний героя, драматические диалоги, в которых раскрываются конфликты и противоречия, составляющие содержание поэмы, включенные в нее посторонние эпизоды – стихи о беззаботной птичке и рассказ об Овидии, – все это делает поэму «Цыганы» одним из самых лучших произведений молодого Пушкина.
Граф Нулин
Первая подлинно реалистическая поэма Пушкина «Граф Нулин» написана в начале декабря 1825 года. Она отличается какой-то особой веселостью настроения, что можно объяснить, вероятно, жизненными обстоятельствами Пушкина в это время. Сосланный в 1824 году Александром I в село Михайловское без права выезда оттуда, живя под постоянным надзором властей – государственных и церковных, Пушкин всеми силами стремился вырваться на свободу. Но ни хлопоты друзей, ни прошения самого Пушкина и его матери не имели успеха. Пушкин задумал, получив разрешение на поездку в Ревель (ныне Таллинн) для «операции аневризма», которым он страдал, бежать оттуда за границу. Но его друзья, проведавшие об этом замысле, помешали этому. Он хотел, переодевшись слугой, перебраться за границу, но и эта попытка не удалась. Положение свое Пушкин считал безнадежным, так как он знал упрямство Александра I и его ненависть к себе… И вдруг в начале декабря он получает известие о неожиданной смерти Александра I в Таганроге. Радость по поводу этого события, которое, как он был уверен, сулило ему освобождение (о готовящемся выступлении декабристов Пушкин не знал) и была, видимо, причиной создания «в два утра», как он говорил, этой веселой, беззаботной поэмы.
К тому же в это время (в 1825 году) Пушкин уже вышел из тяжелого, мучительного мировоззренческого кризиса, в котором он находился в 1823–1824 годах. Он понял, что строить свои взгляды на жизнь и требования к ней нужно не на «беспечной вере» в высокие романтические идеалы, а на правильном, трезвом понимании самой жизни, на изучении ее. Но художественный талант поэта превращает обыденность, «прозу жизни» в эстетически волнующие нас поэтические картины. Недаром Пушкин в «Отрывках из Путешествия Онегина», вспоминая свою романтическую поэзию, возвышенные предметы («пустыни, волн края жемчужны, и моря шум, и груды скал»), тут же продолжает:
Иные нужны мне картины: Люблю песчаный косогор, Перед избушкой две рябины, Калитку, сломанный забор, На небе серенькие тучи, Перед гумном соломы кучи, Да пруд под сенью лип густых, Раздолье уток молодых; Теперь мила мне балалайка Да пьяный топот трепака Перед порогом кабака…Такого рода «прозаическими» картинами и наполнена поэма «Граф Нулин»: героиня поэмы впервые появляется не в поэтической обстановке, ночью, при луне (как в романтических поэмах), а в заспанном виде, «в ночном чепце, в одном платочке»; дается описание заднего двора, драки козла с дворовою собакой, изображение индеек и мокрого петуха, бабы, развешивающей белье, и т. п. Звучат такие, небывалые еще в поэме стихи:
В последних числах сентября (Презренной прозой говоря) В деревне скучно, грязь, ненастье…Полтава
В этой поэме, написанной в 1828 году, разрабатывается волновавшая в то время Пушкина государственная тема, вопрос об исторической судьбе русского государства.
По своему сложному строению «Полтава» была не похожа на другие поэмы Пушкина (и современных ему поэтов) и потому осталась непонятой и не оцененной ни современниками, ни позднейшей критикой. Между тем сам Пушкин придавал большое значение этому произведению и был очень огорчен неуспехом его у читателей и критики. «Самая зрелая изо всех моих стихотворных повестей, – писал Пушкин в одной статье, – та, в которой все почти оригинально. <…> «Полтава», которую Жуковский, Гнедич, Дельвиг, Вяземский предпочитают всему, что я до сих пор ни написал, «Полтава» – не имела успеха…»
Сложность поэмы состояла в том, что в ней в пределах одного произведения разрабатывались три разные, но связные между собой темы.
Первая тема – судьба русского государства среди других европейских государств, способность русского народа отстоять свою государственную самостоятельность в борьбе с сильнейшими противниками. Эта тема (борьба непобедимого полководца Карла XII с Петром I) связывалась в сознании Пушкина с недавними близкими ему событиями 1812–1815 годов – нашествием Наполеона и поражением его, «когда падением ославил муж рока свой попятный шаг». Пушкин считал, что, одержав победу в тяжкой борьбе с могучим врагом, Россия доказала свою крепость и силу:
…Но в искушеньях долгой кары, Перетерпев судеб удары, Окрепла Русь. Так тяжкий млат, Дробя стекло, кует булат.Центральным эпизодом этой темы является Полтавский бой, центральным героем ее – Петр I.
Другую тему, тему многонациональности русского государства, Пушкин развивает на примере Украины, поставив в центр образ Мазепы, пытавшегося при помощи шведских войск оторвать Украину от России. В поэме Пушкин (в строгом соответствии с историей) показывает Мазепу не как патриота, борющегося за освобождение своей родины (именно таким изображен Мазепа в романтической поэме Рылеева «Войнаровский»), а как коварного властолюбца, презирающего и свободу и родину.
Пушкин не был бы великим гуманистом, если бы ограничился в своей поэме только поэтическими размышлениями о государстве, восхвалением его мощи и не подумал бы о судьбе отдельной личности, частного человека. Третья тема «Полтавы» – судьба человека, далекого от участия в политических событиях его времени и все же гибнущего, раздавленного колесом истории. Мария – сильная и страстная женщина. Она преодолевает религиозные препятствия (Мазепа, как крестный отец Марии, по религиозным законам не мог быть ее мужем), проклятие родителей, позор в глазах общества и завоевывает себе личное счастье… Но неожиданные для нее грандиозные и страшные исторические события становятся причиной ее гибели. Поместив драматический эпизод встречи сошедшей с ума Марии с Мазепой в конце поэмы, Пушкин придал трагический характер и всей поэме. «Сильные характеры и глубокая трагическая тень, наброшенная на все эти ужасы, вот что увлекло меня», – писал Пушкин в одной заметке.
Создавая эту поэму, вполне реалистическую по своему содержанию и по основной задаче, Пушкин написал ее несколько приподнятым, поэтически украшенным стилем, напоминающим стиль украинских народных песен – «дум». Таково начало поэмы («Богат и славен Кочубей…» – и далее, поэтические сравнения в описании красавицы Марии, стихи «Но серна под утес уходит…» – и далее), монолог Кочубея о трех кладах, звучащие как вставная песня, стихи «Кто при звездах и при луне Так поздно едет на коне?..» и другие.
«Полтаве» предпослано необыкновенно поэтическое, полное глубокого чувства посвящение. Кому оно адресовано, Пушкин не указывает… Наиболее вероятно, что оно относится к сестре друга Пушкина Николая Раевского – Марии, вышедшей замуж за декабриста С. Н. Волконского и после осуждения его поехавшей за мужем в сибирскую каторгу.
Домик в Коломне
Поэма написана в 1830 году, в Болдинскую осень, между 5 и 9 октября, и связана своим содержанием с той литературной борьбой, которую приходилось вести Пушкину в эти годы.
К этому времени Пушкин в значительной степени потерял свою былую популярность и у читателей (которые не умели понять глубокого содержания его зрелых произведений), и у критиков.
Критики упрекали Пушкина в мелкости содержания его поэзии, в отсутствии в них серьезной идеи… Это говорилось и о «Полтаве», и о «Евгении Онегине», а позже и о «Борисе Годунове». За этими упреками скрывалось требование реакционного общества (и правительства), чтобы поэт прославлял существующий режим, военные успехи правительства, воспитывал своими стихами общество в духе традиционной казенно-обывательской морали. В этих требованиях морализации и оценках пушкинской поэзии, как легковесной и даже безнравственной, объединялись критики всех направлений.
Пушкин решительно не принимал этих упреков и считал, что он должен делать свое большое дело независимо от того, что «толпа его бранит и плюет на алтарь», где горит его поэтический огонь[150].
Шутливая, издевательская поэма «Домик в Коломне» была ответом на обвинения поэта в безыдейности, на требования моральных поучений в стихах.
Автор самых глубоких по идейному содержанию произведений, Пушкин отстаивал в то же время для поэзии право на несерьезные, легкие, шутливые темы. «Есть люди, – писал он, – которые не признают иной поэзии, кроме страстной или выспренной…»[151] Он считал более правыми «тех, которые любят поэзию не только в ее лирических порывах или в унылом вдохновении элегии, не только в обширных созданиях драмы или эпопеи, но и в игривости шутки, и в забавах ума, вдохновенных ясной веселостию»[152]. Об упреках в безнравственности его поэзии он писал: «Шутка, вдохновенная сердечной веселостию и минутной игрою воображения, может показаться безнравственною только тем, которые о нравственности имеют детское или темное понятие, смешивая ее с нравоучением, и видят в литературе одно педагогическое занятие…»[153]
Рассказав в своей поэме совершенно анекдотический сюжет (о молодом человеке, нанявшемся под видом кухарки в дом к своей возлюбленной), Пушкин в конце поэмы вводит критика, возмущенного ее содержанием:
…Завидную ж вы избрали дорогу! Ужель других предметов не нашли? Да нет ли хоть у вас нравоученья?«Нет… – отвечает автор, а затем продолжает: – или есть: минуточку терпенья…» – и, перечислив ряд издевательских «моральных выводов» из своей поэмы, заключает:
Больше ничего Не выжмешь из рассказа моего.Полемический характер носит и непропорционально длинное вступление, где Пушкин рассуждает о технических вопросах стихотворного искусства: о рифмах, о стихотворных размерах, о цезуре, о трудности выбранной им строфической формы – октавы…[154] Сами по себе эти рассуждения очень интересны, несмотря на их шутливую форму, но вне полемической цели, всерьез, Пушкин никогда не стал бы отдавать им столько места в стихотворном произведении. Известно его отрицательное отношение к писателям, которые «полагают слишком большую важность в форме стиха, в цезуре, в рифме, в употреблении старинных слов, некоторых старинных оборотов и т. п. Все это хорошо, но слишком напоминает пеленки и гремушки младенчества…»[155]
Однако в этом легкомысленно-веселом, с первого взгляда, произведении – «Домике в Коломне» – то и дело неожиданно прорываются ноты глубокой грусти и горечи. Прервав с самого начала свой рассказ о «смиренной лачужке», где жила вдова с дочерью (строфа IX), Пушкин переходит к размышлениям – сначала грустным, затем все более горьким и озлобленным: он должен усыплять или давить в сердце «мгновенно прошипевшую змию»… Поэт мрачной шуткой отбрасывает эти мысли:
Я воды Леты пью, Мне доктором запрещена унылость; Оставим это, – сделайте мне милость!..Второй раз прерывается рассказ грустным отступлением после XX строфы, где рассказывается о прекрасной, молодой и богатой графине и о том, что скрывалось за ее гордостью и величавостью:
…Но сквозь надменность эту я читал Иную повесть: долгие печали, Смиренье жалоб…Этот эпизод никак не связан с сюжетом «Домика в Коломне», но он, как и предыдущий, приоткрывает подлинный характер с виду «легкомысленной» повести Пушкина, за веселым, шутливым рассказом которой чувствуется грустная, огорченная и озлобленная душа поэта… Описания Коломны (так называлось тогда одно из предместий Петербурга), образы ее жителей и их мещанского быта, несмотря на шутливый сюжет, даны с необыкновенной реалистической верностью, наблюдательностью и поэтичностью. Они пополняют ту обширную картину русской жизни, которую создал в своих реалистических произведениях Пушкин.
Медный всадник
Поэма написана в 1833 году и представляет собою одно из самых глубоких, смелых и совершенных в художественном отношении произведений Пушкина. Поэт в нем с небывалой силой и смелостью показывает противоречия общественной жизни во всей их наготе, не стараясь их искусственно примирять там, где они непримиримы в самой действительности. В «Медном всаднике» в обобщенной образной форме противопоставлены две силы: государство, олицетворенное в образе Петра I (а затем в символическом образе ожившего памятника, «Медного всадника», и простой человек в его личных, частных интересах и переживаниях. В поэме вдохновенными стихами прославляются «великие думы» Петра, его творенье – «град Петров» (Петербург), новая столица русского государства, выстроенная в устье Невы, «под морем», «на мшистых, топких берегах», из соображений военно-стратегических («отсель грозить мы будем шведу»), экономических («сюда по новым им волнам все флаги в гости будут к нам») и для установления культурной связи с Европой («природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно»). Поэт без всяких оговорок восхваляет великое государственное дело Петра, созданный им прекрасный город, «полнощных[156] стран красу и диво».
Но эти государственные соображения Петра оказываются причиной гибели ни в чем не повинного Евгения, простого, обыкновенного человека. Он не герой, но он умеет и хочет трудиться («…я молод и здоров, трудиться день и ночь готов»). Он смел во время наводнения. «Он страшился, бедный, не за себя»: он «дерзко» плывет в лодке по «едва смирившейся» Неве, чтобы узнать о судьбе своей невесты. Несмотря на бедность, Евгению дороже всего «независимость и честь». Он мечтает о простом человеческом счастье: жениться на любимой девушке и скромно жить своим трудом.
Наводнение, показанное в поэме, как бунт покоренной, завоеванной стихии против Петра, губит его жизнь: Параша погибает, а он сходит с ума. Петр в своих великих государственных заботах не думал о беззащитных маленьких людях, принужденных жить под угрозой гибели от наводнения.
Трагическая судьба Евгения и глубокое горестное сочувствие ей поэта выражены в «Медном всаднике» с громадной силой и поэтичностью. А в сцене столкновения безумного Евгения с Медным всадником, его пламенного, мрачного протеста, злобной угрозы «чудотворному строителю» от лица жертв этого строительства язык поэта становится таким же высокопатетическим, как в торжественном «Вступлении» к поэме.
Заканчивается «Медный всадник» скупым, сдержанным, нарочито прозаическим сообщением о гибели Евгения:
Наводненье Туда, играя, занесло Домишко ветхий. … Его прошедшею весною Свезли на барке. Был он пуст И весь разрушен. У порога Нашли безумца моего, И тут же хладный труп его Похоронили ради Бога.Никакого эпилога, возвращающего нас к первоначальной теме величественного Петербурга, – эпилога, примиряющего нас с исторически оправданной трагедией Евгения, Пушкин не дает. Противоречие между полным признанием правоты Петра I, не могущего считаться в своих государственных «великих думах» и делах с интересами отдельного человека, и полным же признанием правоты всякого человека, требующего, чтобы с его интересами считались, – это явное противоречие остается неразрешенным в поэме…
Пушкин был вполне прав и проявил большую смелость, не боясь открыто демонстрировать это противоречие. Ведь оно заключалось не в его мыслях, не в его неумении разрешить его, а в самой жизни. Это – противоречие между благом государства и счастьем отдельной личности, противоречие, которое в той или иной форме неизбежно, пока существует государство…
В художественном отношении «Медный всадник» представляет собою чудо искусства. В предельно ограниченном объеме (в поэме всего 481 стих) заключено множество ярких, живых и высокопоэтических картин. Таковы отдельные образы (во «Вступлении»), из которых составляется цельный, величественный образ Петербурга; насыщенное силой и динамикой, из ряда частных картин слагающееся описание наводнения; удивительное по поэтичности и яркости изображение бреда безумного Евгения.
Отличают «Медного всадника» от других пушкинских поэм необычайная гибкость и разнообразие его стиха, то торжественного и слегка архаизированного, то предельно простого, разговорного, но всегда поэтичного.
Особый характер придает поэме применение приемов почти музыкального строения образов: повторение с некоторыми вариациями одних и тех же слов и выражений (сторожевые львы над крыльцом дома, образ памятника Петру, «кумира на бронзовом коне»); проведение через всю поэму в разных изменениях одного и того же тематического мотива – дождя и ветра, Невы (в бесчисленных ее аспектах и т. п.), не говоря уже о прославленной звукописи этой удивительной поэмы.
С. БондиПримечания
1
Николай Николаевич Раевский – друг Пушкина в молодые годы.
(обратно)2
Цифрами в скобках отмечены слова, к которым есть примечания Пушкина; эти примечания помещены в конце поэм.
(обратно)3
Парнас – в древнегреческой мифологии гора, на которой живут музы.
(обратно)4
Бранный – военный.
(обратно)5
Предел – край, страна.
(обратно)6
Ланиты – щеки.
(обратно)7
Елень – олень (ст. – слав.).
(обратно)8
Длань – ладонь, рука (ст. – слав.).
(обратно)9
Пищаль – ружье.
(обратно)10
Шелом – шлем.
(обратно)11
Сирый – сиротливый, одинокий.
(обратно)12
Железы – цепи, кандалы.
(обратно)13
Пени – жалобы, упреки.
(обратно)14
Сайгак – степная антилопа.
(обратно)15
Заветные воды – пограничная река Кубань.
(обратно)16
Противные – противоположные, находящиеся на
другом берегу.
(обратно)17
Днесь – теперь (ст. – слав.).
(обратно)18
Се – вот (ст. – слав.).
(обратно)19
Цицианов, Котляревский, Ермолов – русские генералы, участники завоевания Кавказа и кровавого усмирения непокорных горцев.
(обратно)20
Батый – татарский хан, возглавлявший нашествие монголо-татар на Русь в XIII веке.
(обратно)21
Кистень – обычное оружие разбойников: короткая дубинка с железным концом, подвешенная на ремне к кисти руки.
(обратно)22
Денница – утренняя заря.
(обратно)23
Сади или Саади – знаменитый персидский поэт XIII века.
(обратно)24
Янтарь – здесь: янтарный мундштук кальяна (восточного курительного прибора).
(обратно)25
Гяур – турецкое бранное название христианина.
(обратно)26
Явор – белый клен.
(обратно)27
Эвнух или евнух, – сторож гарема, надзиратель ханских жен.
(обратно)28
Коран – священная книга магометан.
(обратно)29
Шербет – сладкий фруктовый напиток.
(обратно)30
Факир – здесь: магометанский монах.
(обратно)31
Мекка – священный город магометан, родина Магомета.
(обратно)32
Брег Дуная. – Берег Дуная был местом постоянных войн турок и крымских татар с Россией.
(обратно)33
Почиют мощи – лежат кости погребенных.
(обратно)34
Бахчисарай – столица Крымского ханства.
(обратно)35
Таврида – старинное название Крыма.
(обратно)36
Кивот или киот – открытый шкафик для икон.
(обратно)37
Эдем – рай, место, где, по магометанским и христианским верованиям, обитают души праведных и ангелы.
(обратно)38
Алкоран – то же, что Коран, – священная книга магометан.
(обратно)39
Серп луны – священный символ (знак) магометанской религии; крест – символ христианской.
(обратно)40
Салгир – река в Крыму.
(обратно)41
Таврические волны – волны Черного моря, омывающие Тавриду (Крым).
(обратно)42
Аю-даг – гора в Крыму.
(обратно)43
Волынка – народный духовой инструмент.
(обратно)44
Предрассуждения – предрассудки.
(обратно)45
Полдень – юг. Здесь говорится о древнеримском поэте Овидии Назоне, сосланном на берег Дуная и умершем в ссылке.
(обратно)46
Куща – палатка, шатер.
(обратно)47
Кагул – река и город в Бессарабии.
(обратно)48
Буджак – южная часть Бессарабии, в XVIII веке принадлежавшая Турции.
(обратно)49
Паша – титул высших турецких сановников.
(обратно)50
Аккерман – в XVIII веке турецкая крепость в Бессарабии.
(обратно)51
Стамбулу русский указал. – Бессарабия долго была театром русско-турецких войн. В 1812 году там была установлена граница между Россией и Турцией.
(обратно)52
Чекмень – короткий кафтан, перехваченный в талии.
(обратно)53
После французской революции (1789–1794) множество французов эмигрировало в Россию. Здесь они открывали школы и пансионы для дворянских детей.
(обратно)54
Ну, смелей! (фр.)
(обратно)55
Пикар (французская фамилия).
(обратно)56
Ажурный, кружевной (фр.).
(обратно)57
Гизот (правильнее: Гизо) – французский историк и либеральный политический деятель.
(обратно)58
Вальтер Скотт – знаменитый английский писатель.
(обратно)59
Остроты (фр.).
(обратно)60
Беранжер (правильнее: Беранже) – французский поэт (1780–1857), автор политических стихотворений и песенок.
(обратно)61
Россини, Пер (правильнее: Паэр) – итальянские оперные композиторы.
(обратно)62
И так далее (лат.).
(обратно)63
Это очень плохо, просто жалко (фр.).
(обратно)64
Тальма – знаменитый французский трагический актер.
(обратно)65
Мамзель Марс – французская трагическая актриса.
(обратно)66
Великий Потье! (фр.) – французский комический актер.
(обратно)67
d’Arlincourt (Дарленкур) – французский второстепенный писатель, автор популярных романов. Ламартин – французский поэт-романтик.
(обратно)68
«Телеграф» – журнал «Московский телеграф», в котором помещались картинки модных платьев.
(обратно)69
Водевиль – здесь: веселая песенка из легкой театральной комедии (так называемого водевиля).
(обратно)70
Щипцы с пружиной служили для того, чтобы снимать нагар со свеч.
(обратно)71
По древнеримской легенде, сын римского царя Тарквиний обесчестил красавицу Лукрецию, после чего она закололась.
(обратно)72
Мощь и слава войны, Как и люди, их суетные поклонники, Перешли на сторону торжествующего царя.Байрон. – Англ. (Из поэмы «Мазепа».)
(обратно)73
Муж рока – Наполеон. В 1812 году он шел на Москву тем самым путем, что и Карл XII.
(обратно)74
Богдан Хмельницкий – украинский гетман (глава государства), боровшийся в XVII веке против притязаний панской Польши на Украину.
(обратно)75
Цифр (иначе: шифр) – секретная запись.
(обратно)76
Очаков – тогда турецкая крепость; паша́– высший турецкий сановник.
(обратно)77
Иуда – предатель, изменник. По Евангелию, один из учеников (апостолов) Иисуса Христа – Иуда Искариот выдал Христа римским властям за тридцать сребреников.
(обратно)78
Белый царь – русский царь.
(обратно)79
Белая Церковь – местечко недалеко от Киева.
(обратно)80
Клеврет – соучастник, помощник.
(обратно)81
Забела, Гамалей – украинские деятели конца XVII века, друзья и помощники Мазепы.
(обратно)82
Громада войсковая – казачье войско.
(обратно)83
Лики – церковные хоры.
(обратно)84
Чепрак – коврик под седлом.
(обратно)85
Елей таинственный течет – церковный обряд, помазание елеем (освященным маслом), совершается только над умирающими.
(обратно)86
Хитрый кардинал – кардинал Монтальто (XVI век). Больной, ходивший на костылях, он был выбран на папский престол (под именем Сикста V) кардиналами, которые думали, пользуясь его слабостью, распоряжаться сами делами Католической церкви. Но тотчас после выборов оказалось, что болезнь его была притворной.
(обратно)87
Анафема – церковное проклятие.
(обратно)88
Рада – народное собрание.
(обратно)89
Розен, Шлипенбах – шведские генералы.
(обратно)90
Полудержавный властелин – Меншиков, ближайший соратник и советник Петра I.
(обратно)91
Бразды – уздечки, удила.
(обратно)92
Войнаровский – племянник и ближайший соратник Мазепы.
(обратно)93
Драбанты – военная стража.
(обратно)94
Бендеры – город в Бессарабии, куда бежал Карл XII после Полтавской битвы.
(обратно)95
Раскаты – крепостные сооружения.
(обратно)96
Сусанна – по библейскому преданию, добродетельная оклеветанная еврейка. Приговоренная к смерти, она была спасена пророком Даниилом, изобличавшим клеветников во лжи.
(обратно)97
Московский император, проникнутый радостью, которую он не давал себе труда скрывать… принимал на поле битвы пленников, которых ему приводили толпой, и то и дело спрашивал: «А где же мой брат Карл?»………………….. Тогда, взяв стакан вина, он сказал: «За здоровье моих учителей в военном искусстве!» Реншильд спросил его, кого он почтил таким славным титулом. «Вас, господа шведские генералы», – ответил царь. «В таком случае ваше величество очень неблагодарны, – ответил граф, – вы так дурно обошлись со своими учителями» (фр.).
(обратно)98
Четырехстопным ямбом написаны Пушкиным «Евгений Онегин» и девять поэм из двенадцати.
(обратно)99
Октава – см. комментарии к «Домику в Коломне».
(обратно)100
Шихматов богомольный – князь А. А. Ширинский-Шихматов, плохой поэт, писавший высокопарным языком; стал впоследствии монахом. Он славился тщательностью рифмовки (избегал глагольных рифм).
(обратно)101
Сволочь – в языке того времени значило «сброд». Метафорическое выражение из мелкой сволочи вербую обозначает: «набираю войско из всякого сброда».
(обратно)102
Женские и мужеские слоги – то есть рифмы «женские» (с ударением на предпоследнем слоге) и «мужские» (с ударением на последнем слоге).
(обратно)103
Тамерлан – знаменитый монгольский завоеватель XIV века.
(обратно)104
Каламбурное использование картежного термина (пустить на пе – значит вчетверо увеличить ставку) – то есть «рифмовать на «пе»: «стопе», «канапе» (канапе – диван).
(обратно)105
Цезура – раздел между словами, обязательный после определенного количества слогов (или стоп): в шестистопном ямбе – после шестого слога (третьей стопы); в пятистопном ямбе (которым написан «Домик в Коломне») Пушкин до 1830 года делал обязательную цезуру после четвертого слога («на второй стопе»). С 1830 года Пушкин отказался от этого правила.
(обратно)106
Парнасский иноходец – шутливое обозначение Пегаса, в греческой мифологии – крылатого коня, символа поэтического вдохновения. Парнас – гора, на которой живут музы и течет выбитый копытом Пегаса ключ вдохновения (Кастальский ключ, или Иппокрена).
(обратно)107
Феб (Аполлон) – бог солнечного света, целитель и прорицатель, покровитель искусств.
(обратно)108
За самой будкой. – Имеется в виду полосатая будка, в которой дежурил полицейский (будочник).
(обратно)109
Лета – в греческой мифологии река забвения.
(обратно)110
Рембрандт – великий голландский художник XVII века. Часто изображал бытовые сцены и характерные фигуры горожан.
(обратно)111
Эмин – второстепенный прозаик XVIII века. В XIX веке его романы пользовались успехом только у читателей-мещан.
(обратно)112
«Стонет сизый голубочек» (слова И. И. Дмитриева) и «Выйду ль я на реченьку» (слова Ю. А. Нелединского-Мелецкого) – широко популярные сентиментальные песни.
(обратно)113
Диана – здесь: луна. В древнеримской мифологии Диана – богиня луны.
(обратно)114
Фортуна – римская богиня счастья, случая, судьбы и удачи.
(обратно)115
Фимиам – ароматный дым, который курится перед изображениями божества в знак поклонения ему. Мода ей несла свой фимиам – было модным преклоняться, восхищаться ею.
(обратно)116
Гоффурьер – старший придворный лакей (нем.).
(обратно)117
Охта – пригород Петербурга. На Охтенском кладбище хоронили бедняков.
(обратно)118
Все флаги – корабли со всех стран.
(обратно)119
Порфироносная (то есть носящая порфиру, царскую мантию) вдова – вдова умершего царя.
(обратно)120
Адмиралтейская игла – золоченый шпиль на здании Адмиралтейства в Петербурге.
(обратно)121
Потешный – связанный с играми, зрелищами (главным образом, военными). Пушкин говорит о военных парадах, происходивших ежегодно в Петербурге на Марсовом поле – громадной площади – в центре города.
(обратно)122
Твердыня – Петропавловская крепость, с которой в случаях особо торжественных или опасных (наводнение, ледоход на Неве) производили пушечные выстрелы.
(обратно)123
Полнощная – северная. Полнощная царица – русская царица.
(обратно)124
С ним (именем Евгений) давно мое перо к тому же дружно – намек на роман «Евгений Онегин», который Пушкин писал в течение почти восьми лет.
(обратно)125
Мосты на Неве в то время были только плавучие (пантонные). Во время наводнений и ледоходов их разводили и переправа через Неву прекращалась.
(обратно)126
Петрополь – по-гречески город Петра, то есть Петербург. Тритон – в греческой мифологии морское божество. Обычно изображался высунувшимся из воды верхней частью тела.
(обратно)127
Покойный царь – Александр I. Он умер в ноябре 1825 года.
(обратно)128
Стогны – площади (ст. – слав.).
(обратно)129
Петровская площадь – площадь на берегу Невы, где стоит памятник Петру I (позже Сенатская площадь, ныне площадь Декабристов).
(обратно)130
Кумир – в языке Пушкина значит статуя.
(обратно)131
Багряница – царский плащ или мантия красного (багряного) цвета. Возможно, что Пушкин здесь намекает на материальную помощь, оказанную Александром I пострадавшим от наводнения.
(обратно)132
Хвостов – бездарный стихотворец, напечатавший «Послание о наводнении Петрополя». Хвалебные выражения Пушкина о Хвостове и его стихах носят явно издевательский характер.
(обратно)133
Челобитчик – проситель, истец.
(обратно)134
Ради Бога – то есть бесплатно.
(обратно)135
Альгаротти – итальянский писатель XVIII века. Его слова в изданных им письмах о России, куда он приезжал в 1739 году: «Петербург – это окно, через которое Россия смотрит в Европу» (фр.).
(обратно)136
В стихотворении Вяземского «Разговор 7 апреля 1832 г.», посвященном графине Завадовской, есть такие стихи:
Я Петербург люблю с его красою стройной, С блестящим поясом роскошных островов, С прозрачной ночью, дня союзницей беззнойной, И с свежей зеленью младых его садов. (обратно)137
Олешкевич – польский художник.
(обратно)138
Милорадович – петербургский военный генерал-губернатор. Был убит на Сенатской площади во время декабрьского восстания. Бенкендорф – будущий шеф жандармов, начальник политической полиции.
(обратно)139
Свобода! он одной тебя Еще искал в пустынном мире… ……………………. И с верой, пламенной мольбою Твой гордый идол обнимал.(«Кавказский пленник»)
(обратно)140
Паситесь, мирные народы! Вас не пробудит чести клич, К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь. Наследство их из рода в роды Ярмо с гремушками да бич.(«Свободы сеятель пустынный…», 1823)
(обратно)141
Придаток, привесок (фр.).
(обратно)142
Теперь Днепропетровск.
(обратно)143
Эпиграф «Бахчисарайского фонтана» взят из поэмы персидского поэта XIII века Саади «Бустан»: «Многие так же, как и я, посещали сей фонтан, но иных уже нет, другие странствуют далече».
(обратно)144
То есть «Гаремом».
(обратно)145
То есть «так же, как и он».
(обратно)146
Приятель Пушкина.
(обратно)147
Последние две с половиной строки Пушкин в статье не привел, написав «etc.», то есть «и так далее».
(обратно)148
«…Мы робки и добры душою, Ты зол и смел – оставь же нас», —говорит старый цыган чужаку Алеко, убившему свою жену и молодого цыгана, ее возлюбленного.
(обратно)149
…с этих пор Постыли мне все девы мира; Меж ими никогда мой взор Не выбирал себе подруги, И одинокие досуги Уже ни с кем я не делил. (обратно)150
См. стихотворение «Поэту».
(обратно)151
Статья «Путешествие В. Л. П[ушкина]».
(обратно)152
Там же.
(обратно)153
Статья «Опровержение на критики».
(обратно)154
Октава – строфа в восемь стихов, где первый стих рифмуется с третьим и пятым; второй – с четвертым и шестым; седьмой стих рифмуется с восьмым. Трудность этой строфы состоит в необходимости подбирать каждый раз не по два рифмующихся слова (как обычно), а по три, что по свойству русского языка не так легко.
(обратно)155
Рецензия на французскую книгу «Жизнь, поэзия и мысли Жозефа Делорма».
(обратно)156
То есть северных.
(обратно)








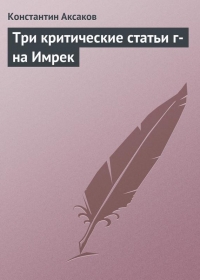


Комментарии к книге «Поэмы», Александр Сергеевич Пушкин
Всего 0 комментариев