Михаил Юрьевич Лермонтов Стихотворения
© Издательство «Детская литература». Оформление серии, составление, комментарии, 2001
© В. Троицкий. Вступительная статья, 2001
© В. Третьяков. Иллюстрации, 2001
* * *
Поэзия тревожной мысли
Нет поэта XIX века, который бы так овладевал умами в школьные годы, как М. Ю. Лермонтов. Гениальная простота пушкинской мысли, гражданский пафос Н. Некрасова в полной мере оцениваются несколько позже, позже приходит и то чувство благоговения и восхищения, которое внушают поэтические произведения этих поэтов. «Педагогический успех поэзии Лермонтова, – писал В. О. Ключевский, – может показаться неожиданным… После старика Крылова, кажется, никто из русских поэтов не оставил после себя столько превосходных вещей, доступных воображению и сердцу учебного возраста…»[1]
Лермонтов обычно покоряет молодежь сразу. И этому есть свои причины, не ведая которых невозможно в должной мере научить верно понимать и чувствовать лермонтовскую художественную мысль, правильно и глубоко оценить значение поэта.
Молодежь привлекает неподражаемая лермонтовская музыкальность стиха, которая заставляет вновь и вновь повторять впервые услышанные строки:
Белеет парус одинокой В тумане моря голубом…или
Русалка плыла по реке голубой, Озаряема полной луной, И хотела она доплеснуть до луны Серебристую пену волны…Покоряет Лермонтов и страстной порывистостью ораторской речи, непосредственной свежестью и силой чувства, яркой живописностью картин. Но более всего действует на читателя беспокойная и тревожная лермонтовская мысль. Она всегда находит отзвук в уме юноши, ждущем ответа на вопросы жизни, в его уме, полном жажды самоутверждения… А между тем, как правило, масса вопросов, рождающихся в юности, не получает своевременно убедительного ответа, многие чувства, только что зарождающиеся в это время, не находят достаточного отклика. Это и понятно: их так много, что невозможно насытить их. Зачастую в том непокорном возрасте, когда мир открывается и манит чем-то неизведанным и прекрасным, юноша не может сразу верно пережить прозу жизни, понять поэзию обыденности.
Столкнувшись с Лермонтовым, он приближает его чувства и мысли, рожденные определенной эпохой, определенным взглядом на конкретно-исторические события, к своему состоянию и находит много общего. Он берет их, не задумываясь над тем, почему они рождены поэтом и что они значили…
…Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?.. …Любить… но кого же?.. на время – не стоит труда… …«Зачем я не птица, не ворон степной, Пролетевший сейчас надо мной?..»И во многих его стихотворениях («Тучи», «Парус» и др.) все проникнуто вопросами. Они настойчиво требуют разрешения. В лермонтовских произведениях юноша находит созвучие неудовлетворенной мысли и чувству. В Лермонтове он находит поддержку и тогда, когда его не поняли, не оценили, не разобрались в его намерениях, когда он пытается отстоять право на самостоятельность мысли среди многочисленных (особенно неумелых) воспитателей. Во всем этом необычайная сложность воздействия поэзии Лермонтова. Помогая формироваться самостоятельной личности, поэзия Лермонтова нередко тормозит или ограничивает воздействие на нее воспитателей.
Однако же недостаточно наглядно объяснять причины настроений, которые владели поэтом, необходимо подняться до общефилософской значимости выраженных им мыслей о смысле бытия, о назначении человека, о счастье, о любви и свободе. Как понимал он все это? Разве это не самое главное в мироощущении поэта?
Между тем именно последнего нет при изучении Лермонтова в школе. Не отличается глубиной анализа изучение лермонтовской лирики и в старших классах, где ограничиваются самыми общими указаниями на идейно-тематический смысл его произведений. Философские искания поэта остаются в стороне.
Так, при восприятии лермонтовских стихов нередко пренебрегают философской семантикой слова, и смысл, заключенный в этих стихах, искажается. Мы имеем в виду прежде всего образ самого поэта, отличающийся трагизмом извечного одиночества, возможного лишь вне текущего времени, в абсолюте. Таким образом, вечность изначально присуща образу поэта как данность; его безусловная независимость от мира ставит его как бы вне исторического времени.
Память о прошлом здесь – всегда память о том, на чем застыл отблеск вечности.
«Бедный странник меж людей» («Д-ву»), «…не знал он друга», «не знает горячих страстей» («Портрет») и участия («К NN»), для него «весь мир и пуст и скучен» («Элегия»), «ничто души не веселит» («Монолог»); «в одиночестве влачащий оковы жизни» («Одиночество»), любящий «мучения земли» («1830, мая 13 числа»), «ничью не радуя любовь и злобы не боясь ничьей» («К ***»), «он возвещает миру все, но сам – сам чужд всему, земле и небесам» («Кто в утро зимнее…») и т. д.
Все это как бы переводит лермонтовские образы в ранг космически-всемирных или судимых с позиции вечности. Такая оценка возникала на грани двух взглядов на мир – религиозного (небесного) и нигилистического (земного), на разломе эпох, когда религиозная идеология во взглядах на бытие сталкивалась с социально-политической, и перед человеком, не искушенным в диалектике жизни, вставал вопрос выбора: или – или; земное или небесное, страсть или холодное равнодушие, зависимость от людей или свобода. Так выстраивался смысловой ряд: небесное – холодное равнодушие – свобода – вечность. Этот симпатический ряд должен был завершаться отрицанием земного, страстей, привязанностей, земных законов, то есть всего чуждого вечности. И в этом отрицании таились семена нигилизма. Поэтому вся логика движения поэтической мысли вела Лермонтова к «Демону», с одной стороны (вызов небесному идеалу), и с другой – к «Герою нашего времени» (вызов земным правилам, принятым как общественное благоустановление). Отсюда проясняется и смысл последнего лермонтовского романа…
Лермонтов дал примеры удивительно полного сокровенно-космического переживания мира. В его «Ангеле» (1831), стихотворениях «Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва» (1839), «Выхожу один я на дорогу…» (1841) и других это переживание достигает как бы вершины поэтической выразительности. Мы осознаем это, лишь вникая в глубину смысла лермонтовских стихов. Как зримо и многосмысленно здесь каждое слово!
Выхожу один я на дорогу; Сквозь туман кремнистый путь блестит…Так возникает перед нами картина пустынной, неотчетливо видимой тропы с проглядывающейся далеко сквозь туман каменистой (кремнистой) поверхностью. Но в нашем мысленном видении в связи с этой зримо-конкретной картиной должны возникнуть настроения и мысли, свойственные миропредставлениям тех лет, когда религиозное сознание определяло существенные черты всякого мировоззрения. Это подспудно (или подсознательно) возникающие представления о жизненном пути человека… Кремнистый (каменистый, трудный) путь блестит в тумане времени под бледным светом луны… Мысль стремится далее по тропинке ассоциаций: в удивительном умиротворении представляется нашему внутреннему взору величие звездного пространства с мерцающими одна другой звездами на огромном небосводе и в непонятной тишине, такой тишине, которая кажется немыслимой в мире, где все по-земному живет, движется и звучит.
Однако ж здесь все как бы замерло, покорное чьей-то воле, застывшее перед великолепием Божьего мира. Все внемлет Богу. Мы невольно подчиняемся этой тишине, облекаемся ею, уходим мыслью от земной суеты в непостижимое, всеобъятное пространство, в котором, однако, все стройно. Последнее слово, отражая суть картины, порождает новый ряд ассоциаций: стройно – строить – устроить… Как все это удивительно устроено – возникает в подсознании мысль… И невольно начинают роиться вопросы: кем? когда? зачем? И ощущение прекрасного божественного строения видимого мира овладевает нами. Атеист здесь воспримет все подобно верующему; только слово «божественное» он истолкует как «великолепное». Чем далее, тем выше как бы поднимаемся мы вслед за мыслью поэта.
В вышине торжественно и чудно…Здесь чисто физическое земное ощущение высоты и одновременно как бы ощущение высоты духовного мира. Что значит «торжественно»? Чье это торжество? «И чудно…» Чудно – чудесно – чудо!.. Чудесное торжество, чудо торжества… И голубое сияние. И сияющая в потоке голубого света Земля…
Но откуда это странное, не торжественное ощущение боли, одиночества и чего-то непреодолимо-неопределенного? Что трудно? Быть трудно? Ощущать себя частью неведомого мира в преддверии кремнистого пути жизни? Волноваться неясными предчувствиями?
Жду ль чего? Жалею ли о чем?О чем можно жалеть, если бездна тайн и тайна бездны окружает того, кто пришел в жизнь и смог ощутить бесконечность ее времени и пространства?
Уж не жду от жизни ничего я, И не жаль мне прошлого ничуть; Я ищу свободы и покоя!..Только ли от житейских бурь? Наверно, и от них. Но не только. Свободы, чтобы познать самую сокровенную причину тех волнений, страстей и терзаний, которые испытывает душа. Покоя – потому, что нет надежды на разгадку причины… А не разгадывать, не решать – значит, и не жить. Поэтому —
Я б хотел забыться и заснуть!..Именно! «Заснуть» – не умереть; заснуть, чтобы по-прежнему ощущать гармонию мира и не терзать душу бесплодными вопросами. Заснуть, ибо во сне ум спит, сердце – живет…
Но не тем холодным сном могилы… Я б желал навеки так заснуть, Чтоб в груди дремали жизни силы, Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь; Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, Про любовь мне сладкий голос пел, Надо мной чтоб, вечно зеленея, Темный дуб склонялся и шумел.Воистину – здесь не только картины природы, но целая философия, вечная и великая драма человека, отраженная в живой картине мировой гармонии.
Лермонтов пронзительно выразил острую жажду действия и борьбы, скованных сознанием бесплодности одиноких усилий. В его поэзии властно зазвучали мотивы решительного отрицания жестокой социальной действительности, горькое ощущение одиночества и обнаженная исповедь души, отчаявшейся найти смысл земного бытия, сокровенный патриотизм и порыв к неземному идеалу, наконец, недолгое окаменение чувств и то внешнее «равнодушие», которое скрывает находящийся на пределе страстный протест и таящуюся в глубине души тоску по гармонии, надежде, любви… Напряженная лермонтовская мысль мучительно искала источников высокого духовного просветления, и они наиболее полно воплотились в поэтических образах свободолюбивой и вдохновенной личности (Кавказский пленник, Вадим, Измаил-бей, Арсений, купец Калашников, Мцыри и др.), в картинах природы и милой его сердцу Родины, в мотивах воссозданного его воображением небесного мира.
Но чем более вникаем мы в художественные создания поэта, чем пристальней вдумываемся в наброски его поэтических замыслов и заметок, тем определенней вырисовывается перед нами его внутренний мир, проникнутый национальным духом. Это убежденно и страстно выразил и сам Лермонтов:
Нет, я не Байрон, я другой, Еще неведомый избранник, Как он, гонимый миром странник, Но только с русскою душой. (1830)К чему бы ни обращался поэт, какие бы картины ни рисовало его художественное видение, они проникнуты живою полнотою понимания и сочувствия всему человечеству, свойственных русской натуре. Поэтому так осязаемы и душевны произведения, в которых воссоздается, казалось бы, незнакомый поэту мир: «Венеция» (1830), «Ветка Палестины» (1837), «Три пальмы» (1839) и другие. Поэтому с таким глубоким интересом и ощущением изначального родства воспринимает поэт иноплеменников, с любовью рисуя романтическими красками сынов Кавказа, что «как вольные птицы живут беззаботно»[2], и природу этой чудесной страны («…все, все в этом крае прекрасно»)[3], и так свободно развивает в своих поэмах близкую его судьбе кавказскую тему («Черкесы», 1828; «Кавказский пленник», 1828; «Каллы», 1830–1831; «Измаил-бей», 1832; «Аул Бастунджи», 1833–1834; «Хаджи-абрек», 1839; «Беглец», конец 1830-х годов; «Мцыри», 1839). Поэтому тревожною скорбью отзываются стихотворения, в которых господствует мысль, «сталкивающая» желаемый и реальный образ русской действительности («Русская мелодия», 1829; «Предсказание», 1830; «Бородино», 1837; «Дума», 1838; «Родина», 1841, и др.), мысль, отразившаяся во всем творчестве поэта, в его взглядах, настроениях, пристрастиях, горьких раздумьях и в прорывающейся сквозь них нежной любви к Отчизне.
Тема России и исторической судьбы русского человека всю жизнь сопутствует поэтическим размышлениям Лермонтова. Образы Отечества – от первых стихов, запечатлевших картины русской осени («Осень», 1828), до проникнутого как бы молитвенным настроением стихотворения «Родина» и полного мучительных раздумий над судьбою целого поколения романа «Герой нашего времени» (1841), – неизменно определяют пафос лермонтовского творчества.
Пятнадцатилетним юношей записывает Лермонтов стихотворение «Русская мелодия», где национальный колорит, настроения, образы поражают удивительной рельефностью. В следующем году он создает начало поэмы «Олег», своеобразный исторический этюд в стихах, в котором на фоне стилизованных картин Древней Руси предстает перед читателем могучий «владетель русского народа». «Тени сильных», древние герои волнуют поэта:
Я зрел их смутною душой, Я им внимал неравнодушно. На мне была тоски печать, Бездействие терзало совесть, И я решился начертать Времен былых простую повесть.Уже здесь наличествует характерное для Лермонтова противопоставление «деятельного» героического прошлого России и бездеятельности современного ему поколения, мотив, так много значащий в понимании творчества поэта…
В том же году – вновь обращение к великому былому Отечества. Тот же надрывный тон слышится в посвящении к повести «Последний сын вольности» (1830):
Прими ж, товарищ, дружеский обет, Прими же песню родины моей, Хоть эта песнь, быть может, милый друг, — Оборванной струны последний звук!..Первой части предшествует эпиграф из байроновского «Гяура»: «When shall such hero live again?» («Когда такой герой будет жить вновь?») Эта ключевая мысль открывает, как увидим далее, одну из тайн зрелого Лермонтова… В повести возникают картины древности: Русский Север, чистые воды славянских рек и «гордость людей», которые
Не перестали помышлять В изгнанье дальном и глухом, Как вольность пробудить опять; Отчизны верные сыны Еще надеждою полны…Образы великого прошлого Отчизны овладевают творческой мыслью поэта… Год спустя он записывает несколько замыслов и сюжетов из отечественной истории: шутливую поэму о приключениях богатыря, сказочную историю любви и подвигов молодого витязя, живущего при дворе князя Владимира, и другие.
Эти замыслы свидетельствовали о направлении творческих интересов и устремлений Лермонтова.
Захваченный русской тематикой, поэт обращается к народному творчеству и приходит к убеждению, что поэзию народную нужно искать нигде «как в русских песнях». «Как жаль, – сетует он, – что у меня была мамушкой немка, а не русская – я не слыхал сказок народных, – в них, верно, больше поэзии, чем во всей французской словесности»[4]. И вместе с тем как удивительно тонко передает Лермонтов мелодику и характерную образность национальной песни («Русская песня», 1830; «Атаман», 1831; «Воля», 1831; «Песня», 1831, и др.), как проникновенны его стихотворения о родном крае!
Прекрасны вы, поля земли родной, Еще прекрасней ваши непогоды; Зима сходна в ней с первою зимой, Как с первыми людьми ее народы!.. Туман здесь одевает неба своды, И степь раскинута лиловой пеленой, И так она свежа, и так родня с душой, Как будто создана лишь для свободы… (1831)Образы России вновь и вновь возникают в его поэзии: то «Кремль в час утра золотой» («Кто видел Кремль…», 1831), то «утро зимнее, когда валит Пушистый снег, и красная заря На степь седую с трепетом глядит» («Кто в утро зимнее…», 1831), то «солнце осени, когда Меж тучек и туманов пробираясь, Оно кидает бледный мертвый луч На дерево, колеблемое ветром, И на сырую степь…» («Солнце осени», 1831), то места, где «близ заставы Чернеют рядом старых пять домов, Забор кругом. Высокий, худощавый Привратник на завалине готов Уснуть…» («Девятый час; уж темно…», 1831), наконец, исполненные патриотического подъема картины Московского Кремля («Панорама Москвы», 1834), начинающиеся восторженными словами:
«Кто никогда не был на вершине Ивана Великого, кому никогда не случалось окинуть одним взглядом нашу древнюю столицу с конца в конец, кто ни разу не любовался этою величественной, почти необозримой панорамой, тот не имеет понятия о Москве, ибо Москва не есть обыкновенный большой город, каких тысяча; Москва не безмолвная громада камней холодных, составленных в симметрическом порядке… нет! У нее есть своя душа, своя жизнь. Как в древнем римском кладбище, каждый ее камень хранит надпись, начертанную временем и роком, надпись для толпы непонятную, но богатую, обильную мыслями, чувствами и вдохновением для ученого, патриота и поэта!»
И затем, от картины к картине восхищенно развертывая панораму, но не в состоянии сдержать охватывающих его чувств, поэт восклицает: «Нет, ни Кремля, ни его зубчатых стен, ни его темных переходов, ни пышных дворцов его описать невозможно… Надо видеть, видеть… надо чувствовать все, что они говорят сердцу и воображению!..»
Несколько времени спустя, в поэме «Сашка», Лермонтов напишет стихи, словно вырвавшиеся из-под самого живого сердца, трепещущего в горячем патриотическом порыве:
Москва, Москва!.. люблю тебя, как сын, Как русский, – сильно, пламенно и нежно! Люблю священный блеск твоих седин И этот Кремль зубчатый, безмятежный. Напрасно думал чуждый властелин С тобой, столетним русским великаном, Помериться главою и обманом Тебя низвергнуть. Тщетно поражал Тебя пришелец, ты вздрогнул – он упал! Вселенная замолкла… Величавый, Один ты жив, наследник нашей славы. Ты жив!.. Ты жив, и каждый камень твой — Заветное преданье поколений.Духовный и творческий мир Лермонтова был органически связан с родной стихией; поэт находил в настоящем и особенно в историческом прошлом России картины, достойные пристального внимания, благоговения и одновременно – горестных замет. Правда, в романтическом «Поле Бородина» (1831) еще нет и намека на какой-либо исторический скептицизм: Бородинская битва – от молитвы перед сражением до последнего аккорда о незабвенных «преданьях славы» – изображается в одном возвышенно-романтическом ключе. Но уже в стихотворном отрывке о древнем Новгороде («Приветствую тебя, воинственных славян Святая колыбель…», 1831) восторженное созерцание («С восторгом я взирал на сумрачные стены…») сменяется горьким сожалением об утраченной вольнице. А в неоконченном историческом полотне («Вадим», 1833–1834) юного Лермонтова – героический образ правдолюбца и бунтаря Вадима, выступающего защитником поруганного человеческого достоинства и народных прав, не смог исчерпать поэтических вожделений поэта, и сам автор в письме к М. А. Лопухиной признавал, что его роман, несмотря на попытки отразить в нем «черты современного <…> передового общественного типа», «становится произведением, полным отчаяния»[5].
Однако же нельзя забывать, что в силу исторических обстоятельств характер коллизий, занимавших русского человека, почти всегда определялся коренными вопросами, связанными с судьбой или с самим существованием народа. Поэтому «переживание истории» оказывалось в русской литературе достаточно острым. Это отразила и литература русского средневековья «во главе» с гениальным «Словом о полку Игореве…», рядом произведений XVIII века (М. В. Ломоносов, М. М. Херасков, А. Н. Радищев и др.), и далее – литература русского романтизма, воспринявшая из отечественного средневековья традиции «высокой» народной эстетики и тот совершенно самобытный идеал, общее содержание которого может быть передано как «прекрасное – это родина»[6].
Сквозь дымку истории всегда видятся в лермонтовском творчестве грядущие события, прозреваются силы, карающие за отступление от исторической справедливости, а иногда в нем как бы возникает власть над временем, возвышающая смертного человека до пределов вечности.
В его поэзии предстают во весь рост героические русские люди вроде богатыря из «Двух великанов» (1832), героев «Бородина» (1837) и «Песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» (1837). Отечественное прошлое имеет в них как бы своих достойных представителей, утверждающих в нашем сознании свойственные народу духовные начала.
Так, в лаконичном, сказочном по форме стихотворении о двух великанах, где каждая деталь рождает в живом изображении целый ряд ассоциаций, складывается монументальная картина богатырского поединка. «Старый русский богатырь» невольно вызывает в нашем сознании образы былинных героев: могучего Святогора или дедушку Илью Муромца. Супротивник же, пришедший «с грозой военной» «из далеких чуждых стран», выступает предводителем вражьей силы, неизбежно воскрешающей слова русских былин: «нагнано-то силушки полным-полно, ай, полным-полно, как черна ворона». Богатырь в суровом молчании ждет-поджидает самонадеянного супротивника; тот еще не показался, а о нем уже «за горами, за долами» гремит рассказ. Только что появившись, «трехнедельный удалец» дерзко схватывает венец своего поединщика. Богатырь отвечает не угрозою, а всего лишь «улыбкою роковою», он будто бы даже не напрягает силы: «посмотрел – тряхнул главою…» – вот все его действие. Но этого достаточно, чтобы дерзкий «удалец» был повержен. Последняя строфа окончательно проясняет смысл исторической аллегории:
Но упал он в дальнем море На неведомый гранит, Там, где буря на просторе Над пучиною шумит.Так завершается эта сказочно-символическая картина, в которой отчетливо проступают черты национального характера: спокойное ощущение силы, основанной на сознании своей правоты. И это, может быть, одна из самых ярких черт загадочной русской души: сила ее – в правде, в том самозабвенном и самоотверженном деянии и подвигах, которые совершал, совершает и еще совершит русский человек, народ русский, как только поймет, ощутит сердцем и поверит в истину и справедливость…
В рассказе о боевых схватках под Бородином («Бородино») старый солдат говорит, не стесняясь тем, как будут восприняты его слова: «Богатыри – не вы!» И далее с обнаженной откровенностью и не без чувства гордости повествует о сражении: «Что тут хитрить, пожалуй, к бою…», «…И умереть мы обещали, И клятву верности сдержали Мы в бородинский бой». А в конце повествования, как и в начале, звучат сказанные с глубокой внутренней силою слова суровой правды:
Да, были люди в наше время, Могучее, лихое племя: Богатыри – не вы. Плохая им досталась доля: Не многие вернулись с поля, Когда б на то не Божья воля, Не отдали б Москвы!Так наполняется новым смыслом рассказ о знаменитой битве: горькое воспоминание об отступлении под Москвой сливается с грустной мыслью о том, что среди современников нет подобных героям прошлого; отсюда сами собой вытекают слова лермонтовской «Думы»: «Печально я гляжу на наше поколенье…» Это тоже о России, но – с горечью…
В правде, и только в правде, видит поэт залог всякого истинного торжества, любой победы. Поэтому с такою любовью воссоздает он и сюжет исторической «Песни про царя Ивана Васильевича…». Ее герой Степан Парамонович Калашников – воистину носитель замечательных черт национального характера, ибо до последнего защищает свою честь, не изменяя чувству долга. Пафос справедливости, придающий силу защитнику правды-совести, торжествует в финале произведения. Однако судьба героя сурова и трагична.
В стихотворении «Родина» Россия предстала во всей полноте своего духовного содержания. Неизменно упоминаемое, постоянно цитируемое, это стихотворение иногда не вполне осознается, ибо уже приобрело хрестоматийный глянец, за которым бывает нелегко различить бездонную глубину смысла. Но в нем значимо и значительно все, начиная от названия и кончая последним звуком…
«Люблю отчизну я…» – вот начало, которое прежде всего нуждается в осознании. «Отчизна», «отечество», «отчина», «отчество», «отец»… По отцу называют на Руси детей, и отчество как указание на связь с предками, с отцом свойственно славяно-русской традиции. Это ясно. Но далее речь идет о странной любви, «непобедимой» рассудком, и вслед за тем возникает действительно на первый взгляд непонятное утверждение:
Ни слава, купленная кровью, Ни полный гордого доверия покой, Ни темной старины заветные преданья Не шевелят во мне отрадного мечтанья…Нет, Лермонтов вовсе не отдавал дань историческому нигилизму, не отрицал значимости былого величия России, как иногда говорят некоторые его толкователи; строки эти не поэтический прием, не художественная условность, придуманная для того, чтобы утвердить оригинальный взгляд на патриотизм. Ранние лермонтовские стихи о России, да и более поздние, вплоть до «Бородина», подсказывают, что поэт отнюдь не противостоит пушкинскому взгляду: «Гордиться славою предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие»[7]. Но малодушие не было никогда свойственно поэту. Нет, не «отрадное мечтанье», а лишь чувство смущения и стыда возникает у истинного сына Отечества, сравнивающего героические деяния предков и постыдное бездействие современников и их равнодушие к добру и злу. Отсюда – смущенная безотрадность в воспоминании о былом величии.
Но если нет возможности считать себя достойным наследником великого прошлого, то есть неотъемлемое право простодушно («…за что, не знаю сам…») любить свое, родное, близкое с детства и одновременно вечное, то, что составляет колыбель прошлого, настоящего и будущего. Отсюда – трепетное лермонтовское отношение к родной природе, к тому вечно сущему народу, который творил, творит и будет творить жизнь, историю и не подвержен рже бездействия и безразличия, ибо существует только благодаря действованию и неизменному стремлению к правде-истине. Отсюда – обращение к самым корням и началам патриотического чувства, выраженного Лермонтовым «истинно, свято, разумно» (Н. Добролюбов).
«У России, – писал М. Ю. Лермонтов в 1841 году, – нет прошедшего (это не значит: нет прошлого, нет истории! – В. Т.): она вся в настоящем и будущем. Сказывается сказка: Еруслан Лазаревич сидел сиднем 20 лет и спал крепко, но на 21 году проснулся от тяжелого сна – и встал и пошел… и встретил он тридцать семь королей и 70 богатырей и побил их и сел над ними царствовать… Такова Россия»[8]. Такова вера поэта. Таков и сам Лермонтов. Он – с Россией в настоящем и будущем, как и те глубокие, проницательные образы, которые созданы его гением. Его поэзия была воистину «новое звено в цепи исторического развития нашего общества»[9] и всей русской литературы.
В. Троицкий
Стихотворения
Поэт («Когда Рафаэль вдохновенный…»)
Когда Рафа́эль вдохновенный Пречистой Девы лик священный Живою кистью окончал,— Своим искусством восхищенный, Он пред картиною упал! Но скоро сей порыв чудесный Слабел в груди его младой, И утомленный и немой, Он забывал огонь небесный. Таков поэт: чуть мысль блеснет, Как он пером своим прольет Всю душу; звуком громкой лиры Чарует свет и в тишине Поет, забывшись в райском сне, Вас, вас! души его кумиры! И вдруг хладеет жар ланит, Его сердечные волненья Все тише, и призра к бежит! Но долго, долго ум хранит Первоначальны впечатленья.1828
Романс («Коварной жизнью недовольный…»)
Коварной жизнью недовольный, Обманут низкой клеветой, Летел изгнанник самовольный В страну Италии златой. «Забуду ль вас, – сказал он, – други? Тебя, о севера вино? Забуду ль, в мирные досуги Как веселило нас оно? Снега и вихрь зимы холодной, Горячий взор московских дев, И балалайки звук народный, И томный вечера припев? Душа души моей! тебя ли Загладят в памяти моей Страна далекая, печали, Язык презрительных людей? Нет! и под миртом изумрудным, И на Гельвеции скалах, И в граде Рима многолюдном Все будешь ты в моих очах!» В коляску сел, дорогой скучной, Закрывшись в плащ, он поскакал; А колокольчик однозвучный Звенел, звенел и пропадал!1829
Портреты
1
Он не красив, он не высок; Но взор горит, любовь сулит; И на челе оставил рок Средь юных дней печать страстей. Власы на нем, как смоль, черны, Бледны всегда его уста, Открыты ль, сомкнуты ль они: Лиют без слов язык богов!.. И пылок он, когда над ним Грозит бедой перун земной! Не любит он и славы дым: Средь тайных мук, свободы друг, Смеется редко, чаще вновь Клянет он мир, где вечно сир, Коварность, зависть и любовь!.. Все проклял он, как лживый сон, Как призрак дымныя мечты. Холодный ум, средь мрачных дум, Не тронут слезы красоты. Везде один, природы сын, Не знал он друга меж людей: Так бури ток сухой листок Мчит жертвой посреди степей!..2
Довольно толст, довольно тучен Наш полновесистый герой. Нередко весел, чаще скучен, Любезен, горд, сердит порой. Он добр, член нашего Парнаса, Красавицам Москвы смешон, На крыльях дряхлого Пегаса Летает в мир мечтанья он. Глаза не слишком говорливы, Всегда по моде он одет. А щечки – полненькие сливы, Так говорит докучный свет.3
Лукав, завистлив, зол и страстен, Отступник Бога и людей; Холоден, всем почти ужасен, Своими ласками опасен, А в заключение – злодей!..4
Все в мире суета, он мнит, или отрава, Возвышенной души предмет стремленья – слава.5
Всегда он с улыбкой веселой, Жизнь любит и юность румяну, Но чувства глубоки питает,— Не знает он тайны природы. Открытен всегда, постоянен; Не знает горячих страстей.6
Он любимец мягкой лени, Сна и низких всех людей; Он любимец наслаждений, Враг губительных страстей! Русы волосы кудрями Упадают средь ланит. Взор изнежен, и устами Он лишь редко шевелит!..1829
Русская мелодия
1
В уме своем я создал мир иной И образов иных существованье; Я цепью их связал между собой, Я дал им вид, но не дал им названья; Вдруг зимних бурь раздался грозный вой,— И рушилось неверное созданье!..2
Так перед праздною толпой И с балалайкою народной Сидит в тени певец простой И бескорыстный и свободный!..3
Он громкий звук внезапно раздает, В честь девы, милой сердцу и прекрасной, — И звук внезапно струны оборвет, И слышится начало песни! – но напрасно! — Никто конца ее не допоет!..1829
Наполеон («Где бьет волна о брег высокой…»)
Где бьет волна о брег высокой, Где дикий памятник небрежно положен, В сырой земле и в яме неглубокой — Там спит герой, друзья! – Наполеон!.. Вещают так и камень одинокой, И дуб возвышенный, и волн прибрежных стон!.. Но вот полночь свинцовый свой покров По сводам неба распустила, И влагу дремлющих валов С могилой тихою Диана осребрила. Над ней сюда пришел мечтать Певец возвышенный, но юный; Воспоминания стараясь пробуждать, Он арфу взял, запел, ударил в струны… «Не ты ли, островок уединенный, Свидетелем был чистых дней Героя дивного? Не здесь ли звук мечей Гремел, носился глас его священный? Нет! рок хотел отсюда удалить И честолюбие, и кровь, и гул военный; А твой удел благословенный: Принять изгнанника и прах его хранить! Зачем он так за славою гонялся? Для чести счастье презирал? С невинными народами сражался? И скипетром стальным короны разбивал? Зачем шутил граждан спокойных кровью, Презрел и дружбой и любовью И пред Творцом не трепетал?.. Ему, погибельно войною принужденный, Почти весь свет кричал: ура! При визге бурного ядра Уже он был готов – но… воин дерзновенный!.. Творец смешал неколебимый ум, Ты побежден московскими стенами… Бежал!.. и скрыл за дальними морями Следы печальные твоих высоких дум. . . . . . . . . . . . . . . . . . Огнем снедаем угрызений, Ты здесь безвременно погас. Покоен ты; и в тихий утра час, Как над тобой порхнет зефир весенний, Безвестный гость, дубравный соловей, Порою издает томительные звуки, В них слышны: слава прежних дней, И голос нег, и голос муки!.. Когда уже едва свет дневный отражен Кристальною играющей волною И гаснет день: усталою стопою Идет рыбак брегов на тихий склон, Несведущий, безмолвно попирает, Таща изорванную сеть, Ту землю, где твой прах забытый истлевает, Не перестав простую песню петь…» . . . . . . . . . . . . . . . . Вдруг!.. ветерок… луна за тучи забежала… Умолк певец. Струится в жилах хлад; Он тайным ужасом объят… И струны лопнули… и тень ему предстала: «Умолкни, о певец! – спеши отсюда прочь,— С хвалой иль язвою упрека: Мне все равно: в могиле вечно ночь. Там нет ни почестей, ни счастия, ни рока! Пускай историю страстей И дел моих хранят далекие потомки: Я презрю песнопенья громки: Я выше и похвал, и славы, и людей!..»1829
Жалобы турка (Письмо. К другу, иностранцу)
Ты знал ли дикий край, под знойными лучами, Где рощи и луга поблекшие цветут? Где хитрость и беспечность злобе дань несут? Где сердце жителей волнуемо страстями? И где являются порой Умы и хладные и твердые, как камень? Но мощь их давится безвременной тоской, И рано гаснет в них добра спокойный пламень. Там рано жизнь тяжка бывает для людей, Там за утехами несется укоризна, Там стонет человек от рабства и цепей!.. Друг! этот край… моя отчизна! Р. S. Ах, если ты меня поймешь, Прости свободные намеки; Пусть истину скрывает ложь: Что ж делать? – Все мы человеки!..1829
Два сокола
Степь, синея, расстилалась Близ Азовских берегов; Запад гас, и ночь спускалась; Вихрь скользил между холмов, И, тряхнувшись, в поле диком Серый сокол тихо сел; И к нему с ответным криком Брат стрелою прилетел. «Братец, братец, что ты видел? Расскажи мне поскорей». «Ах, я свет возненавидел И безжалостных людей». «Что ж ты видел там худого?» «Кучу каменных сердец: Деве смех тоска мило́го, Для детей тиран отец. Девы мукой слез правдивых Веселятся как игрой; И у ног самолюбивых Гибнут юноши толпой!.. Братец, братец! ты что ж видел? Расскажи мне поскорей!» «Свет и я возненавидел И изменчивых людей. Ношею обманов скрытых Юность там удручена; Вспоминаний ядовитых Старость мрачная полна. Гордость, верь ты мне, прекрасной Забывается порой; Но измена девы страстной Нож для сердца вековой!..»1829
К другу
Взлелеянный на лоне вдохновенья, С деятельной и пылкою душой, Я не пленен небесной красотой; Но я ищу земного упоенья. Любовь пройдет, как тень пустого сна. Не буду я счастливым близ прекрасной; Но ты меня не спрашивай напрасно: Ты, друг, узнать не должен, кто она. Навек мы с ней разлучены судьбою, Я победить жестокость не умел. Но я ношу отказ и месть с собою, Но я в любви моей закоренел. Так вор седой заглохшия дубравы Не кается еще в своих грехах: Еще он путников, соседей страх, И мил ему товарищ, нож кровавый!.. Стремится медленно толпа людей, До гроба самого от самой колыбели, Игралищем и рока и страстей, К одной, святой, неизъяснимой цели. И я к высокому в порыве дум живых, И я душой летел во дни былые; Но мне милей страдания земные: Я к ним привык и не оставлю их…1829
Элегия
О! Если б дни мои текли На лоне сладостном покоя и забвенья, Свободно от сует земли И далеко от светского волненья, Когда бы, усмиря мое воображенье, Мной игры младости любимы быть могли, Тогда б я был с весельем неразлучен, Тогда б я, верно, не искал Ни наслаждения, ни славы, ни похвал. Но для меня весь мир и пуст и скучен, Любовь невинная не льстит душе моей: Ищу измен и новых чувствований, Которые живят хоть колкостью своей Мне кровь, угасшую от грусти, от страданий, От преждевременных страстей!..1829
Монолог
Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете. К чему глубокие познанья, жажда славы, Талант и пылкая любовь свободы, Когда мы их употребить не можем? Мы, дети севера, как здешние растенья, Цветем недолго, быстро увядаем… Как солнце зимнее на сером небосклоне, Так пасмурна жизнь наша. Так недолго Ее однообразное теченье… И душно кажется на родине, И сердцу тяжко, и душа тоскует… Не зная ни любви, ни дружбы сладкой, Средь бурь пустых томится юность наша, И быстро злобы яд ее мрачит, И нам горька остылой жизни чаша; И уж ничто души не веселит.1829
Молитва («Не обвиняй меня, Всесильный…»)
Не обвиняй меня, Всесильный, И не карай меня, молю, За то, что мрак земли могильный С ее страстями я люблю; За то, что редко в душу входит Живых речей Твоих струя; За то, что в заблужденье бродит Мой ум далёко от Тебя; За то, что лава вдохновенья Клокочет на груди моей; За то, что дикие волненья Мрачат стекло моих очей; За то, что мир земной мне тесен, К Тебе ж проникнуть я боюсь, И часто звуком грешных песен Я, Боже, не тебе молюсь. Но угаси сей чудный пламень, Всесожигающий костер, Преобрати мне сердце в камень, Останови голодный взор; От страшной жажды песнопенья Пускай, Творец, освобожусь, Тогда на тесный путь спасенья К Тебе я снова обращусь.1829
«Один среди людского шума…»
Один среди людского шума Возрос под сенью чуждой я. И гордо творческая дума На сердце зрела у меня. И вот прошли мои мученья, Нашлися пылкие друзья, Но я, лишенный вдохновенья, Скучал судьбою бытия. И снова муки посетили Мою воскреснувшую грудь. Измены душу заразили И не давали отдохнуть. Я вспомнил прежние несчастья, Но не найду в душе моей Ни честолюбья, ни участья, Ни слез, ни пламенных страстей.1830
Звезда
Вверху одна Горит звезда, Мой взор она Манит всегда, Мои мечты Она влечет И с высоты Меня зовет. Таков же был Тот нежный взор, Что я любил Судьбе в укор; Мук никогда Он зреть не мог, Как та звезда, Он был далек; Усталых вежд Я не смыкал И без надежд К нему взирал.1830
Кавказ
Хотя я судьбой на заре моих дней, О южные горы, отторгнут от вас, Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз: Как сладкую песню отчизны моей, Люблю я Кавказ. В младенческих летах я мать потерял. Но мнилось, что в розовый вечера час Та степь повторяла мне памятный глас, За это люблю я вершины тех скал, Люблю я Кавказ. Я счастлив был с вами, ущелия гор, Пять лет пронеслось: все тоскую по вас. Там видел я пару божественных глаз; И сердце лепечет, воспомня тот взор: Люблю я Кавказ!..1830
Весна
Когда весной разбитый лед Рекой взволнованной идет, Когда среди полей местами Чернеет голая земля И мгла ложится облаками На полуюные поля,— Мечтанье злое грусть лелеет В душе неопытной моей; Гляжу, природа молодеет, Но молодеть лишь только ей; Ланит спокойных пламень алый С собою время уведет, И тот, кто так страдал, бывало, Любви к ней в сердце не найдет.1830
В альбом («Нет! – я не требую вниманья…»)
1
Нет! – я не требую вниманья На грустный бред души моей, Не открывать свои желанья Привыкнул я с давнишних дней. Пишу, пишу рукой небрежной, Чтоб здесь чрез много скучных лет От жизни краткой, но мятежной Какой-нибудь остался след.2
Быть может, некогда случится, Что, все страницы пробежав, На эту взор ваш устремится, И вы промолвите: он прав; Быть может, долго стих унылый Тот взгляд удержит над собой, Как близ дороги столбовой Пришельца – памятник могилы!..1830
Еврейская мелодия
Я видал иногда, как ночная звезда В зеркальном заливе блестит, Как трепещет в струях и серебряный прах От нее, рассыпаясь, бежит. Но поймать ты не льстись и ловить не берись: Обманчивы луч и волна. Мрак тени твоей только ляжет на ней — Отойди ж, – и заблещет она. Светлой радости так беспокойный призрак Нас манит под хладною мглой; Ты схватить – он шутя убежит от тебя! Ты обманут – он вновь пред тобой.1830
Вечер после дождя
Гляжу в окно: уж гаснет небосклон, Прощальный луч на вышине колонн, На куполах, на трубах и крестах Блестит, горит в обманутых очах; И мрачных туч огнистые края Рисуются на небе как змея, И ветерок, по саду пробежав, Волнует стебли омоченных трав… Один меж них приметил я цветок, Как будто перл, покинувший восток, На нем вода блистаючи дрожит, Главу свою склонивши, он стоит, Как девушка в печали роковой: Душа убита, радость над душой; Хоть слезы льет из пламенных очей, Но помнит все о красоте своей.1830
Наполеон («В неверный час, меж днем и темнотой…») (Дума)
В неверный час, меж днем и темнотой, Когда туман синеет над водой, В час грешных дум, видений, тайн и дел, Которых луч узреть бы не хотел, А тьма укрыть, чья тень, чей образ там, На берегу, склонивши взор к волнам, Стоит вблизи нагбенного креста? Он не живой. Но также не мечта: Сей острый взгляд с возвышенным челом И две руки, сложенные крестом. Пред ним лепечут волны и бегут, И вновь приходят, и о скалы бьют; Как легкие ветрилы, облака Над морем носятся издалека. И вот глядит неведомая тень На тот восток, где новый брезжит день; Там Франция! – там край ее родной И славы след, быть может, скрытый мглой; Там, средь войны, ее неслися дни… О! для чего так кончились они!.. Прости, о слава! обманувший друг. Опасный ты, но чудный, мощный звук; И скиптр… о вас забыл Наполеон; Хотя давно умерший, любит он Сей малый остров, брошенный в морях, Где сгнил его и червем съеден прах, Где он страдал, покинут от друзей, Презрев судьбу с гордыней прежних дней, Где стаивал он на брегу морском, Как ныне грустен, руки сжав крестом. О! как в лице его еще видны Следы забот и внутренней войны, И быстрый взор, дивящий слабый ум, Хоть чужд страстей, все полон прежних дум; Сей взор как трепет в сердце проникал И тайные желанья узнавал, Он тот же все; и той же шляпой он, Сопутницею жизни, осенен. Но – посмотри – уж день блеснул в струях… Призрака нет, все пусто на скалах. Нередко внемлет житель сих брегов Чудесные рассказы рыбаков. Когда гроза бунтует и шумит, И блещет молния, и гром гремит, Мгновенный луч нередко озарял Печальну тень, стоящую меж скал. Один пловец, как ни был страх велик, Мог различить недвижный смуглый лик, Под шляпою, с нахмуренным челом, И две руки, сложенные крестом.1830
Элегия («Дробись, дробись, волна ночная…»)
Дробись, дробись, волна ночная, И пеной орошай брега в туманной мгле. Я здесь стою близ моря на скале, Стою, задумчивость питая, Один, покинув свет, и чуждый для людей, И никому тоски поверить не желая. Вблизи меня палатки рыбарей; Меж них блестит огонь гостеприимный, Семья беспечная сидит вкруг огонька И, внемля повесть старика, Себе готовит ужин дымный! Но я далек от счастья их душой, Я помню блеск обманчивой столицы, Веселий пагубных невозвратимый рой. И что ж? – слеза бежит с ресницы, И сожаление мою тревожит грудь, Года погибшие являются всечасно; И этот взор, задумчивый и ясный — Твержу, твержу душе: забудь. Он все передо мной: я все твержу напрасно!.. О, если б я в сем месте был рожден, Где не живет среди людей коварность: Как много бы я был судьбою одолжен — Теперь у ней нет прав на благодарность! — Как жалок тот, чья младость принесла Морщину лишнюю для старого чела И, отобрав все милые желанья, Одно печальное раскаянье дала; Кто чувствовал, как я, – чтоб чувствовать страданья, Кто рано свет узнал – и с страшной пустотой, Как я, оставил брег земли своей родной Для добровольного изгнанья!1830
К *** («Не думай, чтоб я был достоин сожаленья…»)
Не думай, чтоб я был достоин сожаленья, Хотя теперь слова мои печальны, – нет, Нет! все мои жестокие мученья — Одно предчувствие гораздо больших бед. Я молод; но кипят на сердце звуки, И Байрона достигнуть я б хотел; У нас одна душа, одни и те же муки, — О, если б одинаков был удел!.. Как он, ищу забвенья и свободы, Как он, в ребячестве пылал уж я душой. Любил закат в горах, пенящиеся воды И бурь земных и бурь небесных вой. Как он, ищу спокойствия напрасно, Гоним повсюду мыслию одной. Гляжу назад – прошедшее ужасно; Гляжу вперед – там нет души родной!1830
Предсказание
Настанет год, России черный год, Когда царей корона упадет; Забудет чернь к ним прежнюю любовь, И пища многих будет смерть и кровь; Когда детей, когда невинных жен Низвергнутый не защитит закон; Когда чума от смрадных, мертвых тел Начнет бродить среди печальных сел, Чтобы платком из хижин вызывать, И станет глад сей бедный край терзать; И зарево окрасит волны рек: В тот день явится мощный человек, И ты его узнаешь – и поймешь, Зачем в руке его булатный нож: И горе для тебя! – твой плач, твой стон Ему тогда покажется смешон; И будет все ужасно, мрачно в нем, Как плащ его с возвышенным челом.1830
10 июля (1830)
Опять вы, гордые, восстали За независимость страны, И снова перед вами пали Самодержавия сыны, И снова знамя вольности кровавой Явилося, победы мрачный знак, Оно любимо было прежде славой: Суворов был его сильнейший враг. . . . . . . . . . . . . .1830
Нищий
У врат обители святой Стоял просящий подаянья Бедняк иссохший, чуть живой От глада, жажды и страданья. Куска лишь хлеба он просил, И взор являл живую муку, И кто-то камень положил В его протянутую руку. Так я молил твоей любви С слезами горькими, с тоскою; Так чувства лучшие мои Обмануты навек тобою!1830
Ночь
Один я в тишине ночной; Свеча сгоревшая трещит, Перо в тетрадке записной Головку женскую чертит: Воспоминанье о былом, Как тень, в кровавой пелене, Спешит указывать перстом На то, что было мило мне. Слова, которые могли Меня тревожить в те года, Пылают предо мной вдали, Хоть мной забыты навсегда. И там скелеты прошлых лет Стоят унылою толпой; Меж ними есть один скелет — Он обладал моей душой. Как мог я не любить тот взор? Презренья женского кинжал Меня пронзил… но нет – с тех пор Я все любил – я все страдал. Сей взор невыносимый, он Бежит за мною, как призра́к; И я до гроба осужден Другого не любить никак. О! я завидую другим! В кругу семейственном, в тиши, Смеяться просто можно им И веселиться от души. Мой смех тяжел мне как свинец: Он плод сердечной пустоты… О Боже! вот что, наконец, Я вижу, мне готовил ты. Возможно ль! первую любовь Такою горечью облить; Притворством взволновав мне кровь, Хотеть насмешкой остудить? Желал я на другой предмет Излить огонь страстей своих. Но память, слезы первых лет! Кто устоит противу них?1830
К *** («Когда твой друг с пророческой тоскою…»)
Когда твой друг с пророческой тоскою Тебе вверял толпу своих забот, Не знала ты невинною душою, Что смерть его позорная зовет, Что голова, любимая тобою, С твоей груди на плаху перейдет; Он был рожден для мирных вдохновений, Для славы, для надежд; но меж людей Он не годился – и враждебный гений Его душе не наложил цепей; И не слыхал Творец его молений, И он погиб во цвете лучших дней; И близок час… и жизнь его потонет В забвенье, без следа, как звук пустой; Никто слезы прощальной не уронит, Чтоб смыть упрек, оправданный толпой, И лишь волна полночная простонет Над сердцем, где хранился образ твой!1830
Мой дом
Мой дом везде, где есть небесный свод, Где только слышны звуки песен, Все, в чем есть искра жизни, в нем живет, Но для поэта он не тесен. До самых звезд он кровлей досягает, И от одной стены к другой — Далекий путь, который измеряет Жилец не взором, но душой. Есть чувство правды в сердце человека, Святое вечности зерно: Пространство без границ, теченье века Объемлет в краткий миг оно. И Всемогущим мой прекрасный дом Для чувства этого построен, И осужден страдать я долго в нем, И в нем лишь буду я спокоен.1830
Могила бойца (Дума)
I
Он спит последним сном давно, Он спит последним сном, Над ним бугор насыпан был, Зеленый дерн кругом.II
Седые кудри старика Смешалися с землей: Они взвевались по плечам За чашей пировой.III
Они белы, как пена волн, Биющихся у скал; Уста, любимицы бесед, Впервые хлад сковал.IV
И бледны щеки мертвеца, Как лик его врагов Бледнел, когда являлся он Один средь их рядов.V
Сырой землей покрыта грудь, Но ей не тяжело, И червь, движенья не боясь, Ползет через чело.VI
На то ль он жил и меч носил, Чтоб в час вечерней мглы Слетались на курган его Пустынные орлы?VII
Хотя певец земли родной Не раз уж пел об нем, Но песнь – все песнь; а жизнь – все жизнь! Он спит последним сном.1830
Пир Асмодея (Сатира)
У беса праздник. Скачет представляться Чертей и душ усопших мелкий сброд, Кухмейстеры за кушаньем трудятся, Прозябнувши, придворный в зале ждет. И вот за стол все по чинам садятся, И вот лакей картофель подает, Затем что самодержец Мефистофель Был родом немец и любил картофель. По правую сидел приезжий <Павел>, По левую начальник докторов, Великий Фауст, муж отличных правил (Распространять сужденья дураков Он средство нам превечное доставил). Сидят. Вдруг настежь дверь и звук шагов; Три демона, войдя с большим поклоном, Кладут свои подарки перед троном.1-й д е м о н
(говорит)
Вот сердце женщины: она искала От неба даже скрыть свои дела И многим это сердце обещала И никому его не отдала. Она себе беды лишь не желала, Лишь злобе до конца верна была. Не откажись от скромного даянья, Хоть эта вещь не стоила названья. «С’еst trop commun![10] – воскликнул бес державный С презрительной улыбкою своей.— Подарок твой подарок был бы славный, Но новизна царица наших дней; И мало ли случалося недавно, И как не быть приятных мне вестей; Я думаю, слыхали даже стены Про эти бесконечные измены».2-й д е м о н
На стол твой я принес вино свободы; Никто не мог им жажды утолить, Его земные опились народы И начали в куски короны бить; Но как помочь? кто против общей моды? И нам ли разрушенье усыпить? Прими ж напиток сей, земли властитель, Единственный мой царь и повелитель. Тут все цари невольно взбеленились, С тарелками вскочили с мест своих, Бояся, чтобы черти не напились, Чтоб и отсюда не прогнали их. Придворные в молчании косились, Смекнув, что лучше прочь в подобный миг; Но главный бес с геройскою ухваткой На землю выплеснул напиток сладкой.3-й д е м о н
В Москву болезнь холеру притащили, Врачи вступились за нее тотчас, Они морили, и они лечили И больше уморили во сто раз. Один из них, которому служили Мы некогда, вовремя вспомнил нас, И он кого-то хлору пить заставил И к прадедам здорового отправил. Сказал и подает стакан фатальный Властителю поспешною рукой. «Так вот сосуд любезный и печальный, Драгой залог науки докторской. Благодарю. Хотя с полночи дальной, Но мне милее всех подарок твой». Так молвил Асмодей и все смеялся, Покуда пир вечерний продолжался.1830
К *** («О, полно извинять разврат!..»)
О, полно извинять разврат! Ужель злодеям щит порфира? Пусть их глупцы боготворят, Пусть им звучит другая лира; Но ты остановись, певец, Златой венец не твой венец. Изгнаньем из страны родной Хвались повсюду как свободой; Высокой мыслью и душой Ты рано одарен природой; Ты видел зло, и перед злом Ты гордым не поник челом. Ты пел о вольности, когда Тиран гремел, грозили казни: Боясь лишь вечного суда И чуждый на земле боязни, Ты пел, и в этом есть краю Один, кто понял песнь твою.1830
Прощанье
Прости, прости! О, сколько мук Произвести Сей может звук. В далекий край Уносишь ты Мой ад, мой рай, Мои мечты. Твоя рука От уст моих Так далека, О, лишь на миг, Прошу, приди И оживи В моей груди Огонь любви. Я здесь больной, Один, один, С моей тоской, Как властелин, Разлуку я Переживу ль И ждать тебя Назад могу ль? Пусть я прижму Уста к тебе И так умру Назло судьбе. Что за нужда? Прощанья час Пускай тогда Застанет нас!1830
Смерть
Оборвана цепь жизни молодой, Окончен путь, бил час, пора домой, Пора туда, где будущего нет, Ни прошлого, ни вечности, ни лет; Где нет ни ожиданий, ни страстей, Ни горьких слез, ни славы, ни честей; Где вспоминанье спит глубоким сном. И сердце в тесном доме гробовом Не чувствует, что червь его грызет. Пора. Устал я от земных забот. Ужель бездушных удовольствий шум, Ужели пытки бесполезных дум, Ужель самолюбивая толпа, Которая от мудрости глупа, Ужели дев коварная любовь Прельстят меня перед кончиной вновь? Ужели захочу я жить опять, Чтобы душой по-прежнему страдать И столько же любить? Всесильный Бог, Ты знал: я долее терпеть не мог; Пускай меня обхватит целый ад, Пусть буду мучиться, я рад, я рад, Хотя бы вдвое против прошлых дней, Но только дальше, дальше от людей.1830
Волны и люди
Волны катятся одна за другою С плеском и шумом глухим; Люди проходят ничтожной толпою Также один за другим. Волнам их неволя и холод дороже Знойных полудня лучей; Люди хотят иметь души… и что же? — Души в них волн холодней!1830
Поле Бородина
1
Всю ночь у пушек пролежали Мы без палаток, без огней, Штыки вострили да шептали Молитву родины своей. Шумела буря до рассвета; Я, голову подняв с лафета, Товарищу сказал: «Брат, слушай песню непогоды: Она дика, как песнь свободы». Но, вспоминая прежни годы, Товарищ не слыхал.2
Пробили зорю барабаны, Восток туманный побелел, И от врагов удар нежданный На батарею прилетел. И вождь сказал перед полками: «Ребята, не Москва ль за нами? Умремте ж под Москвой, Как наши братья умирали». И мы погибнуть обещали, И клятву верности сдержали Мы в бородинский бой.3
Что Чесма, Рымник и Полтава? Я, вспомня, леденею весь, Там души волновала слава, Отчаяние было здесь. Безмолвно мы ряды сомкнули, Гром грянул, завизжали пули, Перекрестился я. Мой пал товарищ, кровь лилася, Душа от мщения тряслася, И пуля смерти понеслася Из моего ружья.4
Марш, марш! пошли вперед, и боле Уж я не помню ничего. Шесть раз мы уступали поле Врагу и брали у него. Носились знамена, как тени, Я спорил о могильной сени, В дыму огонь блестел, На пушки конница летала, Рука бойцов колоть устала, И ядрам пролетать мешала Гора кровавых тел.5
Живые с мертвыми сравнялись, И ночь холодная пришла И тех, которые остались, Густою тьмою развела. И батареи замолчали, И барабаны застучали, Противник отступил; Но день достался нам дороже! В душе сказав: помилуй Боже! На труп застывший, как на ложе, Я голову склонил.6
И крепко, крепко наши спали Отчизны в роковую ночь. Мои товарищи, вы пали! Но этим не могли помочь. Однако же в преданьях славы Все громче Рымника, Полтавы Гремит Бородино. Скорей обманет глас пророчий, Скорей небес погаснут очи, Чем в памяти сынов полночи Изгладится оно.1830
1831-го января
Редеют бледные туманы Над бездной смерти роковой, И вновь стоят передо мной Веков протекших великаны. Они зовут, они манят, Поют, и я пою за ними И, полный чувствами живыми, Страшуся поглядеть назад, — Чтоб бытия земного звуки Не замешались в песнь мою, Чтоб лучшей жизни на краю Не вспомнил я людей и муки, Чтоб я не вспомнил этот свет, Где носит все печать проклятья, Где полны ядом все объятья, Где счастья без обмана нет.1831
Стансы («Мне любить до могилы Творцом суждено!..»)
Мне любить до могилы Творцом суждено! Но по воле того же Творца Все, что любит меня, то погибнуть должно Иль, как я же, страдать до конца. Моя воля надеждам противна моим, Я люблю и страшусь быть взаимно любим. На пустынной скале незабудка весной Одна без подруг расцвела. И ударила буря и дождь проливной, И как прежде, недвижна скала; Но красивый цветок уж на ней не блестит, Он ветром надломлен и градом убит. Так точно и я под ударом судьбы, Как утес, неподвижен стою, Но не мысли никто перенесть сей борьбы, Если руку пожмет он мою; Я не чувств, но поступков своих властелин, Я несчастлив пусть буду – несчастлив один.1831
Солнце осени
Люблю я солнце осени, когда, Меж тучек и туманов пробираясь, Оно кидает бледный, мертвый луч На дерево, колеблемое ветром, И на сырую степь. Люблю я солнце, Есть что-то схожее в прощальном взгляде Великого светила с тайной грустью Обманутой любви; не холодней Оно само собою, но природа И все, что может чувствовать и видеть, Не могут быть согреты им; так точно И сердце: в нем все жив огонь, но люди Его понять однажды не умели, И он в глазах блеснуть не должен вновь, И до ланит он вечно не коснется. Зачем вторично сердцу подвергать Себя насмешкам и словам сомненья?1831
«Пускай поэта обвиняет…»
Пускай поэта обвиняет Насмешливый, безумный свет, Никто ему не помешает, Он не услышит мой ответ. Я сам собою жил доныне, Свободно мчится песнь моя, Как птица дикая в пустыне, Как вдаль по озеру ладья. И что за дело мне до света, Когда сидишь ты предо мной, Когда рука моя согрета Твоей волшебною рукой; Когда с тобой, о дева рая, Я провожу небесный час, Не беспокоясь, не страдая, Не отворачивая глаз.1831
Слава
К чему ищу так славы я? Известно, в славе нет блаженства, Но хочет все душа моя Во всем дойти до совершенства. Пронзая будущего мрак, Она, бессильная, страдает И в настоящем все не так, Как бы хотелось ей, встречает. Я не страшился бы суда, Когда б уверен был веками, Что вдохновенного труда Мир не обидит клеветами; Что станут верить и внимать Повествованью горькой муки И не осмелятся равнять С земным небес живые звуки. Но не достигну я ни в чем Того, что так меня тревожит: Все кратко на шару земном, И вечно слава жить не может. Пускай поэта грустный прах Хвалою освятит потомство, Где ж слава в кратких похвалах? Людей известно вероломство. Другой заставит позабыть Своею песнею высокой Певца, который кончил жить, Который жил так одинокой.1831
Земля и небо
Как землю нам больше небес не любить? Нам небесное счастье темно; Хоть счастье земное и меньше в сто раз, Но мы знаем, какое оно. О надеждах и муках былых вспоминать В нас тайная склонность кипит; Нас тревожит неверность надежды земной, А краткость печали смешит. Страшна в настоящем бывает душе Грядущего темная даль; Мы блаженство желали б вкусить в небесах, Но с миром расстаться нам жаль. Что во власти у нас, то приятнее нам, Хоть мы ищем другого порой, Но в час расставанья мы видим ясней, Как оно породнилось с душой.1831
К *** («Дай руку мне, склонись к груди поэта…»)
Дай руку мне, склонись к груди поэта, Свою судьбу соедини с моей: Как ты, мой друг, я не рожден для света И не умею жить среди людей; Я не имел ни время, ни охоты Делить их шум, их мелкие заботы, Любовь мое все сердце заняла, И что ж, взгляни на бледный цвет чела. На нем ты видишь след страстей уснувших, Так рано обуявших жизнь мою; Не льстит мне вспоминанье дней минувших, Я одинок над пропастью стою, Где все мое подавлено судьбою; Так куст растет над бездною морскою, И лист, грозой оборванный, плывет По произволу странствующих вод.1831
Из Андрея шенье
За дело общее, быть может, я паду Иль жизнь в изгнании бесплодно проведу; Быть может, клеветой лукавой пораженный, Пред миром и тобой врагами униженный, Я не снесу стыдом сплетаемый венец И сам себе сыщу безвременный конец; Но ты не обвиняй страдальца молодого, Молю, не говори насмешливого слова. Ужасный жребий мой твоих достоин слез, Я много сделал зла, но больше перенес. Пускай виновен я пред гордыми врагами, Пускай отмстят; в душе, клянуся небесами, Я не злодей, о нет, судьба губитель мой; Я грудью шел вперед, я жертвовал собой; Наскучив суетой обманчивого света, Торжественно не мог я не сдержать обета; Хоть много причинил я обществу вреда, Но верен был тебе всегда, мой друг, всегда; В уединении, среди толпы мятежной, Я все тебя любил и все любил так нежно.1831
Мой демон
1
Собранье зол его стихия; Носясь меж темных облаков, Он любит бури роковые, И пену рек, и шум дубров; Он любит пасмурные ночи, Туманы, бледную луну, Улыбки горькие и очи, Безвестные слезам и сну.2
К ничтожным, хладным толкам света Привык прислушиваться он, Ему смешны слова привета И всякий верящий смешон; Он чужд любви и сожаленья, Живет он пищею земной, Глотает жадно дым сраженья И пар от крови пролитой.3
Родится ли страдалец новый, Он беспокоит дух отца, Он тут с насмешкою суровой И с дикой важностью лица; Когда же кто-нибудь нисходит В могилу с трепетной душой, Он час последний с ним проводит, Но не утешен им больной.4
И гордый демон не отстанет, Пока живу я, от меня, И ум мой озарять он станет Лучом чудесного огня; Покажет образ совершенства И вдруг отнимет навсегда И, дав предчувствия блаженства, Не даст мне счастья никогда.1831
Желание («Зачем я не птица, не ворон степной…»)
Зачем я не птица, не ворон степной, Пролетевший сейчас надо мной? Зачем не могу в небесах я парить И одну лишь свободу любить? На запад, на запад помчался бы я, Где цветут моих предков поля, Где в замке пустом, на туманных горах, Их забвенный покоится прах. На древней стене их наследственный щит И заржавленный меч их висит. Я стал бы летать над мечом и щитом, И смахнул бы я пыль с них крылом; И арфы шотландской струну бы задел, И по сводам бы звук полетел; Внимаем одним и одним пробужден, Как раздался, так смолкнул бы он. Но тщетны мечты, бесполезны мольбы Против строгих законов судьбы. Меж мной и холмами отчизны моей Расстилаются волны морей, Последний потомок отважных бойцов Увядает средь чуждых снегов; Я здесь был рожден, но нездешний душой… О! зачем я не ворон степной?..1831
Атаман
1
Горе тебе, город Казань, Едет толпа удальцов Собирать невольную дань С твоих беззаботных купцов. Вдоль по Волге широкой На лодке плывут; И веслами дружными плещут, И песни поют.2
Горе тебе, русская земля. Атаман между ними сидит; Хоть его лихая семья, Как волны, шумна – он молчит; И краса молодая, Как саван бледна, Перед ним стоит на коленах. И молвит она:3
«Горе мне, бедной девице! Чем виновна я пред тобой? Ты поверил злой клеветнице; Любим мною не был другой. Мне жребий неволи Судьбинушкой дан; Не губи, не губи мою душу, Лихой атаман».4
«Горе девице лукавой, — Атаман ей, нахмурясь, в ответ, — У меня оправдается правый, Но пощады виновному нет; От глаз моих трудно Проступок укрыть, Все знаю!.. и вновь не могу я, Девица, любить!..5
Но лекарство чудесное есть У меня для сердечных ран… Прости же! – лекарство то: месть! На что же я здесь атаман? И заплачу ль, как плачет Любовник другой?.. И смягчишь ли меня ты, девица, Своею слезой?»6
Горе тебе, гроза-атаман, Ты свой произнес приговор. Средь пожаров ограбленных стран Ты забудешь ли пламенный взор!.. Остался ль ты хладен И тверд, как в бою, Когда бросили в пенные волны Красотку твою?7
Горе тебе, удалой! Как совесть совсем удалить?.. Отныне он чистой водой Боится руки умыть. Умывать он их любит С дружиной своей Слезами вдовиц беззащитных И кровью детей!1831
Чаша жизни
1
Мы пьем из чаши бытия С закрытыми очами, Златые омочив края Своими же слезами;2
Когда же перед смертью с глаз Завязка упадает, И все, что обольщало нас, С завязкой исчезает;3
Тогда мы видим, что пуста Была златая чаша, Что в ней напиток был – мечта, И что она – не наша!1831
К Н. И…… («Я не достоин, может быть…»)
Я не достоин, может быть, Твоей любви: не мне судить; Но ты обманом наградила Мои надежды и мечты, И я всегда скажу, что ты Несправедливо поступила. Ты не коварна, как змея, Лишь часто новым впечатленьям Душа вверяется твоя. Она увлечена мгновеньем; Ей милы многие, вполне Еще никто; но это мне Служить не может утешеньем. В те дни, когда, любим тобой, Я мог доволен быть судьбой, Прощальный поцелуй однажды Я сорвал с нежных уст твоих; Но в зной, среди степей сухих, Не утоляет капля жажды. Дай Бог, чтоб ты нашла опять, Что не боялась потерять; Но… женщина забыть не может Того, кто так любил, как я; И в час блаженнейший тебя Воспоминание встревожит! Тебя раскаянье кольнет, Когда с насмешкой проклянет Ничтожный мир мое названье! И побоишься защитить, Чтобы в преступном состраданье Вновь обвиняемой не быть!1831
Воля
Моя мать – злая кручина, Отцом же была мне – судьбина; Мои братья, хоть люди, Не хотят к моей груди Прижаться; Им стыдно со мною, С бедным сиротою, Обняться! Но мне Богом дана Молодая жена, Воля-волюшка, Вольность милая, Несравненная; С ней нашлись другие у меня Мать, отец и семья; А моя мать – степь широкая, А мой отец – небо далекое; Они меня воспитали, Кормили, поили, ласкали; Мои братья в лесах — Березы да сосны. Несусь ли я на коне — Степь отвечает мне; Брожу ли поздней порой — Небо светит мне луной; Мои братья, в летний день, Призывая под тень, Машут издали руками, Кивают мне головами; И вольность мне гнездо свила, Как мир – необъятное!1831
«Зови надежду сновиденьем…»
Зови надежду сновиденьем, Неправду – истиной зови, Не верь хвалам и увереньям, Но верь, о, верь моей любви! Такой любви нельзя не верить, Мой взор не скроет ничего; С тобою грех мне лицемерить, Ты слишком ангел для того.1831
«Прекрасны вы, поля земли родной…»
Прекрасны вы, поля земли родной, Еще прекрасней ваши непогоды; Зима сходна в ней с первою зимой, Как с первыми людьми ее народы!.. Туман здесь одевает неба своды! И степь раскинулась лиловой пеленой, И так она свежа, и так родня с душой, Как будто создана лишь для свободы… Но эта степь любви моей чужда; Но этот снег летучий, серебристый И для страны порочной слишком чистый Не веселит мне сердца никогда. Его одеждой хладной, неизменной Сокрыта от очей могильная гряда И позабытый прах, но мне, но мне бесценный.1831
К кн. Л. Г – ой («Когда ты холодно внимаешь…»)
Когда ты холодно внимаешь Рассказам горести чужой И недоверчиво качаешь Своей головкой молодой, Когда блестящие наряды Безумно радуют тебя Иль от ребяческой досады Душа волнуется твоя, Когда я вижу, вижу ясно, Что для тебя в семнадцать лет Все привлекательно, прекрасно, Все – даже люди, жизнь и свет, — Тогда, измучен вспоминаньем, Я говорю душе своей: Счастлив, кто мог земным желаньям Отдать себя во цвете дней! Но не завидуй: ты не будешь Довольна этим, как она; Своих надежд ты не забудешь, Но для других не рождена; Так! мысль великая хранилась В тебе доныне, как зерно; С тобою в мир она родилась: Погибнуть ей не суждено!1831
«Кто видел Кремль в час утра золотой…»
Кто видел Кремль в час утра золотой, Когда лежит над городом туман, Когда меж храмов с гордой простотой, Как царь, белеет башня-великан?1831
«Кто в утро зимнее, когда валит…»
Кто в утро зимнее, когда валит Пушистый снег и красная заря На степь седую с трепетом глядит, Внимал колоколам монастыря; В борьбе с порывным ветром этот звон Далёко им по небу унесен, — И путникам он нравился не раз, Как весть кончины иль бессмертья глас. И этот звон люблю я! Он цветок Могильного кургана, мавзолей, Который не изменится; ни рок, Ни мелкие несчастия людей Его не заглушат; всегда один, Высокой башни мрачный властелин, Он возвещает миру все, но сам — Сам чужд всему, земле и небесам.1831
Ангел
По небу полуночи ангел летел, И тихую песню он пел; И месяц, и звезды, и тучи толпой Внимали той песне святой. Он пел о блаженстве безгрешных духов Под кущами райских садов; О Боге великом он пел, и хвала Его непритворна была. Он душу младую в объятиях нес Для мира печали и слез; И звук его песни в душе молодой Остался – без слов, но живой. И долго на свете томилась она, Желанием чудным полна; И звуков небес заменить не могли Ей скучные песни земли.1831
«Ужасная судьба отца и сына…»
Ужасная судьба отца и сына Жить розно и в разлуке умереть, И жребий чуждого изгнанника иметь На родине с названьем гражданина! Но ты свершил свой подвиг, мой отец, Постигнут ты желанною кончиной; Дай Бог, чтобы, как твой, спокоен был конец Того, кто был всех мук твоих причиной! Но ты простишь мне! Я ль виновен в том, Что люди угасить в душе моей хотели Огонь божественный, от самой колыбели Горевший в ней, оправданный Творцом? Однако ж тщетны были их желанья: Мы не нашли вражды один в другом, Хоть оба стали жертвою страданья! Не мне судить, виновен ты иль нет; Ты светом осужден. Но что такое свет? Толпа людей, то злых, то благосклонных, Собрание похвал незаслуженных И стольких же насмешливых клевет. Далёко от него, дух ада или рая, Ты о земле забыл, как был забыт землей; Ты счастливей меня, перед тобой Как море жизни – вечность роковая Неизмеримою открылась глубиной. Ужели вовсе ты не сожалеешь ныне О днях, потерянных в тревоге и слезах? О сумрачных, но вместе милых днях, Когда в душе искал ты, как в пустыне, Остатки прежних чувств и прежние мечты? Ужель теперь совсем меня не любишь ты? О, если так, то небо не сравняю Я с этою землей, где жизнь влачу мою; Пускай на ней блаженства я не знаю, По крайней мере, я люблю!1831
«Пусть я кого-нибудь люблю…»
Пусть я кого-нибудь люблю: Любовь не красит жизнь мою. Она как чумное пятно На сердце, жжет, хотя темно; Враждебной силою гоним, Я тем живу, что смерть другим: Живу – как неба властелин — В прекрасном мире – но один.1831
«Я не для ангелов и рая…»
Я не для ангелов и рая Всесильным Богом сотворен; Но для чего живу, страдая, Про это больше знает Он. Как демон мой, я зла избранник, Как демон, с гордою душой, Я меж людей беспечный странник, Для мира и небес чужой; Прочти, мою с его судьбою Воспоминанием сравни И верь безжалостной душою, Что мы на свете с ним одни.1831
«Настанет день – и миром осужденный…»
Настанет день – и миром осужденный, Чужой в родном краю, На месте казни – гордый, хоть презренный — Я кончу жизнь мою; Виновный пред людьми, не пред тобою, Я твердо жду тот час; Что смерть? – лишь ты не изменись душою — Смерть не разрознит нас. Иная есть страна, где предрассудки Любви не охладят, Где не отнимет счастия из шутки, Как здесь, у брата брат. Когда же весть кровавая примчится О гибели моей И как победе станут веселиться Толпы других людей; Тогда… молю! – единою слезою Почти холодный прах Того, кто часто с скрытною тоскою Искал в твоих очах… Блаженства юных лет и сожаленья; Кто пред тобой открыл Таинственную душу и мученья, Которых жертвой был. Но если, если над моим позором Смеяться станешь ты И возмутишь неправедным укором И речью клеветы Обиженную тень, – не жди пощады; Как червь, к душе твоей Я прилеплюсь, и каждый миг отрады Несносен будет ей, И будешь помнить прежнюю беспечность, Не зная воскресить, И будет жизнь тебе долга, как вечность, А все не будешь жить.1831
К Д. («Будь со мною, как прежде бывала…»)
Будь со мною, как прежде бывала; О, скажи мне хоть слово одно, Чтоб душа в этом слове сыскала, Что хотелось ей слышать давно; Если искра надежды хранится В моем сердце – она оживет; Если может слеза появиться В очах – то она упадет. Есть слова – объяснить не могу я, Отчего у них власть надо мной; Их услышав, опять оживу я, Но от них не воскреснет другой; О, поверь мне, холодное слово Уста оскверняет твои, Как листки у цветка молодого Ядовитое жало змеи!1831
Отрывок («Три ночи я провел без сна – в тоске…»)
Три ночи я провел без сна – в тоске, В молитве, на коленях, – степь и небо Мне были храмом, алтарем курган; И если б кости, скрытые под ним, Пробуждены могли быть человеком, То, обожженные моей слезой, Проникнувшей сквозь землю, мертвецы Вскочили б, загремев одеждой бранной! О Боже! как? – одна, одна слеза Была плодом ужасных трех ночей? Нет, эта адская слеза, конечно, Последняя, не то три ночи б я Ее не дожидался. Кровь собратий, Кровь стариков, растоптанных детей Отяготела на душе моей, И приступила к сердцу, и насильно Заставила его расторгнуть узы Свои, и в мщенье обратила все, Что в нем похоже было на любовь; Свой замысел пускай я не свершу, Но он велик – и этого довольно; Мой час настал – час славы иль стыда; Бессмертен иль забыт я навсегда. Я вопрошал природу, и она Меня в свои объятья приняла, В лесу холодном в грозный час метели Я сладость пил с ее волшебных уст, Но для моих желаний мир был пуст, Они себе предмета в нем не зрели; На звезды устремлял я часто взор И на луну, небес ночных убор, Но чувствовал, что не для них родился; Я небо не любил, хотя дивился Пространству без начала и конца, Завидуя судьбе его Творца; Но, потеряв отчизну и свободу, Я вдруг нашел себя, в себе одном Нашел спасенье целому народу; И утонул деятельным умом В единой мысли, может быть, напрасной И бесполезной для страны родной, Но, как надежда, чистой и прекрасной, Как вольность, сильной и святой.1831
Баллада
В избушке позднею порою Славянка юная сидит. Вдали багровой полосою На небе зарево горит… И, люльку детскую качая, Поет славянка молодая… «Не плачь, не плачь! иль сердцем чуешь, Дитя, ты близкую беду!.. О, полно, рано ты тоскуешь: Я от тебя не отойду. Скорее мужа я утрачу. Дитя, не плачь! и я заплачу! Отец твой стал за честь и Бога В ряду бойцов против татар, Кровавый след ему дорога, Его булат блестит, как жар. Взгляни, там зарево краснеет: То битва семя смерти сеет. Как рада я, что ты не в силах Понять опасности своей, Не плачут дети на могилах; Им чужд и стыд и страх цепей; Их жребий зависти достоин…» Вдруг шум – и в двери входит воин. Брада в крови, избиты латы. «Свершилось! – восклицает он, — Свершилось! торжествуй, проклятый!.. Наш милый край порабощен, Татар мечи не удержали — Орда взяла, и наши пали». И он упал – и умирает Кровавой смертию бойца. Жена ребенка поднимает Над бледной головой отца: «Смотри, как умирают люди, И мстить учись у женской груди!..»1831
«Я не люблю тебя…»
Я не люблю тебя; страстей И мук умчался прежний сон; Но образ твой в душе моей Все жив, хотя бессилен он; Другим предавшися мечтам, Я все забыть его не мог; Так храм оставленный – все храм, Кумир поверженный – все бог!1831
Стансы («Мгновенно пробежав умом…»)
Мгновенно пробежав умом Всю цепь того, что прежде было, — Я не жалею о былом: Оно меня не усладило. Как настоящее, оно Страстями бурными облито И вьюгой зла занесено, Как снегом крест в степи забытый. Ответа на любовь мою Напрасно жаждал я душою, И если о любви пою — Она была моей мечтою. Как метеор в вечерней мгле, Она очам моим блеснула И, бывши все мне на земле, Как все земное, обманула.1831
К * («Я не унижусь пред тобою…»)
Я не унижусь пред тобою; Ни твой привет, ни твой укор Не властны над моей душою. Знай: мы чужие с этих пор. Ты позабыла: я свободы Для заблужденья не отдам; И так пожертвовал я годы Твоей улыбке и глазам, И так я слишком долго видел В тебе надежду юных дней И целый мир возненавидел, Чтобы тебя любить сильней. Как знать, быть может, те мгновенья, Что протекли у ног твоих, Я отнимал у вдохновенья! А чем ты заменила их? Быть может, мыслию небесной И силой духа убежден, Я дал бы миру дар чудесный, А мне за то бессмертье он? Зачем так нежно обещала Ты заменить его венец, Зачем ты не была сначала, Какою стала наконец! Я горд! – прости! люби другого, Мечтай любовь найти в другом; Чего б то ни было земного Я не соделаюсь рабом. К чужим горам, под небо юга Я удалюся, может быть; Но слишком знаем мы друг друга, Чтобы друг друга позабыть. Отныне стану наслаждаться И в страсти стану клясться всем; Со всеми буду я смеяться, А плакать не хочу ни с кем; Начну обманывать безбожно, Чтоб не любить, как я любил, — Иль женщин уважать возможно, Когда мне ангел изменил? Я был готов на смерть и муку И целый мир на битву звать, Чтобы твою младую руку — Безумец! – лишний раз пожать! Не знав коварную измену, Тебе я душу отдавал; Такой души ты знала ль цену? Ты знала – я тебя не знал!1832
«Люблю я цепи синих гор…»
Люблю я цепи синих гор, Когда, как южный метеор, Ярка без света и красна Всплывает из-за них луна, Царица лучших дум певца И лучший перл того венца, Которым свод небес порой Гордится, будто царь земной. На западе вечерний луч Еще горит на ребрах туч, И уступить все медлит он Луне – угрюмый небосклон; Но скоро гаснет луч зари… Высоко месяц. Две иль три Младые тучки окружат Его сейчас… вот весь наряд, Которым белое чело Ему убрать позволено. Кто не знавал таких ночей В ущельях гор иль средь степей? Однажды при такой луне Я мчался на лихом коне В пространстве голубых долин, Как ветер, волен и один; Туманный месяц и меня, И гриву, и хребет коня Сребристым блеском осыпал; Я чувствовал, как конь дышал, Как он, ударивши ногой, Отбрасываем был землей; И я в чудесном забытьи Движенья сковывал свои, И с ним себя желал я слить, Чтоб этим бег наш ускорить; И долго так мой конь летел… И вкруг себя я поглядел: Все та же степь, все та ж луна: Свой взор ко мне склонив, она, Казалось, упрекала в том, Что человек с своим конем Хотел владычество степей В ту ночь оспоривать у ней!1832
«Измученный тоскою и недугом…»
Измученный тоскою и недугом И угасая в полном цвете лет, Проститься я с тобой желал как с другом, Но хладен был прощальный твой привет; Но ты не веришь мне, ты притворилась, Что в шутку приняла слова мои; Моим слезам смеяться ты решилась, Чтоб с сожаленьем не явить любви; Скажи мне, для чего такое мщенье? Я виноват, другую мог хвалить, Но разве я не требовал прощенья У ног твоих? но разве я любить Тебя переставал, когда, толпою Безумцев молодых окружена, Горда одной своею красотою, Ты привлекала взоры их одна? Я издали смотрел, почти желая, Чтоб для других очей твой блеск исчез; Ты для меня была как счастье рая Для демона, изгнанника небес.1832
«Нет, я не Байрон, я другой…»
Нет, я не Байрон, я другой, Еще неведомый избранник, Как он, гонимый миром странник, Но только с русскою душой. Я раньше начал, кончу ране, Мой ум немного совершит; В душе моей, как в океане, Надежд разбитых груз лежит. Кто может, океан угрюмый, Твои изведать тайны? Кто Толпе мои расскажет думы? Я – или Бог – или никто!1832
Романс
1
Ты идешь на поле битвы, Но услышь мои молитвы, Вспомни обо мне. Если друг тебя обманет, Если сердце жить устанет И душа твоя увянет, — В дальной стороне Вспомни обо мне.2
Если кто тебе укажет На могилу и расскажет При ночном огне О девице обольщенной, Позабытой и презренной, О, тогда, мой друг бесценный, Ты в чужой стране Вспомни обо мне.3
Время прежнее, быть может, Посетит тебя, встревожит В мрачном, тяжком сне; Ты услышишь плач разлуки, Песнь любви и вопли муки Иль подобные им звуки… О, хотя во сне Вспомни обо мне!1832
Сонет
Я памятью живу с увядшими мечтами, Виденья прежних лет толпятся предо мной, И образ твой меж них, как месяц в час ночной Между бродящими блистает облаками. Мне тягостно твое владычество порой; Твоей улыбкою, волшебными глазами Порабощен мой дух и скован, как цепями, Что ж пользы для меня, – я не любим тобой. Я знаю, ты любовь мою не презираешь; Но холодно ее молениям внимаешь; Так мраморный кумир на берегу морском Стоит, – у ног его волна кипит, клокочет, А он, бесчувственным исполнен божеством, Не внемлет, хоть ее отталкивать не хочет.1832
К * («Мы случайно сведены судьбою…»)
Мы случайно сведены судьбою, Мы себя нашли один в другом, И душа сдружилася с душою: Хоть пути не кончить им вдвоем! Так поток весенний отражает Свод небес далекий голубой, И в волне спокойной он сияет И трепещет с бурною волной. Будь, о будь моими небесами, Будь товарищ грозных бурь моих; Пусть тогда гремят они меж нами, Я рожден, чтобы не жить без них. Я рожден, чтоб целый мир был зритель Торжества иль гибели моей, Но с тобой, мой луч-путеводитель, Что хвала иль гордый смех людей! Души их певца не постигали, Не могли души его любить, Не могли понять его печали, Не могли восторгов разделить.1832
Два великана
В шапке золота литого Старый русский великан Поджидал к себе другого Из далеких чуждых стран. За горами, за долами Уж гремел об нем рассказ, И помериться главами Захотелось им хоть раз. И пришел с грозой военной Трехнедельный удалец, — И рукою дерзновенной Хвать за вражеский венец. Но улыбкой роковою Русский витязь отвечал: Посмотрел – тряхнул главою… Ахнул дерзкий – и упал! Но упал он в дальнем море На неведомый гранит, Там, где буря на просторе Над пучиною шумит.1832
Баллада
Куда так проворно, жидовка младая? Час утра, ты знаешь, далек… Потише – распалась цепочка златая, И скоро спадет башмачок. Вот мост! вот чугунные влево перилы Блестят от огня фонарей; Держись за них крепче, – устала, нет силы!.. Вот дом – и звонок у дверей. Безмолвно жидовка у двери стояла, Как мраморный идол бледна; Потом, за снурок потянув, постучала… И кто-то взглянул из окна!.. И страхом и тайной надеждой пылая, Еврейка глаза подняла, Конечно, ужасней минута такая Столетий печали была. Она говорила: «Мой ангел прекрасный! Взгляни еще раз на меня… Избавь свою Сару от пытки напрасной, Избавь от ножа и огня… Отец мой сказал, что закон Моисея Любить запрещает тебя. Мой друг, я внимала отцу не бледнея, Затем, что внимала любя… И мне обещал он страданья, мученья, И нож наточил роковой, И вышел… Мой друг, берегись его мщенья, — Он будет как тень за тобой. Отцовского мщенья ужасны удары, Беги же отсюда скорей! Тебе не изменят уста твоей Сары Под хладной рукой палачей. Беги!..» Но на лик, из окна наклоненный, Блеснул неожиданный свет, И что-то сверкнуло в руке обнаженной, И мрачен глухой был ответ. И тяжкое что-то на камни упало, И стон раздался под стеной, — В нем все улетающей жизнью дышало, И больше, чем жизнью одной! Поутру, толпяся, народ изумленный Кричал и шептал об одном: Там в доме был русский, кинжалом пронзенный, И женщины труп под окном.1832
«Он был рожден для счастья, для надежд…»
Он был рожден для счастья, для надежд И вдохновений мирных! – но безумный Из детских рано вырвался одежд И сердце бросил в море жизни шумной; И мир не пощадил – и Бог не спас! Так сочный плод, до времени созрелый, Между цветов висит осиротелый, Ни вкуса он не радует, ни глаз; И час их красоты – его паденья час! И жадный червь его грызет, грызет, И между тем как нежные подруги Колеблются на ветках – ранний плод Лишь тяготит свою… до первой вьюги! Ужасно стариком быть без седин; Он равных не находит; за толпою Идет, хоть с ней не делится душою; Он меж людьми ни раб, ни властелин, И все, что чувствует, он чувствует один!1832
Парус
Белеет парус одинокой В тумане моря голубом!.. Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном?.. Играют волны – ветер свищет, И мачта гнется и скрыпит… Увы, – он счастия не ищет И не от счастия бежит! Под ним струя светлей лазури, Над ним луч солнца золотой… А он, мятежный, просит бури, Как будто в бурях есть покой!1832
«Я жить хочу! хочу печали…»
Я жить хочу! хочу печали Любви и счастию назло; Они мой ум избаловали И слишком сгладили чело. Пора, пора насмешкам света Прогнать спокойствия туман; Что без страданий жизнь поэта? И что без бури океан? Он хочет жить ценою муки, Ценой томительных забот. Он покупает неба звуки, Он даром славы не берет.1832
Русалка
1
Русалка плыла по реке голубой, Озаряема полной луной; И старалась она доплеснуть до луны Серебристую пену волны.2
И шумя и крутясь, колебала река Отраженные в ней облака; И пела русалка – и звук ее слов Долетал до крутых берегов.3
И пела русалка: «На дне у меня Играет мерцание дня; Там рыбок златые гуляют стада; Там хрустальные есть города;4
И там на подушке из ярких песков Под тенью густых тростников Спит витязь, добыча ревнивой волны, Спит витязь чужой стороны.5
Расчесывать кольца шелковых кудрей Мы любим во мраке ночей, И в чело и в уста мы в полуденный час Целовали красавца не раз.6
Но к страстным лобзаньям, не знаю зачем, Остается он хладен и нем; Он спит – и, склонившись на перси ко мне, Он не дышит, не шепчет во сне!..»7
Так пела русалка над синей рекой, Полна непонятной тоской; И, шумно катясь, колебала река Отраженные в ней облака.1832
Гусар
Гусар! ты весел и беспечен, Надев свой красный доломан; Но знай – покой души не вечен, И счастье на земле – туман! Крутя лениво ус задорный, Ты вспоминаешь стук пиров; Но берегися думы черной, — Она черней твоих усов. Пускай судьба тебя голубит, И страсть безумная смешит; Но и тебя никто не любит, Никто тобой не дорожит. Когда ты, ментиком блистая, Торопишь серого коня, Не мыслит дева молодая: «Он здесь проехал для меня». Когда ты вихрем на сраженье Летишь, бесчувственный герой, — Ничье, ничье благословенье Не улетает за тобой. Гусар! ужель душа не слышит В тебе желания любви? Скажи мне, где твой ангел дышит? Где очи милые твои? Молчишь – и ум твой безнадежней, Когда полнее твой бокал! Увы – зачем от жизни прежней Ты разом сердце оторвал!.. Ты не всегда был тем, что ныне, Ты жил, ты слишком много жил, И лишь с последнею святыней Ты пламень сердца схоронил.1832
Юнкерская молитва
Царю Небесный! Спаси меня От куртки тесной, Как от огня. От маршировки Меня избавь, В парадировки Меня не ставь. Пускай в манеже Алёхин глас Как можно реже Тревожит нас. Еще моленье Прошу принять — В то воскресенье Дай разрешенье Мне опоздать. Я, Царь Всевышний, Хорош уж тем, Что просьбой лишней Не надоем.1833
Умирающий гладиатор
I see before me the gladiator lie…
Byron[11] Ликует буйный Рим… торжественно гремит Рукоплесканьями широкая арена: А он – пронзенный в грудь, – безмолвно он лежит, Во прахе и крови скользят его колена… И молит жалости напрасно мутный взор: Надменный временщик и льстец его сенатор Венчают похвалой победу и позор… Что́ знатным и толпе сраженный гладиатор? Он презрен и забыт… освистанный актер. И кровь его течет – последние мгновенья Мелькают, – близок час… Вот луч воображенья Сверкнул в его душе… Пред ним шумит Дунай… И родина цветет… свободный жизни край; Он видит круг семьи, оставленный для брани, Отца, простершего немеющие длани, Зовущего к себе опору дряхлых дней… Детей играющих – возлюбленных детей. Все ждут его назад с добычею и славой… Напрасно – жалкий раб, – он пал, как зверь лесной, Бесчувственной толпы минутною забавой… Прости, развратный Рим, – прости, о край родной… Не так ли ты, о европейский мир, Когда-то пламенных мечтателей кумир, К могиле клонишься бесславной головою, Измученный в борьбе сомнений и страстей, Без веры, без надежд – игралище детей, Осмеянный ликующей толпою! И пред кончиною ты взоры обратил С глубоким вздохом сожаленья На юность светлую, исполненную сил, Которую давно для язвы просвещенья, Для гордой роскоши беспечно ты забыл: Стараясь заглушить последние страданья, Ты жадно слушаешь и песни старины, И рыцарских времен волшебные преданья — Насмешливых льстецов несбыточные сны.1836
Еврейская мелодия (Из Байрона)
Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей! Вот арфа золотая: Пускай персты твои, промчавшися по ней, Пробудят в струнах звуки рая. И если не навек надежды рок унес, Они в груди моей проснутся, И если есть в очах застывших капля слез — Они растают и прольются. Пусть будет песнь твоя дика. Как мой венец, Мне тягостны веселья звуки! Я говорю тебе: я слез хочу, певец, Иль разорвется грудь от муки. Страданьями была упитана она, Томилась долго и безмолвно; И грозный час настал – теперь она полна, Как кубок смерти, яда полный.1836
Смерть Поэта
Погиб Поэт! – невольник чести — Пал, оклеветанный молвой, С свинцом в груди и жаждой мести, Поникнув гордой головой!.. Не вынесла душа Поэта Позора мелочных обид, Восстал он против мнений света Один, как прежде… и убит! Убит!.. к чему теперь рыданья, Пустых похвал ненужный хор И жалкий лепет оправданья? Судьбы свершился приговор! Не вы ль сперва так злобно гнали Его свободный, смелый дар И для потехи раздували Чуть затаившийся пожар? Что ж? веселитесь… он мучений Последних вынести не мог: Угас, как светоч, дивный гений, Увял торжественный венок. Его убийца хладнокровно Навел удар… спасенья нет: Пустое сердце бьется ровно, В руке не дрогнул пистолет. И что за диво?.. издалека, Подобный сотням беглецов, На ловлю счастья и чинов Заброшен к нам по воле рока; Смеясь, он дерзко презирал Земли чужой язык и нравы; Не мог щадить он нашей славы; Не мог понять в сей миг кровавый, На что́ он руку поднимал!.. И он убит – и взят могилой, Как тот певец, неведомый, но милый, Добыча ревности глухой, Воспетый им с такою чудной силой, Сраженный, как и он, безжалостной рукой. Зачем от мирных нег и дружбы простодушной Вступил он в этот свет завистливый и душный Для сердца вольного и пламенных страстей? Зачем он руку дал клеветникам ничтожным, Зачем поверил он словам и ласкам ложным, Он, с юных лет постигнувший людей?.. И прежний сняв венок – они венец терновый, Увитый лаврами, надели на него: Но иглы тайные сурово Язвили славное чело; Отравлены его последние мгновенья Коварным шепотом насмешливых невежд, И умер он – с напрасной жаждой мщенья, С досадой тайною обманутых надежд. Замолкли звуки чудных песен, Не раздаваться им опять: Приют певца угрюм и тесен, И на устах его печать. ______ А вы, надменные потомки Известной подлостью прославленных отцов, Пятою рабскою поправшие обломки Игрою счастия обиженных родов! Вы, жадною толпой стоящие у трона, Свободы, Гения и Славы палачи! Таитесь вы под сению закона, Пред вами суд и правда – всё молчи!.. Но есть и Божий суд, наперсники разврата! Есть грозный суд: он ждет; Он не доступен звону злата, И мысли и дела он знает наперед. Тогда напрасно вы прибегнете к злословью: Оно вам не поможет вновь, И вы не смоете всей вашей черной кровью Поэта праведную кровь!1837
Бородино
– Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, Французу отдана? Ведь были ж схватки боевые, Да, говорят, еще какие! Недаром помнит вся Россия Про день Бородина! – Да, были люди в наше время, Не то, что нынешнее племя: Богатыри – не вы! Плохая им досталась доля: Немногие вернулись с поля… Не будь на то Господня воля, Не отдали б Москвы! Мы долго молча отступали, Досадно было, боя ждали, Ворчали старики: «Что ж мы? на зимние квартиры? Не смеют, что ли, командиры Чужие изорвать мундиры О русские штыки?» И вот нашли большое поле: Есть разгуляться где на воле! Построили редут. У наших ушки на макушке! Чуть утро осветило пушки И леса синие верхушки — Французы тут как тут. Забил заряд я в пушку туго И думал: угощу я друга! Постой-ка, брат мусью! Что тут хитрить, пожалуй к бою; Уж мы пойдем ломить стеною, Уж постоим мы головою За родину свою! Два дня мы были в перестрелке. Что толку в этакой безделке? Мы ждали третий день. Повсюду стали слышны речи: «Пора добраться до картечи!» И вот на поле грозной сечи Ночная пала тень. Прилег вздремнуть я у лафета, И слышно было до рассвета, Как ликовал француз. Но тих был наш бивак открытый: Кто кивер чистил весь избитый, Кто штык точил, ворча сердито, Кусая длинный ус. И только небо засветилось, Все шумно вдруг зашевелилось, Сверкнул за строем строй. Полковник наш рожден был хватом: Слуга царю, отец солдатам… Да, жаль его: сражен булатом, Он спит в земле сырой. И молвил он, сверкнув очами: «Ребята! не Москва ль за нами? Умремте ж под Москвой, Как наши братья умирали!» И умереть мы обещали, И клятву верности сдержали Мы в Бородинский бой. Ну ж был денек! Сквозь дым летучий Французы двинулись, как тучи, И всё на наш редут. Уланы с пестрыми значками, Драгуны с конскими хвостами, Все промелькнули перед нами, Все побывали тут. Вам не видать таких сражений!.. Носились знамена, как тени, В дыму огонь блестел, Звучал булат, картечь визжала, Рука бойцов колоть устала, И ядрам пролетать мешала Гора кровавых тел. Изведал враг в тот день немало, Что значит русский бой удалый, Наш рукопашный бой!.. Земля тряслась – как наши груди; Смешались в кучу кони, люди, И залпы тысячи орудий Слились в протяжный вой… Вот смерклось. Были все готовы Заутра бой затеять новый И до конца стоять… Вот затрещали барабаны — И отступили бусурманы. Тогда считать мы стали раны, Товарищей считать. Да, были люди в наше время, Могучее, лихое племя: Богатыри – не вы. Плохая им досталась доля: Немногие вернулись с поля. Когда б на то не Божья воля, Не отдали б Москвы!1837
Ветка Палестины
Скажи мне, ветка Палестины: Где ты росла, где ты цвела? Каких холмов, какой долины Ты украшением была? У вод ли чистых Иордана Востока луч тебя ласкал, Ночной ли ветр в горах Ливана Тебя сердито колыхал? Молитву ль тихую читали Иль пели песни старины, Когда листы твои сплетали Солима бедные сыны? И пальма та жива ль поныне? Все так же ль манит в летний зной Она прохожего в пустыне Широколиственной главой? Или в разлуке безотрадной Она увяла, как и ты, И дольний прах ложится жадно На пожелтевшие листы?.. Поведай: набожной рукою Кто в этот край тебя занес? Грустил он часто над тобою? Хранишь ты след горючих слез? Иль, Божьей рати лучший воин, Он был, с безоблачным челом, Как ты, всегда небес достоин Перед людьми и Божеством?.. Заботой тайною хранима, Перед иконой золотой Стоишь ты, ветвь Ерусалима, Святыни верный часовой! Прозрачный сумрак, луч лампады, Кивот и крест, символ святой… Все полно мира и отрады Вокруг тебя и над тобой.1837
Узник
Отворите мне темницу, Дайте мне сиянье дня, Черноглазую девицу, Черногривого коня. Я красавицу младую Прежде сладко поцелую, На коня потом вскочу, В степь, как ветер, улечу. Но окно тюрьмы высоко, Дверь тяжелая с замком; Черноокая далеко, В пышном тереме своем; Добрый конь в зеленом поле Без узды, один, по воле Скачет, весел и игрив, Хвост по ветру распустив. Одинок я – нет отрады: Стены голые кругом, Тускло светит луч лампады Умирающим огнем; Только слышно: за дверями Звучно-мерными шагами Ходит в тишине ночной Безответный часовой.1837
Сосед
Кто б ни был ты, печальный мой сосед, Люблю тебя, как друга юных лет, Тебя, товарищ мой случайный, Хотя судьбы коварною игрой Навеки мы разлучены с тобой Стеной теперь – а после тайной. Когда зари румяный полусвет В окно тюрьмы прощальный свой привет Мне, умирая, посылает И, опершись на звучное ружье, Наш часовой, про старое житье Мечтая, стоя засыпает, — Тогда, чело склонив к сырой стене, Я слушаю – и в мрачной тишине Твои напевы раздаются. О чем они – не знаю; но тоской Исполнены, и звуки чередой, Как слезы, тихо льются, льются… И лучших лет надежды и любовь — В груди моей все оживает вновь, И мысли далеко несутся, И полон ум желаний и страстей, И кровь кипит – и слезы из очей, Как звуки, друг за другом льются.1837
«Когда волнуется желтеющая нива…»
Когда волнуется желтеющая нива, И свежий лес шумит при звуке ветерка, И прячется в саду малиновая слива Под тенью сладостной зеленого листка; Когда, росой обрызганный душистой, Румяным вечером иль утра в час златой, Из-под куста мне ландыш серебристый Приветливо кивает головой; Когда студеный ключ играет по оврагу И, погружая мысль в какой-то смутный сон, Лепечет мне таинственную сагу Про мирный край, откуда мчится он,— Тогда смиряется души моей тревога, Тогда расходятся морщины на челе, И счастье я могу постигнуть на земле, И в небесах я вижу Бога…1837
Молитва («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»)
Я, Матерь Божия, ныне с молитвою Пред Твоим образом, ярким сиянием, Не о спасении, не перед битвою, Не с благодарностью иль покаянием, Не за свою молю душу пустынную, За душу странника в свете безродного; Но я вручить хочу деву невинную Теплой заступнице мира холодного. Окружи счастием душу достойную; Дай ей сопутников, полных внимания, Молодость светлую, старость покойную, Сердцу незлобному мир упования. Срок ли приблизится часу прощальному В утро ли шумное, в ночь ли безгласную — Ты восприять пошли к ложу печальному Лучшего ангела душу прекрасную.1837
«Расстались мы, но твой портрет…»
Расстались мы, но твой портрет Я на груди моей храню: Как бледный призрак лучших лет, Он душу радует мою. И, новым преданный страстям, Я разлюбить его не мог: Так храм оставленный – все храм, Кумир поверженный – все бог!1837
«Спеша на север из далека…»
Спеша на север из далека, Из теплых и чужих сторон, Тебе, Казбек, о страж Востока, Принес я, странник, свой поклон. Чалмою белою от века Твой лоб наморщенный увит, И гордый ропот человека Твой гордый мир не возмутит. Но сердца тихого моленье Да отнесут твои скалы В надзвездный край, в твое владенье, К престолу вечному аллы. Молю, да снидет день прохладный На знойный дол и пыльный путь, Чтоб мне в пустыне безотрадной На камне в полдень отдохнуть. Молю, чтоб буря не застала, Гремя в наряде боевом, В ущелье мрачного Дарьяла Меня с измученным конем. Но есть еще одно желанье! Боюсь сказать! – душа дрожит! Что, если я со дня изгнанья Совсем на родине забыт! Найду ль там прежние объятья? Старинный встречу ли привет? Узнают ли друзья и братья Страдальца после многих лет? Или среди могил холодных Я наступлю на прах родной Тех добрых, пылких, благородных, Деливших молодость со мной? О, если так! своей метелью, Казбек, засыпь меня скорей И прах бездомный по ущелью Без сожаления развей.1837
<Эпиграмма на Ф. Булгарина, I>
Россию продает Фадей Не в первый раз, как вам известно, Пожалуй, он продаст жену, детей, И мир земной, и рай небесный, Он совесть продал бы за сходную цену, Да жаль, заложена в казну.1837
Кинжал
Люблю тебя, булатный мой кинжал, Товарищ светлый и холодный. Задумчивый грузин на месть тебя ковал, На грозный бой точил черкес свободный. Лилейная рука тебя мне поднесла В знак памяти, в минуту расставанья, И в первый раз не кровь вдоль по тебе текла, Но светлая слеза – жемчужина страданья. И черные глаза, остановясь на мне, Исполненны таинственной печали, Как сталь твоя при трепетном огне, То вдруг тускнели, то сверкали. Ты дан мне в спутники, любви залог немой, И страннику в тебе пример не бесполезный; Да, я не изменюсь и буду тверд душой, Как ты, как ты, мой друг железный.1838
«Она поет, и звуки тают…»
Она поет – и звуки тают, Как поцелуи на устах, Глядит – и небеса играют В ее божественных глазах; Идет ли – все ее движенья, Иль молвит слово – все черты Так полны чувства, выраженья, Так полны дивной простоты.1838
<А. Г. Хомутовой>
Слепец, страданьем вдохновенный, Вам строки чудные писал, И прежних лет восторг священный, Воспоминаньем оживленный, Он перед вами изливал. Он вас не зрел, но ваши речи, Как отголосок юных дней, При первом звуке новой встречи Его встревожили сильней. Тогда признательную руку В ответ на ваш приветный взор, Навстречу радостному звуку Он в упоении простер. И я, поверенный случайный Надежд и дум его живых, Я буду дорожить, как тайной, Печальным выраженьем их. Я верю, годы не убили, Изгладить даже не могли Все, что вы прежде возбудили В его возвышенной груди. Но да сойдет благословенье На вашу жизнь, за то, что вы Хоть на единое мгновенье Умели снять венец мученья С его преклонной головы.1838
Дума
Печально я гляжу на наше поколенье! Его грядущее – иль пусто, иль темно, Меж тем, под бременем познанья и сомненья, В бездействии состарится оно. Богаты мы, едва из колыбели, Ошибками отцов и поздним их умом, И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели, Как пир на празднике чужом. К добру и злу постыдно равнодушны, В начале поприща мы вянем без борьбы; Перед опасностью позорно малодушны И перед властию – презренные рабы. Так тощий плод, до времени созрелый, Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз, Висит между цветов, пришлец осиротелый, И час их красоты – его паденья час! Мы иссушили ум наукою бесплодной, Тая завистливо от ближних и друзей Надежды лучшие и голос благородный Неверием осмеянных страстей. Едва касались мы до чаши наслажденья, Но юных сил мы тем не сберегли; Из каждой радости, бояся пресыщенья, Мы лучший сок навеки извлекли. Мечты поэзии, создания искусства Восторгом сладостным наш ум не шевелят; Мы жадно бережем в груди остаток чувства — Зарытый скупостью и бесполезный клад. И ненавидим мы, и любим мы случайно, Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви, И царствует в душе какой-то холод тайный, Когда огонь кипит в крови. И предков скучны нам роскошные забавы, Их добросовестный, ребяческий разврат; И к гробу мы спешим без счастья и без славы, Глядя насмешливо назад. Толпой угрюмою и скоро позабытой Над миром мы пройдем без шума и следа, Не бросивши векам ни мысли плодовитой, Ни гением начатого труда. И прах наш, с строгостью судьи и гражданина, Потомок оскорбит презрительным стихом, Насмешкой горькою обманутого сына Над промотавшимся отцом.1838
Поэт
Отделкой золотой блистает мой кинжал; Клинок надежный, без порока; Булат его хранит таинственный закал — Наследье бранного Востока. Наезднику в горах служил он много лет, Не зная платы за услугу; Не по одной груди провел он страшный след И не одну прорвал кольчугу. Забавы он делил послушнее раба, Звенел в ответ речам обидным. В те дни была б ему богатая резьба Нарядом чуждым и постыдным. Он взят за Тереком отважным казаком На хладном трупе господина, И долго он лежал заброшенный потом В походной лавке армянина. Теперь родных ножон, избитых на войне, Лишен героя спутник бедный, Игрушкой золотой он блещет на стене — Увы, бесславный и безвредный! Никто привычною, заботливой рукой Его не чистит, не ласкает, И надписи его, молясь перед зарей, Никто с усердьем не читает… В наш век изнеженный не так ли ты, поэт, Свое утратил назначенье, На злато променяв ту власть, которой свет Внимал в немом благоговенье? Бывало, мерный звук твоих могучих слов Воспламенял бойца для битвы, Он нужен был толпе, как чаша для пиров, Как фимиам в часы молитвы. Твой стих, как Божий дух, носился над толпой И, отзыв мыслей благородных, Звучал, как колокол на башне вечевой Во дни торжеств и бед народных. Но скучен нам простой и гордый твой язык, Нас тешат блёстки и обманы; Как ветхая краса, наш ветхий мир привык Морщины прятать под румяны… Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк! Иль никогда, на голос мщенья, Из золотых ножон не вырвешь свой клинок, Покрытый ржавчиной презренья?..1838
Казачья колыбельная песня
Спи, младенец мой прекрасный, Баюшки-баю. Тихо смотрит месяц ясный В колыбель твою. Стану сказывать я сказки, Песенку спою; Ты ж дремли, закрывши глазки, Баюшки-баю. По камням струится Терек, Плещет мутный вал; Злой чечен ползет на берег, Точит свой кинжал; Но отец твой старый воин, Закален в бою: Спи, малютка, будь спокоен, Баюшки-баю. Сам узнаешь, будет время, Бранное житье; Смело вденешь ногу в стремя И возьмешь ружье. Я седельце боевое Шелком разошью. Спи, дитя мое родное, Баюшки-баю. Богатырь ты будешь с виду И казак душой. Провожать тебя я выйду — Ты махнешь рукой… Сколько горьких слез украдкой Я в ту ночь пролью!.. Спи, мой ангел, тихо, сладко, Баюшки-баю. Стану я тоской томиться, Безутешно ждать; Стану целый день молиться, По ночам гадать; Стану думать, что скучаешь Ты в чужом краю… Спи ж, пока забот не знаешь, Баюшки-баю. Дам тебе я на дорогу Образок святой: Ты его, моляся Богу, Ставь перед собой; Да, готовясь в бой опасный, Помни мать свою… Спи, младенец мой прекрасный, Баюшки-баю.1838
Не верь себе
Que nous font après tout les vulgaires abois
De tous ces charlatans, qui donnent de la voix,
Les marchands de pathos et les faiseurs d’emphase
Et tous les baladins qui dansent sur la phrase?
A. Barbier[12] Не верь, не верь себе, мечтатель молодой, Как язвы, бойся вдохновенья… Оно – тяжелый бред души твоей больной Иль пленной мысли раздраженье. В нем признака небес напрасно не ищи: То кровь кипит, то сил избыток! Скорее жизнь свою в заботах истощи, Разлей отравленный напиток! Случится ли тебе в заветный, чудный миг Отрыть в душе давно безмолвной Еще неведомый и девственный родник, Простых и сладких звуков полный, — Не вслушивайся в них, не предавайся им, Набрось на них покров забвенья: Стихом размеренным и словом ледяным Не передашь ты их значенья. Закрадется ль печаль в тайник души твоей, Зайдет ли страсть с грозой и вьюгой, — Не выходи тогда на шумный пир людей С своею бешеной подругой; Не унижай себя. Стыдися торговать То гневом, то тоской послушной, И гной душевных ран надменно выставлять На диво черни простодушной. Какое дело нам, страдал ты или нет? На что́ нам знать твои волненья; Надежды глупые первоначальных лет, Рассудка злые сожаленья? Взгляни: перед тобой играючи идет Толпа дорогою привычной; На лицах праздничных чуть виден след забот, Слезы не встретишь неприличной. А между тем из них едва ли есть один, Тяжелой пыткой не измятый, До преждевременных добравшийся морщин Без преступленья иль утраты!.. Поверь: для них смешон твой плач и твой укор, С своим напевом заучённым, Как разрумяненный трагический актер, Махающий мечом картонным…1839
«Ребенка милого рожденье…»
Ребенка милого рожденье Приветствует мой запоздалый стих. Да будет с ним благословенье Всех ангелов небесных и земных! Да будет он отца достоин, Как мать его, прекрасен и любим; Да будет дух его спокоен И в правде тверд, как Божий херувим. Пускай не знает он до срока Ни мук любви, ни славы жадных дум; Пускай глядит он без упрека На ложный блеск и ложный мира шум; Пускай не ищет он причины Чужим страстям и радостям своим, И выйдет он из светской тины Душою бел и сердцем невредим!1839
Три пальмы (Восточное сказание)
В песчаных степях аравийской земли Три гордые пальмы высоко росли. Родник между ними из почвы бесплодной, Журча, пробивался волною холодной, Хранимый, под сенью зеленых листов, От знойных лучей и летучих песков. И многие годы неслышно прошли; Но странник усталый из чуждой земли Пылающей грудью ко влаге студеной Еще не склонялся под кущей зеленой, И стали уж сохнуть от знойных лучей Роскошные листья и звучный ручей. И стали три пальмы на Бога роптать: «На то ль мы родились, чтоб здесь увядать? Без пользы в пустыне росли и цвели мы, Колеблемы вихрем и зноем палимы, Ничей благосклонный не радуя взор?.. Не прав твой, о небо, святой приговор!» И только замолкли – в дали голубой Столбом уж крутился песок золотой, Звонков раздавались нестройные звуки, Пестрели коврами покрытые вьюки, И шел, колыхаясь, как в море челнок, Верблюд за верблюдом, взрывая песок. Мотаясь, висели меж твердых горбов Узорные полы походных шатров; Их смуглые ручки порой подымали, И черные очи оттуда сверкали… И, стан худощавый к луке наклоня, Араб горячил вороного коня. И конь на дыбы подымался порой, И прыгал, как барс, пораженный стрелой; И белой одежды красивые складки По плечам фариса вились в беспорядке; И, с криком и свистом несясь по песку, Бросал и ловил он копье на скаку. Вот к пальмам подходит, шумя, караван: В тени их веселый раскинулся стан. Кувшины звуча налилися водою, И, гордо кивая махровой главою, Приветствуют пальмы нежданных гостей, И щедро поит их студеный ручей. Но только что сумрак на землю упал, По корням упругим топор застучал, И пали без жизни питомцы столетий! Одежду их сорвали малые дети, Изрублены были тела их потом, И медленно жгли их до утра огнем. Когда же на запад умчался туман, Урочный свой путь совершал караван; И следом печальным на почве бесплодной Виднелся лишь пепел седой и холодный; И солнце остатки сухие дожгло, А ветром их в степи потом разнесло. И ныне все дико и пусто кругом — Не шепчутся листья с гремучим ключом; Напрасно пророка о тени он просит — Его лишь песок раскаленный заносит Да коршун хохлатый, степной нелюдим, Добычу терзает и щиплет над ним.1839
Молитва («В минуту жизни трудную…»)
В минуту жизни трудную Теснится ль в сердце грусть, Одну молитву чудную Твержу я наизусть. Есть сила благодатная В созвучье слов живых, И дышит непонятная, Святая прелесть в них. С души как бремя скатится, Сомненье далеко — И верится, и плачется, И так легко, легко…1839
Дары Терека
Терек воет, дик и злобен, Меж утесистых громад, Буре плач его подобен, Слезы брызгами летят. Но, по степи разбегаясь, Он лукавый принял вид И, приветливо ласкаясь, Морю Каспию журчит: «Расступись, о старец море, Дай приют моей волне! Погулял я на просторе, Отдохнуть пора бы мне. Я родился у Казбека, Вскормлен грудью облаков, С чуждой властью человека Вечно спорить был готов. Я, сынам твоим в забаву, Разорил родной Дарьял И валунов им, на славу, Стадо целое пригнал». Но, склонясь на мягкий берег, Каспий стихнул, будто спит, И опять, ласкаясь, Терек Старцу на ухо журчит: «Я привез тебе гостинец! То гостинец не простой: С поля битвы кабардинец, Кабардинец удалой. Он в кольчуге драгоценной, В налокотниках стальных: Из Корана стих священный Писан золотом на них. Он угрюмо сдвинул брови, И усов его края Обагрила знойной крови Благородная струя; Взор открытый, безответный, Полон старою враждой; По затылку чуб заветный Вьется черною космой». Но, склонясь на мягкий берег, Каспий дремлет и молчит; И, волнуясь, буйный Терек Старцу снова говорит: «Слушай, дядя: дар бесценный! Что другие все дары? Но его от всей вселенной Я таил до сей поры. Я примчу к тебе с волнами Труп казачки молодой, С темно-бледными плечами, С светло-русою косой. Грустен лик ее туманный, Взор так тихо, сладко спит, А на грудь из малой раны Струйка алая бежит. По красотке молодице Не тоскует над рекой Лишь один во всей станице Казачина гребенской. Оседлал он вороного И в горах, в ночном бою, На кинжал чеченца злого Сложит голову свою». Замолчал поток сердитый, И над ним, как снег бела, Голова с косой размытой, Колыхаяся, всплыла, И старик во блеске власти Встал, могучий, как гроза, И оделись влагой страсти Темно-синие глаза. Он взыграл, веселья полный, — И в объятия свои Набегающие волны Принял с ропотом любви.1839
Памяти А. И. Одоевского
1
Я знал его: мы странствовали с ним В горах Востока, и тоску изгнанья Делили дружно; но к полям родным Вернулся я, и время испытанья Промчалося законной чередой; А он не дождался минуты сладкой: Под бедною походною палаткой Болезнь его сразила, и с собой В могилу он унес летучий рой Еще незрелых, темных вдохновений, Обманутых надежд и горьких сожалений!2
Он был рожден для них, для тех надежд, Поэзии и счастья… Но, безумный — Из детских рано вырвался одежд И сердце бросил в море жизни шумной, И свет не пощадил – и Бог не спас! Но до конца среди волнений трудных, В толпе людской и средь пустынь безлюдных В нем тихий пламень чувства не угас: Он сохранил и блеск лазурных глаз, И звонкий детский смех, и речь живую, И веру гордую в людей и жизнь иную.3
Но он погиб далеко от друзей… Мир сердцу твоему, мой милый Саша! Покрытое землей чужих полей, Пусть тихо спит оно, как дружба наша В немом кладбище памяти моей! Ты умер, как и многие, без шума, Но с твердостью. Таинственная дума Еще блуждала на челе твоем, Когда глаза закрылись вечным сном; И то, что ты сказал перед кончиной, Из слушавших тебя не понял ни единый…4
И было ль то привет стране родной, Названье ли оставленного друга, Или тоска по жизни молодой, Иль просто крик последнего недуга, Кто скажет нам?.. Твоих последних слов Глубокое и горькое значенье Потеряно… Дела твои, и мненья, И думы – все исчезло без следов, Как легкий пар вечерних облаков: Едва блеснут, их ветер вновь уносит — Куда они? зачем? откуда? – кто их спросит…5
И после их на небе нет следа, Как от любви ребенка безнадежной, Как от мечты, которой никогда Он не вверял заботам дружбы нежной… Что за нужда?.. Пускай забудет свет Столь чуждое ему существованье: Зачем тебе венцы его вниманья И терния пустых его клевет? Ты не служил ему. Ты с юных лет Коварные его отвергнул цепи: Любил ты моря шум, молчанье синей степи —6
И мрачных гор зубчатые хребты… И вкруг твоей могилы неизвестной Все, чем при жизни радовался ты, Судьба соединила так чудесно: Немая степь синеет, и венцом Серебряным Кавказ ее объемлет; Над морем он, нахмурясь, тихо дремлет, Как великан, склонившись над щитом, Рассказам волн кочующих внимая, А море Черное шумит не умолкая.1839
«Есть речи – значенье…»
Есть речи – значенье Темно иль ничтожно, Но им без волненья Внимать невозможно. Как полны их звуки Безумством желанья! В них слезы разлуки, В них трепет свиданья. Не встретит ответа Средь шума мирского Из пламя и света Рожденное слово; Но в храме, средь боя И где я ни буду, Услышав, его я Узнаю повсюду. Не кончив молитвы, На звук тот отвечу, И брошусь из битвы Ему я навстречу.1839
«На буйном пиршестве задумчив он сидел…»
На буйном пиршестве задумчив он сидел Один, покинутый безумными друзьями, И в даль грядущую, закрытую пред нами, Духовный взор его смотрел. И помню я, исполнены печали, Средь звона чаш, и криков, и речей, И песен праздничных, и хохота гостей Его слова пророчески звучали. [Он говорил: «Ликуйте, о друзья! Что вам судьбы дряхлеющего мира?.. Над вашей головой колеблется секира, Но что ж!.. из вас один ее увижу я».] . . . . . . . . . . . . . .1839
«Как часто, пестрою толпою окружен…»
1-е января
Как часто, пестрою толпою окружен, Когда передо мной, как будто бы сквозь сон, При шуме музыки и пляски, При диком шепоте затверженных речей, Мелькают образы бездушные людей, Приличьем стянутые маски, Когда касаются холодных рук моих С небрежной смелостью красавиц городских Давно бестрепетные руки, — Наружно погружась в их блеск и суету, Ласкаю я в душе старинную мечту, Погибших лет святые звуки. И если как-нибудь на миг удастся мне Забыться, – памятью к недавней старине Лечу я вольной, вольной птицей; И вижу я себя ребенком, и кругом Родные всё места: высокий барский дом И сад с разрушенной теплицей; Зеленой сетью трав подернут спящий пруд, А за прудом село дымится – и встают Вдали туманы над полями. В аллею темную вхожу я; сквозь кусты Глядит вечерний луч, и желтые листы Шумят под робкими шагами. И странная тоска теснит уж грудь мою: Я думаю об ней, я плачу и люблю, Люблю мечты моей созданье С глазами, полными лазурного огня, С улыбкой розовой, как молодого дня За рощей первое сиянье. Так царства дивного всесильный господин — Я долгие часы просиживал один, И память их жива поныне Под бурей тягостных сомнений и страстей, Как свежий островок безвредно средь морей Цветет на влажной их пустыне. Когда ж, опомнившись, обман я узнаю И шум толпы людской спугнет мечту мою, На праздник не́званую гостью, О, как мне хочется смутить веселость их И дерзко бросить им в глаза железный стих, Облитый горечью и злостью!..1840
И скучно и грустно
И скучно и грустно, и некому руку подать В минуту душевной невзгоды… Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?.. А годы проходят – всё лучшие годы! Любить… но кого же?.. на время – не стоит труда, А вечно любить невозможно. В себя ли заглянешь? – там прошлого нет и следа: И радость, и муки, и все там ничтожно… Что страсти? – ведь рано иль поздно их сладкий недуг Исчезнет при слове рассудка; И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, — Такая пустая и глупая шутка…1840
Из Гете
Горные вершины Спят во тьме ночной; Тихие долины Полны свежей мглой; Не пылит дорога, Не дрожат листы… Подожди немного, Отдохнешь и ты.1840
<М. А. Щербатовой>
На светские цепи, На блеск утомительный бала Цветущие степи Украйны она променяла, Но юга родного На ней сохранилась примета Среди ледяного, Среди беспощадного света. Как ночи Украйны, В мерцании звезд незакатных, Исполнены тайны Слова ее уст ароматных, Прозрачны и сини, Как небо тех стран, ее глазки, Как ветер пустыни, И нежат и жгут ее ласки. И зреющей сливы Румянец на щечках пушистых, И солнца отливы Играют в кудрях золотистых. И, следуя строго Печальной отчизны примеру, В надежду на Бога Хранит она детскую веру; Как племя родное, У чуждых опоры не просит И в гордом покое Насмешку и зло переносит. От дерзкого взора В ней страсти не вспыхнут пожаром, Полюбит не скоро, Зато не разлюбит уж даром.1840
Воздушный корабль (Из Зейдлица)
По синим волнам океана, Лишь звезды блеснут в небесах, Корабль одинокий несется, Несется на всех парусах. Не гнутся высокие мачты, На них флюгера не шумят, И молча в открытые люки Чугунные пушки глядят. Не слышно на нем капитана, Не видно матросов на нем; Но скалы, и тайные мели, И бури ему нипочем. Есть остров на том океане — Пустынный и мрачный гранит; На острове том есть могила, А в ней император зарыт. Зарыт он без почестей бранных Врагами в сыпучий песок, Лежит на нем камень тяжелый, Чтоб встать он из гроба не мог. И в час его грустной кончины, В полночь, как свершается год, К высокому берегу тихо Воздушный корабль пристает. Из гроба тогда император, Очнувшись, является вдруг; На нем треугольная шляпа И серый походный сюртук. Скрестивши могучие руки, Главу опустивши на грудь, Идет и к рулю он садится И быстро пускается в путь. Несется он к Франции милой, Где славу оставил и трон, Оставил наследника-сына И старую гвардию он. И только что землю родную Завидит во мраке ночном, Опять его сердце трепещет И очи пылают огнем. На берег большими шагами Он смело и прямо идет, Соратников громко он кличет И маршалов грозно зовет. Но спят усачи-гренадеры — В равнине, где Эльба шумит, Под снегом холодной России, Под знойным песком пирамид. И маршалы зова не слышат: Иные погибли в бою, Другие ему изменили И продали шпагу свою. И, топнув о землю ногою, Сердито он взад и вперед По тихому берегу ходит, И снова он громко зовет: Зовет он любезного сына, Опору в превратной судьбе; Ему обещает полмира, А Францию только себе. Но в цвете надежды и силы Угас его царственный сын, И долго, его поджидая, Стоит император один — Стоит он и тяжко вздыхает, Пока озарится восток, И капают горькие слезы Из глаз на холодный песок, Потом на корабль свой волшебный, Главу опустивши на грудь, Идет и, махнувши рукою, В обратный пускается путь.1840
Соседка
Не дождаться мне, видно, свободы, А тюремные дни будто годы; И окно высоко над землей, И у двери стоит часовой! Умереть бы уж мне в этой клетке, Кабы не было милой соседки!.. Мы проснулись сегодня с зарей, Я кивнул ей слегка головой. Разлучив, нас сдружила неволя, Познакомила общая доля, Породнило желанье одно Да с двойною решеткой окно; У окна лишь поутру я сяду, Волю дам ненасытному взгляду… Вот напротив окошечко: стук! Занавеска подымется вдруг. На меня посмотрела плутовка! Опустилась на ручку головка, А с плеча, будто сдул ветерок, Полосатый скатился платок, Но бледна ее грудь молодая, И сидит она долго вздыхая, Видно, буйную думу тая, Все тоскует по воле, как я. Не грусти, дорогая соседка… Захоти лишь – отворится клетка, И, как божии птички, вдвоем Мы в широкое поле порхнем. У отца ты ключи мне украдешь, Сторожей за пирушку усадишь, А уж с тем, что поставлен к дверям, Постараюсь я справиться сам. Избери только ночь потемнее, Да отцу дай вина похмельнее, Да повесь, чтобы ведать я мог, На окно полосатый платок.1840
Журналист, читатель и писатель
Les poètes ressemblent aux ours, qui
se nourrissent en suçant leur patte.[13]
Комната писателя; опущенные шторы. Он сидит в больших креслах перед камином. Ч и т а т е л ь, с сигарой, стоит спиной к камину.
Ж у р н а л и с т входит.
Ж у р н а л и с т
Я очень рад, что вы больны: В заботах жизни, в шуме света Теряет скоро ум поэта Свои божественные сны. Среди различных впечатлений На мелочь душу разменяв, Он гибнет жертвой общих мнений. Когда ему в пылу забав Обдумать зрелое творенье?.. Зато какая благодать, Коль небо вздумает послать Ему изгнанье, заточенье Иль даже долгую болезнь: Тотчас в его уединенье Раздастся сладостная песнь! Порой влюбляется он страстно В свою нарядную печаль… Ну, что́ вы пишете? нельзя ль Узнать?П и с а т е л ь
Да ничего…Ж у р н а л и с т
Напрасно!П и с а т е л ь
О чем писать? Восток и юг Давно описаны, воспеты; Толпу ругали все поэты, Хвалили все семейный круг; Все в небеса неслись душою, Взывали, с тайною мольбою, К N. N., неведомой красе, — И страшно надоели все.Ч и т а т е л ь
И я скажу – нужна отвага, Чтобы открыть… хоть ваш журнал (Он мне уж руки обломал): Во-первых, серая бумага, Она, быть может, и чиста, Да как-то страшно без перчаток… Читаешь – сотни опечаток! Стихи – такая пустота; Слова без смысла, чувства нету, Натянут каждый оборот; Притом – сказать ли по секрету? И в рифмах часто недочет. Возьмешь ли прозу? – перевод. А если вам и попадутся Рассказы на родимый лад — То, верно, над Москвой смеются Или чиновников бранят. С кого они портреты пишут? Где разговоры эти слышут? А если и случалось им, Так мы их слышать не хотим… Когда же на Руси бесплодной, Расставшись с ложной мишурой, Мысль обретет язык простой И страсти голос благородный?Ж у р н а л и с т
Я точно то же говорю. Как вы, открыто негодуя, На музу русскую смотрю я. Прочтите критику мою.Ч и т а т е л ь
Читал я. Мелкие нападки На шрифт, виньетки, опечатки, Намеки тонкие на то, Чего не ведает никто. Хотя б забавно было свету!.. В чернилах ваших, господа, И желчи едкой даже нету — А просто грязная вода.Ж у р н а л и с т
И с этим надо согласиться. Но верьте мне, душевно рад Я был бы вовсе не браниться — Да как же быть?.. меня бранят! Войдите в наше положенье! Читает нас и низший круг: Нагая резкость выраженья Не всякий оскорбляет слух; Приличье, вкус – все так условно; А деньги все ведь платят ровно! Поверьте мне: судьбою несть Даны нам тяжкие вериги. Скажите, каково прочесть Весь этот вздор, все эти книги, — И все зачем? – чтоб вам сказать, Что их не надобно читать!..Ч и т а т е л ь
Зато какое наслажденье, Как отдыхает ум и грудь, Коль попадется как-нибудь Живое, свежее творенье! Вот, например, приятель мой: Владеет он изрядным слогом, И чувств и мыслей полнотой Он одарен Всевышним Богом.Ж у р н а л и с т
Все это так, да вот беда: Не пишут эти господа.П и с а т е л ь
О чем писать?.. Бывает время, Когда забот спадает бремя, Дни вдохновенного труда, Когда и ум и сердце полны, И рифмы дружные, как волны, Журча, одна вослед другой Несутся вольной чередой. Восходит чудное светило В душе проснувшейся едва: На мысли, дышащие силой, Как жемчуг нижутся слова… Тогда с отвагою свободной Поэт на будущность глядит, И мир мечтою благородной Пред ним очищен и обмыт. Но эти странные творенья Читает дома он один, И ими после без зазренья Он затопляет свой камин. Ужель ребяческие чувства, Воздушный, безотчетный бред Достойны строгого искусства? Их осмеет, забудет свет… Бывают тягостные ночи: Без сна, горят и плачут очи, На сердце – жадная тоска; Дрожа, холодная рука Подушку жаркую объемлет; Невольный страх власы подъемлет; Болезненный, безумный крик Из груди рвется – и язык Лепечет громко без сознанья Давно забытые названья; Давно забытые черты В сиянье прежней красоты Рисует память своевольно: В очах любовь, в устах обман — И веришь снова им невольно, И как-то весело и больно Тревожить язвы старых ран… Тогда пишу. Диктует совесть, Пером сердитый водит ум: То соблазнительная повесть Сокрытых дел и тайных дум; Картины хладные разврата, Преданья глупых юных дней, Давно без пользы и возврата Погибших в омуте страстей, Средь битв незримых, но упорных, Среда обманщиц и невежд, Среди сомнений ложно-черных И ложно-радужных надежд. Судья безвестный и случайный, Не дорожа чужою тайной, Приличьем скрашенный порок Я смело предаю позору; Неумолим я и жесток… Но, право, этих горьких строк Неприготовленному взору Я не решуся показать… Скажите ж мне, о чем писать?.. К чему толпы неблагодарной Мне злость и ненависть навлечь, Чтоб бранью назвали коварной Мою пророческую речь? Чтоб тайный яд страницы знойной Смутил ребенка сон покойный И сердце слабое увлек В свой необузданный поток? О нет! преступною мечтою Не ослепляя мысль мою, Такой тяжелою ценою Я вашей славы не куплю.1840
<М. П. Соломирской>
Над бездной адскою блуждая, Душа преступная порой Читает на воротах рая Узоры надписи святой. И часто тайную отраду Находит муке неземной, За непреклонную ограду Стремясь завистливой мечтой. Так, разбирая в заточенье Досель мне чуждые черты, Я был свободен на мгновенье Могучей волею мечты. Залогом вольности желанной, Лучом надежды в море бед Мне стал тогда ваш безымянный, Но вечно памятный привет.1840
Пленный рыцарь
Молча сижу под окошком темницы; Синее небо отсюда мне видно: В небе играют всё вольные птицы; Глядя на них, мне и больно и стыдно. Нет на устах моих грешной молитвы, Нету ни песни во славу любезной: Помню я только старинные битвы, Меч мой тяжелый да панцирь железный. В каменный панцирь я ныне закован, Каменный шлем мою голову давит, Щит мой от стрел и меча заколдован, Конь мой бежит, и никто им не правит. Быстрое время – мой конь неизменный, Шлема забрало – решетка бойницы, Каменный панцирь – высокие стены, Щит мой – чугунные двери темницы. Мчись же быстрее, летучее время! Душно под новой бронею мне стало! Смерть, как приедем, подержит мне стремя; Слезу и сдерну с лица я забрало.1840
Отчего
Мне грустно, потому что я тебя люблю, И знаю: молодость цветущую твою Не пощадит молвы коварное гоненье. За каждый светлый день иль сладкое мгновенье Слезами и тоской заплатишь ты судьбе. Мне грустно… потому что весело тебе.1840
Благодарность
За все, за все тебя благодарю я: За тайные мучения страстей, За горечь слез, отраву поцелуя, За месть врагов и клевету друзей; За жар души, растраченный в пустыне, За все, чем я обманут в жизни был… Устрой лишь так, чтобы тебя отныне Недолго я еще благодарил.1840
А. О. Смирновой
Без вас хочу сказать вам много, При вас я слушать вас хочу; Но молча вы глядите строго, И я в смущении молчу. Что ж делать?.. Речью неискусной Занять ваш ум мне не дано… Все это было бы смешно, Когда бы не было так грустно…1840
Тучи
Тучки небесные, вечные странники! Степью лазурною цепью жемчужною Мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники, С милого севера в сторону южную. Кто же вас гонит: судьбы ли решение? Зависть ли тайная? злоба ль открытая? Или на вас тяготит преступление? Или друзей клевета ядовитая? Нет, вам наскучили нивы бесплодные… Чужды вам страсти и чужды страдания; Вечно холодные, вечно свободные, Нет у вас родины, нет вам изгнания.1840
К портрету
Как мальчик кудрявый, резва, Нарядна, как бабочка летом; Значенья пустого слова В устах ее полны приветом. Ей нравиться долго нельзя: Как цепь, ей несносна привычка, Она ускользнет, как змея, Порхнет и умчится, как птичка. Таит молодое чело По воле – и радость и горе. В глазах – как на небе светло, В душе ее темно, как в море! То истиной дышит в ней все, То все в ней притворно и ложно! Понять невозможно ее, Зато не любить невозможно.1840
<Валерик>
Я к вам пишу случайно; право, Не знаю как и для чего. Я потерял уж это право. И что скажу вам? – ничего! Что помню вас? – но, Боже правый, Вы это знаете давно; И вам, конечно, все равно. И знать вам также нету нужды, Где я? что я? в какой глуши? Душою мы друг другу чужды, Да вряд ли есть родство души. Страницы прошлого читая, Их по порядку разбирая Теперь остынувшим умом, Разуверяюсь я во всем. Смешно же сердцем лицемерить Перед собою столько лет; Добро б еще морочить свет! Да и притом, что пользы верить Тому, чего уж больше нет?.. Безумно ждать любви заочной? В наш век все чувства лишь на срок; Но я вас помню – да и точно, Я вас никак забыть не мог! Во-первых, потому, что много И долго, долго вас любил, Потом страданьем и тревогой За дни блаженства заплатил; Потом в раскаянье бесплодном Влачил я цепь тяжелых лет И размышлением холодным Убил последний жизни цвет. С людьми сближаясь осторожно, Забыл я шум младых проказ, Любовь, поэзию, – но вас Забыть мне было невозможно. И к мысли этой я привык, Мой крест несу я без роптанья: То иль другое наказанье? Не все ль одно. Я жизнь постиг; Судьбе, как турок иль татарин, За все я ровно благодарен; У Бога счастья не прошу И молча зло переношу. Быть может, небеса Востока Меня с ученьем их пророка Невольно сблизили. Притом И жизнь всечасно кочевая, Труды, заботы ночь и днем, Все, размышлению мешая, Приводит в первобытный вид Больную душу: сердце спит, Простора нет воображенью… И нет работы голове… Зато лежишь в густой траве И дремлешь под широкой тенью Чинар иль виноградных лоз, Кругом белеются палатки; Казачьи тощие лошадки Стоят рядком, повеся нос; У медных пушек спит прислуга. Едва дымятся фитили; Попарно цепь стоит вдали; Штыки горят под солнцем юга. Вот разговор о старине В палатке ближней слышен мне; Как при Ермолове ходили В Чечню, в Аварию, к горам; Как там дрались, как мы их били, Как доставалося и нам; И вижу я неподалеку У речки, следуя пророку, Мирной татарин свой намаз Творит, не подымая глаз; А вот кружком сидят другие. Люблю я цвет их желтых лиц, Подобный цвету ноговиц, Их шапки, рукава худые, Их темный и лукавый взор И их гортанный разговор. Чу – дальний выстрел! Прожужжала Шальная пуля… славный звук… Вот крик – и снова все вокруг Затихло… Но жара уж спа́ла, Ведут коней на водопой, Зашевелилася пехота; Вот проскакал один, другой! Шум, говор. Где вторая рота? Что, вьючить? – что же капитан? Повозки выдвигайте живо! «Савельич!» – «Ой ли!» – «Дай огниво!» Подъем ударил барабан — Гудит музыка полковая; Между колоннами въезжая, Звенят орудья. Генерал Вперед со свитой поскакал… Рассыпались в широком поле, Как пчелы, с гиком казаки; Уж показалися значки Там на опушке – два, и боле. А вот в чалме один мюрид В черкеске красной ездит важно, Конь светло-серый весь кипит, Он машет, кличет – где отважный? Кто выдет с ним на смертный бой!.. Сейчас, смотрите: в шапке черной Казак пустился гребенской; Винтовку выхватил проворно, Уж близко… выстрел… легкий дым… Эй вы, станичники, за ним… Что? ранен!.. – Ничего, безделка…— И завязалась перестрелка… Но в этих сшибках удалых Забавы много, толку мало; Прохладным вечером, бывало, Мы любовалися на них Без кровожадного волненья, Как на трагический балет; Зато видал я представленья, Каких у вас на сцене нет… Раз – это было под Гихами — Мы проходили темный лес; Огнем дыша, пылал над нами Лазурно-яркий свод небес. Нам был обещан бой жестокий. Из гор Ичкерии далекой Уже в Чечню на братний зов Толпы стекались удальцов. Над допотопными лесами Мелькали маяки кругом; И дым их то вился столпом, То расстилался облаками; И оживилися леса; Скликались дико голоса Под их зелеными шатрами. Едва лишь выбрался обоз В поляну, дело началось; Чу! в арьергард орудья просят; Вот ружья из кустов <вы>носят, Вот тащат за ноги людей И кличут громко лекарей; А вот и слева, из опушки, Вдруг с гиком кинулись на пушки; И градом пуль с вершин дерев Отряд осыпан. Впереди же Все тихо – там между кустов Бежал поток. Подходим ближе. Пустили несколько гранат; Еще подвинулись; молчат; Но вот над бревнами завала Ружье как будто заблистало; Потом мелькнуло шапки две; И вновь все спряталось в траве. То было грозное молчанье, Недолго длилося оно, Но <в> этом странном ожиданье Забилось сердце не одно. Вдруг залп… глядим: лежат рядами, Что нужды? здешние полки Народ испытанный… «В штыки, Дружнее!» – раздалось за нами, Кровь загорелася в груди! Все офицеры впереди… Верхом помчался на завалы Кто не успел спрыгнуть с коня… «Ура!» – и смолкло. «Вон кинжалы, В приклады!» – и пошла резня, И два часа в струях потока Бой длился. Резались жестоко, Как звери, молча, с грудью грудь, Ручей телами запрудили. Хотел воды я зачерпнуть… (И зной и битва утомили Меня), но мутная волна Была тепла, была красна. На берегу, под тенью дуба, Пройдя завалов первый ряд, Стоял кружок. Один солдат Был на коленах; мрачно, грубо Казалось выраженье лиц, Но слезы капали с ресниц, Покрытых пылью… на шинели, Спиною к дереву, лежал Их капитан. Он умирал; В груди его едва чернели Две ранки; кровь его чуть-чуть Сочилась. Но высоко грудь И трудно подымалась, взоры Бродили страшно, он шептал… «Спасите, братцы. Тащат в горы. Постойте – ранен генерал… Не слышат…» Долго он стонал, Но все слабей, и понемногу Затих и душу отдал Богу; На ружья опершись, кругом Стояли усачи седые… И тихо плакали… потом Его остатки боевые Накрыли бережно плащом И понесли. Тоской томимый, Им вслед смотрел <я> недвижимый, Меж тем товарищей, друзей Со вздохом возле называли; Но не нашел в душе моей Я сожаленья, ни печали. Уже затихло все; тела Стащили в кучу; кровь текла Струею дымной по каменьям, Ее тяжелым испареньем Был полон воздух. Генерал Сидел в тени на барабане И донесенья принимал. Окрестный лес, как бы в тумане, Синел в дыму пороховом. А там, вдали, грядой нестройной, Но вечно гордой и спокойной, Тянулись горы – и Казбек Сверкал главой остроконечной. И с грустью тайной и сердечной Я думал: «Жалкий человек. Чего он хочет!.. небо ясно, Под небом места много всем, Но беспрестанно и напрасно Один враждует он – зачем?» Галуб прервал мое мечтанье, Ударив по плечу; он был Кунак мой; я его спросил, Как месту этому названье? Он отвечал мне: «Валерик, А перевесть на ваш язык, Так будет речка смерти: верно, Дано старинными людьми». «А сколько их дралось примерно Сегодня?» – «Тысяч до семи». «А много горцы потеряли?» «Как знать? – зачем вы не считали!» «Да! будет, – кто-то тут сказал, — Им в память этот день кровавый!» Чеченец посмотрел лукаво И головою покачал. Но я боюся вам наскучить, В забавах света вам смешны Тревоги дикие войны; Свой ум вы не привыкли мучить Тяжелой думой о конце; На вашем молодом лице Следов заботы и печали Не отыскать, и вы едва ли Вблизи когда-нибудь видали, Как умирают. Дай вам Бог И не видать: иных тревог Довольно есть. В самозабвенье Не лучше ль кончить жизни путь? И беспробудным сном заснуть С мечтой о близком пробужденье? Теперь прощайте: если вас Мой безыскусственный рассказ Развеселит, займет хоть малость, Я буду счастлив. А не так? Простите мне его как шалость И тихо молвите: чудак!..1840
Завещание
Наедине с тобою, брат, Хотел бы я побыть: На свете мало, говорят, Мне остается жить! Поедешь скоро ты домой: Смотри ж… Да что? моей судьбой, Сказать по правде, очень Никто не озабочен. А если спросит кто-нибудь… Ну, кто бы ни спросил, Скажи им, что навылет в грудь Я пулей ранен был, Что умер честно за царя, Что плохи наши лекаря И что родному краю Поклон я посылаю. Отца и мать мою едва ль Застанешь ты в живых… Признаться, право, было б жаль Мне опечалить их; Но если кто из них и жив, Скажи, что я писать ленив, Что полк в поход послали И чтоб меня не ждали. Соседка есть у них одна… Как вспомнишь, как давно Расстались!.. Обо мне она Не спросит… все равно, Ты расскажи всю правду ей, Пустого сердца не жалей; Пускай она поплачет… Ей ничего не значит!1840
Оправдание
Когда одни воспоминанья О заблуждениях страстей, Наместо славного названья, Твой друг оставит меж людей И будет спать в земле безгласно То сердце, где кипела кровь, Где так безумно, так напрасно С враждой боролася любовь, Когда пред общим приговором Ты смолкнешь, голову склоня, И будет для тебя позором Любовь безгрешная твоя, — Того, кто страстью и пороком Затмил твои младые дни, Молю: язвительным упреком Ты в оный час не помяни. Но пред судом толпы лукавой Скажи, что судит нас иной И что прощать святое право Страданьем куплено тобой.1841
Родина
Люблю отчизну я, но странною любовью! Не победит ее рассудок мой. Ни слава, купленная кровью, Ни полный гордого доверия покой, Ни темной старины заветные преданья Не шевелят во мне отрадного мечтанья. Но я люблю – за что, не знаю сам — Ее степей холодное молчанье, Ее лесов безбрежных колыханье, Разливы рек ее, подобные морям; Проселочным путем люблю скакать в телеге И, взором медленным пронзая ночи тень, Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, Дрожащие огни печальных деревень; Люблю дымок спаленной жнивы, В степи ночующий обоз И на холме средь желтой нивы Чету белеющих берез. С отрадой, многим незнакомой, Я вижу полное гумно, Избу, покрытую соломой, С резными ставнями окно; И в праздник, вечером росистым, Смотреть до полночи готов На пляску с топаньем и свистом Под говор пьяных мужичков.1841
«На севере диком стоит одиноко…»
На севере диком стоит одиноко На голой вершине сосна И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим Одета, как ризой, она. И снится ей все, что в пустыне далекой, В том крае, где солнца восход, Одна и грустна на утесе горючем Прекрасная пальма растет.1841
<Из альбома С. Н. Карамзиной>
Любил и я в былые годы, В невинности души моей, И бури шумные природы, И бури тайные страстей. Но красоты их безобразной Я скоро таинство постиг, И мне наскучил их несвязный И оглушающий язык. Люблю я больше год от году, Желаньям мирным дав простор, Поутру ясную погоду, Под вечер тихий разговор, Люблю я парадоксы ваши, И ха-ха-ха, и хи-хи-хи, С<мирновой> штучку, фарсу Саши И Ишки М<ятлева> стихи…1841
Договор
Пускай толпа клеймит презреньем Наш неразгаданный союз, Пускай людским предубежденьем Ты лишена семейных уз. Но перед идолами света Не гну колени я мои; Как ты, не знаю в нем предмета Ни сильной злобы, ни любви. Как ты, кружусь в веселье шумном, Не отличая никого: Делюся с умным и безумным, Живу для сердца своего. Земного счастья мы не ценим, Людей привыкли мы ценить; Себе мы оба не изменим, А нам не могут изменить. В толпе друг друга мы узнали, Сошлись и разойдемся вновь. Была без радостей любовь, Разлука будет без печали.1841
«Прощай, немытая Россия…»
Прощай, немытая Россия, Страна рабов, страна господ, И вы, мундиры голубые, И ты, им преданный народ. Быть может, за стеной Кавказа Сокроюсь от твоих пашей, От их всевидящего глаза, От их всеслышащих ушей.1841
Утес
Ночевала тучка золотая На груди утеса-великана; Утром в путь она умчалась рано, По лазури весело играя; Но остался влажный след в морщине Старого утеса. Одиноко Он стоит, задумался глубоко, И тихонько плачет он в пустыне.1841
Спор
Как-то раз перед толпою Соплеменных гор У Казбека с Шат-горою[14] Был великий спор. «Берегись! – сказал Казбеку Седовласый Шат, — Покорился человеку Ты недаром, брат! Он настроит дымных келий По уступам гор; В глубине твоих ущелий Загремит топор; И железная лопата В каменную грудь, Добывая медь и злато, Врежет страшный путь. Уж проходят караваны Через те скалы, Где носились лишь туманы Да цари-орлы. Люди хитры! Хоть и труден Первый был скачок, Берегися! многолюден И могуч Восток!» «Не боюся я Востока! — Отвечал Казбек, — Род людской там спит глубоко Уж девятый век. Посмотри: в тени чинары Пену сладких вин На узорные шальвары Сонный льет грузин; И, склонясь в дыму кальяна На цветной диван, У жемчужного фонтана Дремлет Тегеран. Вот у ног Ерусалима, Богом сожжена, Безглагольна, недвижима Мертвая страна; Дальше, вечно чуждый тени, Моет желтый Нил Раскаленные ступени Царственных могил. Бедуин забыл наезды Для цветных шатров И поет, считая звезды, Про дела отцов. Все, что здесь доступно оку, Спит, покой ценя… Нет! не дряхлому Востоку Покорить меня!» «Не хвались еще заране! — Молвил старый Шат, — Вот на севере в тумане Что-то видно, брат!» Тайно был Казбек огромный Вестью той смущен; И, смутясь, на север темный Взоры кинул он; И туда в недоуменье Смотрит, полный дум: Видит странное движенье, Слышит звон и шум. От Урала до Дуная, До большой реки, Колыхаясь и сверкая, Движутся полки; Веют белые султаны, Как степной ковыль, Мчатся пестрые уланы, Подымая пыль; Боевые батальоны Тесно в ряд идут, Впереди несут знамены, В барабаны бьют; Батареи медным строем Скачут и гремят, И, дымясь, как перед боем, Фитили горят. И, испытанный трудами Бури боевой, Их ведет, грозя очами, Генерал седой. Идут все полки могучи, Шумны, как поток, Страшно-медленны, как тучи, Прямо на восток. И, томим зловещей думой, Полный черных снов, Стал считать Казбек угрюмый — И не счел врагов. Грустным взором он окинул Племя гор своих, Шапку[15] на́ брови надвинул — И навек затих.1841
«Они любили друг друга так долго и нежно…»
Sie liebten sich beide, doch keiner
Wollt’es dem andern gestehn.
Heine[16] Они любили друг друга так долго и нежно, С тоской глубокой и страстью безумно-мятежной! Но, как враги, избегали признанья и встречи, И были пусты и хладны их краткие речи. Они расстались в безмолвном и гордом страданье И милый образ во сне лишь порою видали. И смерть пришла: наступило за гробом свиданье… Но в мире новом друг друга они не узнали.1841
Сон
В полдневный жар в долине Дагестана С свинцом в груди лежал недвижим я; Глубокая еще дымилась рана, По капле кровь точилася моя. Лежал один я на песке долины; Уступы скал теснилися кругом, И солнце жгло их желтые вершины И жгло меня – но спал я мертвым сном. И снился мне сияющий огнями Вечерний пир в родимой стороне. Меж юных жен, увенчанных цветами, Шел разговор веселый обо мне. Но, в разговор веселый не вступая, Сидела там задумчиво одна, И в грустный сон душа ее младая Бог знает чем была погружена; И снилась ей долина Дагестана; Знакомый труп лежал в долине той; В его груди, дымясь, чернела рана, И кровь лилась хладеющей струей.1841
Тамара
В глубокой теснине Дарьяла, Где роется Терек во мгле, Старинная башня стояла, Чернея на черной скале. В той башне высокой и тесной Царица Тамара жила: Прекрасна, как ангел небесный, Как демон, коварна и зла. И там сквозь туман полуночи Блистал огонек золотой, Кидался он путнику в очи, Манил он на отдых ночной. И слышался голос Тамары: Он весь был желанье и страсть, В нем были всесильные чары, Была непонятная власть. На голос невидимой пери Шел воин, купец и пастух; Пред ним отворялися двери, Встречал его мрачный евну́х. На мягкой пуховой постели, В парчу и жемчу́г убрана, Ждала oнa гостя… Шипели Пред нею два кубка вина. Сплетались горячие руки, Уста прилипали к устам, И странные, дикие звуки Всю ночь раздавалися там. Как будто в ту башню пустую Сто юношей пылких и жен Сошлися на свадьбу ночную, На тризну больших похорон. Но только что утра сиянье Кидало свой луч по горам, Мгновенно и мрак и молчанье Опять воцарялися там. Лишь Терек в теснине Дарьяла, Гремя, нарушал тишину; Волна на волну набегала, Волна погоняла волну; И с плачем безгласное тело Спешили они унести; В окне тогда что-то белело, Звучало оттуда: прости. И было так нежно прощанье, Так сладко тот голос звучал, Как будто восторги свиданья И ласки любви обещал.1841
Листок
Дубовый листок оторвался от ветки родимой И в степь укатился, жестокою бурей гонимый; Засох и увял он от холода, зноя и горя И вот, наконец, докатился до Черного моря. У Черного моря чинара стоит молодая; С ней шепчется ветер, зеленые ветви лаская; На ветвях зеленых качаются райские птицы; Поют они песни про славу морской царь-девицы. И странник прижался у корня чинары высокой; Приюта на время он молит с тоскою глубокой, И так говорит он: «Я бедный листочек дубовый, До срока созрел я и вырос в отчизне суровой. Один и без цели по свету ношуся давно я, Засох я без тени, увял я без сна и покоя. Прими же пришельца меж листьев своих изумрудных, Немало я знаю рассказов мудреных и чудных». «На что мне тебя? – отвечает младая чинара, — Ты пылен и желт, – и сынам моим свежим не пара. Ты много видал – да к чему мне твои небылицы? Мой слух утомили давно уж и райские птицы. Иди себе дальше; о странник! тебя я не знаю! Я солнцем любима, цвету для него и блистаю; По небу я ветви раскинула здесь на просторе, И корни мои умывает холодное море».1841
«Нет, не тебя так пылко я люблю…»
1
Нет, не тебя так пылко я люблю, Не для меня красы твоей блистанье: Люблю в тебе я прошлое страданье И молодость погибшую мою.2
Когда порой я на тебя смотрю, В твои глаза вникая долгим взором: Таинственным я занят разговором, Но не с тобой я сердцем говорю.3
Я говорю с подругой юных дней, В твоих чертах ищу черты другие, В устах живых уста давно немые, В глазах огонь угаснувших очей.1841
«Выхожу один я на дорогу…»
1
Выхожу один я на дорогу; Сквозь туман кремнистый путь блестит; Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, И звезда с звездою говорит.2
В небесах торжественно и чудно! Спит земля в сиянье голубом… Что же мне так больно и так трудно? Жду ль чего? жалею ли о чем?3
Уж не жду от жизни ничего я, И не жаль мне прошлого ничуть; Я ищу свободы и покоя! Я б хотел забыться и заснуть!4
Но не тем холодным сном могилы… Я б желал навеки так заснуть, Чтоб в груди дремали жизни силы, Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;5
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, Про любовь мне сладкий голос пел, Надо мной чтоб, вечно зеленея, Темный дуб склонялся и шумел.1841
Морская царевна
В море царевич купает коня; Слышит: «Царевич! взгляни на меня!» Фыркает конь и ушами прядет, Брызжет и плещет и дале плывет. Слышит царевич: «Я царская дочь! Хочешь провесть ты с царевною ночь?» Вот показалась рука из воды, Ловит за кисти шелко́вой узды. Вышла младая потом голова, В косу вплелася морская трава. Синие очи любовью горят; Брызги на шее, как жемчуг, дрожат. Мыслит царевич: «Добро же! постой!» За косу ловко схватил он рукой. Держит, рука боевая сильна: Плачет и молит и бьется она. К берегу витязь отважно плывет; Выплыл; товарищей громко зовет: «Эй, вы! сходитесь, лихие друзья! Гляньте, как бьется добыча моя… Что ж вы стоите смущенной толпой? Али красы не видали такой?» Вот оглянулся царевич назад: Ахнул! померк торжествующий взгляд, Видит, лежит на песке золотом Чудо морское с зеленым хвостом; Хвост чешуею змеиной покрыт, Весь замирая, свиваясь, дрожит; Пена струями сбегает с чела, Очи одела смертельная мгла. Бледные руки хватают песок; Шепчут уста непонятный упрек… Едет царевич задумчиво прочь. Будет он помнить про царскую дочь!1841
Пророк
С тех пор как Вечный Судия Мне дал всеведенье пророка, В очах людей читаю я Страницы злобы и порока. Провозглашать я стал любви И правды чистые ученья: В меня все ближние мои Бросали бешено каменья. Посыпал пеплом я главу, Из городов бежал я нищий, И вот в пустыне я живу, Как птицы, даром Божьей пищи; Завет предвечного храня, Мне тварь покорна там земная; И звезды слушают меня, Лучами радостно играя. Когда же через шумный град Я пробираюсь торопливо, То старцы детям говорят С улыбкою самолюбивой: «Смотрите: вот пример для вас! Он горд был, не ужился с нами: Глупец, хотел уверить нас, Что Бог гласит его устами! Смотрите ж, дети, на него: Как он угрюм, и худ, и бледен! Смотрите, как он наг и беден, Как презирают все его!»1841
«Из-под таинственной, холодной полумаски…»
Из-под таинственной, холодной полумаски Звучал мне голос твой отрадный, как мечта, Светили мне твои пленительные глазки И улыбалися лукавые уста. Сквозь дымку легкую заметил я невольно И девственных ланит и шеи белизну. Счастливец! видел я и локон своевольный, Родных кудрей покинувший волну!.. И создал я тогда в моем воображенье По легким признакам красавицу мою; И с той поры бесплотное виденье Ношу в душе моей, ласкаю и люблю. И все мне кажется: живые эти речи В года минувшие слыхал когда-то я; И кто-то шепчет мне, что после этой встречи Мы вновь увидимся, как старые друзья.1841
Комментарии
П о э т («Когда Рафаэль вдохновенный…»). – Тема стихотворения предложена поэтом С. Е. Раичем.
Р о м а нс («Коварной жизнью недовольный…»). – Написано по случаю отъезда в Италию поэта и критика С. П. Шевырева, который принимал близкое участие в издании журнала «Московский вестник».
В 1829 году в редакции «Московского вестника» произошел раскол. Его причиной послужила полемика Шевырева с Ф. Булгариным. Шевырев оставил работу в журнале и уехал в Италию.
Гельвеция – Швейцария.
П о р т р е т ы. – В автографе возле первого портрета имеется приписка Лермонтова: «Этот портрет был доставлен одной девушке: она в нем думала узнать меня: вот за какого эгоиста принимают обыкновенно поэта».
Второй портрет, вероятно, относится к кому-то из участников пансионского «общества любителей отечественной словесности» («Он добр, член нашего Парнаса»). Возможно, и остальные портреты представляют собой эпиграммы на пансионских товарищей Лермонтова.
Р у с с к а я м е л о д и я. – В автографе – позднейшая (зачеркнутая) приписка Лермонтова: «Эту пьесу подавал за свою Раичу Дурнов – друг, – которого поныне люблю и уважаю за его открытую и добрую душу – он мой первый и последний». Лермонтов сочинил это стихотворение по просьбе Дурнова, который представил его Раичу как свое собственное.
Н а п о л е о н («Где бьет волна о брег высокой…»). – Лермонтов изображает величие и падение Наполеона, образ которого олицетворяет, в его представлении, романтического героя и наследника французской свободы, завоеванной в 1789 году.
Ж а л о б ы т у р к а. – В стихотворении иносказательно говорится о политической жизни России после разгрома декабристского движения. Условное изображение деспотических порядков в царской России под видом Турции было в литературе первой трети XIX столетия весьма распространенным явлением.
К д р у г у («Взлелеянный на лоне вдохновенья…»). – Первоначально было озаглавлено «Эпилог (к Д….ву)».
М о н о л о г. – В стихотворении звучит вопрос о судьбе своего поколения, вступающего в жизнь после разгрома декабрьского восстания 1825 года.
«О д и н с р е д и л ю д с к о г о ш у ма…». – Впервые обнаружено в 1962 году в архиве А. М. Верещагиной, хранившемся у профессора М. Винклера. Рядом с текстом стихотворения в автографе имеется позднейшая помета Лермонтова: «1830 года в начале».
З в е з д а («Вверху одна…»). – Стихотворение печатается по копии из альбома А. М. Верещагиной. Оно должно было открывать книгу избранной лирики, задуманную Лермонтовым в 1832 году.
К а в к а з. – Летом 1825 года Лермонтов познакомился на кавказских водах с десятилетней девочкой. «Кто мне поверит, – записал он 8 июля 1830 года, – что я знал уже любовь, имея 10 лет от роду? Мы были большим семейством на водах Кавказских…»
Об этой привязанности поэт вспоминает в третьей строфе. Стихотворение написано весной 1830 года.
В е с н а. – Первое стихотворение Лермонтова, появившееся в печати (с подписью «L») («Атеней», 1830, ч. IV).
В а л ь б о м («Нет! – я не требую вниманья…»). – Попытка передать стихотворение Байрона «Lines written in an Album at Malta» («Строки, написанные в альбом на Мальте»).
Н а п о л е о н («В неверный час, меж днем и темнотой…»). – В строках: «Сей острый взгляд с возвышенным челом И две руки, сложенные крестом», «Под шляпою, с нахмуренным челом, И две руки, сложенные крестом» перефразированы стихи из VII главы «Евгения Онегина» Пушкина, появившейся в свет в марте 1830 года.
Э л е г и я («Дробись, дробись, волна ночная…»). – В стихотворении ощущается связь с «Элегией» Пушкина («Погасло дневное светило») и поэмой «Цыганы».
К*** («Не думай, чтоб я был достоин сожаленья…»). – В 1830 году в Лондоне вышла книга «Письма и дневники Дж.-Г. Байрона, составленная его другом – поэтом Томасом Муром» («Letters and journals of Byron, with notices on his life»). Сравнивая себя с Байроном («У нас одна душа, одни и те же муки»), шестнадцатилетний Лермонтов завидует «уделу» британского поэта, который погиб в Греции, куда приехал, чтобы сражаться за свободу и независимость греческого народа (1824).
П р е д с к а з а н и е. – Написано под впечатлением крестьянских восстаний, участившихся в 1830 году в связи с эпидемией холеры.
В русской литературе и в бытовой речи привилегированных классов выражение «черный год» было общепринятым обозначением пугачевщины.
10 и ю л я (1830). – Окончание стихотворения неизвестно: лист тетради, на котором было написано продолжение, вырван. По поводу уцелевшей части высказывались четыре гипотезы:
1. Стихотворение представляет собою отклик на известие об июльской революции в Париже.
2. Оно написано в связи с польским восстанием 1830 года.
3. Это обращение к кавказским горцам.
4. В стихотворении идет речь о восстании албанских патриотов.
Н и щ и й. – В своих «Записках» Е. А. Сушкова рассказывает, как в августе 1830 года большая компания молодежи отправилась пешком из Середникова в Троице-Сергиеву лавру. На паперти лавры стоял слепой нищий. Услыхав звон монет, брошенных в его чашечку, он стал благодарить за подаяние: «Пошли вам Бог счастие, добрые господа; а вот намедни приходили сюда тоже господа, тоже молодые, да шалуны, насмеялись надо мною: наложили полную чашечку камушков».
В тот же день Лермонтов написал стихотворение, в последней строфе которого обращается к Сушковой, посмеявшейся над его чувством.
Н о ч ь («Один я в тишине ночной…»). – В автографе рядом с заглавием – дата: «(1830 года ночью. Августа 28)».
М о г и л а б о й ц а. – В автографе под стихотворением – дата: «1830 год – 5 октября. Во время холеры-morbus».
П и р А с м о д е я. – Стихотворение представляет собою острую политическую сатиру. Во второй строфе упоминается «приезжий», имя которого Лермонтов в своей тетради заменил звездочками. Так как оно должно рифмоваться со словом «правил», то было высказано предположение, что поэт имел в виду императора Павла I.
Вино свободы – намек на французскую революцию 1830 года и на революционное движение в Европе (народы «начали в куски короны бить»).
Последняя строфа – отклик на эпидемию холеры, разразившуюся в России осенью 1830 года.
К *** («О, полно извинять разврат!..»). – В мае 1830 года в «Литературной газете» появилось послание Пушкина «К вельможе». Поэт обращался к князю Н. Б. Юсупову – сановнику екатерининского времени. Юсупов бывал во многих странах, встречался с Вольтером, Дидро, Бомарше, в 1789 году находился в Париже и стал свидетелем французской революции. Именно этим и привлекла Пушкина фигура Юсупова.
Многими современниками послание к нему было воспринято как измена традициям гражданской поэзии.
Слухи о «смирении» Пушкина, об отказе его от прежних взглядов побудили шестнадцатилетнего Лермонтова обратиться к великому поэту с призывом оставаться певцом вольности и гражданского мужества, гордиться судьбою изгнанника.
«Изгнанье из страны родной» – бессарабская ссылка Пушкина.
В о л н ы и л ю д и. – Автограф этого стихотворения утрачен. Оно дошло до нас в списке, изобилующем множеством описок, которых сам Лермонтов не заметил.
П о л е Б о р о д и н а. – Первое обращение Лермонтова к теме Отечественной войны и к Бородинскому сражению. Образ рассказчика и описание боя еще лишены исторической конкретности, но в стихотворении уже появились афористические строки («И клятву верности сдержали Мы в бородинский бой», «И ядрам пролетать мешала Гора кровавых тел»), которые в 1837 году Лермонтов использовал в стихотворении «Бородино».
И з А н д р е я Ш е н ь е. – Лермонтов приписал стихотворение французскому поэту Андре Шенье, видимо, для того, чтобы зашифровать его откровенный политический смысл. В то время в списках распространялся отрывок из стихотворения Пушкина «Андрей Шенье» под заглавием «На 14 декабря». Многие воспринимали его как отклик на декабрьские события 1825 года. Возможно, Лермонтов выставил имя Шенье, следуя пушкинской традиции.
М о й д е м о н. – В 1829 году, одновременно с первым наброском поэмы «Демон», Лермонтов написал стихотворение «Мой демон». Работая над новыми редакциями поэмы, он вернулся к этому стихотворению и переработал его.
Ж е л а н и е. – В стихотворении использованы сведения из родословной, в которой говорится о шотландском происхождении родоначальника фамилии Лермонтовых – Джорджа (Георга) Лермонта.
А т а м а н. – В стихотворении использованы мотивы народных песен о Степане Разине.
К Н. И – Н. И. – Наталья Иванова, дочь московского
поэта и драматурга Ф. Ф. Иванова (1777–1816), с которой Лермонтов познакомился в 1830 году. История их отношений отразилась в драме «Странный человек» (1831) и во многих стихотворениях, объединенных темой любви и измены.
В о л я – подражание народным песням.
«З о в и н а д е ж д у с н о в и д е н ь е м…». – Посвящено Е. А. Сушковой.
«П р е к р а с н ы в ы, п о л я з е м л и р о д н о й…». – Могильная гряда и позабытый прах – могила отца, Ю. П. Лермонтова, умершего 1 октября 1831 года в селе Кропотовке Ефремовского уезда Тульской губернии. Памяти отца Лермонтов посвятил стихотворения «Ужасная судьба отца и сына…», «Эпитафия» и строфу стихотворения «Я видел тень блаженства…».
К кн. Л. Г – ой. – Предположительно стихотворение обращено к княжне Л. Горчаковой, двоюродной сестре Н. Ф. Ивановой.
А н г е л. – В 1839 году стихотворение появилось в «Одесском альманахе на 1840 год». Его составлял возвратившийся из ссылки Н. И. Надеждин – профессор Московского университета, критик, историк искусства, редактор журнала «Телескоп». Желая принять участие в альманахе, Лермонтов отдал Надеждину, лекции которого он слушал в годы студенчества, юношеское стихотворение «Ангел». Это единственное из юношеских произведений, которое он опубликовал при жизни со своим полным именем. Замысел стихотворения возник в связи с воспоминанием о песне, которую певала Лермонтову покойная мать.
«У ж а с н а я с у д ь б а о т ц а и с ы н а…». – Лермонтов говорит о смерти отца.
Свершил свой подвиг – торжественно-книжное архаическое выражение, означающее завершение жизненного пути.
«П у с т ь я к о г о-н и б у д ь л ю б л ю…». – В автографе имеются вычеркнутый заголовок «(Стансы)» и вычеркнутые строфы – 1-я и 3-я.
Строфа 1-я:
Гляжу вперед сквозь сумрак лет, Сквозь луч надежд, которым нет Определенья, и они Мне обещают годы, дни, Подобные минувшим дням, Ни мук, ни радостей, а там Конец – ожиданный конец: Какая будущность, Творец!Строфа 3-я:
Я сын страданья. Мой отец Не знал покоя по конец. В слезах угасла мать моя: От них остался только я, Ненужный член в пиру людском, Младая ветвь на пне сухом; В ней соку нет, хоть зелена, — Дочь смерти – смерть ей суждена!Судьба родителей Лермонтова была несчастной. Вскоре после брака они разъехались. Мать поэта – Мария Михайловна – умерла в 1817 году, в возрасте 21 год. Юрий Петрович Лермонтов пережил ее на 14 лет и умер в одиночестве, вдали от сына.
«Я н е д л я а н г е л о в и р а я…». – Написано по окончании работы над второй редакцией «Демона» и представляет собою своего рода послесловие к поэме.
«Н а с т а н е т д е н ь – и м и р о м о с у ж д е н н ый…». – В стихотворениях: «1831-го июня 11 дня», «Романс к И…», «Из Андрея Шенье», «Не смейся над моей пророческой тоскою…», «Когда твой друг с пророческой тоскою…» – Лермонтов постоянно возвращается к мысли о том, что ему суждено совершить какой-то подвиг в борьбе за «дело общее», что его ожидает гибель на плахе или изгнание и смерть на чужбине.
К Д. – К кому обращено стихотворение – не установлено.
О т р ы в о к («Три ночи я провел без сна – в тоске…»). – К 1831 году относятся две записи, в которых намечен сюжет исторической поэмы или стиховой драмы о Мстиславе Черном. Действие ее должно было происходить в Киевской Руси во времена татарского нашествия. Сохранился план, в котором записано: «Мстислав три ночи молится на кургане, чтоб не погибло любезное имя России».
«Отрывок» представляет собой монолог Мстислава из этого неосуществленного сочинения.
Б а л л а д а («В избушке позднею порою…»). – «Баллада» также возникла в связи с замыслом исторической поэмы или драмы о Мстиславе.
«Я н е л ю б л ю т е б я; с т р а с т е й…». – В 1837 году Лермонтов переработал это стихотворение и включил его в сборник, вышедший в свет в 1840 году (см. «Расстались мы, но твой портрет…»).
«Л ю б л ю я ц е п и с и н и х г о р…». – Возможно, что это фрагмент поэмы «Измаил-Бей» – авторское отступление, не использованное в окончательной редакции.
К * («Я не унижусь пред тобою…»). – Прощальное послание к Н. Ф. Ивановой.
«И з м у ч е н н ы й т о с к о ю и н е д у г о м…». – Обращено к Н. Ф. Ивановой.
«Н е т, я н е Б а й р о н, я д р у г о й…». – В кругу почитателей Лермонтова его поэзия пользовалась признанием уже в начале 1830-х годов. Можно предположить, что кто-то из них сравнил его с Байроном.
С о н е т («Я памятью живу с увядшими мечтами…»). – Обращено к Н. Ф. Ивановой.
К * («Мы случайно сведены судьбою…»). – Первое стихотворение, обращенное к Варваре Александровне Лопухиной (1814–1851).
«Я ж и т ь х о ч у! х о ч у п е ч а л и…». – Стихотворение дошло до нас в тексте письма Лермонтова к С. А. Бахметевой (август 1832 г.).
Д в а в е л и к а н а. – В образе двух великанов в сказочно-аллегорической форме изображена борьба русского народа с Наполеоном и изгнание его из России в 1812 году.
Неведомый гранит – остров Святой Елены в Атлантическом океане, на котором Наполеон находился в ссылке после окончательного своего поражения в 1815 году вплоть до смерти (в 1821 г.).
П а р у с. – Одно из самых совершенных юношеских стихотворений поэта, в котором отражены мятежные настроения передовой русской интеллигенции 30-х годов XIX века. Написано на берегу Финского залива, вскоре после переезда в Петербург, в августе 1832 года. 2 сентября Лермонтов послал текст «Паруса» в Москву, в письме М. А. Лопухиной.
Первая строка – «Белеет парус одинокой» – совпадает со стихом из поэмы декабриста А. А. Бестужева-Марлинского «Андрей, князь Переяславский».
«О н б ы л р о ж д е н д л я с ч а с т ь я, д л я н а д е ж д…». – Первая строфа почти без изменений вошла в стихотворение «Памяти А. И. Одоевского» (1839). Вторая использована в «Думе» (1838).
Р у с а л к а. – В сборнике стихотворений Лермонтова 1840 года «Русалка» напечатана с датой: «1836». После находки так называемой «казанской тетради» автографов выяснилось, что она написана в 1832 году.
Г у с а р. – Красные доломаны и шитые золотом ментики – форма лейб-гвардии Гусарского полка, в который Лермонтов был зачислен по вступлении в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.
Ю н к е р с к а я м о л и т в а. – Автограф неизвестен. Печатается по копии, которая принадлежала родственнику поэта А. П. Шан-Гирею.
Умирающий гладиатор. – Эпиграф – из поэмы Байрона «Чайльд-Гарольд» (песнь IV, строфа СХ): «Я вижу перед собою лежащего гладиатора».
Стихотворение представляет собою вольное переложение четвертой песни байроновской поэмы (CXXXIX–CXLI).
Е в р е й с к а я м е л о д и я («Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..»). – Вольный перевод стихотворения Байрона «My soul is dark» («Hebrew melodies»).
С м е р т ь П о э т а. – Гибель Пушкина вызвала среди широчайших кругов петербургского населения огромное негодование по адресу Дантеса и его приемного отца Геккерена и небывалое выражение любви к поэту. Столичное общество резко разделилось на два лагеря: аристократия во всем обвиняла Пушкина и оправдывала Дантеса, демократические круги восприняли гибель поэта как национальное бедствие.
Мощное выражение общественного протеста заставило правительство Николая I принять чрезвычайные меры: дом поэта в час выноса был оцеплен жандармами, панихида в Исаакиевской церкви отменена и отслужена в церкви придворной, куда пускали по специальным билетам, гроб с телом Пушкина отправлен в псковскую деревню ночью, тайно и под конвоем. Друзья Пушкина обвинены в намерении устроить из погребения поэта политическую манифестацию.
Стихотворение Лермонтова было воспринято в русском обществе как выдающееся по смелости выражение политического протеста.
Есть сведения, что стихотворение распространялось в списках уже 30 января – на другой день после смерти поэта. К «Делу о непозволительных стихах…» приложена копия, под которой выставлена дата: «28 Генваря 1837 года» – тогда как Пушкин умер только 29-го. Однако следует иметь в виду, что слух о том, что Пушкин умер, распространялся несколько раз в продолжение двух с половиной дней, в частности вечером 28-го. Видимо, в этот вечер Лермонтов и написал первую часть «элегии» после горячего спора с приятелями, навестившими его на квартире, где он жил вместе с другом своим Святославом Раевским. С помощью друзей и сослуживцев Раевского – чиновников департамента государственных имуществ и департамента военных поселений этот текст был размножен и распространился по городу во множестве списков.
7 февраля к Лермонтову приехал его родственник – камер-юнкер Николай Столыпин, один из ближайших сотрудников министра иностранных дел Нессельроде. Возник спор о Пушкине и о Дантесе. Столыпин принял сторону убийцы поэта и, выражая враждебное отношение к Пушкину великосветских кругов и суждения, исходившие из салона злейшего врага Пушкина графини Нессельроде, стал утверждать, что Дантес не мог поступить иначе, чем поступил, что иностранцы не подлежат русскому суду и русским законам. Как бы в ответ на эти слова Лермонтов тут же приписал к стихотворению шестнадцать новых – заключительных – строк, начинающихся словами: «А вы, надменные потомки Известной подлостью прославленных отцов…»
До нас дошел список стихотворения, на котором неизвестный современник Лермонтова, чтобы пояснить, кого имел в виду автор, говоря о потомках «известной подлостью прославленных отцов», выставил фамилии графов Орловых, Бобринских, Воронцовых, Завадовских, князей Барятинских и Васильчиковых, баронов Энгельгардтов и Фредериксов, отцы и деды которых добились положения при дворе путем искательства, любовных связей, закулисных интриг, «поправ» при этом «обломки… обиженных родов» – то есть тех, чьи предки издревле отличались на полях брани или на государственном поприще, а затем – в 1762 году – при воцарении Екатерины II, подобно Пушкиным, впали в немилость.
Копии с текстом заключительных строк «Смерти Поэта» стали распространяться, и стихотворение ходило по рукам с «прибавлением» и без «прибавления». Текст с прибавлением, в свою очередь, раздавался в двух вариантах – одном без эпиграфа, другом с эпиграфом, заимствованным из трагедии французского драматурга XVII столетия Жана Ротру «Венцеслав» (в переводе А. Жандра):
Отмщенья, государь, отмщенья! Паду к ногам твоим: Будь справедлив и накажи убийцу, Чтоб казнь его в позднейшие века Твой правый суд потомству возвестила, Чтоб видели злодеи в ней пример.После того как Николай I получил по городской почте список стихотворения с надписью «Воззвание к революции» и заключительные строки были квалифицированы как «вольнодумство, более чем преступное», Лермонтов, а затем и Раевский подверглись аресту. Семидневное расследование дела о «непозволительных стихах» закончилось ссылкой – Лермонтова на Кавказ, в Нижегородский драгунский полк, Раевского, виновного в распространении стихов, – в Олонецкую губернию.
Впервые (без эпиграфа) стихотворение было напечатано в 1856 году за границей: Герцен поместил его в своей «Полярной звезде».
Заброшен к нам по воле рока… – Имеется в виду убийца Пушкина Жорж Шарль Дантес, французский монархист, сторонник Карла Х; эмигрировал из Франции после июльской революции 1830 года; в 1833-м появился в Петербурге, был принят на военную службу и введен в высший свет; участвовал в травле Пушкина; после дуэли выслан из России.
Как тот певец, неведомый, но милый… – Речь идет о Владимире Ленском, персонаже романа Пушкина «Евгений Онегин».
Б о р о д и н о. – Впервые появилось в 1837 году в шестой книжке журнала «Современник».
Есть основания думать, что стихотворение попало в редакцию «Современника» при жизни Пушкина. Написано в связи с 25-летием Отечественной войны 1812 года.
«Бородино» – первое произведение Лермонтова, появившееся в печати с подписью его имени и с его ведома. «Бородино» составляет начало литературно-журнальной известности Лермонтова.
Впервые в русской поэзии рассказывает о великом событии и дает ему историческую оценку солдат, рядовой участник сражения. Бородинская битва описана «изнутри», изображена самая гуща боя. Лермонтов описывает сражение очень конкретно и точно: солдат в стихотворении – артиллерист, место сражения – курганная батарея Раевского. Язык рассказчика полон метких изречений и простонародных словечек. В основу «Бородина» легли рассказы участников исторической битвы, в том числе родственников Лермонтова, отличившихся на Бородинском поле. Смысл «Бородина» не сводится к точности описаний и верности исторической оценки сражения. Белинский в статье (1841) о стихотворениях Лермонтова отмечал, что вся основная идея «Бородина» выражена во втором куплете, которым начинается ответ старого солдата:
– Да, были люди в наше время, Не то, что нынешнее племя: Богатыри – не вы!«Эта мысль – жалоба на настоящее поколение, дремлющее в бездействии, зависть к великому прошедшему, столь полному славы и великих дел», – писал Белинский, указывая, что «тоска по жизни» связывает «Бородино» с целым рядом стихотворений Лермонтова, полных «энергии и благородного негодования».
Лев Толстой назвал «Бородино» «зерном» своей «Войны и мира».
В е т к а П а л е с т и н ы. – Знакомый Лермонтова, Андрей Николаевич Муравьев – видный сановник и литератор, утверждал, что «Ветка Палестины» была написана в его квартире, когда Лермонтов приезжал к нему с просьбой похлопотать по делу о стихах на смерть Пушкина. «Долго ожидая меня, – говорит Муравьев, – написал он… чудные свои стихи «Ветка Палестины», которые по внезапному вдохновению у него исторглись в моей образной, при виде палестинских пальм, принесенных мною с Востока».
Иордан – река в Палестине.
Солим – Иерусалим.
У з н и к. – Стихотворение написано в феврале 1837 года, когда Лермонтов сидел под арестом в здании Главного штаба за сочинение стихов на смерть Пушкина. В это время к нему пускали только его камердинера, приносившего обед. Поэт велел ему завертывать хлеб в серую бумагу и на этих клочках с помощью вина, печной сажи и спички написал несколько стихотворений: «Когда волнуется желтеющая нива…», «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…», «Кто б ни был ты, печальный мой сосед…». И переделал старую пьесу «Отворите мне темницу…».
«К о г д а в о л н у е т с я ж е л т е ю щ а я н и в а…». – А. П. Шан-Гирей в своих воспоминаниях утверждал, что стихотворение написано в феврале 1837 года, когда Лермонтов находился под арестом в здании Главного штаба. Это утверждение не расходится с датой, которую Лермонтов выставил в сборнике стихотворений 1840 года: «1837». Белинский включил это стихотворение в число тех, где «гармонически и благоуханно высказывается душа поэта…»
М о л и т в а («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»). – В письме к Марии Лопухиной от 15 февраля 1838 года озаглавлено «Молитва странника». Странником Лермонтов иносказательно называет себя в стихах, написанных в год ссылки. Уже после возвращения из ссылки Лермонтов пишет, что случайно нашел стихотворение в дорожных бумагах и оно ему «довольно-таки нравится именно потому, что я забыл его – впрочем, это ничего не доказывает». Стихотворение обращено, возможно, к Варваре Лопухиной.
«Р а с с т а л и с ь м ы, н о т в о й п о р т р е т…». – Переработка юношеского стихотворения «Я не люблю тебя; страстей И мук умчался прежний сон…», написанного в 1831 году и обращенного к Е. А. Сушковой.
«С п е ш а н а с е в е р и з д а л е к а». – Написано в Тифлисе или на Военно-Грузинской дороге, при возвращении из ссылки «на север» – в Россию.
К и н ж а л. – В поэзии XVIII–XIX веков образ кинжала – символ борьбы за свободу. В лирике Лермонтова он связан с проявлением лучших человеческих качеств: чести, доблести, благородства, стремления к свободе и независимости в самом широком смысле.
Несомненно Лермонтов знал распространявшееся нелегальным путем стихотворение Пушкина «Кинжал» (1821): «Лемносский бог тебя сковал Для рук бессмертной Немезиды». Тон лермонтовского стихотворения выглядит как намеренный отказ от пафоса пушкинского «Кинжала».
«О н а п о е т – и з в у к и т а ю т…». – Существует предположение, что поэт обращается к известной певице П. А. Бартеневой, с которой он был знаком еще по Москве, а в Петербурге встречался в салоне Карамзиных.
<А. Г. Х о м у т о в о й>. – Анна Григорьевна Хомутова (1784–1856) – двоюродная сестра и друг молодости известного поэта Ивана Ивановича Козлова. Жизнь разлучила их, и свиделись они лишь в 1838 году, когда слепой Козлов лежал, разбитый параличом. Встреча с Хомутовой вдохновила его на стихотворение «К другу весны моей после долгой, долгой разлуки».
С Козловым часто встречались родственники Лермонтова Столыпины, жившие в 1838 году в Петербурге. Сохранились свидетельства, что с ним был знаком и сам Лермонтов, а в доме своего полкового командира М. Г. Хомутова встречался с сестрой Козлова – Анной Григорьевной, которая показала ему однажды стихи Козлова. «Он попросил позволения взять их с собой и на другой день возвратил их со своими стихами на имя Хомутовой» (Русский архив. 1886. № 2).
Д у м а. – Связь этого программного стихотворения с «Думами» и «Гражданином» Рылеева несомненна. Лермонтов выступил с ним на страницах «Отечественных записок» (1839. № 2). Передовые люди 1830—1840-х годов увидели в «Думе» выражение собственных мыслей и чувств и приводили нередко лермонтовские строки в своих письмах и дневниках. «Эти стихи писаны кровью; они вышли из глубины оскорбленного духа, – писал Белинский, – это вопль, это стон человека, для которого отсутствие внутренней жизни есть зло, в тысячу раз ужаснейшее физической смерти!.. И кто же из людей нового поколения не найдет в нем разгадки собственного уныния, душевной апатии, пустоты внутренней и не откликнется на него своим воплем, своим стоном?..»
П о э т («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»). – Лермонтов, вслед за декабристами и Пушкиным, трактует поэта как непременного участника политической борьбы. Он сравнивает слово поэта с кинжалом и с вечевым колоколом – символами свободы, а в последней строфе искусно сводит воедино образ поэта и образ кинжала. «Вот оно, – восхищался Белинский, – то бурное одушевление, та трепещущая, изнемогающая от полноты своей страсть…»
К а з а ч ь я к о л ы б е л ь н а я п е с н я. – Сохранилось предание, будто Лермонтов написал стихотворение в станице Червленой, на Тереке. Молодая красавица казачка напевала песню над колыбелью сына своей сестры. И казак, переносивший в комнату вещи поэта, рассказывал потом, что Лермонтов присел тут же к столу, набросал на клочке бумажки «Казачью колыбельную песню», а потом прочел ее вслух, чтобы узнать его мнение.
Белинский восторженно отзывался об этом стихотворении: «Все, что есть святого, беззаветного в любви матери, – писал он, – весь трепет, вся нега, вся страсть, вся бесконечность кроткой нежности, безграничность бескорыстной преданности, какою дышит любовь матери, – все это воспроизведено поэтом во всей полноте».
«Р е б е н к а м и л о г о р о ж д е н ь е…». – Написано при известии о рождении сына у Алексея Александровича Лопухина – друга университетской поры.
Н е в е р ь с е б е. – Эпиграф заимствован из «Пролога» к сборнику «Ямбы» французского поэта Огюста Барбье. По мысли Лермонтова, страсти и страдания поэта – не тема поэзии, если сам он не откликается на злободневные вопросы современности. Стихотворение направлено против тех, кто профанирует высокое и вдохновенное искусство холодной риторикой, избитой формой выражения, неестественностью, позой.
Т р и п а л ь м ы. – «Стихотворение Лермонтова чудесно, божественно, – писал Белинский Краевскому. – Боже мой! Какой роскошный талант! Право, в нем таится что-то великое…» Анализируя достоинства этого стихотворения, критик отмечал, что «пластицизм и рельефность форм и яркий блеск восточных красок сливают в этой пьесе поэзию с живописью: это картина Брюллова, смотря на которую хочешь еще и осязать ее…».
«Жаль этих прекрасных пальм, не правда ли? – писал Чернышевский. – Но что ж, ведь не век было расти и цвести им, – не ныне, так завтра, не завтра, так через год, умерли бы они, – ведь уж и листья их начинали вянуть: смерти не избежит никто. Так не лучше ли умереть для пользы людей, нежели бесполезно? Не надобно ли, жалея о прекрасных пальмах, с тем вместе признать, что смерть их была лучшею, прекраснейшею минутою всей их жизни, потому что они умерли для спасения людей от холода и хищных зверей?.. Когда хорошенько подумаешь обо всем этом, невольно скажешь: хороша жизнь, но самое лучшее счастье – не пожалеть, если надобно, и самой жизни своей для блага людей!» (Звенья. 1950. Т. 8. С. 540–541).
Фарис – всадник, витязь.
М о л и т в а («В минуту жизни трудную…»). – По словам А. О. Смирновой-Россет, Лермонтов написал «Молитву» для Марии Алексеевны Щербатовой.
Д а р ы Т е р е к а. – В образах этой баллады отразился интерес Лермонтова к казачьим песням и сказам, в которых Терек и Каспий предстают в поэтических одушевлениях. Излюбленные образы этих песен – удалой казак, девица «с русою косой», вороной конь, упоминаются кабардинские уздени в кольчугах, с «позлащенными налокотниками». Белинский назвал «Дары Терека» поэтическою апофеозою Кавказа, а в письме к В. Боткину от 9 февраля 1840 года писал: «Итак, о Лермонтове. Каков его «Терек»? Черт знает – страшно сказать, а мне кажется, что в этом юноше готовится третий русский поэт и что Пушкин умер не без наследника!»
П а м я т и А. И. О д о е в с к о г о. – Поэт Александр Иванович Одоевский (1802–1839) – активный член Северного общества декабристов. За участие в восстании на Сенатской площади был приговорен к двенадцати годам каторги. Отбывал заключение в Читинском остроге и на Петровском заводе, «обращен на поселение». От имени ссыльных декабристов ответил Пушкину на его «Послание в Сибирь»: «Струн вещих пламенные звуки…» В 1837 году последовал приказ перевести Одоевского в Грузию рядовым в Нижегородский драгунский полк, где в то время служил сосланный Лермонтов. 15 августа 1839 года Одоевский умер от лихорадки на берегу Черного моря. Стихотворение написано вскоре после того, как известие о его смерти дошло до Петербурга. Оно появилось в «Отечественных записках» (1839. № 12) под заглавием «Памяти А. И. О – го».
«Е с т ь р е ч и – з н а ч е н ь е…». – Прочитав стихотворение Краевскому и Панаеву, Лермонтов поинтересовался их впечатлением. Похвалив стихи, Краевский отметил ошибку: «из пламя и света», тогда как правильно будет «из пламени». Подойдя к столу, поэт попытался переделать эту строку, но затем бросил перо, сказав: «Печатай так, как есть…»
«Н а б у й н о м п и р ш е с т в е з а д у м ч и в о н с и д е л…». – В основу стихотворения положен рассказ о том, как французский писатель-роялист Ж. Казот (1719–1792) на обеде у одного вельможи задолго до французской буржуазной революции якобы совершенно точно предсказал и революцию, и судьбы всех присутствовавших, в том числе свою собственную. В 1792 году Казот был гильотинирован.
Источником этой легенды послужил вымышленный рассказ «Пророчество Казота», принадлежавший писателю Ж.-Ф. Лагарпу.
Стихотворение не окончено.
«К а к ч а с т о, п е с т р о ю т о л п о ю о к р у ж е н…». – В конце 1839 года в белоколонном зале Дворянского собрания на Михайловской площади в Петербурге был устроен новогодний бал-маскарад. На этом балу присутствовал Лермонтов. «На бале Дворянского собрания, – вспоминал впоследствии И. С. Тургенев, – ему не давали покоя, беспрестанно приставали к нему, брали его за руки; одна маска сменялась другою, а он почти не сходил с места и молча слушал их писк, поочередно обращая на них свои сумрачные глаза. Мне тогда же почудилось, что я уловил на лице его прекрасное выражение поэтического творчества».
Биограф поэта, П. Висковатов, утверждал, что Лермонтов намекает в своих стихах на встречу с дочерьми Николая I, и сообщал со слов А. Краевского, что многие выражения в этом стихотворении «показались непозволительными».
И с к у ч н о и г р у с т н о. – «Поймут ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, всю трагическую сторону нашего существования? – писал в 1842 году в своем дневнике А. И. Герцен. – Поймут ли они, отчего мы лентяи, ищем всяких наслаждений… Отчего руки не подымаются на большой труд? Отчего в минуту восторга не забываем тоски?..»
Белинский назвал «И скучно и грустно» сатирой и ставил наравне с «Думой». Отмечая, что Лермонтов раскрыл в своем стихотворении трагические противоречия в мировоззрении своего современника, и не имея возможности прямо писать об этом, Белинский сопоставил «И скучно и грустно» с «Героем нашего времени». «Вспомните Печорина, – писал великий критик, – этого странного человека, который, с одной стороны, томится жизнию, презирает и ее, и самого себя… носит в себе какую-то бездонную пропасть желаний и страстей, ничем не насытимых, а с другой – гонится за жизнию, жадно ловит ее впечатления, безумно упивается ее обаяниями; вспомните его любовь к Бэле, к Вере, к княжне Мери, и потом поймите эти стихи…»
Из Г е т е. – Вольный перевод второй части стихотворения Гете «Wanderers Nachtlied» («Ночная песнь странника») («Uber allen Gipfeln Ist Ruh…»), в текст которого Лермонтов вложил иной смысл. У Гете – картина постепенно засыпающей природы: последним так же мирно отходит ко сну человек. Лермонтов обещает вечный отдых от житейских невзгод.
<М. А. Щ е р б а т о в о й>. – Относится к Марии Алексеевне Щербатовой, о которой Лермонтов говорил: «…Такая, что ни в сказке сказать, ни пером написать». Светская молва связывала имя Щербатовой с дуэлью Лермонтова и Баранта. А. И. Тургенев, встретивший М. А. Щербатову в Москве, где в это время находился Лермонтов, направлявшийся в кавказскую ссылку, записал в дневнике: «Сквозь слезы смеется. Любит Лермонтова».
В о з д у ш н ы й к о р а б л ь. – Написано около 15 марта 1840 года в ордонанс-гаузе – в петербургской офицерской тюрьме в связи со слухами о том, что французское правительство намерено перенести прах Наполеона с острова Св. Елены в Париж, Стихотворение представляет собою переделку баллады австрийского романтика И. X. Цедлица (у Лермонтова – Зейдлица) «Geisterchiff» («Корабль призраков»). Лермонтов опустил все упоминания о призраках, которые управляют кораблем. Описания Лермонтова реальнее и материальнее, чем у Цедлица. Белинский писал: «Лермонтов взял у немецкого поэта только идею, но обработал ее по-своему. Эта пьеса, по своей художественности, достойна великой тени, которой колоссальный облик так грандиозно представлен в ней».
С о с е д к а. – Написано в конце марта или в начале апреля 1840 года, когда арестованный за дуэль с Барантом Лермонтов содержался в офицерской тюрьме – ордонанс-гаузе. А. П. Шан-Гирей, навещавший его в заключении, помнил, что «здесь написана была пьеса «Соседка», только с маленьким прибавлением. Она действительно была интересная соседка, я ее видел в окно, но решеток у окна не было, и она была вовсе не дочь тюремщика, а, вероятно, дочь какого-нибудь чиновника, служащего при ордонанс-гаузе, где и тюремщиков нет, а часовой с ружьем точно стоял у двери». В. А. Соллогуб, навестивший Лермонтова во время ареста, рассказывал, будто бы видел даже портрет этой девушки, рисованный Лермонтовым, с надписью «la jolie fille de sous-officier» («хорошенькая унтер-офицерская дочка»).
Ж у р н а л и с т, ч и т а т е л ь и п и с а т е л ь. – Написано в марте 1840 года в связи с обострившейся литературной борьбой между органом Белинского – «Отечественными записками» и «Сыном отечества», которым руководили Греч, Булгарин и Полевой.
С начала 1840 года издатель «Отечественных записок» Краевский стал выпускать еще и «Литературную газету» – рупор «Отечественных записок». Газета напечатала пародийные очерки Ивана Панаева о журналистах враждебного лагеря, а «Сын отечества» ответил тем, что высмеял виньетку, украшавшую заголовок «Литературной газеты». Редакция «Литературной газеты» уличила журнал Греча в невежестве. Отвечая «Литературной газете», «Сын отечества» издевательски процитировал напечатанное ею стихотворение Лермонтова. «Поверить словам вашим, – писал «Сын отечества», – и скучно и грустно, и некому, – как говорит какой-то поэт у вас на стр. 135». Вслед за тем стихотворения «Как часто, пестрою толпою окружен…», «И скучно и грустно» были подвергнуты «Сыном отечества» уничтожающей критике в статье А. Никитенки. Поэту было брошено обвинение в недовольстве существующим порядком вещей. «Литературная газета» ответила резкой пародией на Н. Полевого. Чем выше ставили Лермонтова «Литературная газета» и «Отечественные записки», тем отрицательнее отзывался о нем «Сын отечества».
Эпиграф – «Поэты похожи на медведей, которые кормятся тем, что сосут свою лапу» – представляет собою прозаический перевод двустишия Гете из его «Изречений в стихах» («Sprüche in Reimen»).
Несомненна связь между пушкинским «Разговором книгопродавца с поэтом» и лермонтовским «Журналистом, читателем и писателем».
П л е н н ы й р ы ц а р ь. – Напечатано впервые в «Отечественных записках» (1841. № 8) после гибели Лермонтова, но предназначено к печати самим поэтом, так как августовский номер журнала вышел в свет раньше, чем в Петербурге было получено известие из Пятигорска.
<М. П. С о л о м и р с к о й>. – Зимой 1839/40 года Лермонтов часто встречался с великосветской красавицей Марией Петровной Соломирской. Она была страстно увлечена его поэзией. Вероятно, стихотворение было вписано в альбом М. П. Соломирской после освобождения из-под ареста.
О т ч е г о. – Существует предположение, что стихотворение обращено к М. А. Щербатовой.
Б л а г о д а р н о с т ь. – Белинский спрашивал: «Какая мысль скрывается в этой грустной «благодарности», в этом сарказме обманутого чувством и жизнию сердца?» И отвечал: «Это утомление чувством; сердце просит покоя и отдыха, хотя не может жить без волнения и движения».
А. О. С м и р н о в о й. – Александра Осиповна Смирнова, урожденная Россет (1809–1882), фрейлина царского двора, находилась в дружеских отношениях с Пушкиным, Жуковским, Гоголем и была тесно связана со всем кругом писателей, встречавшихся в салоне Карамзиных и у нее. К числу ее хороших знакомых принадлежал и Лермонтов. «Софи Карамзина мне раз сказала, – вспоминала Смирнова, – что Лермонтов был обижен тем, что я ничего ему не сказала об его стихах. Альбом всегда лежал на маленьком столике в моем салоне. Он пришел как-то утром, не застал меня, поднялся наверх, открыл альбом и написал эти стихи…»
К п о р т р е т у. – В 1840 году известный французский художник А. Греведон литографировал портрет петербургской светской красавицы двадцатидвухлетней графини А. К. Воронцовой-Дашковой. В связи с этим дружески относившийся к ней Лермонтов и написал посвящение «К портрету».
Т у ч и. – В. А. Соллогуб рассказывал П. А. Висковатову, что стихотворение было написано в день отъезда Лермонтова в кавказскую ссылку в доме Карамзиных, где собрались друзья, чтобы проститься с ним перед разлукой. Предполагают, что послание адресовано В. А. Бахметевой (урожденной Лопухиной).
<В а л е р и к>. – Стихотворение стало известно после гибели Лермонтова. Белинский писал, что стихотворение полно «какого-то отрадного чувства выздоровления и надежды и пленяет роскошью поэтических образов…». Черновой автограф доставил с Кавказа в Москву родственник и друг поэта А. А. Столыпин. С Кавказа же была доставлена и копия, сохранившаяся в архиве Ю. Ф. Самарина: ее привез офицер И. Голицын.
В послании описана экспедиция генерала Галафеева на левый фланг Кавказской линии и происшедшее 11 июля кровопролитное сражение на речке Валерик в Чечне. Сосланный в кавказскую армию, Лермонтов принимал участие в походе, отличился в сражении при Валерике и был представлен к награде. Представляя его к ордену, Галафеев писал, что Лермонтову было поручено наблюдать за действиями передовой штурмовой колонны и уведомлять о ее продвижении, «что было сопряжено с величайшею для него опасностью». Несмотря на это, Лермонтов «исполнял возложенное на него поручение с отменным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы».
Поэт точно изобразил действительные события и в то же время умело отобрал и обобщил самое главное. Лермонтов изображает войну с точки зрения ее рядового участника – без всяких прикрас, с огромным уважением к доблести русских солдат и офицеров.
Белинский относил «Валерик» к числу «замечательнейших произведений» Лермонтова и отмечал, что оно отличается «этою стальною прозаичностью выражения, которая составляет отличительный характер поэзии Лермонтова и которой причина заключалась в его мощной способности смотреть прямыми глазами на всякую истину, на всякое чувство, в его отвращении прикрашивать их».
Добиваясь максимальной простоты в передаче своих впечатлений, Лермонтов отбрасывает торжественные слова, которые ассоциируются с традиционными военными описаниями. Стиль Лермонтова все больше сближается с обыденной повседневной речью, при этом оставаясь высокопоэтичным.
Валерик, или Валарик, – речка в Чечне, приток Сунжи. Название это происходит от чеченского слова «валлариг» – мертвый. Поэтому Лермонтов и называет Валерик «речкой смерти», вкладывая в это двойной смысл: носящая название «речки смерти», она в день сражения действительно стала речкой смерти.
З а в е щ а н и е. – Написано в 1840 году под впечатлением походов отряда Галафеева в Большую и Малую Чечню. Белинский высоко оценил стихотворение, отметив, что в нем «голос не глухой и не громкий, а холодно спокойный; выражение не горит и не сверкает образами, но небрежно и прозаично…».
О п р а в д а н и е. – Напечатано при жизни Лермонтова. Автограф неизвестен. В основу «Оправдания» положены юношеские стихотворения «Романс к И…» (1831) и «Когда одни воспоминанья…» из трагедии «Странный человек» (1831).
Р о д и н а. – Сохранился автограф, где стихотворение озаглавлено «Отчизна». В «Отечественных записках» (1841. № 4) названо «Родина». Напечатано в то время, когда Лермонтов находился в Петербурге, отпущенный на короткое время из кавказской армии для свидания с родными. Белинский в письме от 13 марта 1841 года с восторгом пишет об этом стихотворении как о новинке: «Лермонтов еще в Питере. Если будет напечатана его «Родина» – то, аллах-керим, – что за вещь – пушкинская, т. е. одна из лучших пушкинских».
«Полнейшего выражения чистой любви к народу, гуманнейшего взгляда на его жизнь нельзя и требовать от русского поэта», – писал в 1858 году об этом стихотворении Добролюбов, утверждавший, что поэт «понимает любовь к родине истинно, свято и разумно».
«Н а с е в е р е д и к о м с т о и т о д и н о к о…». – П. П. Вяземский вспоминал: «Накануне отъезда своего на Кавказ Лермонтов по моей просьбе мне перевел шесть стихов Гейне: «Сосна и пальма». Немецкого Гейне нам принесла С. Н. Карамзина. Он наскоро, в недоделанных стихах, набросал на клочке бумаги свой перевод. Я подарил его тогда же княгине Юсуповой. Вероятно, это первый набросок, который сделал Лермонтов, уезжая на Кавказ в 1841 году…»
В альбоме З. И. Юсуповой-Шове (Пушкинский дом, Санкт-Петербург) вклеен листок с автографом Лермонтова. На листке помета, сделанная неизвестной рукой: «Писано в Санкт-Петербурге, перед отъездом на Кавказ, в 1841 году, М. Ю. Лермонтовым».
Это первая редакция стихотворения, снабженная эпиграфом из стихотворения Гейне:
Ein Fiechtenbaum steht einsam Im Norden auf kahler Höh. Heine На хладной и голой вершине Стоит одиноко сосна, И дремлет… под снегом сыпучим, Качаяся дремлет она. Ей снится прекрасная пальма В далекой восточной земле, Растущая тихо и грустно На жаркой песчаной скале.Лермонтов отступил от оригинала, изменив грамматический род слова «еin Fiechtenbaum». По-немецки сосна «он», а пальма «она». Поэтому у Гейне – стихотворение о судьбе двух влюбленных, которым не суждено встретиться; в основе лермонтовского стихотворения лежит мысль об одиночестве.
<И з а л ь б о м а С. Н. К а р а м з и н о й>. – В стихотворении отразились разговоры, которые Лермонтов часто вел в Петербурге в салоне Е. А. Карамзиной, вдовы известного историка Н. М. Карамзина. Душой этого салона, его настоящей хозяйкой была дочь Карамзина от первого брака Софья Николаевна Карамзина (1802–1856), высоко ценившая талант Лермонтова. В ее доме поэт встречался с Жуковским, Вяземским, В. Ф. Одоевским, Соболевским, А. И. Тургеневым, поэтессой Е. П. Ростопчиной, А. О. Смирновой, с И. П. Мятлевым и многими другими – литераторами, художниками, музыкантами.
Лермонтов упоминает ее брата, Александра Николаевича Карамзина («Сашу»), Александру Осиповну Смирнову (см. стихотворение «А. О. Смирновой») и поэта Ивана Петровича Мятлева – «Ишку», как звали его в дружеском кругу.
Д о г о в о р. – Лермонтов использовал текст своего юношеского стихотворения «Прелестнице» (1832).
«П р о щ а й, н е м ы т а я Р о с с и я…». – Наименование пашей – турецких военных сановников – в России иронически переносилось на жандармов. Поэт выражает надежду сокрыться «от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей».
Первый биограф поэта П. А. Висковатов предполагал, что стихотворение написано в 1841 году, накануне последнего отъезда поэта в кавказскую ссылку, после того как дежурный генерал граф Клейнмихель вызвал его к себе и передал предписание Бенкендорфа покинуть столицу в сорок восемь часов.
У т е с. – И черновой автограф и беловой сохранились в альбоме, который подарил Лермонтову В. Ф. Одоевский накануне последнего отъезда поэта на Кавказ. Белинский относил «Утес» к числу лучших стихотворений Лермонтова.
С п о р. – А. А. Краевский передавал слова Лермонтова, сказанные накануне его последнего отъезда на Кавказ: «Я многому научился у азиатов, и мне бы хотелось проникнуть в таинства азиатского миросозерцания, зачатки которого и для самих азиатов, и для нас еще мало понятны. Но, поверь мне, – обращался он к Краевскому, – там, на Востоке, тайник богатых откровений».
Под «Востоком» Лермонтов подразумевал Кавказ. Эти слова свидетельствуют о все возраставшем интересе Лермонтова к народам Кавказа, к их истории, быту, культуре. Замысел «Спора» возник у Лермонтова после свидания с Ермоловым в Москве, зимой 1841 года.
С о н. – Замысел «Сна» мог быть внушен Лермонтову песней гребенских казаков «Ох, не отстать-то тоске-кручинушке». В ней поется о добром молодце, который видит во сне, будто он лежит убитый, с простреленным сердцем «на дикой степе».
«Они любили друг друга так долго и нежно…». – Вольный перевод стихотворения Гейне «Sie liebten sich beide, doch keiner…», первые две строки которого стали эпиграфом.
Т а м а р а. – В основу баллады положена грузинская легенда о царице Дарье, жившей когда-то в старинной башне над Тереком (вторая половина VII в.). Легенда гласит, что царица волшебною силою завлекала к себе на ночь путников, а под утро обезглавливала их и трупы сбрасывала в Терек.
Л и с т о к. – Образ листка, гонимого бурей, в русской и европейской литературе конца XVIII – первой половины XIX столетия был широко распространенным символом судьбы политического изгнанника.
«Н е т, н е т е б я т а к п ы л к о я л ю б л ю…». – Предположительно стихотворение написано на Кавказе летом 1841 года. Возможно, Лермонтов обращается в нем к своей дальней родственнице, Екатерине Быховец, молодой девушке, проводившей лето в Пятигорске. Быховец говорила потом, что поэт любил ее за то, что она напоминала ему Варвару Александровну Лопухину, на которую была очень похожа: «об ней его любимый разговор был». В последней строфе поэт говорит о В. А. Лопухиной, которая состояла в браке с нелюбимым человеком.
«В ы х о ж у о д и н я н а д о р о г у…». – Автограф – в записной книжке, подаренной Лермонтову В. Ф. Одоевским. Написано летом 1841 года.
М о р с к а я ц а р е в н а. – Автограф – в записной книжке Лермонтова, подаренной В. Ф. Одоевским. Написано вслед за стихотворением «Выхожу один я на дорогу…». Некоторые детали «Морской царевны» напоминают стихотворение «Яныш-королевич» из цикла «Песни западных славян» Пушкина.
П р о р о к. – Лермонтов продолжает тему пушкинского «Пророка». Он демонстративно начинает с того, на чем кончил Пушкин: «С тех пор, как Вечный Судия Мне дал всеведенье пророка…»
Пушкин написал свое стихотворение в начале 1826 года. Он утверждает в нем великое значение поэзии и великую роль поэта. В своем стихотворении, написанном через пятнадцать лет, Лермонтов исходит из такого же понимания роли поэта – проповедника высоких идей.
Примечания
1
К л ю ч е в с к и й В. О. Грусть (Памяти М. Ю. Лермонтова. Умер 15 июня 1841 года) // Собр. соч.: В 8 т. М., 1959. Т. 8. С. 114.
(обратно)2
Л е р м о н т о в М. Ю. «Синие горы Кавказа, приветствую вас…» // Собр. соч.: В 4 т. М.; Л., 1985. Т. 1. С. 354.
(обратно)3
Там же.
(обратно)4
Л е р м о н т о в М. Ю. Указ. изд. Т. 4. С. 528.
(обратно)5
Цит. по кн.: Щ е б л ы к и н И. П. Лермонтов: Жизнь и творчество. Саратов, 1990. С. 98.
(обратно)6
Ш о х и н К. Очерк истории развития эстетической мысли в России (Древнерусская эстетика XI–XVII веков). М., 1963. С. 8.
(обратно)7
П у ш к и н А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. М., 1958. Т. 7. С. 58.
(обратно)8
Л е р м о н т о в М. Ю. «Синие горы Кавказа, приветствую вас…» // Собр. соч.: В 4 т. М.; Л., 1985. Т. 4 (наброски, 1841). С. 525.
(обратно)9
Б е л и н с к и й В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1978. Т. 3. С. 238.
(обратно)10
Это слишком банально! (фр.) – Ред.
(обратно)11
Я вижу пред собой лежащего гладиатора… Байрон (англ.). – Ред.
(обратно)12
Какое нам, в конце концов, дело до грубого крика всех этих горланящих шарлатанов, торговцев пафосом, мастеров напыщенности и всех плясунов, танцующих на фразе? О. Барбье (фр.). – Ред.
(обратно)13
Поэты похожи на медведей, которые кормятся тем, что сосут свою лапу. Неизданное (фр.). – Ред.
(обратно)14
Ш а т – Элбрус. – Примеч. М. Ю. Лермонтова.
(обратно)15
Горцы называют шапкою облака, постоянно лежащие на вершине Казбека.
(обратно)16
Они любили друг друга, но ни один не желал признаться в этом другому. Гейне (нем.).
(обратно)

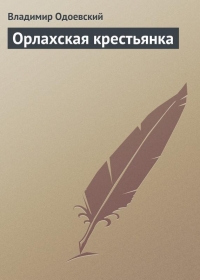
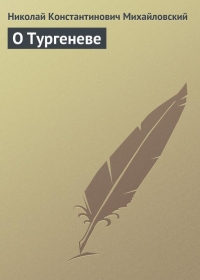

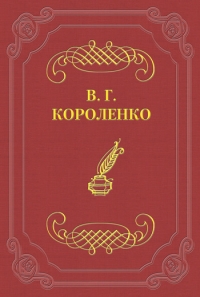
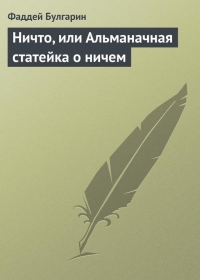



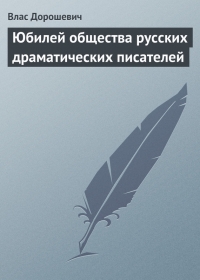
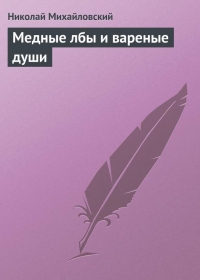
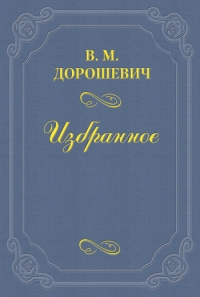

Комментарии к книге «Стихотворения», Михаил Юрьевич Лермонтов
Всего 0 комментариев