Иван Кондратьев Бич Божий. Божье знаменье
© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2011
© ООО «РИЦ Литература», 2011
Бич Божий
Часть первая. У берегов Немана
Глава I. Плотники-распинатели
Наступила весна 375 года, весна теплая, благоухающая.
По римскому летосчислению шел месяц май, по славянскому – время, посвященное Даждьбогу, как покровителю произрастаний земли, и богине любви Лола[1].
Осенила весна и землю венедскую, по которой извивалась широкая и светлая Немиза, река, носящая ныне название Немана.
В один из вешних дней, когда солнце светило особенно ярко и особенно шумно ликовала расцветающая природа, толпа плотников, веселая и говорливая, суетилась на берегу Немана: раздавался гулкий стук топоров, слышался лязг вбиваемых в дерево гвоздей.
Что делали плотники?
Плотники воздвигали целый ряд грубых бревенчатых крестов.
Несколько готовых крестов, полукругом, в разных направлениях, уже поднимались по берегам Немана, и плотники, видимо, торопились с окончанием своей работы…
Но для кого же воздвигались кресты эти? Кто такой пострадает на них?
Хороши, живописны берега Немана и теперь, когда рука нового человека всему придает свой однообразный, невеселей цвет и подводит все под одну свою неизменную мерку; хороши, живописны берега Немана и теперь, когда почти по всему протяжению его раскиданы то убогие рыбачьи хижины, то маленькие шляхетские фольварки, то старинные панские мызы и замки, то грандиозные костелы, свидетели многих безумных и кровавых дел. Но в конце IV столетия берега Немана, как вообще берега всех рек северославянской земли, представляли почти одну сплошную массу очаровательно-величественных дубовых, липовых, сосновых и кленовых лесов. Поднимая к облакам свои могучие лиственные вершины, только одним бурям покорялись они, укрывая под своими темными, без просветов, наметами тысячи птиц и тысячи зверей. Груды пней, кряжей, мхов и разросшихся кореньев служили им безопасным обиталищем, а множество ручьев, трясин, болот, озер, заросших травой окошек и бочагов не пропускали человека в эти таинственные лесные пучины… Да человек и не шел туда: там ждала его верная гибель…
Но гибель в то время висела и над бедными обитателями того края, в их жилищах.
Краем владели грубые и жестокие готы.
По северным сказаниям, или сагам, готы, теснимые из Азии, под владычеством Сиггэ Фридульфзона, т. е. Одена, пришли первоначально в Квенландию, в страну квенов, стало быть, в восточную часть Финнии, жители которой и по настоящее время называются квенами. В то время вся нынешняя Финляндия носила название Квенланд. Оттуда готы начали распространяться до Карпат и Дуная. В придунайских племенах, отстаивавших свои границы от побед Рима, готы нашли и собственную ограду и даже поборников против общего врага – римлян. Но, пользуясь междоусобиями князей, римляне успели перешагнуть через Дунай и основать за ним свои провинции. Троян довершил победы на Дунае и покорил Дацию. Готы принуждены были искать новоселья для своей централизации. Для них не оставалось иного пути, кроме как на север, и вот готы окончательно водворились в Скандии, в стране ситонов. Из Скандии готы, усиливаясь все более и более, при императоре Валентиниане I и Валенте (364–375 гг.) овладели почти всей восточной Европой и делали набеги на Фракию. Одни из готов, известные под именем тервингов или вестготов, жили на севере от Нижнего Дуная под властью нескольких князей, между которыми особенным влиянием пользовался Атанарик. Другая отрасль этого народа носила имя грутунгов, или остготов, и под властью своего короля Эрманарика, в соединении с несколькими подвластными народами другого происхождения, образовала большое государство, простиравшееся до берегов Дона. В состав этого государства, кроме других славянских племен, вошло и славянское племя вендов или венедов, жившее на Балтийском прибрежье, на Висле, Северной Двине и Немане.
Своего короля Эрманарика готы сравнивали с Александром Македонским; но остготский герой не проявил ни великодушия, ни мудрого правления великого героя, который умел быть милосердным с покоренными народами. Не тем прославился Эрманарик, наследник Геберика, в течение своего девятнадцатилетнего правления. Бесчеловечными казнями и муками прославился он.
Готский король надеялся этими средствами сдержать движение покоренных им народов.
Удалось ли ему это – доказали последствия.
Жестокости начали отзываться беспрестанными и буйными восстаниями.
Первыми восстали славяне, и особенно славяне-венеды, жившие на Балтийском прибрежье и по берегам Немана.
Они селились там с незапамятных времен, называя себя венедами.
Восстали венеды, – и вот на мирные берега Немана набежали целые полчища готов, и началась их обычная расправа. Все, что попадалось готам под руки, билось, резалось, истреблялось, топилось. Наконец в их руки попались и главные зачинщики восстания, с их семьями.
Это были венедские князья.
Для них-то вот и воздвигались кресты на берегу Немана.
Было уже за полдень, а работа все еще продолжалась: все еще стучали топоры, все еще звенели гвозди, все еще рылись глубокие ямы для вкапывания крестов.
Один из готов, по-видимому надсмотрщик за работами, долго сидел угрюмо на обрубке дуба, не обращая внимания на работающих, наконец поднял голову и закричал:
– Что ж, скоро ли?
В ответ ему послышалось несколько голосов:
– Вот только гвоздик один, и все!
– Погоди, не торопи, еще успеем распять этих собак. Много ли их тут?
– Много, не много, – говорил сосредоточенно надсмотрщик, – а к ночи не перевешаем всех.
– Перевешаем! – раздались голоса в толпе работающих, – еще столько, и то перевешали бы!
– Есть что вешать – сорок человек! – заговорил недовольным тоном один из плотников. – Из сорока человек и рук не стоит марать. По-моему, уж если распинать, так распинать человек триста: по крайней мере – вид хороший!
Плотники захохотали. В честь оратора послышались одобрения:
– Ай да Острад! Вот настоящий распинатель, так настоящий!
– Да что, – продолжал Острад, – сорок человек? Эка невидаль! Да и каких еще сорок человек-то! Козявки – не люди. Вот мы на Дунае распинали… тоже славян… Так вот это люди! Мы их там сотен пять в два дня распяли… Есть чем похвастать… Есть на что поглядеть… А то что!..
Острад махнул рукой, как будто давая этим знать, что о таких, в сущности, пустяках и говорить не стоит, да уж так – язык развязался, к слову пришлось.
И в самом деле, для плотников казни не составляли ужасающих зрелищ; они смотрели на них совершенно равнодушно и также равнодушно распинали несчастных. Это была их обязанность.
При военных отрядах готов, особенно любивших казнь распятием, плотники составляли нечто вроде касты палачей и повсюду им сопутствовали. Обязанность эта у них переходила от отца к сыну, от сына к внуку и т. д. Словом, это составляло у готов особенный род занятий, которым никто не пренебрегал. Кроме известной платы за труд, плотники пользовались еще одеждой приговоренных к распятию, какова бы она ни была; а для того чтобы кто-нибудь другой не воспользовался доходом, один из плотников состоял в действующем отряде и наблюдал над забираемыми. Мрачность занятия вовсе не мешала плотникам быть людьми веселого нрава. Исполняя свои обязанности, они шутили, смеялись, как и в другое время, за кружкой вина или чашей меда. Но если что могло приводить их в уныние, так это отсутствие привычной работы. Этого, однако, не случалось: работа была постоянная. Стало быть, плотники-распинатели жили припеваючи…
С чем человек не сживается!..
Но над человеком всегда висит переменчивая туча, и неведомо, над кем она разразится громом, кто попадет под ее губительные стрелы. Гром равно поражает: и могучий дуб, сотни лет красующийся над долиной, и молодую, только что вырастающую березку; равно поражает он и счастливого и несчастливого человека…
Готы были счастливы, готы ликовали. В их руках была вся северная Европа. Все богатства стекались к ним, все несло им свои дары, свою дань. Столетний герой Эрманарик отдыхал в ожидании разложения Римского организма, разъедаемого арианизмом, чтобы Рим прибрать к своим рукам. Казалось, не было уже спасения от готов. Но в это, по-видимому, блестящее время над «ледяным» владычеством готов собиралась невидимая туча. Провидение нежданно-негаданно готовило ему грозу в недрах его же преобладания…
Но когда же и как разразилась гроза эта?..
Поставленные полукругом в два ряда четыре десятка крестов были уже совершенно готовы, когда к ним приблизилась безмолвная процессия. Процессия эта состояла из сотни вооруженных с ног до головы готских витязей и толпы венедов – вождей, приговоренных к распятию. Витязи ехали на конях, украшенных серебром и кистями; венеды шли, привязанные цепями к седлам. Впереди всех ехал готский князь. На нем был золоченый шлем. На серебряном щите была изображена черная змея. Он остановился, за ним остановилась и безмолвная процессия. Окинув взглядом пленников, стоящих с непокрытыми головами, он обратился к надсмотрщику плотников:
– Все ли готово?
– Все: и кресты, и лестницы, и гвозди, – отвечал надсмотрщик, склонив голову в знак покорности.
Князь махнул рукой.
Плотники, с веревками, молотками и гвоздями в руках, стали у крестов. Витязи с пленниками подъехали к ним.
Воцарилось молчание.
Князь заговорил:
– Наш король, наш великий и бессмертный Эрманарик, вот уже девятнадцать лет повелевает готами! Наш король, наш великий и бессмертный Эрманарик, которому равного нет на земле, вот уже девятнадцать лет покоряет племена и народы! Ни один замок не устоит перед ним, ни один город не оставит запертыми ворот своих! Готы видели Фермопилы, готы видели Пелопоннес, готы овладели Коринфом и Спартой, готы были в Афинах. Все перед готами падало и преклонялось! Горе же народам, которые сопротивляются могуществу их!
– Горе! – крикнула толпа витязей.
И снова все смолкло.
Помолчав немного, князь продолжал:
– Где же они? Где эти безумцы, что против могущества готов?
– Мы! – сказали изнуренные пленники, как один человек, – мы, славяне!
В воздухе взвились плети витязей и веревки плотников-распинателей. Послышались отрывистые стоны и вздохи пленников: их бичевали. Бич подействовал. Пленники смолкли и снова стояли с понуренными головами.
Князь продолжал свою речь, но уже не тем спокойным и ровным голосом, каким он говорил прежде. Теперь голос его дрожал, в тоне слышалась исступленная досада. Он не ожидал такой смелой выходки со стороны пленников, жизнь которых висела уже на волоске.
– Славяне? – говорил он. – Но что ж такое славяне? Псы смердящие, только и годные для того, чтобы готы травили их на других псов, таких же смердящих, как и они! Откуда взялись славяне? Где их родина? Они, как иудеи, раскиданы по всей земле и служат всем рабами. Где их нет? Они везде. Они на Дунае, они на Эльбе, они на Дону и Днепре, они здесь, на Немане и Висле!
– Наша земля везде! – крикнул один из пленников. – Вы в нашей земле живете. Не мы псы – вы собаки рудые!
Князь вышел из терпения.
Речи его не суждено было окончиться, в которой он, без сомнения, в сильных и величественных выражениях хотел напомнить о могуществе готов и о низком происхождении славян.
Окончание речи его вылилось в одно слово:
– Начинай!
Заскрипели лестницы, застучали молотки, послышались голоса плотников: «подавай», «тяни», «готово». Раздались бессильные крики и проклятия пленников…
Началась готская расправа…
В самый разгар работы мимо крестов пронеслось несколько бешеных коней. Кони эти будто из-под земли выскочили. Как птицы пронеслись они мимо места казни и скрылись в отдалении.
Но не одни пронеслись они: к хвостам их, ногами вперед, были привязаны обнаженные дочери и жены несчастных венедских пленников…
Казнь эта называлась у готов «мыканьем». Мыкали конями одних только женщин…
К вечеру все пленники были уже распяты.
Тогда началось метание в умиравших копий. Кто лучше метал, того награждали криками одобрения. Это была своего рода игра, требовавшая много ловкости и хорошего зрения. Метавший должен был попасть копьем непременно в назначенное место, и, кроме того, чтобы воткнувшееся в тело копье некоторое время держалось горизонтально, потом уже падало. Метнувший должен был ловить копье и не допускать, чтобы оно упало на землю. Другие копья должны были держаться в теле до тех пор, пока метавший, на лошади, на всем скаку, подпрыгнув в седле, не выдергивал его. Многие из готов были так ловки в этой игре, что, взяв в руки по копью, они враз, моментально, метали их в распятого и попадали в оба глаза. В таком случае копья должны были держаться древками врозь, углом, как бы вроде лучей.
Игра вообще была для них занимательная; готы до страсти любили ее, отдавались ей с азартом и только тогда не кидали, когда уже явно видели вместо распятых тел одни клочья тела…
Так было и в настоящем случае.
Готы тогда только оставили распятых славянских князей, когда увидели, что метать уже не во что, и когда в их ушах перестали слышаться тяжелые, невыносимые стоны умирающих мучеников.
Оставили и ускакали на своих малорослых, но сильных конях, прокричав:
– Велик наш король Эрманарик! Смерть венедам и всем непокорным нашему великому королю!
За витязями оставили место казни и плотники-распинатели. Поделив добычу, утомленные, они уселись на несколько телег и тронулись в путь со всеми своими орудиями: цепями, веревками, молотами, топорами, гвоздями, лопатами. Ни слова сожаления о несчастных, ни одного прощального взора.
Один только Острад, видимо недовольный малочисленностью распятых, не удержался, чтобы не послать им своего недовольного слова:
– Эх вы, поросята! – пробурчал он, окинув взглядом все сорок крестов, уже начинавших окутываться вечерними сумерками. – Право, поросята!
Скоро на месте казни не было уже слышно человеческого голоса.
Тихо, незаметно, будто крадучись, надвигалась весенняя ночь на берега Немана.
Грозная береговая поляна, недавно столь шумная, столь кровавая, погрузилась в совершенный мир и совершенную безмятежность, точно никогда на ней и не происходило ничего постыдного, ничего возмутительного.
Все гуще и гуще надвигались сумерки, все черней и черней становился окружавший поляну лес. Но вот с запада сквозь причудливые вершины дубняка проскользнул один-другой просвет месяца, пробежала легкая полутень его, и он сам, красно-бледный, показал свое полукольцо. Легкие облачка, до того невидимые, набежали на него, окрасились, передали румянец другим своим волокнистым сестрам и повисли над ним, словно заколдованные. А месяц между тем царственно поднимался все выше и выше, зарумянивая сквозные облачка и целые обхваты могучих вершин векового дубняка, рисуя из них самые странные, сказочные формы. Чудилось, будто неисчислимые полчища неведомых, кудреватых существ ринулись на исходящий откуда-то свет, но вдруг, пораженные им, остановились и замерли на месте, понурив свои богатырские головы…
Взглянул месяц и на прибрежную поляну.
Но зачем он взглянул на нее?
Пусть бы дело тьмы и оставалось во тьме…
Чуя добычу, ночные хищные птицы уже реяли над крестами. Одна из них, усевшись на плече распятого, спокойно выклевывала уцелевший глаз. Другие искали лакомого куска, кидая от распластанных крыльев своих длинные, еще не отчетливые тени; острыми углами скользили они по истоптанной траве и по крестам, то исчезая, то снова появляясь. А во круг все тихо-тихо, как в могиле. Не слышно даже и берегового прибоя Немана. Молчал и Неман. И он, всегда говорливый, всегда неспокойный, казалось, не решался нарушить покоя навеки успокоившихся. А вон и еще показались тени. Это уже другие хищники. Старый волк тихо и осторожно высунулся откуда-то. Сверкнули два огонька. Постояли огоньки и двинулись вперед. Испытанный хищник не боялся опасности. За ним показались и другие… Будет пир, будет добыча…
Но вдруг огоньки моментально скрылись, быстрее задвигались тени пернатых хищников и что-то заскрипело…
Один из крестов качнулся…
– Пить! – тихо и протяжно простонал кто-то. – Пить!
Протяжный стон замер в воздухе…
И опять все тихо, и опять все безмолвно на береговой поляне Немана, недавно столь шумной, недавно столь кровавой…
Глава II. Совет старейшин
Эрманарик, король готский, поработил венедов.
Непривычные к войне, тихие, мирные, венеды сначала противоборствовали Эрманарику. Но многочисленная их толпа, нестройная, не привычная к войне, была ничтожна в битве против строевой силы готов.
Смирились венеды, засели в свои жилища и начали платить непосильную дань. Мало того: от них брали рабов, рабынь, мучили их, пахали на них, как на волах, землю, продавали их в неволю. Как тяжела была эта ледяная неволя, доказывается тем, что еще и по настоящее время можно слышать в Литве, где прежде селились славяно-венеды, следующую песню:
Перун, боже, Не мучь Жемайта, Мучь гота, Рудого пса.Бессилие ищет защиты в небесах, у Бога. Искали его и венеды. Но языческий бог их молчал. Защиты ниоткуда не было. Стало быть, надо было искать защиты в себе, надо было найти человека, который бы взялся предводительствовать венедами.
Такой человек нашелся…
Это был Болемир, один из молодых и храбрых князей венедских. Собрав толпу недовольных поработителями, он поднял восстание.
Покорив народ, готы прежде всего заботились об истреблении рода. Они, по обыкновению, распинали род их от мала до велика. Но не всегда удавалось им истребить всех и всякого. Князья оставались и жили до поры до времени где-нибудь в лесных трущобах или пещерах, укрываясь от готского преследования. Какой-нибудь бедняк из народа поддерживал существование укрывавшегося…
Таков был и Болемир венедский…
Он сначала укрывался от преследования готов, и венеды хранили его. Восстание Болемиру не удалось… Он и многие его помощники, из княжеского же рода, были захвачены и распяты на береговой поляне Немана. А жен и дочерей их, привязанных к хвостам коней, размыкали по полю.
Скрываясь в лесах, венеды судили-рядили о своих делах в тайных сборищах, таких тайных, что, казалось, сама дебря не подозревала, для кого и для чего собираются ее обитатели.
Сборища эти были невелики и совершались преимущественно в глухих углах венедских поселений, как, например, на берегах Немана. Совершались там, где жили на спокое старейшины венедские, когда-либо имевшие значение и силу. Оттуда уже решение сборищ разносилось по всему Балтийскому прибрежью, по Висле до Эльбы.
В то время как на одном берегу Немана стучали топоры плотников-распинателей, на другом берегу, в чаще леса, тысячеголосое эхо, захлебываясь и перекатываясь, разносило какие-то невыразимо дикие звуки: не то свист, не то гогот.
Птица ли это клокотала? Зверь ли завывал? Разобрать было трудно.
И не в одном месте слышались они.
Звуки носились по всей чаще. То в одном, то в другом месте раздавались они. Там исчезали, здесь – появлялись. Не успевало одно эхо протянуть начатого звука, как уже другое прерывало его, начинало само гоготать, разносилось, раздроблялось, рассыпалось, перебегало с ветки на ветку И тонуло в новозарождающемся эхе.
Бывали минуты, когда, казалось, весь лес превращался в море звуков, которые носились по нему, как голоса невидимых духов. Но минутами они совершенно смолкали. Тогда тишина леса представлялась заколдованным миром. Страшно было в этой тишине.
Но что за звуки раздавались в лесу? Свистал ли кто? Кричал ли кто?
Свистал и кричал человек.
Ныряя, как испуганный зверь, по мхам и по зарослям могучего бора то там то сям, он же разносил и эти невыразимо дикие звуки. Остановится, присядет, приложит ко рту длинную трубу – и завоет. Тут-то и начинало перекатываться тысячеголосое эхо.
Человек этот был венед.
В рысьей шапке, высокой, облоухой, сам небольшой, коренастый, с круглым, густо обросшим волосами лицом, он много походил на зверя. Особенно когда, дуя в трубу, щеки его сильно вздувались, волосы как бы щетинились, а глаза наливались кровью.
Не напрасно завывал венед.
Вой этот был призывным, условным знаком для венедов.
Всякий из венедов, кто заслышивал его, шел на одну из условных лесных полян, где происходили тайные совещания.
Ходить по хижинам, собирая на совещания, не было никакой возможности: хижины венедов были раскиданы по берегам Немана в таких чащах, в такой глуши, что только одни хозяева их и знали, как пробраться к ним и где их отыскать. У каждого были свои особые приметы, по которым он пролагал тропинки к жилищу своему. А звуки трубы всякий слышал и знал, что они значат.
В городах венедских и больших весях преобладали готы.
Венеды бежали из городов и весей, предпочитая глушь лесную готскому насилию. Готы не противились переселению. Это было согласно с их политикой. Разрозненный народ, по их понятию, был не опасен. Рабов же, рабынь и дань им доставляли беспрекословно.
Между тем в лесах-то и скоплялась сила, которая могла ринуться дальше и могла противостоять готскому владычеству.
Когда венед вынырнул на условную поляну, там уже на пнях сидели несколько человек седоволосых венедов, которые вели между собой тихую беседу.
Венед-трубач снова нырнул в чащу леса и снова завыл. И долго еще то там то сям слышалось его завывание. Наконец завывание замерло где-то, застыло, и дебря успокоилась.
На поляне уже была целая толпа венедов.
Собрались все больше седобородые старики. Молодых было мало.
На лицах собравшихся изображалось уныние и отчаяние. Всем было тяжело. Все знали, что на другом берегу Немана распинают их собратий. Все знали, что в это время многие из их собратий испускают дух свой.
Невыносимо то чувство, когда человек хочет, но не может помочь любимому существу. Чувство это часто превращается или в безнадежное отчаяние, или в зверское остервенение.
У собравшихся венедов было то и другое. На лице – отчаяние, на душе – пучина.
Все они тихо переговаривались между собой и чего-то ждали. Видимо, недоставало кого-то. Наконец этот «кто-то» появился.
Из леса вышел старик. Он шел не один. За руку его вел отрок.
Вышедший был Будли, старейший из князей венедских, когда-то знаменитый, храбрый. А теперь он жил в глухих дебрях Немана, на спокое. Он, как и другие князья венедские, скрывался от готов. Но не сам он скрывался: его скрывали любимые слуги. Старику уже было поздно жалеть себя: ему было уже за девяносто лет. Но он, однако, был крепок и свеж. Бодрый, седой, князь уподоблялся дубу, опушившемуся свежим инеем. Годы согнули князя, как волны морские сгибают весло рыболова, но князь не сломился. Длинные белоснежные волосы падали на крепкие плечи его. Лоб был широк и открыт. Только глазами был плох князь венедский. Видно было, что он слеп, но чувствовалось, однако, что он видит. На князе была длинная белая рубаха, голова его была открыта. Князья уважали народ и потому стояли перед ним с открытой головой.
При появлении Будли толпа замолкла.
Тихо, беззвучно приблизился князь Будли к толпе. Отрок стоял подле него. Отрок этот был внук Будли. Он был коротенький, головастый мальчонка, лет десяти. Широкие плечи обещали в нем будущего силача, сверкающие глазенки обличали в нем ум и вместе с тем какую-то странную дерзость и решительную отвагу. Двигался он неуклюже. Смотрел все больше в землю.
Постояв немного, князь Будли заговорил:
– Все ли собрались наши?
– Все! – было ему ответом.
Будли поднял голову.
– Братья! – задрожал его голос над толпой. – Мы гибнем! Что нам делать?
Все молчали.
– Гибнем! Гибнем!
Старый князь закрыл лицо руками.
В толпе послышался чуть слышный говор:
– Гибнем, батя, гибнем! Кто нас поратует?
Стихли. Молчание царило над толпой.
Дряхлый князь, казалось, собирался с духом, чтобы сказать нечто решительное, нечто неожиданное…
А толпа все молчала, как один человек. Чудилось, что это не люди стояли, с душой и сердцем, не люди, которых угнетала одна мысль, одно горе, одна беда, а заколдованные дубы-подростки, принявшие человеческие образы.
Князь наконец открыл лицо и поднял свою обремененную сединами голову.
– Братья! – сказал он тихо, будто очнувшись от долгого забытья. – Братья! Послушайте старика!
– Слушаем, батя, слушаем! – прогудела толпа.
– Девять десятков лет, – продолжал князь ровным, окрепшим голосом, – пронеслось над моей головой. Скоро десятому конец будет. Видел я горе, видел радости. У меня было два дцать шесть сыновей, вдвое больше внуков. Все они росли, все они любили родину свою дорогую, и все они положили головы свои за нее. Положили потому, что мы скованы по рукам и ногам. Знаменитое и вольное племя наше, племя венедов, потеряло свою волю, потеряло свои города, веси, земли, жен, дочерей, сыновей. Мы скрываемся в лесах, как звери дикие, чтобы готы не видели и не мучили нас. У нас берут тяжелую дань. Берут все, что мы имеем: и хлеб, и одежду, и питье. Берут у нас в неволю красавиц-дочерей, сыновей-подростков. Все у нас берут. Что же нам делать? Куда нам деваться? Ужели мы должны погибнуть? Ужели племя наше должно исчезнуть навсегда?
Будли остановился.
Толпа поняла, что он требует ответа, и загудела:
– Нет, нет, батя, не должно исчезнуть племя наше! Но что же нам делать, батя? Много нас, но сил у нас нет. Нет предводителей. Готы проклятые всех переловили и перевешали. Ты только один у нас и остался. Помоги, батя! Что ты скажешь, то мы и сделаем! Помоги!
– Помога моя вот какая, братья, – заговорил, успокоившись, князь. – Мы должны покинуть свою родину и искать, подобно своим предкам, новых поселений. Одна часть венедов пусть идет к Понтийскому морю, другая в Галлию, а третья на полночь, за море. Есть много свободных земель по Днепру, есть много их и в Галлии, есть много их и на полуночи. Пусть в Галлию ведет князь Радогост. На полуночь князь Олимер. К Понтийскому морю из вас кто-либо. Из князей у нас только и остались Радогост и Олимер.
– Да будет так, батя! – отвечали, как один человек, венеды. – Пусть гонцы разнесут эту весть по городам и весям венедским. Пусть народ готовится к выселению. Да будет так, батя! Слово твое – святое слово!
Дряхлый князь низко поклонился венедам.
– Добро вам, братья честные, что еще верите старику хилому. А лучшего дела нам не выдумать.
Толпа заволновалась и заговорила между собой.
В это время внук надел на дряхлого князя шапку и осторожно повел его в лес по той же тропинке, по которой вывел его.
В князе, по-видимому, миновалась надобность. Его дело было только сказать, дело других – исполнить.
Когда князь с внуком своим отошел довольно далеко от поляны, молчавший все время внук вдруг обратился к деду:
– Дедушка, а дедушка!
– Что тебе, дитятко?
– А мы с тобой, дедушка, выселяться будем?
– Куда нам с тобой выселяться, дитятко? Я стар, ты млад – оба никуда не годимся. Поживем покуда и здесь. Я помру. Ты подрастешь, – вот тогда и делай, что знаешь, и иди, куда хочешь.
– Я, дедушка, тебя не покину. Только мне очень хочется побывать в чужих сторонах. Я бы побывал во всех тех городах, про которые ты рассказывал. Там, должно, совсем другие люди живут.
– Нет, дитятко, все такие же люди, как и мы с тобой. Только в одном месте злые люди, в другом – добрые. А больше все злые. Хуже готов.
– Готы собаки, дедушка. Кабы моя воля была, я бы их всех перерезал.
– Трудно их перерезать, дитятко: готы народ сильный.
– А уж сильнее готов и нет, дедушка, никого больше?
– Нет. Они многими землями владеют. Один только римский император и не покорствует перед ними. Да и тот боится их. Готы, дитятко, страшный и сильный народ.
– Когда я вырасту, дедушка, плохо от меня будет готам.
– Ох, ты витязь мой, витязь! – засмеялся добродушно старик и погладил внука по голове.
Внук между тем насупился. Видимо, в его детской груди уже накипела затаенная злоба против ненавистного ему племени.
Долго внук и дед шли по лесной тропинке. Молчал внук, молчал и дед. Внук, как умел, поддерживал старика. Старик еле передвигал ноги и часто спотыкался. Наконец перед ними показалось несколько хижин, ютившихся под сенью лип на глухой лесной луговине. Жилища эти скорее походили на берлоги зверей, чем на дома человеческие.
Едва внук и дед приблизились к ним, как откуда-то, точно из-под земли, выбежала молодая девушка. Легкая, улыбающаяся, в белой длинной сорочке, перехваченной по стану тонким пояском, длинноволосая, голубоглазая, она подбежала к старику и обхватила шею его своими пухлыми гибкими ручонками.
– Дедушка! Дедушка! – радовалась она, целуя старика то в лоб, то в щеки. – Что ты так долго не приходил? А я-то ждала, а я-то ждала…
– Вот и дождалась, вот я и пришел, – говорил ласково дедушка и тоже несколько раз поцеловал молодую резвушку в голову.
– А что же ты-то, братец, не привел пораньше дедушку? – обратилась она к юному провожатому, который стоял насупившись.
– Не тронь его, не тронь! Он у меня всех готов перебить! – шутил старый князь.
– Ах, какой страшный! – вскрикнула девушка и засмеялась, откидывая обеими руками за плечи свои длинные русые волосы, которые легкими прядями повисали над ее овальным раскрасневшимся личиком.
Внук из-под бровей поглядел на девушку и еще больше надулся. Девушка засмеялась еще сильнее, глядя на рассердившегося брата.
Это были внук и внучка старого венедского князя Будли.
Внук – Аттила.
Внучка – Юрица.
Глава III. Погребение князей
Была уже совершенная ночь, и месяц, полный, явственный, плыл уже высоко по небу, когда несколько тяжелых и неуклюжих венедских лодок показались на водах Немана. Лодки венедские двигались тихо, едва заметно. Пловцы, видимо, опасались чего-то и придерживались больше берегов, находившихся в тени, которая ложилась по ним от высокого берегового леса.
Плавать у этих берегов было не совсем безопасно: все пространство их было завалено отжившими свой век гигантами лесов – дубами, березами, кленами. Голые сучья их, черные, влажные, покрытые зеленым мхом, нередко высоко поднимались над водой. Плывущий по реке сор – листья, сучья, ветки, плесень – сбивался у этих береговых преград, прирастал, присасывался к ним, покрывался новыми наплывами и составлял иногда самые крепкие, самые непроницаемые плотины, разрушить которые недоставало даже сил и у воды, несмотря на то что она бешено, как бы с озлоблением набегала на них, силясь их раздробить и разнести, вертелась, кружилась, пенилась и затем, встречая неодолимую твердыню, вынуждена была далеко обегать их. Кое-где гигантское дерево, дитя десятков лет, упав бог весть когда и как, лежало поперек берегового затишья, занимая несколько саженей пространства. Крепкие и испытанные ветви его упирались в илистое дно и держали над водой корявый, почерневший ствол. Шумно и звонко перекатывалась вода через эту недвижимую груду, чтобы через несколько саженей встретить, может быть, новую такую же груду и снова же уступить ей. Местами деревья повисали над самой водой. И днем под этими могучими навесами царила сырая и подавляющая мгла, а ночью навесы эти казались какими-то заколдованными обиталищами лесных демонов: так под ними было темно, так было холодно, жутко. Даже всплески волн не оживляли их. Как очарованные, стояли навесы эти над водой. Склонившись к ней, они сумрачно, как бы размышляя, гляделись в холодные струи ее, точно стараясь постигнуть сокровенные думы этих вечно движущихся и вечно шепчущих о чем-то волн. Во время бурь и непогод навесы эти, качаясь и торопливо шелестя, со скрипом и рокотом купались в самой воде и звонко роняли в воду захваченные ими в воде же крупные и светлые ее капли. Тогда мнилось, что они плакали о чем-то. Так года проходили за годами. Один навес, одряхлев, незаметно исчезал, другой так же незаметно зарождался, чтобы, в свою очередь, когда-нибудь уступить место новому поколению побегов. В течение многих лет ничто не заглядывало под эти неприступные навесы, разве старый ворон, возвращаясь с добычи, тяжело опускался иногда на толстый сук навесов и, каркнув раз-другой-третий, снова взмахивал своими грузными крылами и летел далее. Местами по этим берегам из самой воды поднимались целые группы низкорослых ив. Ивы казались растущими на воде. Местами берега были покрыты сплошной массой высоких и густых тростников, низкого кустарника и сетчатого водоросля. Все это служило хорошим и неприступным обиталищем пернатой дичи, но для пловца представляло тяжелые преграды.
Преграды эти, однако, не пугали поздних пловцов. Они все-таки придерживались берегов и успешно огибали попадавшиеся на пути и густые тростники, и кустарники, и водоросли, и торчащие из воды сучья деревьев. Пловцам, без сомнения, места хорошо были известны.
Пловцы эти были венеды, отправлявшиеся на место недавней казни, чтобы убрать тела своих несчастных собратьев и совершить над их могилами достойную тризну.
В лодках сидело человек двадцать венедов. Венеды были в белых длинных холщовых, наподобие рубах, свитках, или паневах. Головы их, по обыкновению принеманских венедов, были покрыты рысьими шапками. В передней лодке, кроме венедов-мужчин, сидели еще две венедские женщины и жрец. Жрец был в синем длинном балахоне с металлическими пуговицами, в высокой конусообразной шапке. Сидя, он покачивал головой и что-то многозначительно шептал. Он был стар, сед, но тучен. Одна из женщин, по-видимому еще очень молодая, была вся покрыта длинной и широкой холстиной. Из-под холстины вырисовывались ее опущенная на грудь голова и сложенные на коленях руки. Другая женщина, старая, худая, с гадливыми чертами лица, сидела рядом с ней, как мумия. Голова ее была окутана цветной холстиной, наподобие чалмы. На груди, на длинном шнурке, висело несколько серебряных изображений: коня, вола, собаки, брони и оружия. Изображения были выкованы из круглых, вроде современных рублей, слитков серебра. Они считались священными и служили эмблемой богатств человека, которые необходимы ему даже и в загробной жизни. Женщина, носившая эти изображения, была не простая женщина. Такую женщину называли Деванича, что значит: божество града ночи. Она, как и жрец, принимала участие во всех торжествах, касавшихся языческих обрядов, особенно роль ее была значительна при погребениях и тризнах. Для божества града ночи выбирали всегда женщину старую и по возможности отвратительную. Ее уважали, боялись, носили ей дары и бегали от нее. Деванича жила одиноко. Она очень хорошо знала, что ее ненавидят, и поэтому сама скрывалась от людей. Деванича всегда жила где-нибудь в трущобе. Посещали ее только те, у кого в доме оказывался покойник, или те, кого постигало какое-нибудь страшное горе. Деваничу считали вещей и думали, что она беседует с чистыми и нечистыми духами, а потому знает, от чего произошло известное несчастье. На Деваниче была длинная белая рубаха, подпоясанная широким поясом, на котором висел широкий короткий нож. Нож этот употреблялся для зарезывания, при погребениях, обреченной девы. Сидевшая рядом с Деваничей женщина под холщовым покрывалом и была обреченная дева.
Плавание венедов продолжалось при общем безмолвии. Только и слышно было легкое всплескивание воды, рассекаемой веслами.
Три лодки двигались одна за другой, гуськом. Взмахивая веслами, венеды, казалось, не торопились на место грозной казни. Взоры их были потуплены. Только один венед зорко смотрел на берега. Венеды опасались встретиться с готами, которые иногда, совершив казнь и зная, что придут убирать тела казненных, ради шутки прятались вблизи и потом перебивали пришедших. На этот раз венедам опасаться было нечего. Готы давно уже ускакали.
Вскоре венеды увидели издали поляну казни. Поляна ярко была освещена месяцем, и на ней явственно виднелись кресты. Лодки врезались в густые камыши и остановились. Один из венедов сошел в воду и, пробираясь камышами по топким кочкам и наростам, тихо вышел на берег и начал, приседая, прокрадываться на поляну. Поляна была тиха. Венед все оглядел вокруг. Готов не было. Были только их страшные следы. Тогда венед снова приблизился к берегу и пронзительно засвистел.
Через некоторое время от берега потянулись и остальные венеды.
Впереди всех шел жрец. За ним шла Деванича. Вслед за ними человек пять венедов несли разные орудия погребения. После всех в сопровождении двух венедов шла обреченная дева.
Вскоре эта таинственная процессия, освещаемая яркой луной, двигаясь молча, как привидения, появилась на самой поляне и там остановилась в безмолвии. Безмолвие ее было торжественно и зловеще.
И здесь жрец был впереди.
Постояв немного, жрец вдруг начал размахивать руками и возопил:
– Смерть! Смерть! Человек – снедь всего!
Сказав это, жрец опустился на землю и приник головой к траве.
Он не вставал. Венеды в это время разделились. Одни начали снимать с крестов распятых, другие – складывали огромный костер и маленький сруб из тонких бревен, третьи – начали рыть могилу. Только Деванича и обреченная дева не принимали ни в чем никакого участия. Они стояли отдельно. Дева под своим покрывалом, Деванича со своими символическими изображениями на груди. Вскоре распятые были сняты, сруб был готов, и зажженный костер начал понемногу разгораться. Глубокая могила была тоже готова. Вокруг разгоравшегося костра начали собираться все венеды. Собравшись, они все безмолвно поцеловались, потом начали обрезать волосы свои и терзать свое лицо, чтоб оплакать погибших героев не слезами и воздыханиями, подобно женам, а кровью, как следует мужам.
А один из мужей, терзая свое лицо, говорил в это время:
– Князья наши, великого народа господари, погибли от рук недостойного и проклятого племени готов. Но погибла ли вера наша? Погибли ли венеды, народ, на котором никто не ищет возмездия? Нет, не погибли! А потому мы и почтим достойно героев наших, павших от рук нечестивых, чтобы тем утешить тех, кому еще от рук готов погибнуть должно…
Венеды безмолвно слушали его, и, когда он окончил у костра свою речь, лежавший ниц на земле жрец встал и приблизился к костру. Венеды расступились. Жрец таинственно и тихо начал что-то шептать над огнем. Затем он отправился к срубу. Один из венедов подал ему деревянные изображения богов. Жрец поставил их по сторонам сруба. Другие венеды в это время начали сносить погибших в сруб, где клали их на кучи сложенного хвороста. Все погибшие были внесены в сруб. Тогда к срубу приблизилась Деванича с обреченной девой. Дева осталась у сруба. Деванича вошла в него и начала покрывать покойников холстинами, заранее для того приготовленными. Потом она вышла и сняла с девы покрывало. Девушка была молодая, пригожая. На ней были золотые поручни и крупное янтарное ожерелье. Девушка эта, называвшаяся обреченной девой, сама вызвалась погибнуть в срубе вместе с одним дорогим ей покойником. Когда у славян умирал кто-нибудь, тогда спрашивали у его родных, близких и челядинцев: кто желает умереть с господином? По большей части вызывались на смерть девушки. Вызвавшаяся на смерть девушка до дня погребения, сопровождаемая двумя подругами, всегда угощалась, пела и радовалась, что ей суждено погибнуть за дорогого господина. Такова была и эта несчастная венедская девушка. Она вызвалась погибнуть за своего любимца, князя Болемира, распятого вместе с другими на береговой поляне Немана. Она была княжна и готовилась быть невестой Болемира. Покидая ее, Болемир сказал: «Я иду искать свободы для моей родины; если я погибну, невеста моя, погибни и ты на моем трупе: ты мне всюду будешь дорога». Девушка, целуя полы кафтана отъезжающего жениха, обещала исполнить его волю и сдержала свое девичье слово. Она первая вызвалась погибнуть на трупе своего любимого князя.
Поставив около сруба изображение богов, жрец, глядя на сруб, начал выкрикивать одному ему известные заклинания.
После них три дюжих венеда начали перед срубом поднимать на руках обреченную девушку. Они поднимали ее три раза.
В это время девушка громко и отчетливо говорила:
– Вот вижу я моего отца и мать мою. Вот вижу я всех моих предков. Вот вижу я моего господина: он восседает в светлом, цветущем вертограде, зовет меня! Пустите меня к нему!
Перестав поднимать обреченную, венеды подвели ее к срубу. Она сняла поручни и ожерелье и отдала их старухе Деваниче.
В это время некоторые из венедов взяли щиты и палицы. Один из щитоносцев налил чашу меду и подал девушке.
Девушка выпила и проговорила:
– Прощаюсь со всеми: с милыми и с дорогими!
Потом подали ей другую чашу.
Она выпила и запела протяжно что-то необыкновенно груст ное.
Во время пения Деванича ввела девушку в сруб. Едва только они скрылись в срубе, как венеды сильно ударили в щиты. Это делалось для того, чтобы не особенно громко слышен был голос зарезаемой девушки. В срубе ее зарезала старуха.
Войдя в сруб, Деванича быстро схватила девушку за волосы, опрокинула голову ее назад и шарахнула по горлу ножом. Несчастная начала биться и кричать. Старуха нанесла ей другой удар. Кровь девичья хлынула на хворост, на трупы, а сама она упала на близлежащее тело. Вытерев ее рубахой окровавленный нож, старуха хотела уже выйти из сруба, как вдруг испуганно остановилась и приросла к земле. Тело, на которое упала девушка, начало шевелиться под покрывалом и подниматься, и старуха услышала мужской голос: «Пить! Пить!»
Быстро выбежала она из сруба и закричала:
– Жив кто-то! Пить просит!
Звук ударов в щиты смолк. Двое венедов с зажженными лучинами в руках кинулись в сруб.
Только что зарезанная девушка, истекая кровью, лежала без движения. Но возле нее лежало другое тело с открытыми глазами. Едва заметно двигал лежащий одной рукой, как бы силясь приподняться, и шевелил губами, на которых виднелась черная запекшаяся кровь.
Вбежавшие венеды узнали в ожившем своего князя Болемира.
– Болемир! Болемир! – закричали они.
В сруб вошли еще несколько венедов. Один из них внес в чаше воду. Осторожно омыл и омочил он водой губы князя и влил ему в рот несколько капель воды. Князь тихо вздохнул и шевельнулся всем телом.
– Жив, жив, – радостно шептали между собой венеды. Князя осторожно положили на полотно, вынесли из сруба и понесли к лодкам.
Пересмотрели и других распятых: нет ли живых. Но все остальные были так истерзаны, что на теле их не оставалось ни одного места без смертельных ран.
Прерванный обряд погребения начали продолжать.
Жрец взял пук лучины, зажег ее у костра, приблизился к срубу и, восклицая: «Мара! Мара!», зажег его.
Потом то же сделала Деванича.
За нею и все прочие подходили с огнем к срубу и бросали его туда.
Быстро загорелся сухой хворост, за ним вспыхнул сруб, а затем и все покрылось ярким пламенем: и сруб, и покойники, и зарезанная девица.
Целую ночь горел сруб, пуская во все стороны искры и густые столбы дыма.
К утру все превратилось в золу.
Венеды собрали эту золу, уложили ее в тридцать девять горшков и зарыли их в могилу вместе с грудами мечей, остовами нескольких убитых тут же коней, собак, вместе с другими мелкими украшениями конской сбруи и княжеской нарядной одежды…
Через несколько дней на месте погребения князей венедских высился уже высокий свежий курган и на нем тяжелый круглый камень, окруженный тремя рядами низких широких каменных столбов…
Сурово смотрели эти серые каменные глыбы на окружающую их цветущую поляну, на могучий бор, на берега Немана…
Журчал и плескался Неман по-прежнему, могучий бор по-прежнему смотрелся в его светлые, невозмутимые, как и прибрежные леса, воды, но печальна уже была цветущая поляна – она была обагрена кровью, была местом пыток, казни, была страдальческим кладбищем…
Глава IV. Пробуждающаяся сила
Болемира принесли в хижину Будли.
Князь находился в совершенном беспамятстве, когда его уложили в уютную и мягкую постель, которая состояла из мешка, набитого медвежьей шерстью и покрытого рысьим мехом. Достаточные венеды вообще устраивали подобного рода постели.
Юрица, Аттила и сам старый князь Будли начали ухаживать за больным. Больше всех хлопотала Юрица. Как только больного уложили в постель, она своими маленькими ручонками обмыла раны князя, спрыснула его лицо, грудь и ноги настоем из душистых трав, покрыла белой легкой холстиной и села у его изголовья, ожидая, когда больной князь очнется. Целую ночь просидела она над больным, не смыкая своих голубых очей. К утру больной начал бредить и шевелиться. Обрадованная Юрица чутко начала прислушиваться к словам больного, надеясь уловить в них его желание. Но о чем бредил больной князь, разобрать было трудно. Юрица снова омыла его раны и снова спрыснула настоем из душистых трав. Такое немудреное лечение, по-видимому, освежило князя. Князь открыл глаза. Но они у него были такие бесцветные, такие безжизненные, что робкая девушка, заглянув в них, даже испугалась. Она не выдержала их полуоткрытого, мертвенного взгляда, отскочила от княжеской постели и, боязливо взглядывая по сторонам, прижалась к стене. Глаза князя не закрывались, и Юрице показалось, что они еще более расширяются и как будто хотят выскочить из-под густых княжеских бровей. Юрица окончательно испугалась и выбежала вон. Старый князь с внуком находились в отдельной клети, куда они перебрались, чтобы не беспокоить больного Болемира. Девушка кинулась в клеть. Будли с внуком Аттилой еще спали. Юрица прежде всего начала будить брата, который, разметавшись, спал на полу клети.
– Братец! – будила Аттилу Юрица. – Встань, голубчик, поднимись! Погляди, какие у хворого князя страшные очи.
Но братец спал крепко. Как ни толкала его в бока и в грудь маленькая ручонка девушки, но Аттила не просыпался. Расталкивание, казалось, еще более убаюкивало его. С открытой грудью, с раскрасневшимися щеками он, видимо, услаждался каким-то чарующим сновидением.
На голос Юрицы проснулся старый князь.
– Кто тут? – спросил он спросонья.
– Я, дедушка.
– Что тебе?
– У хворого князя очи открылись.
– Ну что ж… Ладно…
– Ах, дедушка… Очи такие страшные… Я убежала…
Старый князь заворочался, закряхтел и начал подни маться.
– Что ты, внучка, что ты! Подь сюда.
Юрица подошла к дедушке. Старик поцеловал ее в голову и погладил.
– Побуди братца. Пойдем к хворому. Коли очи открыл, стало – оживет. Побуди.
– Да он не встает, дедушка. Я будила.
– Побуди. Встанет.
В это время начавший было что-то бредить Аттила вдруг вскрикнул, проснулся и быстро привстал, пугливо оглядываясь по сторонам.
– Внучек! Аль ты пробудился? Поди скорей с Юрицей к хворому князю. Ожил.
Аттила, не торопясь, встал и накинул на себя свитку. Постояв немного, он потер себе рукой лоб, как бы припоминая что-то тяжелое, давящее, и обратился с вопросом к Будли:
– Тут, дедушка, готов не было?
– Какие готы! Зачем сюда придут готы!
– Я видел, дедушка, готов. Они били меня, заковали в цепи и хотели распять на кресте.
– Тебе все это привиделось, внучек. Кровь-то молодая – сны в голову и лезут. Поди-ка вот к хворому князю. Юрица одна боится с ним быть.
– Ах, боюсь! Дедушка, и ты поди с нами.
Все трое, Будли, Юрица и Аттила, вошли в изобку, где лежал Болемир. Больной в это время не только лежал с открытыми глазами, но даже как-то странно приподнялся и старался привстать на постели. Увидав больного князя приподнявшимся, Юрица и Аттила остановились в изумлении. Слепой Будли не видел больного и, предполагая, что он все еще находится в бессознательном состоянии, проговорил:
– Ох, кабы очнулся князь.
– Да князь встал, дедушка, – проговорили и Юрица и Аттила вместе.
– Встал… да… где мы?.. – простонал больной, очевидно находившийся в полусознании…
– У Будли, у Будли! – вскрикнул радостно старый князь. – У Будли!
– У Будли?.. – не то удивился, не то обрадовался больной, и лицо его, казалось, просияло. Бледные губы вздрогнули, в глазах промелькнул едва заметный блеск, на впалых щеках показался легкий румянец, который сейчас же исчез, заменившись изжелта-сероватой бледностью.
Видно, больному князю стоило немалых усилий приподняться и проговорить несколько слов, потому что он после этого как-то сразу упал на постель, закрыл глаза, тихо простонал и побледнел еще более.
Юрица, успевшая уже оправиться от своего испуга, первая подбежала к нему и начала поправлять его голову, которая при падении склонилась на сторону. Брат ее окутывал холстиной ноги больного. Старик Будли стоял на одном месте, уставив свои безжизненные глаза на то место, где стояла постель.
– Что, внучата? Что с князем-то? – спрашивал он у них, чуя, что они над чем-то хлопочут.
– Ничего, дедушка, лег, – отвечала ему шепотом Юрица.
– Ох, кабы ожил князь, ладно было бы нам, – говорил Будли. – Ладно было бы. У нас только одного князя и недостает, чтобы идти на поиски новых мест. Только одного и недостает. Оживет он – оживет племя наше венедское. Болемир храбрый князь.
– Оживет, дедушка, я знаю, – говорила Юрица. – Я буду день и ночь сидеть над ним, дедушка, и он оживет. Вот сегодня я целую ночь просидела над ним, и он поднялся. Оживет, родной, право, оживет.
– Ох, кабы ожил! – вздохнул старый князь.
Аттила все время молчал почему-то. Видимо, что-то бродило в его голове и созревало. Не по летам серьезный и суровый, он, занятый своими мыслями, казалось, не обращал на все окружающее ни малейшего внимания. Юрица, несмотря на унылую обстановку изобки, где лежал больной, при взгляде на своего сурового братца едва удерживалась от смеха. Молодой резвушке, не знавшей ни жизни, ни людей, ни тех чудовищных тайн природы, которые даже в младенца кладут задаток мыслей и величия, казалась странной и смешной суровая задумчивость брата, который лет на восемь был моложе ее. Аттила на сестрины улыбки с достоинством отмалчивался и по-прежнему оставался невозмутимо-задумчивым.
К полудню в изобке Будли собралось несколько венедов. Обрадованные известием, что Болемир вставал и даже проговорил несколько слов, – что подавало надежду на его выздоровление, – они порешили, когда он оправится, поручить ему выселение венедов к Понтийскому морю, в степи Приднепровья.
Погоревав о погибших собратьях, венеды разошлись.
В тот же самый день с берегов Немана во все края венедской земли, к Висле, к Балтийскому прибережью, на полночь, вплоть до поселений Курон, поскакали тайные гонцы с известием о выселении: в Галлию, к Понтийскому морю и на полночь, за море. Гонцы должны были обскакать города, веси, вообще все поселения и места, где только ступала нога венеда-славянина, объявить имена предводителей: Радогоста, Олимера и Болемира и внушить народу необходимость выселения.
Выполнить это было не трудно, потому что угнетаемый готами народ давно уже ожидал чего-то и даже роптал на своих, оставшихся в живых, князей за то, что они для спасения его не принимают никаких мер. Всякая мера для народа была хороша и выполнима, а тем более – выселение. Перед глазами венедов были примеры выселений, которые избавляли народ от гнета победителей и неурожаев земли лучше всяких жертвоприношений и даже общих восстаний на своих врагов.
Вскоре все населения венедские, малые и большие, города и веси знали о решении тайного сборища. Сельбища венедские закипели, как муравейники. Начались сборы к выселению. Сначала сборы производились тайно, но потом мало-помалу они начали производиться слишком даже явно. Все делалось на глазах готов, которые сначала недоумевали, не понимая значения этого домашнего, вовсе не угрожающего им движения, но потом, когда они узнали причину его, начали принимать свои обычные меры к прекращению выселения. Но меры их ни к чему не привели. Это была не сила, стоявшая на поле битвы, где брало верх превосходство силы над силой и где одна из сил совершенно изнемогала или исчезала. Нет, это была другая сила: сила беспрерывного наплыва.
Терпеливо и с любовью начала ухаживать Юрица за хворым князем. Она следила за каждым его движением, за каждым вздохом, предупреждая малейшие его бессознательные, как больного, желания. Болемир, однако, выздоравливал медленно. Только через две недели после того, как его принесли в хижину Будли, он пришел в сознание.
Это было рано утром, когда Юрица только что обмыла его лицо теплой водой и приложила к его ранам какие-то снадобья, доставляемые ей старой Деваничей. Снадобье это заметно помогло князю.
Сидя у распахнутого окошечка, в которое назойливо врывался и свежий вешний, пропитанный запахами трав и деревьев ветерок, и голос иволги, усевшейся на соседней липе, и торжественный, как бы сдерживаемый кем-то шум могучего бора, – Юрица мурлыкала про себя песенку, ежеминутно оглядываясь на лежавшего без движения князя, который, казалось ей, спал еще.
Но князь уже не только не спал, но даже и очнулся от того болезненного забытья, которое томило его со дня ужасной казни: сознание начало понемногу работать в его голове.
Не открывая глаз и не шевелясь, прислушивался князь к любовной девичьей песне Юрицы и понемногу, сначала смутно, потом все яснее и яснее, стал понимать ее; голос песни показался ему знакомым: он слышал его где-то и когда-то, но это было давно, очень давно, как будто тогда еще, когда он был маленьким и бегал по хмурым лесам своей родины, отыскивая беличьи гнезда.
Князь начал припоминать: когда и где он слышал подобную песню. Кто ему пел ее? И кто теперь поет?
Но в голове у него все путалось, мешалось, и он никак не мог припомнить, кто и когда напевал ему такую песню, да и кто теперь поет – тоже не знает; но как будто видит, откуда исходят эти успокаивающие его звуки…
Он видит еще поле: на поле тихо и глухо бегают тени – не то людей, не то каких-то длиннокрылых птиц, не то кресты передвигаются с места на место; кругом дремучий бор, густой, высокий, темный; а вблизи где-то как будто ручей журчит… Князю хочется отыскать этот таинственно журчащий ручеек, он силится шагнуть к нему, но ноги его вдруг повисли в воздухе, а кто-то сверху сильно, до боли, схватил его за руки… Князь хочет крикнуть, позвать кого-нибудь на помощь, но язык его не ворочается; в это же время его что-то начинает качать в воздухе, все сильнее, сильнее и вдруг – его куда-то кинуло и больно придавило. И чувствует он, что начинает задыхаться, в глазах блещут огни, искры, цветные круги, а вокруг – все стучат, все стучат… Кто?.. где?.. он разобрать не может… Тут уж он как будто подбежал к ручью, глотнул несколько капель холодной воды и успокоился; только в ушах его долго-долго гудело что-то, не то стон, не то плач с завываниями, не то шум отдаленной битвы. Потом стон этот, плач и гул начали постепенно смолкать, делаться все тише и приятнее и наконец превратились в тихую любовную песню, которую теперь поет кто-то; слова песни и напев знакомы ему, любы, глубоко западают в его душу, и он хочет, чтобы она, песня эта, не смолкала…
Но кто же поет ее?.. Где он теперь?..
Князь начал припоминать, где он, почему он лежит, но и этого не мог припомнить; в голове его было смутно, тяжело, ему казалось, что он только что вышел откуда-то, где его держали в темноте, но как долго – не знает. Время это как будто кануло куда-то, исчезло навсегда, и он снова начал оживать. Из этого темного времени у него в уме только и осталось одно слово: «начинай». Остальное все странно, смутно, непонятно…
Что же это такое?..
А песня все льется и льется, как будто ей и конца нет.
Кто же это поет? Где?
Князь поднял отяжелевшие веки, и глаза его встретились с другими глазами; кротко и ясно смотрели они на него и словно о чем-то спрашивали. Крупные, ясные, с длинными ресницами, они, чудилось ему, обдавали его, как солнцем, своими лучистыми взглядами. Сначала князь видел одни только эти глаза, но потом он рассмотрел и русую маленькую головку. И хорошо ему было смотреть на эту русую маленькую головку и на эти крупные ясные очи…
– Кто ты? – спросил князь, впившись взорами в это стоящее перед ним прекрасное видение.
– Юрица, – послышалось ему в ответ, – внучка Будли, старого князя. Ты у нас.
Князь молчал.
Но он хорошо знал старого князя Будли, отпустившего его на бой с поработителями родины; он даже помнил ту минуту, когда старый князь, впиваясь в него своими безжизненными глазами, как бы хотел постигнуть его сокровенные мысли, измерить силу его воли для предстоящей борьбы, и потом, тихо положив на его голову старческую свою руку, знаменательно проговорил:
«Мы погибнем, но дети наши, славяне, создадут великое царство и будут великим народом. Прольем же для детей наших кровь свою, дабы они польстились нашим примером и не забыли нас!»
Слова старого князя глубоко запали в душу Болемира.
Поднимая восстание против готов, Болемир шел на верную смерть.
Мысли Болемира при этом воспоминании вдруг прояснились: ему стало понятно, почему он так долго находился в забытьи, чувствовал боль в руках, ногах, в груди и почему в голове его проходили такие странные, подавляющие душу мысли и виды.
Болемир знал готскую расправу: он был распят.
Но по какому же случаю он жив? Кто спас его? Неужели старый князь Будли? Или еще кто-то: та, которая сейчас говорила с ним, пела ему такую сладостную песню и склоняла над ним свою русую головку с большими ясными очами?
Но князь не помнит ее… И жаль ему стало, что он прежде не знал этой русой головки, и почему-то досадно, что, глядя на нее, перед ним невольно восстал другой образ, менее прекрасный, но более близкий ему: князь вспомнил о своей невесте…
«Где же она теперь? – мелькало в голове князя. – Зачем она не подле меня?..»
А русая головка все стоит над ним, а ясные очи все глядят на него.
– Может, ты хочешь чего? Скажи – я принесу, – заговорила Юрица, которой сделалось жутко от пристального на нее взгляда хворого князя.
Князь как бы понял испуг девушки, закрыл глаза и тихо, с расстановкой, проговорил:
– Что же ты не поешь? Пой… Мне хорошо…
Невыразимо приятно сделалось Юрице от этой незначительной и почти бессознательной просьбы Болемира; она вся, неизвестно почему, вспыхнула, застыдилась и робко посмотрела на дверь.
У дверей никого не было, но ей показалось, будто кто-то подглядывает за ней. Сердце ее между тем билось, как пойманная птичка.
Радостная, смущенная, Юрица села подле князя и запела свою прежнюю песню, но не так тихо и бессознательно, как прежде; она запела ее, стараясь в глубине души своей нравиться князю.
Перестав петь, Юрица глядела на князя, как бы ожидая от него какого-то слова.
Князь молчал, даже не открыл глаз своих, но Юрица поняла князя: лицо князя выражало неизъяснимое удовольствие. Всегда, как у больного, изжелта-бледное, худое, страдальческое лицо его вдруг как будто просияло: легкий румянец покрыл его, края губ сложились в приятную улыбку, подбородок дрогнул…
Вскоре Болемир совсем оправился: он начал вставать и ходить.
Радостно встретил выздоровление его старый князь Будли.
В хижину Будли, на поклон к ожившему, приходили уже и другие венеды, и между ними часто велись долгие беседы, касавшиеся выселения.
Болемир слушал всех, давал клятвы исполнить волю народную и только ждал, чтобы совсем оправиться и двинуть народ к Понтийскому морю, где в то время тоже преобладали готы, переселившиеся туда около 189 года по Р. X.; но еще много оставалось незаселенных мест, по которым блуждали разные кочевые народы, выходцы из Азии и закавказских земель.
Было положено взять Киев, город на Днепре, и основать там столицу венедскую.
На советы стариков каждый раз пробирался и внук Будли, Аттила.
В то время когда старики, усевшись в кружок, вели свою тихую беседу, передумывали, вспоминали, раскидывали умом-разумом, как делу лучше быть, – Аттила забирался в угол хижины и жадно прислушивался к речам стариков.
Старики по ходу разговоров часто вспоминали о притеснениях своих гонителей, готов, проклинали это, невесть откуда явившееся племя, которое не имело ни родины, ни доблестных вождей, вторгалось всюду нежданно-негаданно, все било, резало, рушило и утверждало свое владычество с помощью жестокостей.
И отрок Аттила видел, как старики, сами на себе испытавшие эти жестокости, содрогались при этом и в сотый раз давали клятвы: или погибнуть, или освободиться из-под гнета страшилищ. Отрок видел, как его дедушка поднимал при этом старческую, дрожащую руку, падал на колени и заклинал всех, заклинал своей родиной, детьми, женами, отцами, братьями, сестрами и всем дорогим для каждого исполнить данное ими обещание.
Старики клялись.
Слушая все это, у Аттилы, в его еще детском существе, тоже закипала вражда к неведомым пришельцам, и он тоже давал себе клятвы, когда подрастет, жестоко преследовать готов. К тому же часто упоминалось и имя его отца, Мундцука, который погиб в борьбе с готами, и имена его родных, погибших или на крестах, или в неволе у готского короля Эрманарика.
Говорили старики и о том, как их отцы вооруженной рукой вытеснили когда-то готов из своей земли, и они должны были уйти от них на Днестр, где они снова усилились, воевали с римским императором, Каракаллой, Севером, покорили Дацию, Тавриду, переправились за море, возвратились оттуда и вдруг нежданно-негаданно снова покорили их, венедов, утвердились между ними, и вот уже более ста лет короли их не знают предела своим жестокостям против венедов, которым мстят за одержанную ими когда-то победу.
Маленький Аттила задумывался и спрашивал себя:
«Отчего же венеды теперь не могут прогнать от себя готов?»
Когда же он оставался с дедом наедине, то и ему задавал этот вопрос.
Старый князь молчал и печально покачивал головой: старик тоже не мог разрешить ему такого мудреного вопроса.
Однажды Аттила, улучив минуту, спросил даже о том и у Болемира.
Странно посмотрел Болемир на внука Будли, долго сидел молча, потом взял его за руку и привлек к себе.
– Ты хочешь знать, дитя, отчего мы теперь слабы и не можем победить наших гонителей?
– Отчего, скажи?
– Оттого, – ласково говорил Болемир, – что у нас нет хороших предводителей.
– А ты?
– Я не хороший: я не умею побеждать. Я вот хотел было выгнать из нашей родины готов, да не смог. Они поймали меня, а вместе со мной и других князей и распяли нас. Я вот только один и остался жив.
– Так кто же их прогонит, скажи?
– Ах, дитя, дитя! Многое ты хочешь знать! Ты хочешь знать то, чего и мы, люди рослые, не знаем.
Аттила потупился и покраснел; досадно стало ему, отчего это никто ничего не знает.
Глядя на Аттилу, Болемир как будто понял невзгоду, закипевшую в детском сердечке Аттилы, потрепал его по плечу и заговорил не тем уже тоном, которым он прежде говорил, как бы подделываясь под его детские понятия, а заговорил тем тоном сурового мужа, который вполне чувствует свои силы и рассчитывает на верную победу. Князь понял, что перед ним стоит не отрок, а юноша, в голове которого бродят достойные мысли и достойные вопросы.
– Я побью готов, – говорил Болемир, – я выгоню их из нашей земли и пойду дальше. Я буду громить Рим, буду громить фракийцев! И Рим и фракийцы – враги наши. Они всегда оттачивали на нас свое оружие и считают нас не людьми, а зверями дикими, которых и бить можно, как зверей диких. Не мы звери – они звери. Мы не бегаем за чужим добром, мы не грабим соседей наших, не берем их жен и дочерей в рабство. А они? Они все это делают и хвастают, что они первые люди в мире. Изнеженцы они, а не первые люди! Им золото нужно, рабы, безумные женщины, дети для растления и кровь человеческая на арене цирка. Они травят людей зверями и рукоплещут стонам человеческим! Безумцы! Забыли они, что всему бывает конец. Придет конец и их безумию. Я вразумлю их. Я напомню им, что есть люди, есть целые народы, которые не золотом и не дворцами своими сильны, сильны волей, благоразумием и желанием мира. Зачем все они поработили нас? Зачем они отняли богатство наше – земледелие и наши янтарные промыслы? У них ли своего золота мало? Нет, не мы звери – они звери! Я им напомню обо всем!
Увлеченный своими мыслями, Болемир забыл, кто перед ним стоит, а обращался к Аттиле, как к равному себе витязю, испытанному в боях.
– Да, я им напомню обо всем! Я всех за собой поведу! Как стая воронов поднимается над издыхающим в поле конем, так и мы поднимемся над издыхающими нашими ворогами! Мы всех заклюем! Все наше будет! И готы, и Рим, и Византия, и земли малоазийские! Если мы этого не сделаем, то племя наше или совсем будет уничтожено, или мы будем у них вечными рабами. А кто из нас предпочтет достойную смерть низкой неволе!
– Никто! – утвердительно сказал Аттила, сверкая своими детскими выразительными глазенками.
Болемир измерил храбреца взглядом и хотел улыбнуться, но улыбка почему-то застыла на его губах. В этом детском «никто» Болемиру почудилось нечто знаменательное, даже угрожающее; что-то как бы роковое и как бы грозное прозвучало в этом коротком слове, произнесенном стоящим перед ним невзрачным, некрасивым существом. Сколько в нем было твердости, сколько самоуверенности!
Болемир еще раз посмотрел на Аттилу внимательно. Аттила стоял уже с потупленным взором, запустив правую руку за пазуху; он как будто удерживал порывы своего сердца и думал о чем-то.
«Нет, я еще хвор, – промелькнуло в голове Болемира, – что мне такое почудилось! Мне почудилось, будто отрок сей станет страшилищем всего рода человеческого».
– Возьми меня с собой, князь, когда пойдешь к морю, – заговорил между тем Аттила, – я всюду за тобой ходить буду. Я не оставлю тебя.
– А на кого же ты деда покинешь? – спросил князь.
– А ни на кого. Дед и без меня проживет.
– А он незрячий.
– Юрица его водить будет.
При имени Юрицы в сердце Болемира колыхнулось что-то приятное и вместе с тем жуткое.
«Где она теперь? – подумал князь. – Она в последнюю пору точно боится меня: все убегает, как увидит, и прячется».
– Что же, пойдем? – допытывался Аттила.
– Пойдем! Все пойдем! – крикнул вдруг, как бы озлившись на что-то и на кого-то, Болемир.
Крик этот, наверное, Аттила почел совершенно естественным, потому что стоял перед Болемиром, как и прежде, гордо, невозмутимо.
А на Болемира при мысли о Юрице нахлынуло целым потоком чувство страшного одиночества и горькой тоски. Цели родины, о которых он только что говорил, как будто отодвинулись куда-то на задний план и не имели для него никакого значения. Болемир видел одного только себя и чувствовал одно только свое одиночество, которому нужен был какой-либо исход, какое-либо забытье. Но какое, он еще не угадывал…
– И я пойду? – держался своей прежней мысли Аттила.
– Пойдешь и ты! – махнул рукой князь.
– Коли так, так я буду собираться, – сказал юный храбрец и оставил Болемира одного…
Глава V. Кукушка-вещунья
Загрустила, запечалилась Юрица…
Отчего?
Всегда резвая, веселая, хохотунья на весь лес, она вдруг присмирела: нигде ее не видать, нигде ее не слышно, точно заворожил кто Юрицу.
Смирная, робкая, девочка с раннего утра убегает в лес и сидит там где-то, как зверек какой-либо.
Что с ней?
Допрашивал дед, допрашивал братец, допрашивала старушонка, домоводка княжеская, – никому ничего не говорит Юрица, молчит да глядит на вопрошающих тоскливыми очами.
Подойдет старушка и разжалобится:
– Дитятко ты мое, дитятко! Горькое ты мое, сиротливое! И какая такая напасть на тебя!
Стоит Юрица перед старушонкой и точно вглядывается в ее морщинистое, маленькое лицо, стараясь разгадать, правду ли говорит она и для чего говорит?
А сама все молчит.
Тем временем старушка глядит-глядит на Юрицу да и расплачется, причитая что-то ни для Юрицы, ни для нее самой непонятное.
Постоит Юрица и уйдет, точно и не о ней речь шла: такая сделалась странная.
Подойдет братец.
– Юрица, ты чего? – спросит он угрюмо.
Прежде, бывало, Юрица, хохотунья и резвушка, сейчас рассмеется над братцем, а теперь как будто боится его: стоит, молчит…
Братец был неразговорчив и не любил тратить попусту слов; не отвечали на его вопрос, он и не спрашивал более.
Старый князь Будли тоже о грусти-тоске расспрашивал внучку.
Раз он спросил:
– Старушка говорит: хвора ты. Правда ли, дитятко?
– Нет, дедушка, я ничего.
– То-то гляди, ничего… Да не верится мне что-то. Не вижу я тебя, а чуется мне – нехорошо тебе. Уж не испугалась ли чего? Мы тут собираемся, о войне толкуем, о переселении, кричим, галдим: может, боязно?
– Ах, нет, дедушка, не боязно.
– Да ты не пугайся. Мы тут останемся, мы никуда не пойдем. Куда нам! Да и не покинешь ты меня, внучка, старика хворого.
– Ах, не покину, дедушка!
– Вот братец пойдет. Вот Болемир пойдет. Болемиру идти надобно, он князь мудрый, храбрый. Он много венедам добра сделает, он спасет нас от готов… Ох, тяжко, тяжко, дитятко, жить под началом готов! Мне-то что! Мне ничего! Я человек старый, хворый, не сегодня завтра помру, да другим-то, дитятко, каково! На других, как на волах, готы землю пашут, детей их продают в неволю… Ох, нехорошо им, дитятко, нехорошо! А Болемир спасет их… Он поведет всех недовольных в далекие края, где много земли, много воды, много пастбищ. Там им лучше будет. Готы уже не будут повелевать ими так, как здесь повелевают. А мы с тобой тут останемся. Нам незачем идти, дитятко. Мы и тут век свой доживем. А ты не покинешь меня.
Сказав это, старый князь погладил молоденькую внучку по головке и поцеловал ее.
– Да, не покинешь, Юрица?
Вместо ответа Юрица вдруг зарыдала.
Припав маленькой своей головой на плечо старого князя, она рыдала глухо, неудержимо.
Изумился старый князь, отчего вдруг завыла девочка? Никогда с ней ничего такого не было.
Покуда Юрица рыдала, всхлипывая чисто по-детски, и прижималась к исхудалому лицу дедушки, – дедушка упорно молчал. Брови его надвинулись, лицо изображало душевное расстройство. Знать, неведомое ему горе девичье глубоко тронуло его.
Выждав, когда Юрица приутихла, выплакав первые порывы своей сердечной девической скорби, Будли кротко, ласково заговорил с ней:
– Дитятко, аль неможется тебе?
Юрица не вдруг ответила, она не знала, что сказать дедушке. Немощи у нее не было, напротив, ей даже как будто было хорошо, когда она плакала у дедушкиной груди. Что-то смутное, жгуче-доброе, очнулось у нее в это время под сердцем и опять улеглось там, как спокойное, пригоженькое дитя укладывается в мягкой постельке, под покровом любящей его матери.
Юрица только и сказала:
– Ах, дедушка, дедушка!
Старый князь, казалось, в это время обдумывал что-то или догадывался о чем-то: странно двигались его безжизненные глаза, и бледное морщинистое лицо часто передергивалось едва заметной судорогой.
Помолчав немного, тихо, едва слышно, Будли спросил внучку:
– Юрица, дитятко, скажи: люб тебе князь Болемир?
Юрица, ничего не отвечая, нервно вздрогнула и еще сильнее прижалась к плечу дедушки.
– Чего ж ты молчишь? Скажи, не бойся.
– А ты почем же знаешь, дедушка, что люб? – спрятав свое лицо, кротко спросила девушка.
– Как почем знаю?
– А почем? – будто уже заигрывала с дедушкой юная красавица.
– А потом же знаю, что знаю!
– Вот и неправда, дедушка! Мне Болемир вовсе не люб.
– Ох, ты белка-резвушка! – начал ласкать внучку успокоившийся вдруг старый князь. – Ну что же, коли люб, и ладно. Это хорошо. Пусть люб. На то ты и девонька, чтобы между храбрецов красавца себе поизволить. А я думал что другое. А коли только это – не беда.
– А может, и беда, дедушка.
– Какая же?
– А меня князь поизволит ли?
– Вишь, заговорила про что! Такую пригожую, да не поизволить?
– А нешто я пригожая, дедушка?
– Вестимо, пригожая.
– А ты нешто видишь, какая я?
– Теперь не вижу, а прежде видел.
– Э, дедушка! Я с той поры, как ты меня видел, совсем переменилась…
– Неужто?
– Рябая такая стала, морщинистая, боязно смотреть, право…
И Юрица, быстро поцеловав раз-другой старика, рассмеялась звонко-звонко и неудержимо и убежала…
«Девке молодец желанен», – подумал старый князь.
А громкий смех Юрицы слышался уже на дворе, где-то за изобкой, который потом сменился веселой, несмолкаемой девичьей песней…
В тот же день старый князь Будли говорил с Болемиром.
Болемир совсем оправился, нашел в хижине Будли груду всякого оружия и выбирал себе по руке деревянный щит.
Деревянный щит, стрелы, секира, клевец, молот, двусторонний топор с короткой рукоятью – оружие, которое употреблялось венедами, и вообще славянами, на войне. Конница довольствовалась щитами и двусторонними топорами, которыми сражались с руки и от руки. Топор этот носили при бедре, как меч, рубили им и бросали в неприятеля. Молот тоже, кроме рукопашного удара, кидали во врага.
Клевец назывался еще чеканом (отсюда и слово – чеканить). Пехотинцы метали преимущественно в неприятеля стрелы, и ставились они в большинстве случаев впереди. Щит признавался чем-то священным; его украшали цветистыми красками, и бросить на поле битвы свой щит почиталось величайшим бесчестием, лишающим права присутствовать при жертвоприношениях. Многие из переживших войну не переживали этого бесчестия и вешались.
Когда старый Будли вошел к Болемиру, Болемир любовался только что выбранным по руке тяжеловесным дубовым щитом, на котором довольно грубо была вырезана дубовая ветка и по вырезанному месту раскрашена ярко-зеленой краской.
Болемир взвешивал щит и примерял его к плечу.
– Вот этот будет по мне, – говорил он сам себе, – я с ним далеко уйду.
Примеряя щит, Болемир и не заметил, как вошел старый князь.
– Князь, ты тут? – окликнул его Будли.
Болемир обернулся:
– Тут, батька, тут.
– А коли тут – ладно. Коль стоишь – садись и слушай, что я тебе скажу, князь.
– Я стою, батька. Нашел я по руке щит и любуюсь им. Добрый щит!
– А какой?
– Дубовый и с дубовой же веткой на нем.
– Знаю, знаю. Славный щит! Это щит сына моего, Мундцука, который погиб в битве с готами на Висле. Один воин, не желая обесчестить князя, сраженного вражьим топором, вырвал щит из рук убийцы и принес его ко мне. Что ты, не видишь на нем, князь, крови?
– Нет, крови не видно.
– А была. Весь цветок был обрызган кровью, вражьей ли, сыновней ли – не ведаю. Знать, время стерло ее.
– Я его возьму, батька.
– Возьми, возьми, князь. Да послужит он тебе залогом победы над врагами нашими. Да поднимут тебя воины твои на щит этот, как достойного его. Где он? Дай мне осязать его.
Старый князь ощупал щит и проговорил:
– Сыновний, сыновний щит. Узнаю его.
Старик сел, сел и Болемир, положив осторожно на лавку облюбованный щит.
– Ну, теперь мы будем говорить о другом, – начал Будли.
– Говори, батька, слушаю тебя.
– Ты теперь не хвор, князь?
– Нет, не хвор.
– Это хорошо. Коль человек не хвор – хорошо. Хворый о хвором и думает, а здоровый о здоровом. А мы только и ждали, чтобы ты здоров стал.
– Здоров, батька, здоров.
– Все сделано, все начато. Вестники уже поскакали во все концы венедской земли, чтобы возвестить о переселении. Народ уже забурлил: шумит, кричит, собирается. Мне обо всем известно. Пора, князь, подниматься и тебе.
– Я готов.
– А другие: Радогост и Олимер?
– Поднимусь я – поднимутся и они.
– Скорей бы, скорей бы, Болемир.
– Что ж, батька, я готов хоть завтра же идти к жертвенному костру.
– А завтра так завтра. Чем скорей, тем лучше. Теперь скажу тебе, Болемир, о другом.
– О чем, батька?
– Болемир, гляди на меня прямо, – и старик поднял на Болемира свои безжизненные глаза. Казалось, что он и сам хотел заглянуть в душу Болемира.
Болемир несколько смутился. Странное чувство подсказало ему что-то такое, чего он давно уже ожидал.
– Глядишь? – спросил его старик.
– Гляжу, князь, – ответил Болемир и обманул старика.
Почудилось Болемиру, что безжизненные глаза Будли видят его насквозь, и он потупился.
А Будли начал:
– И не след бы говорить о том, о чем я хочу говорить, не время теперь, да уж что делать – скажу. Может, и тебе от того не худо будет.
Болемир чутко слушал старика.
– Вот что, Болемир, ты храбр, велик, много хороших дел сделал и еще много их сделаешь, но все ж ты человек, как я, как и другой. А человеку по-человечьи и жить подобает. Люба тебе Юрица, князь, аль нет?
И радостно и неловко сделалось Болемиру от такого простого вопроса старика. Стыдно ему было, ему, первейшему венедскому князю, стыдно было сознаться, что русоволосая Юрица люба ему, и крепко-таки люба. Но вместе с тем ему сделалось невыразимо хорошо. Он понял старика, и ему очень хотелось расцеловать его седины. Старик между тем по-прежнему сидел перед ним, недвижимый, спокойный.
– Что ж ты молчишь? – спросил он, не получив от Болемира ответа. – Аль не люба? Коль не люба – дальше и говорить не стану. Ты не дите, князь, о чем говорю – разумеешь?
– Как не разуметь, батя! Разумею! – тихо проговорил Болемир.
– А коль понимаешь, то и отвечай толком. Не мудреного ответа требую. Речь идет о девке, а девка не гот: поперек горла не станет.
– Люба, князь…
– Вишь какой! Люба! А молчал! Чего ж ты молчал? Эх, князь, князь! Умен, храбр, готов в крови вражьей купаться, а зашла речь о девке любой – и оробел!
– Я ей люб ли, Юрице-то?..
– Ну вот! Заговорил о чем! «Я ей люб ли!» Вестимо, люб. Нешто можно не поважать такого храброго князя, как ты! Тебя всякая девка поважать будет – поважай только ты ее. А Юрица, князь, по тебе. И родом знатна, и собой пригожа – чего тебе больше!
– Спасибо тебе, князь, что вспомнил обо мне.
– О ком же нам, старикам, и помнить, как не о вас, молодых!
Встав, Будли продолжал:
– Ну, теперь как знаешь, так и делай, Болемир. Хоть сегодня же приготовляй свадебные подарки. Утром завтра попируем на твоей свадьбе, вечером у жертвенного костра, а по ночи, на заре, ты попируешь один, со своей княгиней молодой, Юрицей, в клети.
Обрадованный Болемир не знал, что и ответить старику на такие слова. А старик, потрепав его по плечу, проговорил на прощанье:
– Поди, рад? Хе, хе! Знаю, сам был такой же…
Уходя от Болемира, Будли прибавил серьезно:
– Ну а все же, как знаешь, так и делай, мое дело – было бы сказано. Поважаешь Юрицу – ладно, нет – твоя воля.
Болемир поважал Юрицу, и крепко-таки поважал.
Расставшись с Будли, Болемир быстро вышел из хижины и начал отыскивать Юрицу, чтобы поделиться с ней своей радостью и высказать все, что давно уже накипело в его душе.
Но Юрица ушла куда-то.
Поискав ее возле жилья, Болемир, уже не думая встретить ее, сам не зная для чего, побрел прямо в лес.
В лесу царило весеннее утро, самое сияющее, самое цветущее. Все в нем улыбалось, все ликовало. Дубы и клены, березы и ясени, убравшись в свежую, нежную зелень, походили на молодых пригожих невест, ожидающих поцелуя своего милого жениха. Так же, как и невесты, они робко наклонялись, робко перешептывались со своими стыдливыми соседками и потом снова поднимали свои красивые, прихотливо разубранные природой головы, чтобы с вышины насладиться синевой безоблачного неба и яркостью вешнего солнца, которое, переливаясь на них тысячами изумрудных капель, не хотело, казалось, покидать их…
Не покидал чащи лесной и Болемир.
В тот день что-то рано поднялась Юрица со своей девичьей постели…
Не спалось ей почему-то в прошлую ночь: и душно-то было, и как будто ей прямо в ухо шептал кто-то о чем-то и будто говорили где-то. А вверху, в воздухе, казалось ей, звенели чьи-то, неведомые ей, голоса, и так хорошо, и так тихо звенели, что она, сев в одной сорочке на постели и вперив в глубину широко открытые глаза, долго с наслаждением слушала и ловила их. А чуть только занялась заря, она уже незаметно скользнула из хижины и, сама не зная куда идти, побежала к лесу.
Лес сразу охватил ее своей чарующей прохладой. Трава еще не обсохла, и с листьев падала светлая холодная роса. Раздвигая кусты и подвигаясь куда-то вперед, Юрица и не замечала, как роса обдавала ее своими жемчужными, блещущими каплями. Ей почему-то хотелось идти все вперед и вперед, и она шла, всей грудью вдыхая пахучий лесной воздух. Зачем и куда шла Юрица – она сама не знала, не ведала, только ей хотелось идти и идти, идти куда-нибудь подальше, где тихо и где никто не ходит… Странная дума томила ее: то вдруг ей хотелось смеяться, то вдруг плакать, то вдруг обнять дедушку и его, обоих вместе. А за что же его-то? За что? – мелькало в ее головке, ведь он чужой. И образ этого чужого, молодой, пригожий, моментально являлся перед ней и ласково, из-под бровей глядя на нее, как будто шептал ей какие-то непонятные для нее слова. И чудилось, что слова эти так в душу и просились, так и вливались туда легкозвучной волной, и смеялись-то, и радовались-то чему-то, и как будто оттуда, из-за души, нескромно заглядывали в ее девичьи очи. Идучи, она не раз даже оглядывалась: ей казалось, что он-то именно и идет следом за ней и так нескромно заглядывает ей в очи. Оглянется, постоит, поправит скатывающиеся на глаза волосы, прислушается – и нет никого кругом, все лес, один лес, и так тихо кругом, что слышно даже, как звенит где-то пчела, шмель гудит, а где-то далеко-далеко иволга свищет и дятел дупло долбит…
– Вишь, злой какой! – проговорит Юрица и идет дальше.
А чем дальше, тем лес гуще и непрогляднее. Вот уж и кустов нет, только и мелькают перед глазами одни стволы дубовые, толстые, кряковистые. А внизу – мох, зеленый-презеленый, так и хочется прилечь на него и поваляться на свободе. А солнце все больше и больше заглядывает в лес. Сначала все кругом было сумрачно, серовато, а теперь вон уже краешек белобокой березы так и блещет на солнце, а верхушка вон того кудреватого клена точно надвинула на себя ярко-золотистую шапку…
«Как тут хорошо!» – подумала Юрица и, сама не зная почему, остановилась и поглядела вверх.
– Ух, высоко-то как! – невольно воскликнула она. – Я тут ни разу не бывала. Ау! – вдруг крикнула она звонко и сама испугалась своего голоса, так он был громок и так он оглушил ее.
– Ау! – ответило ей эхо по направлению к поляне, где находилось жилье.
Юрице понравился этот глухой, не человеческий ответ, и она еще несколько раз крикнула «ау». Эхо столько же раз ответило ей своим «ау».
После этого Юрице показалось, что в лесу сделалось еще глуше.
Шла-шла Юрица и снова остановилась.
– Ах, я шалунья! Куда ж я иду? – упрекнула и спросила она самое себя.
В это время, как раз над ее головой, сначала крякнула, а потом закуковала кукушка.
Юрица вздрогнула.
– Вещунья! Зачем ты испугала меня? – крикнула Юрица, подняв голову по направлению, откуда послышалось «ку-ку».
Но уж кукушка перенеслась на другое дерево, дальше. Крикнула один раз и смолкла.
– Вот хорошо, спрошу у вещуньи, сколько мне лет на свете жить.
И Юрица, приложив обе руки ко рту, громко спросила:
– Кукушка! Кукушка! Сколько мне лет на свете жить?
Кукушка перелетела еще дальше, прокуковала один раз, да так жалобно, так тихо, и смолкла.
– Одно лето! Ах ты, вещунья! Ты неправду сказала! Я еще много, много лет проживу! Вот увидишь.
Хотя Юрица и проговорила так, однако ей от кукушкиной вести стало не легче. Сначала она вовсе не боялась лесной чащи, а тут вдруг ей сделалось в лесу жутко. Почудилось даже, будто ходит кто-то, стонет, охает, а из-за кустов очи чьи-то глядят. И Юрица, не оглядываясь, пустилась бежать, думая про себя:
«Ах, проклятая птица! Ах, проклятая! Одно лето!»
– Юрица! – вдруг остановил ее чей-то голос, когда она готова уже была выбежать на поляну, где было жилье.
Юрица оглянулась и остановилась.
Перед ней стоял Болемир.
– Куда ты бежишь, Юрица? – продолжал он, любовно глядя на нее. – Не от меня ли?
В голове девушки все помутилось. Она забыла лес, забыла кукушку-вещунью, все забыла. Она видела перед собой одного только князя. А князь подошел к ней и тихо взял ее за руку. Рука Юрицы дрогнула в руке Болемира.
– Юрица, пойдем туда, дальше в лес, – говорил князь.
Юрица не отвечала, глядела в землю и пошла рядом с Болемиром, который не выпускал руки ее.
– Я искал тебя, – говорил Болемир, идучи рядом с Юрицей. – Где ты была?
– Я была в бору, – решилась ответить девушка.
– И теперь пойдем в бор, в бору хорошо. Пойдем? – заглянул он в ее лицо.
Юрица вспыхнула, однако, помолчав, чуть слышно проговорила:
– Пойдем, князь, коли ты велишь…
Глава VI. Пир и клятва у костра
Князь и Юрица долго оставались в бору… Только к вечеру воротились они домой… Князь был безмерно весел, Юрица задумчива, не говорила, все больше глядела в землю и пряталась… Будли между тем приказал приготовить свадебные подарки для невесты, приготовить медов и хлебов для пира и очистить для молодых лучшую клеть.
У венедов существовал обычай, что не жена несла мужу подарки, а, наоборот, муж нес их жене.
Подарки мужнины жене заключались в следующем:
Муж дарил жене вола, снаряженного коня, щит, секиру и меч.
Все это дарилось для того, чтобы жена не считала себя чуждой мужества и не была безучастной к войне. Подарки эти предупреждали ее, что она становится подругой, соразделяющей труды и опасности, счастье и несчастье как во время мира, так и во время войны. Это значение имели для нее и заярмованные волы, и оседланный конь, и оружие как при жизни, так и по смерти. Принимая эти дары, она должна была передать их ненарушимо и достойно детям, от которых примут невестки и, в свою очередь, передадут внукам.
Молодая, если хотела, только и дарила мужа каким-нибудь оружием.
В этом заключался союз супругов, священный обряд и воля богов, покровителей супружества.
В этот же день от Будли оповещено было по всем венедским весям Немана, что назначен свадебный пир в жилье старого князя и что виновники этого пира – Юрица и Болемир. Оповещено было также и о том, что настал день, когда венеды должны дать у жертвенного костра обет: жить и умереть за свою родину, которая гибнет от рук пришельцев-готов.
Весь вечер и вся ночь прошли в приготовлениях к свадебному пиру и к жертвоприношению по случаю обета. Уже с вечера венеды начали собираться в хижину Будли. Все поздравляли и старого князя, и Болемира, и Юрицу. Юрица все это время была покрыта густым белым покрывалом и пряла пряжу. На приветствия и поздравления, как невесты, она должна была отвечать низкими поклонами, молча, медленно. Поклонившись, она снова садилась за пряжу. Болемир во все это время должен был запрячь в ярмо вола, снарядить коня и вычистить оружие, которое предназначалось для княгини. Совершалось это медленно, спокойно. Вол должен был быть цвета черного с белыми пятнами – эмблема зла и добра, которые живут среди человечества. Конь – вороной.
Сбруя, по возможности, делалась пышная, яркая.
Молодые в ночь перед свадьбой не должны были спать. Это делалось для того, чтобы первая ночь молодых вместе была крепка и спокойна. Неспокойная ночь считалась нехорошим признаком. А чтобы развлекать молодых, к жениху являлись молодые витязи, к невесте – молодые девушки. Витязи обязаны были развлекать молодого воинскими рассказами, а девушки невесту – песнями. Так и было: к Болемиру пришло несколько молодых венедов, к Юрице – девушек.
До самого утра они развлекали молодых. До самого утра слышны были рассказы о геройских подвигах витязей и девичьи песни о том, как будет хорошо молодой княжне за своим молодым князем, как они долго будут жить, радоваться, разрабатывать вместе землю и ходить вместе на войну, как пойдут потом у них дети – сынки-богатыри, дочки-красавицы, что ни сын, то солнце красное, что ни дочь, то звездочка ясная…
Ах, княжна, пригожая, ясная, Поважай меня, молодца доброго, –пели девушки молчаливой Юрице.
«Добрый, ласковый мой князь, поважай меня, княжну-девицу сиротливую: нету у меня ни отца, ни матери, есть только род да племя!» – рассказывали Болемиру витязи удалые…
Слушал Болемир витязей, слушала Юрица девушек, и так слушали до ясного утра.
А только что настало утро – у Будли уже не было и места для гостей: так их много собралось.
Попить, поиграть венеды были не прочь, да, кроме того, и дело важное решалось. Обет на защиту родины считался одним из священнейших обетов. На обетах обязан был присутствовать всякий, кто только чувствовал силу ходить, не исключая даже и женщин, девиц, детей, стариков. Поэтому все, кто мог, считали своей обязанностью присутствовать на обетах. Как одно из необходимых лиц явился и жрец.
И вот – только что рассвело – вся поляна, на которой находилось жилье Будли, покрылась дубовыми столами, скамейками, короткими и длинными, обрубками широких стволов дуба и ясеней, служивших вместо столов. Все это задернулось скатертями, столешниками, всем, что только нашлось у Будли холстинного или парчового.
Не богат был старый князь Будли, да и не такое время шло, чтобы думать о богатстве да роскоши, да и какая роскошь могла быть в лесу, среди природы, среди зверей, где все скрывалось, все пряталось! На что она? Можно прожить и без роскошества, особенно когда родина стонет под игом иноплеменника. И Будли не роскошничал, несмотря на то что по одному его слову к нему были бы нанесены верными венедами целые груды всякого рода домашнего скарба. В свое время, однако, в молодости, когда князь был в силе и не скрывался, как зверь лесной в трущобе, у него было немало всякого добра. Готы ограбили его. Но все же у него кое-что еще осталось, спасенное и припрятанное верными слугами.
И все это оставшееся старый князь приказал вынести и выкатить. И все было вынесено и выкачено.
У князя оказалось немало старых медов, немало старых браг и квасов. А до этих напитков венеды были немалые охотники.
И начался у Будли пир горой.
Пиршество открыл сам Будли.
Когда все уселись за столы, Будли, во все время не появлявшийся среди гостей, тихо и торжественно вышел из избы, ведя правой рукой жениха, левой – невесту.
Юрица была одета в длинную белую рубаху, которая почти что волочилась по земле, без рукавов, почему руки ее до самых плеч были голы. Рубаха по стану была перехвачена широчайшим поясом из греческой парчи. Волосы на голове были собраны в клубок, который обхватывался куском тонкой и узкой холстины зеленого цвета. В ушах висели необыкновенной величины янтарные серьги, грубо отделанные в золото. На голых ногах – подобие сандалий, привязанных к пятке и икрам, до колен, двумя крестообразно вившимися ремнями. Лицо ее было покрыто легкой холстиной.
Болемир был одет в шерстяной кафтан из белой шерсти, изузоренный по краям красной тесьмой, с золотой запоной у шеи. Рукава у кафтана были необыкновенно широки. На голове, несмотря на вешнее прекрасное теплое утро, надвинута была высокая облоухая рысья шапка. Кафтан по стану был перехвачен куском серебристой, с зеленью, греческой материи. На ногах грубое подобие сапог из выделанной кожи.
Старый князь Будли был просто в белой рубахе.
Когда он вышел, двое венедов разложили на земле медвежью шкуру, шерстью вверх. Будли вошел на эту шкуру в сопровождении Болемира и Юрицы и остановился.
Гости молчали. Речь была за старым князем, и князь тихо заговорил:
– Братья-венеды, простите меня, старика! И не след бы в такую тяжелую пору задумывать свадьбу, а я вот, старый слепой ворон, задумал. Простите меня, старика!
Будли поклонился гостям. Поклонились гостям и Болемир с Юрицей.
Старейший из гостей ответил:
– Ах, князь, князь! Слово твое – великое слово, и не нам, людишкам мелким, судить о делах твоих. Твое дело – повелеть, наше дело – сделать.
– Твое дело – повелеть, наше дело – сделать! – проговорили в один голос все гости и отвесили поклон Будли и молодым.
– А коли так, – сказал Будли, – то и добро вам! Добро и вам, и мне, и славной нашей родине!
– Добро! Добро! – загудели гости и снова отвесили и Будли и молодым низкий поклон.
После этого Будли, с Болемиром и Юрицей, сошел с медвежьей шкуры и подошел к столу.
На столе стоял целый зажаренный кабан. Он отрезал от него часть, подал Болемиру и сам съел. Это делалось для того, чтобы жених был хороший охотник и не боялся диких зверей. Потом Будли подошел к целому зажаренному ягненку, отрезал часть его, подал его Юрице и сам съел. Это делалось для того, чтобы молодая была хорошей домоводкой.
Во все это время стоявшие гости хранили глубокое молчание.
Далее Будли налил большую чару меда и подал Болемиру. Болемир хлебнул меда и передал его Юрице. Юрица смочила губы и передала дедушке. Сам Будли тоже откушал. Это делалось для того, чтобы жизнь молодых была сладка и хмельна, как мед.
Окончив этот обычный обряд, Будли обратился к гостям:
– Ну, гости мои дорогие, пейте и гуляйте, как хотите, теперь ваша воля, а не моя.
Гости зашумели:
– Спасибо, князь, спасибо!
Юрица и Болемир посадили старого князя за стол и сами сели напротив него.
Когда все уселись, один из старейших гостей начал наливать в чары из ведер мед и подавал его гостям. Гости пили и закусывали. В это время из клети, которая предназначена была для молодых, вышла толпа девушек, а двое дюжих венедов вывели заярмованного вола, оседланную лошадь, вынесли оружие. Тогда старейший из венедов встал и, глядя на подарки, заговорил:
– Вижу, вижу, подарки добрые! Молодой хорошо заживется.
Молодая встала.
Старейший продолжал:
– Вижу, вижу, подарки добрые! Молодому хорошо заживется.
Молодой встал.
– А что же мы княжны-то не видим? – спрашивал тот же старейшина. – Покажи нам ее, князь.
Болемир снял с головы Юрицы покрывало.
Юрица стояла с опущенными ресницами и рделась, как заря.
Гости ахнули:
– Ах, какая пригожая, складная!
Вышедшие из клети девушки между тем начали петь песни. Молодые поцеловались и сели. Тут из-за толпы девушек вышла домоводка княжеская, старушка, и начала вместо матери причитать:
– Ах, я горькая! Ах, я несчастливая! – плакала старуха и обратилась к невесте:
– Милая доченька моя! Каково тебе? Поведай мне по правде, не скрываючись. Каково тебе? Поведай мне, милая моя!
Юрица встала и, кланяясь всем гостям, тихо заговорила:
– Хорошо мне, гости дорогие! Ах, как хорошо! Как не хорошо было, не сидела бы я с князем за столом одним, не глядела бы я на него, на мое солнце красное, не поважала бы я его, красавца моего!
Среди гостей послышались голоса:
– Ладно! Ладно! Ай да невестушка-пригожница! Не солгала перед нами, перед стариками, о своей зазнобушке сердечной!
Юрица села. Ее речью окончился обычный обряд, необходимый при бракосочетании.
Замечательно, что при бракосочетаниях у венедов жрец не принимал никакого участия. Он оставался в стороне. Для него отвели особую клеть, где он и угощался один, как хотел. Вообще, несмотря на то что жрец считался везде одним из почетнейших и важнейших лиц, его все-таки чуждались. Да и сам он, по исключительности своего положения, не искал сообщества с другими.
К полудню головы гостей немного охмелели. Поднялись оживленные речи, закипели неизбежные споры, и даже началась игра в кости.
Игра в кости у всех вообще славянских племен прежнего времени считалась одной из занимательнейших, и они ею, преимущественно на пирах, всегда увлекались, и увлечение это доходило до того, что, проиграв все, нередко пускались на ставку свобода и даже сама личность. Побежденный в таком случае беспрекословно подчинялся рабству, давал себя связывать и продавать. Этот поступок считался честным. Выигранных невольников в большинстве случаев, не пользуясь ими лично, продавали, чтоб избавиться от стыда подобного выигрыша. Игра в кости не всегда оканчивалась перебранкой, а чаще всего убийством и ранами.
Закон за такое убийство не преследовал преступника, имел право преследовать родственник убитого.
Даже в позднейших законах славянских законодателей, например в Русской Правде Ярослава, за убийство на пиру ответственность уменьшалась наполовину.
На свадебном пиру у старого князя, хотя венеды и играли в кости, и довольно шумно играли, однако никто не хватался за оружие, чтобы наказать противника. Все обходились друг с другом и сановито, и хорошо. У всех было одно в голове: предстоящее переселение. О чем бы венеды ни говорили, о чем бы ни спорили, всегда речь сводилась на занимающий их вопрос переселения.
Только Юрица и Болемир оставались на пиру безмолвными слушателями и зрителями всего того, что вокруг них происходило, несмотря на то что во всех спорах, во всех советах имя Болемира не сходило ни у кого с языка. Таков был обычай страны, таково было требование бракосочетания. Впрочем, Юрица и Болемир были настолько счастливы и довольны друг другом, что условное молчание нисколько их не стесняло, а, наоборот, внутренним чувствам их давался полный простор, и каждый из них мог наслаждаться наступившим наконец для него счастьем, как ему было угодно. Изредка, однако, Болемир и Юрица переговаривались между собой, – на это они имели право, – но коротки были речи их. Они больше говорили душевным языком, как вообще говорят все счастливые и довольные.
Старый князь тоже был не особенно разговорчив. Венедские старики вели себя на пирах вообще важно и спокойно. Шумела и бурлила большей частью молодежь, которой в этом случае давался полный простор. Но зато в делах, которые требовали совета и обсуждения, старики занимали первое и почетное место. Их слово было законом. А общественный закон даже не судил старика за преступление. Старик только лишался уважения от молодежи, и это было ему тяжелее всяких наказаний. Когда стариков встречали вне дома, им давали дорогу и кланялись им, как кто хотел, смотря по степени, которую занимал почитаемый старик. Если случалось какое-либо недоразумение: ссора, драка, и встречали старика – все сейчас же с охотой отдавались на его суд, суду его верили и тотчас же исполняли то, что он советовал. Редко случалось, что старики злоупотребляли тем доверием, которым они пользовались. А если случалось, то старик прятался от людей или оканчивал постыдную жизнь свою тайным самоубийством. Искупительным самоубийством в этом случае считалось самоубийство – зарезаться жертвенным ножом, которым жрец, принося на алтарь своего бога жерт ву, поражал вола, ягненка, гуся.
Так как к вечеру положено было отправиться на место казни венедских князей и принести там обет на защиту племени венедского, то, едва начало смеркаться, все стали вставать из-за пиршественных столов и напоминать друг другу о великом обете.
– Брате, – слышались голоса, – не пей больше меда, будет, сейчас пойдем на поляну – обет дадим.
– Дадим, дадим, брате!
Встал и старый князь Будли, встал и заговорил, обращаясь ко всем. А все тоже встали и тоже, в свою очередь, обратились к старику, ожидая от него мудрой речи.
Будли заговорил:
– Братья, вдоволь ли вами попито, вдоволь ли вами поедено?
– Вдоволь, князь! Вдоволь! – отвечало ему множество хмельных, но бодрых голосов.
– А коль так, а коль вы по правде говорите, то и я вам скажу правдивое слово.
– Слушаем, князь, твоего слова!
– Мое слово коротко. Положили мы, братья, принести нынче обет на защиту племени венедского, так не пора ли нам исполнить его?
– Пора, пора, князь!
С этими словами толпа гостей окончательно повылезала из-за столов, повылезала то бодро, то немного, а то и очень много пошатываясь; а некоторые и совсем не вылезали, потому что как сидели, так и заснули, чересчур уж напитавшись крепкими медами и разными ячменными напитками. Хмель, однако, нисколько не помешал гостям старого князя Будли, поблагодарив его за хлеб, за соль, а молодым пожелав искренне всякого рода счастия и благополучия, тотчас же отправиться гурьбой на условленную поляну.
Жертвенные бараны и другие принадлежности жертвоприношения были отправлены туда еще заранее; вместе с ними отправился и жрец.
Мало-помалу жилье старого князя опустело: все ушли на поляну, и старый, и малый. Осталась в жилье одна только старуха, домоводка княжеская, которая долго еще причитала о сиротской доле княжны-красавицы, Юрицы…
Даже пиршественные столы остались под деревьями неубранными, так все торопились на новый пир…
Там же, где не так давно мстительные готы распинали венедских князей, на том же самом берегу Немана венеды воздвигали и свой жертвенный костер.
Костер уже пылал вокруг жертвенного камня, когда к нему с ножом в руках приблизился жрец. Все собравшиеся на поляне венеды, мужчины и женщины, стояли вокруг костра с зажженными смоляными палками в руках. Впереди всех стояли Болемир, Радогост, Олимер и Будли. Радогост и Олимер были дюжие, крепкие парни, но очень еще молодые и, по-видимому, мало подавали надежд быть защитниками своей родины и править таким делом, как переселение народа с одного места на другое. Но у венедов не было под руками других испытанных князей, и молодые князья, как бы по необходимости, были избраны в предводители. Вся надежда переселенцев возлагалась на Болемира, которого с берегов Вислы до берегов Немана все знали как храбрейшего и знаменитейшего князя. И в самом деле, на Болемира можно было надеяться: несмотря на вынесенную им пытку, он, высокий, статный и плечистый, выглядел таким молодцом, что любо было смотреть. Находившаяся вместе с другими у костра Юрица замирала от удовольствия при взгляде на своего пригожего мужа и с нетерпением ждала окончания жертвоприношения.
А жертвоприношение только что еще началось.
Приблизившись к жертвенному камню, который состоял из четырехугольного куска серого гранита, с символическими знаками, жрец взмахнул над ним ножом и громко сказал:
– Жертвенный огнь – дань бытию! Вся толпа повторила за жрецом:
– Дань бытию! Дань бытию!
Жрец после этого засучил рукава своей одежды, а перед ним положили связанного ягненка и барана, он должен был их зарезать. Двумя взмахами ножа зарезав сначала ягненка, потом барана, он, не снимая с них шкуры, с кровью, капавшей на его одежду и на землю, кинул их на жертвенный камень. Огонь быстро охватил кинутые жертвы, а жрец, став на колено и склонив голову, стал шептать одному ему известные тайные религиозные молитвы. В это время каждый из присутствующих старался смочить кровью жертв край своей одежды. Жрец молился до тех пор, пока жертвенные животные не обуглились на камне. Тогда он встал, снял вилами жертву и начал резать ее на части.
Болемир, Радогост и Олимер подошли к жрецу.
Первый кусок он подал Болемиру, второй – Радогосту, третий – Олимеру. Все трое начали есть обуглившееся, почти еще сырое мясо ягненка и барана. Это значило, что они посред ством пищи, освятившейся на жертвенном костре, соединяются с обителью божеств, делаются высшими между людей, посвящаются в верховную власть и делаются предводителями сил.
Когда посвященные съели свои доли, жрец поочередно подвел их к самому костру, склонил перед костром их головы и накрыл их грубой холстиной. Все присутствующие стали на колено. А жрец, вынув из своей одежды восьмиугольный кусок лубка, на котором был вырезан обрядовый закон, начал читать:
«Принявший посвящение по обряду, да заботится охранять справедливостью все подвластное ему».
«Мир без владык был отовсюду потрясаем ужасом, и потому были созданы цари».
«Приняв вечные частицы восьми божественных сил мира и заключая в себе их, они превосходят по освящению всех смертных».
«Они по могуществу есть огнь, воздух, свет солнца, блеск луны, дух правды, богатства, божество вод и властители земл и».
«Никто да не осмелится сказать: «царь также человек», ибо он есть высочайшее божество в образе человека».
После этого Болемир, Радогост и Олимер сами сняли с голов своих покрывала, а присутствующие поднялись с колен, поочередно подходили к жертве, отрезали себе жертвенным ножом маленькую частицу жертв и ели. Когда от жертв остались одни только кости и внутренности, их бросили в огонь, а каждый из присутствующих подходил к посвященным и, проговорив: «амарата»[2], целовал край их одежды. Первым подошел Будли, последней – Юрица. В то время как она целовала край одежды своего мужа, склонясь потом до самой земли, Болемир слегка коснулся своей ногой ее шеи. Это означало то, что она одна из первых должна склонить свою шею перед своим верховным повелителем.
Этим обряд посвящения и оканчивался. Далее начинались игры и пляска вокруг костра.
Игры свои венеды начали с плясок около костра: участвовали все, кто только мог участвовать. Сначала всякий, мужчина и женщина, плясал отдельно, и плясал необыкновенно тихо. Сперва пляшущие покачивали свои корпуса вправо и влево, а потом отбивали ногами известные колена и обороты. Неучаст вовавшие в пляске должны были как можно более разложить костров и зажечь смоляных палок, чтобы пляшущим было светло. Поплясав отдельно, все мало-помалу соединялись, хватая друг друга за руки, и тогда происходила уже общая пляска.
Пляска производилась под звуки нескольких гуслей, которые в этом случае бренчали без умолку, сопровождаемые возгласами гусляров:
– Лола! Лола! Лола!
Костры горели все ярче и ярче, а пляшущие, освещаемые ими, все более и более оживлялись, так что потом вся пиршественная поляна покрылась несмолкаемым гулом веселья. Голоса смешивались с голосами, звуки гуслей с другими подобными же звуками, и далеко по окрестности разносился этот гам славянского неудержимого веселья.
В числе пляшущих находилась и Юрица. Разгоряченная быстрыми движениями, веселая, зардевшаяся, она приблизилась к Болемиру, который, по праву высшего, не участвовал в пляске, а только любовался ею.
Приблизившись к нему, Юрица остановилась, как бы желая что-то сказать. Счастливый супруг привлек ее к себе и покрыл ее лицо поцелуями.
– Милый, ладный! – страстно шептала Юрица, крепко прижимаясь к нему. – Неужто ты поважаешь меня, такую непригожую!
Болемир молчал и сильно сжимал ее по стану своей богатырской рукой.
Затем Болемир и Юрица ушли. Но пир продолжался до утра.
Утром некоторые, утомленные, обессиленные, заснули, где сидели, а те, которые были пободрее, начали разбредаться по домам.
Возвратясь в свое жилье, старый князь Будли прежде всего подошел к клети, предназначенной для молодых.
– Тут ли? – постучал он в запертую изнутри дверь.
Некоторое время ответа не было.
Будли повторил свой вопрос:
– Тут ли?
Послышался легкий шорох, потом голосок Юрицы, тихий, добрый, счастливый…
– Тут, дедушка…
– А молодой князь тут?
Ответа не последовало…
Часть вторая. Переселение народов
Глава I. Первые поселения
Все лето и всю зиму 375 года венеды приготовлялись к выселению.
К весне же 376 года все, кто только хотел куда-либо выселяться, были уже готовы.
Поднявшиеся венеды разделились на три орды.
Одной из них, которая избрала новым своим местопребыванием крайний север, управлял князь Олимер.
Другой, которая предположила направить путь свой к западу, за Эльбу, – князь Радогост.
Третья, и самая главная, которая должна была двинуться к Черноморскому побережью, находилась под управлением князя Болемира.
Все эти три орды составили не менее восьмисот тысяч семей.
Наконец настал момент, и все эти три орды выселенцев, как тучи, двинулись с берегов Немана и Балтийского побережья на новые места: север, запад и юг…
Двинулись – и все перед ними расступилось, все удивилось им, как новому чуду, все боязливо отступило и дрогнуло, чуя нечто грозное и величественное. Странная молва пробежала среди народов запада и надолго застыла в них, чтобы и будущим поколениям своим завещать и свой страх, и свое удивление перед впервые очнувшейся силой славянской…
Венеды-переселенцы, двинувшиеся на север под предводительством Олимера, состояли большей частью из позёров-рыболовов[3]. Теснимые поработителями на своей родине, в Велаве, Королевце, Браниборе, Ангенбирге, Судавии, изобиловавших рыбными озерами и реками, позёры-переселенцы Олимера решились лучше искать нового богатства в снегах севера, чем отдавать уже нажитое богатство родины неведомому пришельцу.
Поселившись у берегов северного океана и северных рек, они надеялись на добычливый рыбный и звериный лов.
Сборным пунктом для северных переселенцев была назначена Велава.
В условленное время весны 376 года Велава, небольшой городок при слиянии двух небольших рек, впадающих в Венедийское море[4], начала наполняться переселенцами, с их женами, детьми и имуществом.
В звериных шкурах, в облоухих рысьих шапках переселенцы приводили в порядок свое имущество, которое с места его родины, города ли, веси ли, было забрано как попало, потому что всякий торопился поспеть к назначенному времени с целью предупредить готов, которые хотели разбить их отдельными партиями. Тихий и мирный городок наполнился вдруг тысячами звуков и голосов, которые придавали ему какую-то шумную, неестественную жизнь.
К назначенному времени приехал и предводитель их, молодой князь Олимер. Объехав переселенцев, он переспросил у всех, действительно ли они желают переселиться, действительно ли они решились перенести те, может быть, очень тяжелые невзгоды, которые им придется вытерпеть в неведомой стране. Ответ получился утвердительный: неведомая страна всякого манила к себе, не боялись ее даже жены и дети переселенцев.
И вот, в один день, рано на заре, принеся предварительную жертву языческим богам своим, с необычайным шумом, гамом, скрипом, лаем псов, мычанием коров и волов венеды двинулись из Велавы по направлению к северу.
Путь их лежал через поселения куронов, а далее квенов, к северному побережью Ботнического залива, между Финским заливом и Ладожским озером, а там, далее, что их ждет, что они найдут – они не знали, да и не хотели знать. Им только хотелось идти куда-нибудь, двигаться, чего-нибудь искать, разумеется, лучшего, а не худшего. Это было какое-то странное и чудное движение, которое могло явиться только у народа или стоящего на низшей степени общежительности, или бесконечно теснимого другой народностью, против которой он не в состоянии был стать с вооруженной рукой.
С венедами, как известно, случилось последнее.
Переселенцев этих готы не останавливали; они считали переселение вовсе не значительным и не опасным для себя. Дейст вительно, это была самая меньшая часть поднявшихся для переселения венедов. Кроме того, они двинулись по направлению, которое не составляло областей готов или подвластных им народов, а стало быть, и не грозило возмущением, которое бы переселенцы могли произвести в их областях.
И переселенцы, не встречавшие препятствий, медленно, но упорно двигались все далее и далее на север… Вот и страна куронов, лесистая, болотистая… Вот и страна квенов – гористая, изузоренная озерами… А вот и самый север…
Но что на севере сталось с этими смелыми переселенцами – неизвестно, история молчит…
Может быть, перетерпев лишения, нужду, холод, голод, они поселились у берегов северных рек, озер, построили нехитрые, но теплые землянки, стали ловить рыбу, бить зверей, меняться ими с соседними народами и были родоначальниками лапландцев и других северных поселенцев…
Орда Радогоста состояла совсем из другого рода переселенцев. Переселенцы его были по преимуществу люди, которым нечего было жалеть на родине: изгои, отпущенные рабы, челядь, люди гулевые, головы бесшабашные, и те, кому хотелось людей посмотреть, себя показать, в чужой земле счастья поискать.
Собравшись в чудовищную толпу, вооруженные, смелые, они сразу заполонили пространство между Вислой и Саввой, начали буйный грабеж, не щадя ни чужих, ни своих, и произвели страшный переполох между западными народами. Все народы, обитавшие на пространстве Эльбы и Роны – кошубы, варны, вагры, фрязи, ховоляне, древане, длуманы, тунгри, немети, херуски и множество других, – пришли в ужасное смятение. Набег венедов-славян был так велик, так неожидан, быстр, неотразим, что вдруг пронеслась среди народов грозная весть о появлении какого-то безвестного, дикого племени, которое не знает своему зверству предела, и все бежало, робело, искало спасения, молилось.
А бесшабашный Радогост со своими летучими легионами появлялся везде, где только чуялась хорошая добыча, и все жег, рушил, стирал с лица земли, грабил и шел дальше, чтобы произвести подобное же опустошение. Никакая сила не могла остановить его смертоносного движения. Как орел, он появлялся везде, как орел, он исчезал отовсюду. Народы затрепетали, народы почуяли нечто чудовищное, какую-то великую кару небес.
Между тем с берегов Немана на берега Понтийского моря двинул своих переселенцев и Болемир. В то время как орда Радогоста, появляясь то там, то здесь, производила везде переполох и замешательство, переселенцы Болемира двигались тихо, стройно, сознательно. Несмотря на это, Болемир со своими переселенцами на все народы, обитавшие по берегам Вислы, Буга и Днестра, произвел еще большее замешательство. Никто и никогда не видывал и не слыхивал о такой страшной силе. Заслышав о движении куда-то неведомого народа, еще не видя его, большинство населения, где предполагался путь, по которому пройдет новый народ, ринулось за Дунай, в Мизию, где, в свою очередь, произвело замешательство.
А Болемир все двигался вперед, двигался так же спокойно, так же сознательно, как и с самых берегов родного Немана, устраивая по трудному пути мосты через реки, гати и плотины через болота и трясины, вырубая дремучие, непроходимые леса, которыми была покрыта вся нынешняя Гродненская и Минская губернии.
Готский король Эрманарик, услышав о движении венедов, хотел своими силами удержать это движение. Он собрал огромное войско и расположил его у истоков Буга и Днестра, которые были заселены особенно многочисленными и богатыми селениями готов.
Главные силы он сосредоточил в городе Холме на Буге, где и хотел дать отпор Болемиру.
А Болемир действительно двигался по этому направлению. Он двигался, собственно, к Киеву, но так как по случаю болот и лесов земли народов и сироматов не было другого, более краткого пути, то он и шел, прорезая страну судавов и города Hyp, Бельск и Боцки, прямо на Люблин и Холм.
Город Холм, один из лучших готских городов, расположен был на левом берегу Буга, в некотором расстоянии от него. От Холма до Люблина на запад, прорезаемые притоком Вислы, тянулись густые сосновые леса, заселенные по окраинам податными земледельческими племенами, носившими название венных, или венечных. На восток к Лучку и Дубно, изобиловавшими пастбищами и лугами, селились так называемые сироматы, или сарматы, – люди бессемейного качества. На юг от Холма города: Владимир, Броды, Янов, Буск, Залесье, Кременец, Заслав и Львов, носившие в более позднее время название Червонных Градов или Червонной Руси, – были заселены славянским племенем будинов, или бужан.
Эрманарик, стодесятилетний старец, сам лично взялся предводительствовать войсками, а для более надежного отражения неприятеля велел устроить вокруг города деревянную стену, а ниже, на юг, между Гиеразом и Дунаем, вдоль границ тайфалов, высокий вал[5]. В Холме с отборными силами остался сам Эрманарик, а опытные и мужественные воеводы его, Алафей, Сафракс и Атанарик, стали выжидать неприятеля вне города, на севере, откуда двигался Болемир.
Болемир, предупрежденный о приготовлениях готского короля Эрманарика, в свою очередь, принял меры для более успешного поражения своих недавних поработителей.
Переселенцев, которые составляли более трехсот тысяч семей, он разделил на три отряда. Первый отряд состоял из воинов, испытанных на войне, и молодых людей, которые имели жен и детей. Отряд этот, сопровождаемый женами с детьми, должен был двигаться впереди. Второй отряд состоял из людей хотя и бодрых, но неспособных к войне; третий – из старцев, сопровождавших имущество, и части настоящего военного сословия, которое служило ему защитой на случай нападения.
Главная сила сосредоточивалась в первом отряде, который должен был двигаться вперед и пролагать путь для двух последних, более слабейших, отрядов. В этом отряде передовую колонну составляли обручники.
Они назывались обручниками потому, что носили на руках и ногах темные металлические обручи. Металлический обруч служил признаком храбрости и того, что носящий их дал обет всегда быть впереди на войнах. Многим из храбрейших нравился такой обычай, и они до глубокой старости носили этот знак, отличавший их и у неприятелей, и у своих. Обручники в мирное время не имели ни домов, ни полей, ни малейшей о чем-нибудь заботы. Куда приходили, там и получали свое продовольствие. Роскошествовали чужим добром, пренебрегали своим собственным, пока бессильная старость не делала их неспособными к такому суровому мужеству. Во всех сражениях обручники первые начинали сражение и, прежде всего, поражали своей наружностью. Для придания же наружности грозного и устрашающего вида они расписывали свое лицо черными и красными красками, для чего на лице делались ножом прорезы, брили свои головы, всклочивали длинные густые бороды и носили большие черные щиты. Редкий неприятель выдерживал напор обручников[6].
За обручниками шли крикуны. Обязанность крикунов состояла в том, чтобы во время боя производить резкие и сильные звуки, которые считались необходимыми как для воодушевления воинов, так и для запугивания неприятеля. Крикуны старались производить дикие звуки и порывистый гам, подставляя ко рту свои щиты, чтобы отраженный голос раздавался сильнее и громче. В числе крикунов были и гадляры, нечто вроде гусляров, которые перед боем пели витязные песни, вторя своими инструментами, наподобие четырехструнной лиры.
За крикунами шли обыкновенные воины, а за ними их жены с детьми.
Жены у славян в описываемую эпоху, во время войн, играли довольно важное назначение и служили самым сильным возбуждением их храбрости. Воюя, воины слышали за собой говор жен и крик детей, которые были неподкупными свидетелями их храбрости, первые ценители их и восхвалители. К матерям и женам несли они свои раны, и жены и дочери не боялись считать их и высасывать из них разъедающий состав стрел. Они же приносили сражающимся пищу и утешение.
Случалось, что павшие духом и бегущие уже с поля сражения войска были остановлены женщинами, которые, заграждая им путь грудью своей, с настойчивой мольбой говорили им о предстоящем плене, при одном имени которого воины содрогались за жен своих, шли вперед и оставались победителями. Да и вообще женщинам у славян приписывалась какая-то святость и предвидение, а поэтому их советами никогда не пренебрегали. Другие народы, знавшие о таком уважении к женщинам славян, во время договоров с ними, чтобы более обязать их верностью, брали у них заложницами несколько девиц знатного рода.
Во главе первого отряда шел и сам Болемир, а Юрица находилась в числе жен, сопровождавших этот отряд.
Семнадцатилетняя Юрица в это время была уже матерью. Собственными руками она носила трехмесячного крошку-младенца и нигде не хотела расставаться с ним. Всю свою женскую, юную любовь она сосредоточила на этом крошечном невинном существе, на этом первенце, в которого она вложила всю свою расцветающую, не знавшую еще испытаний жизнь. День и ночь она нянчилась с ним, день и ночь она напевала ему свои немудреные, но задушевные песни, которые нашептали ей струи родного Немана и окружавшие его дремучие и хмурые дебри. С какой радостью она кормила его грудью! С каким наслаждением любовалась им, когда он засыпал у ее сердца! Отдавшись вся любовью к младенцу, Юрица не печалилась даже о судьбе своего дедушки Будли, которого она покинула одного на берегах Немана. Только иногда, при взгляде на какого-нибудь старика, она спрашивала самое себя: «А что теперь с дедушкой? Жив ли он?» Но тотчас же забывала дедушку, как только припоминала о другом существе – своем сыне.
Любил своего первенца и Болемир. Как и мать, он тоже много заботился о нем, много любил и в будущем, по обыкновению родителей, возлагал на него тысячи надежд и тысячи ожиданий.
Даже брат Юрицы Аттила, всюду следовавший за Болемиром, и тот нередко заглядывался на крошечного младенца и говорил Юрице:
– Корми, корми, из него хороший воин выйдет.
Аттила, несмотря на свои отроческие годы, уже отлично владел клевцом, топором и отлично скакал на лошади[7]. Болемир, полюбив в нем будущего храбреца, приблизил его к себе, и он повсюду сопровождал Болемира, как юный паж и оруженосец.
Болемира всегда сопровождали еще и двое других молодых князей, родных братьев, Данчул и Рао.
Данчул и Рао были уже совершенно взрослые юноши и принадлежали к одному из славянских княжеских родов, истребленных готами.
Они принадлежали к княжескому роду славянского племени судавов и примкнули к Болемиру со своими приверженцами по пути. Свежие, здоровые, полные юношеского огня, Данчул и Рао, подобно многим, хотели отплатить готам за позор своих родителей…
На тридцать второй день исхода с берегов Немана, не встречая со стороны готов препятствий, Болемир приблизился к Холму-городу.
Войска Алафея, Сафракса и Атанарика стояли станом на правом берегу Буга, по которому двигался Болемир, и чутко выжидали врага.
Болемир, в свою очередь, не дремал: разослал повсюду разведчиков узнать о силе скопившихся в Холме-городе готов, чтобы предупредительно отразить их нападение или, по обычаю своего народа, в глухую ночь нежданно-негаданно напасть на них и смять первым натиском.
Болемиру, однако, с его многочисленными, но нестройными полчищами приходилось иметь дело с очень искусными полководцами и стройными легионами готов. Болемир это сознавал и потому вел свой передовой отряд осторожно. Он, как бы беспечно, вовсе не подозревая того, что готы намерены отразить нападение, велел расположиться отряду на берегах Буга для разгульной стоянки. Он приказал одной части многочисленного отряда разложить костры, петь песни, играть на гуслях, плясать вокруг костров и вообще делать вид, что отряд предается разгульному и беспечному пиршеству, тогда как другая часть отряда, с женщинами и детьми, залегла в густых соседних зарослях. Готские разведчики были обмануты этой далеко не мудреной уловкой, дали весть стоявшим невдалеке готским легионам, и готские легионы быстро двинулись на воображаемый пирующий стан переселенцев.
Но только готы приблизились, как с необычайным криком и гамом, с пылающими головнями в руках венеды ринулись на готов и моментально смяли их…
Так произошла первая битва венедов с готами на берегах Буга, положившая основание многим кровавым и страшным битвам, без малого сто лет волновавшим всю западную Европу и прослывшим великим переселением народов…
Так незначительно, так просто началась та грозная картина, которая вот уже тысячу пятьсот лет удивляет народы своей мрачной грандиозностью и создает целые невероятные сказания, саги, квиды и легенды…
Так поступили те, которые впоследствии получили грозное название гуннов, народа неведомого, зверского, чудовищного…
Смятые готы оправились, однако, от первого натиска венедов, получили подкрепление, устроились и наутро под предводительством трех полководцев начали новый бой, но были окончательно поражены нахлынувшей силой венедов и бежали в Холм.
Узнав о поражении своих полководцев, Эрманарик с лучшими своими силами сам вышел против грозных полчищ.
И у самого Холма-города произошла третья битва, окончательно обессилившая готов.
А Эрманарик, этот грозный властитель готов, этот, по истории, непобедимый король в отчаянии убил сам себя: он на поле битвы пронзил грудь свою собственным мечом.
После трех неудачных битв часть готских войск через Люблин бежала в Радомысль и Тырнов, а другая заперлась в Холме-городе.
Утомленные битвой, победители расположились на отдых у самых стен Холма-города.
Одержав сряду три блистательных победы, непобедимый Болемир, увы, им не радовался.
Считая убитых, раненых и оставшихся в живых, он не досчитался своей молодой любимой жены Юрицы с младенцем, и куда она девалась – никто не знал. По всему полю битвы, по соседним лесам и зарослям были разосланы посланцы искать ее, но все они, один за одним, возвратились с недобрым ответом: «Нет, князь, княгини твоей, Юрицы».
Омрачился Болемир и понял, что Юрица взята ворогами в полон.
Предположение его вскоре оправдалось…
На другой день, с рассветом, на деревянной стене Холма появился гот и громко затрубил в трубу. Это было знаком, что он просит у победителей дозволения говорить.
В стане Болемира, в свою очередь, затрубили в трубу, и из стана воинов выехал верхом на коне молодой князь Рао для переговоров с готом.
– Ты кто? – крикнул Рао, обращаясь к готу.
– Я посланец князя Атанарика! – отвечал громко гот.
– А какого ты рода? – спросил Рао.
Так Рао спросил потому, что князю недобро было бы вести переговоры с челядинцем или простым воином.
– Я родной брат Атанарика, честный воин и честный человек, – отвечал гот.
– Что ж тебе надобно?
– А то: княгиня ваша, Болемирова жена, с малым младенцем в наших руках. Коль отойдете от Холма, мы отдадим вам княгиню вашу с младенцем целу и невредиму, а коль нет – не отдадим.
Рао сообщил Болемиру об условии готов.
Болемир сперва обрадовался сообщению, потом глубоко задумался; в сердце его заговорили два чувства – чувство любви и чувство долга. Подумав, Болемир не нашел ничего лучшего, как собрать совет, и перед советом в немногих словах передал причину, по которой он созвал его.
Советники долго думали и наконец надумали:
– Недобро, князь, жертвовать племенем для одной жены с младенцем. Нехорошо тебе, правда, жалко своей жены, а младенца – пуще, да ведь и всем нам нехорошо. А коль мы раз уступим готам, то уж и дальше уступать будем, и из того, что мы начали, ничего не выйдет, и готы опять начнут нас распинать и резать, как и прежде распинали и резали. А впрочем, твое слово, князь: как захочешь, так и сделаешь.
Но князь не имел права сделать иначе, слово совета было великое слово, и не исполнить его – значило не исполнить закона родины, освященного веками.
С ноющим сердцем, побелев, как плат, дрожа, Болемир проговорил:
– Ладно: я отдам готам свою жену с младенцем, но и вы отдай те мне души свои, коль племя для вас дороже всего на свете!
– Отдаем! Отдаем! Мы все твои, князь! – прокатилось по всему стану венедскому.
После этого Болемир промчался на коне по всему стану и повелел воинам строиться в боевой порядок. Войска начали строиться, а Рао снова выехал вперед и закричал ожидавшему ответа готу:
– Делайте с княгиней и младенцем что хотите, а мы от Холма не отойдем, покуда не перебьем вас всех, псов рудых!
Рао погрозил готу клевцом и скрылся в строящихся в боевой порядок войсках Болемира.
– Так знайте же, челядинцы подлые, что и вам несдобровать от меча нашего! – крикнул гот и скрылся за стеной.
В ответ ему послышался угрожающий крик из стана венедского, и венеды, обычным углом построения пехотинцев[8], начали приближаться к стенам Холма-города.
Угрожающий крик раздался и в стенах Холма-города: появившиеся в большом количестве на стене готы издавали грозные звуки и махали в воздухе мечами. Новая бревенчатая стена даже дрожала от этих криков и тяжести собравшихся на ней воинов. Среди готов находился и сам предводитель их, Атанарик.
Приблизившись к краю стены, он закричал:
– Куда вы идете, челядинцы? Мы вас всех перебьем! Вы думаете, у нас нет князя – есть князь, да еще какой, не вашему чета! Вы знаете ли Видимира? Он у нас князь! Так идите-ка лучше по домам и обрабатывайте землю, чем поднимать руку на такого непобедимца! А он за смирение помилует вас!
– Долой, псина негодная! – раздалось несколько диких голосов из стана венедского, и вслед за этим в Атанарика полетело несколько обоюдоострых метательных топоров, но так как пространство, отделявшее враждующих, было слишком велико, то ни один из топоров не долетел даже до стены.
Атанарик рассмеялся:
– Эх, вы, челядь сироматская! И топорами-то метать не умеете! А вот вы поглядите-ка, как я мечу, на диво!
С этими словами он вывел на стену Юрицу с младенцем на руках. Юрица была одета в позорное рубище, которое обнажало некоторые части ее тела; младенец был совсем голый. С рабскими веригами на ногах, страшно бледная от слез и страданий, вынесенных в неволе, Юрица стояла с опущенной головой.
– Видите! Это ваша княгиня! – кричал Атанарик. – Как она, и вы все, со своим князем, будете в рабских веригах! Уйдите лучше, говорю вам!
При взгляде на свою опозоренную жену сердце Болемира болезненно сжалось, защемило, а в глазах вдруг стало темней и темней.
– Юрица! – тихо простонал он.
– Князь! Что ж ты молчишь? – заговорили в один голос Рао и Данчул. – Нас позорят, а ты молчишь!
Болемир ничего им не отвечал. Он поднял свои глаза на стену. Юрица стояла в прежнем положении, с опущенной головой, и, казалось, не видела перед собой ничего. Какие-то странные мысли пробежали в голове Болемира и сейчас же исчезли. Так как Болемир, ехавший впереди, остановился, то остановились и двигавшиеся за ним воины. Наступила какая-то непонятная, тягостная для всех минута. Враждующие, казалось, чего-то выжидали, но чего – они сами не знали. Вдруг чей-то метательный топор из стана венедского упал у самых ног Атанарика.
Атанарик встрепенулся.
– А! Вы все-таки еще не усмиряетесь, челядинцы! Так вот же вам ваша княгиня с ее проклятым отродьем!
Меч Атанарика мелькнул над головой Юрицы. Юрица дико взвизгнула и скрылась за стеной. Через мгновенье окровавленная голова ее упала у самых ног Болемировой лошади… Не успела испуганная лошадь отскочить от столь неожиданного кровавого ядра, как уже, рассекая воздух, прямо на Болемира летела рука и нога несчастной Юрицы… За ними последовал и изуродованный труп младенца…
– Вот вам ваше гадливое отродье! – кричал Атанарик. – Берите, хватайте его!
И после этого в стан венедский, визжа в воздухе, понеслась целая туча готских стрел.
Ошалел Болемир и, как дикий раненый зверь кидается на своего врага, кинулся к стенам Холма-города. Воодушевленные примером своего князя, также порывисто кинулись за ним и венеды.
И началась битва, битва дикая, зверская, и не битва, а скорее человеческая бойня, не знавшая ни предела, ни человеческих чувств. Как Божья гроза, носился Болемир на своей малорослой лошади, и посреди своих, и посреди врагов, и всюду, где он только появлялся, витала неизбежная, тяжелая смерть. Он молчал, он не кричал своим воинам обычных в битве воодушевлений, но молчание его было лучшим воодушевлением для остервенившихся венедов, бывших недавно свидетелями столь зверского поступка Атанарика с беззащитной женщиной. Все поняли, что князь сделал ради народа сверхчеловеческую жерт ву, и своей храбростью хотели искупить ее перед ним.
Вскоре стена Холма-города была разрушена. Венеды ворвались в город и стали истреблять и старого и малого. Никому не было пощады: ни младенцам, ни женам, ни девицам. Смерть, смерть, смерть и насилие, необузданное, мрачное, заполонило весь Холм-город и продолжалось и весь день, и всю ночь.
Пользуясь темнотой ночи, готы со своим князем Видимиром и воеводами, Алафеем, Сафраксом и Атанариком, в страшном беспорядке бежали к восточным берегам Днестра…
Наутро в Холме-городе уже не рыскали воины Болемировы, отыскивая скрывшуюся жертву, а целым потоком, с треском, смрадом, плавали волны всепожирающего огня. И все пожрал огонь: и дома горожан, и их тела, с женами, детьми, и тела павших в битве воинов, и недавно защищавшие город стены.
В погоню за готами Болемир отрядил лучшую часть венедов под предводительством Рао, повелев ему не щадить ничего, что встретится ему на пути, а сам с остальными частями переселенцев двинулся к Киеву.
Рао, все разрушая и истребляя на пути, вскоре настиг готов, которые под предводительством своего князя Видимира хотели отразить его, но были разбиты несколько раз, и сам князь их, Видимир, погиб в одной из битв.
На место Видимира был избран малолетний сын его, Видерик, которого приняли на свое попечение Алафей и Сафракс.
В 20 милях от воздвигавшегося Атанариком между Днестром и Прутом вала Рао встретил посланный Атанариком полководец Мундерик, наблюдавший за венедами и предполагавший между тем надежно укрепиться. Но Рао, проницательный в соображениях, понял, что перед ним не главные силы. Показывая вид, будто он расположился станом против передового отряда, он переправился во время ночи через Днестр, разбил Мундерика, внезапно напал на Атанарика, смял его и заставил искать спасения в горах, а потом – за воздвигнутым валом. Но и там Рао насел на Атанарика и взял бы его в плен, если бы богатая добыча, оставшаяся в окопах, не остановила его грозной быстроты.
После этого Рао начал опустошать римские области и города в Дации.
А между тем большая часть войска готского, нуждаясь в самом необходимом пропитании, разбежалась от Атанарика искать убежища от каких-то новых варваров. После долгих совещаний предпочли идти во Фракию по двум причинам: во-первых, по богатству урожайной почвы, а во-вторых, по преграде, которую она представляла против разлива северных народов по всему протяжению Дуная.
Вследствие этого решения готский полководец Аливив, занимавший берега Дуная, послал к императору Валенсу послов с просьбой о принятии готов в свои области и с обетом жить мирно и по требованию выставлять ему вспомогательное войско.
Таким образом, мощной рукой славянских князей Болемира, Радогоста и Рао рушено в 376 году по Р. X. мрачное преобладание готов в Германии и так называемой Скифии; они изгнаны из мира языческого. Император Валенс дает им прибежище во Фракии, в мире христианском, не только на свою голову, но и на беду всей империи. Страшные последствия этого, далеко не радушного, приема хорошо известны истории.
Число перешедших римские границы готов простиралось до миллиона, между которыми считалось более двухсот тысяч способных к войне. Многие из них сохранили при себе оружие, подкупив корыстолюбивых римских чиновников. Едва готы успели поселиться в римской провинции, как их начали страшно притеснять и довели их до отчаяния. Обязанные покупать дурные съестные припасы за дорогую цену, готы вынуждены были продавать своих рабов и даже детей, чтобы не умереть с голоду. Не в силах будучи терпеть более несправедливости римского правительства, готы возмутились и начали грабить страну…
И вот – раскрылась новая картина народных бедствий…
А в то время, как Радогост опустошал берега Эльбы, Рейна и Роны, Рао – римские провинции в Дации, Болемир тихо и торжественно подвигался к берегам Днепра, к Киеву, назначенному столицей его нового царства, простиравшегося уже с берегов Немана до берегов Дуная, с берегов Вислы до берегов Днепра…
Глава II. Столица гуннов
По сказанию Нестора, Киев основан тремя братьями: Кием, Щеком и Хоривом, у которых была сестра Лыбедь.
«И был, – говорит Нестор, – около града лес и бор великий, и они, т. е. братья-жители, занимались звериным промыслом, ибо были мудры и смыслени. При Киеве, – продолжает Нестор, – был перевоз на ту сторону Днепра, почему и думают, что Кий был простой перевощик».
Шлецер считает все эти предания о Киеве и Кие сказкой.
За ним считают их таковыми же и другие историки.
Нельзя отвергать, что они ошибались, предание в этом случае говорит само за себя, сказка видима.
Стоит только просмотреть сказания и легенды всех народов, чтобы убедиться в этом. У каждого народа есть что-либо близко подобное, что-либо подходящее. Три – это какая-то символическая цифра и служит любимым сказочным мотивом не только у славян, но и у других народов. Еще у древних скифов, по известию Геродота, существовал миф об их происхождении от царя Таргитая и его трех сыновей: Арпаксая, Лейпаксая и Колаксая. В Средние века встречается у славян миф о происхождении трех главных славянских народов от трех брать ев: Леха, Чеха и Русса. В Ирландии существует предание о призвании трех братьев с Востока: Амелака, Ситарака и Ивора. В параллель с Кием, Щеком и Хоривом, в нашей летописи, на севере, являются три брата: Рюрик, Синеус и Трувор. Наконец, кто не знает наших русских сказок, где цифра три играет всегда не последнюю роль.
Не отвергая значения летописи Нестора, – летописи, имеющей для русского народа священное значение, – нет, однако, надобности безусловно верить ему, имея под руками другие источники, более правдоподобные. Весь недостаток Несторовой летописи в том, что он далее Рюрика ничего не знал и не мог знать. Вот почему он начинает свою летопись легендами. И за это его винить нельзя. История всех народов начинается легендами, в большинстве случаев невероятными и странными. Легенда о построении Киева более других еще допускает вероятие. Рассказывая свою легенду о построении Киева, Нестор не знает, когда он, собственно, построен, что еще более заставляет сомневаться в его рассказе. Трудно допустить, чтобы летописец, зная о времени построения города, мог умолчать о нем. Время в этом отношении имеет важное значение.
Исконное существование Киева не подвержено, однако, сомнению. Положение его на водном сообщении Балтийского моря с Черным, и при перевозе чрез Днепр, на сообщении Европы с Азией, по сухому пути, составляет перекресток, сам собою определяющий место для основания города и кладовой для торговли.
Сам Нестор говорит:
«Полянам же, живущим по горам сим, и бе путь из варяг в греки, а из грек по Днепру и вверх Днепра, волок до Ловати, и по Ловати внити в Ильмень-озеро».
Из Скандинавии вообще и с островом Волина, где находилась знаменитая торговлей Винета и других, водный путь лежал по Двине до верховья близ Смоленска, а от Смоленска по Днепру в Грецию и Иерусалим.
И путь Святого Апостола Андрея Первозванного из Херсонеса в Рим лежал по Днепру через Киев.
Летописец повествует:
«И уведа, яко из Корсуня близ устье Днепрское, и восхотя итти в Рим, и прииде в устье Днепрское и оттоле пойде по Днепру горе, и по прилучаю прииде и ста под горами на березе и встав за утра и рече к сущим с ним ученикам: «видите ли горы сия, яко на сих горах воссияет благодать Божия: имать град велик быть и церкви многи имать Бог воздвигнути».
Все пространство, занимаемое ныне Европейской Россией, и во времена отдаленные было заселено многочисленными славянскими племенами, которые носили разные названия и жили отдельными общинами. Общины эти и подали повод называть славян различными именами. Славяне носят в истории около двадцати названий[9]: скифов, алан, роксолан, массагетов, сарматов, антов, язигов, паннонцев, венедов, яксаматов, буддинов, словенцев, руссов, сербов и др. Сами себя славяне тоже называли различными именами как в отдаленные, так и в более к нам близкие эпохи. Кто станет спорить против того, что Несторовские поляне, кривичи, радимичи, дулебы, драговичи, древляне и др. не славяне?.. Дело слишком ясно и не требует исторических выводов.
В числе других славянских племен существовало в 1-м и 2-м столетиях по Р. X. и славянское племя, носившее название кутавов. Племя это жило по берегам Днепра до порогов днепровских.
Селилось ли оно там с незапамятных времен или вытеснило собой другое какое-либо славянское племя, история не дает ответа.
Племя это носило еще и другое название, по всему вероятию, происшедшее от первого или наоборот. Во всяком случае, по некоторым историческим данным, оно известно под именем коуеве, которое, по-видимому, есть не более как испорченная форма кутавы. А кутавы – слово чисто славянское, и весьма естественно, что славянское племя могло носить подобное название. Кут – угол, приют, укромное место.
Поселившись на Днепре, месте удобном во всех отношениях, кутавы, без сомнения, должны были основать городец, и они основали его, сначала, может быть, в виде небольшой веси, а потом и городца. А может быть, город существовал и раньше. Птоломей упоминает о каком-то Митрополисе на Днепре. Кутавы могли только дать городу свое новое название и более отстроить его.
Несомненно одно, что около 220 года по Р. X. Киев уже существовал и в нем княжил славянский князь Гано, или Иано[10].
Относительно названия Киева существует несколько предположений. Кроме Нестора, который производит название от строителя Кия, новейшие исследователи производили Киев от кий, т. е. палка. В греческих, латинских и арабских известиях X и XI веков Киев носит название Киавы, Китавы и Куявы[11]. С этими названиями нельзя не согласиться. Форма их, имеющая женское окончание, много говорит в их пользу. Еще во времена Птоломея город, если только он под Митрополисом на Днепре разумел Китаву, носил прозвище матери градов. По Нестору, это прозвание дал Киеву Олег, взяв его для северного рода князей: «Се буди мати градом Русским». Нельзя не обратить внимания на эту грамматическую неверность: Киев мать, а не отец город. Народ таким образом не мог выразиться. Народ говорит: «матушка Москва», «батюшка Питер». Как пример того, что первоначальная форма Киева была Кутава или Китава, можно указать и на то, что и доселе близ Киева существует местность Китаево, с Китаевскою пустынью, а в Киевской губернии есть два Китая-городка. Остатками монгольщицы эти названия никоим образом быть не могут, потому что русские только и знали монголов под именем татар. Из этого видно, что название московского Китая-города оказывается далеко не единственное.
В описываемую нами эпоху, т. е. в 376 году по Р. X., кутавы уже носили название Кыян, форма которого, по всему вероятию, произошла от Кутавы же. И с этого же времени область Кыянская начинает быть известной под названием Гуниланда, Кыев – Гунигарда, а нахлынувшие туда во главе с Болемиром прибалтийские венеды – под грозным названием гуннов.
Откуда же явилось подобное название и что оно, собственно, значит?
Гунны не называли себя этим именем. Они по-прежнему называли себя венедами, вендами, славянами. Гунны – название чисто книжное. Только впоследствии, как увидит читатель, соединившись с другими славянскими племенами, они начали носить подобное название, так как оно сделалось грозным для всей Европы и служило признаком храбрости, бесстрашия и ужаса.
Гуниланд, Гунигард, гунны – есть опять же не более как испорченная форма Кыев и кыяне, которую дали им рассеянные Болемиром готы.
Разбитые и рассеянные Болемиром готы не могли допустить, чтобы обыкновенная сила человеческая поразила их, и вот, по их рассказам, историк Аммиан Марцеллина, хотя и живший в конце четвертого и в начале пятого века, но никогда не видавший гуннов, рассказывает о гуннах следующее.
«Гунны превосходят всякое понятие о зверстве. У них тотчас же по рождении младенца изрывают ему лицо горячим железом, чтобы истребить проявляющийся пушок волос. По этой причине они возрастают и стареют в безобразии и без бороды, как евнухи. Но вообще они плотны, с могучими плечами и толстой шеей. По необычайному и сгорбленному туловищу они кажутся двуногими зверями или грубой работы болванами, которых ставят на мостах. Этому отвратительному человеческому подобию соответствует и грубость привычек. Они употребляют сырую безвкусную пищу, питаются полевой овощью и кое-каким полусырым мясом, распаренным между ног на спине лошади. У них нет домов, они избегают их, как кладбищ. У них нет даже шалашей: с самого малолетства они скитаются среди гор и лесов. Встречая жилище, опасаются ступить на порог оного, даже в крайней необходимости, им страшно быть под крышей. На одежду употребляют холст или шьют оную из лесных кошек, куниц и проч. Это составляет обычную будничную и праздничную одежду, которую они не скидают с плеч, покуда она не истреплется в лохмотья. На голове носят перегнутые набок шапки. Мохнатые ноги свои обвертывают бараньей шкурой. Эта безобразная обувь мешает им свободно ходить, и по этой причине они не способны воевать пешие, но зато они как будто прикованы на своих лошадях, которые хотя крепки, но неуклюжи. Сидя на них иногда по-женски, они исполняют верхом свои обычные занятия. Денно и ночно на коне, с коня продают, с коня покупают, на коне пьют и едят и даже спят, склоняясь на тощую гриву его. На коне же судят и радеют о делах. Бросаясь в бой без всякого порядка, они несутся толпою вслед за храбрейшим».
Стоит ли говорить, что рассказ этот наполовину сущая клевета на гуннов, т. е. на славян. Славяне действительно всегда отличались и отличаются крепостью своего телосложения, быстротой движений, умом, силой воли; любили употреблять на одежду холст и звериные шкуры, что объясняется чисто климатическими условиями страны, но чтобы славяне уподоблялись диким зверям, изрывали горячим железом лица своих младенцев, боялись жилищ и проч. т. п. – это чистая ложь, ничем не оправдываемая, ничем не объяснимая, если только устранить обручников, о которых упомянуто выше и которые, составляя весьма немногочисленную касту, изузоривали свое лицо черной краской. Подобная грубая легенда только и могла родиться у народа, устрашенного непомерной силой славянского движения. Порабощенным и изгнанным из северо-восточной Европы готам, которые десятки лет угнетали край и взросли в убеждении своей непобедимости, ничего больше не оставалось, как придать своим победителям вид демонов.
То же можно сказать и относительно происхождения гуннов.
Аммиан вывел гуннов от Ледовитого моря из какой-то страны кинокефалов, и на этом историческом основании кисти и резцы Авзонии, перья Галлии, умы Британии и созерцательность Германии могли создавать какие угодно фантастические образы и создавали их.
По Иорнанду, главным виновником причины нарождения гуннов был Филимер, сын Гандарика великого, конунга готов. Не изгони он из среды своего народа каких-то ведьм, гунны не существовали бы. Но он изгнал их в пустыни, и это изгнание пало не только на головы готов, но и на головы других народов. Ведьмы эти, бродя по степям, сочетались с какой-то вражьей силой и произвели на свет то зверское племя, которое сначала было очень ничтожно и принадлежало к числу людей только по имени, означающем словесных.
Это сказочное предание напоминает и повествование Геродота о скифах, происшедших от союза Иракла с русалкой Эхидной, полудевой, полурыбой, и о сарматах, происшедших от сочетания благорожденных скифов с амазонками.
По простодушию ли или с намерением, в духе времени, Иорнанд на одной странице своей истории о готах поместил басню о чудном происхождении гуннов от нечистой силы, на другой – выводит их из недр населения булгар. Путаница эта как нельзя более доказывает, что историк или, зная, что гунны есть одно из племен славянских, был поставлен в необходимость произвести их от нечистой силы, или он просто не имел никакого понятия о гуннах и заимствовал сказание о них у Аммиана.
Тьерри, автор «Истории Аттилы», увенчавший труды запада по этому предмету, отвергая неестественное, счел более благоразумным верить естественному, хотя ни на чем не основанному происхождению победоносных дружин Болемира от костей монгольских. И вот вместе с этим положением является неизбежно новое, движущаяся картина давления народов от густоты населения в неизмеримых пустынях Сибири. Подобное давление будто бы чудского населения на славян, славян на германов, германов на галлов, галлов на римлян не уступает скандинавскому рассаднику бесчисленных народов и напоминает сказание о том, как Александр Великий заключил в горах, за Лукоморьем, «вси сквернии языци» и что пред кончиной мира они изыдут на пагубу его. Картина подобного движения народов действительно грозно-очаровательна, но она, увы, есть чистая выдумка пылкого воображения повествователя.
Не странно то, что француз, по живости своей натуры, мог создать подобную сказку, а странно то, что вот уже десятки лет наши русские историки повторяют ее на все лады и вводят в руководство для юношества; повторяют ее даже те, которые глубоко убеждены во лжи ее. Для чего? – является вопрос. Не для того ли, что нам стыдно сознаться в том, что мы прямые потомки гуннов? Ложный и непонятный стыд! Тем более непонятный, если его породил невероятный рассказ Аммиана о гуннах. Что же касается восстания гуннов на готов и свержения их ледяного, тяжелого ига, то этим мы еще должны гордиться: славянская натура не терпит рабства и не привыкает к нему.
Между игом готским, давившим славян в 1-м и 2-м столетиях, и игом монгольским – в XIII столетии – есть много общего. Не смешно ли было бы, если бы какой-нибудь татарский Аммиан, желая оправдать победу русских над своим, в течение более ста пятидесяти лет непобедимым народом, вздумал назвать русских подобием зверей!
Да и можно ли верить Аммиану, который тоже, подобно Иорнанду, сбивается в своей истории с предназначенного пути. Он говорит, что гунны жили за Меотическим озером близ Ледовитого океана, и почти слово в слово извлекает из Трога Помпея описание, помещенное выше, парфов, действительно живших за Меотидой, а Меотидой называлось нынешнее Каспийское море. Каспийское море и Ледовитый океан, парфы и гунны, как хотите, странная история!
По византийским историкам, гунны были киммерияне и, стало быть, жили на южных окраинах нынешней России. А исследователь Дегин узнал из китайских летописей, что до нашествия на Европу гунны жили между рекой Иртышом и Китаем[12]…
Вообще вся история гуннов, исходившая с запада, преисполнена подобного рода противоречиями.
Неутомимый Ю. И. Венелин, известный русский славянист, забраковав самыми простыми доводами водворившееся в истории нелепое мнение о владычестве каких-то неведомых гуннов-монголов на пространстве между Дунаем и Волгой, первый провидел сквозь темноту сказаний византийских, что гуннское царство было славянское царство, хотя название гуннов он и приписывает, собственно, одним булгарам. Это мнение Венелина основано на сказании Иорнанда, сказании, о котором только что было упомянуто, и на византийских писателях, у которых до X века задунайские варвары[13] слыли безразлично то скифами, то сарматами, то гуннами, то булгарами, то руссами, потому что греки понимали под всеми этими названиями один и тот же народ славянский, как мы под названием турков, оттоманов, магометан, османли, сарацин понимаем породу измаелитов.
Историк-филолог П. Й. Шафарик, изыскания которого доставили столько драгоценных материалов для объяснения славянского мира, особенно средних времен, не затрагивая западных ученых мнений, не колеблется сознать гуннов славянами.
В германских народных сказаниях под именем гуннов разумеются славяне.
В северных квидах и сагах гуннские богатыри – Ярослав, Ярожир и проч. – обличают в себе славян.
Саксон Грамматик славян и гуннов принимает за один и тот же народ.
«Все славянские земли, – пишет Гельмольд, – лежащие на восток и исполненные богатства, ныне называются Гунигард, по бывшему в них населению гуннов. Там столичный город Куе. Адам Бременский этот столичный город гуннов называет Кувен».
Но что всего лучше доказывает о чисто славянском происхождении гуннов, так это записки Ритора Приска, заключающиеся в выписках из статейных книг посольства императора Феодосия к царю гуннов в 448 году. Приск вел эти записки, состоя при после Максимине. Он сам был свидетелем всего им описанного и очень остался доволен гуннами и их столицей.
Один грек, женившийся и поселившийся среди гуннов, коротко и ясно описал Приску быт гуннов. Он сказал: «Здесь каждый владеет спокойно тем, что у него есть, и никому не придет в голову притеснять ближнего».
И этот-то народ, и этих-то гуннов, в среде которых «никому не придет в голову притеснять ближнего», назвали подобием зверей! И этот-то народ, если верить легендам и хроникам VII, VIII и IX веков, не оставил, где проходил, камня на камне!
Еще лучше: по мнению средних времен, каждое созидание принадлежит Юлию Цезарю, каждая развалина, по всем правам, гуннам. Если летописцу нужно было знать время разорения какого-либо города, а алиографу время мученичества, то хронология не затруднялась приписывать все разрушения и истязания нашествию гуннов.
А между тем гунны были не более как победители и гонители врагов своих: готов, римлян и византийцев. Правда, несколько жестокие победители, но вопрос, лучше ли них поступали с побежденными те же самые готы, римляне и византийцы?
Гунны ведут войну с Грецией, с Римом, с готами, со всей остальной Европой. Но что же им делать, если вместо соблюдения мирных договоров по взаимной клятве, с одной стороны, хотят врезаться в их тело, с другой – всосаться, а с третьей – подносят заздравный кубок с ядом, как Олегу у ворот Цареградских.
Гунны побеждают и греков, и римлян, и готов, но какой же победоносец не побеждает? И Рим побеждал для того, чтобы утучняться. А гунны не отрезали ни одного куска чужой земли. Гунны, кроме дани, ничего не брали с побежденных.
Гунны Болемира были простые и добрые славяно-венеды, которых один только гнет деспотический и заставил двинуться на берега Эльбы, Дуная и Борисфена и, очень понятно, все рушить на пути, что только сопротивлялось их грозному движению на новые места…
Глава III. Въезд в Киев
Шумно и торжественно въехал Болемир в свою новую столицу – Киев.
Не велик и не красив был в это время Киев.
Разбросанный, не кидавшийся в глаза, он состоял из одних деревянных строений: клетей, теремов, мылен и медуш, обнесенных высоким частоколом и утопавших в зелени садов[14]. Но зато прочны были эти терема и клети и долго служили своим обитателям надежным кровом.
Славяне того времени вообще любили строиться не красиво, но прочно. Битвы, шумные перевороты, периодически волновавшие пространства, занимаемые нынешнею южной Россией, приучили их к тому. И не то чтобы бедность заставляла кыян строиться некрасиво, а просто неуменье роскошничать. В то время роскошь еще не была занесена к славянам с Востока, хотя они и имели с ним постоянные сношения. Роскошь появилась между славянами только со времен столкновения их с римлянами.
Хотя Нестор и повествует «и был около града лес и бор великий», но окрестности города по свойству своей почвы едва ли изобиловали огромными лесами. Почва окрестности песчана и неплодородна, а на востоке тянется бесконечная голая плоскость. Сомнительно, чтобы когда-нибудь на ней была богатая растительность. А запрос на лес существовал. Постройка судов, необходимых кыянам для торговых сношений с севером и югом, требовала рослого и прочного леса. Поэтому лес и готовые суда доставлялись в Киев с севера, по Днепру, от смолян, кривичей и ленчан. Судовая торговля составляла единственное богатство кыян, и там же было сборное место для кораблей.
Войсковое сословие кыян, князья и дружина, проводили зиму на охоте. В это время производилась в лесах ловля зверей и сбиралась с подданных обычная дань мехами. Когда же Днепр вскрывался, то в апреле месяце они возвращались в Киев и, вооружив суда свои, предпринимали обычное путешествие в Грецию, чтобы менять скору, то есть меха, воск, мед и пленных, на шелковые и золотые ткани, золото, серебро, вина и овощи Греции. Торг производился на марках[15], т. е. на пограничных местах, весной и осенью, в дни, которые соответствовали нашим дням – Юрья и Ивана Купалы. Торг с Грецией производился близ р. Истра (Дуная), против укрепления Констанции, в месте, которое называлось также Маруос[16]. Станция кыян при поездке в Грецию была при устьях Днепра или в лимане Днепровском, на острове, называемом греками Эйфар, а славянами Вулнипраг. Греческая же станция, при поездке морем в Киев, была в пограничном городе Одиссе, который, полагают, находился на месте нынешнего Очакова.
Сказаний, прямых или косвенных, о княжестве кыянском до 222 года вовсе не существует. И об Гано, княжившем в Киеве с 222 года, упоминается мимоходом; о нем упоминается, как об отце, князе кыянском, выдавшем свою дочь Гануцу за датского короля Фродо III, и как о герое кровавой битвы с готами в союзе со стасемьюдесятью князьями. Потом говорится о Яровите, который обладал всем восточным царством и во владении которого были Киев, Смоленск, Пултуск и Холмо град. Когда один из скандинавских князей Нордиан наследовал свое великокняжение, Яровит поднял на него оружие, победил и ограничил владение Нордиана только Зеландией. Из этого следует, что Яровит далеко распространил пределы своего княжества, по крайней мере – был неограниченным властелином прилегающих к его княжеству с севера земель и одним из храбрейших князей славянской земли. Долго ли княжил Яровит, сказание умалчивает, но еще при жизни своей он, по обычаю страны, разделил владения свои между тремя сыновьями: Остроем, Ольгом и Владимиром. Княжество кыянское досталось на долю Ольга, иначе Илиаса.
Через тридцать лет после вступления на престол кыянского Гано готы, вытесненные около 189 года с Балтийского моря к Черному, вторглись в Мизию и Фракию. Император Декий двинулся на готов со своими войсками, но готы овладели городом Филиппополем и в 251 году близ Абрита, не в дальнем расстоянии от нынешней Варны, разбили его наголову. Сам император вместе с сыном погиб в этой битве от измены своих полководцев. Склоненные на мир преемниками Декия подарками и ежегодной данью, готы обратили свое оружие на восток и покорили все народы, жившие между Днепром и Доном.
С этих пор Киев, вместе с другими областями славянскими, находился под властью готов включительно до 376 года, когда мощной рукой венедского князя Болемира рушено было тяжкое преобладание готов над землей славянской…
Долго томившиеся под гнетом готов кыяне встретили Болемира как своего долгожданного спасителя, о котором они молили богов своих денно и нощно. В течение более чем стадвадцатилетнего рабства кыяне, подобно венедам, много раз поднимали оружие на поработителей своих, но каждый раз сила готов подавляла их, и они должны были смиряться, платить непосильную дань и служить у готов низкой челядью. Злоба их молчала, сила их служила на пользу поработителей.
Болемир и въехал в Киев не как победитель, а как долгожданный гость.
При приближении его к Днепру все готское население Киева и его окрестностей, состоявшее большей частью из войскового сословия, подобно своим западным собратьям, ринулось к берегам Дуная. Быстро разнеслась между ними весть о приближении с севера к Черноморью какой-то чудной, неведомой породы людей, которая на своем пути все жжет, рушит, уничтожает, – и все готское население от берегов Дона до берегов Днепра, от берегов Прута до берегов Таврического полуострова пришло в страшное смятение. Не так пугали готов победы неведомого народа, как его грозное, несметное, спокойное движение из одного края в другой. Не было еще примера, чтобы целый народ, со своими семьями, с имуществом, скотом, товарами, рухлядью, со всякого рода домашними орудиями, двигался из края в край. Правда, были передвижения, но передвижения, собственно, одного войскового сословия, которое силой оружия пролагало себе новый путь на новые места, или – одной части народа. А тут вдруг движется целый народ, движется, как неотразимая туча, гроза, ураган. Дрогнули готы и, в свою очередь, двинувшись к берегам Дуная, подавили других народов. И вот весь Запад заколыхался, заговорил. Страшная молва, как молва о чуме, пронесла повсюду грозную новость, что между северными народами идет страшная смута, что все пространство Дуная, от Понта до границ маркоманнов и квадов, наводнено бесчисленным множеством варваров, готов, изгнанным из своей родины народом неизвестным и покрывшим весь берег Дуная скитающимися толпами…
И это поражающее, но довольно естественное событие названо историками великим переселением народов…
Как долгожданного гостя кыяне и встретили Болемира.
Болемир с небольшим отрядом любимых витязей всегда ехал впереди своего чудного войска переселенцев.
Со дня смерти Юрицы Болемир совершенно изменился: сделался мрачным, грозным, жестоким и действительно стал походить на чудовищного предводителя чудовищного войска. Он поступал жестоко даже со своими венедами, которые, невзирая на это, еще более полюбили его, смотрели на него со страхом, уважением и видели в нем предводителя, ниспосланного для их спасения самим небом. Не проходило дня, чтобы он не налагал на кого-нибудь своей мрачной опалы. Казни совершались ежедневно. За малейший проступок проступившего ждала смертная казнь. Казнь совершалась в виду целого народа и очень просто: преступника в одной рубахе выводили перед народом, в двух словах объявляли его вину, и потом несколько человек быстро, как попало, рубили его топорами. Болемир всегда присутствовал при совершении казни, равнодушный, спокойный. Когда же казнь совершалась, он обращался к народу с небольшой речью, заключавшейся в следующих словах:
– Со всяким будет поступлено так, кто нарушит законы своей родины. Если и я нарушу их, то каждый из вас может кинуть в меня свой топор. Кто знает за мной преступление – кидай топор! Вот грудь моя, вот мое тело!
Народ всегда отвечал ему криками восторга, потому что Болемир еще никогда и ни разу не проявлял своей несправедливости перед народом. Между тем народ, имея перед глазами такие примеры, привыкал к постоянной справедливости и грозной суровости. Всегда разъединенные, занимавшиеся преимущественно торговлей венеды только в это время поняли, как может быть велик и ужасен народ, взращенный среди испытаний и гонений. Более чем триста тысяч семей поняли, что для такого народа не существует преград на земле и все мелкое, низкое всегда испуганно и подобострастно преклонит перед ним свою недостойную голову.
И эти триста тысяч семей, как один человек, приближались к берегам Днепра, чтобы создать там свое новое отечество под управлением грозного Болемира.
Все кыяне, от мала до велика, старики и жены, воины и смерды, юноши и девицы, вышли навстречу страшному победителю. Впереди, по обычаю, шел хор молодых пригожих девушек под длинными белыми покрывалами и, сверх того, под пологами, которые несли красивые женщины.
За девицами, с хлебом и солью на большом серебряном блюде греческой работы, с большой серебряной чарой хиосского вина, встретили Болемира старейшины города, седобородые и седоусые старики[17].
Болемир, не слезая с коня, испил поднесенную ему чару вина, вкусил хлеба с солью и поехал в сопровождении своих витязей Киевом, к приготовленным для него хоромам. Народ все кричал ему «славу» и кидал под ноги его коня одежды, цветы и плоды…
В тот же самый день, к вечеру, близ Киева, на нагорной стороне расположился станом первый отряд переселенцев венедских. До Киева доносились звуки труб, оружия и необычайный говор народный, а вечером по всему протяжению Борисфена запылали яркие костры и раздались звуки гуслей и литавр: венеды ликовали свое прибытие на излюбленные ими берега днепровские. С некоторым страхом и трепетом взирали кыяне на эти ярко пылающие костры пришельцев-спасителей и, в свою очередь, ликовали благое спасение от ненавистного им племени готского.
Всю ночь по водам Борисфена сновали ладьи кыянские, разукрашенные огнями, холстинами, дорогими парчами, и пелись громкие песни, восхвалявшие храбрость и непобедимость нового великого князя Болемира. В самом Киеве было не меньше ликование: старейшины повелели выкатить народу множество бочек старых медов, хороших браг, квасов, вынести жареных быков, баранов, кабанов, целые груды хлебов, каш, лепешек, других съедобных снастей, – и народ пил и ел во славу Перунову и во славу нового великого князя Болемира.
А Болемир уединился между тем в занятых им хоромах и, окруженный старейшинами, держал совет: как распределить переселенцев венедских.
После долгого совещания решено было разделить переселенцев еще на три части: одну двинуть к порогам днепровским, а две оставить в Киеве и окрестностях его.
Едва кончилось совещание, как в хоромы к Болемиру явились жрецы кыянские и просили в возблагодарение богов за столь радостное событие принести жертвы человеческие. Болемир изъявил свое согласие и обещал быть на празднестве.
Жертвоприношение назначено было на утро следующего дня.
Глава IV. Человеческие жертвы
Свежее и приятное утро глянуло на Киев после буйной ночи всеобщего пиршества. Следы пиршества еще не совсем изгладились: еще много ходило по Киеву хмельных голов, еще много оставалось недопитых медов, и кыяне допивали их, охмеляя себя и их сладостью, и сладостью гусляровых песен.
И в то время, когда стогны Киева еще оглашались веселыми голосами запоздалых любителей хмельных медов, один из возвышенных берегов Днепра оглашался совсем другого рода звуками – там воздвигался чудовищный костер из камня и дерева.
Костер этот воздвигался у подножия высокой, каменной, из серого гранита статуи Перуна, мечущего из правой руки гром и молнии в виде длинных крылатых стрел.
Сначала на пространстве одной квадратной сажени были положены в несколько рядов булыжные, обтесанные в квадрат камни. Вышина их простиралась до двух аршин.
На камни был положен невысокий сруб в один ряд из свежего соснового леса.
Возле сруба с восточной стороны был положен квадратный черный камень, камень – священный, жертвенный.
В сруб накидали множество сухого дерева, хвороста, каких-то символических, из дерева, изображений, и костер был готов.
Немного ранее полудня к костру направилась жертвенная процессия.
Впереди всех один кыянин вел белоснежного коня с длинной заплетенной гривой и хвостом и с раскрашенными копытами.
Конь этот был – священное животное и содержался жрецами в священной роще. Там его кормили, холили, там он, устарев, околевал, там же его и погребали с особенным почетом и языческими обрядами.
Содержание священного коня составляло одну из важнейших обязанностей жрецов, и вместе с тем белый конь служил эмблемой их чистоты и власти. Особенно много хлопот доставляло жрецам, в случае смерти коня, отыскивание такого же нового. В касте жрецов это отыскивание составляло целую эпоху. Когда конь находился, жрецы успокаивались, когда же его не было – прекращались все жертвоприношения, а поэтому жрецы перед народом теряли и свое значение, и свою силу на его духовный быт.
А между тем от коня требовалось очень немногое. По его ржанию, к которому его возбуждали, узнавали, будет ли жертва угодна языческому богу или нет.
Выводимому из ржания коня предзнаменованию верил не только простой народ, но и люди высшего сословия. Они полагали, что белый конь, служа божеству, составляет и поверенного божества.
Никогда не случалось, чтобы жертва не была угодна богу, потому что всякое ржание коня жрецы ловко истолковывали в свою пользу.
За конем шли два жреца в белых балахонах с дубовыми венками на головах. Балахоны их были подпоясаны широким пурпуровым поясом. Каждый из них держал в руках длинный жертвенный нож.
За жрецами шли обреченные на жертву: отрок и отроковица.
Несчастные были покрыты с головы до ног холщовым мешком.
Они не шли, а скорее были несомы: их вели и поддерживали четверо жреческих прислужников.
Вслед за обреченными, окруженный множеством венедов, ехал сам Болемир, виновник настоящего торжества.
Как-то тупо и странно смотрел он на всю эту торжественную процессию.
Напоминала ли она ему что-либо грустное или он, по обыкновению победителей и как новый могущественный царь славянский, считал для себя подобную жертву совершенно естественной и необходимой, только он не подавал ни малейшего признака участия к тому, что вокруг него происходит.
За Болемиром пешком и на конях тянулась громада венедов-победителей, а за ними – сотни кыян, одетых в самые разнообразные праздничные одежды.
Приблизившись к приготовленному костру, белый конь вдруг заиграл, начал весело подниматься на дыбы и заржал тем веселым, тем гордо-сознательным голосом, которым дикие свободные кони ржут, почуяв близость таких же, как и они, свободных и быстрых, как ветер, обитателей беспредельных зеленеющих степей.
Вся толпа народа, двигавшаяся к костру, как один человек, издала крики радости, потому что она слышала явное предзнаменование, что предполагаемая жертва угодна Перуну и будет принята им с любовью.
Значение коня кончилось, и его снова повели в священную рощу, до нового требования.
Начиналось значение жрецов.
Подойдя к жертвенному камню, оба жреца пали пред ним ниц.
Полежав таким образом некоторое время, они встали и начали осенять камень какими-то таинственными знаками ножом и руками.
После этого к ним подвели отрока и отроковицу.
С них сняли мешки, и несчастные предстали перед народом во всем ужасе ожидающей их участи.
Бледные, дрожащие, с дико блуждающими взорами, они, казалось, потеряли всякое сознание и походили на ягнят, в глазах которых режут их кормилицу-мать.
Затем в груду хвороста, который был накидан в середину костра, один из жрецов, шепча про себя молитву, кинул искру священного огня.
Огонь этот был принесен из священной рощи и получился от трения одного дерева о другое в священной же роще.
Костер быстро вспыхнул, а пламя сразу высоко поднялось к небесам.
Это было новым знаком того, что жертва угодна Перуну и будет им принята с любовью.
Далее следовала главная часть жертвоприношения – зарезывание обреченных.
Первым был зарезан отрок.
Он даже не вскрикнул, когда нож жреца коснулся его горла; тихо, как подкошенный колос, он упал на землю.
Жрец сейчас же обрубил у него руки, ноги и голову.
Сначала на костер была брошена голова, потом руки, а потом ноги.
Синеватым и смрадным пламенем вспыхнул костер, когда на него упало человеческое мясо.
С каждой минутой смрад становился сильнее и тяжелее, но народ, исполненный божественного настроения, казалось, не только с охотой, но даже с наслаждением вдыхал в себя этот отвратительный запах…
Вскоре огонь снова запылал яркими светлыми полосами, испуская легкий синеватый дымок.
Очередь была за отроковицей.
С отроковицей не так легко было справиться.
Несчастная девушка, полная, вероятно, надежд на жизнь и счастье, не хотела умирать за благо народное, которого она еще не понимала.
Она долго билась, стонала, кричала, молила о пощаде.
– Матушка! – кричала она. – Ратуй меня, бедную! Ратуй!..
В ответ ей в толпе народа, которая находилась ближе к костру, раздалось дикое, неудержимое рыдание, из которого тяжело и быстро вырывались болезненные, многострадальные слова:
– Дочь моя! Дочь!..
Народ молчал. В воздухе тоже была тишина невообразимая. Яркое летнее солнце высоко уже стояло на небе и благодатно освещало и весь Киев, и всю эту громадную толпу народа, собравшуюся для бесчеловечного зрелища. Только один Днепр, на берегу которого происходила эта страшная, бесцельная картина, спокойно, точно с недовольством и озлоблением, плескался и урчал, неся свои возмутившиеся воды далеко-далеко от места безумного приношения. Зато истукан Перун, ярко освещаемый и лучами летнего солнца, и пламенем разгоревшегося костра, стоял во всем величии языческого бога и как бы торжествовал свою языческую кровавую славу…
Жрец, издавна привыкший к подобного рода крикам и моленьям обреченных, как кричала и молила отроковица, хотел уже занести над ней свой тяжелый жертвенный нож, как Болемир громко крикнул:
– Стой, жрец! Не режь ее!
Жрец поднял на Болемира свои удивленные глаза:
– Князь, так делать не подобает.
– Не режь! – повторил Болемир.
– Хотя мы все и славяне, но у каждого из нас служение свое. Вы служители Сивы, мы – Перуна. А наш Перун переступать его законы не повелевает.
– Не режь! – крикнул еще громче Болемир.
– Князь, так делать не подобает! – отвечал упорный жрец.
– Подобает, смерд негодный! – гаркнул уже Болемир и, выхватив из-за пояса топор, раздробил им голову жреца.
Жрец, глухо крякнув, всем своим толстым, отъевшимся телом грузно рухнул на землю, к подножию жертвенного камня, на котором он только что совершил мрачное богохульство.
Окружающая костер толпа ахнула в ужасе, и грозный Болемир показался ей еще грознее.
Отроковица была спасена.
А Болемир, спокойно поворотив своего коня, поехал от места отвратительного зрелища. За ним последовали и его верные венеды.
Расходясь, кыяне роптали:
– Он не верует в наших богов, он нехороший князь. Беда нам будет с таким князем.
– А коль беда, так что ж нам глядеть на него, как он убивает наших чтимых жрецов! Не дадим ему убивать наших чтимых жрецов! – советовала одна удалая голова.
– И то, не дадим! – подхватывали такие же удальцы. – Пришел невесть откуда, и бьет наших жрецов, и в бога нашего не верует. На что нам такой князь! Готы и те с нами так не делали! Они не рушили веры нашей. А этот пришел невесть откуда и тут свои порядки заводит! На что нам такой князь! Долой такого князя!
Более благоразумные усмиряли удалых:
– Полно, будет вам, ребятки! Как бы беды не вышло…
– Какая беда! Одну беду бедовать, другой не миновать!..
– Аль мы не кыяне? Аль уж мы только и годимся в челядинцы к готам да венедам! Да пущай они у нас челядинцами будут, а не мы у них…
– Полно, будет вам, ребятки! Как бы беды не вышло…
Но чем более уговаривали удальцов, тем более они храбрились, кричали, махали руками и находили себе новых последователей.
Толпа их быстро увеличивалась, и они уже во всеуслышание заявляли свое недовольство новым князем:
– Долой Болемира! На что нам Болемир! Он безбожник! Не верует ни в каких богов!
К сумеркам толпа возмутителей страшно возросла.
Венеды сначала смотрели на все это, как на шуточную проделку кыян, смеялись, сами шутили, но, когда увидели, что кыяне не на шутку поднимают против Болемира возмущение, сообщили ему о том.
Болемир и сам давно уже знал о происходящем, но он тоже относился к этому безучастно и равнодушно. Сознавая, что он действительно дерзко нарушил веру единокровного ему племени, он хотел дать кыянам некоторую свободу, чтобы они, пользуясь ей, излили на него свою горечь и простили ему его поступок.
Но он ошибся в кыянах.
Торгуя с Ахаией и нередко посещая Византию, многие из кыян вынесли оттуда влияние фракийцев и римлян, которые в эту эпоху отличались особенным свободомыслием к правителям, которые им почему-либо не нравились, и буйными проявлениями своей народной силы.
В свою очередь, кыяне ошиблись в Болемире; не по их силам было бороться с таким князем, как он.
Вечером, когда уже весь Киев был возмущен против Болемира и возмутители, махая в воздухе оружием и зажженными смоляными палками, вызывали Болемира с его венедами на бой, Болемир выехал из занятых им хором и повелел, чтобы все еще стоявшая станом у Киева орда двинулась к городу.
Орда быстро появилась в городе. С появлением ее кыяне не успокоились, а еще более подняли вызывающий на бой крик и гам.
Тогда перед кыянами, посланный Болемиром, появился Данчул.
Данчул заговорил к народу:
– Меня послал князь сказать вам, чтобы вы мирно разошлись по домам и не кричали. Князь прощает вас.
– Не хотим Болемира! – гудела толпа. – Не надо нам Болемира! Долой такого князя!
– И такое ваше последнее слово? – улучив минуту, спросил Данчул.
– Последнее! Последнее! Долой князя! Долой Болемира!
Данчул затрубил в голосистую трубу. Из стана послышалась такая же труба.
Вскоре весь Киев огласился кликами боя, стонами, воплями, рыданиями. Как демоны носились обручники венедские по стогнам Киева и истребляли все, что попадалось им под руки. Им повелено было истребить всех кыян без исключения. К утру некого уже было истреблять, и напрасно опьяненные кровью и усталостью венеды рыскали по домам, клетям и землянкам, отыскивая живых. Везде валялись одни трупы: трупы младенцев, матерей, жен, стариков, отроков, девиц. Там лежала целая груда отрубленных голов, там туловищ, там с изуродованной грудью валялось тело молодой женщины, а рядом с ней, рассеченный надвое, ее малютка, там целая хижина была набита обрывками человеческого мяса… А кровь? Кровь виднелась повсюду: в домах, на домах, на листьях, на траве, на одежде победителей и побежденных, везде, везде, и даже воздух был пропитан запахом одной крови. Трудно было дышать в этом воздухе, но победители дышали им. Дышал им и сам Болемир, виновник стольких несчастий, виновник стольких потоков крови.
Более сорока тысяч кыян погибло в одну ночь.
Объезжая город, тупо и безучастно смотрел на все происшедшее победитель.
Глава V. Новые хоромы
Под наружной оболочкой Болемирова спокойствия скрывалось, однако, что-то такое, что несколько тревожило его. Перед ним лежали уже не трупы врагов его родины, готы, а те же славяне, как и он и его венеды, и кроме того: младенцы, жены, старцы.
Чем-то зловещим пахнул на него этот опустошенный славянский город, где он захотел создать великую столицу великого нового царства.
«Где же мое величие? – думал он. – И неужели оно в этом бесцельном истреблении и правого, и виновного? Да и на что мне оно, это величие? Да и для кого оно? Неужели для меня? Но я один, один, как вот это бездушное тело, кинутое кем-то без сожаления: некому пожалеть, некому помянуть добрым словом. Несчастный! А он жил, а он радовался, и кто же прекратил его жизнь, его радость?»
Болемиру страшно было сознаться, что он, один он, грозный повелитель новой, появившейся у севера орды.
И тяжело ему стало дышать этим едким, пропитанным кровью воздухом, хотелось подышать чистым, свежим воздухом, хотелось подышать теми полями, лугами и лесами, которыми он дышал когда-то, в раннем детстве на берегах любимого Немана, широкого, величественного…
Почти бессознательно он куда-то поворотил своего коня.
Умный конь давно уже фыркал и нередко, навострив уши и раздувая ноздри, отскакивал назад при виде какой-либо неожиданной ночной жертвы в виде обезображенного трупа человека или же целой груды трупов. Нехорошо было и ему, хотя и привыкшему уже не к одной битве, ступать на невинную кровь человеческую. Почуяв же, что седок направляет его куда-то, он инстинктивно поворотил к берегу Днепра, где чуялась ему свежая сочная трава и откуда неслось ржание пасущихся табунов. Не ожидая воли хозяина, он резво направился туда, и вскоре Болемир очутился на каком-то высоком берегу Борисфена.
Берег был очень крутой: почти что отвесным, как стена, обрывом спускался он в воду, которая глубоко подмывала его и, делая быстрые, дробные круги, бежала далее. На самом берегу рос негустой, но многолетний дубняк. Болемир въехал в этот дубняк, и его сразу охватила чарующая прелесть дубняка. Там было тихо и спокойно. Остановив коня, он, помимо своей воли, загляделся на этих могучих патриархов природы, которые так много напоминали ему родимые берега Немана…
– Неман! Неман! – невольно прошептал Болемир.
В это время до его слуха донесся какой-то непонятный звук: не то плач, не то рыдание, не то песня…
Болемир прислушался. Насторожил уши и конь.
Звук послышался явственнее, и можно было разобрать, что кто-то над чем-то рыдает. Так как можно было определить место, откуда он исходит, то Болемир и направил туда своего коня.
Не успел он приблизиться к месту, откуда исходило рыдание, как почти у самых ног его лошади послышался резкий крик женщины:
– Венед! Венед! Болемир оглянулся.
В нескольких шагах от него, испуганная, дрожащая, стояла молодая девушка, почти обнаженная, с распущенными по плечам косами…
Болемир остановил коня.
Широко открыв глаза, девушка с ужасом смотрела на Болемира и делала руками какие-то причудливые знаки…
– Ты не бойся меня, – заговорил Болемир, – я тебе зла не сделаю.
– Венед! Венед! – закричала она снова, широко открывая рот.
Болемир стоял в недоумении. У него явилось неодолимое желание узнать, кто эта несчастная, и хотелось помочь ей. И странно, чем более он вглядывался в ее красивое, но безумное лицо, тем более ему казалось, что он как будто видел ее где-то.
– Ты меня не бойся, – заговорил Болемир снова, – я тебе зла не сделаю.
– И в жертву не принесешь? – спросила она, как бы успокоившись.
– Нет, нет! – торопился ответить Болемир и вспомнил, что эта несчастная была виновницей страшного истребления кыян.
Это была та самая отроковица, которую хотели принести в жертву и из-за которой Болемир раздробил голову жреца.
– И бить меня не будешь? – допрашивала девушка, не трогаясь, однако, с места.
– И бить не буду.
– И не зарежешь?
– И не зарежу.
– Ан, зарежешь! – как бы обрадовалась девушка тому, что может быть зарезана.
– За что ж мне тебя резать?
– А за то: ты венед. Ты вон всю кыянию вырезал за одну ночь.
Болемир помолчал.
– Зато я тебя спас.
– Ты? – вдруг дико взвизгнула девушка, тряхнув кудрями и мгновенно очутившись возле Болемира.
– Я, я.
Болемир слез с коня.
– Ты?! – повторила она свой вопрос.
И девушка, сказав это, схватила Болемира за плечи и безумно уставилась своими глазами в его глаза.
Через несколько мгновений она уже лежала у ног Болемира и, обнимая его колени, молила:
– Ты, ты! Я узнала тебя! Возьми же меня к себе, спаситель мой, я твоей верной рабыней буду навеки!
Легче стало Болемиру…
Он поднял девушку и поглядел ей в глаза.
До сих пор как бы бесстыдная, безумная, она вдруг покраснела и склонила голову… Она была прекрасна в эту минуту… В груди Болемира как бы шевельнулось что-то…
– Приходи ко мне сегодня же, – сказал он ей ласково, – я тебя приму.
– После приду, – чуть слышно сказала девушка.
– Отчего же?
– Я… теперь… голая… – протянула она боязно…
Говоря с девушкой, Болемир совсем забыл, что она стояла перед ним, еле прикрытая какой-то небольшой холстиной. Быстро сняв с себя длинную и широкую бурку, украшенную разного рода цветами, он накинул ее на плечи полуобнаженной девушки.
Девушка несколько оправилась и оживилась.
– Ладно, венед, я приду к тебе, коль повелишь мне прийти…
– Приходи, приходи…
Болемир сел на коня и уехал.
Девушка долго провожала его взглядом.
Возвратясь в Киев, Болемир приказал быстро очистить город от трупов, покидав их в Днепр или зарыв в глубокие могилы.
Дня через два-три город был совершенно очищен от трупов, и жилища кыян были заняты семейными венедскими переселенцами, из которых одна часть под предводительством венеда Ахтыра была отправлена к верховьям Дона…
Впоследствии переселенцы эти, отданные Болемиром на собственную волю и вытеснившие селившихся с незапамятных времен по берегам рек Золотоноши и Гусиной агафирсов, назвали себя ахтырцами и занялись преимущественно скотоводством…
Не все, однако, венеды, оставшиеся для поселения в Киеве, поместились в домах и клетях кыян, для множества семей не хватило мест.
И вот вокруг Киева и окрестностей его, как грибы, начали вырастать землянки венедов, крытые землей и навозом, а в самом Киеве застучали топоры и молота, воздвигавшие новые брусяные клети и избы с нахлобученными на них соломенными крышами, длинными полутемными дворами, с пузырями или напитанными маслом холстинами в окнах, с колодцами, скворечниками и скрипучими воротами.
И вскоре под руками венедов-переселенцев Киев совсем преобразился: много расширился и украсился, а окрестности, густо заселенные венедами-хлебопашцами, запестрели широкими обработанными полями.
Вокруг же лучшей части Киева, с глубоким рвом и высоким валом, воздвигалась и деревянная стена, на случай нападения неприятеля.
На том же месте, где впоследствии находился весь Берестов, венеды начали воздвигать для своего князя чудо-хоромы[18].
Хоромы эти строились из векового тесаного дубняка, который покрывался блестящим светло-желтым составом и так хорошо скрадывал кладку брусьев, что хоромы казались выточенными из одного гигантского куска дерева. Кровля, в виде куполов, выкрашенных синей, зеленой и желтой красками, украшалась вышками, башнями, шести- и восьмиугольными, и преузорочными гирляндами, то длинными, то широкими, то узкими, в виде кружев[19].
Внутри хоромного двора находилось много еще и других зданий, медуш, бань, менее разукрашенных, но все-таки построенных по образцу хором и из такого же крепкого дубняка, так что хоромы, окруженные этими постройками, представляли целый стройный городок.
Так вообще строились и позднейшие русские цари.
Древний русский царский «двор» разделился на «дворцы», или малые «дворы», составлявшие отдельные помещения лиц семейства царского, с полным составом принадлежащих им дворян и хозяйственных заведений.
В новых хоромах немедленно же поместился князь Болемир.
Так как, по обычаю венедов, князь не имел права входить одиноким в новый дом, холостым ли, вдовым ли, то он и вошел в него с тремя женами и несколькими наложницами.
Одной из первых жен его была спасенная им от ножа жреческого отроковица-кыянка, а две другие были избраны им из числа девиц, пришедших с переселенцами.
Наложницы были набраны преимущественно из окрестных Киеву весей и поселений кутавских.
Вместе с Болемиром вошли в новые хоромы Данчул и малолетний князь Аттила. Для князя Рао, находившегося в бою, тоже была отведена часть хоромных построек.
Многочисленная дворня и челядь, для каждого из князей отдельно, заняла приготовленные для них помещения, и жизнь в новых хоромах пошла своим чередом, тем именно чередом, какому следовали князья славянской крови не только в III и IV столетиях, но и в столетиях далеко позднейших, уже освященных великим христианством, вплоть до XVII, когда он, этот черед, мгновенно исчез, заменившись новым, более блестящим, более подходящим к времени и его требованиям, чередом.
Глава VI. Сила царей Кыянских
Пока все это происходило на берегах Борисфена, вся Европа, от данного ей неожиданно толчка князьями Радогостом и Рао, все еще страшно волновалась, шумела, двигалась, искала спасения, ожидая с востока еще большего нашествия неведомых варваров.
Испуганный же римский император Валент I не нашел ничего лучшего, как послать в Дацию, к Рао, посольство для мирных переговоров.
Рао принял посольство и объявил, что оно должно отправиться в столицу его царя Болемира, в Киев на Борисфене.
Там, он говорил, Рим получит просимую милость, и посольство будет отпущено, как подобает то для покоренного народа.
Кичливые римляне волей-неволей должны были отправиться за Дунай вместе с Рао.
Радогост в это время был уже на пространстве нынешней Испании, на берегах Гвадалквивира, а часть его переселенцев села у истоков Эльбы, где навсегда и утвердилась[20].
Ущелья Пиренеев не помогли римлянам удержать движение венедов.
Венеды перебрались через горы, прошли победоносно вдоль и поперек полуострова, и не только не встретили в жителях сопротивления и враждебных чувств к себе, но напротив: варваров встречали повсюду с распростертыми объятиями, как избавителей от тяжкого ига римлян.
Очистив Испанию от войск римских и загнав их в Таррагонию, покорители разделили ее на три области: на Галицкую по реке Тур, на Лужицкую – между реками Тур и Тугой и, по названию римлян, на Вандалию.
В руках Рима оставалась только Таррагонская область. Границей были горы по правому берегу реки Эбро.
Таким образом, и Испания, бывшая богатой римской провинцией, очутилась в руках славян, под именем Вандалии.
У Радогоста было два сына: Годорих и Гейзерих.
Годорих еще при отце в звании полководца начал покорение Африки.
Гейзерих впоследствии наследовал своему отцу и был одним из лучших друзей Восточного Славянского царства.
Рао между тем, оставив часть войск на границах Римской империи, в сопровождении посольства не замедлил явиться в новую столицу Болемирова царства.
Гордо и заносчиво принял Болемир первое посольство кичливой империи. Он под разными предлогами заставил посольство ждать несколько дней разрешения явиться перед его светлые очи.
Наконец посольство было допущено.
В блестящей одежде, с многочисленным придворным штатом, который также был одет в раззолоченные ткани, он встретил посольство в одной из комнат своих дубовых хором.
Сверх всякого ожидания посольство увидело совсем не тех людей, о которых оно составило себе понятие. Благородные римляне, составлявшие посольство, думали встретить грубую толпу дикарей, одетую в звериные шкуры, с таковым же их предводителем. Вместо страшных, исковерканных, по слухам, лиц они увидели бодрые, красивые лица северных славян.
Прежде всего посольство предложило Болемиру целую груду всякого рода подарков, состоявших из стручкового перца, тканей, золота. В числе подарков посольство привезло также испанской породы вороного коня и молодого горного орленка.
Благосклонно приняв от посольства подарки, Болемир спросил о цели посольства.
– Много лет, – говорили послы, – народ твой, великий славянский князь, жил мирно и спокойно, как подобает всякому великому народу, зачем же теперь он опустошает римские области и города в Дации?
Обещая впредь воздерживаться от нападений, по условию ежегодной уплаты ему 350 фунтов золота, Болемир отвечал, что его народ по множеству причин неожиданных должен был неизбежно поднять войну.
Тем первое посольство и окончилось, и так была наложена славянами первая дань на величественную Римскую империю.
Одаренное, в свою очередь, Болемиром посольство, заключив условие, отправилось обратно в Рим, чтобы успокоить взволновавшуюся империю.
По случаю такого события Киев несколько дней предавался празднеству.
По окончании празднеств князь Рао снова отправился в поход.
Но теперь путь его лежал уже не на запад, а на юг, на Херсонесский полуостров, где еще немало оставалось ненавистных славянам готов, селившихся в тамошних горах.
Болемир опять остался один в Киеве, и, в то время как весь запад дрожал при одном его имени, он уже дряхлел и слабел.
Невзирая на свои еще не старые годы и на свою телесную крепость, события двух последних лет, следовавшие друг за другом в роковом порядке, оставили на нем свои неизгладимые следы, и он, видимо, начал хиреть и приближаться к могиле.
Так прошло пять лет.
В эти пять лет царство Болемира расширилось еще более.
Царство его уже обнимало весь север и недра Европы и ограничивалось с юга Альпами, Балканами и Черным морем.
С каждым годом неустрашимый Рао приносил ему и новую часть земли, и новых данников…
В 382 году грозного Болемира не стало…
Не имея прямых наследников, он завещал свое могущественное царство князю Данчулу, с тем чтобы, по смерти Данчула, обойдя его детей, царство перешло в руки его брата, князя Рао, а потом князя Аттилы. Только в случае смерти Рао и Аттилы дети Данчула могли наследовать созданное Болемиром царство.
Сжегши тело Болемира и совершивши с плачем и рыданием над его прахом великую тризну, Данчул вступил в управление новым царством. Явившийся из Херсонеса Рао, свято повинуясь воле Болемира, уступил брату престол кыянский и снова отправился покорять – царей и народов кавказских…
Данчул царствовал 30 лет.
Он умер в 412 году, коварно убитый подкупленным греком.
Царствование Данчула было мирно и спокойно. Римская империя продолжала платить условленную дань.
Рао, заняв по смерти брата престол кыянский, прежде всего вознамерился отомстить грекам за смерть Данчула.
Собрав многочисленное войско, Рао двинулся во Фракию, разбил несколько раз войска императора Феодосия и грозил уже Константинополю, но верховный совет Византии предупредил разрушение столицы, обязавшись платить Рао ежегодно дань в 700 фунтов золота.
В 438 году греки, однако, нарушили договор. Престарелый Рао снова двинулся на Фракию, но почти у стен самого Константинополя был убит громовым ударом.
Таким образом, Рао процарствовал 26 лет.
Согласно завещанию Болемира, которое свято чтилось новой династией царей славянских, престол кыянский наследовал в это время уже престарелый Аттила и немедленно же отправился из Киева в Византию, чтобы продолжать начатую князем Рао войну.
Там встретили его вновь избранные советом послы: Плинф и Дионисий, родом греки, для обычного поздравления и заключения новых договоров.
Аттила согласился на мир, и условия договора были следующие:
I. Всех гуннских перебежчиков, не исключая и тех, которые давно уже бежали, возвратить.
II. За пленных греков, которые ушли без выкупа, внести по восьми золотых с человека.
III. Греки да не вступают в союз ни с одним народом, с которым гунны будут в неприязненных отношениях.
IV. Народные торжества[21] исправлять грекам и гуннам на равных узаконенных правах и со взаимным обеспечением.
V. Свято и нерушимо исполнять условие ежегодной дани в 700 фунтов золота, которые греки обязались платить царям гуннским.
Переметчики, или беглецы, из земель славянских в Римскую империю были всегда одной из главных причин войны славян даже и последующих веков с западными державами. Это видно из договоров Олега и Игоря, где также возврат «ускоков» и выкуп их составляет первую статью; причем «не обретение» их в Греции подтверждалось клятвой: «аще ли не обрящется, да на роту идут и ваши хрестьяне, а Русь и не хрестьяне, по закону своему, и тогда взимают от вас цену свою, яко же уставлена есть прежде: две поволоки за челядина».
Нет сомнения, что в то время большая часть переметчиков состояла из челядинов, то есть подвластных гуннам готов, или из лиц, обращавшихся в христианство.
Все пункты договора греки исполнили, за исключением одного – не возвратили переметчиков, что и составляло всю суть договора.
Аттила снова грозил поднять войну с Феодосием.
Посол Аттилы, Борич, явился в Константинополь с требованием возврата беглецов и для нового договора и условий дани.
Прочитав письмо Аттилы, затронутый император отвечал, что переметчиков не отдаст, но готов прислать посольство, чтобы миролюбиво уладить насчет всех прочих требований.
Получив такой ответ Феодосия, Аттила вступил во владения греков, находившихся на берегах Черного моря.
Феодосий вздумал помериться силами с новым царем кыянским, но сражение при Херсонесе[22] решило дело, а новые условия мира были следующие:
I. Переметчиков возвратить.
II. Внести единовременно дани 6000 фунтов золота.
III. Ежегодно вносить 2100 фунтов золота.
IV. За греческих пленных платить выкуп по 12 золотых с каждого.
V. Не давать убежища беглецам, подданным царя гуннов.
Как ни тяжелы были подобные условия мира, но Феодосий волей-неволей должен был на них согласиться.
Аттила победоносно возвратился из Херсонеса в столицу своего царства Киев.
Глава VII. Два орла
Семидесятилетним старцем вступил Аттила на престол кыянский.
Много воды утекло и много лет пронеслось над головой его с тех пор, как он вступил в Киев десятилетним отроком… Много перед его глазами пронеслось событий, и грозных и мирных, и каждое из них непременно оставило в груди его неизгладимое пятно. Задумчивый, страшно впечатлительный, он ко всему присматривался, во все вникал. Тем более ему было удобно поступать таким образом, что о нем, казалось, все забыли. Ему даже ни разу не было поручено управление войском.
Запершись в своих хоромах, он по целым дням сидел за столом, вперив глаза в одну какую-нибудь точку, или тихо разговаривал со своим любимцем – орлом, которого он получил в подарок от Болемира во время первого римского посольства. Орел, такой же старый, как и Аттила, сумрачно выслушивал речи своего мрачного властелина и, казалось, иногда понимал их, потому что зорко смотрел на него и тихо встряхивал крыльями.
– Орел мой, орел! – говорил Аттила. – Когда мы с тобой, скажи, поднимемся в тучи небесные и кинем оттуда на народы ядовитые смертоносные стрелы свои?
Молчал орел, но, глядя на Аттилу, будто отвечал ему:
– Скоро, скоро…
Аттила понимал его ответ и, довольный им, ласково гладил его под шеей и расправлял ему крылья.
Темно-бурый сын гор и лесов горичанских[23], в свою очередь, начинал ласкаться к своему властелину: широко встряхивал крыльями и негромко вскрикивал.
Аттила никогда не расставался с любимцем своим: куда бы Аттила ни шел, где бы он ни был, орел везле сопутствовал ему, то сидя на его левом плече, то невысоко летая над ним.
Кыяне с тайным страхом взирали на Аттилу и его орла и говорили про себя:
– Старый князь – не простой человек, ему и птица покорствует!..
В самом деле, появляясь иногда среди кыян со своим орлом, Аттила казался каким-то зловещим посланцем языческих богов. Суровый, мрачный, с вечно глядящими в землю очами, он тихо шел посреди толпы и не говорил ни слова.
Одним из любимых занятий Аттилы была охота: на охоте он нередко проводил целые месяцы. Сев на коня, он брал острый топор, груду стрел, своего любимца орла и уезжал в дебри кривичские. Там он охотился один.
Возвращаясь с охоты, он привозил груды звериных шкур и опять надолго запирался в своих хоромах, куда к нему никто не входил, кроме младшего сына Ирнака, которого он особенно любил.
Кроме Ирнака, у Аттилы был еще старший сын – Данчич и средний – Гезерик.
Семьдесят лет нисколько не мешали Аттиле быть весьма бодрым и здоровым мужчиной.
Стан он имел средний, грудь широкую, голову большую, глаза у него были малы, борода редка, седые волосы жестки, нос вздернутый, лицо было несколько смугловато.
В первый же день вступления Аттилы на престол кыянский было несколько предзнаменований о грозном и славном царствовании его. В ту минуту, когда Аттила, подняв кверху меч, давал клятву народу быть справедливым защитником старого и малого, вдруг поднялась необыкновенная буря, сверкнула блесковица, грянул гром, и статуя Перуна, стоявшая на берегу Днепра, была разбита вдребезги.
К вечеру, когда гроза прошла, на небе появился большой огненный шар, который пошел на запад и скрылся там.
Народ смотрел на небо, пугался и говорил:
– О, кровав будет путь нашего царя!
На другой день один пастух, находясь на пастбище, заметил на траве кровь. Он пошел по следу и увидел, что из земли торчит меч, на который споткнулся бык. Меч этот пастух представил Аттиле.
Взглянув на меч, Аттила радостно сверкнул глазами и сказал:
– Во знамение побед небо дало мне в наследие этот священный меч Арея[24]. Меч этот должен уважаться кыянскими царями, как посвященный богу войны. В древние времена он исчез, а вот ныне снова обретен туром!
Аттила вовсе не был суеверен. Он был человек умный и умел пользоваться обстоятельствами. Видя, что народ верит предзнаменованиям, он старался поддерживать его веру в этом отношении. Никаких мечей, кроме меча в своей руке, он не признавал; однако, как дальновидный политик, он пустил в ход легенду о славном мече Арея, которым он победит вселенную.
Свободу в своей обширной стране Аттила допускал полную: всякий жил, как хотел, селился, где хотел, свято соблюдая при этом повиновение существовавшим обычаям.
Особенной свободой в царстве его пользовались еще женщины. Гуннянка отдавалась кому хотела и сама себе выбирала мужа на играх и других празднествах народа, которые и устраивались, собственно, с этой целью.
Где-нибудь за городом, в роще, в теплый вечер раскладывалось множество костров, приносились меды, закуски, собирались молодые люди, молодые девушки, и начинались игры.
Полуобнаженные парни ловили полуобнаженных молодых девушек, и если пойманная парнем девушка находила парня любым для себя, то уж более не убегала от него, а, взяв его за руку, вела в какой-нибудь далекий уголок рощи, где и объяснялось все, что надо.
Объяснение происходило в таком роде.
Девушка, в большинстве случаев, не зная, кого она «поважала», спрашивала:
– Кто ты, молодец?
Молодец удовлетворял любопытство своей избранницы: объявлял, какого он роду, где живет, что имеет, кто такие его отец, мать, сестры, братья.
– А ты поважаешь меня? – спрашивала девушка.
– Кабы не поважал, не ловил бы!
– А может, ты ловил зря!
– Зачем же зря.
– А коль не зря, так скажи, за что ты поважил меня перед другими девоньками?
– А за то: ты пригожая.
– Приглядись… может, и не пригожая.
– Пригляделся уж.
– А еще за что?
Если парень знал девушку раньше, то объяснял ей «за что еще»; если же нет, то обыкновенно заминался, и девушка должна была уже рассказывать о своей нравственной стороне.
В последнем случае девушка рассказывала:
– Ты гляди, парень, я девонька злая, ничего, что такая пригожая, гляди, чтоб тебе после не пришлось плакаться на меня. Лучше уж теперь отказывайся, а после будет поздно.
Случалось так, что тут уж было поздно отказываться.
Возвратившись к кострам, молодые объявляли о своем соединении.
Их встречали криками одобрения и обливали головы их медом. Кроме того, молодой обязан был перепрыгнуть несколько раз через горящий костер.
Тем выбор невесты и оканчивался.
Относительно религии в царстве Аттилы тоже допускалась полная свобода: среди гуннов, язычников, было множество и христиан, которые беспрепятственно совершали везде и всегда свои обряды. Нередко случалось, что и сами гунны переходили в христианство[25].
Только для самого царя, по-видимому, не существовало никакой религии. Семидесятилетний царь с одинаковым равнодушием смотрел и на обряды язычества, и на обряды христианства. Все его мысли, все его желания стремились к одному: ему нужна была война, война и война, и он искал поводов к войне, грозно кичась званием царя, царя всей вселенной.
При всяком удобном случае он восклицал:
– Я бич Божий и молот вселенной! Звезды небесные падают и земля трещит от одного взора моего!
Подвластные Аттиле народы любили его, как отца, и уважали, как некое божество, благодетельное для них, ужасное для врагов, неумолимое для всех, преступивших его волю. Отдаленные племена считали его чародеем. Всю добычу он отдавал своим воинам и довольствовался одной властью над ними. Называясь царем царей, повелевая многочисленными племенами, занимая обширные страны и будучи в состоянии избрать любой город на Дунае, Висле и Эльбе для своего местопребывания, Аттила любил один свой некрасивый, но обширный Киев, куда уже, заслышав о привольной жизни, собирались выходцы со всех сторон Европы, поступали в отряды царя гуннского и оставались всем довольны. Даже некоторые из благородных римлян покинули свою развращенную родину и предпочли ей далекие берега Борисфена. Одними из таковых были: благорожденный римлянин Орест[26], которого Аттила держал для ведения переговоров, отец его, Татулл, Констанций и др. Но у Аттилы были и свои хорошие воеводы: Скотан, Ислав, Борич, Онигис и Годичан. Они обладали обширными землями, богатствами, жили в красивых дубовых хоромах и верно служили своему мрачному повелителю, который позволял им роскошничать, сколько им угодно.
Громадные богатства, в золоте, серебре, драгоценных каменьях, тканях, со всех сторон стекались в Киев.
И что же?
Властелин всего этого, могущий усыпать себя с головы до ног драгоценными каменьями, носил простую, широкую бурку из беловатого сукна, шерстяные шаровары, высокие башмаки из невыделанной кожи, рысью шапку и при бедре широкий меч. Вот все его украшение, в котором он появлялся и на пирах, и на войне, и перед всеми посольствами, являвшимися к нему в Киев, и на поле брани. Так же была проста и его трапеза: он ел из деревянных чаш деревянной ложкой мясное горячее блюдо, и больше ничего. Изредка только он позволял себе пить вино, но вообще вел жизнь замечательно умеренную.
Лучшим любимцем его по-прежнему оставался орел.
Опочив от дел, он по-прежнему вел со своим любимцем странную беседу:
– Что, мой орел, велики мы с тобой?
Орел махал крыльями и как бы кричал:
– Велики! Велики! О, велики!
– Да, велики! – договаривал Аттила. – Но мало мне земли, орел мой! Я хотел бы, как ты, подниматься к небесам, и оттуда уже, с огнем и треском, изрыгать на землю громы небесные, чтобы истребить весь подлый и грязный род человеческий!..
– За что? – точно бы спрашивал орел, вперив на властелина свои пытливые хищные глаза.
Властелин молчал… А иногда сейчас же захлопает в ладоши… У дверей появлялся верный раб.
– Жен, гуслей, медов! – повелевал Аттила.
Появлялись жены, гусли, меды, и начиналась буйная пирушка, в которой, однако, Аттила не принимал никакого участия. С орлом на плече, он сидел молчаливо и даже не глядел на пир, сидел и только слушал, пока ему все это не надоедало…
Орел и ночью не покидал Аттилы: он садился у его изголовья и дремал…
Так жили, не покидая друг друга, эти царственные существа, оба смелые, оба достойные; жили, охраняя друг друга, жили, любя друг друга…
Часть третья. Смерть Аттилы
Глава I. Византийский заговор
Глубоко оскорбленный унизительным для себя договором с Аттилой, восточный император Феодосий II, в свою очередь, искал случая унизить или даже погубить Аттилу.
Но с Аттилой не так легко было справиться, особенно еще такому императору, как был Феодосий.
Подобно большей части византийских императоров, Феодосий был слепым орудием женщин, придворных и проводил все свое время в удовольствиях и набожных обрядах. В продолжение краткого своего царствования он находился под опекою префекта Анфимия, искусно управлявшего государством. Потом преобладающим на него влиянием пользовались сначала сестра его, Пульхерия, а за нею супруга его, Евдокия, ученая, образованная афинянка, отличавшаяся своею страстью к пышности и внешним благочестием.
Тем не менее Феодосий, слабый, легкомысленный, не терял надежды найти случай отмстить Аттиле и, подобно всем боязливым натурам, хотел сделать это тайно, посредством подкупа.
Вскоре подобный случай ему представился.
В Константинополь и Равенну Аттила отправил послов с требованием, ради глумления над Феодосием и Валентинианом, чтобы они для него, их властелина, в случае, если ему вздумается побывать в Равенне и Константинополе, приготовили роскошные дворцы.
В Равенну было отправлено посольство из готского племени. В Константинополь любимец Аттилы – Годичан.
Феодосий, по совету евнуха своего Хрисафия, вздумал воспользоваться приездом Годичана, который привез еще и новые, постыдные для императора, требования. Вместе с Годичаном прибыл в Византию Орест и еще несколько воевод Аттилова двора.
Это было в 447 году.
В этом году, недовольный возвратом переметчиков, Аттила сразу двинул свои войска на Грецию и в несколько дней покорил города по Дунаю, область Сирмию, Ниссу и Мардику.
Испуганный император хотел послать к Аттиле посольство, чтобы умилостивить его, но Аттила предупредил императора, прислав к нему свое посольство.
Император отвел для посольства лучшую часть своего дворца.
В первый же день приезда Феодосий принял Годичана.
Когда Годичан вошел к императору, который, окруженный своими придворными, сидел на обычном своем месте, император тотчас же встал перед послом великого царя и, в знак покорности, слегка склонил свою голову.
Придворные последовали примеру императора. Одна только супруга Феодосия, Евдокия, находившаяся возле императора, презрительно окинула взглядом посла и не подала ни малейшего признака уважения к царскому послу.
Посол это заметил.
Годичан, подобно своему властелину, был избалован всеобщим уважением и почетом. Поэтому он несколько оскорбился поступком имератрицы и, в свою очередь, захотел ей отплатить тем же. Он и начал с того.
– Я посол великого царя, – заговорил Годичан, – ты – император, к которому я послан для переговоров. Стало быть, мы с тобой и должны речь вести. Но зачем же тут женщина?
Феодосий несколько растерялся от такого вступления посла и постарался объяснить:
– Посол царя великого, это моя супруга, императрица. Императрица чувствовала себя неловко, двигалась на седалище и ворчала:
– Варвар! Варвар!
– Пусть и супруга, мне все равно. Но я при женщине речь вести не стану.
Феодосий умоляющим взглядом посмотрел на Евдокию.
Евдокия поняла его взгляд, презрительно улыбнулась и торжественно вышла.
– Ну вот, теперь другое дело, – сказал Годичан, – теперь я могу с тобой речь вести, – и он сел на приготовленное для него место.
Феодосий тоже сел.
Орест поместился за седалищем Годичана.
Сев, Феодосий прежде всего справился о здоровье великого царя.
– Здоров ли великий царь и его семья? – спросил он.
– Царь здоров, – отвечал Годичан, – здорова также и его семья. Великий царь и тебе желает здоровья.
– Благодарю, благодарю за внимание ко мне великого царя.
После этого Орест подошел к Феодосию и вручил ему письмо Аттилы, в котором заключались условия мира.
Феодосий передал письмо переводчику Вигиле, который громко прочел его.
«Царь Аттила, повелевающий восточными и западными народами, предлагает побежденной Византии такие условия:
I. Не возвращенных еще переметчиков немедленно возвратить.
II. Греки очистят, под опасением возобновления войны, все покоренные оружием царя Аттилы земли, простирающиеся по течению Истра от областей Пеонии по протяжению областей Фракийских в длину и на пять дней пути в ширину.
III. Бывшее издревле торжище на берегу дунайском перенесется на новую границу, в Ниссу.
IV. Впредь послы от императора к царю Аттиле должны быть не из разночинцев, но знаменитые мужи по роду и консульского сана».
Условиями этими самолюбие Феодосия было затронуто окончательно.
Феодосий встал и, весь дрожа от бессильной злости, только и мог проговорить:
– Хорошо, я пошлю к великому царю достойное посольство.
Годичан, в знак согласия, кивнул головой.
Никогда ничего подобного не видел двор Византийский. Послы царя Аттилы вели себя с императором не только как равные ему, но даже как бы повелевали им. Жалкий Феодосий, несмотря на все усилия, никак не мог возвыситься до почтения к себе Аттиловых послов. Маленькая, тщедушная фигурка его с несколько опухшим, бритым лицом, с влажными глазками никак не подходила к царственной особе. Даже драгоценная, пурпуровая, вышитая золотом, тирская тога[27] не придавала ему никакой величавости. Взрощенец толпы византийских красавиц и всегда вращавшийся между ними, Феодосий был и кокетлив, как женщина. Особенное кокетство его заключалось в обуви. Он носил замечательно красивые башмаки, унизанные драгоценными каменьями, которые и старался выказывать при всяком удобном и неудобном случае. Но на маленькую императорскую ножку редко кто обращал внимание, разумеется, исключая его любимцев, что императора необыкновенно волновало и сердило.
Резкий контраст составлял с Феодосием посол Аттилы.
Рослый, стройный, с окладистой русой бородой, подстриженной в кружок, в коротком, опушенном соболем, парчовом кафтане, который по стану перехвачен был алым кушаком, Годичан являлся перед двором византийского императора олицетворением физической и нравственной силы.
После вступительного приема посла великого царя гуннского Феодосий раскланялся с Годичаном и Орестом и попросил их отдохнуть с дороги, обещая, что они не будут им забыты, как послы великого царя. Это было напоминанием о том, что он хорошо одарит их подарками.
Посольские подарки имели в то время довольно важное значение, и послы судили по подаркам о степени величия и значении того, к кому они посылались. Секрет подарков заключался не в ценности их, а во вкусе. Надо было сделать послам такие подарки, которые бы пришлись им по нраву. Насколько послы восточных владык были в этом отношении не требовательны, видно из того, что они нередко в первое время довольствовались, как подарком, одним только стручковым перцем, особенной породы луком и чесноком, которых не производила их земля. Разумеется, этого нельзя сказать про время более позднейшее, когда славяне, знакомясь все более и более с западом, постигли настоящую суть золота и драгоценных тканей. При Аттиле зачастую послы даже и отправлялись к иностранным державам для того только, чтобы получить хорошие подарки.
Презирая сам лично золото, ткани и драгоценные каменья, Аттила, однако, придворным своим давал полную свободу роскошничать как им угодно: позволял носить одежды, вышитые золотом, украшать сбрую своих коней серебром и кистями, заводить в доме золотую и серебряную посуду[28] и т. п. Роскошь при Аттиле дошла до того, что не только приближенные его, воеводы, полководцы, но даже и простые воины, разумеется более достаточные, носили дорогие кафтаны и полукафтанья из шелковой материи и украшали сбрую коней серебром и золотом.
Как великий, гениальный человек, Аттила очень хорошо понимал, что он велик величием своих воинов, и поэтому всегда старался обогащать их, в некотором роде даже поощрял их слабости.
А сам Аттила среди них был велик и недосягаем и в своей простой шерстяной бурке.
Аттила даже как бы рисовался простотою своей жизни.
Действительно, контраст был поразительный: придворные и воины в серебре, золоте, каменьях, а властелин, их властелин, перед которым дрожали две великие империи, перед которым каждый из его воевод был ничтожнее песчинки незаметной, – в грубой, серой бурке, ничем не украшенной, и в простой холщовой рубахе!
Оставив императора, послы, Орест и Годичан, отправились в отведенные им роскошные покои дворца византийских императоров.
Взбешенный требованием Аттилы, Феодосий положительно не знал, что предпринять, чтобы хоть несколько умерить требования победителя.
Окружавшие его придворные стояли в недоумении.
Наконец Феодосий встал и дал знак, чтобы его оставили одного.
Придворные, один по одному, вышли из посольского покоя императора, тихо перешептываясь между собою о предстоящей придворной грозе.
Оставшись один, Феодосий в раздумье быстро начал ходить из угла в угол, потом подошел к столу и ударил небольшой пальмовой палочкой по серебряной дощечке, которая висела между двух мраморных столбиков.
Приятный звон серебра раздался в посольском покое и быст ро смолк.
На звон вошел евнух Хрисафий и почтительно остановился у дверей.
Некоторое время Феодосий не замечал вошедшего любимца, потом, увидав, быстро подошел к нему, положил руку на его плечо и проговорил:
– Ты прав, Хрисафий: поступить иначе я не могу. С этим согласна и Евдокия. Я ей уже передал о твоем совете. Согласна также и сестра моя, Пульхерия, и Марциалий.
Хрисафий склонил голову и поцеловал лежащую на его плече руку.
– Прав, прав! – продолжал Феодосий. – Но как же это сделать? Я, признаюсь, не знаю.
– Повели мне, властелин, поступить так, как я найду лучшим, – ответил Хрисафий каким-то полумужским-полуженским голосом.
Феодосий помолчал и потом спросил:
– И ты, Хрисафий, надеешься?
– Властелин, – отвечал Хрисафий, – не в нашей власти исполнить то, что хотелось исполнить. Но, как верный раб твой, я приму все меры, чтобы замысел нам удался.
– Ну, хорошо, хорошо, – сказал в раздумье Феодосий, – я тебе верю, много верю, и думаю, что ты поможешь мне. Ступай, делай то, что тебе угодно. Только, пожалуйста, прошу тебя, не беспокой меня: я так утомлен, так расстроен этим варварским посольством, что готов слечь в постель.
Поклонившись и поцеловав руку у Феодосия, Хрисафий вышел и тотчас же отправился в покой к Годичану. Но так как он не знал славянского языка, то взял с собой переводчика, Вигилу.
Хрисафий с Вигилою вошли к Годичану как нельзя более кстати.
Годичан ходил и с любопытством осматривал стены, на которых искусной рукой были написаны картины из греческой мифологии.
– Посол великого царя, – заговорил через переводчика Хрисафий, – не хочет ли осмотреть и другие покои императорского дворца?
Годичан изъявил свое согласие.
Они пошли осматривать императорский дворец.
Дворец действительно представлял много чудесного и восхитительного. В нем было собрано все, что только создало дивного и роскошного человечество той эпохи. Каждый из народов внес во дворец какое-либо свое диво, величие, красоту, прелесть, очарование. Рим внес туда свои соблазнительные термы, с ваннами, каскадами, бассейнами, цветными гирляндами и благовониями. Аравия – свои пушистые ковры, шелки, прозрачные ткани, роскошные седалища и ложа. Север принес туда целые груды бледно-желтых янтарей. Индия – драгоценные каменья, прихотливые раковины, деревья и цветы. Сама Греция украсила их роскошными колоннадами, картинами и статуями. Это было диво своего века, диво века, когда человек весь свой ум, все свое знание, свой гений вкладывал в созидаемые им громады: дворцы, мосты, сады, каналы и пирамиды.
И до сих пор западная Европа, Африка, Аравия, Персия и Индия полны этими величественными развалинами.
Годичан, никогда не видавший подобных див, приходил на каждом шагу в неописанное восхищение и расспрашивал Хрисафия, как и откуда все это взято, когда и кем сделано, много ли стоило.
Хрисафий через Вигилу удовлетворял его любопытство и вместе с тем прибавлял:
– Все это очень легко приобресть, стоит только захотеть.
Сначала Годичан не обращал на эту прибавку внимания, наконец частое повторение ее показалось ему несколько странным, и он через переводчика спросил у Хрисафия:
– Как так легко?
– Очень легко, – отвечал Хрисафий.
– А как? – спросил Годичан.
– А так: и посла ожидает подобное же богатство, если он перейдет к византийцам.
Годичан на это возразил:
– Слуге и подданному, имеющему свое отечество, этого сделать непристойно.
– А имеет ли посол, – спросил Хрисафий, – легкий доступ к царю и какой чин занимает?
– Чин на мне воеводский, – отвечал Годичан, – я вхож к своему царю и начальствую его телохранителями вместе с другими воеводами, которые, по определенным дням, вооруженные, исправляют эту службу при своем царе.
После этого Хрисафий намекнул Годичану, что может доставить ему величайшее счастье и почести и изъявил желание поговорить с ним откровенно.
Годичан согласился выслушать его.
Тогда Хрисафий через Вигилу поклялся Годичану в том, что будет говорить о деле для него полезном, и требовал взаимной клятвы в том, что Годичан не разгласит вверенной ему тайны, если и не согласится на предложение.
Годичан поклялся по своему славянскому обычаю.
Тогда Хрисафий сказал Годичану, что если он, возвратясь к своему двору, умертвит царя и перейдет к византийцам, то будет принят с великими почестями и будет жить в великом богатстве и счастии между ними.
Хитрый Годичан притворно согласился, прибавив, однако, что ему нужны деньги, по крайней мере, пятьдесят фунтов золота.
Хрисафий тотчас же бросился было за деньгами, но Годичан остановил его, сказав, что прежде ему надо возвратиться к царю с ответом императора и взять с собою Вигилу, толмача, которого он, если нужда потребует, отправит в Византию за условленными деньгами; что теперь принять их не может, потому что нельзя скрыть их ни от своих чиновников посольства, ни от самого царя, который непременно спросит, от кого и сколько он, Годичан, получил подарков в Византии.
Хрисафий, признав доводы Годичана справедливыми, согласился на исполнение его мнения и, почтительно проводив его в назначенный покой, уведомил немедленно Феодосия об удачном окончании дела.
Феодосий выслушал Хрисафия с удовольствием, а потом, посоветовавшись с придворным Марциалом, свидетелем всех тайн двора, решил отправить к царю Аттиле Вигилу, соучастника замысла, и Максимина, вельможу, не знавшего об этом ничего, для прикрытия заговорщиков, чрезвычайным посланником по делу о мирном договоре.
Когда после свидания с Хрисафием Годичан вошел в отведенную для него палату дворца, палата показалась ему несколько изменившеюся. Стены и картины, правда, оставались те же, но откуда-то появились не стоявшие там прежде, широкие и мягкие седалища, необыкновенно роскошное ложе, по углам – высокие курильницы, на полу – драгоценные ковры, а окна, за дернутые очень прозрачной шелковой материей, выходили прямо на небольшое, уложенное по берегам белым мрамором озеро. Годичан невольно залюбовался на это прекрасное водное пространство, и когда он, глядя на него, раздумывал о предательском и дерзком предложении Хрисафия, взор его вдруг остановился на медленно двигавшейся по озеру ладье. Ладья была устроена в виде огромной раковины с парусами из пурпурового шелка, которые дивно гармонировали с самою ладьей, раскрашенной в бледно-розовый цвет. Невзирая на то что ладья двигалась, она все-таки, как бы с намерением, не скрывалась из глаз Годичана и как бы стояла на одном месте. Сначала Годичану показалось, что в ладье никого не было, но потом, всматриваясь хорошенько, он увидел в ней что-то такое, что заставило его сначала удивиться, а потом с любопытством вперить глаза свои в самую глубину ладьи-раковины. В раковине полулежала необыкновенной красоты женщина, которая почти что была обнажена и пересыпала в руках крупные жемчужины.
День уже склонялся к вечеру, и лучи заходящего солнца, скользя по темно-голубой поверхности озера, как-то странно и вместе с тем очаровательно освещали ее в бледно-розовой раковине…
Здоровый и молодой Годичан слегка вздрогнул: по его телу пробежала та обольстительно-опьяняющая дрожь, которая охватывает человека при виде чего-либо чарующего и действующего на воображение… Годичан еще более впился глазами в ладью-раковину, которая, как бы предугадав его желание, медленно начала приближаться к мраморному берегу озера, но вдруг остановилась у берега, а через несколько мгновений скользнула в сторону и исчезла за какой-то полувоздушной колоннадой.
В это же время на ступенях набережной, которые уходили в самую глубину прозрачных вод озера, мгновенно появилось несколько обнаженных прелестниц, которые, с раскиданными по плечам кудрями, шаля и играя, начали одна за другой погружаться в воду.
Годичан устыдился такой картины, отшатнулся от окна и, странно, вдруг почувствовал в голове невыразимо приятную тяжесть…
Сделав от окна несколько шагов, он почти упал на близстоящее ложе: в ушах его слегка звенело, зрачки глаз расширялись, а обоняние резко чуяло нечто страстно опьяняющее… Кинув взгляд в один из углов палаты, где стояла высокая золотая фигурная курильница с едва заметным синим огоньком, Годичан, к удивлению, заметил, что курильница как будто движется и свет ее все более и более увеличивается… Годичан, лениво повернув голову, заглянул в другой угол: с курильницей, там стоявшей, происходило то же самое… «Это мне чудится так», – подумал он и успокоился… А между тем приятная лень совсем одолевала его: ему даже лень было пошевелить рукой, ногой, головой, даже лень было думать о чем-либо, а хотелось только отдыхать и бесконечно отдыхать на этом мягком, удобном и прекрасном ложе…
Годичана начала уже томить легкая дрема, как перед ним, точно во сне, тихие, прекрасные, появились девушки и начали играть на цитрах.
Все они были одеты в прозрачные шелковые ткани, такие легкие, такие прозрачные, что через них сквозило все тело девушек, казавшееся еще прекраснее, еще обольстительнее. На обнаженных до плеч руках, выше локтя, блистали у них золотые запястья, унизанные каменьями, издававшими невероятно прекрасный свет. На ногах ниже колен были надеты такие же запястья, которые при малейшем движении прелестниц издавали тихий и приятный звон. Волосы их были переплетены жемчужными нитками и цветными гирляндами; на шее висели ожерелья из крупного винетского янтаря.
Годичан смотрел на них с некоторого рода удивлением. А они между тем начали перед ним петь и плясать… Песни их звучали самой неудержимой, самой соблазнительной любовью, а пляски опьяняли, как хмелем, до самой глубины души… Годичану хотелось им что-то сказать, но язык его как будто прилип к гортани, и он ничего не мог промолвить… А дрема все более и более одолевала его, и вместе с нею по всему телу его пробегали какие-то огненные струи…
Годичан начал забываться…
В это время одна за одной, с милыми ласками на устах, с чарующим огнем на ресницах, лобзая и обнимая его, к нему начали подходить молодые, обольстительные прелестницы…
Далее Годичан ничего не помнил…
Проснувшись довольно поздно, он чувствовал необыкновенную тяжесть в голове, сердце его сильно билось, веки сжимались, ноги нервно вздрагивали. Недоумевая, что такое с ним происходило вчера вечером, он вдруг увидел вошедшего к нему Хрисафия.
– Хорошо ли царский посол изволил почивать? – хитро приветствовал его Хрисафий.
Годичан объявил ему о своем недоумении и что чувствует себя не особенно хорошо.
– Неужели? – удивился, улыбаясь, Хрисафий. – А я думал наоборот. Я думал, что царский посол изволил провести самую приятную и самую восхитительную ночь.
– Почему так? – спросил Годичан.
– Мало ли почему! – отвечал уклончиво Хрисафий и улыбнулся.
Годичан понял, что для него из угождения решились на что-то не особенно благовидное. Это что-то пришло Годичану очень не по вкусу, и он с недовольством сказал Хрисафию:
– Спасибо за ночь… Только уж вы в другой раз, пожалуй, не делайте так… Мне так не нравится.
– Во всяком случае, – заговорил несколько беспокойно Хрисафий, – царский посол на меня за это не осердится, и не забудь того, о чем у нас всегда шла речь.
– Нет! – ответил резко Годичан.
Хрисафий помолчал, медленно поклонился Годичану и, объявив, что посольство императором уже назначено, вышел.
Годичан, проводив его глазами, дал в душе клятву разоблачить заговор Византийского двора перед своим властелином.
Двор византийский горько ошибся в выборе Годичана.
Годичан был одним из вернейших слуг Аттилы.
Глава II. Посольство Феодосия
В тот же день посольство императора Феодосия во главе с Максимином, секретарем Приском Ритором и переводчиком Вигилой, вместе с возвращавшимся посольством Аттилы, выступило в дорогу.
После тринадцатидневного пути посольство прибыло в Сардику.
По прибытии туда посольство императора пригласило Годичана вместе со свитой откушать с ним. Стол был у посольства порядочный: жители Сардики доставили ему довольно говядины и баранины.
Во время обеда гунны стали превозносить Аттилу:
– Велик наш царь, Аттила, и нет равного ему царя на свете! В свою очередь послы Феодосия начали превозносить своего императора:
– Наш Феодосий лучший император, и не было такого императора, как он! Только одному Августу он и равен!
А переводчик Вигила прибавил:
– Что вы, гунны, хвалите своего царя, человека, с таким императором, как наш божественный Феодосий!
За это сравнение гунны рассердились на послов императора и готовы были затеять ссору, но послы обратили разговор на другие предметы и старались ласковыми словами укротить гнев гуннов.
После обеда Максимин, чтобы совершенно примириться с посольством Аттилы, предложил Годичану и Оресту подарки: шелковые платья и индийский жемчуг.
Орест, дождавшись, пока Годичан оставил общество, обратился к Максимину и хвалил его благоразумие, что не вмешался в общий разговор, явно противный обоим правителям, и заметил ему:
– Зачем все, делая подарки Годичану, пренебрегли меня?
Послы императора, не зная, к чему относились подобные слова Ореста, спрашивали его:
– В чем и каким образом произошло такое пренебрежение?
Орест, однако, не сказав ни слова, вышел.
На другой день, продолжая путь, секретарь посольства, Приск Ритор, сошелся с Вигилою и повторил ему слова Ореста. Вигила отвечал:
– Орест отнюдь не должен сердиться за неполучение подарков наравне с Годичаном, потому что он есть только писец или секретарь Аттилы, а Годичан знаменитый вождь и вельможа и много выше его достоинством.
Затем Вигила обратился к Годичану и начал говорить с ним на славянском языке и все, о чем шла речь, передавал посольству. Но он посольство обманывал и передавал ему совсем другое.
Слушая все это, Орест начал нечто подозревать. А Вигила обманывал посольство потому, что боялся открытия заговора.
Наконец посольство императора прибыло в город Ниссу, который был почти совсем разорен и оставлен жителями. Только в развалинах церквей находилось по нескольку больных.
Перейдя реку Нишаву, посольство двинулось через нисские поля, которые еще были усеяны костями убитых в бывшем там недавно сражении.
На другой день посольство прибыло в главное становище Агинтея, главноначальствовавшего войсками Феодосия в Иллирике, находившееся неподалеку от Ниссы.
Феодосий дал Агинтею повеление отпустить послам пять гуннских беглецов, для пополнения числа семнадцати, которых обещался возвратить Аттиле.
Агинтей, отпуская бедных беглецов, насколько возможно, утешал их.
Так как Аттила не хотел принимать посольства императора в Сардике, то послы, переночевав в Иллирике, взяли направление от Нисских гор к Дунаю.
В дороге после многих извилин и переходов посольство набрело на одно селение, из которого оно через ровные и влажные места пробралось к берегу Дуная.
На берегу Дуная гуннские перевозчики приняли посольство в свои лодки, которые были выдолблены из толстых бревен.
Лодки эти были приготовлены не для посольского перевоза, а для переправы на южный берег многочисленного войска гуннов, с которым посольство должно было встретиться в дороге.
Аттила выступал в поход так же легко, как и на охоту, и таковы были его приготовления к войне за горсть каких-нибудь жалких беглецов.
Переправившись через Дунай, посольство проехало верст пятнадцать и его вдруг остановили на одном поле и велели дожидаться, пока Годичан отправится к Аттиле и известит его о прибытии. При императорском посольстве оставлены были воины, которые должны были провожать посольство, как иностранцев.
К вечеру во время ужина посольства послышался топот лошадей, и вдруг появились два Аттиловых всадника.
Они велели посольству ехать на другой день к Аттиле.
Императорские послы просили всадников откушать с ними. Всадники сошли с лошадей, присели к ним и отужинали вместе.
На другой день всадники проводили послов, и послы в восьмом часу приблизились к палатке царя-полководца, вокруг которой было раскидано множество других палаток.
Это был воинский стан Аттилы.
На одном удобном возвышении императорские послы хотели было раскинуть и свою палатку, но это им было запрещено, и послы должны были остановиться там, где им назначили.
Вскоре к послам императорским прискакали Годичан, Скотан, Орест и другие гуннские воеводы и стали у послов спрашивать:
– Для чего и по какому поводу прибыли вы сюда?
Удивленные послы не понимали такого странного вопроса.
Но гунны настаивали и стали заводить шум, чтобы вынудить у послов признание. Послы отвечали, что они имеют повеление от своего императора, которое сообщат одному только царю.
Скотан рассердился на такой ответ и крикнул:
– Я получил повеление от самого царя узнать причину вашего прибытия! А вашу хитрость и низость в делах мы знаем!
Послы начали уверять и доказывать, что еще никогда не было ни закона, ни обыкновения, чтобы посланники разглашали всякому вверенные им препоручения прежде, нежели будут допущены к тому, к кому они прямо относятся, что это им самим должно быть известно, так как они сами были посланниками в Византии, и что им дозволено было, того и они не должны отвергать, а должны поддерживать права посольства.
Получив такой ответ, воеводы Аттиловы отправились к нему, но вскоре возвратились.
Недоставало одного только Годичана.
Посланцы Аттиловы сами высказали императорскому посольству цель их прибытия и прибавили, что если они, кроме этих поручений, других не имеют, то могут отправляться восвояси.
В таком положении послы не знали, что предпринять, и никак не могли додуматься, каким образом тайные поручения императора были известны Аттиле. Сколько послы ни оправдывались и ни просили, чтобы их допустили к царю, но гунны настояли, чтобы они отправились в обратный путь.
Во время приготовления к отъезду Вигила упрекал своих товарищей за ответ. Он говорил, что «гораздо лучше было бы солгать что-либо, чем, не сделав ничего, возвратиться домой. Если бы я, – говорил он, – повидал царя, то все несогласия между обеими державами прекратились бы, тем более что я уже прежде оказал царю услуги во время первого заключения договора. Того же мнения и Годичан».
Вигила метил на то, чтобы под видом посольства исполнить тайные поручения Византийского двора относительно умерщвления Аттилы, но он не знал, что умысел двора был уже открыт. Его открыл Аттиле Годичан, притворно согласившийся на подкуп. Он же ему сообщил и то, о чем должен был вести переговоры и Максимин.
Оседлав коней, послы по необходимости вечером отправились было в обратный путь, как вдруг к ним прискакали царские воины с повелением, чтобы они, не пускаясь в путь в темную ночь, возвратились на свое место. К послам тотчас же привели и зарезали быка и принесли много рыбы, присланной им Аттилой. Поужинав, послы улеглись спать. На рассвете послы императорские ласкали себя надеждой, что Аттила, смягчившись, примет их благосклоннее. Однако он велел сказать послам, что если они не имеют сказать более того, что уже ему известно, то должны возвратиться домой.
Послы снова собрались в дорогу, несмотря на то что Вигила убедительно советовал сказать царю, что имеет еще что-то сообщить ему, для него весьма важное.
Заметив прискорбие Максимина по случаю неудачного и постыдного посольства, Приск Ритор решился сходить в палату Скотана и взял с собою одного из чинов посольства, Рустиция, который хорошо знал славянский язык.
Через Рустиция Приск разговаривал со Скотаном и от имени Максимина обещал ему великие подарки, если он откроет послам доступ к Аттиле, так как Максимин желает заключить такой договор, который очень будет полезен не только для Византии, но и для самого Аттилы.
Убежденный словами Приска, Скотан сел на коня и поскакал к палатке Аттилы.
Возвратясь к своей палатке, Приск нашел Максимина и Вигилу в величайшем недоумении и страхе. Приск рассказал Максимину о своем посещении Скотана и о его поездке к царю и просил Максимина приготовить обещанные подарки, и придумал речь, которою должно будет приветствовать гордого Аттилу.
Лежавшие на траве Максимин и Вигила встали, похвалили Приска за предприимчивость, велели позвать назад часть посольской свиты, выступившей уже в путь.
Тогда послы императорские стали думать, как приветствовать царя Аттилу и поднести ему Феодосиевы подарки.
В это время к послам прибыл Скотан с повелением приготовляться к свиданию с царем.
Посольство отправилось к палатке Аттилы, которая была окружена многочисленной стражей.
Когда послы вошли в палатку, Аттила сидел в деревянном кресле, окруженный своими воеводами.
Послы остановились у входа в палатку. А Максимин, подойдя к Аттиле, поклонился и, вручая письмо Феодосия, сказал:
– Император желает тебе, великий царь, и всем твоим подданным здравствовать.
Аттила гордо отвечал:
– Ваши желания вам же на голову! После этого он обратился к Вигиле:
– Ты зачем здесь? Для чего ты сюда прибыл, когда мир заключен на таких условиях, какие я предложил?
– Император не прежде мог прислать ко мне посольство, как только по возвращении всех беглецов, находящихся в его владениях!
Вигила на это отвечал, что в империи не осталось ни одного беглого из скифского народа, так как все они уже выданы. Аттила вспыхнул.
– За эту дерзкую ложь следовало бы тебя повесить, но я уважаю права посольства! – грозно произнес Аттила и велел писцам своим подать список беглых, которые находились еще в Византии, и читать вслух.
Аттила имел достаточно причин, чтобы добиться выдачи беглецов, так как византийцы покровительством своим беглецам подавали повод воинам Аттилы к побегу. А Аттила этого страшно не любил.
Когда отметили число недостававших, Аттила тотчас же повелел одному из своих воевод, Иславу, отправиться с Вигилою в Византию и, по объявлении императору, чтобы немедленно выданы были все беглецы, проживающие в его областях, – возвратиться скорее с ответом: будут ли возвращены переметчики или в противном случае желают ли византийцы продолжения войны. Максимину же велел дожидаться, пока приготовится ответ на письмо императора.
Вслед за этим, приняв от послов подарки, их отпустили. Когда они пришли к себе, к ним явился Годичан и, отозвав Вигилу в сторону, велел ему, при возвращении из Византии, привезти условленные деньги для подкупа стражи и, кончив совещание, ушел опять. Тут же послы получили запрещение Аттилы выкупать византийских пленных у его подданных или покупать рабов, лошадей или что бы то ни было, кроме съестного, до тех пор, пока не будет заключен окончательно мир между ним и Феодосием.
Ислав и Вигила отправились в Константинополь будто для того, чтобы по повелению Аттилы привести пленных и переметчиков, а на самом деле для того, чтобы Вигила привез обещанное Годичану золото и Аттила мог уличить его в заговоре на его жизнь и тем еще более увеличить свои требования от Феодосия.
По отъезде в Константинополь Ислава и Вигилы Аттила приказал послам императора дожидаться прибытия Онигиса, первого своего советника и воеводы, который должен был написать ответ на письмо Феодосия и принять для хранения подарки, присланные и ему, и Онигису.
На третий день после этого посольство отправилось за Аттилою в места, лежащие более к северу. Проехав некоторое время за Аттилою, по указанию проводников поворотили на другую дорогу.
Аттила же остановился в одном селении и затеял свадьбу на встретившейся ему на Дунае девушке-красавице, дочери некоего Эски, Эскине.
Между тем послы продолжали путь все на северо-восток, переправляясь через несколько судоходных рек. Через реки перевозили их жители соседних деревень. На пути, в селениях, им везде доставляли съестные припасы: мучные лепешки и квас.
После долгого пути в вечернее время послы прибыли к одному озеру и, желая отдохнуть, раскинули на берегу озера свои палатки. Но вдруг поднялся сильный ветер, загремела ужасная гроза: палатку послов разломало, а вещи унесло в озеро. Послы испугались и во мраке рассеялись кто куда мог искать от грозы убежища. Наконец, разными дорогами, они достигли селения, собрались и начали кричать о помощи. На этот шум жители селения выбежали с зажженными лучинами в руках и, приблизившись к послам, спрашивали, что с ними сделалось и отчего они так расшумелись. Проводники отвечали, что гроза преследует их. Узнав это, селенцы с радушием просили их к себе.
Это селение принадлежало вдове Владо.
Она прислала послам кушаньев и вместе с тем несколько красавиц, чтобы им приятнее было провести вечер. Поблагодарив за кушанья, послы, однако, отказались от приятного сообщества с милыми красавицами.
Наутро следующего дня послы начали искать своих вещей, потерянных ими ввечеру. Они нашли их отчасти там, где стояли накануне, отчасти на берегу озера, частью же в самом озере. Обсушившись и оседлав лошадей, послы отправились к Владо, чтобы откланяться ей и поблагодарить за гостеприимство. Послы одарили ее серебряными сосудами, красною шерстью, индийским перцем, финиками и другими сухими плодами.
Откланявшись, послы отправились далее.
Проехав шесть дней сряду, проводники заставили послов подождать, пока Аттила проедет этою дорогою.
Тут послы Восточного императора встретились с послами Западного, которые тоже ехали за Аттилой.
В римском посольстве состояли: комит Ромул, префект Норики, Примут и Роман, известный римский военачальник. С ними был и секретарь Аттилы, Констанций, и Татулл, отец Ореста, в качестве свата Ромулова, так как Орест был женат на Ромуловой дочери.
Переждав проезд Аттилы, оба посольства отправились вслед за ним.
Дня через три оба посольства прибыли в столицу Аттилы Киев.
Глава III. Обеды Аттилы
Хоромы, построенные Болемиром, при Аттиле еще более украсились и были выше и величественнее всех строений в городе. Некоторые постройки были уже воздвигнуты из хорошо полированных каменьев. Весь дворец был окружен резною деревянною оградою не для укрепления, а для украшения. Ближе всех к дворцу находился дом Онигиса, тоже с оградою, но не с такими красивыми башнями, как на дворце. В некотором расстоянии от дома Онигиса находилась каменная прекрасная баня. Баню эту построил Онигису один пленный из Сирмии.
При въезде в Киев навстречу Аттиле, как прежде Болемиру, вышли девушки и, воспевая ему славу, шли рядами в город под длинными и широкими белыми покрывалами, которые наподобие балдахина поддерживаемы были пожилыми женщинами. Под каждым покрывалом находилось до шести и более девушек.
Когда Аттила приблизился к дому Онигиса, навстречу ему из дверей дома вышла супруга воеводы, сопровождаемая множеством девушек, и поднесла на серебряном блюде Аттиле закуску и вино. Аттила, не слезая с лошади, прикушал несколько с блюда, поддерживаемого его приближенными, и, выпив чашу, поехал во дворец.
Послы же, по повелению Онигиса, остались в его доме. Здесь их супруга Онигиса с другими знатными женщинами угощали ужином. Самого Онигиса не было: он все время был у Аттилы. После ужина, оставив дом Онигиса, византийские послы въехали в дворцовый обширный двор и раскинули там свою палатку с тем, чтобы Максимину легче было являться к Аттиле. Послы там переночевали.
Утром на другой день Максимин послал Приска вручить Онигису подарки, как от императора, так и от него, и просит его назначить посланнику время и место для переговоров. С Приском шли слуги, которые несли подарки.
Приск слишком рано сделал посещение: в доме еще спали.
Прохаживаясь от скуки возле дома Онигиса, Приск встретил одного пленного грека, который был с виду богат и, по гуннскому обычаю, носил волосы, подстриженные в кружок.
Приск с ним разговорился.
Оказалось, что это был мизийский грек, живший в городе на Дунае Виминации, где производил торговые дела, женился там выгодно, но после взятия приступом гуннами этого города лишился свободы и имения и при разделе пленных достался Онигису. Потом, сражавшись храбро под знаменами Аттилы против римлян и на Днепре, получил в награду добычу вместе с свободою, женился на гуннянке, имеет уже от нее детей и, удостоившись любви и стола Онигиса, считает себя гораздо счастливее, чем в Византии. В заключение разговора он прибавил, что воины у Аттилы имеют великие права и преимущества и пользуются своим заслуженным имением вполне без всяких забот и обязанностей.
Между тем один из служителей Онигиса отворил ворота.
Приск вошел и просил доложить, что он пришел от византийского посланника и желает говорить с Онигисом. Служитель просил его подождать. Вскоре вышел Онигис. Сделав поклон от имени посланника и представив ему подарки как от императора, так и от Максимина, Приск спросил его о месте и времени свидания с царем.
Онигис велел слугам своим принять золото и подарки, а Приску сказал, чтобы он доложил Максимину, что тотчас же к нему прибудет.
И действительно, вслед за Приском Онигис прибыл в палатку Максимина.
Изъявив свою благодарность как Феодосию, так и Максимину, Онигис спросил у Максимина о причине своего призыва. Максимин стал представлять Онигису, что пора уже прекратить несогласия обоих дворов и что, отправясь в Константинополь и прекратив несогласия мирным договором, он принес бы великую пользу не только обеим державам, но и себе доставил бы славу и богатство по милости императора.
Тогда Онигис спросил:
– В чем же я могу быть полезным императору?
Максимин отвечал:
– Император просит, чтобы Онигис сам отправился в Константинополь и, разобрав спорные статьи между обеими державами, сделался посредником в окончании их и заключении мирного договора.
– Зачем же мне ехать самому в Константинополь, – говорил Онигис, – если я уже давно известил вашего императора и его приближенных, в чем состоит желание моего царя и мнение относительно всего спорного дела. Неужели император думает, – прибавил он, – что своими обещаниями побудит его изменить своему царю и отечеству.
– Оставаясь дома, я, во всяком случае, могу быть полезнее вам своими представлениями царю и могу скорее укротить его гнев, если я в чем-либо слишком бы настоятельно требовал в вашу пользу. Если же я отправлюсь в Константинополь и сделаю что-либо не по его желанию, то навлеку на себя гнев не только моего царя, но и вашего императора.
На другой день Приск вместе с другими сановниками Византии был представлен царице Иерке.
Царица жила совершенно в отдельном помещении дворца со двором, где также находилось много строений как из каменьев, обделанных и красиво сложенных, так и из бревен, во всю их длину, чисто и искусно выглаженных. Одна башня, начинаясь кругами от земли, возвышалась кверху до известной пропорции. Там жила царица Иерка.
Находившиеся у дверей слуги по полам, устланным коврами, ввели Приска в светлицу царицы.
Царица в это время полулежала на мягком ложе. На ней было длинное льняное покрывало, изузоренное пурпуровым цветом. Покрывало по талии было стянуто поясом и красиво обрисовывало стан царицы. Так как покрывало не имело ни рукавов, ни воротника, то руки и плечи у царицы были голы и близкая к ним часть груди открыта.
Вокруг царицы находилось множество прислужников, а напротив на полу у ее ног сидели за работой молодые девушки. Они вышивали красками полотно, служившее для украшения одеяния.
Молча приняв от Приска императорские подарки, царица дала ему знать, что он может идти.
Когда Приск вышел от царицы, то увидел множество народа, который с шумом бежал к царскому крыльцу.
В это время на крыльце показался Аттила в сопровождении Онигиса.
Вся толпа смолкла и устремила на него взоры.
Сев на приготовленное для него место, Аттила начал принимать жалобы, накопившиеся во время его отсутствия. Некоторые жалобы он тут же разрешал, а некоторые поручал хорошенько исследовать Онигису. Так Аттила творил свои суд и расправу. Любя свой народ, он допускал к себе всякого, кто имел к нему дело. За то и народ до обожания любил его. Когда Аттила возвращался из армии в Киев, то народ каждый раз шумно и радостно встречал его и долго толпился вокруг дворца, чтобы, встретив царя, снова приветствовать его своею любовью.
После жалоб Аттила принимал посольства от покорных ему славянских народов.
Между тем посланники западного императора Валентиниана Ромул, Примут, Роман, а потом Рустиций и Констанций подошли к Приску и спрашивали:
– Что вы, отпущены?
Сказав им, что зашел ко дворцу именно от Онигиса узнать, когда их отпустят, Приск, в свою очередь, спросил римлян, каковы их дела?
Они ответили, что Аттила в своих требованиях непреклонен и настоит на своем или же объявит страшную войну.
Заговорив вместе о гордости и могуществе Аттилы, Ромул, бывший во многих почетнейших посольствах, муж опытный и сведущий, прибавил, что счастье делает Аттилу горделивым. Никто, говорил он, из владетелей Скифии, его предшественников, не совершил стольких подвигов в столь короткое время, как он. Аттила, говорил он, владеет целою обширною Скифией, от островов океана до пределов империи римлян, которых сделал уже своими данниками. Но этим еще он недоволен, душа его стремится к большим подвигам. Желая распространить пределы своего владычества, он имеет намерение объявить войну и Персии.
Примут спросил:
– А есть ли дорога из Гуннии в Персию?
Ромул отвечал:
– Мидия от гуннов недалека, и гунны очень хорошо знают эту дорогу, по которой они уже ходили и нападали на мидийские города Васих и Карсих. По причине близости Аттиле легко напасть на персов и победить их. Войска у него столько, что ни один народ не в состоянии сопротивляться ему. Я бы желал, – заключил Ромул, – чтобы Аттила начал войну с персами, потому что вся тяжесть войны с Аттилой была бы снята с Римской империи.
Констанций на это возразил:
– Напротив, не надо желать этого. Если Персия погибнет, то вся тяжесть Аттиловой державы падет на восточную и западную империи и Аттила будет обращаться с нами, как с вассалами. Мы уже и теперь платим ему постыдную дань.
Заметив, что Онигис вышел из дворца, послы бросились к нему с вопросами: «что царь? как царь? скоро ли примет?»
Поговорив со своими приближенными, Онигис обратился к Приску:
– Спроси, пожалуй, у Максимина: кого император намерен из высших сановников прислать к царю уполномоченным?
Посоветовавшись с Максимином об ответе, Приск возвратился к Онигису и сказал, что император желает, напротив, видеть его самого в Константинополе и кончить с ним спорное дело. Если же нельзя надеяться на это, то император пришлет кого заблагорассудится.
Онигис велел Приску позвать Максимина и повел его к Аттиле. Аттила хотел, чтобы Феодосий отправил к нему послами Нотия и Анатолия, которые уже прежде у него были, и что другого посольства он не примет. Максимин заметил царю, что неприлично назначать поименно тех, кого он к себе желает, потому что на них может лечь подозрение императора.
– Если император, – сказал гордо Аттила, – не исполнит моего требования, то пусть снова приготовляется к войне.
В тот же день восточное и западное посольство было приглашено на царский обед.
В назначенное время послы явились во дворец. Аттила встретил их в приемной. После обычных приветствий с обеих сторон царские кравчие поднесли послам по чарке вина, чтобы они до обеда выпили за здоровье друг друга.
Выпив, послы вошли в обеденную светлицу, которая была пышно разукрашена и обставлена кругом стен седалищами.
В середине ее, на ложе, сидел сам Аттила. Против него было другое его седалище со ступенями, ведущими в его опочивальню. Ступени были устланы белыми и другого цвета коврами. Первостепенные гости заняли места по правую руку Аттилы, менее знатные – по левую. Налево же поместили и Приска. Рядом с ним сел Борич, богатый вельможа Аттилова двора. Тут же сидел и Онигис, но только выше других. На креслах по правую руку царя сидели два его сына: старший Данчич, на одном ложе с Аттилой, несколько поодаль, а другой, Гезерик, рядом на кресле.
Когда все уселись, вошел старший кравчий с огромным серебряным сосудом, в котором было вино. Аттила, черпнув из сосуда вина, выпил за здравие первейшего по порядку гостя, который, встав и отблагодарив поклоном, не прежде мог сесть, как отведав или совсем опорожнив подносимую ему золотую чару с вином за здравие следующего соседа. Всякий гость по порядку принимал чару и, выпив, по объявлении тоста, кланялся сидящему царю в знак почтения. Царь отвечал легким наклонением головы. За спиной у каждого гостя стоял кравчий с вином к его услугам.
Когда весь круг гостей был обойден чарой, Аттила, шутя, подозвал византийских послов к себе и, по византийскому обычаю, вызвал их на стаканный бой, т. е. кто больше выпьет. Послы, разумеется, вели себя благоразумно, а царь отчасти зло посмеивался над ними.
Наконец кравчие с вином удалились.
Наступило время обеда.
Прежде всех вошел прислужник Аттилы и принес блюдо с мясным кушаньем, которое Аттила начал есть на деревянной тарелке. Прочие прислужники подносили ему хлеб. Затем начали подавать обед и гостям. Гостям все подавалось на грузных серебряных блюдах обильно и вкусно.
За столом Аттила, по обыкновению, сидел в своей бурке, перепоясанной мечом. Вельможи его, напротив, были осыпаны золотом, драгоценными каменьями и жемчугами. После каждого кушанья все вставали и рядом выпивали за здоровье Аттилы. Аттила тоже пил за общее здоровье из своей деревянной чары.
Пообедав, все встали и, выпив еще по чаре вина, сели по своим местам.
Несколько спустя после обеда в светлицу вошли два пожилых гусляра и, поклонившись царю, начали играть на гуслях и петь славельные песни о подвигах Аттилы.
Гусляры пели:
Расплескался беспокойный Неман; Поднялись от Немана венеды: Собрались в могучую громаду И ударили тогда на готов. Ой вы, готы, готы! Злое ваше племя! Где ж вы подевались? Что же вас не стало? Расшумелся, разгуделся весь Дунай; Расшумелись гунны на Дунае: Царь вскрывает вражьи стены, города, Царь берет и почести, и дани. Что же вас не слышно, Рим и Византия? Где же ваша слава? Где гордыня ваша? Солнце ясное с востока поднялось: Звезды ночи все померкли в вышине. Солнце ясное – великий властелин, Властелин Аттила, царь других царей! Воспоем же славу Нашему царю И ударим в гусли Громко и скорей!Все, не исключая и самого Аттилы, с удовольствием слушали гусляров.
Иные восхищались стихами, которые возбуждали воспоминания о военных деяниях и подвигах, а у иных, особенно стариков, при пении появлялись на глазах непритворные слезы.
Аттила любил стихи и пение, а потому при его дворе находились постоянные так называемые гадляры, т. е. стихослагатели и певцы. Вообще песни у кыян были в постоянном употреблении, и они любили их, как и теперь русский человек любит свою родную, подчас заунывную, а подчас и разгульную песню-сказание.
После пения и стихов быстро вбежал в горницу царский шут по имени Харя Мурин. Он одет был в цветные лоскутья, в колпаке с гремушками и в неимоверно больших башмаках, которые, когда он ходил, шлепали по полу и давали повод смеяться над ним. Кроме этого, шут говорил всякий вздор: охал, представлялся больным, быстро выздоравливал и производил этими выходками среди гостей неудержимый хохот.
Во время всеобщего веселья Аттила оставался мрачным. Он не сказал ничего, что могло бы одобрить гостей к еще большему веселью.
Когда шут дурачился, вошел младший сын Аттилы Ирнак. Аттила подозвал его к себе и начал ласково гладить по голове.
Между тем шут остановился перед Годичаном и начал низко кланяться ему.
– Чего тебе? – спросил Годичан.
– Ох! – тяжело вздохнул Харя Мурин.
– Ну, сказывай, в чем дело? – допрашивал Годичан.
– Сам знаешь… – охал шут.
– Что знаю?..
– Жены нет…
– А куда же ты ее подевал?
– У Аэция оставил, – говорил жалобно Мурин. – Когда я был послан царем в подарок Аэцию, то убежал от него: не по нутру мне пришелся Рим, где человека зверями травят, а ослов на воеводства садят. А жену-то второпях, поверишь ли, и позабыл с собой прихватить. Батюшка, помоги мне добыть жену. Очень уж мне жена надобна.
– Ну, ладно, помогу, – смеялся Годичан. – А ты вот, кстати, расскажи нам: откуда ты родом, потому у нас на Киеве подобных тебе балясников нет, да и зовут тебя как, тоже скажи?
– Родом я с Дуная, а зовут меня Зерхон Маврузский.
– И ты любишь свой Дунай?
– Ох, люблю, люблю! – воскликнул жалобно шут.
– А коль так, расскажи нам, как ты скучаешь по своей родине.
Харя Мурин стал посреди светлицы, склонил голову, сложил на груди руки и начал грустно рассказывать о своей тоскекручине по далекой родине.
Он рассказывал:
– Опять блеснуло солнце на ясном высоком небе, опять я спрашиваю его о моей милой, дорогой родине. Спрашиваю у солнца: скажи мне, солнышко красное, когда ты утром рано пробегало над моею родиной, что ты видело в нашем доме на дворе? Проснулась ли мать моя? Помнит ли она меня? Если она встала со сна и если она вспоминает обо мне, то что она говорит? Еще спали ли дети? Что мои братья делают? Так ли встречают они утреннюю зарю, как я ее здесь встречаю с грустью на сердце, со слезами на глазах! Помнят ли они о своем младшем брате? Помнят ли друзья своего верного друга? Или же они после вчерашнего веселья уснули крепко? Помнят ли они меня? Шумит ли волнами белый Дунай? Ходят ли еще по нему большие и малые ладьи? Уносят ли они вести к грустным матерям или потопают в море? Веют ли бурные ветры в Балканах – горных стремнинах? Скажи мне, друг солнце, скажи мне правду о всем, о чем я тебя спрашиваю теперь. Если ты встретишь зарю вечернюю, ее в обед ты застанешь, скажи ей – пусть она с вечера, как скоро ты засядешь, раньше засветит! Мне нужно рассказать ей про мою жизнь в этой далекой земле. Стану и ей жаловаться о том, как бурные ветры вчера с обеда до вечера сильно и люто веяли мне от моей родины, от белого и мутного Дуная: как надрывалося у меня сердце, что они не донесли до меня никакой весточки! Высказал я все это солнцу, оно посмотрело на меня с ног до головы, показав свое ясное лицо, и, как бы с грустью на сердце, отвечало мне: и белый Дунай, широкий, мутными волнами шумит, большие и малые ладьи все так же вести уносят по Дунаю-реке, широкой, по морю синю, глубокому, к грустным матерям. Бурные ветры все ведают в Балканах – горных стремнинах. Твои же верные друзья не только еще не встали от сна после вчерашнего их веселья, но даже в дружбе не верны! Тебя они по часту не вспоминают! Встали и твои братья, и дети также рано поднялись: они играют на дворе, но никто о тебе не вспоминает! Только одна душа там, где-то дальше помнит тебя: она всегда рано встает и слезы роняет горючие, капля по капле, о тебе, и как только встает утром, так все плачет и все поджидает тебя, поджидает тебя!..
Рассказчик смолк, поникнув головой. Все, зная, что Харя Мурин рассказывал вздор, что у него никакой жены у Аэция не было, что он родом вовсе не с Дуная, шумно и весело расхохотались.
Один только Аттила пасмурно молчал.
Вымышленный, но задушевный рассказ Хари Мурина напомнил ему и его родину, и его далекие, лесистые берега Немана.
Аттила быстро встал и ушел в свою опочивальню.
Гости тоже повставали и начали расходиться.
Было уже довольно поздно.
На следующий день византийские послы отправились к Онигису спросить об отпуске. Онигис сказал послам, что царь желает того же. После этого Онигис собрал совет воевод, в котором рассуждали о предположениях Аттилы, и приготовили письмо к императору Феодосию.
В тот же день послов пригласили на ужин к царице. Послы имели удовольствие пользоваться ее благоволением.
Царица была окружена многими гуннскими князьями и потчевала послов пряниками, вареньями и великолепным ужином. На ужине всякий из присутствовавших гуннов, по правилам гуннской вежливости и учтивости, встав с места, подносил послам полную чару вина и, облобызав пившего, относил опорожненной.
Потом послы опять были приглашены к обеду Аттилы.
Обед был такой же, как и прежде. Только на этот раз старшего сына не было.
А Харя Мурин рассказал повествование о необыкновенной красоте одной бактрианской царевны, Ильдицы.
Аттила с любопытством слушал рассказ шута, а потом спросил его:
– И ты правду говоришь, Мурин?
– Ох, правду, царь… Такой красоты нигде не видно… Само солнце прячется, когда завидит ее… Ветры буйные стихают от одного взора ее. Запоет соловей, и она завоет: и смолкнет соловей перед ее пленительным голосом. Черные кудри ее похожи на тучи небесные. А очи – на синеву Адриатического моря…
Аттила, выслушав этот рассказ, почему-то глубоко задумался.
Глава IV. Перемена Византийского двора
Спустя три дня византийских послов одарили и дали им отпускную. С ними вместе отправлен был в Константинополь и Борич, который и прежде был посланником в Константинополе. Вместе с византийским посольством возвращалось и посольство западного императора.
На дороге из Андрианополя в Константинополь послы встретили возвращавшегося ко двору Аттилы переводчика Вигилу.
Вслед за посольством и Аттила выехал из Киева и отправился на Дунай, где стояли его войска.
Для принятия возвращающегося заговорщика Вигилы Аттилой были сделаны распоряжения. Переправившись через Дунай, заговорщик Вигила тотчас же был взят под стражу. Все вещи у него были отобраны. В числе вещей вместо пятидесяти фунтов золота, предназначенного для Годичана, найдено было сто фунтов. Аттила велел его представить для допроса. Мошенник утверждал, что золото назначено совсем для другой цели. Аттила велел схватить сына его, прибывшего с ним, и грозил повесить его, если отец не признается в тайном покушении. Тронутый участью сына, преступный отец признался в своем намерении и сам открыл козни Византийского двора. По совершении допроса Аттила велел заковать его в цепи и сказать ему, что он до тех пор не отпустит его на волю, пока сын его не привезет из Константинополя других ста фунтов золота.
Сын Вигилы был отпущен обратно в Константинополь. А вместе с ним были отправлены Ислав и Орест.
Оресту велено было явиться к императору Феодосию с мешком на шее, в котором было привезено для Годичана золото, и спросить любимца императорского, Хрисафия: знаком ли ему этот мешок? А императору сказать, что он сын отца благородного, и Аттила также сын мужа, не менее благородного и знаменитого, и поддержал и наследовал достоинство и благородство своего родителя. А император, напротив, унизился, сделавшись данником и вассалом гуннов, и потому ему, как слуге подлому и неверному, неприлично делать тайный заговор и покушение на жизнь своего господина.
Посольством этим чрезвычайно был поражен двор Византийский и из страха, насколько возможно, стал угождать Аттиле.
По требованию Аттилы были отправлены к нему послами двое вельмож империи, Анатолий и Нотий, один из богатейших придворных и друг Хрисафия. А Феодосий, чтобы укротить оскорбленного Аттилу и привести к окончанию переговоры, отправил к нему весьма значительное количество золота. Со своей стороны не пощадил своего кармана и Хрисафий, по крайней мере, чтобы избегнуть беды.
Аттила сначала не хотел допустить к себе послов Феодосия, но потом, узнав о количестве привезенного ему золота, смягчился и, допустив их к себе, принял ласково и снисходительно.
По получении золота и других подарков, присланных императором и его любимцем Хрисафием, был заключен между обеими державами мир, по которому возвращены Византийской империи все области, занятые гуннами по ту сторону Дуная до восточных берегов реки Моравы. А византийцы обязались не принимать гуннских беглецов. Выпущен был и Вигила, но только по взыскании с него ста фунтов золота.
Отпустив императорских послов, Аттила вместе с ними отправил и своего секретаря, Констанция, чтобы Феодосий лично подтвердил договор.
29 июля 450 года Феодосий II скончался.
Ему наследовала сестра его, Пульхерия, умная и решительная женщина.
Пульхерия первая из женщин вступила на престол Византийский и по необходимости должна была избрать супруга.
Выбор ее пал на Марциана, иначе Маркиана, человека невысого происхождения, но умного, храброго и заслуженного.
При Византийском дворе произошел переворот. Переворот должен был произойти и в отношениях византийского правительства к Аттиле.
Он и произошел на беду, может быть, целой Европы, особенно же – западной империи, которая находилась в руках слабого и развратного императора Валентиниана III, утопавшего в сладострастии и наносившего самые возмутительные оскорбления не только знатным фамилиям империи, но даже и своим приближенным родственникам.
Глава V. Восток и Запад
Одною из тех, на которых особенно ложилась гнетом тяжесть Валентиниановой натуры, была родная сестра его, Гонория.
Восхитительная красавица, собой молодая, здоровая, полная юного блеска и страсти, она была поставлена в необходимость дать обет безбрачия на всю жизнь за титул августы или императрицы. Кроме этого и сама мать ее, Плацидия, поступала с нею с необыкновенной строгостью. Надзор был за ней самый строгий и с каждым днем все более и более усиливался. Наконец Гонории невыносимо стало терпеть притеснения, и она, чтобы избавиться от них, тайно послала к Аттиле любовное письмо с кольцом, предлагая ему себя в жены.
Аттила, получив это письмо, обрадовался случаю придраться к Валентиниану, который давно уже строил тайные ковы против Кыянского двора, и отправил к нему посольство с требованием в приданое за Гонорией пол-империи и несколько тысяч фунтов золота.
В это же время Аттила отправил своего посла и к византийскому императору, Марциану, с требованием, чтобы новый император подписал условия договора с его предшественником, в силу которого Византия должна была платить Аттиле ежегодную дань.
Марциан, отличавшийся военными талантами, деятельный и энергичный, медлил с подтверждением договора и, между прочим, стягивал свои войска, чтобы противостоять Аттиле.
Валентиниан же весьма естественно отвечал, что Гонория не может выйти за Аттилу замуж, так как она уже имела мужа и дала обет безбрачия. Кроме этого, отвечал он, Гонория не имеет никакого права на наследство имперских владений, от которого, по государственному постановлению, женщины исключаются.
В это же время собирались напасть на западную империю испанские вандалы[29].
Царь этих вандалов, Гейзерих, основавший свою столицу в области древнего Карфагена и Нумидии и захвативший Сицилию, Сардинию и Болеарские острова, захотел почему-то вступить в сношения с везиготами и женил своего сына, Гуннериха, на дочери везиготского короля, Теодориха.
Но в скором времени Гейзерих рассорился с своей невесткою за то, что она хотела его отравить, и, обрезав ей нос и уши, отослал к отцу. В отмщение за это Гейзерих должен был ожидать войны, которая была бы для него тем опаснее, что, по его соображениям, Валентиниан мог соединиться с Теодорихом.
Гейзерих напомнил об этом Аттиле, который любил Гейзериха и даже в честь его назвал Гейзериком одного из своих сыновей.
Надо заметить, что территория нынешней Франции была в то время под владычеством трех народов. Юго-восточная часть принадлежала римлянам. Юго-западная – везиготам. Северозападная же или, вообще, северная была во владении так называемых галлских вандалов по реке Лоаре до Сены, которые, несмотря на то что произошли от одного и того же племени венедов, вышедших с Балтийского побережья, ничего не имели между собою общего и даже нравственно разъединились. Вандалы испанские составили самостоятельное государство, тогда как вандалы Галлии[30] находились под влиянием римского владычества. Столицею везиготов была Тулуза. Их называли везиготами в отличие от вестготов, которые, изгнанные Болемиром с берегов Черного моря, наводнили Мизию и Иллирику. Везиготы после множества испытаний, удач и неудач поселились наконец в юго-западной части Галлии по воле императора Гонория в 411 году с целью выжить оттуда вандал. Вандал они не выжили, а основали свое королевство.
Случилось это так.
На первый взгляд здраво обдуманная цель императора Гонория состояла в том, чтобы враждебные между собой варвары, славяне, вышедшие туда под предводительством Радогоста, и готы, поселенные им там же, загрызли друг друга насмерть. Заботу же похоронить их и торжественно отпраздновать победу над врагами Рима он брал на себя.
Это предначертание вполне бы удалось, если бы новые владетели Аквитании решились на дело без глубокой обдуманности и употребив, прежде оружия, орудия более тонкие, острые и более верные.
В 415 году конунгом везиготов был Валлий.
Валлий находился в затруднении, с кем выгоднее держать дружбу: с римлянами или с вандалами. Не зная, какая сторона была лучше, он решился с народом своим бежать от той и от другой в Африку и основать там новую Готию. Посадив всех везиготов на корабли, Валлий пустился по океану, но, к несчастью, буря прибила его корабли обратно к берегам Аквитании. По воле Одена надо было оставаться в Европе и снова обдумывать, с кем вести дружбу: с римлянами или с вандалами. Через два года последовало решение. Валлий произнес своему войску следующую речь: «Непобедимые готы, куда бы ни пожелали вы направить свои стопы, от далекого севера до окраин юга, повсюду вы пробивали себе дорогу оружием. Ничто не останавливало вашего торжественного шествия: ни пространство, ни климат, ни горы, ни реки, ни дикие звери, ни даже многочисленные и храбрые народы. Но вот в каком положении мы теперь: вандалы, аланы и свевы осмеливаются нападать на нас с тылу, тогда как римляне угрожают нам спереди. От вас, храбрые воины, зависит теперь решить, на кого из них подымать оружие. В победе вашей я уверен. Но стоит ли терять время на сражение с трусами-римлянами: не лучше ли избрать врага, достойного вас».
Врага, достойного себе, Валлий не избрал. Он только схватил тайно одного из оплошавших князей вандальских, по имени Фредибала, и послал его к императору Гонорию, как пленного, взятого с бою на поле победы. Рим восторжествовал. Было решено почтить Гонория триумфом. Подобно победоносцу во время славы Рима, Гонорий вступил в него при торжественных возглашениях побед над свевами, над силингами, над аланами и над вандалами. Ничтожный Гонорий не устыдился этого триумфа, а Валлий не устыдился принять на себя роль славного героя.
По смерти Валлия в конунги везиготов был избран Теодорих.
Теодорих действительно за обезображение своей родной дочери решился немедленно же мстить Гейзериху.
Первым его делом было изъявить свою преданность императору Валентиниану и снискать дружбу римского полководца Аэция, который управлял Галлскими областями римлян и два раза наказал его за покушение распространить свои владения на счет римлян, пользуясь смутами империи после смерти Гонория.
Теодориху легко было склонить Валентиниана на новый опыт исхитить Испанию из рук Гейзериха.
К заключенному союзу присоединился и Византийский двор.
Новый византийский император, Марциан, смело отказал Аттиле возобновить договоры на постыдных условиях Феодосия II.
Аттила предвидел все это.
Но не столько возмутил Аттилу отказ императоров, Марциана и Валентиниана, в возобновлении договоров и выдачи за него Гонории с чудовищным приданым, – он бы с ними, пожалуй, сошелся, не прибегая к оружию, – как не понравилось ему новое оживление готов, давнишних его врагов, которые под предводительством Теодориха грозили родственному ему племени славян-вандалов.
Аттила махнул рукой на отказы Византии и Рима и начал собирать свои необъятные полчища, чтобы, двинув их на запад, наказать готов.
Но предварительно через явившегося к нему послом сына Аэция, Карпилиона, Аттила написал к Валентиниану, чтобы он не мешался в расправу его с везиготами, как с беглецами из подданства гуннов. А Теодориху сообщил, чтоб он не надеялся на союз с римлянами против славян Испании и Африки.
Теодорих задумался, но ничего не ответил грозному восточному царю. Валентиниан с трепетом ожидал нового движения гуннов. Марциан нерешительно скоплял свои войска в Паннонии.
Не унывал один только храбрый Аэций.
Аэций действовал решительно и дал повеление римским войскам, шедшим из Савойи, Пиемонта и Милана, ускорить ход в южную Галлию и соединиться в ней с везиготами. Войска пришли, а везиготов нет. Эта медленность поразила Аэция. Посылают к Теодориху узнать причину этой медленности, торопят его. Теодорих представляет законную причину, что он вступал в союз с римлянами против Гейзериха, а в дела их с Аттилой вмешиваться не намерен. Посылают к Теодориху снова убеждать, доказывать необходимость взаимного восстания против общего врага. Теодорих стоит твердо, неуклонно от здравообдуманного своего решения. Наконец, Аэцию приходит счастливая мысль отправить к нему сенатора Мечелия, хитрого, искусного и счастливого политика, который пользовался приязнью и величайшей доверенностью Теодориха. Мечелий жил уже на покое в роскошной своей вилле Азатикум, в горах Арвернии, устроив на берегу одного озера великолепную теплицу. «Готы, – говорил ему Аэций, – смотрят на все твоими глазами, слышат твоими ушами. В 439 году ты указал им мир, теперь укажи войну».
Мечелий был друг Теодориха.
Опасаясь за себя и за свою роскошную виллу, которая лежала на пути Аттилы, Мечелий уговорил Теодориха соединиться с римскими войсками против Аттилы.
Знавший хорошо расправу гуннов с его предками, Теодорих хотя и согласился на предложение своего друга, но неохотно.
Все это было известно Аттиле и произвело на его избалованную успехами гордость неприятное впечатление. Лицо семидесятивосьмилетнего царя омрачалось, но вместе с тем, по всеобщему сочувствию, омрачалась и вся западная Европа. Все точили оружие и чуяли неотразимую грозу. Аттила не прощал обид своей гордости.
И вот – по мановению грозного царя – весь Восток немедленно выставил под его знамена лучший цвет своего юношества.
Под знамена Аттилы собралось более 500 тысяч войска.
Поход Аттилы был подобен новому переселению народов, как говорят современники.
Аттила сам предводительствовал своими непобедимыми войсками.
В числе многочисленных дружин подвластных ему народов, составлявших крылья рати, особенно были замечательны дружины Велемира, Тодомира и Видимора и бесчисленные рати Гепидов, под начальством Ардарика. По словам Иорнанда, из всех подвластных князей Аттила больше всех предпочитал Велемира и Ардарика. Велемира за ненарушимую преданность, Ардарика – за верность и ум. Толпа иных князей и воевод различных народов, по его же словам, следили, подобно спутникам светила, за малейшими движениями Аттилы и по знаку, поданному взглядом, приближались к нему со страхом и трепетом; получив же приказание, торопились исполнить его.
Седьмого апреля, в день Светлого Воскресения, 451 года войска Аттилы переправились несколькими путями через Рейн.
Аттила, как опытный полководец, не забыл, однако, для прикрытия тыла походной армии оставить в Малой Валахии и Паннонии сторожевые дружины.
Взяв приступом знаменитые города Равраций, Виндониссу и Аргентоварию, Аттила до основания разорил их. Потом он взял Страсбург, Спейер, Вормс, Майнц, Тул, Диез. Седьмого же апреля при переправе через Рейн он взял Мец, где было много побито жителей. Далее взяты были приступом Тангр, Реймс, Аррас, Трив, и все области между Рейном, Мозелем, Марною и Сеною вдруг покрылись полчищами Аттилы, для которых не существовало никаких преград, крепостей, войск.
Один из храбрейших князей соединенных сил империй, Мировой, только что после смерти Клодовоя завладевший Галлской Вандалией, стойко защищаясь против Аттилы, нигде, однако, не мог устоять и должен был с берегов Рейна бежать к союзникам.
Переправившись через Рейн, Аттила направил свои военные действия на северо-западную часть Галлии, к реке Лоаре.
Миновав Париж, тогда еще крошечный городишко, Аттила двинул одну часть своего войска на Орлеан, тогда столичный город.
Сильные укрепления города пали, и Аттила наполнил их своими воинами.
В это время, соединившись, союзники решились действовать наступательно, и Орлеан был взят обратно. Жители Орлеана, отворив тайно городские ворота, впустили передовой корпус союзников, и он хотя с трудом, но вытеснил оттуда войска Аттилы.
По словам Григория Туровского, битва началась подле моста и в городе. Гонимые, продолжает он, из улицы в улицу и поражаемые камнями из окон домов, гунны не знали, что делать, и отступили.
Это было 14 июня 451 года.
Между тем обе стороны, соединяя свои легионы в одну массу, предвидели необходимость полной и решительной битвы.
Наконец Аэций решился дать генеральное сражение, и обе стороны сблизились на полях близ талона на Марне, на так называемых Маурицких, или Каталаунских, равнинах.
Где находились поля Мауриции, или Каталаунии, на которых восток и запад сосредоточили свои армии, состоявшие более чем из миллиона воинов, наверное неизвестно. Странно, как все историки запада упустили это из виду. Тем более это странно, что все они знали, как Аттила провел ночь перед битвой, а не могли указать, где, собственно, происходила столь чудовищная в истории человечества резня.
По словам Тьерри, который из Аттилы силился сделать Монгола, Аттила, во-первых, всю ночь перед битвой провел в страшном, невыразимом беспокойстве и волнении духа; во-вторых, гадал у какого-то пустынника и, не довольствуясь его предсказаниями, где-то добыл шамана, заставил его вызывать с того света души покойников и, сидя в глубине своего шатра, следил глазами за его безумным круженьем и вслушивался в его взвизгиванья. Не удовлетворившись вызовом теней, Аттила начал разлагать внутренности животных и рассматривать кости баранов. Кости предвещали ему не победу, а отступление.
Далее Аттила обратился к своим придворным жрецам. Жрецы порадовали его несколько, объявив, что, по всем знамениям, хотя победа будет не на стороне гуннов, но зато неприятельский вождь погибнет в битве. Словом, Аттила исполнил все в угоду своему историку, чтобы походить на дикого Монгола.
На самом же деле Аттила, вполне уверенный в своих силах, провел ночь перед битвой так же, как он проводил таковые и перед другими битвами.
Окруженный своими храбрыми любимцами, спокойно и сознательно Аттила распределял, кто и где должен стоять, как и что должен делать, кого и когда должен слушать.
Наутро же перед сражением Аттила сказал любимцам своим сильную и выразительную речь, в которой, упомянув о трусости римлян, напоминал своим воям, что он должен уничтожить готов, и уничтожить потому, что готы давнейшие враги славян и много им зла сделали. Обещался также наказать и римлян, которые вздумали поддерживать их.
Затем Аттила распределил войска.
Правое крыло он препоручил Ардарику, левое – Велемиру. Сам же, со своими кыянами, он взялся командовать центром и стоять впереди.
Между союзниками, левым крылом, состоявшим из римских легионов, управлял сам Аэций. На правом фланге стоял Теодорих с везиготами. Бургунды же, франки, поморяне и алланы галлские помещены были под начальством воеводы Сангибана, в центре, с тою целью, чтоб верные фланги сторожили над неверным центром, потому что Сангибан и все полки его были в сильном подозрении. Сангибан подозревался в готовности изменить. Родственные восточным славянам, поморяне и аланы неохотно шли на битву против своих собратий.
Поморяне эти были венеды, покоренные еще во времена Цезаря и поселенные им на севере Галлии. Они несколько раз восставали против римского владычества, желая примкнуть к своим собратьям. В 445 году они с трудом были усмирены Аэцием.
Один историк сказал, что никогда еще Европа не видала таких громадных войск, готовящихся поразить друг друга, и никогда еще властолюбию одного человека не приносилось в жертву столько народов.
Битву начал сам Аттила.
Впереди своих грозных дружин, сидя на коне, он первый бросил копье в неприятеля.
Увидев это, дружина крикнула:
– Царь начал! Пойдем за царем!
И эта дружина бросилась вперед, пробила центр неприятельской армии, отрезала везиготов от римлян и насела на них…
Битва продолжалась беспрерывно целый день до глубокой ночи…
История не оставила подробностей этой ужасной и чудовищной битвы миллионной армии. Она только говорит, что на каталаунских полях легло более трехсот тысяч человек, не считая раненых. В числе погибших находился и везиготский король. Теодорих. Носясь перед рядами своих войск для возбуждения их мужества, он упал с коня и был раздавлен своими же воинами. Сын его, Форисмонд, раненный в голову, тоже было упал с лошади, но был спасен своими приближенными. Сам Аэций чуть было не попался в плен. А необозримая рав нина до того была загромождена трупами убитых и упитана кровью, что все воды равнины превратились в кровавые потоки, издавали невероятное зловоние, и раненые, утолявшие жажду из этих потоков, немедленно же умирали. Так как битва продолжалась до глубокой ночи в страшной темноте, то нередко озлобившиеся воины поражали стрелами, топорами и мечами своих же собратий… Ожесточение противников в Каталаун ской битве было так велико, что, по народному поверью, души убитых еще три дня сражались в воздухе…
И в самом деле, это была самая ужасная и самая чудовищная битва из всех битв, происходивших когда-либо на земле.
И это был день 14 июня 451 года…
В полночь битва прекратилась. Союзники, собирая свою раздробленную армию, отступили, а Аттила, угрожая неприятелю звуком оружия и завыванием труб, стал станом на самом поле битвы[31].
Победа, по всем вероятиям, осталась на стороне Аттилы, хотя некоторые историки и стараются доказать противное или, по крайней мере, уверить в том, что сражение кончилось без победы с той или с другой стороны. Но последующие за Каталаунской битвой события явно свидетельствуют, кто остался победителем.
Желание Аттилы, двинувшегося в Галлию, состояло в том, чтобы разъединить союзников и потом поодиночке разбить их или заставить согласиться на те условия, которые он предложит.
Желание его как нельзя лучше увенчалось успехом.
Западный союз расстроился.
Наследник погибшего в Каталаунской битве везиготского короля Теодориха, Форисмонд, оставив римские легионы, стал более думать о наследстве, чем о продолжении бесполезной и пагубной для него войны. Он обратился с мирными условиями к Аттиле. С согласия Аттилы Форисмонд, имевший еще пять братьев, был провозглашен королем везиготов. За то он должен был подписать те мирные условия, какие предписаны были ему грозным победителем.
Мировой тоже согласился на требование Аттилы и от римлян перешел на сторону гуннов. Мировой после этого процарствовал спокойно еще десять лет. Потомки его, под именем Мировичей, или Меровингов, царствовали над Галлской Вандалией с 458 по 754 год.
Оставив поле Каталаунской битвы, лишенные двух и необходимейших союзников, Форисмонда и Мирового, римляне отступили к югу, к пределам Италии.
Аттила следовал по их пятам.
Дрогнул и римский двор, и римский сенат.
Аэций шел во внутренность империи. Шел за ним и Аттила, и так быстро двигались войска его, что Риму никак не удавалось собрать новые силы.
Испуганный Валентиниан немедленно же отправил в Константинополь посольство с просьбой о скорейшей помощи.
Вследствие этой просьбы войска Византийской империи, стоявшие в Македонии, Фессалии, Албании, Сирмии, через Кроацию быстро поспешили для соединения с армиею Аэция в Краине и около Милана. Но Аттила предупредил их. Он дал повеление своей дунайской армии занять Паннонию и действовать на Кроацию и Иллирию. Таким образом, византийские войска были удержаны. Другим легионам Аттила препоручил выгнать римлян из Адриатической Украины. Сам же он, на пути от Шалона на Марне, взял многие укрепленные города, а потом, перешагнув Альпы, вторгнулся в Италию, взял штурмом укрепленный и знаменитый торговый город Аквилею, ограбил и разорил его и двинулся на Милан, второпрестольный град Римской империи.
Милан был взят.
Объезжая как-то улицы Милана, Аттила увидал выставленную карикатуру, на которой римские императоры представлены были на троне, а перед ними, на коленях, иноплеменные цари, высыпающие из мешков золото к ногам императоров. Аттила улыбнулся, велел снять картину и перерисовать наоборот: себя на троне, а обоих императоров на коленях с золотом, высыпаемым к его ногам.
Здесь не мешает упомянуть еще о двух анекдотах, которые рисуют Аттилу не как варвара, а как умного и достойного человека.
Намереваясь обложить укрепленный город Троа, в Галлии, Аттила в сопровождении конницы лично отправился осмотреть укрепления. На одном из бастионов Аттила заметил человека, который показался ему не воином. Это был епископ города.
Подъехав поближе, Аттила спросил:
– Кто ты такой?
Епископ отвечал:
– Я слуга Божий.
А царь тотчас же подхватил:
– А я бич Божий, посланный для наказания злых слуг! Епископ, склонив голову, отвечал:
– Твори же, как тебе велено, и накажи меня.
Этот ответ так понравился Аттиле, что он тотчас же велел оставить город с тем, чтобы горожане обещали услужить кое-чем проходящей его армии.
В одном из итальянских городов какой-то плохой поэт поднес Аттиле стихотворение, в котором величал его божеством. Аттила так рассердился на неуместную и глупую лесть поэта, что осудил его на сожжение. Когда же несчастного привели к роковому костру и уже поставили на него, Аттила крикнул:
– Отпустите его, чтобы, по крайней мере, не перепугать и хороших поэтов!
После Милана Аттила взял Конкордию, Алтин, Падуа, Веченицу, Верону, Бретию, Бергам, Павию. Словом, он отнял всю северную Италию и направился к Риму.
Валентиниан впал в совершенное уныние, когда ему донесли о приближении передовых неприятельских дружин.
Положено было защищаться до крайности: все двинулось для защиты столицы. Между тем Валентиниан отправил к Аттиле чрезвычайное посольство, состоявшее из бывшего консула империи Авиэна, бывшего правителя Африки Тригетия и папы римского Льва. Им приказано было не переговариваться с Аттилой, а умолять его о пощаде. Аттила принял чрезвычайных послов довольно благосклонно и согласился на перемирие. Тем не менее армия его подошла под самые стены Рима и расположилась в виду его лагерем. Валентиниан согласился на все требования победителя. И победитель, окруженный своими воеводами и конным отрядом из кыян, приблизился к воротам повелительницы мира. Ворота отворились, и из ворот, во всем облачении Христова Пастыря, вышел ему навстречу Лев, папа римский, в сопровождении всего римского духовенства и вместо ключей города поднес ему скипетр обладания миром, завитый в мирный, но постыдный для Рима договор.
Таким образом, Рим был наказан, а гордость Аттилы была вполне удовлетворена.
По мирному договору в руки Аттилы перешла большая часть восточных римских областей, а ежегодная дань золотом – много увеличена.
Возвращаясь в свою столицу, Киев, Аттила отправил к другу своему Гейзериху в Карфаген послов с известием о победе над везиготами и над Римом и просил его ввиду того, что он не участвовал в этой победе, в свою очередь, не забывать ни тех, ни других, а Рим при всяком удобном случае унизить или даже разорить до основания.
Гейзерих не забыл завета своего восточного великого друга.
Под конец жизни Валентиниана Гейзерих находился с ним в дружеских отношениях, и эти же дружественные отношения были предлогом, по которому он в 455 году, спустя три года после смерти Аттилы, ворвался в Рим и несколько дней опустошал его.
Случилось это таким образом.
Кто-то уверил Валентиниана, что Аэций хочет утвердить на престол свою собственную фамилию. Император, кроме предательского убийства, не нашел лучшего средства избавиться от тягостной и ненавистной для него личности Аэция и собственноручно в 454 году убил его. В следующем же году и сам Валентиниан был убит одним из своих придворных, Максимом, жену которого он соблазнил. Убийца Максим был провозглашен императором, а вдова Валентиниана, Евдоксия, дочь Феодосия II и Евдокии, была принуждена вступить в брак с виновником смерти ее мужа. Желая отделаться от ненавистного ей мужа, она обратилась с просьбою о помощи к Гейзериху. Гейзерих не замедлил появиться в устьях Тибра. Объятые ужасом, римляне взбунтовались, и Максим после трехмесячного царствования был убит. В то время как к Риму приближался Гейзерих, Рим не имел ни императора, ни войска. К нему отправили посольство. Тот же папа Лев, который у ворот Рима вручил Аттиле скипетр властелина мира, стоял во главе этого посольства. Приняв посольство, Гейзерих обещал только при опустошении Рима не прибегать к огню и мечу. Четырнадцать дней грабили вандалы Рим и перетащили на свои корабли не только все движимое имущество частных лиц, но и общественные сокровища: древние статуи, украшавшие улицы и площади Рима, вызолоченную кровлю Капитолия и даже священные сосуды из храмов. Большая часть этих драгоценностей, как говорят, потонула вместе с кораблями при переезде из Европы в Африку. Вместе с громадной добычей вандалы забрали в плен и множество знатных граждан, в надежде получить от их родственников большой выкуп. И сама Евдоксия, накликавшая на Рим вандалов, с своими дочерьми была уведена Гейзерихом в Африку.
Глава VI. Последний пир
Возвратясь в Киев, скучая бездействием и неразлучными со старостью упадками сил, Аттила вспомнил рассказ Хари Мурина о необыкновенной красоте бактрианской царевны Ильдицы и тотчас же снарядил посольство к отцу ее с требованием, чтобы он выдал за него дочь свою Ильдицу.
Царь бактрианский Илий имел неблагоразумие отказать Аттиле[32].
Аттила быстро снарядил войско и двинул к берегам Каспийского моря.
Посылая туда с войском Годичана, он приказал во что бы то ни стало, живую или мертвую, привезти Ильдицу и вместе с тем найти предлог ворваться в пределы Персии, с которой Аттиле давно уже хотелось повоевать.
Годичан не замедлил исполнить волю своего повелителя.
В несколько дней маленькая и незначительная область Бактра, или Бактриана, была уничтожена, красавица Ильдица взята, а Персия – поставлена в необходимость объявить Аттиле войну.
Началась война с Персией.
Оставив для борьбы с Персией опытных полководцев, Годичан поторопился с Ильдицей в Киев.
Вскоре красавица была им привезена в столицу и немедленно же представлена к царю.
Удовлетворенный царь с улыбкой удовольствия посмотрел на бактрианскую царевну, потрепал ее по смуглой щеке и приказал готовить свадебный пир.
Весь дворец поднялся на ноги и закипел приготовлениями к пиру.
Между тем Аттила уединился с привезенной Ильдицей в своей опочивальне и не сводил с нее своих старческих глаз.
Харя Мурин, повествуя о красоте Ильдицы, не обманул царя.
Ильдица действительно была замечательная красавица: высокая, стройная, смуглая лицом, с большими синими очами и длинными пушистыми ресницами, она, казалось, соединила в себе все то, что знойный юг имеет и прекрасного, и до забвения пленительного.
Все время Ильдица молчала, что в глазах Аттилы еще более придавало ей соблазнительной прелести.
Только иногда как-то странно, из-под бровей, она вскидывала очами на Аттилу и потом, как бы испугавшись вперенного на нее взора грозного царя, быстро опускала их в землю и сидела такая же безмолвная, такая же недвижимая. В эти же моменты она судорожно вздрагивала, лицо ее покрывалось легкой бледностью, губы дрожали, ноздри слегка расширялись, а грудь волновалась, как река. Все это говорило, что Ильдица страшная, дикая натура.
Аттила это понимал, любовался ею и тоже молчал… Странные чувства волновали и его железную грудь…
Но наступил вечер, и Аттила отправился в пиршественную светлицу.
Вся светлица, по обыкновению, была наполнена любимцами царя.
Царь на пиру, сверх всякого ожидания, как бы необыкновенно развеселился: много пил, много ел, награждал всех и всякого почестями, золотом и шутил со всеми.
Никто и никогда не видал царя таким.
Все удивлялись этому и понемногу, подвыпив, начали даже говорить с царем несколько свободно, чего никогда не бывало.
Обоготворяемый десятки лет, неприступный, гордый, заносчивый, царь вдруг показался всем таким же обыкновенным человеком, как и они.
А шут Харя Мурин развеселился больше всех.
Подвыпив крепкого вина и меду, он беспрерывно потешал всех своими шутками, мешая в шутках языки: славянский с латинским, греческий с готским, и наоборот.
Невзирая на то что Харя Мурин занимал при дворе Аттилы роль домашнего шута, он был одним из умнейших и даже, по своему времени, образованнейших людей Аттилова двора.
Харя Мурин несколько лет провел в Риме, Константинополе, Египте и, стало быть, немало вынес оттуда римской, эллинской и египетской премудрости.
Не довольствуясь незначительными шутками, ему вдруг вздумалось потешить царя и гостей целым рассказом.
Подбежав к Аттиле, Харя Мурин низко ему поклонился и попросил позволения рассказать хотя невеселое, но занимательное повествование о черной смерти.
Царь, помолчав, проговорил:
– Рассказывай.
Харя Мурин начал рассказывать. Он рассказывал, как среди народа появилась черная смерть, как царь страны не верил появлению смерти, смеялся над нею, но черная смерть ворвалась во дворец, и царь умер в корчах один, потому что все, испугавшись смерти, покинули его. Повествование свое Мурин пересыпал шутками и прибаутками на счет недальновидности царя.
По окончании повествования гости, по обыкновению, хотели наградить рассказчика криками одобрения, как Аттила быстро встал со своего седалища и обвел светлицу, унизанную гостями, своими мутными, но страшными взглядами.
Все, как один человек, тоже встали вслед за царем, и вся светлица, недавно столь шумная, недавно столь веселая, как бы замерла под этими чарующими и непонятно чудовищными взглядами.
А грозный царь, обращаясь к близстоявшему Годичану, как-то глухо и хрипло проговорил:
– Годичан, принеси мне завтра утром голову шута. Я посмотрю, расскажет ли она мне новую сказку о биче…
Сказав это, Аттила неровными шагами направился к двери своей опочивальни…
Гости безмолвствовали…
В свою опочивальню с пира Аттила вошел в страшно возбужденном состоянии: лицо его, сильно осунувшееся, покрытое старческими морщинами, с густо нависшими бровями, с несколько распухшим носом, пылало как в огне; глаза горели и сильно выдвигались из орбит. Он дышал тяжело и порывисто. Входя в опочивальню, Аттила несколько пошатывался. Провожавшие его Годичан и Онигис хотели поддержать его, но он слегка оттолкнул их от себя, и они, поклонившись, скрылись за дверью.
В опочивальне уже сидела Ильдица.
Склонив голову и положив руки на колени под длинным белым покрывалом, она казалась сидячей статуей. Сидела она возле стола, на котором стояла огромная деревянная чаша фалернского вина с деревянной большой чарой и лежали гусли.
Любя игру и пение, Аттила сам нередко играл на гуслях песни своей родины, в которых воспевался широкий и быстрый Неман с его непроходимыми лесами, болотами и сурчинами…
Взглянув на безмолвно сидящую Ильдицу, Аттила грузно кинулся на свое грубое войлочное ложе.
Ильдица тихо спросила:
– Царь, ты спишь?
– Пой мне, Ильдица, песни, играй на гуслях. Под твою игру и песни я усну. Мне люб лепет младенцев.
Ильдица тихо заиграла на гуслях и тихо запела на непонятном для Аттилы языке. Она пела недолго. Аттила мгновенно заснул.
Пьяная голова его отбросилась назад, грудь открылась. Ильдица с отвращением взглянула на старика и прошептала:
– Царь!
Аттила молчал. Молчала долго и Ильдица, опустив голову. Наконец она встала и заглянула в лицо Аттилы, сморщенное, багровое, и низко наклонилась над ним, почти припала к его старческой груди… Послышалось хрипение, тяжелое, болезненное, смолкнувшее немедленно…
Начинался рассвет. Послышались звуки рогов…
Глава VII. Похороны Аттилы
…Дверь тихо отворилась, и вошел Годичан, а за ним воин с кожаным мешком в руках.
– Царь, – тихо проговорил он, – вот голова неразумного раба твоего Хари Мурина.
Царь молчал…
– Спит? – обратился он к Ильдице, которая, опершись правой рукой о стол, стояла точно мраморное изваяние.
Ильдица молчала.
Годичан, постояв с минуту, осторожно подошел к ложу цар скому, заглянул в лицо царя и – отшатнулся, как громом пораженный: царь его лежал недвижимый, бледный, с широко открытыми, безжизненными глазами, с кровавыми пятнами у рта и на шее…
– Помер! Помер! – воскликнул он дико и пал у безжизненного трупа своего властелина…
Через несколько мгновений опочивальня царя наполнилась придворными, а весь дворец огласился необыкновенными плачем и рыданиями. Рыдали все: рыдали дети, рыдали жены, рыдали слуги и воины… все рыдали…
В тот же день и весь Киев знал о смерти своего любимого царя.
Вокруг дворца собралось множество народу, и не было конца вою и жалобам…
Одна Ильдица оставалась безмолвною и равнодушною зрительницею всего происходящего, и одна, в глубине души своей, радовалась смерти Аттилы, хотя знала, что со смертью царя и ее ожидает лютая смерть на могиле ужасного властелина…
В глухую ночь, заключив прах Аттилы в три гроба: свинцовый, серебряный и золотой, верные воеводы его и сподвижники Годичан, Борич, Онигис, Ислав, сыновья Данчул и Гезерик понесли его на пустынный берег Днепра, где назначено было место для погребения.
За гробом вели жен Аттилы: Иерку, Эскину и Ильдицу с толпой других девушек.
Все они, вместе со множеством любимых слуг, собак, коней, лучшим любимцем покойного – орлом, были обречены на смерть у праха любившего их господина.
Приблизившись к месту погребения, у высокого ветвистого дуба, была вырыта глубокая могила.
Обрезав волосы и истерзав свое лицо и грудь острыми орудиями, Годичан, Борич, Онигис, Ислав, Данчул и Гезерик собст венноручно опустили гроб в могилу.
Затем началось убиение жен, девиц, слуг и животных, и никто не миновал грозной участи: все были убиты и все были опущены в страшную могилу страшного царя…
Один только старый орел в тот самый момент, когда Онигис хотел шарахнуть его по пернатому горлу, сильно рванулся из рук Онигиса, взмахнул своими поседевшими, но еще крепкими крыльями и скрылся в темноте глухой ночи…
Воеводы и сыновья Аттилы видели в этом хороший признак.
Оставляя могилу царя, никому не ведомую, кроме них, они говорили:
– Царь и по смерти велик… Дух его, в образе орла, и по смерти парит к беспредельным небесам…
Никто не знал могилы грозного царя, а сами хоронившие – старались позабыть ее и вскоре позабыли…
Но не позабыл ее любимец Аттилы – орел.
Через несколько лет, когда уже могучее царство Аттилы распалось, раздробилось и новые люди, и новые цари новым потоком набежали на берега Борисфена, взмутили его воды, помяли траву его берегов, – орел, поседевший и почти уже ослепший, прилетел на дорогую для него могилу, могилу, густо заросшую травой, могилу ужасную, неведомую, и умер на ней…
Это был последний друг Аттилы…
Заключение
Аттила умер в 453 году на восемьдесят первом году своей жизни.
По расчетам же хронологии, основанным на сообщенном Иорнандом сновидении императора Марциана, Аттила умер в 454 году от лопнувшей жилы именно в ту ночь, когда Марциану снилось, будто лопнула тетива у лука Аттилы.
Что же сталось с огромным царством Аттилы по его смерти?
Нет сомнения, что Данчул, как старший сын Аттилы, наследовал власть отца. Но по разделу, предоставив Киев среднему своему брату, Гезерику, перенес столицу в свою любимую Беловежу, где он княжил еще при отце, управляя козарами, которые тоже принадлежали к славянскому племени[33]. Младший сын Аттилы, Ирнак, получил в удел земли по правую сторону Днепра.
После Каталаунской битвы и покорности Рима история уже молчит об Аттиле. Следовательно, дарованный им мир был прочен и договоры свято исполнялись до 467 года.
В этом же году сыновья Аттилы отправили посольство в Царьград с требованием возобновления торговых договоров. Но император Леон, пользуясь войной кыян с персами, как отводом главных их сил, смело отказал на все требования кыянского посольства.
Отказ сейчас же вызвал войну.
Младший и любимый сын Аттилы, Ирнак, советовал Данчулу не начинать войны с византийцами, когда все силы их находятся в Армении, воюя с Персией. Но опрометчивый Данчул не принял советов брата. Ирнак рассердился на него и ушел с большею частию своего племени в глубину нынешней России. А Данчул со своей немногочисленной дружиной отправился за Дунай и, надеясь на верность подвластных ему готов, образовал из них главные свои силы и успел проникнуть в недра Фракии, где и вступил с войсками Леона в бой. Но готы ему изменили, и Данчул принужден был постыдно отступить… Война с Персией была также неудачна: персы разбили войска Данчула и союзников, преследовали их за горы, проникли в Козарию и даже овладели Беловежею…
И вот для великого царства славянского, созданного дальновидным Аттилой, наступил какой-то странный период: в течение четырехсот двенадцати лет о нем ни слуху ни духу, как будто его и не существовало.
Что же с ним сталось?
А вероятнее всего, что великое царство гуннов, – здесь разумеется территория нынешней России, – распалось на множество мелких княжеств, которые, может быть, вели между собой постоянную и упорную междоусобную войну, чем и помрачили четырехсотлетнюю эпоху славянской жизни, канувшую бесследно в вечность, но не уничтожившую, однако, раз навсегда установленную могучей рукой Аттилы великую Славянскую общину.
Славянская община в течение этих четырехсот двенадцати лет скрывается под общим именем скифов и сармат. В IX же веке она снова выступает на сцену под именем руссов и громко заявляет о себе своими нападениями на соседей. В это же время начинается и сознательное объединение славян, и об славянах снова начинают говорить и византийские и арабские историки вследствие появления их в 865 году у самых стен Константинополя и большого похода на Каспийское море.
Вот почему русская история и начинается собственно со второй половины IX века; вот почему появляется и летописная легенда о признании князей, как цель объяснить происхождение Русского государства и связать его с появлением народа Русь в византийских хрониках. Легенда эта есть не более как попытка осмыслить непонятное явление, так как о действительном происхождении Руси память народная не могла сохранить никаких воспоминаний. Надо заметить еще и то, что в том виде, в каком легенда дошла до нас, она внесена в летописный свод приблизительно во второй половине XII или в первой XIII века, т. е. около татарской эпохи, потому что все памятники древней русской письменности, несомненно принадлежащей дотатарской эпохе, ничего не знают ни о призвании варяжских князей, ни о завоевании Руси норманнами[34]. Вероятнее всего, что легенда эта принадлежит Новгородской редакции и в настоящем своем виде может служить отголоском бывшего когда-то соперничества между Новгородом и Киевом, так как Новгород долгое время находился в подчиненных отношениях к Киеву, но всегда стремился к самостоятельности. В дотатарскую эпоху новгородец не называл даже себя русином, а продолжал именоваться словенином.
Где же в таком случае следует искать начала Руси? Не на юге ли? На юге, говорят противники норманнской системы, и производят Рось, Русь, Россия, один – от парсов, выходцев из Индукуша в Бактрию, а потом, разбредаясь, поселившихся от части и на южных окраинах нынешней России; другие – производят Русь от славянского племени роксолан, о которых, под именем ахтырцев, уже упоминалось на страницах настоящего повествования; третьи, наконец, указывают на названия рек, озер, урочищ, носивших подобные наименования вместе с селившимися на них славянскими племенами.
Но как бы там ни было, откуда бы ни произошло слово Русь – а община Русь, под разными наименованиями, существовала далеко до мнимого призвания варягов, и России в 1862 году следовало бы праздновать не тысячу лет своего существования, а, по крайней мере, тысячу пятьсот, если не более…
«Земля наша велика и обильна», – говорили послы славянские, – если допустить призвание варягов, – и это как нельзя лучше доказывает о существовании Славянской общины или союза далеко до 862 года.
Скажут: община, братовщина не государство.
Так.
Но почему же Финикийские, Греческие и Римские братовщины заслуживали названия самостоятельных государств до избрания ими верховных владык, а Славянские – нет?..
Кажется, в этом отношении должны быть равные права, тем более что Славянские общины были не какой-нибудь сброд, а имели большие и торговые города. В 866 году славяне имели более 148 городов.
Не могли же все эти города управляться кое-как и несомненно имели свои учреждения, свои власти. А если были учреждения, то, стало быть, было и государство, хотя и не в том виде, как у нас теперь принято его понимать. А если это так, то зачем же государственную жизнь славян считать с какого-то легендарного призвания варягов. Да если б они даже и были призваны, то из этого вовсе не следует, что Русское государство основано только именно в этом году.
Возьмем для примера римлян.
Почему, например, римляне не ведут свое летосчисление с Августа, первого их верховного владыки, а ведут его с Ромула.
Неужели у славян не было и не могло быть своего Ромула, ни истинного, ни баснословного?
По нашему мнению, был.
И был именно истинный Ромул, а не баснословный.
И этот Ромул славянский не кто иной, как Аттила.
Но не тот Аттила, которого западные, враждебные славянству историки провозгласили варваром, монголом, дикарем, а тот гениальный и славянский Аттила, который стремился к объединению своего народа, который первый положил основание Славянской общине и перед которым впервые, как перед царем славянским, дрогнула вся западная Европа, увидя в нем грозное проявление грозной славянской силы, и, трепеща, назвала его бичом Божиим.
Божье знаменье Повесть
Пролог. В грузинах
Наука трудная непостижима в век Для человека есть загадка – человек! ХерасковДавно уже не существует того памятника – род каменной часовенки с железным крестом, который стоял в Москве на нынешней Грузинской площадке, против церкви Святого Георгия Страстотерпца. Скромный памятник этот был построен на месте, где когда-то был храм во Имя Святого Апостола Петра и Павла Апшеронского пехотного полка, стоявшего там лагерем.
В то время, к которому относится начало нашего повествования, маленький памятник этот не только существовал, но был только что построен на средства полка и освящен.
В тот самый день, когда совершилось освящение этого маленького памятника, семья цыган, пользуясь случаем, поместилась на его маленьких ступеньках и просила у проходящих милостыни. Семья состояла из четырех человек. Сидел старый цыган, еле одетый какими-то лохмотьями, низенький, с растрепанными волосами и со взглядом, полным проницательности и плутовства. Рядом с ним помещалась цыганка, старая, длинная, сухая, глядевшая необыкновенно уныло и зловеще из-под черных длинных ресниц. Волосы ее тоже были растрепаны и висели наподобие каких-то черных жгутов. Прямо перед ними не на ступеньках, а на земле, немного поодаль, сидели их дети: дочь, девушка лет двадцати, и мальчик лет восьми. На мальчике была рваная, грязная рубашонка. На девушке – большой полосатый платок, который окутывал ее почти всю. Из-под платка торчали только смуглые с длинными пальцами руки да маленькая волосатая голова. Руки ее поминутно протягивались: она назойливо, резким, гортанным голосом просила подаяния у всех проходящих, и кто подавал, особенно щедро, предлагала погадать. При этом миндалевидные глаза ее вскидывались на щедрого дателя и сверкали тем холодным огоньком страстности, которая так присуща этому бродячему племени.
День был праздничный, народу проходило немало, и потому немало грошей перепадало в руку молодой смуглянки. Собранные гроши она немедленно передавала своему отцу, старому цыгану, у которого они мгновенно исчезали. Гадание не удавалось. Подошел какой-то мещанин в поддевке, подал копейку, перекрестился и, узнав, что цыганка гадает, пожелал узнать «свою судьбу». Но когда цыганка спросила: «Что дашь?» – он повернулся и пошел далее. Подгулявший солдатик, улан, в мундире с желтыми отворотами, заплатив алтын, тоже пожелал узнать «про себя». Цыганка взяла его руку, быстро взглянула и, оттолкнув, проговорила: «Голыш!» Улан был озадачен. С каким-то суеверным страхом отошел он от гадальщицы и долго дорогою размышлял по этому поводу, ничего, конечно, не понимая и сожалея о брошенном напрасно алтыне.
Необыкновенная, дикая красота нищенки-гадалки заставляла прохожих останавливаться и любоваться ею, причем сама виновница любопытства только одно и знала, что протягивала руку, прося о подаянии, или предлагала погадать. Отец и мать ее молчали, строя жалостливые рожи и мерно покачивая своими лохматыми головами. Мальчонок ковырялся в песке или вторил сестрице, когда та просила о подаянии. Особенно была поразительна красота молодой цыганки в те минуты, когда она, тряхнув массой волос, вздергивала голову вверх, как бы неожиданно что-то увидав. Вздергиванье это она делала довольно часто – это была ее привычка. У ней была еще другая привычка – по временам быстро сверкать глазами то в одну, то в другую сторону. Она сама, как истая цыганка, была брюнетка с золотистым оттенком кожи на лице. Когда она хоть немного опускала ресницы, глаза ее казались черными, как уголь, когда же широко открывала их, то цвет их несколько походил на цветок льна, что бывает только у самых нежных блондинок. Эта странность придавала ей своеобразную красоту, и будь тут художник, любитель, мастер пластической и чувственной красоты, то он непременно бы залюбовался ею, как хорошей натурщицей для сладострастной вакханки.
Неудивительно после этого, что шедший откуда-то молоденький офицерик, в коротеньком светло-зеленом полукафтане, с загнутыми спереди и сзади фалдами, в ботфортах, в треуголке, остановился перед семьей цыган и с каким-то детским любопытством остановил свой взгляд на молоденькой цыганке.
Цыганка вздернула голову и сверкнула глазами.
– Подай, офицер, подай! – заговорила она нараспев, не спуская с него глаз.
Молодчик сразу сконфузился и торопливой рукой начал доставать деньги.
– Подай, подай! О, ты добрый офицер! – продолжала она. – А мы бедные… Венгрия… из пушты…
Старые цыгане молча кланялись, не вставая, однако ж. Мальчонка вторил сестре и твердил: «подай, подай!»
Молодчик вытащил серебряный рубль, держа его в руках: он не настолько богат, чтобы мог подавать такую милостыню, но других денег у него не было, а сдачу просить было совсем-таки неловко.
Завидев рубль, вся семья завопила благим матом, называя молодчика и графом, и князем, и ясновельможным. Молодая цыганка встала. Сконфуженный и почти растерявшийся офицерик сунул ей поскорее в руку рубль. Попрошайки, словно по команде, мгновенно притихли. Офицер хотел уйти.
– Постой ты! Постой! – остановила его за рукав цыганка. – Хороший офицер… добрый офицер… так не можно… Хочешь – песню спою… хочешь – погадаю… для доброго все можно…
Не успел еще молодой человек сказать что-нибудь в ответ на предложение цыганки, как она из-под тряпья, тут же валявшегося, быстро вытащила цимбалы. Она села на ступеньку, положив цимбалы на коленки. Старики отодвинулись, дав ей место.
Она тряхнула головой – и лицо ее вдруг стало особенно серьезным.
– Ну… слушай… ты… – произнесла она, глядя на цимбалы.
Молодой человек не трогался с места. В первый раз еще молодое сердце его трепетало каким-то новым чувством сладостного ожидания. Он только что был выпущен из шляхетно-артиллерийского корпуса, и жизнь с ее горем и сладостями была ему еще совсем неведома. Он глядел на жизнь еще с точки зрения школьника, для которого покуда все хорошо, заманчиво и полно чего-то чарующего. Молодой человек немало слышал, немало читал о цыганах, но в натуре ему пришлось увидать их только в первый раз. Он стоял и ждал.
Металлические ржавые струны цимбал дрогнули – по ним слегка пробежали искусные пальцы молодой виртуозки. Затем звякнул колоколец, задребезжали маленькие литавры и застонала какая-то грустная, протяжная мелодия.
Молодой человек слушал внимательно. Нервы его были напряжены: он весь превратился в слух. И неудивительно: слуха его еще никогда не касалась такая странная, тоскливая и вместе с тем жгучая мелодия. Звуки точно рисовали какую-то неведомую, однообразную даль, однообразное тихое завыванье ветра. Среди этих звуков уныния вдруг прорвался звук чего-то светлого, радостного – и пахнуло как бы внешним запахом цветков, березок и сочных трав. Светлый звук оборвался – и потянулась опять непрерывающаяся, тоскующая о чем-то и по ком-то нота: в ней слышалось и бесконечное горе бедняка, и тихий плач, и вопли разлуки.
На глазах молодого человека навертывались слезы. Под влиянием царившего в том веке Руссо молодой человек, как и множество других ему подобных не только молодых, но и старых людей, преисполнен был сентиментальности, которая и проявлялась в нем при всяком удобном случае.
Подошло еще три-четыре человека и стали слушать. Один из них, по-видимому мещанин, заметил, что не добро-де у Божьей часовенки играть бесовские песни, но подошедший вслед за ним к виртуозке юноша лет восемнадцати с типическим лицом грузина – очень умным, быстрыми глазами, носом с горбиною, с бровями дугою – посоветовал ему идти далее и не мешать. Мещанин покосился на юношу и торопливо пошел далее.
Цыганка продолжала играть, как бы не замечая собравшихся. Вдруг она оборвала звуки и подняла голову. Старые цыгане начали усиленно кланяться. Мальчонка молча протягивал руку. Несколько монет подаяния полетело к ногам красавицы. Мальчонка подбирал деньги. Но сама виртуозка снова уже пробегала пальчиками по струнам инструмента, собираясь играть.
– Э, да она превосходно играет! – заметил юноша-грузин. – Да и какая прехорошенькая!
Последнее замечание заставило офицера обернуться и встретиться лицом к лицу с юношей-грузином.
– Не так ли, государь мой? – спросил юноша-грузин, улыбаясь и слегка кланяясь, у обернувшегося к нему офицера.
– Да, вы правы… да… она замечательно хороша собой… цыганка эта… – тоже слегка кланяясь, отвечал молодой офицер, причем он несколько покраснел.
– Смею спросить: из шляхетно-артиллерийского корпуса изволите быть? – спросил опять грузин.
– Точно, только месяц как выпущен оттуда в чине подпоручика.
– Вижу, вижу, государь мой…
Брякнули цимбалы.
– А, да она не заставляет себя долго ждать, эта красоточка – снова заигрывает! – произнес грузин.
Цимбалы уже издавали тихие, меланхолические звуки. Затем виртуозка, как-то сразу, сильным гортанным голосом запела:
Тэ зэлэндуба, тэ зэлэгка, Тэ зэлэнэнка, тэ дубровэнька! Тэ я листья лья, тэ бумажиэнькэ, Тэйо мурицы, тэйо мурэнгирэ! Тай корипизо, тэй рукэвенько![35]Никто, конечно, из слушающих не понял, что, собственно, воспевала цыганка, но зато всякому была понятна дикая, страст ная мелодия песни, и особенно поразил всех конец ее, когда песня, смолкая все тише и тише, вдруг словно улетела куда-то далеко и замерла в пространстве. Незнакомые слушатели даже переглянулись между собою.
– Удивительно! – воскликнул грузин. – Этакое милое творение – и просит подаяния! Вот бы увидал Орлов, наверное бы, приписал в свой московский табор и осчастливил бы.
Молодой офицер насторожил ухо.
– Это какой-с Орлов, – узнать позволительно? Не граф ли, Алексей Григорьевич?
– Он, точно.
– Говорят, богат?
– Чуточку имеет больше нашего! – засмеялся юный грузин.
К разговаривающим подошла цыганка.
– Ты, офицер, дай руку – погадаю!
Офицер подал. Внимательно и долго рассматривала цыганка руку молодого человека, потом оттолкнула ее.
– Ну… что ж? – спросил офицерик несколько смущенно.
– Тебе не надобно гадать… жалко… – проговорила неопределенно и угрюмо цыганка.
– А, да это любопытно! – воскликнул грузин. – Она гадает, но, наверное, плутует, как и все цыганки. Одна мне гадала… Представьте, господин офицер, она мне предсказала, что я буду большим генералом! Не смешно ли? Вам, господин офицер, сколько лет?
– Восемнадцать.
– Точь-в-точь и мне столько же. Но вот вы уже подпоручик, а я не только не подпоручик, но даже не умею порядочно взять в руки и ружья. Не смешно ли!
Офицер молчал. Его вовсе не занимали шутки незнакомца. Он более думал о том, отчего эта цыганка ему не сказала, а проговорила только «жалко». Кого жалко? Не его ли?
Все разошлись. Перед семьей цыган стояли только офицер и грузин. Последний с улыбкой смотрел на цыганку и побрякивал в кармане сюртука василькового цвета серебряными деньгами.
– Так и не скажешь? – решился спросить офицер.
– Не скажу! – резко проговорила цыганка.
Грузин рассмеялся:
– Да она и не знает ничего, господин офицер, напрасно беспокоитесь.
Цыганка вздернула головку и дерзко глянула на грузина. Тот, в свою очередь, вперил на цыганку насмешливый взгляд. Цыганка сжала губы.
– Без сомнения, – смеялся грузин, – она умеет так же гадать, как и мы с вами, господин офицер.
Цыганка озлилась.
– Я все знаю… все… ты врешь! – нагло проговорила она. – Ты!.. – обратилась она к офицеру. – Ты… какой сегодня день?
– Седьмое сентября, воскресенье, – сообщил грузин.
– Воскресенье… седьмое сентября… о, да… такой день. Он самый… – шептала как бы про себя цыганка…
– Ну, седьмое сентября… что ж дальше? – не отставал грузин, видимо, человек бойкий и веселого нрава.
– Он погибнет седьмого сентября! – произнесла пророческим тоном цыганка.
Грузин расхохотался. Но молодой офицер сразу побледнел и выпучил глаза на гадальщицу. Та не смотрела на него.
– Не пугайтесь, господин офицер, право, не пугайтесь! – хохотал грузин. – Ведь она врет! Ей соврать – все равно что с нас по одному рублю получить.
– Где ж он, рубль-то твой? – огрызнулась молодая гадальщица.
– Рубль? А вот он! – шутил грузин. – Плачу за музыку – хороша! Впрочем, можешь и погадать за тот же рубль – что ему даром-то пропадать.
Грузин кинул рубль старикам, который те подхватили на лету и долго потом кланялись.
– Так давай руку-то! – подошла ближе к грузину цыганка.
Тот со смехом подал свою правую руку. Цыганка недолго рассматривала руку грузина. А когда рассмотрела, то произнесла:
– Ты и теперь знатный, а будешь – еще знатней… много почестей… силы…
– А денег? – не переставал шутить грузин.
– Про деньги? Про деньги не знаю, – закачала головой цыганка.
– Вот тот-то, самое-то главное и не знаешь! Ну а умру когда – рассмотрела?
– Умрешь… тоже… седьмого… сентября, – удовлетворила его любопытство цыганка и села опять на землю.
– Вот, как говорится, два сокола под один выстрел! – смеялся грузин совершенно добродушно. – Не по дороге ль нам, господин офицер? – спросил он порядочно растерявшегося артиллериста. – Вы куда?
– Я тут… недалеко… туда, за пруд, – отвечал все еще смущенный офицер и указал рукою на луг, принадлежавший князю Грузинскому.
– Представьте, государь мой, и мне туда же, – сообщал словоохотливый юноша. – Пойдемте вместе. Уж коли погибать, так погибать один подле другого – по крайней мере сегодня, – болтал он беспечно и с улыбкою.
Офицер все еще глядел тревожно: слова цыганки-гадальщицы не на шутку смущали его. Он, однако ж, пошел рядом с незнакомцем, когда тот, покосясь с улыбкой на цыганку и погрозив ей пальцем, отошел от часовенки.
Некоторое время молодые люди шли молча. Они представляли между собой резкую противоположность. Офицер, в своем мундире с отворотами фалд спереди и сзади, был похож на молодого журавля. Грузин был широкоплеч, выступал бодро, и вообще вся его фигура дышала здоровьем и энергией.
– Какая смелая… цыганка эта… – проговорил наконец, как бы про себя и отвечая на свои мысли, молодой артиллерист.
– Надо правду сказать: бойкая, – подтвердил грузин. – Во всяком случае, должно быть, храбрее нас с вами, хоть и не училась, подобно вам, стрелять из пушек. Но заметили, – засмеялся весельчак, – как она прекрасно стреляет глазками. Держу пари, что она подстрелила ваше сердце, господин офицер.
Офицер смутился:
– Нет… нет… мне, право, не до того…
– А чертовски хорош, дьяволенок! – произнес грузин, чмокая губами. – Право, будь деньги, непременно постарался бы устроить судьбу этого прехорошенького чертенка.
– Разве вы бедны? – решился спросить офицер.
– Беден не беден, а уж, во всяком случае, не богаче вас.
– Я бедный дворянин… у меня ничего нет…
– Ну, и у меня столько же, хотя я немножко и выше дворянина.
– Выше… дворянина?
– Да… чуточку…
– Кто же вы?
– Я – князь.
Молодой артиллерист, отступив, робко посмотрел на князя.
– Чего испугались? Князь-то я безвредный, нестрашный. Я самый простой князь.
– Стало быть, цыганка не соврала: она назвала вас, князь, знатным, – проговорил офицер.
– Почему-то не ошиблась – надо правду сказать, но все остальное вздор, верьте мне.
– А ежели правда, князь? Ведь существовал же Задека, Нострадамус. Предсказывали – и сбывалось.
– Может статься, и сбывалось, но я решительно не верю этому. Но цыганки уж совсем-таки врут. Вот я сейчас иду к одному алхимику, который занимается астрономией и в то же время предсказывает. Если верить его предсказаниям, то я буду бедняком и умру в сарае. – Князь засмеялся. – Как это вам нравится – в сарае? И откуда – любопытно – он видит или увидел сарай? Чудак! Вот нынче же спрошу о дне смерти: не выйдет ли седьмое сентября…
– Вы шутите, князь, а предсказания иногда сбываются, – говорил, не глядя на князя, офицер. – С моей матушкой был случай…
– Ох уж эти случаи! – перебил князь.
– Право… вы не верите, князь?.. Так простая старушонка предсказала, предсказала, что она, моя матушка-то, умрет в Вознесеньев день…
– Ну и что ж?
– Точно умерла в этот день.
– И старушонка радовалась, что предсказание ее сбылось?
– Нет, она умерла раньше матушки.
– Странно… странно… – протянул с неопределенной улыбкой князь.
Офицер остановился:
– Мне сюда-с, налево, за дворец Грузинских… я живу у тетушки… Прощенья прошу, князь…
Молодые люди стояли против какого-то деревянного домика с мезонином. Окна в мезонине были открыты, и оттуда слышался какой-то неопределенный шум. Конечно, молодые люди не обращали на это внимания.
– Позвольте узнать: с кем имею честь? – спросил у офицера князь, делая приличный поклон.
Офицер отрапортовал:
– Подпоручик Егор Ильич Веретьев.
– Приятно быть знакомым. Я князь…
Князь недоговорил: над самым ухом его прожужжало, с тонким свистом, что-то резкое и горячее. Он почувствовал, что ухо его точно обожгло огнем. В этот же самый момент стоявший перед ним несколько наискось подпоручик Веретьев схватился, с коротким криком, за левую сторону лба и мгновенно рухнул на землю.
Князь, несколько растерявшийся, торопливо нагнулся над Веретьевым:
– Что с вами? Ранены? Куда? Откуда выстрел?
Вместо ответа князь увидал только перед собой кровь, дымящуюся теплом, совершенно белое лицо и необыкновенно вышедшие из орбит глаза. Глаза имели оловянный цвет, но в зрачках сверкали еще искорки жизни. На мгновение князь зажмурил глаза, чтобы не встречать этого страшного взгляда молодой угасающей жизни. Когда он снова взглянул на несчастного, то перед ним лежало уже одно бесчувственное тело.
Сердце князя заныло, холодная дрожь пробежала по всему телу. Ему показалось, что волосы на его голове поднимаются, а ноги подкашиваются. Боясь упасть, он приподнялся и огляделся вокруг. Вокруг было тихо и пустынно – нигде не виделось ни одного живого существа, улица точно вымерла. Смолк шум даже в мезонине.
– Какая странная, кровавая случайность! – произнес тихо князь и невольно взглянул на небо.
Небо заволакивалось осенними тучами, предвещавшими долгий и обильный дождь. С Пресненских прудов потянуло сырым холодом, и поблеклые листья на деревьях уныло зашелестели свою однообразную, тягучую песню.
И эти черные, надвигавшиеся с запада тучи, и этот унылый шелест деревьев, роняющих свой лиственный убор, и этот труп молодого человека, погибшего бог весть от чьей пули, – все это привело недавно веселого князя в такое тяжелое уныние, что он не произнес, а почти простонал:
– Какая грусть!.. Грустно-то как!.. Боже!..
Было уже совсем темно, и осенний ветер с мелким дождем с особенным унылым озлоблением носился по пустынным улицам Грузин, когда молодой князь постучался в калитку довольно обширного старого дома у верхнего Пресненского пруда. Ему тотчас же отперли.
– Что так поздно, князинька? – спросил чей-то дружеский голос с крыльца под широким навесом.
– История, да еще какая! – ответил князь, шагая к крыльцу.
– Хорошая? Дурная?
Приятели вошли в дом. Та комната, в которой они очутились, представляла весьма своеобразную и странную мысль, рядом с массою книг, толстых, в кожаных переплетах с застежками, лежали грудами какие-то замысловатые физические и химические инструменты и большие стекла. На стенах, на подставках, стояли чучела разных крупных птиц: орлов, коршунов, дроф, и между ними висело старое оружие. Весь пол был устлан тигровыми кожами. В углу ютился род какого-то жертвенника, прикрытого зеленым сафьяном. Посредине комнаты стоял громадный письменный стол, покрытый тоже зеленым сафьяном, и на нем, в страшном беспорядке, высились целые пирамиды громадных фолиантов в черных кожаных переплетах. На нем же стояла большая лампа, закрытая зеленым колпаком. В двух углах чернели высокие шкафы. Кое-где стояли жесткие кресла с высокими спинками. Вообще вся комната имела какой-то мрачный вид и была похожа на склад всякого старого хлама. Лампа тускло освещала эту комнату, и ее бледно-красноватый свет придавал комнате еще более угрюмости.
– Фу, как у тебя сегодня невесело, дяденька! – произнес, входя, князь.
– А когда ж у меня весело, дружок? – спросил хозяин дома и обладатель мрачного кабинета.
– Да всегда, только не сегодня.
– Да ты, дружок мой, сам что-то не таков, как всегда бываешь, – заметил хозяин. – На лице твоем я вижу некое тревожное выражение, да и голос твой что-то дрожит.
– Неужели? – несколько удивился князь.
– Поглядись в зеркало. Впрочем, может быть, причиной всего преинтересная история, о которой ты только что упомянул.
– История? Да, да, именно она, – отвечал князь, усаживаясь в кресло. – Но – история после. А теперь недурно было бы кофейку и трубочку. Правду сказать, оделся по-летнему, а ветерком-то и продуло, да и дождиком смочило немножко. Продрог.
– И поделом! – упрекнул хозяин. – Не обманывай в другой раз. Каков молодец! – обещался быть днем, а пришел чуть не в полуночь. Бабье мое уже давно разбрелось по своим углам, и сам я, признаюсь, уж и ждать тебя перестал. Хотел заняться Сведенборгом.
– То есть бесплотными силами, влиянием их на человека? – сказал князь, слегка улыбаясь.
– Молод ты еще смеяться, дружок, над предметами, которых не понимаешь! – проговорил хозяин с оттенком некоторой серьезности.
– Не сердись, дяденька, сегодня менее, чем когда-либо, я способен смеяться над таинственными путями природы. Сегодня я был свидетелем… Что ж вы кофейку-то, дяденька, да трубочку?
Хозяин в дверь приказал подать то и другое и, немедленно возвратившись к князю, спросил:
– Чего ты был свидетелем, говори? Ты уж что-то очень любопытно начинаешь, дружок мой…
– От вас, дяденька, от алхимика, выучился: вы тоже всегда начинаете таинственно и с заклятиями… Ведь правду говорю, Ираклий Лаврентьевич? – засмеялся добродушно молодой князь.
– Ах, неисправимый зубоскал! – пригрозил пальцем Ираклий Лаврентьевич. – Не люби я тебя так, шалуна этакого, право, оттрепал бы.
Подали кофе и трубку. Молодой князь, точно не замечая присутствия Ираклия Лаврентьевича, занялся сперва кофе, потом трубкой. Только затянувшись несколько раз любимым турецким табаком, князь поднял глаза на сидевшего перед ним, через стол, Ираклия Лаврентьевича, который во все время не спускал с него глаз.
– Дяденька, да что с вами! Вы так странно смотрите на меня! – заметил князь.
– Начинай свою историю! – серьезно проговорил старик. – Не смейся… сегодня не до смеха… Твои глаза сегодня так же меняют свой цвет, как меняли его глаза древней Ниссии. По этим изменениям я читаю многое.
– Ну, денек! – воскликнул, затягиваясь трубкой, молодой человек. – Думаю, что редко кому выпадают такие. Там – вздор не вздор, а что-то похожее на правду. Здесь – изменение цвета глаз и какая-то Ниссия. Да что это за Ниссия, скажите, пожалуйста, дяденька Ираклий?
– Ниссия… это была дочь бактрийского сатрапа Мегабаза, – отвечал спокойно старик.
– Ого, далеконько-таки хватили, дяденька! – не утерпел, чтобы не пошутить, князь.
Старик спокойно продолжал:
– Она была необыкновенная красавица, и что замечательнее всего: глаза ее меняли свой цвет, именно – зрачки. Царь Кандол женился на ней, и странное свойство ее глаз было причиною смерти последнего из Гераклидов и воцарения династии Мермнадов.
– Стало быть, влюбился кто-нибудь в эти чертовские глаза? – спросил князь.
– Ты не ошибся, именно – влюбился, – отвечал старик.
– Вроде, стало быть, троянской Елены?
– Отчасти.
– В первый раз слышу такую историю.
– Но ты не забыл о своей истории, – напомнил Ираклий Лаврентьевич.
– Ах да, история преинтересная.
Тут князь рассказал все, что с ним случилось возле Апшеронской часовенки, и далее, как был убит на его глазах, рядом с ним, молоденький артиллерийский подпоручик. Ираклий Лаврентьевич слушал князя с сосредоточенным вниманием и по мере приближения рассказа к развязке бледнел все более и более. Князь заключил рассказ свой сообщением, что выстрелил из окна мезонина какой-то сумасшедший и что ему, князю, немало-таки пришлось возиться с трупом несчастного подпоручика.
– В вашем вкусе история, дяденька Ираклий, как хотите, – закончил князь. – Признаюсь, однако ж, что конец истории смутил несколько и меня. Я впал даже в какое-то мрачно-идиллическое настроение, и была минута, когда я готов был поверить бредням хорошенькой цыганочки.
– Но не поверил! – сказал хмуро старик.
– Нет… зачем же…
– Напрасно.
Князь посмотрел на дядю Ираклия и заметил его бледность, но ничего не сказал. Вместе с бледностью нижняя часть лица старика слегка вздрагивала. По всему заметно было, что его что-то сильно волновало. Князь счел нужным помолчать, в свою очередь, сделал серьезную мину и, словно бы углубившись в размышления, стал меланхолически затягиваться трубкой.
Взял трубку и «дядя Ираклий». Он курил медленно и глядел в темный угол кабинета. Клубы дыма он выпускал дрожащими губами.
«Ну, – думал молодой князь, – старик впал в магию». Так обыкновенно молодой человек называл нервную задумчивость старика, которого называл дядей.
Молчание не прерывалось долго.
Расскажем, кстати, кто такой был «дядя Ираклий».
Ираклий Лаврентьевич, по фамилии Иванчеев, был по происхождению не русский: он был турок и попал в плен в первую турецкую войну, в 1769 году, при императрице Екатерине. Родился он где-то на берегах Тигра. В России он крестился, вступил в супружество с русской барыней, нажил небольшое состояние и поселился в Москве. От природы, как уроженец Аравии, пылкий и мечтательный, он был суеверен и мистик. В 1780 году Петербург посетил знаменитый европейский шарлатан Калиостро. Высшее петербургское общество было взволновано его появлением: своими сеансами он заинтересовал даже самого светлейшего князя Потемкина. Шарлатан добивался чести быть представленным великой императрице, но та не только не позволила пройдохе пробраться во дворец, но приказала выпроводить его из Петербурга. В самый разгар таинственных сеансов Калиостро Иванчееву пришлось быть в Петербурге. Он попал на сеанс, когда Калиостро вызвал из загробной жизни тени некоторых знаменитостей. Вызовы эти до того были обставлены хорошо, что на всякого, видевшего их, производили потрясающее впечатление. Суеверный Иванчеев ошалел и, поверив в могущество графа-шарлатана, добился с ним свидания. Во всю свою жизнь Иванчеев не сообщал никому, о чем у него шла речь с Калиостро, но только со дня этого свидания он забредил магией. В кабинете его начали появляться всякого рода физические и химические инструменты, черные ящики, какие-то благовония и книги вроде «Ключ к таинствам натуры» Эккартсгаузена, «Двенадцать ключей» Василия Валентина, «Бесплотные силы» Эммануила Сведенборга. Еще довольно молодой человек, Иванчеев уединился в своем кабинете и начал делать опыты. Несколько удачных опытов, несколько, хотя мелких, но удачных предсказаний окончательно и бесповоротно заставили Иванчеева сделаться подобием какого-то алхимика. В чаду химических опытов он как-то сразу постарел и осунулся. Лицо его, прежде красивое, с большими черными глазами, с типическими оттенками южного уроженца, приняло суровый и жесткий вид. Глаза как бы сузились и углубились в орбиты. Волосы поредели. Он стал носить зеленого цвета халат на меху, маленькую шапочку зеленого сафьяна и очки с зелеными стеклами. Про алхимика начали носиться в Москве таинственные слухи. Некоторые называли его Брюсом.
Мы застаем Иванчеева в пору его известности. Молодой князь, сидящий теперь перед ним, познакомился с Иванчеевым год тому назад. Старый алхимик, избегавший вообще коротких знакомств, полюбил молодого человека за его смелый, открытый характер, за его ум и даже добродушно прощал ему насмешки, иногда довольно резкие, над алхимией, за которую другого он не пустил бы на порог своего дома. Молодой человек нередко так же присутствовал при алхимических опытах Иванчеева, чего другим алхимик ни в коем случае не позволял. В этом отношении не было исключения даже для семьи. Молодой князь называл алхимика просто «дядя Ираклий».
Дядя Ираклий прервал молчание первый:
– Ты говоришь – цыганка… где она?.. Ты мне ее покажи…
– Да она просто нищенка и сидит у вашей Апшеронской часовенки, – поторопился ответить князь.
– Ты ее видел в первый раз?
– В первый.
Иванчеев покачал головой.
– Главное: прехорошенькая собой, – сообщил князь.
– Это вздор, – сказал алхимик.
– А что же не вздор? – подзадоривал князь алхимика.
– То не вздор, дружок мой, что она тебе сказала правду, – проговорил несколько резким и дрожащим голосом алхимик.
– Ну, уж как хотите, а этому я, дяденька, не верю!
– Не веришь? Прекрасно! – начал каким-то поучительным тоном алхимик. – Не веришь потому, что мало знаешь историю. Есть множество примеров в истории, что разным лицам предсказывали час их кончины, и это всегда сбывалось. Я могу по этому поводу насчитать тебе несколько имен. Пустынник Геродиан предсказал византийскому императору Маврикию смерть со всеми его детьми. Любимец кастильского короля Иоанна Второго, Альваро, знал день и час своей кончины. Ему это предсказал астролог, и он умер в предсказанный день – пятого июля тысяча четыреста пятьдесят второго года. Шотландский король Иаков Первый, осаждая город Перт, знал, что он умрет в стенах этого города. Генрих Второй умер на турнире – ему это было предсказано. Предсказана была смерть и Генриху Шестому. Достаточно, думаю, и этих примеров, чтобы ты хоть несколько прикусил свой язычок.
– Да ведь это, дяденька, все вычитано вами, – возразил молодой князь. – Вычитано у каких-нибудь Сваммердамов, Альбертов, Бемов и других господ, занимавшихся чертовщиной. Впрочем, что ж вы нашего Олега-то пропустили, дяденька?
Ираклий Лаврентьевич не обратил внимания на шутливое замечание князя.
– Наконец, я сам на себе испытал предсказание. Какая-то арабка предсказывала мне в детстве, что ежели я не утону, то умру не в своей вере. И точно: я раз, юношей, чуть ли не утонул в Евфрате, а что умру в православии – не подлежит сомнению.
– Уж если пошло на предсказания, то по этому поводу и я могу рассказать маленький случай, – сказал князь. – В Пятигорске я знал старика лет восьмидесяти. Он увидел черного таракана. Вот, говорит, смерть моя идет. В тот же день старик умер.
– И тебе это смешно! – произнес хмуро алхимик.
– Не смешно… да таракан-то при чем, дяденька! Тара кан-то!
– Довольно, умерь свою прыть, дружок мой! – проговорил серьезно и настойчиво старый алхимик. – Слушай.
Старик поправил очки и вскинул из-под них взгляд на князя. Князь сделал серьезную мину и сидел, как школьник, желающий внимать своему наставнику.
– Слушай. Ты должен выслушать меня, – продолжал, все более и более принимая серьезный вид, алхимик. – Сегодня новолуние – день, в который, по нашим вычислениям, можно сообщать добытые астрологией тайны. Будущая судьба твоя давно занимала меня. Я составил твой гороскоп. В первой четверти будущего девятнадцатого столетия совершатся в Европе великие события, явится великое знамение, появится великий человек, родившийся в год моего плена русскими, то есть в тысяча семьсот шестьдесят девятом году. Будет два года обильный урожай, прольется много крови, и среди этих необычных событий ты будешь из виднейших…
Старик умолк. Князь сделал еле заметную комическую гримасу. Тон алхимика готов был рассмешить его, и он удерживался только потому, что не желал оскорбить старика, которого он считал мономаном.
– Ну а вы, дяденька, где будете во время этих необычных событий? – не утерпел, чтобы еще раз не пошутить, молодой князь.
– Я буду свидетелем этих событий, – сказал, не поднимая головы, алхимик.
– Вы, дяденька, раньше говорили про мою будущность что-то другое… Впрочем, это все равно… – Князь встал. – Сообщу вам, Ираклий Лаврентьевич, новость: я решил поступить в военную службу.
– В военную? – как бы очнулся алхимик и тоже встал.
– В военную. Начну служить: по русской пословице: пан или пропал. Вот, вероятно, Ираклий Лаврентьевич, гороскоп ваш и предсказывает, что я буду вторым, а то, может, и третьим, а то, может, и четвертым… Александром Македонским!
Сказав это, молодой князь добродушно и заразительно расхохотался на всю мастерскую алхимика.
Разоренный год[36]
I. Великий корсиканец
Родился он игрой судьбы случайной И пролетел, как буря, мимо нас. Он миру чужд был. Все в нем было тайной – День возвышенья и паденья час… ЛермонтовПрошло много лет после тех маленьких событий среди маленьких людей, которые совершились в Грузинах. В свое время мы встретимся с героями тех событий. Теперь речь о других.
Прошло много лет, а вместе с тем пронеслось над миром и много знаменательных событий. Великой Екатерины на Руси не стало. Умер император Павел. Царствовал император Александр. Отгремел французский кровавый террор, но Западная Европа, под влиянием его, все еще волновалась и была полна неурядиц. Неурядицы эти задевали и Россию.
Сын неизвестного нотариуса города Аяччио, на острове Корсика, выплыл из ничтожества и потрясал своим оружием царства и троны. Мир удивлялся ему, и среди этого удивления что-то гнетущее висело над Европой. Начиналось нечто новое, нечто дотоле невиданное. Этот человек был для всех загадкой. Многие уверяли, что ему, во всех отношениях, суждено было изменить вид вселенной. Он породил много смут, но его оправдывали. Говорили: «Он гений, а гений тем и отличается от простых людей, что действует не для себя, но для человечества». Это был счастливый игрок, а мир всегда удивляется счастливым игрокам. У этого человека было много недостатков. Один из новейших великих людей, держащий Европу, вот уже лет пятнадцать, в осадном положении, выразился: «Обладая известными недостатками, легко добиться среди людей высокого положения, гораздо легче, чем человеку, одаренному всеми возможными добродетелями». Это вполне может относиться к великому корсиканцу. Слава бежала по пятам этого человека. А слава, по выражению одного знатока сердца человеческого, часто есть не более как торжество банальности. Популярность в большинстве случаев бывает синонимом вульгарности. Великий корсиканец в достаточной степени обладал тем и другим. Человека этого сделала мировым гением грубость, неразборчивость и посредственность, которыми он обладал в более высокой степени, чем грубость, неразборчивость и посредственность обыкновенных людей. Дело известное: человек, на долю которого выпал больший успех, но действующий и мыслящий, как действует и мыслит масса, становится любимцем толпы, приобретает славу. Наряду с ненавистным и презренным, человек этот, однако ж, обладал и необыкновенным величием. Смесь эта делала из него идола, которого современники не могли постичь, но на которого указывали как на новейшего Цезаря. В отношениях со всеми, не исключая и женщин, новейший Цезарь был откровенен до цинизма и – главное – ненавидел не слабости и пороки людей, а то глубоко развращенное фарисейство, которое прикрывает маской добродетели свою внутреннюю грязь. Он лгал, но лгал смело, как человек, сознающий свою неоспоримую силу, и его ложь была красива, обаятельна и достигала своей цели. Он был неумолим, жесток и говорил: «Милосердие далеко не завидная добродетель». Будучи жесток, он в то же время любил все, что располагает к мечтательности: песни Оссиана, подделанные Макферсоном, сумерки, меланхолическую музыку. Святыни для этого человека не существовало: он ни во что не верил, что могло быть свято и непостижимо. Зато был суеверен и верил в привидения. Иногда, приходя вечером из своего кабинета в салон своей жены, он приказывал надевать на свечи абажуры из белого газа и среди глубокой тишины рассказывал окружающим истории о привидениях или слушал, как рассказывали их другие. Истинное величие и истинное великодушие были ему совершенно чужды, он даже не понимал никакого вполне благоразумного поступка и гордился подобным свойством. Он говорил: «Знайте, что я не отступил бы ни пред какою низостью, если бы только она была мне полезна. В сущности, нет в этом мире ничего ни низкого, ни благородного. По натуре я низок – низок в полном смысле этого слова, и могу вас, – он говорил это Талейрану, – уверить, что нисколько не задумаюсь сделать то, что привыкли называть бесчестным поступком». По выражению госпожи Ремюза, придворной дамы его двора, место, где обыкновенно находится у человека сердце, оставалось у него пустым. Дам и девиц этот новейший Цезарь драл за уши, а на поле битвы – сорил людьми, как пешками. И что же? Этот новейший Цезарь, этот великий корсиканец, этот маленький капрал, этот Наполеон, наконец, глядел на славу глазами голодного лирика, приютившегося где-нибудь на чердаке. Он говорил: «Человеческая гордость создает для себя особую, для себя желанную публику в том идеальном мире, который называют потомством. Человек помышляет, что через сто лет красивый стих увековечит его славу, великолепная картина воспроизведет его подвиги, и тогда воображение его воспламеняется, поле битвы не представляет для него опасности, в громе пушек он слышит лишь звук, который через целое тысячелетие передаст его имя будущим поколениям!»
Человек с такою смесью ума и величия, дерзости и вкрадчивости, пошлости и неразборчивости, крайнего атеизма и суеверия среди своих современников-французов, утомленных блеском двора двух Людовиков и террором, не мог не стать выше всех головою, не мог не сделаться такого переходного поколения идолом! В нем, в этом маленьком корсиканце, странным образом соединился тип тщеславного придворного Людовика XIV, хотя он не вырастал при дворе, и тип солдата, готового всю жизнь провести среди бивачных огней. При всем этом он иногда падал в обморок, как женщина.
Такой человек был в высшей степени любопытен. Из любопытства вытекла своеобразная любовь. Мало было людей, которые бы не верили ему и не отдавались бы его прихотям. А сколько ничтожных людей он сделал героями! Сколько людей, веря в его счастливую звезду, положили за него головы! А он? Он смеялся надо всем этим, он презирал людей, он называл мир грязной бойней, сборищем скотов и мерзавцев.
И точно, по его прихоти, в угоду ему, Европа в десяток лет превратилась в чудовищную бойню: в наполеоновские войны погибло 2 600 000 французов и 3 500 000 других народностей, то есть всего 6 100 000 человек. Только эпидемические заразы могут отнимать у мира столько жизней. И в самом деле, какое близкое сходство существует между феноменальным характером поприща Наполеона и образом действий других язв, например эпидемического мора, имеющих такое же определенное назначение. Во все время, пока Наполеон исполнял его, ничто не могло устоять против него: самые дерзкие покушения удаются, как бы геометрическая необходимость, самая нерасчетливость и грубые ошибки обращаются для него в пользу и триумф. Но когда миссия его стала уже приближаться к выполнению, то последовал целый ряд невзгод: строго рассчитанные планы не удаются, обаяние начинает меркнуть, и наконец простой рассудок оставляет его. Бывший гений делает ошибку за ошибкой, но они производят уже не так, как прежде, полезные для него, а естественные свои пагубные последствия: кажется, сам он трудится на свою погибель… Под конец добычи уже не давались герою, миссия его была окончена, и он сам напоминал того сказочного, состарившегося волка, который сам искал своей смерти.
Странный человек! Загадочный человек!
Своей загадочностью этот человек многих пугал, и многие предвидели, что такая могучая слава вскружит ему голову и приведет к неминуемой гибели. Но были люди, и таких было более, которые верили его счастливой звезде, верили, что она не померкнет до гробовой доски его, и рабски берегли его. Особенно боготворили его женщины. Замечательный физиологический факт, подтверждаемый не одним современником: многие женщины во всех концах Европы до того были «влюблены» в Наполеона, что, не видавши его никогда, на веру изображений на портретах и деньгах, рожали детей, удивительно похожих на императора французов…
II. Комета
На комету 1811 года многие суеверные современники смотрели, как на какое-то предзнаменование.
АрагоЛето тысяча восемьсот одиннадцатого года отличалось почти повсеместно в Средней Европе тропическими жарами. Страшные засухи причиняли неурожай. Не избегла этой участи и Россия, особенно западная. Горели леса, на людях появились заразные болезни. Воздух наполнен был дымом. Почти во все лето солнце, не затемняемое ни малейшим облаком, являлось сквозь густой дым в виде большого раскаленного шара: от восхода до заката можно было смотреть на него невооруженным глазом.
В августе появилась комета. Появившись еле заметной ту манной звездочкой, с каждым днем она увеличивалась и становилась яснее и отчетливее. Наконец она превратилась в большую хвостатую звезду, свет которой был равен одной десятой света полной луны. Хвост ее был весьма блестящ, но постоянной длины не имел. По астрономическим измерениям наибольшая величина хвоста простиралась на сто семьдесят два миллиона двести тысяч русских верст. По глазомеру хвост кометы казался длиною сажени две, а шириною в конце около полуаршина.
С каждой неделей хвостатая звезда становилась все грозней. Народ в городах и селах России толпами глядел на эту чудную звезду и говорил:
«Божье знаменье!»
«Верно, прогневался Господь на нас, вот и послал звезду такую».
«Пометет она землю русскую».
«Согрешили уж не путем, ну вот и дождались».
К бедам народ русский чуток. Уже не было ни для кого на Руси тайной, что Наполеон что-то затевает против России. В сведущих кружках знали более, но как-то не верили надвигавшейся грозе. Еще весной 1810 года французский посол Коленкур был отозван Наполеоном из Петербурга за то, что обратил внимание императора Александра на властолюбие императора французов.
В день появления кометы, пятнадцатого августа одиннадцатого года, дипломатические отношения России с Францией были прерваны. Граф Нессельроде, негласно наблюдавший за ходом дипломатических переговоров, из Парижа выехал. Наполеон, как за предлог своего к России нерасположения, ухватился за только что составленный Россией тариф, который будто много вредил французской торговле. Сам император Александр был уверен в неизбежности новой войны с Наполеоном и решил сам предводительствовать армиями. Но по клонник Наполеона, канцлер граф Румянцев, думал противное: он до самого вторжения Наполеона в Россию полагал, что дело кончится миролюбиво. За свою недальновидность старый, болезненный канцлер был, и занимая должность канцлера, устранен от всякого участия в начинавшейся великой борьбе.
Пятнадцатое августа было знаменательным днем и для Наполеона: он в этот день родился.
Тотчас же после дипломатического собрания, на котором Наполеон в разговоре с послом Куракиным необыкновенно горячился и относился пренебрежительно, он отправился к собравшимся по случаю его дня рождения гостям.
Было довольно поздно. Пробираясь вместе с Мюратом, мужем своей сестры Каролины, в залы, где собирались гости, Наполеон был извещен о появлении кометы.
– Га, любопытно! – произнес он. – Где ж она?
Ему указали на небольшую хвостатую звездочку, которая только что освободилась из-за насевшей на нее тучки. Наполеон довольно долго глядел в свою зрительную трубу на появившуюся звезду, потом обратился к Мюрату:
– Посмотри.
Мюрат посмотрел.
– Ну, что?
– Явление, достойное внимания, ваше величество.
– Ха-ха! Еще бы! – засмеялся сухо император. – Надо пригласить какого-нибудь астролога: пусть растолкует, что это значит?
– Думаю, ваше величество, – сказал Мюрат, – что мы и сами можем объяснить ее появление.
– А ну, объясни.
– Появление ее именно сегодня, в день рождения вашего величества, неслучайное. Она путеводная звезда вашего величества.
– Куда?
– В Россию.
– Га, ты прав, Иоахим! Я думал то же самое. Но скажи: где ты научился такой удачной астрологии? Уж не в Пиренеях ли, в своей деревеньке Бастиде? Да?
– Да, ваше величество, – отвечал с добродушной улыбкой король неаполитанский. – Еще будучи пастухом, я узнавал по звездам многое.
– Прекрасно. Итак, Иоахим, дорогой затюшка, – Наполеон тронул Мюрата за плечо, – да будет эта звезда моей путеводной звездой в Россию!..
III. В черном покрывале
И вошла она тихой стопой: Кто она – он не знал и не ведал. Шотландская балладаТюйлерийский дворец сверкал огнями. Сотни гостей самых знатных и представители иностранных дворов собрались приветствовать императора французов, находившегося в то время в блистательнейшей эпохе своего могущества. Тогда он был средоточием надежд и опасений почти всей Европы.
Молодая императрица, Мария-Луиза, заменившая Наполеону отверженную Жозефину, с очаровательной предупредительностью принимала гостей и всякому находила сказать что-либо любезное. Среди гостей, наконец, появился сам император. Он тотчас же сделался центром, вокруг которого все толпилось и старалось высказать свою преданность. Император говорил мало, больше о пустяках, но его слушали со вниманием и всякому слову его придавалось великое значение. Он шутил с дамами, но шутки его отзывались казармой. Все вокруг него сверкало золотом, блистало драгоценными каменьями, но он сам одет был просто. По этому случаю он говорил: «Не всякий имеет право одеваться просто». Кто-то заметил, что император будто не в духе. Все общество притихло. Император уединился с Мюратом и сидел в задумчивости. Послышались тихие и медленные голоса итальянских певцов с едва раздававшимся аккомпанементом немногих инструментов. Наполеон любил подобное пение и музыку. После них становился более веселым и общительным. В самом деле, император, выслушав пение, стал несколько веселее. Он сообщил обществу о появлении кометы. Пошли толки, догадки, но все это делалось тихо, говорили все почти шепотом. Один только император когда говорил, то говорил громко, сопровождая свою речь резкими жестами и топая иногда ногой об пол. Чаще всего гости, особенно на домашних вечерних собраниях, не хуже царедворцев Людовика XIV, или хранили почтительное молчание, или были озабочены тем, как бы не сказать чего-либо такого, что могло не понравиться императору. Поддерживать разговор с ним, отстаивая против него свое мнение, считалось неслыханною дерзостью.
Комета заняла общество надолго, потому что сам император любезно поддерживал разговор. Он шутливо, с развязностью, присущею избалованным счастьем людям, передавал всем, что это его путеводная звезда, которая поведет его еще далее того, чем он зашел.
– О, я верю в свою звезду! – смеялся он. – Моя звезда мне никогда не изменяла. Даже сама смерть боится меня. Когда я – помните – выпал из коляски и ударился грудью о мостовую, то потому только остался жив, что не хотел умереть. «Не умру! Не умру!» – твердил я сам себе, пересиливая боль, и действительно…
Император вдруг остановился, медленно оборачиваясь к стоявшему подле него за креслом Мюрату.
– Опять она! – прошептал император.
– Кто, ваше величество? – наклонился к повелителю Мюрат.
– Да все та же… незнакомка…
Мюрат недоумевал.
– А, да ты не знаешь, ты не видал, – проговорил император и встал.
Он сделал Мюрату знак. Тот последовал за ним. В кабинете император сказал:
– С некоторого времени, Иоахим, мне попадается на глаза какая-то странная особа. Она женщина и хороша собой. Я ее много раз видел в церкви, в Сен-Клу. Все это ничего, и в этом ничего нет занимательного. Но занимательно то, что она два раза предупреждала меня о грозившей мне опасности. Откуда она знала их? Раз она предупредила меня, чтобы я не ездил в коляске на лошадях, подаренных мне прусским королем. Тебе известно, что в коляске найдена была бомба. В другой раз, – что тебе тоже известно, – совершился взрыв в улице Сен-Никез. Таинственная незнакомка и при этом случае заранее подала мне записку, чтобы я не ездил улицей Сен-Никез в оперу. Теперь я вижу ее снова, и мне кажется, что она пробралась во дворец и очутилась среди моих гостей недаром. Как она пробралась сюда? Поди, приведи ее ко мне. Мне надо с ней поговорить.
– Но… ваше величество, приметы этой особы? Я ее не знаю, не видал.
Наполеон задумался.
– Приметы? Правду сказать, я и сам недостаточно рассмотрел ее. Но сегодня она в черном покрывале. Волосы в локонах, прекрасного каштанового цвета. Ты сам увидишь… ты найдешь… Она совсем не похожа на наших придворных дам.
Мюрат быстро удалился. Не прошло и двух минут после его ухода, как дверь в императорский кабинет тихо отворилась. Наполеон оглянулся, думая, что возвратился Мюрат. Вместо Мюрата он увидал перед собой загадочную незнакомку. С видимой целью спрятать свое лицо она стояла в тени.
– А, вы здесь! – произнес любезно император. – Подойдите сюда, садитесь. Я очень рад, что счастливый случай привел вас ко мне.
Незнакомка не трогалась с места.
– Император, – послышался ее тихий голос, полный какого-то таинственного, пророческого смысла, – не ходите в Россию: на вас обрушится вся Европа. Не ходите.
– Милое дитя! Откуда вы знаете это? – спросил император и хотел подойти к незнакомке, но той уже у двери не было.
Император вспыхнул:
– Черт возьми, да это какая-то фурия в прекрасном образе!
Он хотел выйти, но навстречу ему вышел Мюрат и сообщил, что таинственной незнакомки нигде не отыскано.
– Как не отыскано! Она у меня была сейчас же! – воскликнул император.
– Была?! – удивился Мюрат. – Но где ж она?
– Только что вышла. Но ты не беспокойся искать ее. Что ей надо было сказать, она сказала: еще раз предупредила меня об опасности.
– Какой, император? – воскликнул пылкий Мюрат, готовый тотчас же идти навстречу всякой опасности.
– Пустяки! Узнаешь на полях России… – принужденно рассмеялся император.
IV. Над Березиной
В глухой лесистой стороне, среди болот и озер недалеко от Бобруйска, на берегу реки Березины, раскинулась богатая красивая барская усадьба. Громадный дом – род замка – с колоннами и статуями, во вкусе знаменитого архитектора графа Растрелли, стоял на крутом возвышении и далеко был виден со всех сторон. Обширный сад и парк обложили его своим зеленым кольцом, так что дом-замок казался поднимающимся среди вершин могучего леса. Два ряда старых и толстых тополей указывали дорогу к замку, которая сперва тянулась берегом Березины, а потом уже, круто поворачивая, пролегала под сенью тополей. Замок сверкал белизной и со своим высоким, крытым ярко-красною черепицею, и со своим высоким ярко-бронзированным шпилем казался издали каким-то заброшенным в глуши храмом. Глушь в самом деле вокруг замка тянулась на десятки верст. Прямо перед фронтоном замка, за Березиной, расстилались с мелкими заводьями болота. По ним росла некрупная ольха и такой же осинник. Далее стеной стояла хмурая сосновая дебря. Вправо от замка тянулись поемные луга с небольшими березовыми лесками, влево – поля, нивы, среди них озера и опять лес, то смешанный, то сосновый. Позади замка, тотчас же за парком, раскинулась небольшая деревенька с довольно хорошенькими и чистенькими домиками, посреди которой возвышалась беленькая как снег часовенка. Собственно, это была не деревенька, а нечто подобное, там жили вовсе не крестьяне, а дворовые замка, и там отводились помещения для наезжавших в замок незначительных гостей. Там же проживали и другие особы, служившие при замке не в качестве слуг, но в качестве артистов. За деревенькой снова начинался почти бесконечный лес, сливавшийся с пинскими болотами.
Невзирая на окружающую замок угрюмую природу, он носил название – Веселая Ясень. В замке Веселая Ясень в самом деле жилось шумно и весело. Владетель его граф Ромуальд Валевский любил пожить хорошо и буйно, и потому у него и другим, кого он только приглашал к себе, жилось также хорошо и привольно. О привольном житье в Веселой Ясени шла молва по всей Белоруссии. Пиры в Веселой Ясени были так же известны, как и пиры в былое время в знаменитом Шклове генерала Зорина. В Веселой Ясени всегда можно было найти десятка два каких-либо авантюристов, пользовавшихся хлебосольством графа и проживавших в замке, как у себя дома. Причина этого заключалась в том, что и сам граф Валевский, вопреки своему званию и состоянию, был отъявленный авантюрист. Он, по словам Костюшки, был в Америке, блуждал там по бесконечным пампасам – степям Южной Америки, поросшим густою и высокою травою, чуть не попался в плен к индейцам и возвратился снова в Европу. Из Европы он попал на Мадагаскар, где вместе с другим авантюристом, Фиялковским, правил островом в качестве какого-то министра. Потом он служил в войсках Наполеона и, дослужившись до капитанского чина, кинул Францию и возвратился на покой в свою родимую Литву. Тут-то и началась его веселая жизнь в родовом замке. В своих пирушках он подражал пирушкам тех пышных магнатов, которыми так гордилась Польша и Литва в прошлом столетии. Во всех других отношениях он был полный космополит, за что многие польские патриоты порицали его и даже за глаза называли изменником. Граф знал об этом и от души смеялся. Он был настолько умен, что уже не верил ни в какое возрождение Польши, по крайней мере, в том политическом виде, в каком она существовала до 1794 года. Над герцогством Варшавским, созданным Тильзитским миром, он просто глумился. В то время такого рода взгляд среди поляков, возлагавших много надежд на французского императора, был не только странен, но даже небезопасен. Графа предупреждали, графу делали заявления, что его образ мыслей неудобен и в будущем не обещает ему ничего хорошего, но граф молчал или, при случае, открыто не сочувствовал польским бредням. При этом он не сочувствовал ни России, ни Наполеону, надвигавшему войска на западные наши границы. Он любил Наполеона, как хорошего искателя приключений, но в постоянство счастья его не верил и говорил: «Я перестану верить в Бога, если этому человеку суждено спокойно умереть на престоле». Все, знавшие графа близко, решили, что он выжил из ума, и вследствие этого многое ему прощали, хотя ни в каком прощении граф не нуждался. Он жил в своих Веселых Ясенях в высшей степени самостоятельно и даже из своего замка задавал обществу тон. Так называемая введенная Наполеоном континентальная система прекратила в Россию ввоз всякого рода дорогих тканей. В шелковых и шерстяных материях и тонких полотнах почувствовался положительный недостаток. Граф первый в своей местности отказался от роскоши: вместо сюртука из дорогого английского сукна он надел холщовую венгерку, сделал такой же плащ и фуражку. Когда граф появился в таком костюме, то все посмотрели на него с изумлением. Вскоре, однако ж, в такие же венгерки нарядились и другие, а потом – это сделалось в крае всеобщею модою, и одеваться иначе считалось дурным тоном. Граф изгнал также со своего стола французские вина, которых доставка сухим путем обходилась весьма дорого, и заменил их напитками местного производства. С графом несколько примирились. Но что более всего примиряло всех с графом, так это его хлебосольство, чисто славянское – открытое и доброе, и все его хлебосольством пользовались до излишества. Так и говорили в Могилевском наместничестве: «Голоден, иди к графу Ромуальду – накормит».
V. Бедная певица
Она была бедна, ничтожна, неизвестного происхождения, но обладала красотой и пела – о, она восхитительно пела!
ПанаевСо стороны России в двенадцатом году, казалось, все приготовления были в наступательной войне с Наполеоном: войска стояли на рубеже России. Главная квартира первой армии, под начальством Барклая де Толли, находилась в Вильно. Начальник второй армии, князь Багратион, имел главную квартиру в Пружанах. Третья, западная, армия, под начальством генерала Тормасова, находилась в Дубно и окрестностях. На реке Двине, при Дриссе, был устроен укрепленный лагерь. В Риге крепость была приведена в оборонительное состояние. Построена новая крепость – Динабургская, расширены и исправлены крепости – Бобруйская и Киевская. Были заложены весьма важные магазины в Белостокской области и в Гродненской губернии. Наконец, сам император Александр, покинув резиденцию, приехал к войскам в Вильно. Литва приняла императора с благодушием, и многие польские магнаты, обвороженные приветливостью и добротою русского монарха, предлагали ему объявить себя владыкою Польши. Такое отношение литвинов встревожило даже Наполеона, находившегося в Дрездене, и он послал от себя резидента, который бы мог противодействовать влиянию в крае русского правительства.
По поводу пребывания императора в Вильно польские магнаты, сторонники России, наперерыв старались устраивать балы и пирушки. К числу их принадлежал и граф Ромуальд Валевский, хотя он и не был ничьим сторонником. Ему просто нужен был случай.
О пребывании русского императора в Вильно граф получил известие в Веселых Ясенях.
– Прекрасный случай! – сказал он. – Я уважаю русского императора за его необыкновенную доброту. Почту его, как умею.
Граф приказал созвать как можно более гостей и как можно веселее устроить оргию. Посланные поскакали сзывать гостей во все концы. Гости не заставили себя долго ждать. На другой же день в Веселые Ясени наехало столько народу, что едва хватило места для размещения всех прибывших. Некоторые приехали для того, чтобы хорошо поесть и попить за графский счет, некоторые – узнать кое-что о совершающихся событиях, так как граф, невзирая на то, что жил в глуши, получал одному ему ведомым путем все новейшие известия из политического мира. Назначены были: музыка, пение и катание на шлюпках, для чего у графа были свои музыканты, трубачи, певцы и певицы, свои хорошо устроенные шлюпки на Березине. Тихий и мирный замок вдруг наполнился шумом, гамом, беготней. В саду и парке послышались звонкие голоса и смех. Среди гостей было немало женщин и девушек, привезенных мужьями, отцами, матерями и братьями. Сам граф принимал гостей приветливо и радушно. На замке развевался флаг.
– На этот раз я покажу вам, господа, московское чудо, – сообщал граф гостям.
Все недоумевали, что это за «московское чудо», и ждали.
С утра третьего дня замковый колокол сообщил гостям о начале пирушки. В громадной, с колоннами под малахит, зале были устроены столы. В этой же зале, в глубине, находилась сцена. Рядом была очищена другая зала под танцы. Пирушка началась провозглашением самим графом странных тостов за благоденствие и процветание острова Мадагаскара, потом Америки. И все выпили за благоденствие Мадагаскара и Америки, решительно не понимая в этих тостах смысла. Затем граф провозгласил тост за двух философов: Руссо и Вольтера, и двух императоров: Александра и Наполеона. После этого граф предоставил всем право провозглашать тосты за кого угодно. Граф гостей не стеснял: в его замке этикета не существовало – всякий делал, что ему угодно и когда угодно.
К концу завтрака, который, помимо завтрака, можно было назвать чем угодно, когда гости запивали жирные и вкусные блюда старым венгерским, на сцене появилось «московское чудо».
Чудо это было – оригинальной красоты девушка, не то цыганка, не то грузинка, с необыкновенно крупными черными глазами. Она была одета в какой-то странный костюм – смесь красного с желтым, что придавало ей еще более оригинальности. Красота ее и статность – признак великолепного сложения форм – сразу поразили всех. Молодежь ближе придвинулась к сцене. Старички зорко приглядывались на красавицу.
– О, граф всегда доставляет гостям что-нибудь необыкновенное! – слышалось среди гостей.
Дамы, молча, выжидали.
Цыганка запела. Она пела какую-то венгерскую песенку, в которой только и слышалось «гой» да «гей», но эти «гой» да «гей» настолько были чарующе поразительны в устах певицы, что, когда она окончила, восторгам всех присутствующих конца не было. Восторгались кавалеры. Восторгались дамы. К графу приступили рассказать, откуда он добыл такое чудо.
– Из Московии, – говорил граф.
– Но как такое сокровище могли отдать вам?
– О, она мне стоит сто тысяч злотых! – смеялся граф.
На самом деле певица эта графу ничего не стоила. Незадолго перед этим граф был в Москве. Человек по-своему оригинальный, граф имел обыкновение таскаться по разным закоулкам Москвы с целью приглядываться к русской жизни, которая его занимала своеобразным складом. Возле какого-то кабачка стояла толпа народа и слушала певицу, которая кривлялась на рваном коврике. Граф подошел к кабачку. Голос певицы поразил его. Она пела бойко, пела какую-то скабрезную песенку в русском вкусе и с тамбурином в руках прыгала, как коза. Собравшаяся толпа восхищалась и делала свои замечания уже совсем нескромного свойства. Певица не обращала на замечания внимания, точно не понимая их, и продолжала петь и вертеться. По окончании пения она обходила толпу, молча подставляя тамбурин. Толпа разошлась. Певица подошла к графу: граф кинул в тамбурин золотой.
Певица подняла на него удивленные глаза.
– Мало? – спросил граф. – Так вот еще.
В тамбурине звякнули еще два золотых.
Певица обезумела от радости и, схватив руку графа, стала покрывать ее поцелуями.
Граф отдернул руку – ему почему-то показалось это неловким. Певица благодарила.
– О, Бог поможет барину, много поможет! Я за барина буду Бога молить.
Валевский заметил, что певица была очень хороша собой, хотя голод, вероятно, и наложил на ее молодые щеки свою печать. Особенно поразили графа ее глаза.
– Ты откуда? – полюбопытствовал граф.
– О, я того не знаю, барин! – произнесла она тихо. – Говорят, здешняя… цыганка… да в табор не принимают…
Граф спросил об ее имени. Звали певицу Ульяной Рычаговой. Оказалось, что жила она у какого-то отставного солдата, в конуре. За десяток золотых солдат уступил певицу графу, спросил только, где она будет жить. Граф отправил Ульяну к себе в Веселую Ясень, где она, к удивлению других артистов графа, оказалась и хорошей музыкантшей, и превосходной певицей. Привольная жизнь в замке Валевского необыкновенно выровняла Улю, выгладила, и она сделалась лучшим украшением Веселых Ясеней.
VI. Вместо цветка – бриллиант
Кого же утро не смутит! Чье сердце не забьется, Когда листва зашелестит, Восток зарей зажжется! КрасовКак только свечерело, назначенное катание на шлюпках состоялось. Это была вполне барская потеха. На протяжении версты с лишком по течению Березины раскинулись, разукрашенные зеленью и цветами, шлюпки, в которых помещалось десятка четыре гостей Валевского. На передней шлюпке, в бархатных кунтушах, ехали трубачи. За ними тянулась шлюпка с певцами и певицами. Затем уже скользили шлюпки с гостями. Сам граф с певицей Улей и с двумя какими-то шутами, старавшимися смешить графа, сидел в отдельной лодке. По его знаку на передней шлюпке грянули трубачи. Березину точно всколыхнуло. Где-то далеко, на левом берегу, начало отзываться эхо, переливаясь и перекатываясь подобно глухому барабанному бою, так что казалось, играет не один хор трубачей, а несколько. Трубачи играли недолго, оборвав быстро, кроме охотничьего рожка, который долго держал дрожащую грустную ноту и слился с голосами певцов, затянувших хор из модной в то время оперы «Павел и Виргиния». До поздних сумерек шлюпки скользили по водам Березины. На долю хорошенькой Ули снова выпал большой успех. Вечером в залах – тоже. Казалось, все как будто сговорились восхищаться только одною ею. Графа это тешило, и он от души был рад, что угодил своим гостям. Пирушка продолжалась до рассвета. С рассветом гости кое-как разбрелись по своим местам.
Графу не спалось. Отослав слугу спать, он вышел в сад. Старое венгерское туманило его голову и волновало кровь. Пробираясь липовыми и кленовыми аллеями в глубину сада, он раз десять твердил одну и ту же венгерскую поговорку, касающуюся этого старого, любимого в Польше напитка:
– Нет напитка, кроме вина! Нет вина, кроме венгерского! Нет венгерского вина, кроме того, которое воспитано в Польше!
Повторяя это, граф насвистывал и чувствовал, что он еще не скоро покончит с любимым напитком. В жилах его еще текла горячая кровь. Графу Ромуальду было ровно пятьдесят лет, но он был бодр, здоров, румянец не сходил еще с его щек, и еще ни одна сединка не пробралась в его голову и в его длинный ус. Он глядел молодцом и красавцем. Он был вдов. Не одна маменька, имевшая взрослых дочерей, смотрела на графа с тайной, смутной надеждой, но граф решил остаться одиноким вдовцом. На это у него были какие-то свои причины, о которых никто не знал. Граф много шалил на своем веку, дрался даже раз шесть на дуэли из-за каких-то вольных красавиц Варшавы и Парижа, и эта привычка к шалости еще не угасла в нем.
Заря занималась все более и более. Висевший над Березиной туман редел. Какая-то птичка проснулась первая над самой головой графа в ветвях громадного вяза и запела с такой торопливостью, как будто старалась скорее отделаться. Вокруг графа все было пусто. На пути ему попадались одни влажные от росы скамейки. Потянуло холодом – графа обдало дрожью, но он продолжал углубляться и был уже в парке. На повороте одной дорожки, сквозь деревья, ему кинулась в глаза освещенная зарею часть какого-то домика. Граф совершенно машинально начал приближаться к домику и припомнил, что он в нем поместил хорошенькую певицу. Легкая улыбка скользнула по губам графа, он повернул и хотел было идти назад, но остановился в раздумье и пошел дальше. Первые лучи солнца уже пробрались в парк и, сквозя между деревьями, ложились яркими полосами на землю. В траве закипела жизнь. Граф медленно двигался к дому, не то в раздумье, не то в каком-то благодушном настроении счастливого здоровьем человека. Ему дышалось легко. К домику певицы, потонувшему в зелени, с более крупной дорожки вела дорожка узенькая с кустами жасмина по сторонам. Только что граф повернул на эту дорожку, как лицом к лицу встретился с Улей. Граф, удивленный, остановился. Уля немного перепугалась. Она смотрела на графа – и из больших глаз ее светились лучи доброго и робкого света.
– Как рано встаете! – заметил граф, заговаривая с ней почти в первый раз со времени приезда ее в Веселую Ясень. Граф своих артистов видел редко и почти не знал: это было дело управляющего. Уля среди них не составляла исключения. Граф только удивился ее голосу. В первый раз он обратил на нее особенное внимание вчера. «Гм! – подумал он тогда, – красавица, достойная внимания!»
Уля стояла перед ним с непокрытой головой, в белой холстинковой курточке, обшитой золотым позументиком; синяя юбка спускалась до земли. В этом бедненьком наряде Уля казалась особенно милой и полной здоровой свежести. Все это не ускользнуло от пытливого взгляда графа, и он молча и несколько бесстыдно любовался ею. Уля краснела до ушей и не знала, куда девать свою особу. Чтобы хоть несколько успокоить смущенную девушку, граф разговорился.
– Хорошо вам у меня? – спросил он.
– О, совсем хорошо! – произнесла искренне Уля.
– А чем?
– Граф добр ко мне и ко всем.
– А еще?
– Такой жизни, как у графа, я прежде не знала.
– А петь тебе не трудно? – Граф подчеркнул слово «тебе» и произнес его с особенной ласковостью в голосе, что, впрочем, Уля не заметила, так как тонкости языка были ей чужды.
– А это у тебя что? – обратил граф внимание на грудь певицы, хорошо округленную, здоровую, на которой, в крошечной петельке курточки, торчал французский ноготок.
– О, это цветок, граф! – переконфузилась Уля, так как палец графа слегка коснулся ее груди.
– Брось его.
Уля медленно вынула из петельки ноготок, помяла его в руке и кинула в сторону.
– Взамен ноготка вот мой маленький подарок.
Граф вынул из борта своей серой суконной венгерки крупную бриллиантовую булавку и пришпилили ее к груди певицы.
Та окончательно растерялась. Граф вздрогнул раза два, как человек, пронимаемый холодом, потер руки и попросил Улю, если есть, напоить ее кофеем.
– О, то можно, граф, у меня есть! – заторопилась Уля, точно радуясь, что и ей представился случай услужить графу, и простодушно веря, что граф в самом деле продрог.
Граф последовал за Улей в ее домик, стараясь держаться сзади: он не мог отказать себе в удовольствии видеть девушку именно в таком роде. Уля шла тяжело, ступала крепко, и при этом стан ее своеобразно качался. Оригинальность эта, соединенная с неуклюжестью, графу нравилась: он не сводил глаз с молодой девушки.
Солнце стояло уже высоко, когда граф вышел из домика певицы. Вид он имел утомленный, и лицо его краснело пятнами. Заспанный слуга искал графа по саду. Оказалось, что к графу прискакал из Гродно посланный. Это был малый из татар, которые в то время служили у литовских помещиков передатчиками писем и посылок. Друг графа, через посланного, сообщил о переходе Наполеона через Неман, в пределы России, и предупреждал, чтобы граф остерегался победоносных гостей, так как они с имуществом обывателей не церемонятся. Новость эта графа нисколько не удивила. Что Наполеон будет в России – он знал. Знал также и то, как служивший в армии Наполеона, что солдаты его привыкли к своевольству и грабежу. Зато новость эта обрадовала многих из гостей графа. Большинство поляков видели в Наполеоне какого-то своего спасителя.
В полдень того же дня в графский замок прискакал новый курьер. Это был русский офицер из второй армии.
Граф Сен-Пьер, начальник штаба второй армии, любезно сообщал графу из Бобруйска, что в Веселой Ясени, по маршруту, назначена временно главная квартира второй армии. В заключение граф просил графа не оставить начальника второй армии, князя Багратиона, своим гостеприимством.
С тем же посланным граф Валевский с не меньшей любезностью отвечал Сен-Пьеру, что он рад дорогим гостям.
Гости графа, узнавшие об этом, поторопились убраться восвояси. Они вовсе не считали русских дорогими гостями.
VII. В Вильно
На начинающего Бог!
Изречение имп. Александра I– Война с французами неизбежна! – сказал император Александр в начале весны двенадцатого года.
Необходим был необычайный рекрутский набор.
Государь призвал вице-адмирала Шишкова.
– Я читал рассуждение твое в любви к отечеству, – встретил его государь. – Имея такие чувства, ты можешь быть ему полезен. Напиши манифест о наборе.
Вскоре после этого появился известный манифест, начинающийся словами:
«Настоящее состояние дел в Европе требует решительных и твердых мер».
Со всех концов России к западным ее границам потянулись с этого времени войска. Из Петербурга туда же выступила гвардия.
Вслед за гвардией на шестой неделе поста, во вторник, в самую распутицу, отправился из Петербурга в Вильно и государь со своею свитою. Его сопровождали: канцлер Румянцев, князь Кочубей, граф Аракчеев, граф Армфельдт, маркиз Паулуччи Шишков, заменивший Сперанского в должности государственного секретаря, генерал Пфуль, граф Нессельроде и многие другие.
Вильно, древняя, расположенная на холмах столица литвинов, представляла в то время громадный воинский стан. Во круг города, по его холмам и лощинам, среди его дубрав, по берегам красивой Вилии и маленькой Вилейки, подобно стаям лебедей, белели палатки собравшихся войск. Всюду грохотали барабаны, гремели марши и сверкали мундиры разных войск. Дороги заставлены были обозами. Везде дымились бивачные огни и бряцало воинское оружие. Из ближних селений в город сгоняли множество рогатого скота. Повсюду сновали прыткие казаки.
В самое Вербное воскресенье, четырнадцатого апреля, император был уже в Вильно. Весь генералитет, на вид блестящий и единодушный, а втихомолку завидующий друг другу и интригующий во главе с военным министром Барклаем де Толли, ожидали государя у заставы и провожали его под пушечные выстрелы до дворца. Во дворце государь принимал депутации от разных виленских обществ. На другой день он в сопровождении свиты гулял по городу пешком. Пасха прошла в беспрестанных удовольствиях и балах. Народу в Вильно съехалось множество. Не желая тревожить общественного спокойствия, государь при всяком удобном случае говорил, что он надеется на сохранение мира, и этому охотно верили, так как переговоры между императорами все еще продолжались. Между тем смотры войскам шли своим чередом, шли как-то сдержанно, тихо, как перед бурей. Государь говорил мало, как бы присматривался ко всему, уединялся часто в своем кабинете. В великой голове его созревала великая мысль. Весть о подписании в Бухаресте четвертого мая первых условий мира с турками произвела на государя приятное впечатление: руки его развязывались, можно было действовать смелее. В половине мая государь отправлялся для обозрения войск, расположенных в Шавлях и в Вилькомире. Затем он ездил за Неман.
Лето было в полном развитии своем – погода стояла превосходная. При всеобщих разнообразных удовольствиях все почти забывали о враждебном намерении Наполеона – вторгнуться в Россию.
Двенадцатого июня в Закрете – прекрасном парке подле Вильно, на берегу Вилии – у генерала Бенигсена, известного победителя под Прейсиш Эйлау, был назначен бал. Весь цвет виленского большого света, весь генералитет собрался на этот бал. На бал приехал и сам государь в мундире гвардейского Семеновского полка.
В этот же вечер на противоположном от Закрета конце Вильно, в предместье Снипишки, в просторной горнице довольно обширного дома, собралось общество офицеров. Все это были большей частью люди молодые и собирались для того, чтобы сыграть партию в бостон или лабет, распить бутылку-другую вина, а кстати, потолковать и о текущих политических событиях. Понятно, что сосредоточием всех речей были два императора и окружающие их штабы. Хозяин дома, Алексей Петрович Ермолов, незадолго перед тем назначенный начальником гвардейской дивизии, был душою всего общества. Он только что приехал из Свенцян, где расположена была его дивизия. Молодой, расторопный, счастливый успехом, он весело смеялся и уверял, что Наполеон идет в Россию покушать русских калачей – не более, и что он ими подавится в Смоленске.
– Вы шутите, Алексей Петрович, а мне думается: Наполеонов поход – не шутка, – скромно заметил молодой поручик гвардейской артиллерии Граббе, впоследствии известный граф.
– Не шутка! – забавно серьезничал Ермолов. – А почему вам так кажется, добрейший Павел Христофорыч?
– Да уже потому, что Наполеон не какой-нибудь взбалмошный Густав Шведский.
– Вы правы, с ним шутки плохи, но все ж таки его наши смоленские девки жгутами отдуют, – продолжал шутить Ермолов.
– Как бы не отдул он нас самих.
– Нас? Доблестных россиян? Ну, нет, с этим я не соглашусь, Павел Христофорыч, как хотите! Помилуйте: у нас Дрисский лагерь, крепость Динабургская, крепость Рижская! Столько крепостей, – смеялся Ермолов, – и нас отдуют! Ого-го! Это уж не много ли будет для маленького капрала! Господа, так ли я говорю? – обратился Ермолов к гостям.
– Так! Так, Алексей Петрович! – отозвалось несколько голосов. – Немцы в крепостях, а нас бить будут! Ха-ха-ха!
Более других хохотал адъютант Барклая, Сеславин, молодой человек с орлиным носом и выразительными глазами. Он был порядочно навеселе, и шутки Ермолова ему весьма нравились.
– Алексей Петрович, это верно! Это точно! – говорил он, смеясь и запинаясь. – Немец – крепость, мы – пушечное мясо, по выражению канальи корсиканца! Но все ж нашу кровь дешево не купишь, Алексей Петрович! Нет! Нет! О, черт возьми! – начал горячиться, размахивая руками, адъютант. – О, черт возьми! Да пусть придет к нам эта распротоканалья! Да пусть придет к нам этот изверг рода человеческого, Бонапартка…
– Пришел! Пришел! – раздался чей-то трусливый, хриплый голос.
Все разом смолкло. Офицеры кинули карты. Сеславин остановился на полуслове и обратил помутившиеся взоры к двери. Там стоял хозяин дома, жидок Хаим Цукерман, маленький, жиденький, в старом лоснящемся лапсердаке.
– Кто пришел? Где пришел? Пришел? Когда? – послышались со всех сторон голоса.
К жидку подскочило несколько человек. Впереди всех был Сеславин. Он схватил Хаима за борт лапсердака.
– Кто пришел? Говори! – спрашивает он грубо. – Уж не ты ли?
– Я пришел, да и он пришел… ой, ой! – ежился жидок под сильной рукой Сеславина.
– Да кто, чертова голова твоя?
– Да он самый… сам он…
– Кто?
– Наполеон… – выговорил жидок с трудом.
– Какой Наполеон? – брякнул спьяну Сеславин.
– Тот самый, который шел, – объяснил Хаим.
– К черту Наполеона! – закричал адъютант, видимо смутно понимая, о чем идет речь.
– Сеславин, тише, погодите, – подошел к Сеславину Ермолов.
Все в тревожном ожидании столпились вокруг Хаима.
Оказалось, что из Ковно, бог весть каким путем, пробрался какой-то жид Соломон, торгующий контрабандными шкарпетками. Этот Соломон сообщил другому Соломону, корчмарю на литовском тракте, о переходе французских войск через Неман. Соломон-корчмарь сообщил об этом другому корчмарю, караиму из Трок, Аврааму. Авраам передал эту новость жене своей, Саре. Сара передала о том другой Саре, жене Хаима Цукермана. А уж Хаим пришел с этой вестью к господам офицерам.
– Ты не врешь? – серьезно спрашивал у жидка Ермолов.
– Ой, ой! Зачем же врать! – уверял Хаим. – Соломон еврей честный. Другой Соломон еще честнее. А уж Абрам – еврей на все Троки: такого еврея нигде больше нет.
– А! Каково, господа! – обратился Ермолов к гостям. – Ведь известие точно не шуточное. Но удивительно: что же делают наши казаки? На кой черт пикеты после этого, если мы такие важные известия получаем от жидов.
Известие это всех поразило, как громом. Некоторые известию не верили. Но большинство сознавало, что тут не до того, чтобы рассуждать. Почти молча начали офицеры расходиться. Ермолов торопливо стал собираться в Закрет с роковым известием. Сеславин, ругая Наполеона, тоже ушел вслед за другими. Недавно шумная горница вдруг опустела.
На балу государь танцевал с девицей Тизенгауз. В самый разгар бала туда явился Ермолов. Он сообщил о слышанном прежде всего Барклаю.
Министр отозвал Ермолова в сторону.
– Правда ли, Алексей Петрович? И стоит ли беспокоить государя? – спросил, всегда сдержанный и тихий, Барклай.
– Мне думается, что такого рода известия не терпят отлагательства, – подчиненно заметил Ермолов министру.
– Думаете? – помолчав, произнес Барклай и сообщил донесение Ермолова государю.
Государь, расчетливый во всех своих действиях и малейших движениях, даже и виду не подал, что известие взволновало его. Он только слегка побледнел и продолжал быть на балу, хотя и недолго. В то время как он покинул бал, садился в коляску, с известием о переходе Наполеона через Неман прискакал и казачий офицер, гонец из аванпостных отрядов атамана Платова.
Из дворца государь тотчас же послал за Шишковым. Было два часа ночи – тот самый час, в который Наполеон появился на берегах Немана.
– Поспеши, – сказал государь входящему секретарю своему, – написать приказ моим войскам и к Салтыкову, в Петербург, о вторжении неприятеля в наши пределы. Да непременно упомяни, что я не помирюсь с ним до тех пор, пока хоть один неприятельский воин будет оставлен в нашей земле.
Тринадцатого июня роковая весть о вторжении неприятеля в русские пределы пронеслась повсюду. Четырнадцатого, на заре, государь оставил Вильно. Шестнадцатого, с некоторым беспорядком, началось отступление наших войск, сперва из города, потом из окрестностей. Совершилась первая стычка нашего арьергарда с передовою французскою цепью, в которой был взят в плен, израненный пикою, будущий и лучший историк кампании двенадцатого года граф Сегюр.
«Так начался, – говорит современник и очевидец вторжения, – страшный смертный пир, коего шумный отголосок должен был передавать из века в век, рушить царства, почитавшиеся непоколебимыми, утвердить могущество полагавших себя на краю гибели и поставить порабощенную Европу на новых основаниях».
Между тем как страшная суматоха происходила на западной границе России, два манифеста государя, от тринадцатого июня, с неимоверной быстротой разносились по всем концам России.
«Французские войска, – объявлял один из них, – вошли в пределы Нашей Империи. Самое вероломное нападение было возмездием за строгое соблюдение союза. Я, для сохранения мира, истощал все средства, совместные с достоинством престола и пользою Моего народа. Все старания Мои были безуспешны. Император Наполеон в уме своем положил твердо разорить Россию. Предложения, самые умеренные, остались без ответа. Нечаянное нападение открыло явным образом лживость подтверждаемых в недавнем еще времени миролюбивых обещаний. И потому не остается мне иного, как поднять оружие и употребить все, врученные Мне Провидением, способы к отражению силы силою. Я надеюсь на усердие Моего народа и на храбрость войск Моих. Будучи в недрах домов своих угрожаемы, они защитят их с свойственною им твердостью и мужеством. Провидение, благослови праведное наше дело. Оборона Отечества, сохранение независимости и чести народной принудили нас препоясаться на брань. Я не положу оружия, доколе ни единого неприятельского воина не останется в царстве Моем!»
Другой манифест гласил:
«С давнего времени замечали Мы неприязненные против России поступки Французского императора, но всегда кроткими и миролюбивыми способами надеялись отклонить оные. Наконец, видя беспрестанное возобновление явных оскорблений, при всем Нашем желании сохранять тишину, принуждены Мы были ополчиться и собрать войска Наши. Но и тогда, ласкаясь еще примирением, оставались в пределах Нашей Империи, не нарушая мира, быть токмо готовыми к обороне. Все сии меры кротости и миролюбия не могли удержать желаемого Нами спокойствия. Французский император, нападением на войска наши при Ковно, открыл первый войну. Итак, видя его никакими средствами непреклонного к миру, не остается нам ничего иного, как, призвав на помощь свидетеля и защитника правды, Всемогущего Творца небес, поставить силы Наши противу сил неприятельских. Не нужно Мне напоминать вождям полководцам и воинам Нашим о их долге и храбрости: в них издревле течет громкая победами кровь Славян. Воины! вы защищаете веру, отечество и свободу. Я с вами. На начинающего Бог!»
«На начинающего Бог!» – сказал вместе с своим императором и весь народ русский.
VIII. Отступление
Мы долго, молча, отступали, Досадно было, боя ждали, Ворчали старики: «Что ж мы? на зимние квартиры? Не смеют, что ли, командиры Чужие изорвать мундиры О русские штыки?» ЛермонтовНеожиданный и быстрый переход Наполеона через Неман не только изумил русскую армию, но и поставил ее в довольно неопределенное положение, исхода которого никто не знал и не предвидел.
Первая армия – Барклая, – преследуемая по пятам французским арьергардом, безостановочно отступала к Дриссе, к укрепленному лагерю, недостатки которого обнаружились тотчас же при вступлении туда передовых корпусов.
Все потеряли головы – и не знали, что делать, что предпринять.
Первая растерялась квартира главнокомандующего. Интриговавшие перед тем и делавшие множество советов некоторые члены штаба вдруг приутихли и просили сами советов.
Начальник главного штаба, маркиз Паулуччи, один из беспокойнейших, был заменен Алексеем Петровичем Ермоловым.
Отступление русских было так торопливо, что, наконец, неприятель остался далеко позади, и они принуждены были посылать партии отыскивать, где он находится.
Во время пребывания армии в укрепленном Дрисском лагере, где все же думали дать отпор неприятелю, было получено одно весьма важное известие, мгновенно изменившее ход дела.
На первом переходе армии, в местечке Неменчиве, военный министр призвал к себе расторопного ермолаевского адъютанта Павла Граббе, и приказал ему немедленно, кратчайшим путем ехать навстречу войскам второй армии, князя Багратиона, и передать, чтобы войска усиленными переходами старались соединиться с первой армией, не допуская себя отрезать. Соединение это оказалось невозможным. Шестидесятитысячный корпус маршала Даву шел на Минск и разъединил армии. Князь Багратион поэтому отказался от направления на Минск и на Вилейку, как было предложено ранее, и пошел на Бобруйск и Могилев.
Услышав это известие от Павла Граббе, государь, с выражением нетерпения, воскликнул:
– Это неправда! Быть не может! Даву здесь против меня, а князь Багратион имеет от меня другие приказания!
Скромный, доселе почти незаметный, вестник заявлял, что за точность этих сведений он отвечает головою. Он говорил: действительно часть войска взята у Даву и направлена к Дриссе. Но маршалу даны новые войска из армии короля Вестфальского и других корпусов.
Известие это изумило государя.
– Теперь о скором соединении армий и думать нечего! – произнес он и отдал приказание о немедленном выступлении армии к Полоцку.
На третий день армия была уже в Полоцке, за исключением первого корпуса под командой графа Витгенштейна, оставленного прикрывать Петербург.
Дела принимали весьма неблагоприятный оборот. Все в главной квартире притихло и выжидало. Государь был молчалив, ровен и среди окружающих себя людей искал способных быть полезными ему и отечеству при таких трудных обстоятельствах. Он остановился покуда на Ермолове.
Призвав его к себе, государь сказал:
– Чрезвычайные обстоятельства, в которые теперь поставлена Россия, несогласия в главной квартире и между главнокомандующими вынуждают меня иметь подробные и по возможности частые известия о всем том, что будет происходить в армии. Я уезжаю в Москву. Поручаю вам, по моем отъезде, извещать меня письмами о важнейших происшествиях в армии. Надеюсь, что выбор мой пал на человека достойного.
– Всегда был и буду предан моему государю, – отвечал его величеству Ермолов, – весьма обрадованный такого рода поручением.
В сопровождении немногих лиц государь отправился в Москву. Все поняли, что окончательно решено беспрерывное отступление…
IX. В саду
Как очаровательна природа и как злобны люди!
РуссоЗамок графа Валевского, в течение многих лет наполнявшийся громом чар да криком пирующих гостей, наполнился вдруг совершенно иным громом и совершенно иными криками: по всем залам его раздавалось звяканье шпор, сабель, ружей и слышались голоса военных людей. Все это торопилось, бегало, кричало, приказывало. У замка ежеминутно грохотала пальба и трещали барабаны. Войска и обозы тянулись мимо Веселых Ясеней и точно пропадали в его лесах, по его пустынным дорогам.
Весь этот шум и гам происходил оттого, что в замке находился князь Багратион – главнокомандующий второй армией – с блестящим своим штабом.
Князь шел из Пружан. Выйдя оттуда для соединения с первой армией, он быстро был окружен неприятелем и должен был брать всякий свой шаг вперед с бою. Положение его было поистине критическое. Он расчел марши свои так, что двадцать второго июня главная квартира должна была быть в Минске, авангард далее, а партии уже около Свенцян. Но его, по предписанию Барклая, повернули на Новогрудок и велели идти – или на Белицу, или на Николаев, перейти Неман и тянуться к Вилейке. Князь пошел, хотя и писал, что этим путем идти невозможно, так как три неприятельских корпуса уже были на дороге к Минску и дороги сами по себе были непроходимыми. В Николаеве князь перешел Неман. Но оказалось, что в Волочине, куда должны были направляться войска, была уже главная квартира Даву, и князь рисковал потерять ее. Он снова кинулся на Минскую дорогу, но и та была уже занята войсками короля Вестфальского и Понятовского. Князь направился к Бобруйску.
Раздраженный неопределенным положением, теснимый со всех сторон неприятелем, князь затеял горячую переписку с главной квартирой первой армии, в которой предлагал решительные меры и желчно сетовал на Барклая. Ему мало внимали. Князь злился и даже несколько раз совершенно искренно отказывался от командования второй армией.
В Веселых Ясенях князь получил уведомление от Ермолова, что соединиться армиям желательно бы в Смоленске.
– Боюсь, – сказал он при этом графу Сен-При, – чтобы и в Смоленске меня не обманули. Я приду туда, а их уже там и не будет.
– Неужто Ермолов шутит! – произнес Сен-При. – Не думаю, князь.
– А! Христос с вами! И он уже сделался дипломатом на все руки, мой любезнейший! Не верится что-то и ему! – недовольным тоном заметил князь. – Сами видите, граф, как дела идут. Мы проданы. Я вижу, нас ведут на гибель. Я не могу на все равнодушно смотреть. Уже истинно еле дышу от досады, огорчения и смущения. Я, ежели выберусь отсюдова, тогда ни за что не останусь командовать армией и служить. Стыдно носить мундир. Ей-богу, я болен! А ежели наступать будут с первою армиею, тогда я здоров. А то что за дурак! Министр сам бежит, а мне приказывает всю Россию защищать и бить фланг и тыл какой-то неприятельский. Если бы он был здесь, ног бы своих не выдрал, а я покуда выхожу с честью.
– Это точно, князь, что нас поставили здесь в положение каких-то беглецов, – сказал Сен-При, – и благодаря только вам мы довольно удачно увертываемся от неприятеля.
– Беглецов! Именно – беглецов, граф! – воскликнул Багратион, играя нагайкой, которая висела у него через плечо. – Я волосы деру на себе, граф, что не могу дать баталии! Хорошая баталия хоть несколько бы остановила пыл Бонапарта, хотя, говорят, он только и желает того, чтобы сразиться с нами!
– Я тоже нахожу, князь, что баталия необходима, – проговорил Сен-При с выражением сдержанного недовольства на что-то и на кого-то. – Тут бы Суворова надо, не Барклая, – с тонкой, хорошей усмешкой заметил далее граф.
Крепкое, старое лицо Багратиона, с полузакрытыми, мутными, как будто не выспавшимися глазами, мгновенно оживилось. Багратион боготворил Суворова. Первые успехи князя совершились именно под знаменами великого русского полководца, который подарил ему даже свою шпагу, видя в нем своего преемника. Князь Багратион гордился этим подарком, и точно, честолюбивый, смелый, умный, но почти ничему не учившийся, избалованный счастьем, считал себя таковым. Намек графа Сен-При польстил ему.
– Суворова! Именно Суворова, граф! – подтвердил горячо Багратион. Глаза его из мутных каким-то внутренним оживлением вдруг превратились в ясные, твердые, с выражением ястребиной хищности и презрения. Горбинка его длинного восточного носа слегка вздрагивала. – Суворова! Именно Суворова, граф! – повторил Багратион, произнося слова с своим восточным акцентом. – О, Суворов бы напомнил Бонапарту силу русского оружия, как он напоминал ее в Италии! Но его нет… нет, граф! И русская сила с течением обстоятельств находится в руках человека, который стоит ниже своего назначения!
Князь намекал на Барклая, которого издавна любил. Сен-При слушал Багратиона с тем вниманием, которое ясно говорило, что он согласен со всем тем, что слушает.
Князь, с графом долго еще говорили по поводу текущих событий и почти во всем соглашались. Граф Сен-При был в высшей степени способный человек, а такие люди имели на Багратиона влияние и нередко злоупотребляли его доверием. Граф был тонко любезен, льстив. Грубоватый князь поддавался чарам этой любезности и лести. Хорошо воспитанный человек имел дело с простой, способной натурой, и воспитание как-то само собою брало верх.
Вечерело, июньский день подходил к концу. Вошел адъютант Багратиона, бравый, краснощекий, с веселым выражением в лице, полковник Муханов, и доложил князю, что хозяин дома, граф Валевский, просит откушать его хлеба-соли.
Князь только тут вспомнил про хозяина и даже забыл, что он не видал его совсем. Условия военной жизни, торопливость, с которою главная квартира переходила с места на место, лишали Багратиона возможности, вообще любезного и предупредительного, повидаться с хозяином дома. Впрочем, граф Валевский и сам почему-то нигде не показывался.
При встрече Валевский и Багратион обменялись обычными любезностями, причем последний извинился, что за множеством хлопот он не успел еще доселе повидаться с ним. Граф, в свою очередь, извинился, что он принимает гостя не так, как бы следовало.
Ужин прошел довольно торопливо, но отчасти и весело. Любезнее всех был сам хозяин. Он рассказывал несколько весьма грубых, но переданных изящно анекдотов про Наполеона. Багратион смеялся. Все вторили ему. Оркестр беспрестанно на игрывал то один польский: «Александр, Елизавета, восхищаете вы нас», то другой: «Гром победы, раздавайся». В заключение было пито шампанское; провозглашен тост за здравие императора Александра, потом за здравие самого князя Петра Ивановича Багратиона, причем по заранее сделанному распоряжению услужливого графа Сен-При, один из певчих Валевского прочел давние, глупые стихи поэта Николаева, написанные в честь Багратиона, когда он возвратился из австрийского похода.
Славь тако Александра век И охраняй нам Тита на престол. Будь кунно страшный вождь и добрый человек, Рифей в отечестве и Цесарь в бранном поле. Да счастливый Наполеон, Познав чрез опыты, каков Багратион, Не смеет утруждать Алкидов русских боле.Князю понравилась эта грубая лесть: она напоминала ему прием, сделанный ему же в Москве, в Английском клубе, в 1809 году, но он почел за нужное сказать, обращаясь к Валевскому:
– Граф, напрасно… это уж лишнее…
Валевский на это любезно улыбнулся и махнул по направлению к сцене носовым платком.
Оттуда послышалось тихое, невидимого хора, пение:
Тщетны Россам все препоны, Храбрость есть побед залог, – Есть у нас Багратионы, Будут все враги у ног!Князь несколько переконфузился. Кто-то крикнул «ура». За ним повторили другие. Багратион, веселый, с блистающими глазами, слегка раскланивался…
На другой день было назначено выступление главной квартиры по направлению к Чаусам, и потому, как сам Багратион, так и его штаб, скоро разошлись, поблагодарив хозяина за гостеприимство.
Скоро в замке все успокоилось. Но по берегам Березины и вокруг замка посты бодрствовали. Кое-где горели костры и поминутно раздавалось протяжное «слу-ша-ай»!..
Наступившая ночь была светла, как день. Сад, окружающий замок, стоял точно околдованный. Деревья не шевелились. Широкий садовый пруд лежал неподвижным стальным пластом, величаво отражая в лоснящейся мгле своего глубокого лона и всю воздушную бездну неба, и опрокинутые темные деревья, и часть замка. Круглый лик полной луны то отражался ясно в пруде, то вытягивался в длинный, сверкающий блестками сноп. На одной из дорожек сада показался Валевский. Он был в своей неизменной венгерке и шел медленно – он шел к домику Уленьки по той самой дорожке, на которой он встретил свою певицу поутру, несколько дней тому назад. Дорожка эта стала графу особенно мила своей пустынностью, и он не пропускал уже случая, чтоб не прогуляться там – особенно ночью…
Князь Багратион имел обыкновение вставать очень рано. Вставая, он никого не беспокоил, сам одевался и выходил на прогулку.
Солнце только что поднялось из-за далеких лесов. Князь вышел в сад и начал ходить медленно по всем дорожкам, прислушиваясь к шуму расположенных по Березине и поднимавшихся в поход отрядов. Чуткое ухо его различало все распоряжения и команды, до него доносился звук оружия, крик солдат и ржание лошадей. Потом все это смолкло, но послышался тупой гул от двигавшихся масс людей и обозов. Отряды уходили торопливо, и потому вскоре стало вокруг тихо. Недавно вставшее солнце неярким светом пробиралось в сад. Заблестели росинки, засверкали и зардели крупные капли, задышало все свежестью утра. На ближних полях раздались рассыпчатые голоса жаворонков. Мокрая трава пахла, и чистый летний воздух переливался прохладными струями. Хорошо стало князю. Грудь его дышала легко, ровно. Он сел на скамейку под громадной серебристой тополью и с наслаждением прислушивался к пробуждающимся звукам утра. Вот, не торопясь, точно перекликаясь, затараторили почти над самой его головой две птички. Вот зашелестела густой своей листвою тополь, и князю показалось, что вдруг заспорило несколько человек чуть слышным шепотом. Вот затрещали в высохшей траве кузнечики, вот запела, точно зарыдала о покинутом счастье, пеночка…
«Как очаровательна природа и как злобны люди!» – припомнил князь – сам один из злобствующих – слова Руссо.
Вдруг до его слуха донеслись неясные звуки струнного инструмента. Князь прислушался и различил, что кто-то играет на цимбалах. Звуки усиливались, трепетали и переливались, и потом как-то враз, целым потоком пронеслись по саду.
Князь поднял голову, насторожил ухо. Звуки не прекращались.
– Что это – сон? Нет, нет… – прошептал князь и вдруг, порывисто встав, направился в ту сторону, откуда слышалась игра на цимбалах…
X. На склоне лет
В ее очах, алмазных и приветных, Увидел он, с невольным торжеством, Земной эдем!.. Как будто существом Других миров – как будто божеством Исполнен был в видениях заветных. ПолежаевС того самого утра, как граф Валевский, встретившись с Уленькой, выпил у нее несколько чашек кофе, те маленькие комнатки, где она помещалась, необыкновенно преобразились. Прежде пустые и скучноватые, они теперь были наполнены всякого рода дорогими безделушками и дышали той уютной роскошью, которой умеют обставлять свои жилища только одни женщины. С радостью, свойственной неожиданно разбогатевшему человеку, Уленька по нескольку раз в день, на первых порах, пересматривала и перебирала особенно нравившиеся ей вещицы, вертела их в руках, любовалась ими, старалась разгадать, как и из чего они были сделаны. При этом цыганская порода ее сказалась вполне: она более всего восхищалась блестящими или ярко раскрашенными предметами. Красный цвет она предпочитала всем другим.
Граф Ромуальд от души смеялся над этим вкусом своей певицы и не препятствовал ей обставлять комнаты по ее желанию.
Изменилась несколько и сама Уленька. Она стала более резвой и веселой, играла и пела более чем прежде. Граф Валевский по целым часам слушал ее, молча и улыбаясь. Ему нравилась эта маленькая идиллия, начатая так недавно и так мило отзывавшаяся в его сердце.
В первое утро граф просто хотел пошалить, как он шалил обыкновенно, где бы ни был, но в то же утро к шалости примешалось какое-то новое чувство, которое не покинуло его и доселе.
Граф до мельчайших подробностей помнил все, что произошло в то утро.
Уля ввела его в свою комнатку и не знала, где посадить. В комнатке было бедно. Бледный свет утра, пробивавшийся сквозь небольшие окна, ложился на все матовыми полосами и еще более увеличивал ее невзрачность. Оглянувшись, граф брезгливо поморщился. Он никогда не заглядывал в жилища своих служащих и потому не знал, как они живут. Граф довольствовался одной наружной красотой их помещений и полагал, что и внутри так же хорошо, как и снаружи. Он оглядывался и не знал, где присесть. В комнатке стояли только табуретик да скамейка у небольшого столика. Граф уже сожалел о том, что вошел в такое помещение.
Сконфуженная и растерявшаяся Уля суетилась.
– Туто вот, пан, туто, – указывала она на скамеечку и покрыла скамеечку маленьким ковриком.
Граф не садился. Тонкая неподвижная улыбка не сходила с его губ. Он все оглядывался.
– О, граф! Тут у меня все так не хорошо, не прибрано, – извинялась Уля, – да я ж не знала, что граф заглянет ко мне, а то я бы прибрала.
Уля говорила своим порывистым, но мягким голосом, напоминавшим звуки виолончели. Звуки этого голоса как-то странно, но вместе с тем приятно щекотали ухо графа. Он сел на скамеечку, но осторожно и медленно.
Рассветало все более и более.
– О, я сейчас, сейчас подам графу кофе! – сказала Уля и скрылась за дверью, шелестя своим платьицем.
Не переставая улыбаться, точно какая-то забавная мысль не покидала его, граф обернулся к окну и совершенно машинально распахнул его. В ту же минуту с соседних деревьев, с громким щебетаньем, сорвалась многочисленная стая воробьев и уселась, толкаясь и пища, на подоконниках флигелька. Более всего их вертелось у распахнутого оконца; некоторые, более смелые, совсем-таки лезли к рукам графа. Невообразимо безалаберный писк одушевлял всю эту массу маленьких храбрецов. С каждой минутой их прибывало все более и более – они сыпались откуда-то точно проливной дождь.
– Вполне идиллия! – произнес граф, отыскивая глазами, что бы можно было посыпать крикливым гостям.
На глаза ничего не попадалось. Вошла Уля с засученными по локоть рукавами. Опытный глаз Валевского сейчас же заметил красоту этих засученных рук.
– Прочь, прочь вы, негодные! – замахала Уля руками на воробьев. – Прочь, а вот я ж вас! А вот я ж вас! – продолжала она махать руками, так как воробьи и не думали покидать окна, а, напротив, несколько из них, из назойливейших, влетели даже в комнатку и шныряли повсюду.
Графа это заняло.
– Нет, вы не гоните их, зачем же?
– Да ведь они ж мешают графу.
– Нисколько, право, нисколько, – говорил граф, следя за изгибами махающих Улиных рук. – Им бы что-нибудь посыпать, хлеба, зерен. У вас есть?
– Вот тут хлеб – крошки, вот они.
Уля вытащила из-под столика ящик с крошками хлеба и метнула горсть за окно. Часть воробьев, шурша крыльями, устремилась туда.
– А, да это занимательно! – сказал граф. – Позвольте мне самому их накормить, а вы уж похлопочите о кофе.
Почти с полчаса граф возился с воробьями: кидал им крошки, прислушивался к гневному их щебету, любовался их возней. Чашка кофе уже стояла перед ним, а сама Уленька, как-то успевшая переодеться, ожидала, когда граф перестанет забавляться прирученными ею буянами-воробьями.
Наконец граф обернулся к Уленьке:
– О, да сколько у вас друзей, моя маленькая! Право, я вам завидую. В таком пернатом обществе, с такими крикунами, я думаю, вам превесело.
Уля, краснея, объяснила, что воробьи ее очень любят и каждое утро и каждый вечер собираются у ее окон и что они, правда, много развлекают ее.
Граф прихлебывал кофе и не сводил глаз с Уленьки. Сверх ожидания, кофе оказался превосходным. Граф попросил другую чашку. Уленька торопливо принесла. За второй граф выпил третью чашку. Комнатка бедной певицы начала казаться ему занимательной, даже в своем роде приятной.
«Странно, – думал он, – что я до сих пор не обращал на эту девушку внимания! Черты ее лица очень хороши и напоминают облики древних изваяний. Плебейка – и такое сокровище! Впрочем, тип у нее несколько цыганский, однако ж она напоминает и нечто греческое или, в крайнем случае, грузинское, вообще – что-то восточное».
Он еще внимательнее, точно вещь, начал разглядывать Улю. Та поняла это и зарделась до ушей, не опуская, впрочем, глаз, в которых сверкало что-то смелое до дерзости.
Граф почувствовал, что кровь приливает ему в голову, а все тело охватывает какое-то восторженное опьянение. Он встал, прошелся раза два по комнатке и сел рядом с Уленькой. Та не шелохнулась на своем месте. Граф взял ее за руку. Рука Уленьки горела, как в огне. Не то с удивлением, не то с испугом она смотрела на графа во все свои глаза и недоумевала, что с ним такое сталось.
Граф между тем был в совершенно возбужденном состоянии, что случалось с ним довольно редко. Он часто брался за голову, нервно вздрагивал и так же нервно улыбался. Уля стала страшиться за графа: ей показалось, что он болен. Она стала выражать нетерпение. В самом деле, глаза у графа в эти минуты были почти помешаны, руки судорожно дрожали, все тело вздрагивало.
Уля вдруг встала. Сильное смущение было заметно во всей ее фигуре, во всех ее движениях.
– С вами недоброе делается, граф! – сказала она дрожащим голосом.
– Что?.. Что?.. – как бы очнулся граф и медленно встал.
– Я пойду… позову людей…
– Людей? Зачем! Не надо! – проговорил торопливо граф. – Я один с тобой хочу быть, один! И ты не уходи. Садись.
Граф посадил Улю на прежнее место. Та беспрекословно села, но лицо ее мгновенно нахмурилось и приняло какой-то своеобразный, решительный вид.
– А! Ты, вижу, зла, любишь кусаться! – начал граф каким-то прерывистым голосом. – Зачем это? Не будь злой. Я злых не люблю…
– Граф! Граф! – прошептала Уля. – Я девушка безродная, я одна, я девушка бедная…
– Бедная? Какой вздор! Ты так же богата, как и я… Не ты у меня в гостях – я у тебя. Да, тебя зовут Улей – Ульяной по-русски… Какой вздор!.. Ульяна… Совсем незвучно… Я буду звать тебя Реввекой… Ты не еврейка, но это все равно, по крайней мере – поэтично и звучно… Тебе нравится имя Реввека, скажи? – приставал граф… – Реввека и Ромуальд?! Как прекрасно! Это все равно что – Ромео и Юлия!
Уля не понимала графа. Она все более и более таращила на него глаза, что еще более раздражало графа. Граф очень хорошо понимал, что с ним происходит, и, радуясь этому настроению, проявлявшемуся у него весьма редко, как можно долее намеревался продлить его. Это было с его стороны нечто искусственное, но в то же время для него невыразимо приятное.
– Да, я буду тебя звать Реввекой! – повторил граф. – А ты… ты просто зови меня Ромуальдом. Я для тебя не граф теперь, ты для меня – не бедная певица, не танцорка, не плясунья театральная, ты для меня теперь – нечто больше всего этого… несравненно больше… Постой! Что же ты молчишь, не отвечаешь ничего? – медленно взял граф Улю за руку. – Реввека, говори со мной!
Уля низко опустила голову, пылая вся в лице и стараясь сохранить спокойный вид.
– О, граф! Я бедная девушка… – снова чуть слышно произнесла она и немного отвернулась от графа, так, что ему она видна стала вполуоборот.
«Какой профиль! – мысленно восклицал граф. – Нет, нет, я не могу поверить, чтобы она была простой плясуньей. Тысячу раз допускаю, что она нечто выше этого»!
Граф быстро шагнул к Уленьке и крепко взял ее за плечо. Та вздрогнула и стала на ноги.
– О, точно, точно Реввека! – воскликнул граф с невыразимой страстностью, откинув голову несколько назад, но не снимая с Уленькиного плеча руки. – Античная красавица вполне! Га, черт возьми! – закричал он вдруг громко, волнуясь и порывисто дыша, – красота не должна быть в дрянном одеянии! Прочь все! Долой все!
На Валевского нашло какое-то жгучее исступление. Рука его судорожно смяла в комок находившееся под ней полотно сорочки – и плечо Уленьки обнажилось.
Уленька не вскрикнула, не подала ни малейшего голоса негодования, но здоровые пальцы ее с дикой яростью впились в борт графской венгерки… Несколько мгновений граф почти задыхался…
– О, прелестное утро! Прелестное утро! – восклицал после этого утра часто Валевский.
Почему-то осталась довольна тем утром и сама Уленька. Для нее то утро тоже прошло в каком-то угаре, и при воспоминании о нем она вся вспыхивала от удовольствия.
Для графа Валевского сделалось чем-то необходимым посещать каждым утром – именно утром – свою Реввеку. Уленька-Реввека встречала его с той простой, милой предупредительностью, которою в совершенстве обладают любимые и влюбленные женщины. Во всем замке и в окружности еще никому не было известно об отношениях графа к своей певице, хотя ни граф, ни сама Уленька вовсе не старались придавать этому особенной таинственности: граф потому, что вообще человек был бесцеремонный и открытый, Уленька – по своей врожденной простоте. Таинственность соблюдалась как-то сама собою. Впрочем, если бы отношения графа к певице и стали известны, то едва ли бы ими так интересовались, как в обыкновенное время: все были заняты Наполеоном, его войсками, предстоящими битвами, и всякий втихомолку, а то и открыто дрожал за свое имущество и за свою шкуру. Переход Багратионовой армии через Веселые Ясени еще более усугубил этот страх, все приутихло и попряталось, ожидая грозы.
Не обращал ни на что внимания один владелец Веселых Ясеней и более чем когда-либо жил беспечно и забывался до опьянения в маленькой комнатке своей Реввеки, которая на склоне его лет дарила ему такие жгучие ласки, каких он не испытывал и в лучшую, молодую пору своей жизни.
– А, ты уж проснулась, моя Реввека, моя ранняя птичка! – приветствовал граф Уленьку, пробравшись к ней в утро выхода Багратионовой армии из Веселых Ясеней.
– Проснулась и ждала тебя, Ромуальд! – встретила его Уленька в утренней полосатой курточке резвым и вкусным поцелуем в левую щеку.
– Ну, и прекрасно! Ну, и прекрасно! – целовал обе ее руки граф, светло и хорошо улыбаясь.
– Ах! – вдруг воскликнула Уленька. – Зачем это сюда столько солдат нашло? Так много, и все такие запыленные, сердитые! Я видела.
– На войну идут, – удовлетворил ее любопытство граф. – Драться будут с Наполеоном.
– На войну! Драться!
– Пойдут подерутся, порежут друг друга, мертвых всех – похоронят, а живые все – разойдутся, кому куда нужно.
– Ах! Ах! – восклицала наивно Уленька. – Как страшно! В Москве я у солдата жила, так он тоже про войну рассказывал. Я, бывало, всегда пряталась и плакала, когда он начинал показывать, как на штыки идут. И теперь будут на штыки?
– Всего будет довольно. Впрочем, все это вздор! – сказал граф и обнял Уленьку за стан. – Ты лучше спой мне что-нибудь потихоньку или сыграй на своих цимбалах. Нынче я плохо спал. Вздремну, может быть, под твою игру.
– О, то добже, пан! – воскликнула весело Уленька. – Ложись, слушай… Я буду играть…
Через минуту Уленька сидела уже на полу, подстелив коврик, с цимбалами на коленях. Она поместилась у ног развалившегося на диванчике графа.
Струны на цимбалах дрогнули – Уля начала играть. Сперва она бренчала довольно равнодушно, сдержанно; но заунывные страстные звуки родных песен расшевелили ее понемногу, руки быстро забегали по струнам – и она заиграла громко и увлекательно.
– Хорошо! Хорошо! – шептал граф, любуясь виртуозкой, поминутно встряхивавшей своими густыми кудрями.
В самый разгар игры, когда, казалось, звуки метались, как шальные, то ноя, то взвизгивая, то замирая, чтобы разразиться с новою силою, на пороге появился князь Багратион…
XI. Перед грозой
…Как! к нам? милости просим, хоть на Масленице, да и тут жгутами девки так припопонят, что спина вздуется горой.
РастопчинВесна двенадцатого года в Москве стояла прекрасная. Вся утопающая в садах, первопрестольная столица утопала в это время и в удовольствиях, даже более чем когда-либо.
Так называемый большой свет предавался обычным увеселениям. В Английском и в танцевальных клубах шла игра в вист, бостон, лябет. Ежедневно у кого-нибудь из высшего света давался бал или устраивалась вечеринка. На них гости, как и в другое время, беспечно танцевали экосезы, матрадуры и полонезы и вели изящные речи на французском языке, так как среди этого общества преобладал еще тон старой Франции, тон эмигрантов, графов и маркизов. Приверженность к французам была еще полная. Говорить по-русски в гостиных считалось еще дурным тоном. Повсюду сновали франты, которых называли тогда «петиметрами». Они щеголяли в шляпах а ла Сандрильон, в пышных жабо с батистовыми брыжами, с хлыстиками или с витыми из китового уса тросточками, украшенными масонскими молоточками. Многие, особенно изысканные щеголи, ходили во фраках василькового, кофейного или бутылочного цвета, в узких гороховых панталонах, а сверх них в сапогах с кисточками. Дамы-франтихи являлись везде в платьях с высокой талией, с короткими рукавами и в длинных, по локоть, перчатках… Более благочестивые дамы, по общепринятому тогда обыкновению, щипали корпию, кроили и шили перевязки для раненых. В таких домах редкая комната, даже из парадных, не была завалена бинтами и засорена обрезками холста и полотна. Глядя на мамаш, занимались этим и маленькие дети. Некоторые ударились в богомолье и езжали в дальние монастыри. В театре шли патриотические пьесы: «Наталья, боярская дочь», «Илья Богатырь», «Иван Сусанин», «Добрые солдаты». Простонародье веселилось по-своему: забиралось в Нескучный сад, где давались волшебные представления. Шло в Государев, ныне кадетский в Лефортове, сад, где постоянно гремела роговая музыка и пелось «Гром победы, раздавайся» с пушечными выстрелами. Степенные купцы облюбовали только что устроенный тогда первый московский бульвар, усаженный новыми березками, – Тверской. Более веселого характера купчики катали в Марьину рощу, где в красивой палатке, на их усладу, гикали и плясали цыгане.
О политике мало кто думал. Интересующиеся этим предметом усердно читали «Московские ведомости», но в них слишком осторожно и только вскользь писали о движении наполеоновских полчищ. Никто, по словам одного современника, в высшем московском обществе порядочно не изъяснял себе причины и необходимости этой войны, тем более никто не мог предвидеть ее исхода. В начале войны встречались в обществе ее сторонники, но встречались и противники. Мнение большинства не было ни сильно потрясено, ни напугано этой войной, которая таинственно скрывала в себе и те события, и те исторические судьбы, которыми после она ознаменовала себя. В обществе были, разумеется, рассуждения, прения, толки, споры о том, что происходило, о наших стычках с неприятелем, о постоянном отступлении наших войск во внутрь России, но все это не выходило из круга обыкновенных разговоров. Встречались даже и такие люди, которые не хотели или не умели признавать важность того, что совершалось на виду у всех. Мысль о том, что Наполеон будет в Москве или Москва будет ему сдана, никому и в голову не приходила. Простонародье, так то просто грозилось закидать французов шапками.
Все это было весьма естественно: ясное понятие о настоящем редко бывает уделом человечества. В таком случае прозорливости много препятствуют чувства, привычки, то излишние опасения, то непомерная самонадеянность. Пора действия и волнений не есть пора суда.
Собиралось ополчение, но покуда довольно вяло и как бы шутя. На народных гуляньях, у Новоспасского и Андроньева монастырей, устроены были красивые военные палатки, вокруг которых гремела музыка, а внутри их блестели разное оружие и военные доспехи, уставленные пирамидами. Вербовались охотники в военную службу: новобранцев из простолюдинов принимали унтер-офицерами. Посредине палатки стоял стол, покрытый красным сукном, обшитым золотым галуном с кистями, а на столе лежала книга в пунцовом бархатном переплете, с гербом Русской империи: охотники вписывали в эту книгу свои имена. Купечество на этот счет пожертвовало полтора миллиона рублей.
Граф Матвей Мамонов, богатый и честолюбивый юноша, вызвался сформировать на свой кошт целый конный полк, который бы состоял под его начальством. Ему дано было позволение, и вот сформировался полк в синих казакинах, с голубою выпушкою, в шапках с белым султаном и голубою, мешком свисшею, тульей. Эти сорванцы более занимались пирушкою по московским трактирам, чем подготовлением к предстоящей боевой жизни. О их удалых проделках ходило немало рассказов по Москве. Полк этот впоследствии ни в каком действии не был, отличался своеволием, сжег даже одно русское селение, за что главнокомандующий сделал Мамонову строгий выговор, а полк был расформирован.
Подобных ополченцев набралось тысяч до шести. Вместо знамен им дали хоругви из церкви Спаса во Спасской.
В Петербурге смотрели на вторжение Наполеона в Россию посерьезнее, и потому престарелый главнокомандующий Москвы, граф Гудович, заменен был графом Растопчиным. Все как-то сразу почуяли, что человек этот в данное время самый подходящий, необходимый. Страстный, пылкий, самолюбивый, всегда себе на уме, граф мог решиться на все, что и требовалось в то время от главнокомандующего такого города, как Москва.
Поздравляя Растопчина с назначением, Карамзин, в то время проживавший у графа, выразился:
– Граф, вы едва ли не Калиф на час.
– Точно, Калиф на час, милостивейший Николай Михайлович, но лучше быть Калифом на час, чем графом не у дел на всю жизнь.
– И вы назначением довольны?
– Весьма.
– Что ж вы будете делать, граф? Теперь обстоятельства сложны, на Москву будут смотреть, а то, быть может, уж и смотрят во все глаза российские. Вам трудно.
– Нисколько, – отвечал граф. – А что я буду делать, это я вам, как историку, скажу: я, Николай Михайлович, буду… как думаете, что я буду?..
– Скажите, граф.
– Буду… – засмеялся Растопчин. – Да ничего я не буду… Впрочем, чего нам надо ожидать от Бонапарта, я подавал записку еще покойному императору Павлу. Проще: Бонапарт будет у нас в Москве.
Историк даже испугался такой мысли.
– Граф, что вы говорите такое?
– Прошу, чтоб это было между нами, добрейший Николай Михайлович. С другими я не делюсь подобными мыслями. Вам это я сказал опять-таки как историку.
– Но это невозможно! – воскликнул, всегда сдержанный, Карамзин.
– Что такое невозможно! – шутил граф. – Невозможно, чтоб Бонапарт заглянул в нашу первопрестольную столицу? Хе, хе, Николай Михайлович. Вот и видно, что вы не военная косточка. Я еще покойному императору Павлу самолично докладывал, что Бонапарт заглянет-таки в нашу хату, да хорошенько заглянет – в самый наш наилучший уголок.
– Что ж император?
– А император сказал, что мы напустим на него нашего старичка Суворова. Я осмелился спросить у его величества: «А коли Суворова не будет?» Император рассмеялся. «Тогда, – говорит, – пущу в ход тебя».
– Стало быть, и ваше пророчество и пророчество покойного императора Павла несколько сбываются?
– Мое – пожалуй, а другое – не знаю. Покуда ждем спасения от Барклая. Может статься, и поможет чем. Говорят, Дрисский лагерь хорош. Может быть, Наполеон попьет в Двине водицы, да и повернет оглобли назад. А мы тут свою водицу замутим… русскую…
– Граф, вы шутите, – сказал Карамзин.
– Шучу, точно, да ведь с шуточкой-прибауточкой русский человек далеко идет. И покойный старичок Суворов шутил, а Измаилы брал-таки, Сен-Готарды перешагивал-таки! То-то, подите, шажок-то был у шутника!
Граф Растопчин, точно, начал шутить по-своему.
Какой-то немец, с пособием от правительства, начал надувать у Симонова монастыря шар. Работа производилась таинственно, за оградой, но народ бегал туда тысячами и хотя видел мало, зато говорил много. Про будущие действия шара рассказывали чудеса. Народ это забавляло.
Императорские манифесты из Вильно заставили москвичей взглянуть на дело с большим рассудком. Народ вдруг почуял что-то недоброе. Надвигавшаяся туча заставила всех креститься и оглянуться вокруг. Народ зашумел, заволновался. По Смоленской дороге в Москву начали день и ночь летать курьерские тройки, направляясь к главнокомандующему. Потихоньку, кое-что, начали из Москвы вывозить.
«Не к добру это, – пошел гул по Москве. – Не обмануло Божье знаменье: быть беде».
Кто побогаче, стали из Москвы потихоньку убираться.
– Пора! – сказал Растопчин, получая от главнокомандующего все более и более тревожные вести.
– Чево такова пора! – пристал к нему шут его, Махалов, услышав такую фразу за бильярдной игрой.
– А пока, братец, карамболь по всем!
– А ну-ка, попробуй, графинька! – понял шут графа по-своему.
Доиграв партию с шутом, довольно-таки преглуповатым малым, и заставив его за проигранную партию пролезть несколько раз под бильярд, граф отправился в свой кабинет и проработал всю ночь.
Наутро первого июля вся Москва читала невиданный доселе Листок.
Листок произвел эффект необыкновенный. Простонародье разбирало его нарасхват. Высшее общество, в котором граф по своему происхождению вращался, было о нем далеко не высокого мнения и назначение главнокомандующим встретило с недоверием. Бойкий, по-своему, Листок заставил некоторых изменить о графе свое мнение, в которых граф, впрочем, не нуждался.
В то же утро, с Листком в руках, Карамзин пришел к Растопчину.
– Граф, я читал ваш Листок.
– Ну?
– Вы уверяете, что неприятель в Москве не будет.
– Уверяю, – с легкой усмешкой проговорил Растопчин, открыто глядя на Карамзина.
Оба помолчали. Затем Карамзин, которому не понравился ни слог, ни приемы Летучего Листка, под предлогом, что граф обременен делами и заботами первой важности, предложил ему писать подобные Листки за него, как бы в благодарность за оказанное гостеприимство. Растопчин любезно отклонил это предложение, заметив:
– Николай Михайлович, русский народ не афиняне и – уверяю вас – не поймет плавной и звучной речи Демосфена.
– Да, вы правы, граф, – согласился, подумав, Карамзин. – У вас в Листке есть еще другая мысль: падение Наполеона. Точно, граф, я и сам верю этому: будучи обязан всеми успехами своими дерзости, Наполеон от дерзости и погибнет.
XII. Царский клич
И Я стану посреди вас!
Изреч. императора Александра IПриезд императора Александра из армии в Москву был положительно сигналом того, что война с Наполеоном приняла характер войны народной. День приезда – двенадцатое июля – стал днем незабвенным и принадлежащим истории.
До того времени война, хотя и ворвавшаяся в недра России, казалась вообще войною обыкновенною, похожею на прежние войны, к которым вынуждало нас честолюбие Наполеона.
Все колебания, все недоумения с приездом государя исчезли. Все, так сказать, отвердело, закалилось и одушевилось в одном убеждении, в одном чувстве, что надобно защищать Россию и спасти ее от вторгнувшегося неприятеля.
Народ массами собрался встречать государя на Смоленской дороге, но государь, желая избежать торжественной встречи, проехал в Кремль ночью, никем не замеченный. В то время государю было не до торжественных встреч. На другой день народ увидал своего монарха в Кремле, и совершилось шествие в Успенский собор. Были произнесены подобающие случаю речи.
С дворянством государь увидался в Слободском дворце. Там среди дворянства собралось более семидесяти вельмож. Собрание открылось чтением манифеста о войне. Потом вошел государь.
Александр был величаво-спокоен, но, видимо, озабочен. В выражении лица его было заметно, и при улыбке, что-то задумчивое.
В кратких и ясных словах государь определил положение России, опасность, ей угрожающую, и надежду на содействие и бодрое мужество своего народа.
– И Я стану посреди вас! – сказал он в заключение…
Народ чутко отозвался на клич своего государя, и это было не мимолетной вспышкой возбужденного патриотизма, не всеподданнейшим угождением воле и требованиям государя, нет – это было проявление сознательного сочувствия между царем и народом. Оно во всей своей силе и развитости продолжалось и далее. Тут ясно обозначилась необходимость расчесться и покончить так или иначе с Наполеоном не только в России, но и где бы он ни был. Первый шаг для этого был сделан. Началась война народная. Стали собираться ополчения, посыпались пожертвования.
– Александр старается возбудить дикое изуверство москвичей, – сказал Наполеон, узнав об этих приготовлениях. – Но напрасно: орлы мои будут развеваться в Москве. Не для того же я пришел из такой дали, чтобы завоевать только груду каких-то дрянных литовских хижин.
XIII. Нежданный гость
Чок, чок!
Табачок!
РастопчинМосква вдруг точно очнулась от долгой спячки. Все начало принимать воинственный вид, все собиралось отразить надвигавшуюся грозу, почуяв ее неизбежность. Народ толпами ходил по улицам и, читая Листки Растопчина, грозил и Бонапарту, и всем иностранцам. Появились лубочные картинки, изображавшие Наполеона и французов в самом смешном виде. Многие стали видеть в Наполеоне даже антихриста и в его имени находили число зверино – 666. Словом, поднялась та сумятица, толковая и бестолковая, какая именно бывает при усложняющихся необыкновенных событиях. Воинствующее, но темное перо графа Растопчина еще более усугубляло эту сумятицу, среди которой, в сущности, редко кто понимал кое-что и редко кто кое-что предвидел. Кое-где стали проявляться даже буй ства народа, и Растопчин, для ослабления страстей, стал ловить, может быть, мнимых, а может быть, и действительных шпионов Наполеона. Двух подобных шпионов из иностранцев публично наказали на Болотной площади. Схватили одного и русского. Это был молодой купеческий сын Верещагин, имевший глупость перевесть на русский язык воззвание Наполеона. Его посадили в «яму», и над ним начался суд… Дворянские семьи быстро убирались из Москвы. Дома пустели. Множе ство проживавших в Москве иностранцев благоразумно скрылись; не имевших средств скрыться Растопчин сам выслал из го рода…
Гроза стала неизбежной.
Среди этой сумятицы испуганного люда, похожей на встревоженный в ночную пору курятник, среди этих предположений, угроз, ропота и молитв, – один только человек в Москве остался спокоен и с замечательным хладнокровием выжидал решения неотразимых судеб.
Немало лет прошло с тех пор, как мы познакомились с алхимиком Ираклием Лаврентьевичем Иванчеевым. Как старый дуб, разрастаясь с годами, все более и более крепнет, глубоко пуская в землю свои корни, так и старик Иванчеев, окрепнув, бодро еще держался на ногах. Ему было уж лет восемьдесят, но эти восемьдесят лет не согнули его, не удручили. Он жил теперь один, похоронив и жену свою старуху, и двух взрослых дочерей. Как ни тяжела была эта потеря для Иванчеева, но он стоически перенес ее и еще более углубился в свои алхимические опыты.
Время шло. Настал грозный двенадцатый год. Прозорливый старик уже давно предвидел ту сумятицу, которая началась и там, на далекой окраине России, и здесь, теперь, в Москве. В этом отношении он даже изменил своему обычному правилу обо всем, что знает, молчать. Когда еще Наполеон делал смотр гвардии в Париже, а потом совершал поездку в Дрезден, он явился к тогдашнему главнокомандующему Москвы, фельдмаршалу Гудовичу, и попросил у него секретной аудиенции. Хотя с трудом, но старик был принят.
В высшей степени деликатный, мягкий, но с выражением великолепия на лице, фельдмаршал спросил Иванчеева о цели его прихода к нему.
– Нахожу необходимым сообщить графу то, что покуда никому не ведомо, – начал смело Иванчеев.
Фельдмаршал слушал и, видимо, заинтересовался:
– Что? Что такое, государь мой?
В кратких словах Иванчеев пояснил фельдмаршалу, что Наполеон, взбудоражив всю Европу, вероятно, взбудоражит и Россию.
Фельдмаршал слабо улыбнулся:
– Не новость, государь мой.
– Не новость теперь, граф, но тридцать лет назад это было большой, никому не ведомой новостью, – настойчиво говорил Иванчеев.
Гудович насторожил ухо. В словах доселе неизвестного ему старика звучало нечто такое, что заставляло вдуматься в особенный их смысл.
– Я тридцать лет назад знал о всем том, что происходит теперь.
– Ого! – как бы очнулся фельдмаршал и слегка наклонился к Иванчееву, устремив на него свои серые маленькие глаза, точно хотевшие сказать: «да ты – пребольшой чудак, голубчик мой».
– Да, ваше сиятельство, тридцать лет знал о том, что совершается теперь, – повторил Иванчеев.
– Тридцать лет! – удивился фельдмаршал. – Времени, точно, много, но что ж из того, что вы знали?
– То, ваше сиятельство, что я и теперь знаю кое-что.
– А ну, поведайте?
– Наполеон будет в Москве.
Фельдмаршал призадумался, потом, слабо улыбнувшись, вперил глаза на Иванчеева. Фельдмаршалу показалось, что перед ним сидит полоумный человек. Это было в апреле. В это время, хотя в высших сферах и знали о неизбежности войны с французским императором, но никому и не грезилось, чтобы Наполеон покусился на Москву. Неудивительно после этого, что Гудович, человек вообще не особенно дальновидный, да к тому же еще расслабленный старостью, не взвесил как следует значения сообщаемого ему каким-то неизвестным стариком известия. Он долго и пристально смотрел на Иванчеева, потом спросил:
– Вы чем занимаетесь, государь мой?
– Алхимией, – отвечал твердо Иванчеев, видя ясно, что фельдмаршал его не понимает или не хочет понять.
Фельдмаршал рассмеялся:
– О, теперь я понимаю, государь мой, откуда вы черпаете свои известия!
Иванчеев нахмурился:
– Нет, нет, государь мой, я такими известиями не интересуюсь, – продолжал фельдмаршал, придав своему голосу некоторую серьезность, и затем почти сухо прибавил: – Прошу и впредь таких известий не разносить по столице. Можете идти.
Таким приемом фельдмаршала Иванчеев был глубоко оскорблен. Он ожидал от начальника столицы большего благоразумия и большей предприимчивости относительно сообщенного, тем более что он в том, что сообщил, был неотступно уверен. Старик сам не мог дать себе отчета, почему он так полагает, но уверенность его доходила до какого-то пророческого наития, пророческой силы и смелости. Он чувствовал себя в высшей степени правым и справедливым. Долгий опыт сделал его самонадеянным. Многое, предугаданное им, совершалось на его глазах с поразительной точностью. Но, будучи астрономом, он один из первых предсказал даже появление кометы одиннадцатрго года, о чем и опубликовал в «Вестнике Европы» с тонким намеком, что имеющая появиться комета будет предвестником великих событий на Руси. На заметку никто не обратил внимания, она прошла бесследно, не вспомнили о ней и впоследствии, когда предсказание оправдалось. Зато лично Иванчеев был доволен своими выводами и тем уважением, которое ему оказывали, без шуму и крику, некоторые заграничные профессора. Были у него поклонники и в самой Москве. Некоторые верили ему, особенно барыньки, как оракулу, и осаждали старика своими визитами. Старик почтительно принимал их и утешался их испугом при виде алхимических аппаратов.
Возвращаясь от Гудовича, старик ворчал:
– А, он не понял меня, он не хотел меня выслушать, так пускай же эта ошибка падет на его голову! Я, как честный гражданин и москвич, исполнил свой долг. Пусть он теперь исполняет свой. Я сказал свое слово. Пусть он скажет свое.
Упреки оскорбленного старика не достигли фельдмаршала. Но вечером того же дня на ужине у графини Разумовской, среди избранного общества, Гудович шутил:
– О, Москва у меня в опасности и в большой.
Фельдмаршала окружили.
– В какой, граф? Это интересно.
– Угадайте.
Посыпались догадки. Граф смеялся, довольный тем, что сумел заинтересовать общество. Насладившись недоумением, он, наконец, сделав серьезную мину, произнес:
– Я жду к себе в гости Наполеона.
Шутка графу удалась. Все смеялись такой несообразности, а дамы ахали, изъявляя желание повидать у себя маленького капрала. Граф под конец сообщил, кто ему принес такое интересное известие. В этом кругу людей никто не знал старика-алхимика, и шутка вскоре была забыта.
Через месяц фельдмаршал кинул свой пост, получив отставку, и уехал на спокой в Малороссию. Его место занял граф Растопчин.
Среди массы дел Растопчин любил бездельничать. Он вспомнил как-то шутку Гудовича и запросто приехал к Иванчееву.
– Ну, здорово, старина! – приветствовал он встретившего его с недоумением Иванчеева.
– Граф, вы у меня! – удивился старик.
– Что ж, побываете и вы у меня. Я не Гудович. Авось кус хлеба за моим столом и для вас найдется. А теперь покуда милости прошу.
Граф открыл табакерку с портретом императора Павла и, пощелкивая по ней двумя пальцами правой руки, начал приговаривать:
Чок, чок! Табачок – Ахтырский, Богатырский, Из рожка, С соколка, А натряску, На закуску! Каблучок, Пучок, Сморчок, Лез в горшок, Ах, табачок!Иванчеев серьезно понюхал, глядя на шутившего графа удивленными глазами.
– Что, дядя? Аль широка пядя – в тавлинку не лезет? Так ты сожми да еще возьми!
Иванчеев понюхал еще.
XIV. Граф Растопчин
Обстоятельства выдвинули его и сделали героем.
Ф. ГлинкаФедор Васильевич Растопчин принадлежал к числу людей выдающихся.
Как и все богатые дворяне прошлого столетия, он получил воспитание чисто французское, блестящее, воспитание, задача которого состояла в том, чтобы мальчика, прямо от книжек, ввести в так называемый большой свет, где бы он сразу держал себя непринужденно, чувствовал себя, как дома. Все было направлено к тому, чтобы с пеленок развить в ребенке светские инстинкты, привить изящество разговора и движений, истребить застенчивость и искренность. Детей заставляли отвечать при публике уроки, играть в пословицы и находчивость, причем родители поощряли всякую выходку их детского остроумия. Благодаря этому дети умели говорить комплименты, давали ловкие ответы, были любезными и чувствительными. Один мальчик, с книгой в руках, гуляя, встретил своего учителя словами: «Учитель, я читал Плутарха, его великих людей; вы являетесь как нельзя более кстати». Другой девятилетний джентльмен, когда его спросили о классиках в присутствии трех хорошеньких девочек, отвечал: «О, здесь я могу вспоминать только одного Анакреона»!
Подобно другим, маленького Федю водили напудренным, с косичкой, с буклями, одевали в расшитый золотом кафтан, со шпагой при бедре. Светская наука далась мальчику в совершенстве. В десять лет он кланялся и держал шляпу с изяществом опытного денди, мило и ловко целовал у своих маленьких кузин руки и вел с ними салонные разговоры. Вместе с тем маленький Федя превосходно знал языки: английский, итальянский, немецкий и, конечно, французский.
Наряду с изучением языков иностранных Растопчин изучал и свой родной, русский, и таким образом сделался одним из образованнейших людей своего времени.
Сперва Растопчина не замечали – не замечали ни его всесторонней образованности, ни его предприимчивого ума, хотя он и служил адъютантом у князя Таврического.
Растопчин решил:
«Вздор, я выйду в люди».
И вышел.
При вступлении на престол в первый же день император Павел осыпал Растопчина наградами. Он был награжден и орденом Андрея Первозванного, и графством, и званием заведывающего Коллегиею иностранных дел.
В последние месяцы царствования Павла Растопчин, сознающий свою силу, представил императору замечательную записку о политических отношениях России к другим государствам Европы. Записка эта представляет образец замечательного ума и здоровой прозорливости.
По смерти Павла, в течение двенадцати лет, граф проживал то в Москве, то в подмосковном своем селе Воронове, совершенно частным человеком, пописывая бойкие комедийки и патриотические статейки. Общество, в котором он вращался, решительно не видело в нем ничего замечательного, да и сам он не старался подняться выше общего уровня, хотя изданные им «Мысли вслух на Красном Крыльце» ставили его наряду с лучшими деятелями того времени и давали ему неотъемлемое право на знаменитость. Слава ждала его впереди.
Двенадцатый год сразу поставил Растопчина на должную дорогу. Но и тут московское высшее общество смотрело на его назначение свысока и старалось не замечать подобного назначения, точно все шло обыкновенным порядком и ничего особенного для Москвы не предвиделось.
«Вообрази, – пишет в письме к своей подруге одна современница, – Растопчин – наш московский властелин! Мне любопытно взглянуть на него, потому что я уверена, он сам не свой от радости. То-то он будет гордо выступать теперь! Курьезно бы мне было знать, намерен ли он сохранить нежные расположения, которые он выказывал с некоторых пор. Вот почти десять лет, как его постоянно видят влюбленным и, заметь, глупо влюбленным. Для меня всегда было непонятно твое высокое мнение о нем, которого я вовсе не разделяю. Теперь все его качества и достоинства обнаружатся. Но пока я не думаю, чтобы у него было много друзей в Москве. Надо признаться, что он и не искал их, делая вид, что ему нет дела ни до кого на свете. Извини, что я на него нападаю. Но ведь тебе известно, что он никогда для меня не был героем ни в каком отношении. Я не признаю в нем даже и авторского таланта».
Это писала одна из образованнейших и умнейших женщин тогдашней Москвы, и в ее взгляде на Растопчина заключался, стало быть, взгляд и многих других особ высшего света на нового главнокомандующего. Этой даме впоследствии, как и многим другим, пришлось изменить свое мнение о Растопчине и – то не в меру восхищаться им, то не в меру ненавидеть.
А граф все шел своей дорожкой и с необыкновенной ловкостью умел применяться к обстоятельствам, забавно повторяя свою любимую поговорку – стишок из «Модной жены» Дмитриева:
«Но как не рассуждай, а Миловзор уж тут!»
XV. Предсказатель
Москва будет разорена…
Посещение Растопчина удивило и вместе с тем обрадовало Иванчеева. Чести такой старик уже никак не ожидал от такого лица, как главнокомандующий Москвы, да еще такого, как Растопчин.
Вдоволь нанюхавшись табаку, граф заинтересовался иванчеевскими аппаратами и долго расспрашивал старика о значении всякой вещи. Старик охотно объяснял ему. Потом они запросто уселись, выпили по чашке кофе, выкурили по трубочке табаку. Завязалась речь.
– Времена-то, Ираклий Лаврентьевич, – заметил граф, – чертовские!
– Подлинно, граф, – подтвердил Иванчеев.
– Бонапарт дурит.
– Дурит.
Граф потер свой высокий лоб и вдруг спросил:
– А правда ль, что Бонапарт в Москве будет?
– Будет несомненно, – ответил спокойно и ровно Иванчеев.
Иванчеев и граф посмотрели друг на друга. Граф улыбнулся. Лицо Иванчеева сохранило спокойствие.
– Я сам того же мнения, Ираклий Лаврентьевич, – сказал граф, – но только – мнения, а совсем-таки не уверен в том, а вот вы говорите: «будет несомненно». Почему вы это знаете?
Вместо ответа Иванчеев взял один из своих фолиантов, раскрыл его перед Растопчиным и указал страницу.
«1790 год. Август. Свет Марса на Западе увеличивается. Звезды там же меркнут. Земля в тумане. Вывод: На Западе зарождается воин, прежние воины меркнут. Тяготы на земле».
«1791 год. Январь. Юпитер в тумане. Вывод: Гибель на Западе короля».
«1792 год. Много падающих звезд на Западе. Вывод: Гибель множества людей на Западе».
Иванчеев молча перевернул перед графом несколько листов в фолианте.
Граф прочел:
«Год 1810. Август. Гулы под землей. Землетрясение. Через год явится знаменье – комета. С запада на восток движение полчищ, во главе идола. Идол на развалинах».
Иванчеев взял осторожно из рук графа фолиант и положил его на прежнее место.
Мало чему удивлявшийся в жизни, граф при этом случае был порядочно-таки удивлен. Не было сомнения – граф это заметил и по письму, и по другим признакам, – что все им прочитанное было писано своевременно, а главное: все предсказанное – или совершилось, или совершается.
– Рад, весьма рад, что познакомился с вами, – не нашелся ничего более сказать удивленный граф, – и сожалею, что судьба не свела нас ранее. Впрочем, – продолжал граф, тронув себя за лоб, – я не совсем с вами согласен относительно «идола». Идол-то он идол, правда, но не такой уж страшный, как многим кажется. На такую силу натолкнули его обстоятельства, а без того он был бы исправным офицером… впрочем, очень неуживчивым.
– Я не военный человек, граф, и в таких делах не судья.
– Но зато вы можете быть его судьею нравственным. Наполеон – антихрист. В Апокалипсисе, в десятой главе, сказано: «И имели над собою царя – ангела бездны, ему же по-еврейски имя Аввадон, а по-гречески Поллион».
Иванчеев отрицательно покачал головой.
– Ну, добрейший мой, вы, стало быть, совсем народа не знаете, – заметил граф. – Вот объясните мне лучше, что значит такое: «Идол на развалинах». Словцо замысловатое.
– Москва будет разорена, – проговорил тихо, несколько подумав, Иванчеев.
Граф не сдержал себя и привскочил.
– Вы откуда это знаете? – почти вскричал он.
Иванчеев, не вставая, спокойно посмотрел на Растопчина.
– Русский народ сказал мне это.
– Как? Что такое?
– Русский народ не потерпит позора.
– А ведь вы правы… – искусственно успокоился Растопчин. – Русский народ, точно, не потерпит позора и при случае готов на все. Однако ж с ним надо уметь и ладить, иначе он и хорошее и дурное все истолчет в одной ступе.
От Иванчеева Растопчин уехал порядочно обеспокоенный. Слова старика относительно разорения Москвы тревожно занимали его мысли. Он вовсе не ожидал встретить старика таким умным и таким прозорливым. Старик точно покопался в его душе и затронул там самую больную струну. Приняв должность главнокомандующего Москвы, трудную и ответственную, особенно в такое тревожное время, граф все-таки шел еще ощупью, ко всему применялся, ко всему прислушивался. Как умный человек, он тотчас же сообразил, что Наполеон идет в Россию с явной целью побывать в сердце ее – в Москве, так как иначе и поход не затевался бы им в таких грандиозных размерах, да и не стоило бы вносить войну в пределы России. Освоившись с этой мыслью, граф, однако ж, не знал положительно, какую ему следует играть роль, когда Наполеон точно появится в Москве. Не вести же ему ключи города, не принять же его с депутацией и колокольным звоном! Никто ни на что не уполномочивал графа ни письменно, ни словесно, но в то же время он очень хорошо знал, что пользовался неограниченным полномочием, полномочием чисто диктаторским. Уезжая из Москвы, император пожаловал Растопчину на эполеты свое вензелевое имя, сказав при этом: «Теперь Я буду у тебя на плечах, Растопчин». Лучшего доказательства монаршего доверия не могло быть. Растопчину развязывались руки во всей силе. Обдумывая так и сяк свое положение, граф решил наконец не отдавать Москвы неприятелю не разоренной. Это, конечно, он хранил в глубокой тайне, и вдруг какой-то неведомый миру старик-алхимик, совершенно спокойно, решил то же самое и того же самого ожидает от русского народа, чего ожидает и он. Граф мысленно склонился перед умом Иванчеева и даже в глубине души встревожился пред этой простой, но тем не менее загадочной личностью.
Совсем иные впечатления оставил по себе Растопчин в душе Иванчеева. Иванчеев нисколько не удивился ни уму графа, ни его высокому положению: он нашел графа простой, доброй личностью, и только. Любезность графа, правда, ему очень понравилась, но от графа он все-таки ничего не ожидал.
В тот же день к крыльцу домика Иванчеева, усталый и запыленный, подскакал верхом высокий и здоровый кавалерийский офицер. Он торопливо соскочил с лошади, торопливыми же шагами смело и гремя саблей вошел к Иванчееву и спросил охриплым голосом:
– Здесь живет Иванчеев, Ираклий Лаврентьевич?
На его вопрос вышел сам Иванчеев.
– Вы Иванчеев будете?
– Я.
– От его сиятельства, князя Петра Ивановича Багратиона, главнокомандующего второй армией, – проговорил кавалерист, подавая Иванчееву толстый пакет, сделал по форме налево кругом и вышел.
XVI. Маркитантка
Вы будете дочерью нашего полка.
Среди массы карет и другого рода экипажей, двигавшихся за полчищами Наполеона со всякого рода авантюристами и авантюристками, двигался и какой-то своеобразный возок маркитантки конноегерского полка Эвелины Гужон.
Эвелина Гужон была прехорошенькой особой лет двадцати, полненькая, с синими большими глазами и с волосами цвета спелого пшеничного колоса. Манеры ее отличались простотой, но в то же время и привлекательным изяществом. Она говорила по-французски, но довольно плохо, и потому конноегеря решили, что она иностранка, что не подлежало никакому сомнению, но к какой именно нации принадлежало это хорошенькое существо, никто не знал, да и не старался знать. Для конноегерей было довольно и того, что прехорошенькая собой и, кроме того, как маркитантка, держала хорошее вино, хорошие припасы и брала за все сравнительно с другими весьма умеренно. Сама она, впрочем, своим маркитантским делом почти не занималась. Занимался им у нее, и занимался довольно рачительно, какой-то субъект по имени Казимир, здоровый и плотный мужчина лет сорока, с большими усами и кудлатой головой. Казимир говорил мало, на вопросы отвечал неохотно и вообще держал себя каким-то дикарем, за что конноегеря и прозвали его литовским медведем. Он и в самом деле был родом литвин, но как попал во Францию к Эвелине Гужон, не считал за нужное кому-нибудь рассказывать.
Благодаря этому молодцу возок Эвелины был всегда полон припасами, которые он добывал бог весть каким путем и бог весть когда. Исправность его в этом отношении доходила до педантства. Во все время движения конноегерей из Парижа до берегов Немана не было примера, чтобы в возке Эвелины не оказалось какого-либо необходимого припаса. Возок Казимир устроил сам лично, и какой-то двухэтажный, на крупных здоровенных колесах, длинный и широкий. В верхнем этаже возка как-то ловко и плотно были уложены всевозможные продукты и вина, а в нижнем – было устроено помещение для самой хозяйки. Тут хорошенькая Эвелина помещалась, как в гнездышке, уютно и хорошо, точно в маленькой комнатке, и кроме того – безопасно.
Понятно, что у хорошенькой Эвелины поклонникам не было счета. Начиная от командира конноегерей, бравого, кругленького полковника, старавшегося походить внешностью на своего великого императора, и кончая последним поручиком, все считали для себя приятным ухаживать за хорошенькой маркитанткой. На все любезности Эвелина отвечала всем одинаковой любезностью, но далее дело не заходило. Капризная маркитантка не позволяла даже лобызать свою ручку. Не обошлось дело и без ссор. Два поручика подрались на шпагах из-за того только, что одному из них сама Эвелина первому подала стакан вина. Узнав об этом, Эвелина явилась на место побоища и успокоила горячих воинов, поднесши обоим одновременно по стакану холодной воды. Один офицер чуть было не покончил с собой из-за любви к маркитантке. Сам полковник из-за нее покривил душой, уволив ни за что ни про что одного молодого и красивого сержанта, показавшегося ему соперником. Впрочем, все это было в первые дни маркитантства хорошенькой Эвелины. С течением времени все успокоились и смотрели на Эвелину как на гордость и на украшение своего полка.
Сама Эвелина жизнь вела довольно странную. Костюм она предпочитала черный и волосы заплетала в две косы. Редко кто видел, чтобы она смеялась. Хорошенькое личико ее с вздернутым носиком всегда сохраняло какое-то величавое спокойствие. Говорила она тихо, но твердо. Бывали дни, что ее совсем не видали, и где она проводила время, никто не знал и не догадывался. Оживилась она только несколько, когда конноегеря вместе с другими полками перешли Неман и двигались по направлению к Вильно. Оживился вместе с нею и Казимир.
Только что повозка их съехала с парома, как усатый помощник Эвелины пал на колени, поцеловал землю и начал молиться. Эвелина, стоя возле повозки, долго смотрела вокруг и наконец тоже перекрестилась. В общей суматохе на них никто не обращал внимания, и потому Казимир тихо и горячо проговорил, обращаясь к своей хозяйке:
– Панночка, да мы ж это дома!
– Дома, дома, Казимир! – прошептала Эвелина, не отрывая глаз от раскидывавшейся перед ней картины могучих лесов Литвы.
– О, да слава ж Тебе, Боже, что дома! – молился Казимир.
Эвелина молчала.
Вечером того же дня на роздыхе бравый полковник заглянул в палатку Эвелины, чтобы распить бутылочку бургундского.
– Ну, сторонка, черт побирай! – бранился полковник, которого утренний дождь во время переправы промочил насквозь. Тут сам дьявол ногу сломит, не только человек! Лес да вода – и больше ничего! По-моему, это даже хуже египетских песков… Вы как думаете об этом, Эвелина? – обратился он к маркитантке, сидевшей тут же на какой-то высокой ковровой подушке.
– О, сторона дикая! – произнесла Эвелина.
– Именно дикая. Вы правду сказали, Эвелина. Но при этом случае можно сказать правду и про императора. На какой черт он привел нас сюда! Что нам здесь делать! Вон у меня в полку в один день сегодняшний пало десять лошадей от истощения. Черт возьми, если дело пойдет так далее, то мне в Москву придется вступить не на лошадях, а на костылях!
– А вы разве думаете быть в Москве?
– Да так решено императором, так и будет! Отдохнем в Вильно – и в Москву!
– О, Москва далеко, полковник! – возразила Эвелина. – И пробраться туда нелегко.
– А вы почем это знаете, смею спросить?
– Меня в детстве кто-то привозил сюда, и я чуть ли уже не была в Москве, – разговорилась Эвелина. – Помню это, как во сне. Город большой, и церквей много. Помню еще колокольный звон, долгий и громкий.
– Га, Эвелина, вы уж не московитка ли?
– Нет, я сирота, полковник, и родины своей не знаю.
– Га, Эвелина, я слышу от вас это в первый раз! Прелюбопытно! Стало быть, – прошу прощения – вы не помните ни отца своего, ни своей матери?
– Мать помню, но отца – нет.
– Пустяки! – вскрикнул довольно уже подвыпивший полковник. – Вы будете дочерью нашего полка.
Полковник расхохотался своей находчивости.
XVII. Опять она!
Эта пифия опять здесь. Где я, там и она…
Что-то тревожное закралось в душу Наполеона, когда впервые он увидал Вильно с ее лощинами, рощами и Замковой горой, величаво возвышающейся над городом. Он смутно почувствовал, что дальше двигаться ему неудобно, и он решил как можно долее оставаться в старой литовской столице.
Как и следовало ожидать, Наполеону была устроена в Вильно торжественная встреча. Толпа польских красавиц в белых платьях встретила Наполеона на мосту через Вилию, кричала «Да здравствует император!» и кидала под ноги его лошади цветы. Император, однако ж, был хмур. Ополчения из литвинов, на которые он рассчитывал, почти вовсе не составлялись, если не считать какого-то сброда из молодых людей. Император ошибся в поляках, так как и они ошиблись в нем. Что же касается простого народа, то он нисколько Наполеону не сочувствовал.
Да и возможно ли это было.
Пространство между Ковно и Вильно представляло уже совершенную пустыню. Впереди великой армии нестройной толпой шли пионеры с топорами, которых народ назвал «школьниками», потому что они были очень молоды, вероятно, только что выпущены из училищ. Мигом бросались они на все то, что оставалось им после отбытия авангарда, разбирали заборы для топлива, бросались по домам, по чердакам, по подвалам, отыскивая себе добычи, а за ними стремились уже и прочие голодные дети великой нации. Они заглядывали даже в каретные сараи, обдирали экипажи, ища сокровища. Жители Литвы говорили: «Вконец разорили они нас, дома наши разобрали на дрова, хлеб скосили на корм своим лошадям, всю домашнюю скотину перерезали или угнали с собой, а лошадей взяли под подводы, и нас гонят при них. Мы носим их клад, рубим дрова, таскаем воду. Они запирают нас вместе с лошадьми в сараи и не кормят. А в панских домах, ища денег, они и полы-то выламывают, разбивают печи, прорубают стены, выкатывают бочки с вином, пьют до остервенения, а чего не допивают, то выливают на землю, муку рассыпают по двору, вещи жгут… Наша сторона, как горох при дороге, всякий щиплет, сколько хочет». Из числа грабителей поселяне особенно жаловались на «беспальцев» – так называли они вестфальцев и «поварцев» – баварцев. «Француз, – говорили они, – как сыт да пьян, только болтает без умолку, а эти хуже исправников и заседателей, ко всем пристают: «Давай хлеба! давай пенензы!» По большой дороге невозможно уже было проехать: она была завалена сломанными и покинутыми телегами и павшими лошадьми. Французы появлялись и на проселочных дорогах, многие из них скрывались от своих команд по деревням и усадьбам. Часто между грабителями происходили смертные драки за добычу. А в Литву входили все новые войска, об них никто не заботился, они сами должны были искать себе пропитание. Своих больных и раненых французы размещали кое-как, в уцелевших домах, а русских пленных, раненых, покидали на улицах. Французы не щадили и своих единоверческих костелов: раскладывали в них огонь, варили кушанья, забавлялись играми. Один костел превратили даже в театр и заставили ксендза играть в оркестре на контрабасе. Все на пути рубилось, резалось, билось, сжигалось. Так проходила партия за партией, и каждая из них оставляла по себе следы опустошения. Люди ходили по дорогам, как привидения. В войсках появилась зараза.
Виновнику всего этого было все это хорошо известно, но он старался не замечать происходящего, даже не любил, чтоб об этом ему напоминали.
– Порядок у меня образцовый, – говорил он, – и войска наделены всем в избытке. Кто говорит о моих солдатах дурно, тому не место в великой армии.
И все молчали и старались не напоминать императору о начавшемся расстройстве войск. Впрочем, Наполеон судил о благосостоянии войск по своей гвардии, которая действительно представляла блестящее исключение.
Во дворце, где поместился Наполеон, начались балы и музыкальные вечера, точно война никого не тревожила и не занимала. Сам Наполеон подолгу просиживал на этих вечерах и казарменно, по своему обыкновению, любезничал с польскими красавицами. В один из таких вечеров, в начале июля, когда император был особенно не в духе, перед ним вдруг среди роя наряженных дам и девиц промелькнуло лицо, которое заставило его встать и тревожно оглядеть присутствующих.
Окружавшие императора изумленно переглядывались, не понимая, что такое происходит с ним.
– Опять она! – произнес вслух император и медленно, не глядя ни на кого, отправился в свой рабочий кабинет.
По зале прошел шепот.
А император, идя, думал:
«Эта пифия опять здесь. Где я, там и она. Странно, эта глупо повторяющаяся встреча сильно занимает меня. Кто она, эта незнакомая особа?»
Император махнул рукой и вошел в кабинет один.
– Император, не меня ли ищете? – послышался ему навстречу слабый женский голос.
Наполеон поднял голову. Перед ним стояла женщина в черном покрывале.
XVIII. В кабинете Наполеона
…Неблагодарным я не останусь. Требуйте наград.
Две большие восковые свечи с абажуром белого газа освещали кабинет Наполеона.
При свете их, тусклом и несколько фантастическом, император увидал знакомую ему фигуру женщины в черном покрывале. Лица ее, однако ж, не было ему видно: оно, все сплошь, скрывалось под тем же покрывалом, которым была окутана и вся ее фигура.
Император с минуту молчал, оглядывая таинственную незнакомку с ног до головы. Потом он тихо рассмеялся, рассмеялся с той загадочной грустью, с которой умел смеяться только он один. Затем, не переставая улыбаться, он медленно шагнул к незнакомке. Та не трогалась с места.
– Я сейчас, – тихо и щурясь начал император, – слышал прелестный голос. Он твой, дитя мое?
– Да, говорила я, император, – ответила так же тихо, но твердо незнакомка.
– Прошу сесть, – предложил император, – ежели только ты, дитя мое, не намерена исчезнуть, как исчезала ранее. Признаюсь, я несколько суеверен, и потому появление твое, время от времени, порядочно интересовало меня. Прошу сесть. Не бойтесь… впрочем, – император улыбнулся, – духи едва ли чего боятся… мы здесь одни и сюда никто не войдет.
Император сам подошел к маленькой входной двери и плотно притворил ее. Великий человек, делая маленькое дело, хитрил: он опасался, чтобы незнакомка не ушла от него.
– Теперь мы как голубки в клетке, – засмеялся он. – Теперь не подглядит нас даже и прозорливый глаз Талейрана. Впрочем, ты, дитя мое, в этом отношении нисколько не уступаешь ему, даже более: прозорливость твоя граничит с пророчеством. Откуда у тебя этот дар пророчества? И кто ты?
– О, император! Я самая обыкновенная девушка, – сказала незнакомка.
– А! Девушка!
Император прошелся раза два по кабинету.
– Но в качестве чего же вы следуете за мной, дитя мое?
– В качестве маркитантки великой армии, – отвечала незнакомка.
– Маркитантки? – Наполеон громко рассмеялся: – Маркитантки! О, это знаменательно и начинает походить на роман, который я читывал в молодости! Не помните ли: действие происходит во времена завоевания Перу, при Пизарро, в долине Куско. Вслед за армией Пизарро всегда следовала одна хорошенькая маркитантка и много раз спасала жизнь Пизарро. Ее звали, кажется, Альдана – не помню хорошенько. Вас как зовут, милое дитя?
– Эвелиной.
– Но Альдана была, кажется, из рода каких-то грандов Кастилии. Вы?
– Графиня.
– Га! Совсем роман.
Наполеон приблизился к Эвелине.
– Но Пизарро хорошо знал свою Альдану, я же совсем своей не знаю.
– Можете узнать, император, – произнесла Эвелина и медленно открыла свое лицо.
– А! Я не ошибся! – сказал император, всматриваясь в лицо Эвелины, необыкновенно очаровательное и вырази тельное. – Я был уверен, что под этим черным покрывалом непременно скрывается прехорошенькое личико. Графиня полька?
– Полька, император.
– И в этом тоже был уверен. О, какое приятное знакомство. Теперь уж непременно посажу вас, графиня.
Император взял ее за руку и, как дитя, слегка нажимая на плечо, посадил в кресло. Сам сел подле, закинув ногу на ногу, и с нескрываемой, несколько наглой усмешкой стал смотреть на потупившуюся графиню.
С женщинами Наполеон держал себя вообще не только бесцеремонно, но даже цинично. Он их презирал и был уверен, что они только и способны рожать детей. Подобный взгляд был в нем неудивителен, если вспомнить, что в молодости он вел жизнь крайне уединенную, а когда при Директории обстоятельства и собственный его гений выдвинули его вперед, то он посещал такое общество женщин, в котором именно о женщинах не мог составить выгодного понятия. Он не умел обращаться со сколько-нибудь порядочными женщинами, не умел говорить с ними, а так как всякого рода стеснения были ему невыносимы, то он по возможности избегал их. Особенно он ненавидел умных женщин. Госпожа Сталь всю жизнь была для него чем-то непонятным и невыносимым. В женщинах ценил он только одну молодость и красоту и в этом отношении был неразборчив донельзя. Он даже несколько раз влюблялся, но – Боже мой, что это была за любовь! Это было нечто в высшей степени наглое и возмутительное. Но он, оправдывавший свои действия во всем, говорил и по поводу своих привязанностей: «Не всякий имеет право так любить, как я люблю! Я люблю слишком по-своему».
И точно, он любил по-своему. Сидевшая теперь перед ним графиня Эвелина, вся в черном, с большими синими глазами, великолепно сложенная, начинала сильно нравиться великому императору. Он щурился, глядя на нее и слегка подергивая губами, что у него было признаком хорошего расположения духа.
Графиня все еще сидела потупившись, что необыкновенно шло к ее фигуре и представляло нечто в высшей степени очаровательное.
– Графиня! – начал Наполеон. – Я очень доволен тем, что вижу перед собой не духа, а живое существо, и притом – такое милое! Я плохо знаю этот дикий край. Скажите мне… О, я вам поверю!.. Скажите мне: что за народ московиты?
– Великий народ, император, – произнесла тихо графиня.
– Одно и то же! – возвысил голос Наполеон и забарабанил пальцами по столу какой-то медленный марш. – Вы не сговорились ли с Коленкуром, милая графиня? Коленкур того же мнения.
– Я Коленкура не знаю, император, – сказала графиня.
– Не знаете! Га! Откуда же вы знали те случаи, о которых мне предсказывали ранее?
– Орел знает небеса, крот – землю. Вот разгадка моих предсказаний, император.
– Как все объясняется просто! – воскликнул Наполеон.
– Проста и сама жизнь, император.
– Га, да вы философ, графиня! – засмеялся Наполеон. – Вам сколько лет? Двадцать. Не более, конечно. Странно: так мало живете и так много знаете. Конечно, вы знаете и то, чем окончится мой поход в Россию?
– Знаю, император, – сказала твердо графиня.
– Да, да, припоминаю, вы уже сказали мне это: на меня обрушится вся Европа…
– Более, император.
– Ну?
– Вам придется отступить из России.
Наполеон вскочил, сильно двинув в сторону кресло.
– Что за женщина! – вскричал он. – Она, кажется, хочет быть не стряпухой, а полководцем! Впервые вижу такую выскочку, – горячился грубо император. – Госпожа Ремюза, та тоже умничала, но эта… О, вы уж слишком умны, дитя мое! – обратился император прямо к графине, сидевшей, как черное изваяние. – Умерьте ваши предсказания, а то иначе и я могу кое-что предсказать!
– Я не боюсь угроз императора, – произнесла тихо и без волнения графиня и при этом медленно поднялась.
Взволнованный император быстро шагнул к ней:
– Стойте! Не уходите! Графиня стояла, не трогаясь с места.
– О, эти женщины, – понизил несколько тон своего голоса император, – всегда лезут туда, где их не спрашивают!
Он зашагал по кабинету.
– Эти Юдифи мне не по душе!
– Кто же вам по душе, император? – проговорила графиня. – Вирсавии?
Наполеон остановился в упор перед графиней.
– Вы румянитесь? – спросил он насмешливо.
– Я для этого еще слишком молода, император.
– Га, молоды! Но румянятся и молодые. Женщина никогда не забывает о румянах. Им особенно идут две вещи – слезы и румяны! Советую и вам, графиня, заняться этими двумя вещами. Политика вам не к лицу. Вы в шахматы играете, графиня?
– Нет, император.
– Жаль. Я бы сыграл с вами партию. Посмотрел бы, кто останется в выигрыше.
– Играя, я вам уступила бы, император.
– Но я – никогда.
– Вы на это имеете право и силу, император.
– Стало быть, я имею право и на любовь? – сказал император, слегка покачивая головой и прищуривая, точно к чему-то присматриваясь, правый глаз.
Графиня молчала.
– Но я о любви своеобразного мнения, дитя мое. Что такое любовь? Это, по-моему, страстное чувство, под влиянием которого человек оставляет в стороне весь мир, чтоб обращать свои взоры только к любимому предмету. Но такая исключительность не в моем характере. Что, например, за дело моей жене до моих развлечений, если они не влекут за собой никакой привязанности с моей стороны!..
– Император, ваша жена скоро будет матерью, и ее имя можно пощадить, – проговорила с оттенком упрека графиня. – Луиза не Жозефина.
– А, это мне нравится, дитя мое! – сказал, помолчав, император, и на лице его заметно пробежала улыбка удовольствия.
Иметь сына – была заветная мечта императора, и он всегда говорил об этом предмете охотно и с радостью. Графиня затронула больное место императора. Он, задумавшись, сел к столу и оперся на локоть правой руки. Из залы, где сидели гости, послышались в это время монотонные звуки музыки Пазиелло, которую особенно предпочитал император. Там заметили долгое отсутствие императора и, предполагая, что он сел за работу, распорядились о музыке, располагавшей его к усиленной деятельности.
– Вы любите подобную музыку? – спросил император у графини как-то тихо, точно боясь нарушить окружавшую их тишину.
– Она слишком монотонна, император.
– Вы правы. Но в этом-то и сила. Только повторяющиеся впечатления способны овладевать нами вполне. Вы, графиня, повторяете свои появления ко мне, и вы овладели мною. Признаюсь, вы занимаете меня. Скажу более: я обязан вам. Спасти меня два раза от опасности – не шутка. Может быть, это не более как случай, самый пустой, ничтожный, но он для меня важен. Неблагодарным я не останусь. Требуйте наград.
– Император, лучшая награда для меня – ты! – произнесла вдруг порывисто графиня и, точно утомленная, грузно опустилась в кресло и закинула голову назад, судорожной рукой обнажив ее совсем от черного покрывала. Грудь ее поднималась высоко. Лицо пылало.
Наполеон, не торопясь, как бы исполняя привычное дело, с загадочной улыбкой на губах взял ее руку и медленно-медленно поцеловал ее…
XIX. Прерванная идиллия
Нежданным гостем он явился, Совсем нежданное сказал. БайронИюльское солнце высоко стояло над Веселыми Ясенями. День был жарок и душен. Полки князя Багратиона давно уже прошли далее, по направлению к Чаусам, но главная квартира его все еще оставалась в замке графа Валевского. Шла усиленная переписка с главной квартирой первой армии. Писал граф Сен-При. Писал адъютант князя Муханов. Писал сам Багратион. Главная квартира первой армии требовала столько отчетов, задавала столько вопросов, что князь Багратион, по его выражению, превратился из воина в подьячего.
Весь этот день с утра князь находился в каком-то странном настроении. Все окружающие это заметили и недоумевали. Всегда веселый и говорун, любивший пошутить и посмеяться, иногда довольно грубо и неразборчиво, князь впал в рассеянную задумчивость, рвал нетерпеливо недописанные письма, повторялся в вопросах, и что всего страннее: несколько раз среди серьезного разговора вдруг начинал насвистывать какую-то дикую мелодию, не то венгерский разухабистый марш, не то заунывную, но в то же время и лихую цыганскую песню. Он даже несколько раз отдавал одно и то же приказание и в разговоре с графом Сен-При назвал Барклая «ленивым подпоручиком». Граф Сен-При, начальник квартиры Багратиона, хотя и был предан своему начальнику, князю, но в то же время он был человек светский, честолюбивый, имел большие связи в Москве и в Петербурге и по своим видам вовсе не разделял ненависти князя к военному министру. Он, во всяком случае, был прозорливее своего начальника и не ошибался, полагая, что в свое время теперешние кажущиеся промахи Барклая вознаградятся сторицею. Бауцен, Кульм, Лейпциг и Парлок блистательно доказали это. Сен-При мог так или иначе поставить такой отзыв князя о Барклае на вид – и князю это было бы весьма неприятно. Но князь забыл обо всем этом. Его занимали совершенно иные мысли.
Утро не выходило у него из головы.
Появившись на пороге идиллического домика графа Валевского, князь был удивлен представившейся ему картиной и стоял на пороге, не трогаясь с места. Ни Валевский, ни Уленька сперва его не заметили. Уленька продолжала играть. Валевский слушал ее молча, лежа и закинув голову назад.
Звуки цимбал начали замирать. Еще один взмах – и все кончено.
– О, Реввека! Как все это хорошо! – проговорил, точно во сне, граф Валевский. – Дикая музыка… Я слышал подобную где-то в Испании, на берегах Таго, от цыганки… дикая – но она дьявольски шевелит мои нервы… Я люблю эту грусть, я люблю этот разгул: в них много жизни. Встань и подойди ко мне, Реввека.
Уленька поднялась, хотела подойти к Валевскому, но остановилась в испуганном недоумении, вытаращив глаза.
– Что же ты? Подойди, Реввека.
– Ах, пан Ромуальдо… туто… мы не одни…
Уленька запнулась.
– Что такое? – сказал лениво Валевский и медленно приподнялся.
– Прошу прощения, граф, – говорил Багратион, – что нарушил вашу семейную… семейную…
Валевский встал на ноги.
– Картину, хотели вы сказать, князь, – договорил граф.
– Пожалуй.
– О, это пустяки, князь! – произнес Валевский, нисколько не смущаясь. – Это мое маленькое Тиволи. Я здесь иногда провожу по нескольку часов: отдыхаю от бурь житейских.
– Чтобы насладиться новою бурею… – заметил, улыбнувшись, Багратион.
Валевский рассмеялся:
– Вы правы, князь. Но что же мы стоим? Сядемте, князь. Реввека нам приготовит кофе. Я, князь, зову эту девушку Реввекой. Но она не Реввека, она просто Ульяна Рычагова – моя певица.
Во все время, пока говорил Валевский, Багратион не спускал глаз с Уленьки. Уленька растерялась и поторопилась выйти приготовлять кофе.
По ее уходе Багратион и Валевский сидели с минуту молча. Обоим было почему-то неловко. Багратион, казалось, интересовался обстановкой комнаты. У Валевского вертелось в голове: «Зачем он зашел сюда? Что ему надо? Нечаянно зашел он сюда или нарочно?» Чтобы о чем-нибудь заговорить, Валевский начал.
– Хорошо ли, князь, провели у меня ночь? – спросил он.
– Превосходно, граф, – отвечал, как бы очнувшись, Багратион. – У вас все так хорошо, удобно, – продолжал любезно он. – Я очень рад, что начальник моего штаба, граф Сен-При, назначил у вас, именно у вас, граф, мою временную квартиру. Ваша внимательность, граф, ко мне выше того, чего я мог ожидать.
– Князь, это для меня лестно, – говорил с тою же любезностью Валевский. – Для лучшего сподвижника Суворова все двери должны быть отперты настежь.
– Вы разве любите Суворова? – спросил с оживлением Багратион.
– Прежде – он был мой идол, теперь – я его боготворю.
Багратион внимательно посмотрел на Валевского, несколько прищурившись и как бы что-то соображая, и вдруг спросил:
– А давно у вас, граф, живет эта певица?
– Не особенно.
– Вы ее откуда взяли?
– Из Москвы.
Князь как-то особенно тронулся всем корпусом вперед.
– Из Москвы? – переспросил он несколько удивленным голосом.
– Да, князь, – подтвердил Валевский.
– Она цыганка?
– Признаюсь, князь, совсем-таки этого не знаю, – объяснил Валевский, – да едва ли она и сама знает об этом.
– А! – протянул неопределенно Багратион. – Она, стало быть, какая-нибудь сирота, подкидыш?
– Скорее всего, князь, – подтвердил догадку Багратиона Валевский и рассказал князю, каким путем к нему попала Ульяна Рычагова.
Багратион внимательно слушал Валевского, чему последний немало удивлялся. Впрочем, решил он про себя, все знаменитые люди имеют свои странности. Имеет их, без сомнения, и Багратион. Валевскому даже подумалось: интересуясь его певицей, не интересуется ли полководец чем-либо другим и не выпытывает ли от него чего-либо другого, поинтереснее судьбы какой-то никому не ведомой певицы?
Уленька подала кофе. Она стыдилась и прятала лицо свое от Багратиона. Генерал был ей страшен, но в то же время и занимателен. Приготовляя кофе, она все размышляла о нем. Она представляла себе картину, как этот большой генерал командует полками и как ведет полки эти на войну. При этом припоминался ей и воспитатель ее, московский солдат, который в числе других генералов упоминал всегда имя и князя Багратиона.
«Так вот он какой, этот генерал», – думалось ей.
Опять Багратион не сводил глаз с Уленьки, и, когда та хотела уйти, он остановил ее:
– Ты постой, красавица, не уходи. Я слышал твою игру на цимбалах. Ты играешь хорошо. Сыграй еще то же, что играла.
Уленька посмотрела на Валевского. Тот, еле заметно, мотнул головой. Певица молча взяла свой инструмент. Багратион, медленно прихлебывая кофе, опустил веки, точно не желая смотреть или о чем-то глубоко раздумывая. Валевский недоумевал, что все это значит.
Уленька села на коврик и забренчала. Струны ожили, и вскоре трепетом их наполнилась вся небольшая комнатка, где сидели Валевский и Багратион.
– Хорошо, хорошо! – шептал Багратион, все еще не поднимая век и, видимо, с большим удовольствием слушая виртуозку.
Карое лицо его при этом оживлялось все более и более. Он потом вдруг открыл глаза и уставился на Валевского.
– Граф, я солдат! – проговорил князь твердо. – И потому все и всегда говорю прямо и откровенно. Оставьте меня на минуту с вашей певицей. Она мне… дочь!..
XX. Князь Багратион
Тщетны Россам все препоны, Храбрость есть побед залог. Есть у нас Багратионы – Будут все враги у ног! Павел КутузовПолучив пакет от Багратиона, Иванчеев немедленно распечатал его. В пакете оказалось длинное письмо, писанное на толстой синей бумаге.
– А, вспомнил-таки и про меня! – проговорил Иванчеев, разглядывая письмо. – А то про молодца в последнее время ни слуху ни духу. Ну-ка, полюбопытствуем, чем делится со мной старый приятель Петрушка.
«Здравствуй, дядя Ираклий! – писал Багратион. – Давно-таки я не делился с тобой словечком, все недосуг было, право слово тебе говорю, не вру и не подумай, пожалуйста, чтобы я позабыл про тебя. Ты знаешь, где я находился и как нелегко было оттуда переписываться. А теперь так и совсем того труднее, да к тому ж – и дела, брат, дела! ни отдыху, ни покою! Французы гонятся за мной по пятам, и черт знает чем все это кончится. Не знаю, как у вас там, в Москве, а у нас плохо, очень плохо, и мне думается, все это окончится скверно для нас. Наполеон идет на Смоленск, из чего надо заключить, что ему нужна Москва».
– И без тебя, миленький, знаем про это! – произнес Иванчеев и продолжал читать:
«В Смоленске думаем соединиться, ежели ничто не помешает, а помешать могут каждую минуту. Коли соединимся, буду настаивать на «генеральном». Я уж писал об этом графу Аракчееву. Но тот что-то отмалчивается или говорит что-то совсем другое. Вообще, говорят у нас много, а делают – ничего. Один только Ермолов и бьется кое-как, желая, чтобы и овцы были целы, да и волки сыты. Чудак-человек! Да разве я пойму когда-нибудь Барклая, а он меня! Ни в жизнь. Он хитрая лисица, это правда, но до полководца русской армии ему еще далеко, особливо при таких сложных обстоятельствах, да еще с таким соперником, как Наполеон. В армии все им недовольны, и – ручаюсь чем угодно – он не удержится на своем посту, отчего, правду сказать, мне будет не легче. На ком государь остановится – не знаю, но, смею думать, никак не на мне. У меня везде достаточно и друзей и врагов, последних больше, и те мне усердно подставляют ножку, находя меня человеком не особливо «стоящим». А сами-то они чего стоят! Только интригуют да ругаются, а коль до дела дойдет, так и на попятный. Сколько советчиков и героев было до войны, а теперь – где они? ни слуху ни духу, попрятались в свои норы да подсовывают под пули наши головы. А пуль для наших голов у Бонапарта немало. Я уж был в нескольких стычках, небольших, но довольно горячих. Солдаты наши молодцы, более чем молодцы – львы. Поверишь ли, дядя Ираклий, кабы наших солдатиков да Наполеону – он бы чудеса творил в мире. Впрочем, и его солдаты ничего себе, народ школеный, да только в них все же таки не хватает чего-то, нет этой удали и силы чувства, как у нашего солдата. Люблю, братец мой, солдат, а теперь особливо. Часто с ними беседую и подчас в них нахожу столько ума, что хоть бы и не солдату. Однако ж, дядя Ираклий, я заговорил с тобой о таких вещах, которые для тебя, вероятно, совсем неинтересны. У меня есть вещица не в пример интереснее! Слушай, да слушай хорошенько, в оба уха, не пророни ни единого словечка. Я нашел свою дочку!»
Как ни хладнокровен, как ни ровен был ко всему Иванчеев, но при этих словах своего давнишнего приятеля пришел в неописанное изумление и несколько раз прочел поразившее его место. Потом, не продолжая письма, прошелся раза два по комнате и закурил трубку.
– Га, нашел дочку! – произнес, походив, старик. – Но какую дочку? Уж не от той ли цыганки? Вероятно, от той цыганки. О другой какой-либо дочке речь ему вести со мной не к чему. Ну-ка погляжу, догадлив ли я на старости лет.
Иванчеев продолжал чтение.
«Да, я нашел свою дочку, дядя Ираклий! И представь: у ней много общего и с матерью и со мной. Вылитая Джальма и твой Петрушка Багратион во времена оны».
– Так и есть, я не ошибся. Речь идет о цыганке, – сказал Иванчеев.
«Да и поет, и бренчит на цимбалах точно так же, как пела и бренчала Джальма, – пояснял в письме Багратион. – Открытие совершилось при самой поэтической обстановке, ни дать ни взять в рыцарском романе. Я обрел ее в поместье графа Валевского, у которого она состоит певицей и – это мне не особливо понравилось – метресской. Но что делать! Что совершилось, то должно было совершиться. Впрочем, граф человек умный, приятный и дал мне слово сделать ее своей супругой. В добрый час! Граф настолько заинтересовался – человек он вообще романический – этим событием, что примкнул к моей квартире, нарядился в мундир улана и теперь следует за мной, доказывая, что он воин не только не бесполезный, но даже в некоторых случаях необходимый. За нами следует и Ульяна Рычагова – таким неблагозвучным именем зовут мою дочку – и очень рада, что такой генерал, как я, имею честь быть ее отцом. Первое мое объяснение с нею было несколько комично. Она меня пугалась и смотрела диким зверьком, вослицая «пан» да «пан». Наконец, помаленьку обошлось и разрыдалась на моей груди. Черт возьми, дядя Ираклий! Я пережил одну из счастливейших минут в моей жизни. Ты очень хорошо знаешь, что в женитьбе я несчастлив. Благодетель император дал мне чины, деньги, красавицу жену, но не дал любви и семейного счастья. Как ни глупо, но я Джальму любил всем пылом своего молодого сердца. О, молодость, молодость! Помнишь ли, дядя Ираклий, как я под твоим покровительством и даже на счет твоего кошелька приютил Джальму у Дорогомиловской заставы, в маленькой квартирке, и езжал к ней каждый вечер, забывая даже о тебе, мой добрый дядя? Помнишь ли, как она любила меня и как ее отец выуживал у меня последние деньжонки? Ты все помнишь, дядя Ираклий. Помнишь и то, как я, наконец, должен был покинуть Москву и вместе с тем ее, мою Джальму. Помнишь, конечно, и то, как и она исчезла из Москвы и что никакие наши усилия к отысканию ее не привели ни к чему. Ты все помнишь, дядя Ираклий. О, молодость, молодость!»
Иванчеев остановился. На глазах его, старческих и усталых, сверкнула слеза. Старик всегда любил Багратиона и радовался его успехам. Воспоминания Багратиона шевельнули воспоминания и в его сердце. Он живо припомнил, как молодой князь, Петр Иванович, перебиваясь кое-как в Москве, решил наконец поступить в военную службу. Старику не верилось тогда, чтобы Петруша пошел далеко, и он говорил молодому человеку:
– Э, полно, брат! Военная служба не калач – сразу не раскусишь. И побойчей тебя молодцы, да и те недалеко уходили.
– Ну, там посмотрим, дядя Ираклий! – говорил весело князь. – Авось до полковника-то кое-как доплетусь, – и тут же напомнил старику о гороскопе, который он составил для него и по которому князю предстояла великая будущность.
Старик тогда смутился, так как предсказание его как-то не вязалось с тем, о чем он только что говорил молодому князю.
С улыбкой молодости князь простился со стариком, с улыбкой оставил его дом – и затем, на несколько лет, пропал как-то бесследно. Старик считал уже князя погибшим, как вдруг о нем получилось известие. Князь уже был в чинах и обращал на себя внимание. Скромным, добродушным письмом Багратион известил Иванчеева о своих успехах и опять надолго замолк. В Италии Суворов заметил Багратиона и полюбил его. Имя Багратиона стало известным. На него посыпались ордена. Австрийская кампания уже совсем выдвинула Багратиона и поставила наряду с лучшими генералами. В Москве после этой кампании ему уже делается дворянством торжественный прием, Державин пишет в честь его стихи, а за ним и другие поэты славословят его храбрость.
Тут старик Иванчеев увидал Багратиона. Австрийский герой посетил старика. Встреча их была проста и трогательна. Перед Иванчеевым и доселе, как живой, стоит образ князя Петра Ивановича в новом мундире, в орденах, с нагайкой через плечо. Князь много шутил, припоминал старое, выкурил трубочку, выпил чашку кофе и покинул старика, и опять надолго.
Что-то грустное и смутное оставил по себе Багратион в серд це Иванчеева. Любя князя, старик все-таки не понимал его. Старческий каприз Иванчеева хотел видеть князя тем же добродушным юношей Петром Ивановичем, каким он видел его прежде. Мундир с орденами смущал старика, вообще тихого и ведущего затворническую жизнь.
В Финляндии Багратион еще раз отличился – и к двенадцатому году он уже был генерал от инфантерии и командовал второю армией. Иванчееву это хорошо было известно, но князь о себе что-то ничего не сообщал.
Иванчеев вспомнил о гороскопе князя и сказал:
– Я не ошибся. Князь действительно играет в этой войне одну из видных ролей. Но…
Иванчеев припомнил еще что-то, постоял в раздумье и опять стал читать письмо князя.
«Да, дядя Ираклий, я теперь переживаю приятные минуты, но… но – поверишь ли – одна глупость иногда несколько отравляет меня. Ты знаешь о ней. Мы говорили как-то с тобой о том в день свидания. Вот уж сколько лет, а она у меня не выходит из головы. Каждое седьмое сентября, невзирая на всю твердость моего характера, я чувствую себя отвратительно. Еще глупее: в этот день я запираюсь и никого не принимаю. Посмейся со мной, дядя Ираклий, и скажи: «Ай да главнокомандующий, – испугался цыганских бредней! – вот бы кого палками!» Особливо эта дрянь не выходит у меня из головы со дня свидания с дочерью. Джальма в своем полосатом платке у Апшеронской часовенки стоит передо мной неотразимо. Седьмое сентября близится… Неужто, дядя Ираклий…»
– Все может быть, князь! – проговорил серьезно Иванчеев и шагал в раздумье по комнате.
XXI. Барклай де Толли
О, вождь! несчастливый! суров был жребий твой: Все в жертву ты принес земле тебе чужой. Непроницаемый для взгляда черни дикой, В молчаньи шел один ты с мыслию великой. А. ПушкинРовно восемнадцать дней Наполеон пробыл в древней столице Литвы – Вильно. Он не привык так долго сидеть на одном месте, но Вильно была последнею точкою соединения его с Европою, и ему, вероятно, многое надо было устроить прежде того, чем углубиться в недра России, откуда уже все внешние сношения его должны были быть и ненадежны и затруднительны.
В Вильно он назначил герцога Бассоно литовским губернатором и возложил на него всю переписку с Парижем и с войсками, сделав его, таким образом, посредником распорядительных политических и даже военных сношений между императором и его владениями.
Лично сам Наполеон почему-то бездействовал.
Первая русская армия под начальством Барклая отступала. Вторая, под начальством Багратиона, старалась соединиться с первою. Положение второй армии было поистине отчаянное, но Наполеон сразу не заметил этого и не воспользовался безвыходным положением Багратиона. Правда, он потом понял это, но было уже поздно. С беспримерной настойчивостью, кидаясь то туда, то сюда, Багратион, наконец, шел почти беспрепятственно для соединения с главной армией.
Все окружающие Наполеона заметили при этом важном случае необычайную медленность его движений и приписывали эту медленность упадку его физических сил.
С великим императором в это время в самом деле происходило нечто загадочное. Он был то непомерно раздражен, то непомерно весел и говорлив, но приливы веселья и говорливости были в нем как-то искусственны и тяжелы.
Раздражение императора первым на себе испытал король Вестфальский, брат Жером. Император обвинил его в том, что он не сумел удержать Багратиона, и выслал короля из армии, не дав ему даже конвоя.
В свою очередь, король, раздраженный несправедливостью императора, заметил:
– Не пришлось бы и самому императору, подобно мне, убраться из России налегке.
Узнав о таком отзыве брата-короля, Наполеон пришел в бешенство.
– Щенок! – ругался он. – Не сумев вовремя разбить наголову Багратиона, он хочет неудач и другим, чтоб оправдать свои! Но он лжет! У меня еще армия сильна и без таких полководцев, как он, я буду в сердце России, как у себя в Париже!
Приказано было массу войск двинуть на Витебск. В это время в армии начала уже оказываться зараза. Армия, снаружи грозная и сильная, носила уже в себе зародыш уничтожения. Солдаты питались незрелыми растениями, парили их в горшках и ели без всякой приправы. По дорогам валялись обнаженные трупы солдат и поселян. Картина опустошения расширяла свои пределы по мере дальнейшего вторжения французов в Россию. Все окрестности большой дороги заняты были разными прислужниками, мародерами, женщинами-авантюристками, находившимися при обозах, и должностными чинами… Там были своего рода ярмарки: фуражиры продавали награбленную добычу, разноплеменные народы ссорились за нее, сыпались ругательства на всех языках.
При вступлении неприятеля в Витебск, от тесноты и разных лишений, зараза усилилась и голод оказался ощутительнее. Об этом доложили Наполеону.
– При хорошем распоряжении солдаты никогда не умирают с голоду! – отвечал он.
В то время Витебск считался границей России. Все полагали, что Наполеон остановится там зимовать.
Он говорил:
– Здесь, на берегах реки Двины, конец походу двенадцатого года. Поход тринадцатого года довершит остальное.
Потом, обратясь к графу Дарю, Наполеон прибавил:
– А вы, граф, заготовляйте нам продовольствие. Мы не повторим безумия Карла XII. Надобно обдумать, куда идешь, чтоб уметь выйти оттуда.
Отдан был приказ выписать из Парижа в Витебск актеров. За недостатком зрительниц хотели пригласить дам из Вильно и Варшавы.
Холодный и спокойный Барклай мало верил тому, чтобы Наполеон остался надолго в Витебске, и потому сам вознамерился задержать там неприятеля, чтобы дать тем время князю Багратиону спешить на соединение с первой армией. С этой целью он решился принять сражение сперва впереди города, а потом позади его. Против сражений возражал начальник главного штаба Ермолов и настойчиво требовал отступления армии, так как наши позиции были в высшей степени невыгодны. На собранном военном совете все единогласно согласились с мнением Ермолова. Между тем ожесточенная схватка уже началась. Барклай приказал войскам начать отступление. Отряды, находившиеся в схватке, много способствовали отступлению, так как неприятель был уверен, что перед ним находится вся первая русская армия. Предводительство войсками взял на себя сам Наполеон и намерен был разбить русских наголову, что и случилось бы наверное, если бы русские вовремя не отступили.
Только поздно ночью Наполеон узнал о своей ошибке и – в сильном раздражении – приказал преследовать русских, куда бы они ни пошли. Пустой случай разрушил план Наполеона относительно зимовки в Витебске.
Наши войска отступали к Поречью и Смоленску. В Смоленске наступило желанное соединение армий. Князь Багратион приехал к Барклаю с несколькими генералами, большою свитою и пышным конвоем. Главнокомандующие встретились с возможным изъявлением вежливости, со всем видом приязни, но с холодностью и отчуждением в сердце. Они друг друга мало понимали.
Войска оживились. Все стали ожидать чего-то необыкновенного и решительного. Больше всего надежд возлагали на Багратиона. В нем видели преемника Суворова, и в храбрость его верили, как в святыню. Князя везде встречали с радостью и с восхищением. Совсем иначе смотрели на Барклая. Не только офицеры, но даже и солдаты осуждали его действия и видели в нем изменника отечеству. Откуда взялось это мнение, кто пустил его в ход, чем оно оправдывалось – неизвестно.
Скромно и молчаливо сносил Барклай осуждения и, казалось, не замечал их.
Он привык в жизни больше делать, чем говорить.
Долго невидная служба покоряла Барклая де Толли общему порядку постепенного возвышения и, стесняя надежды, стесняла и его честолюбие. Он из скромности был невысокого мнения о своих способностях. Быстрым, порывистым ходом он вдруг достигнул назначения главнокомандующим в Финляндии и потом, неожиданно для себя, получил звание военного министра, а вместе с тем и власть главнокомандующего первою армией. Такие быстрые возвышения возродили против него зависть и породили много неприятелей. Неловкий у двора, он не расположил к себе близких к государю людей, а своею холодностью не снискал приязни равных и не сделал приверженным к себе подчиненных. Он был то чрез меру недоверчив, то доверчив до чрезвычайности и способными людьми окружать себя не умел. Бедность не покидала его, и потому он отдалялся от общества. Семейная жизнь Барклая была также не весела. Воздержан он был во всех отношениях. Храбрость его была безмерна, опасностей он не знал, и страх был ему недоступен.
Только такой человек и мог довести русских до Бородина и безропотно передать власть главнокомандующего в руки другого великого человека.
XXII. Князь Кутузов
…народной веры глас Воззвал к святой твоей седине: «Иди, спасай!» Ты встал – и спас. А. ПушкинОтгремел бой в Смоленске и под Смоленском. Развалины Смоленска были оставлены неприятелю. Это дало пищу к обвинению Барклая, и его положение, как главнокомандующего, стало несомненно шатким. Уже нисколько не стесняясь, кто хотел, тот и порицал Барклая. Дело дошло до того, что его почти в лицо бранили молодые офицеры. Умный и рассудительный, Барклай сносил все это безропотно и со дня на день ожидал смены.
Она не замедлила совершиться. Под селением Царево-Займище Барклай узнал, что главноначальствующим над всеми действующими армиями назначен князь Голенищев-Кутузов. Назначение Кутузова было встречено в войсках восторженно. Барклай был забыт и заброшен, точно его не существовало и точно он не принес пользы ни на одну каплю.
Кутузов не замедлил прибыть из Петербурга в Царево-Займище. С его прибытием сразу кончились несогласия, и все ожидали порядка, успехов и славы. Возродилась надежда кончить и отступление, которое стало всем невыносимо и было гибельнее схваток с неприятелем. Первый приказ Кутузова был, однако ж, тоже об отступлении, хотя позиция под Царевом-Займищем и была признана во всех отношениях удобной для битвы. Князь ожидал подкреплений, приближавшихся к армии.
Кутузов родился в 1745 году и образование получил в Инженерном корпусе. К военным наукам он не имел никакой склонности и любил более словесность, которую не покидал во всю жизнь. Чтение романов было одним из любимейших его занятий. Он пописывал даже стихи. Судьба, однако ж, готовила ему иное поприще. Лавры воина увенчали его вечной славой. От природы он был страшно самолюбив и горяч. В молодости он был до того вспыльчив, что когда командовал полком и был недоволен учением, то, сойдя с лошади, бросался на землю, метался и чуть не плакал. Первый офицерский чин он получил на семнадцатом году и командовал ротою в полку Суворова. Затем он находился в польской войне и в войне с Турцией, в Крыму. Тут обнаружилась его храбрость. Ему поручили напасть на укрепление при Шумле. Впереди войск со знаменем в руках он ворвался в неприятельский стан и был ранен пулею. Рана заставила его поехать за границу для лечения, где он занялся военными науками, и возвратился в Россию с превосходными познаниями в военном искусстве. За усмирение бунта в Крыму он был произведен в генералы. Во вторую турецкую войну он уже командовал отдельным корпусом. При осаде Очакова он был снова ранен пулею. При знаменитом в военной истории взятии Измаила Кутузов играл одну из первых ролей и был назначен Суворовым комендантом этой крепости. С этого времени поручения, даваемые Кутузову, становились все более и более важными. После войны он отправлен был послом в Константинополь и окончил поручения блистательно. По возвращении из Турции он был назначен сперва начальником кадетского корпуса, а потом – Казанским и Вятским генерал-губернатором и начальствующим крепостями и сухопутными силами в Финляндии. Император Павел отправил Кутузова послом в Берлин. Император Александр назначил его Петербургским военным генерал-губернатором. 1805 год поставил Кутузова уже на такую высоту, на которую становились немногие из его предшественников. Затем, через несколько лет он благополучно окончил войну с Турцией на берегах Дуная и почему-то вдруг впал в немилость и был назначен приготовить в Петербурге какое-то незначительное ополчение. Назначение это было равносильно оскорблению. Старик покорно сносил его, относясь, однако ж, серьезно к своему назначению.
Отступление Барклая и недовольство им в армии вдруг заставили всех в Петербурге обратить внимание на старика-воина. Стали открыто высказывать, что только назначение Кутузова остановит стремительный ход Наполеона в недра России. Государь имел великодушие не воспротивиться этому желанию общества. Он сперва дал Кутузову княжеское достоинство, а потом назначил и полномочным главнокомандующим армией и всего края, занимаемого войсками.
Среди общего довольства по поводу назначения главнокомандующим Кутузова один только Багратион встретил это назначение холодно и с нескрываемой досадой говорил:
– Нашли кого назначить, старого развратника, который только и умеет возиться с девчонками да дремать на советах.
Кутузову не замедлили шепнуть об этом.
– Ох! Ох! – замотал головой старик. – Горяч больно! Вот поглядим, кто заснет скорее…
Недовольство Багратиона было понятно: он более других рассчитывал занять место Барклая. С этой целью, вопреки своему рыцарскому характеру, он унизился даже до рода какого-то доноса на Барклая в письме к Аракчееву. В этом письме он жаловался на медленность и неспособность Барклая, упрекал его за сдачу Смоленска, уверял, что под Смоленском выгоднее всего было бы дать генеральное сражение и легко можно было бы разбить Наполеона. Далее он советовал собирать ополчение, потому что неопытный и в высшей степени осторожный Барклай скоро приведет неприятеля в Москву. В заключение он уверял, что Барклай не любим не только что им, но даже и всем войском. «Вся армия плачет и ругает его насмерть», – писал он.
С назначением Кутузова Багратион сам становился в роль Барклая.
XXIII. Бородино
Изведал враг в тот день немало, Что значит русский бой удалый, Наш рукопашный бой! Земля тряслась – как наши груди. Смешались в кучу кони, люди, И залпы тысячи орудий Слились в протяжный вой… М. ЛермонтовПосле Смоленска Наполеон искал сражения за Дорогобужем, у Вязьмы, потом у Царева-Займища, но, однако, до самого Бородина ему не пришлось вступить в борьбу с русскими.
В Вязьме Наполеон объявил войскам:
– Теперь цель наших движений – Москва, эта азиатская столица великой империи, священный город народов Александ ра! Та Москва, где мы увидим бесчисленное множество церквей в форме китайских пагод и где мы найдем множество золота, серебра и обильное продовольствие!
Узнав о назначении Кутузова главнокомандующим, Наполеон смеялся:
– Это не тот ли старичок, который умеет отлично бегать? Га, это хорошо! Я ему еще раз дам повод бежать, только не из Баварии, а из своей Московии, за Волгу, в киргизские степи.
Наполеон и в самом деле не тревожился новым назначением, даже более: он был доволен этим назначением, весьма вероятно допуская, что новый главнокомандующий будет вынужден вступить с ним в генеральную борьбу. Барклай своим отступлением и своею осторожностью тревожил его несравненно более.
Но русские войска все еще отступали. Отступление было тяжело. Продолжительный жар и засуха утомляли войска до бесконечности. Пыль на четверть аршина покрывала собою дорогу и столбом стояла в воздухе. Люди шли, обвязав носы и рты платками. Сквозь пыль солнце казалось багровым и еще более разжигало и без того уже горячий воздух.
От Смоленска наши войска шли уже всей армией, в огромной массе, и потому продовольствие для лошадей доставать было трудно. Овсу цены не было. Продовольствие для людей добывалось даром. Для говядины ловили и забирали рогатый скот, овец и свиней. Жители не только не противились, но даже предлагали брать все, говоря:
«Берите, батюшки, берите, родные, чтобы не досталось французу».
Французы ломились на русских бодро и смело. Русские, со времени назначения Кутузова, были уверены, что вскоре сражение произойдет страшное, но нисколько не унывали.
При отступлении от Смоленска арьергард наш плохо удерживал напор французов, и потому армия, отступая, принуждена была идти без разбора и днем и ночью. Кутузов усилил арьергард, который каждый день по возможности удерживал французов, и армия регулярно поутру подымалась, днем имела привал, а вечером, в свое время, останавливалась на ночлег.
Это нравилось солдатам, и они говорили:
«Не успел приехать старик Кутузов, как уж пошли другие порядки».
Сперва Кутузов решил дать сражение у Колоцкого монастыря близ Гжати, производилось даже построение укреплений, но потом позиция для обоих армий была назначена далее, на одиннадцатой версте, не доходя г. Можайска, при селении Бородино, лежащем в четырех верстах от Москвы-реки.
Кутузов часто объезжал армии. Сидя верхом на своей небольшой гнедой лошади, в сюртуке без эполет, в белой фуражке и с казачьей нагайкой через плечо, он хитро и пристально ко всему приглядывался и плутовато посвистывал.
«С такими молодцами все отступать да отступать!» – приговаривал он при этом.
Отступление наше от Гжатска до Бородина было не что иное, как продолжительное сражение с небольшими роздыхами. Французы продвигались вперед медленно, по трупам своих товарищей.
Бородино принадлежало тогда Денису Давыдову, известному партизану. В своем же имении он, с благословения Багратиона и с разрешения Кутузова, получил право на партизанство. Вместе с Сеславиным и Фигнером он немало наносил вреда неприятелю.
Замечательно, что на равнине Бородина струятся четыре речки с названиями Войня, Колоча, Стонец и Огник.
Дойдя до полей Бородинских, французская армия вдруг распахнулась направо и налево: представились необозримые движущиеся толпы, кажется, поля гнулись под множеством конницы, леса наполнились стрелками, пушки вытянулись из-за кустов.
«Теперь ни шагу назад!» – произнес Кутузов, остановясь при Бородине.
«Мы назовем эту битву Московской!» – сказал Наполеон, видя приготовления русских к битве.
Осматривая ряды нашего войска и приметя непоколебимое мужество, отразившееся на лицах солдат, Кутузов, улыбаясь, заметил:
«Французы переломают над нами зубы – я знаю это верно».
Накануне роковой битвы с утра все приготовлялось для нее: артиллерию развозили по местам, солдаты острили штыки, белили портупеи, будто готовясь на парадный смотр. Жизнь, готовая скоро остыть, кипела еще вполне…
Настал полдень. Вдруг среди русских войск раздалось стройное, священное пение стихары: «Заступница наша усердная». То носили по приказанию Кутузова чудотворную икону Смоленской Божией Матери. Шли молебны. Кутузов несколько раз прикладывался к иконе, за ним прикладывались все по порядку. Неприятели с насмешкой смотрели на эту благоговейную картину молебствия русских, называя это изуверством. Мечты о славе и победе заменяли им молитву.
В их рядах раздавались разноязычные песни, хохот, хлопанье пробок из бутылок и шумные восклицания. Играли в штос и любезничали с авантюристками.
Сам Наполеон проснулся в этот день довольно рано. Он был совершенно спокоен, даже в хорошем расположении духа. Накануне, вечером, когда приказания были отданы, он провел несколько приятных часов наедине с графиней Валевской. Любезная красавица графиня, бывшая незнакомка в черном покрывале, уже не покидала Наполеона и развлекала его в одиночестве. Графиня была восхитительна, не пророчествовала уже более бед, напротив, предсказывала Наполеону блестящие победы.
– Вы уверены? – смеялся Наполеон.
– О, император! – восклицала раскрасневшаяся графиня.
Император трепал графиню по щеке.
В свою палатку графиня ушла только на заре, оставив в императоре ощущение приятно проведенного времени.
Император натирался одеколоном, когда ему доложили о приезде из Парижа гонца. Гонец привез императору радостную весть. Императрица подарила его наследником. Портрет маленького сына Наполеона, почему-то названного королем Рима, был выставлен у палатки. Наполеон, любуясь сыном, чуть не прослезился. Тут же присутствовавшая графиня с особенным вниманием следила за императором. Затем Наполеон приказал вынесть портрет к войску.
– Виват, император! Виват, король римский! – кричала армия, увидав изображение маленького римского короля.
Императору подан был завтрак. Пуншу было выпито им более обыкновенного. После завтрака он продиктовал приказ армии.
«Воины! – говорилось в этом приказе. – Вот сражение, которого вы столько желали. Победа зависит от вас. Она для нас необходима: она доставит нам все нужное – удобные квартиры и скорое возвращение в отечество. Действуйте так, как вы дейст вовали при Аустерлице, Фридланде, Витебске и Смоленске. Пусть позднейшее потомство вспомянет с гордостью о ваших подвигах в сей день. Да скажут о каждом из вас: он был в великой битве под Москвою».
Окончив этот приказ, император отправился кататься верхом. Он осмотрел поле сражения, выслушал замечания нескольких маршалов о предстоящей битве и, отдав приказания, возвратился в свою палатку. Вечером он во второй раз поехал по линии.
– Шахматы поставлены, игра начинается завтра, – сказал он, обращаясь к своему дежурному адъютанту Раппу.
– Да, игра будет достойная вашего величества, – отвечал Рапп.
Выпив пуншу, Наполеон прилег отдохнуть, но ему не спалось. Тревожное чувство волновало его. Он вышел в теплом пальто и стал бродить около палатки. Легкая женская фигура подошла к нему.
– Вы, графиня? – спросил император и, не дожидаясь ответа, продолжал, взяв графиню за руку: – Завтра предстоит ужаснейшая битва, вас не пугает это, дитя мое?
– За победными знаменами вашего величества страха не существует, – отвечала тихо графиня.
– Гм! – промычал император. – Мне бы хотелось услышать от вас что-нибудь более толковое, чем эти общие места моих солдат. Говорят, что женщины прозорливее мужчин. Ну, вы, прозорливица, – произнес император несколько грубо и раздражительно, – скажите: что обещает завтрашняя битва?
– Вы хотите знать истину, император?
– Одну истину.
– Солнце Аустерлица не взойдет над полями Бородина! – сказала медленно графиня.
– Подите прочь! – почти вскричал император, кидая руку графини. – Не ваше место здесь!
Графиня скользнула куда-то в сторону.
Ночь была темна и непроглядна. На биваках обоих войск пылали бесчисленные огни, метавшие багряное зарево свое на далекое пространство. Пламя, отражавшееся на небе, как бы предзнаменовало пролитие крови на земле. Часовые расхаживали взад и вперед, всадники, проезжая с фуражом, раздавали сено и овес. Вокруг каждого костра стояли, сидели и лежали отдельные кучки воинов. В иных местах слышался стук от рубки дров, ломание сараев и заборов. Все толковали о предстоящем деле. Все на стороне русских предполагали, что будет славное дело. Наполеон и его солдаты – не шутка. Но страха как-то не замечалось. Солдаты как-то сроднились с мыслью о смерти, мало кто думал выйти из этой войны целым: не сегодня, так завтра убьют или ранят.
Кутузов был невозмутим. Распоряжения делал спокойно и не торопясь. Лежа на грубой постели в крестьянской избе, он долго читал какой-то французский роман, по временам отрываясь от него, чтобы выслушать какое-либо донесение. Вид он имел, однако ж, какой-то утомленный, сонный, точно его вовсе не занимало предстоящее дело.
На долю князя Багратиона выпал левый фланг. По расположению позиции Кутузов очень хорошо знал, что силы французов более всего устремятся на Шевардинский редут. Кроме князя Багратиона, никто не мог удержать подобной позиции.
Багратион поместился в сарае. Сарай был высок и поместителен. Там была его квартира, в которой вместе с ним поместился адъютант его, князь Федор Гагарин, и граф Ромуальд Валевский с Уленькой Рычаговой, нарядившейся в казацкий кафтан. Казацкий наряд очень шел к молодой смуглянке, и редко кто подозревал, что грубый казацкий кафтан прикрывает высокую девичью грудь.
Тревожен и угрюм был Багратион накануне Бородинского сражения. Тоска тревожила его. Он не находил себе места и вследствие этого отдавался самой горячей деятельности.
Кутузов завернул к нему и удивился деятельности князя. Не было сомнения, что князь все предусмотрел и в нем неприятель встретит защищающегося льва.
– Благодарствуйте, Петр Иванович! – низко поклонился ему Кутузов. – Авось, бог даст, и отблагодарим Бонапарта за все про все.
Князь пожал только руку старика.
До поздней ночи Багратион возился с Давыдовым, который испрашивал инструкций и советов. В эту ночь Давыдов должен был отправиться на свои партизанские набеги.
Князь наконец прилег отдохнуть. Но ему не спалось, как не спалось, без сомнения, тысячам людей, наводнившим дотоле неведомые поля Бородина. Думы одна другой мрачнее лезли в голову князя. Он припоминал прошлое, настоящее и сам не мог объяснить причину своей печали.
«Неужто я буду завтра убит? – мелькало в голове князя. – Но ведь завтра не седьмое сентября!»
При этой мысли князь даже рассердился на себя.
– Какой глупец! Какой глупец! – сказал он уже вслух.
При всем, однако ж, желании отделаться от глупых мыслей глупые мысли решительно одолевали его. Он припомнил давнишнее предсказание Иванчеева. «Ведь сбылось же! – вертелось в его голове. – Отчего же это не может сбыться!»
В полночь в сарай вошел Валевский с Уленькой. Он всюду бродил и все показывал Уленьке, которая с любопытством, превышающим самый ужас, осматривала грозные приготовления к бою.
– А, граф! Вы? – встретил его Багратион, привстав с какой-то наскоро приготовленной постели.
– Что, князь! Ведь битва-то будет чертовская! – сказал Валевский.
– Полагаю.
– Не отправить ли нам нашего героя, – Валевский мотнул головой в сторону Уленьки, – куда-либо в безопасное местечко?
– Ни за что! – вмешалась Уленька, геройски поднимая голову с загорелыми до темноты щеками и глазами, блестящими, как огоньки.
– Видите, граф, – произнес Багратион, глядя искоса на дочь, – что ваша защита ни при чем. В ней багратионовская кровь, и она, я думаю, не испугается бородинских пуль, как не испугалась пуль смоленских.
Князь махнул рукой и закрыл глаза, показывая вид, что хочет спать. Валевский с Уленькой отошли. Они вскоре, улегшись на своих местах, заснули. Багратион не спал. Полежав, он вышел из сарая, прошелся по редуту, поговорил с солдатами. Возвратившись, он посмотрел на спящую Уленьку, поцеловал ее тихо, медленно прошелся раза два по сараю и лег. Сон охватил его как-то сразу.
В половине шестого утра раздался первый выстрел со стороны французов. До этого времени Наполеон, проснувшийся рано, беспрестанно посылал узнать: не уходят ли русские? И, получив удовлетворительный ответ, повторял:
– А, это хорошо!
В пять часов утра прискакал к Наполеону курьер, посланный от маршала Нея, с известием, что русские выстраиваются уже на месте, готовые к бою.
– Лошадь мою, лошадь! – воскликнул Наполеон. – Пойдем отворять московские ворота!
Окруженный своими маршалами, он вскоре был уже на высотах села Шевардина.
Раннее утро было холодно и пасмурно, и сквозь нависший на землю туман чуть видно было движение массы враждующих армий.
Наполеон увидел, что здесь собраны были все силы русских.
– Сквозь этот туман, – сказал он, – я думаю, взойдет аус-терлицкое солнце, – и запел, – О, эта победа
Откроет нам путь!На востоке вспыхнуло яркое солнце. День обещал быть прекрасным. Лучи ослепительно заиграли на меди пушек и скользнули по смертоносной стали штыков и ружей.
– О, я говорю, что это аустерлицкое солнце! – снова воскликнул Наполеон, наподобие актера простирая к солнцу руку.
– Да здравствует император! – отвечали ему солдаты. – Мы взяли Вену, Берлин, Мадрид, Рим и Неаполь – возьмем и Москву!
Совсем иначе вел себя его соперник, Кутузов.
Он с ранней зари находился на возвышенном месте, в деревне Горках. Обозревая оттуда всю местность, он хладнокровно расставлял свои полки, чувствуя всю важность битвы, и говорил начальникам войск:
– Сберегайте резервы, кто их сохранил, тот еще не побежден, наступать колоннами и быстро действовать штыками.
Наших солдат поставили в боевой порядок, им прочитали краткое воззвание главнокомандующего, самое важное и впечатлительное выражение в котором было: «За нами Москва».
Все расположения были уже сделаны, все предусмотрено и обдумано. Никакому поэту и художнику не нашлось бы безопасного места, откуда бы он мог наблюдать за картиной сражения.
Первое французское ядро упало на то место, где Кутузов ночевал.
Войско наше, в глубоком, но грозном безмолвии, двинулось против врагов. Французы, со штыками наперевес, перешли за реку Колочу, – и вдруг раздался гром из нескольких сот огнедышащих жерл. Наши отвечали тем же. Пошла страшная трескотня канонады: казалось, что громы воздушные уступали место громам земным. Войска сшиблись, и густые клубы дыма, сквозь который прорывались снопы пламени, закутали их. Огненные параболы гранат забороздили небо, понесся невидимый ураган чугуна и свинца. Столкновение противников было самое ожесточенное. Остервенение не имело пределов. Многие из сражавшихся, побросав свое оружие, сцеплялись друг с другом руками, раздирали друг другу рты, душили друг друга в тесных объятиях и вместе падали мертвыми. Здесь бился Восток со всем Западом, здесь бился Наполеон за всю свою будущность.
И в самом деле, в этот день Наполеон был неузнаваем. Какая-то беспокойная суровость выражалась на его лице, и по временам он очень пристально всматривался на поле сражения. С каждой минутой чувство недоумения и беспокойства все более и более овладевало Наполеоном. Он не ожидал встретить такого сильного отпора со стороны русских. Он думал найти в русских прежних противников Аустерлица и Фридланда и с ужасом замечал, что он ошибается. Все приемы, все средства, которые доставляли ему многие победы, были пущены в дело, но не приносили ожидаемой пользы. В былые сражения через два, много через три часа к нему скакали маршалы и генералы с поздравлениями, а теперь уже адъютанты то и дело доносили ему, что русские все стоят и стоят. Ужас, холодный и жестокий ужас овладевал императором, не знавшим прежде никаких ужасов. Он уже не рассчитывал на победу, а перебирал в уме своем все случайности, которые бы могли быть для него несчастны. Пунш он поглощал стакан за стаканом. Лицо его стало желто, опухло, и нос покраснел. У него, однако ж, достало духу заглушить в своем сердце все человеческие струны и написать в Париж, что поле битвы было великолепно, потому что на нем было пятьдесят тысяч трупов.
Кутузов не вдохновлял себя пуншем. Он сидел на лавочке, покрытой ковром, понурив свою старческую голову. Старик понимал, что участь сражения зависит от духа в войске, и потому не столько интересовался донесениями, сколько всматривался в выражения окружающих лиц.
Бой между тем продолжался, принимая все более и более ужасающие размеры. Трупами завалено было уже все поле, и артиллерия скакала по ним, как по бревенчатой мостовой, втискивая их в землю, упитанную кровью, и все это происходило на пространстве одной квадратной версты. Многие батальоны перемещались между собою, так что нельзя было различить неприятелей от своих. Люди и лошади, страшно изуродованные, лежали в разных группах. Раненые, покуда могли, брели к перевязкам, начальников несли на плащах. Пронзаемые штыками и поражаемые картечью, солдаты в некоторых местах спирались до того, что, умирая, не имели места, где упасть на землю. Ядра сталкивались между собою и отскакивали назад. Чугун и железо отказывались служить мщению людей: раскаленные пушки не могли выдерживать действия пороха и лопались с треском, поражая заряжавших их артиллеристов. Пороховые ящики взлетали на воздух. Крики командиров и вопли отчаяния на разных языках смешивались с пальбою и с барабанным боем. Батареи переходили из рук в руки. Бородино пылало.
Особенно ужасна была резня на левом фланге. Там командовал Багратион. На своей вороной лошади он носился как ураган, поспевал повсюду. Казалось, что он сам ищет смерти. Укрепления этого крыла несколько раз переходили из рук в руки. Тут боролись лучшие герои дня. Тут был Кановницын, тут был Воронцов и Неверовский, тут был Горчаков и Тучков, тут был Насевич, тут был, наконец, Раевский. В половине десятого, рванувшись массой, неприятель завладел укреплениями. Принц Мекленбургский остановил успехи неприятеля, но был тяжело ранен. Полковник Кантакузен явился ему на смену. Прискакал сам Багратион. Несколько минут – и неприятель поспешно отступил, но – полковник был убит, а шальной осколок ядра ударил в ногу Багратиона.
– Ранен… – прошептал князь, но затаил боль и продолжал ободрять войска.
Бледность, наконец, покрыла лицо князя, кровь хлынула из раны, и он в глазах войск чуть было не упал с лошади.
Сопровождавшие его адъютанты, Валевский и Гагарин, подхватили его.
– Князь, вы ранены! – вскрикнули они.
– Свершилось… свершилось… я ожидал этого… – прошептал невнятно князь.
Его отнесли в одну из уцелевших изб Шевардина. Явились доктора. Оказалось, что князю надо было отнять ногу.
– Оставьте! – сказал князь, придя в себя. – Эта рана за Москву. Она первая и последняя. Боже, спаси отечество! – перекрестился он слабой рукой.
Князь начал бредить. Прибежала Уленька-казак, пала перед ним на колени и разрыдалась.
Князь, спустя некоторое время, узнал ее, слабо улыбнулся и перекрестил.
– Не оставь ее… люби, граф… – произнес он слабо, обращаясь к Валевскому. – Она, как и рана, моя первая и последняя.
Тут он сделал несколько распоряжений и приказал Валевскому идти на свое место, так как здоровые люди в такую минуту дороги.
Уленька осталась при князе. Валевский поскакал снова в бой.
На графа нашло какое-то жгучее опьянение. Он вспомнил свои старые подвиги в рядах солдат и стал кидаться в самые опасные места. Космополитизм его исчез. Он ненавидел Наполеона подобно тысячам русских. Славянская натура его сказалась вполне. Разгоряченный, он и не заметил, как очутился вдруг далеко от своих, в толпе польских улан. Озираясь, он увидал несколько знакомых лиц.
– Пан Ромуальд! Пан Ромуальд! – раздались вокруг него знакомые голоса.
Валевский был взят пленником. Кто-то сообщил графу, что дочь его тоже находится здесь и имеет честь быть принятой у великого императора. Не замедлила появиться и сама дочь.
– Отец! – произнесла она, падая перед отцом на колени.
– У меня нет дочери! – сказал сурово граф. – Моя дочь покинула меня давно, и…
Что-то зашипело вблизи графа. Показался дым, сверкнул огонь – и граф упал навзничь, даже не вскрикнув. Тайна отношений отца с дочерью погребена была вместе с трупом первого.
Эпилог
Битва кончилась. Закатилось багровое солнце. Луна, как лик покойника, тускло осветила на Бородинском поле сто тысяч трупов. Прежняя картина теперь сменилась на другую. Носился какой-то особенный запах селитры и крови. Кто был победителем? Неизвестно. Русские отступили. Зато нравственная сила неприятеля была окончательно истощена. Как раненый зверь, французское войско могло еще докатиться до Москвы, по силе инерции. Но там оно должно было погибнуть без всяких усилий с нашей стороны. Смертельная рана уже была нанесена при Бородине, и последующие ужасы, происходившие с французской армией, были прямым следствием Бородинского сражения. Нравственная победа была несомненно одержана русскими.
Что ж наши герои?
Иванчеев не покидал Москвы во все время пребывания в ней неприятеля. Он прожил ровно сто два года, тихо и мирно, все в своих же Грузинах, занимаясь алхимией, и умер тогда, когда уже память о двенадцатом годе превратилась в историческую легенду. Кости его успокоились на Лазаревом кладбище, где очень долго на его могиле, близ церкви, сохранялся камень с надписью: «Ираклий Иванчеев. Жительство его было сто два года». Другие надписи от времени стерлись. Громадная березка поникла своими ветвями над могилой бывшего алхимика.
В тридцатых годах, в салонах Варшавы и Петербурга, появился молодой человек, имевший необыкновенное сходство с Наполеоном. Это был граф Александр Валевский. Мать его, графиня, тихо доживала свой век в Веселых Ясенях, вспоминая свою первую и последнюю любовь – умершего на далеком, пустынном острове императора.
Князь Багратион, после получения раны, прожил только шестнадцать дней: в жестоких страданиях, почти не приходя в сознание, он скончался 12 сентября 1812 г. Тело героя покоится теперь на том самом поле, где он был ранен у подножия Бородинского памятника. На могиле героя лежит чугунная плита бронзового цвета, слитая из неприятельских орудий. Герой двенадцатого года почил там навеки под трофеями своих подвигов. Это одна только известная могила на целом поле, где пало до ста тысяч воинов[37].
Уленька Рычагова пропала бесследно. Темная жизнь ее и окончилась темно.
Барклай де Толли и Кутузов воздвигли себе огромные памятники в молодой русской столице. Память о них в сердцах русских людей будет вечна.
Сноски
1
Лола – название богини любви и счастья. Лола превратилась впоследствии у славян в Ладо, может быть, от слова – лад, ладить, в ладу, т. е. приятное сообщество.
(обратно)2
То есть принявший бессмертие.
(обратно)3
В Новгородской губернии и по настоящее время прибрежные жители озера Ильменя носят название «позёров».
(обратно)4
Балтийское.
(обратно)5
Следы этого вала, оконченного Атанариком, которого называют судьей древлян, существуют и по настоящее время под г. Галацом, между Дунаем и Прутом. Вал этот, означенный на карте Бауера, идет от села Долошешти в вершине озера, до Сербанешти, при р. Серети, на протяжении 35 верст, отрезая таким образом угол при впадении р. Прут в Дунай.
(обратно)6
Обручи эти, находимые во множестве в могилах на всем пространстве населения славян по Европе, были знаком обета. Они без исключения свивались из трех проволок в виде змеи и делались из плохого серебра, похожего на железо, почему их и называли железными. Можно полагать, что в состав, из которого делались обручи, входила некоторая часть золота, большая часть серебра и часть какого-либо темного соединяющего металла.
(обратно)7
В среде тогдашних северных народов было обычным делом, что десятилетние дети умели владеть оружием и скакать на лошади. Нередко случалось, что такие храбрецы участвовали даже в битвах. Все это подтверждается множеством северных сказаний.
(обратно)8
Ставили углом пехотинцев, которые, надо заметить, играли в войнах славян очень важную роль, – для того, чтобы, быстро развернувшись, с большим удобством напасть на неприятеля, причем отступать с места с тем, чтобы снова внезапно наступать, почитали славяне военной хитростью, но не трусостью. Тела убитых, при сомнительности победы, относили назад. Конница, сражаясь, делала искусно заезд вправо или влево, стеснясь в кругу поворота, чтобы никто не отстал.
(обратно)9
Со 150 года до Р. X. имя скифов исчезло в истории. Но каким образом оно исчезло? Истребились ли все скифы или переселились куда в Азию? Этот вопрос кидался в глаза, а потому возникли толковники: одни говорили, что сарматы истребили скифов, другие объявили, что они выселились. Истребить народ, живший, по Фукидиду, на пространстве 16 млн. кв. стадий, или 640 тыс. кв. верст, – дело невозможное. Переселение же куда-нибудь такого народа составило бы в истории целую эпоху. Но никто о такой эпохе не говорит. Все это объясняется тем, что народ остался на том же месте, но явился под новым именем – сарматов.
(обратно)10
Славянский князь Гано. – По хронологии Торфея, он вступил на престол в 222 г. по Р. X.
(обратно)11
Стриковский и некоторые другие писатели полагают, что Киев построен около 430 года, основываясь на двух-трех позднейших сказаниях византийцев. Татищев говорит, что Киев есть испорченное сарматское слово «киви», означающее камень и кору.
(обратно)12
По известиям, будто сохранившимся в китайской истории, народ гунны сперва назывался хуньюй, потом сяньюнь, потом гуйфан, а после хунну и гунну. В различные времена он носил прозвание сяньби, жужу, тулга, кидань, татань и, наконец, позже всего, монгол, от названия владетеля Мгул-хана, Хун-ну, или сюн-ну, по-китайски значит «злой раб». В 15 году по Р. X. китайский государь Ван-Ман через нарочное посольство предложил хунскому хану Шаньюй переменить название хун-ну на гун-ну, на что хан и согласился за богатые подарки. Гун-ну значит «почтительный раб». Где эти китайские летописи? И кто их читал? Уж подлинно китайская грамота.
(обратно)13
«Варвар» значит также, что славяне – не греки и не подчинялись эллинской премудрости.
(обратно)14
Мыльня – баня, медуша – погреб, иначе – лазня.
(обратно)15
Начальный смысл этого слова от божества предела – Маро.
(обратно)16
Надо полагать: или при устье Моравы, или же при Кюстенджи.
(обратно)17
Поднесение хлеба-соли с вином считалось у прежних славян, более даже чем теперь, знаком высокого уважения. Кому подносились эти знаки уважения, тот очень гордился ими.
(обратно)18
В Берестове умер равноапостольный князь Владимир. На месте этого села находится ныне Печерский монастырь.
(обратно)19
Это зодчество наследовала и Москва: дворец Коломенский был последним его образцом.
(обратно)20
Венды живут там и по настоящее время, составляя странный контраст с окружающим их немецким элементом. Хотя они уже издавна приняли христианство, но много еще сохранили своих первобытных обычаев, поверий, суеверий и обрядов. Их там живет более 60 тысяч, а всех вообще славян вендского племени по всей Европе насчитывают до 900 тысяч. Название вендов производят от «вендол» – овраг, лог, низкое место, что значит «жители низких мест», и «вен» – вне, в смысле странствовать, переходить с места на место. По-польски странник – вендровец, и еще уда – венда.
(обратно)21
То есть торжища в пограничных местах.
(обратно)22
Развалины Херсонеса находятся близ нынешнего Севастополя. Херсонес в переводе с греческого значит «почти-остров». Крымский полуостров носил название Херсонесского, Серпского и Босбора Киммерийского. Босбор – значит «бычачья дорога».
(обратно)23
Громадные и непроходимые горичанские леса располагались на пространстве от Лейпцига до Дрездена.
(обратно)24
Меч Арея, в северных мифах меч Сигурда, которым он поразил змея, жившего в скале.
(обратно)25
Блаженный Иероним писал: «Гунны изучают псалтирь; хладная Скифия согревается огнем веры истинной».
(обратно)26
Впоследствии, в 474 году, Орест был римским полководцем. Не признав провозглашенного Гунибалом императора Глицерия, он присоединился сначала со своими войсками к войскам другого полководца, Юли Непота, но потом отпал от него, изгнал Непота из Рима и поставил императором своего, еще очень юного сына Ромула Августула. Это был последний римский император. В 476 году полководец Одоакр ворвался с германскими войсками в Рим и без особенного труда победил Ореста и его сына. Орест был взят в плен и казнен, а сын его сослан в одно поместье в Компании. Одоакр провозгласил себя королем Италии. Через восемьдесят лет Римская империя окончательно распалась.
(обратно)27
Тирская тога. – Тирский пурпур считался драгоценнейшим, так что фунт материи, окрашенной в нем, стоил больше тысячи динариев. Серебряный динарий стоил в позднейшие времена Римской республики несколько больше 20 копеек серебром.
(обратно)28
В позднейшее время Владимир Красное Солнышко, услыхав жалобу своих воинов, что, мол, едят они деревянными ложками, приказал выковать для них серебряные ложки, проговорив: «Будут воины – будет и серебро, а без воинов я серебра не добуду».
(обратно)29
Вандалы занимали южную часть Испании, которая с тех пор получила название Вандалузии, а потом Андалузии.
(обратно)30
Римляне под предводительством Юлия Цезаря, вступив впервые на территорию нынешней Франции и не зная названия этой страны, назвали ее Галлией, т. е. Петушьею страною.
(обратно)31
Историк Иорнанд, приписывая победу союзникам, говорит, что побежденный Аттила заперся в своем лагере, велел окружить его со всех сторон кибитками и сложить посредине огромный костер из седел, на котором он решился сгореть, если бы неприятели ворвались бы в лагерь. Объясняя победные клики гуннов желанием устрашить врагов, Иорнанд делает следующее сравнение: «Так лев, преследуемый охотниками до своего логовища, оборачивается, останавливает их и наводит на них ужас своим рыканием».
(обратно)32
Область Бактра находилась между реками Курой и Араксом. Нынешние исчезающие губры (огнепоклонники), живущие в Персии и окрестностях Баку, есть потомки бактриан и вообще магов-халдеев, живших близ озера Гог.
(обратно)33
По прологам в житии Св. Кирилла: «Козары бяше народ скифский, языка славянского или русского. Козаров имени память оста в малороссийском ныне «Канистве» крепком, подобно тому, зело мало пременно именуемом» – Беловежа по Приску – Белополис.
(обратно)34
Варяги не составляли ни особенного племени, ни даже разных племен, от одного народа происшедших. Варяги составляли касту, в которой могли участвовать все народы. Каста эта была чисто промышленная, и цель ее состояла в том, чтобы за известную плату во время плавания защищать купеческие суда от грабежей и нападений. Кроме этого, варяги и сами занимались торговлею. Само слово «варяг» происходит от старославянского слова «варею», т. е. разъезжаю. Таким образом, «варяг» – разъезжающий. И по настоящее время слово «варять» означает в Тамбовской губернии: заниматься разною торговлею. В Москве «варягами» называют торговцев-ходебщиков. Поговорка же «полно варяжничать» означает: «перестань выторговывать». Византийцы называли варягов «фарган», готы – «фарян». Немцы их называли «воарами». Когда появились варяги – неизвестно, но, должно думать, что во время силы и процветания Винеты, когда торговля на севере была еще в руках одних славян. Смотря по мере распространения торговли между скандинавскими государствами, явились и варяги датские, шведские и норвежские. Торговля английская образовала своих варягов, а беломорская породила варягов готов, сидевших в северной Финляндии, и варягов – оурман, сидевших в заливе Белого моря, называвшегося в то время Урманским, а ныне Мурманским.
(обратно)35
Ты зелененький дуб, ты зелененький, Ты зеленая, ты дубравушка! У тебя ли листья шелковые, Твои ли желуди жемчужные, Сама ль ты дерево все золотое! (обратно)36
Так русский народ называл двенадцатый год.
(обратно)37
Багратион родился в 1756 г. в Кизляре и происходил из грузинской княжеской фамилии. В русскую службу вступил в 1782 г., сержантом, в Кавказский мушкатерский полк. Умер в селе Симах (Владим. губ. Александр. у.), где и был предан земле в церковной ограде. Но затем прах его был перенесен на поле Бородинское.
(обратно)




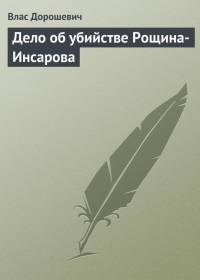


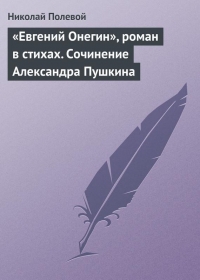
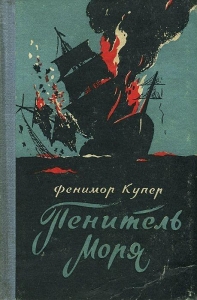
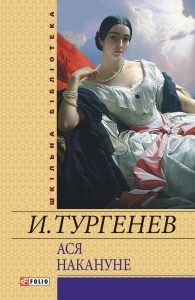
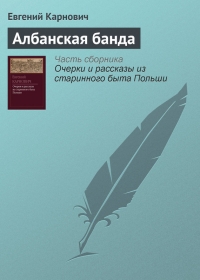


Комментарии к книге «Бич Божий. Божье знаменье», Иван Кузьмич Кондратьев
Всего 0 комментариев