Николай Николаевич Миклухо-Маклай Путешествия на Новую Гвинею (Дневники путешествий 1874–1887): Том 2
Этнологическая экскурсия в Иохор
(15/XII 1874 г. — 2/II 1875 г.)
Хотя о племенах Малайского п-ва написано уже немало, мне кажется, несмотря на мнения некоторых авторов, что один из главных вопросов этнологии этой страны далеко не может считаться вполне решенным, именно — вопрос о том, существует ли на Малайском п-ве племя, совершенно отличное от племен малайской расы, или, по крайней мере, следы такового.
В работах Logan, Newbold и Crawford я не нашел удовлетворительного ответа на этот вопрос. Одни авторы (я имею в виду только тех, которые говорят об этих племенах более или менее по собственным наблюдениям) совершенно определенно говорят о некоторых племенах как о неграх[1], тогда как другие утверждают, что эти племена почти ничем не отличаются от малайцев[2]. Одним словом, в существующей литературе можно найти основания для диаметрально-противоположных утверждений: как для признания существования на полуострове совершенно отличных от малайцев племен (меланезийских?), так и для отрицания этого и даже для гипотезы о наличии стоящих совершенно особняком — ни малайских, ни меланезийских, — племен[3].
Изучение антропологии меланезийцев вызвало во мне желание составить себе правильный взгляд на этнические отношения на Малайском п-ове. Будучи не удовлетворен, как я уже говорил, имеющимися в литературе данными, я решил сам искать решения вопроса. Я взялся за это дело с тем большим интересом, что уже раньше (в 1873 г.) желание разрешить совершенно аналогичный вопрос привело меня в горы о. Люсона[4], а также вследствие убеждения, что эту задачу не следует откладывать надолго, так как с каждым годом становится все более трудным получить точный ответ на эти вопросы. Так как сбивчивые и противоречивые свидетельства разных авторов во всяком случае основывались на значительном сходстве племен, то мне было ясно, что, если я хочу правильно решить эти этнографические вопросы, я должен ознакомиться с возможно большим числом племен, обитающих внутри полуострова. Я имел в своем распоряжении сравнительно мало времени для такого путешествия и решил поэтому ограничиться только антропологическим изучением этих племен.
Различные обстоятельства, которые заставили меня значительно изменить ранее составленный план, явились также причиной того, что я вынужден был предпринять свое путешествие в самое неблагоприятное, дождливое время года. Начав путешествие 15 декабря 1874 г., я пересек Иохор с запада на восток, от устья р. Муар до устья р. Индау, затем повернул на юг и прибыл в Иохор-Бару 2 февраля 1875 г., пробыв в путешествии всего около 50 дней.
Я не обманулся в своих ожиданиях и убедился, что мое решение изучить как можно больше племен внутри полуострова было вполне правильным. Хотя мне удалось выполнить лишь небольшую часть того, что я поставил своей задачей, тем не менее я хочу изложить здесь результаты своих наблюдений над племенами внутренней части Иохора, так как состояние моего здоровья, вероятно, заставит меня отложить следующее путешествие, а может быть, и изменить свои планы.
Вкратце результаты моих наблюдений могут быть сведены к следующим положениям:
1. He-малайское или, правильнее, не-мусульманское население[5] Иохора (главным образом внутренней его части) состоит из многочисленных племен или народностей, которые носят различные названия и отличаются друг от друга по образу жизни[6]. В южной части Иохора, на побережье Иохорского пролива (отделяющего о. Сингапур от материка) или Селат-Тебрау и по ближайшим рекам (Пулай, Малаю, Скодай и др.)обитают оран-утан-слета; тех из них, которые ведут бродячий образ жизни, скитаясь вдоль берегов на своих прау, называют оран-лаут.
На р. Палон (притоке Муара) я встретил оран-райет[7]. Племена, обитающие в восточной половине Иохора по рекам Кратон (приток р. Румпен), Быко (приток р. Бату-Пахат), Леба и Кахан (притоки Индау) и по притокам р. Иохор носят у малайцев общее название — оран-утан. Вообще малайцы плохо различают отдельные племена и дают им довольно произвольные названия. Например, почти все народности внутренней части страны носят у них одно и то же название — якун. Малайские названия племен обязаны своим происхождением местообитанию этих племен, напр. оран-букит (люди холмов), оран-улу (люди верховьев рек), оран-далам (люди внутренней части страны) и т. д. Под названием оран-лиар (дикие люди) малайцы не разумеют какого-либо племени, отличного от оран-утан, а просто называют так всех тех туземцев, которые по возможности избегают всяких сношений с ними, ведут очень примитивный образ жизни и отходят все дальше и дальше в глубь лесов. Обитатели внутренней части страны (за исключением оран-райет на Палоне, которые удерживают за собою свое имя) обычно сами называют себя оран-утан (как я и буду называть их далее), но также носят у малайцев названия якун и оран-лиар, более или менее в качестве оскорбительных кличек.
2. Все племена внутренней части полуострова ведут бродячий или полуоседлый образ жизни[8]. Помимо антропологических признаков, эти племена отличаются друг от друга по языку: некоторые из них сохранили свой язык, тогда как другие совершенно его забыли или у них сохранились лишь его рудименты. Существуют также различия в обычаях и в материальной культуре[9]. Существовал ли раньше у всех племен внутренней части Иохора один общий язык, мне не удалось установить, хотя я уделил внимание собиранию рудиментов древних диалектов. Язык, абсолютно непонятный малайцам (совершенно ли он отличен от малайского, я, по своей некомпетентности, не берусь судить), я нашел как у оран-райет, так и у оран-утан[10].
3. Оран-райет и, особенно, оран-лиар, отдельных интересных представителей которых я имел удовольствие встретить, ведут чрезвычайно примитивный образ жизни и не обнаруживают стремления подняться на более высокий уровень культуры, хотя этому не препятствуют ни внешние условия, ни степень развития их мозга.
4. Эти народности постепенно вымирают, что известно им самим и о чем мне часто рассказывали малайцы. Вымирание вызвано постепенным вытеснением туземцев малайцами и китайцами, которые захватывают лучшие, наиболее плодородные земли и заставляют таким образом «лесных людей» уходить все дальше, в глубь джунглей. Чистокровных туземцев становится все меньше также потому, что малайцы часто женятся на девушках оран-утан, и теперь последние в значительной степени смешались с малайцами.
5. Прежде чем ответить на главный вопрос, решение которого было целью моего путешествия, я должен заметить, что подошел к нему строго критически и даже, должен сознаться, отправляясь в путешествие, считал отрицательный результат за самый вероятный.
Тем не менее на основании максимально объективных наблюдений я пришел к заключению, что до сих пор в Иохоре имеются следы существования первобытных, немалайских племен и что эти племена были, по всей вероятности, меланезийскими[11].
Местами мне приходилось встречать особей, которые обнаруживали явные признаки возврата к первоначальному типу. Эти особи имели волосы, не совсем подобные папуасским, а такие же, как у папуасских метисов западного берега Новой Гвинеи (которых я там встретил немало), отличавшиеся от волнистых и курчавых волос других оран-утан. Наличие этих атавистических форм является главным основанием моей уверенности в том, что здесь раньше существовало меланезийское население; другим основанием служит объективное изучение общего типа оран-утан, который, впрочем, не является резко обособленным.
То обстоятельство, что, как мне известно по собственному опыту, оран-утан иногда нелегко отличить от малайцев, объясняется значительным видоизменением малайского типа во внутренней части Иохора. Благодаря начавшемуся уже давно смешению с оран-утан здешние малайцы весьма близки по своему физическому типу к последним.
Это смешение, продолжающееся уже много столетий и начавшееся, вероятно, тогда, когда те малайцы, которые не хотели принять ислам, бежали в горы, является также причиной значительной вариабельности волос, цвета кожи и формы черепа[12].
Весьма малый рост оран-утан (рост мужчин редко превышает 1500 мм, а многие виденные мною женщины, имевшие уже детей, были не выше 1300 мм) является следствием того, что едва сформировавшиеся девушки уже выходят замуж, а также обусловливается скудным и плохим питанием.
Резюмируя сказанное, можно смело утверждать следующее:
1) Оран-утан Иохора представляют народность смешанного происхождения, с значительной примесью малайской крови, но сохранившую следы меланезийского происхождения.
2) Живя с давних пор изолированно, они ведут жалкий, в высшей степени примитивный бродячий образ жизни и в настоящее время постепенно вымирают[13].
За неудобства[14], с которыми была связана моя почти 50-дневная экскурсия, я был вознагражден не только указанными результатами своих этнографических исследований, но и психологически интересными наблюдениями над образом жизни первобытных людей, который, действительно, настолько удивителен, что не видевший его собственными глазами едва ли может себе его представить.
Мне кажется, будто я прочел начало интересной, старой, с наполовину стертыми строками книги и теперь с нетерпением жду продолжения.
Мое путешествие в Пахан и Кеду, возможно, будет более удачным и откроет немало интересных страниц этой книги, читать которую с каждым днем становится все труднее.
28 февраля 1875 г.
На борту «Плутона»,
Сиамский залив.
Сиам
17–26 февраля 1875 г.
Я воспользовался поездкою сингапурского губернатора сэра Эндрью Кларка в Бангкок и пробыл девять дней в столице Сиама.
Девять дней — слишком малое время для этого интересного города. Хотя он не принадлежит к особенно древним городам Азии, он имеет свой cachet, свой характер, и, видев его, «ich habe manches gelernt».
Массивные камни и статуи заменены в Бангкоке кирпичом и штукатуркой, но здания, подражая древним храмам в характере и мелочах, характерны и не лишены грандиозности, как, напр., пирамиды Будды, развалины Ватсекет, фигура Будды в Вампо.
Население представляет большую смесь. Некоторые физиономии я нашел схожими с малайскими, некоторые имели более или менее китайский тип, некоторые — ни тот, ни другой, как, напр., молодой принц с толстыми губами.
Женщины много работают, и костюм их, приспособленный к занятиям разного рода, способствует тому, что их часто принимают за мужчин. При более внимательном взгляде более круглые формы (груди), особенно широкий зад выдают их пол. У некоторых я нашел довольно симпатичные физиономии.
Из зданий замечательны пагоды: Вампо, Ватсекет и дворец, который, однако же, начинает терять свой первоначальный характер. Причина этому — король, который построил между старыми постройками часть дворца в европейском казарменном стиле. Вообще молодой король, который придерживается и некоторых старых обычаев (женившись на своих полусестрах), в остальном обезьяннически копирует европейцев. Напр., он одел своих офицеров и отчасти солдат в неподходящий европейский костюм, надавал разным лакеям и молоденьким принцам кресты и т. д.
Я сам видел молодого короля только издали. Одни говорят, что он умен, и ожидают многое от него. Другие уверяют, что он совершенно истаскан, имел уже несколько лет много жен. Замечательно то, что он, как говорят, насильно «употребляет» одну из своих сестер, которая почему-то не хотела своего братца в мужья.
Костюм сиамских женщин состоит из саронга, концы которого продеты между ногами и прикреплены спереди и сзади у пояса так, что образуют нечто вроде шаровар. Кроме того, довольно длинный кусок материи образует род шарфа, который особенно любят девушки, более из кокетства накидывая на грудь. Костюм живописнее малайского и даже для климата удобен, так как имеет много прорех, в том числе две большие на внутренней стороне ляжек. Костюм прост и удобен.
Придворные дамы, жены-сестры короля придумывают себе особые костюмы — смесь французского с сиамским. Жидкие икры, обутые в не по мерке сделанные башмаки, не делают этот выбор более удачным. Зависит, однако же, многое от оригинала.
Общество европейцев в Бангкоке не малочисленное. Консулы разных наций (разумеется, русского нет), довольно много путешественников, особенно немцев. Есть даже один русский (от русского отца и матери-парижанки), некто Демьянов, хороший малый, но очень недалекий.
В Бангкоке очень недурно делают золотые вещи. Вообще сиамцы имеют вкус, и я был даже удивлен, при виде деревянной статуи покойного короля, художественным исполнением, сходством, верностью и естественностью. Статуя сделана в натуральную величину, одета в королевское платье. Голова и руки исполнены очень хорошо, хотя напоминают лепку восковой фигуры.
Этнологические вопросы на Малайском полуострове
(29/XI 1874—8/VI 1875) (Письма в Русское географическое общество)
29 ноября 1874 г. Сингапур. Цель моего путешествия на полуостров Малакку заключалась в желании убедиться, находится ли на полуострове папуасообразное племя или по крайней мере следы смешения такого с теперешним населением. Читая, что известно о жителях полуострова, можно прийти к совершенно противоположным взглядам и найти в прочитанном доказательства и подкрепление того или другого мнения.
Из этого противоречия и взвешивая беспристрастно факты, является убеждение, что вопрос о населении Малайского полуострова еще не решен, несмотря на то, что некоторые авторы, как Кравфурт[15], Логан[16], говорят о некоторых племенах положительно как о неграх.
Между прочим, племя семанг, судя по описаниям, более всех отличается от малайцев, что побудило Вайтца[17] считать его за особенную расу. Мнение — хотя очень осторожное и не позволяющее возражать, но во всяком случае неудовлетворительное. Про тех же семанг говорит Ньюбольд, что они внешностью почти не отличаются от якун[18], сказав ранее, что оран-бенуа (или якуны) не отличаются от малайцев[19].
Это сходство между племенами расширяет очень поле исследований; но вместе с большею трудностью является большее этнографическое значение этих исследований. Антропологические наблюдения, а также собирание словарей сохранившихся наречий, вероятно, приведут к более удовлетворительным результатам, чем те, которыми мы довольствовались до сих пор.
Разрешение этого вопроса находится в программе моих исследований, и, не имея возможности (по случаю нездоровья) отправиться в этом году в Новую Гвинею, я решил взять на себя задачу разъяснить сколько-нибудь вопрос о населении полуострова, причем, сообразуя мои планы со временем, я имею в виду разрешить вопрос этот с одной и, по моему мнению, важнейшей стороны — преимущественно антропологической, так как для ознакомления с обычаями, языком и т. п. требуются года или по крайней мере месяцы, а не дни, которые я хочу посвятить на отыскание и на наблюдение с чисто зоологической точки зрения этой интересной разновидности человеческой породы, которую называют здесь оран-якун, оран-утан и т. п.
6 декабря 1874 г. Иохор-Бару, резиденция махарадьи Иохорского. Неудобства разного рода — малость и темнота комнат, сквозной ветер, скверный стол, а особенно постоянный шум и человеческий говор — сделали мне пребывание в большой многолюдной казарме, которую называют Hоtel de l’Europe в Сингапуре и в которой останавливается на несколько дней, иногда на несколько часов пестрая и говорливая толпа европейцев на пути в Японию, Китай, Филиппинские острова, в Нидерландские колонии, в Австралию или возвращаясь из всех этих стран в Европу, положительно невозможным.
Я перебрался в Иохор, чтобы приготовиться к моей экскурсии вовнутрь и ознакомиться немного со страною и людьми. Махарадья Иохорский принял меня в высшей степени радушно, и я отдыхаю в его комфортабельно, хотя просто устроенном доме после шума и толкотни европейской толпы в постоялых дворах Батавии и Сингапура.
Махарадья Иохорский человек положительно замечательный, соединяющий с соблюдением старых обычаев и желанием пользы своей стране понимание и верную оценку европейских идей и нововведений. Он уже раз был в Европе (в Англии), но в следующем году думает еще раз отправиться туда и посетить все большие города. Махарадья, узнав о моем намерении познакомиться с жителями его страны, обещал мне свою помощь. Главная трудность оказывается в продовольствии людей, которых я должен взять с собою для переноски вещей. Хотя я привык обходиться minimum’oм необходимого, но все же при узкости и часто даже неимении тропинок (вследствие чего люди могут нести только сравнительно очень небольшую ношу) мне надо будет человек 6 или 7. Припасы для людей, состоящие главным образом из риса (которого нельзя найти у лесных жителей), составляют такую тяжесть, что нельзя взять запаса на все время предполагаемой экскурсии (около 20 дней).
Взять для переноски вещей не малайцев, а оран-утан, которые более привычны к странствию по лесам и которых небольшой табор скитается в своих пирогах по ближайшим рекам (Сунги-Малаю и Сунги-Скоде), махарадья мне положительно не советует, так как его самый строгий приказ и обещания хорошей награды с моей стороны не оградят меня от возможного приключения: что в одну прекрасную ночь или даже прекрасный день люди эти (оран-утан), если им что не понравится или просто не захочется идти далее, без дальнейших объяснений, втихомолку, оставя свои ноши, скроются, будучи совершенно привычны к жизни в лесу и не признавая почти никакого контроля какой-либо власти.
Не желая подвергнуться такому приключению, я думаю отправиться без особенного плана касательно пути, не задавая себе задачу дойти до такого-то или другого места, а соображаясь с обстоятельствами, перебираться из одной местности в другую, имея постоянно в виду цель моей экскурсии: видеть как можно больше жителей лесов и гор, которых называют здесь (в Иохоре) разными именами: оран-утан (люди леса), оран-букит (люди холмов), оран-лиар (дикие люди), оран-райет[20], оран-якун[21] и другими еще именами.
3 февраля 1875 г. Иохор-Бару. Вчера вернулся в Иохор-Бару. Моя экскурсия заняла вместо 20 дней, как предполагал, почти 50. Результаты интересны, хотя доказывают необходимость дальнейших исследований, которые я предприму, как только отдохну несколько и освобожусь немного от лихорадки.
Экскурсия оказалась труднее, чем ожидал. Я предпринял ее, не ожидая конца дождливого времени, так что во многих местах пришлось проходить по залитому лесу и вода была иногда выше пояса. Чтобы пересечь Иохор от запада (устье реки Муар) к востоку (устью реки Индау), мне потребовалось 30 дней, несмотря на то, что значительную часть пути я мог сделать в пироге и мои переходы пешком были нередко по 10 и 11 часов в день, но частый лес, в котором приходилось подчас прорубать тропинку, болота, частые ручьи и речки, через которые приходилось строить на скорую руку мосты (состоящие, разумеется, из одного или нескольких поваленных деревьев) или связывать паромы, строить бараки для ночлегов, так как лес почти не населен, замедлял очень путешествие. Из Индау я опять сухим путем вернулся в Иохор-Бару — еще 20 дней.
Я достиг своей цели и, встретившись во многих местах с оран-райет и оран-утан, имел возможность познакомиться с этим интересным племенем, которому не суждено вести еще долго свою бродячую и примитивную жизнь. При их малочисленности, при подвигающейся колонизации малайского племени и китайцев, при положительном нежелании оран-утан изменить образ жизни или они совершенно исчезнут, или почти бесследно (в этнологическом отношении) сольются с малайцами.
Главный и отчасти неожиданный для меня результат экскурсии заключается в убеждении, основанном на положительных фактах, что между хотя очень смешанным населением оран-утан Иохора можно еще найти следы смешения с другим не малайским (очень вероятно папуасским) племенем.
Мой дневник слишком объемист, и мне было бы затруднительно теперь же сделать из него выписки, которые к тому еще очень потеряют, если не приложить эскизов типов жителей. Поэтому и эту работу откладываю до возвращения в Россию.
7 апреля 1875 г. «Вилла Вампоа» около Сингапура. Поездка в Бангкок. Лихорадка после моей экскурсии в Иохор, мешавшая работе и не позволявшая продолжать значительно трудного странствия в Малайском полуострове, была причиною, что я вздумал воспользоваться поездкою губернатора Сингапура, сэра А. Кларка, в Бангкок, чтобы взглянуть на Сиам и его жителей, надеясь к тому, что морской воздух при плавании туда и назад поможет мне скорее освободиться от лихорадки. 12 февраля я отправился в Бангкок на паровой яхте губернатора «Плуто» и 4 марта вернулся снова в Сингапур. Ожидание, однако же, не оправдалось, даже напротив, я вернулся более хворым, чем отправился.
Несмотря на это, я остался доволен поездкою, имев случай видеть, хотя поверхностно (всего 9 дней стоянки), столицу Сиама, а также приобрести объект, который обещает интересные результаты для моих анатомических исследований[22].
Нездоровье и замедление экскурсии в Пахан. Возвратясь в Сингапур, я поселился на несколько дней у русского вице-консула г-на X. А. К. Вампоа, которого гостеприимство, интересный сад и дом и в гастрономическом отношении замечательная кухня знакомы многим русским морским офицерам, бывшим в Сингапуре, и которого имя упоминается почти в каждом описании Сингапура. Я принужден отложить еще на неопределенное время мою экскурсию в Пахан, потому что к лихорадке, которую я привез обратно в Сиам, присоединилась больная нога. Это новое препятствие — следствие моей экскурсии в Иохоре, но отчасти следствие моей небрежности и нежелания обратить внимание на мелочь. Иохорский лес особенно изобиловал громадным числом пиявок, так что ноги наши, мои и людей, были постоянно окровавлены от укушения их. Люди мои, имея голые ноги, могли сейчас же, как чувствовали укушение, освобождаться от пиявок, я же, не желая и не имея времени часто останавливаться и снимать обувь, ежедневно останавливаясь на ночлеге, находил на ногах около дюжины присосавшихся, наполненных кровью пиявок. Кроме того, раза два я был укушен в ногу другим животным (вероятно, судя по боли и по ранке, это животное было из рода Scolopendra), отчего нога сильно вспухла около ранок. По вечерам, несмотря на носки, сотни комаров осаждали ноги. Прибавьте к тому почти постоянно (более месяца) мокрую обувь, которую не снимал по целым дням. Неудивительно, что ноги вспухли и очень болели, особенно около сочленения обеих Maleoli правой ноги, которая, как я заметил, при пешеходных экскурсиях особенно подвергается разным случайностям. Несколько дней отдыха в Иохор-Бару перед поездкою в Сиам освободили меня от опухоли, но легкое воспалительное состояние осталось около ранок. Жара в Бангкоке, ежедневные немного усиленные прогулки по интересному городу снова открыли их, и теперь вследствие довольно большой, хотя поверхностной раны около Maleolus internus правой ноги вот уже 5-й день мне приходится не выходить из комнаты и почти все время не покидать дивана. Я опять употребляю этот скучный арест, чтобы диктовать далее (на немецком языке) мои этнологические заметки берега Маклая и другие отрывки из моей записной книги.
20 апреля. Истана[23] Иохор.
М. Г.
Начну прямо с фактов, которые, истощив терпение, довели меня до решения, которое надеюсь скоро осуществится. Приведу несколько отрывков из дневника.
…Несмотря на удобства, если хочу продолжать работать, не могу долее остаться в доме г-на Вампоа (русского вице-консула в Сингапуре). В его саду, в китайском стиле, находится домик, назначенный для помещения гостей, и где я теперь живу около недели. Помещение удобное, даже комфортабельное, но, сообразно с национальным вкусом г-на Вампоа, часть дома, центральная комната, род гостиной, в которой я занимаюсь, построена над прудом. Направо, налево — вода, под полом тоже вода. Днем это обстоятельство не стесняет меня, не говоря о гигиенических условиях: сырости во всем доме, испарений почти что стоячей воды; но вечером и ночью главное неудобство такой архитектуры проявляется в сильнейшей степени: жители описанного пруда, многочисленные лягушки с очень звучным голосом, положительно доводят меня до невозможности работать. К нескончаемым руладам лягушек присоединяются голоса стаи собак, сторожащей сад и дом, и пронзительный хор мириад комаров, которые, привольно развиваясь в пруду, наполняют по вечерам голодными стаями мостообразную комнату, где я стараюсь работать. Я пытался не обращать внимания на нее, думал привычкою одолеть это серьезное неудобство, но нестерпимые концерты одолели — я положительно терял под влиянием их связь мыслей, не мог думать ни даже понимать, что читаю.
На днях, как только нога немного позволила мне двигаться, я перевез себя и часть книг снова в Иохор, снова решился воспользоваться гостеприимством моего приятеля махарадьи Иохорского.
…И здесь оказывается далеко не спокойно; дом или дворец махарадьи, в котором он и его гости помещаются, не вполне достроен или перестраивается; внизу, в столовой, кирпичный пол заменяется мраморным, проламывают двери и т. п. Вся работа почти исполняется арестантами, которые из предосторожности закованы в тяжелые цепи.
Звон и бряцанье этих цепей сопровождают почти каждый шаг, каждое движенье этих рабочих, которых несколько десятков работает в доме. Прибавьте работу каменщиков, стукотню плотников и слесарей, громкие разговоры и смех многочисленной прислуги махарадьи…
Чтение этих строк вызовет, может быть, улыбку, но я положительно страдал от этого разнообразного шума и постоянно был прерываем при работе. Вот уже много месяцев нет ни одного вполне спокойного дня. Здесь в комфортабельных и богатых домах я с завистью вспоминаю покойную и тихую жизнь в моей келье на берегу Маклая в Н. Гвинее…
Я решил предпринять серьезные меры против этих помех научной работе и потери времени. Вот еще мотивы, которые побудили меня к моему решению:
Оставаясь в 1871 г. в Н. Гвинее, я большую часть моего багажа отправил с корветом «Витязем» в Японию, куда я думал и думаю еще отправиться. Этот багаж состоял из разных аппаратов, книг, одежды и т. п., нужных мне в северных широтах и лишних в Нов. Гвинее. Еще перед тем, имея намерение посетить Австралию, я из Апии (архипелага Самоа) выслал в Сидней вещи, которые мне будут полезны в Австралии, и, думая, что когда-нибудь я еще заеду на остров Уполу (архипелага Самоа), я и там оставил несколько вещей и аппаратов, нужных при собирании зоологических коллекций, надеясь, что они когда-нибудь пригодятся. Следующие года (1873–1874) главною станциею моих странствований был Бюйтензорг, где находится и теперь главное депо моих вещей. Когда в прошлом (1874) году нездоровье заставило меня, против воли, покинуть на время Молуккский архипелаг и оставить много интересных работ, не доведенных до конца, я оставил, надеясь вернуться, на о-ве Сераме многие вещи, которые, надеюсь, будут сохранены до моего будущего посещения.
Итак, мой багаж и коллекции находятся в настоящую минуту разбросанными, кроме Сингапура и Иохора, на Яве, на Молуккских островах, в Австралии, на архипелаге Самоа, в Японии. Прибавьте к тому Америку (Вальпарайсо) и Европу (в СПб. и Иене). Разбирая критически причину этих временных складов, которые оказались не только удобными, но совершенно неизбежными вследствие количества необходимого багажа и трудности его перевозки с места на место, находя многое множество[24] положительных неудобств, мешающих серьезной работе и действительному отдыху после трудных предприятий даже при самом любезном гостеприимстве, я решил, что ради научных занятий и их успеха следует позаботиться несколько о более подходящем помещении.
Этот вопрос выступает на первый план, если путешествовать не с одною только целью — собирать разного рода коллекции, быть поставщиком разных европейских музеев или только туристом, а путешествовать с целью изучать и исследовать. Имея последнее в виду и оставаясь долго в одной местности и не желая быть беспрестанно прерываемым при серьезных занятиях, является, как я испытал последние месяцы, положительная необходимость найти где-нибудь спокойное убежище. Обдумывая эти «desiderata» немалой важности для ученого, я вспомнил о «зоологических станциях», идея, которая уже давно мне казалась подходящею (и даже в Европе) потребностью для естествоиспытателя. Здесь, в экваториальных странах, такие станции для ученых (зоологов, ботаников и т. п.) могут быть еще более целесообразны и полезны, в особенности для тех ученых, которые захотят заняться специальным исследованием тропических форм и для которых достаточный и годный для исследований материал может быть найден только в этих странах, а не в музеях. Имея со временем (через несколько лет) в виду такую работу и желая также помочь моим собратьям по науке, я решил на деле осуществить эту мысль и доказать несомненную пользу ее осуществления для науки.
Таким образом, мой невольный арест (по случаю все еще больной ноги и возвращающейся часто лихорадки) в Иохоре не остается без пользы; даже скверный Hоtel в Сингапуре, концерты лягушек, собак и комаров в доме г. Вампоа, бряцание и звон цепей арестантов в Иохоре и тому подобные удовольствия имели хороший результат, потому что, суммируясь, привели меня к хорошему делу, которым я считаю основание первой зоологической станции в Азии, которой план я имел время и повод хорошо обдумать и которая, надеюсь, несмотря на небольшие средства, которые я лично могу на нее пожертвовать, принесет пользу науке.
23 мая. Не имея времени писать подробно о моем будущем Тампат-Сенанг (место покоя — по-малайски), я посылаю письмо, написанное мною моему хорошему приятелю Д. А. Дорну в Неаполе.
«Дорогой Дорн. Вам хорошо известно, что я вполне разделяю ваши взгляды о значении для науки зоологических станций, и вы легко поверите, что отличные результаты основанной вами в Неаполе станции, о которых я случайно узнал в Тернате в 1873 г., по моем возвращении из первой поездки на Новую Гвинею, доставили мне большое удовольствие.
Теперь мне очередь удивить вас новостью об учреждении третьей (?)[25] зоологической станции на крайнем южном пункте Азии, на Селат-Тебрау, проливе, отделяющем Сингапур от Малайского полуострова.
Эта новая станция, правда, не может иметь того же значения, что ваша в Неаполе. Я принял за образец мои собственные потребности и обычный образ жизни и соответственно им проектировал здание и принадлежности.
Прежде всего эта станция «Тампат-Сенанг (по-малайски» — место покоя) должна служить для меня: в мое отсутствие и после моей смерти я отдаю ее в распоряжение каждого изучающего природу, кто нашел бы ее удобною для своих занятий.
Мое «Место покоя» может представить следующие удобства. Дом, состоящий из двух довольно обширных комнат, каждая с верандой, кроме необходимых служб, с трех сторон окружен водами пролива, а с четвертой примыкает к девственному лесу.
Дом будет скромно меблирован, снабжен небольшою библиотекою и необходимыми предметами домашнего хозяйства.
Кроме того, в нем будут два удобства немаловажного значения, а именно прекрасный вид и полное уединение.
Пользование этим «Местом покоя» открыто для каждого исследователя природы, без различия национальностей, но только мужского пола. Присутствие женщины как посетительницы или помощницы исследователя природы, который не стеснится местом, не запрещается, но пока «Место покоя» должно оставаться верным своему имени и моей идее; присутствие детей не может быть допущено в нем.
Я купил участок земли, на котором построится дом, от махарадьи Иохорского. Это небольшой холм, выдающийся мысом в Селат-Тебрау. В моем завещании я сделаю распоряжение, чтобы мое семейство никогда не продавало его, а также не давало бы ему никакого другого назначения, кроме научной станции, никогда бы его не уничтожало и не срубало примыкающего к нему леса; большее, что может быть допущено, это одна или две просеки для пешеходных тропинок в лесу, который должен навсегда остаться образчиком девственного первобытного леса. И хотя Тампат-Сенанг может быть впоследствии перестроен из камня и снабжен большим комфортом, он никогда не может быть увеличен, чтобы не утратить характера уединенного убежища для одного естествоиспытателя.
Я спешу написать вам об этом, хотя земля только что приобретена и дом еще не выстроен, потому что я считаю весьма полезным подобные станции для естествоиспытателей в этих частях света (Восточно-Индийский архипелаг, Австралия, острова Тихого океана, Япония и пр.), а также потому, что по случаю настоящей болезни ноги я имею более досуга, чем обыкновенно.
Отели никогда не могут быть удобным местом для занятий вследствие шума и толкотни, нераздельных с ними; также и гостеприимство друзей, как бы широко и любезно оно ни было, не может удовлетворить всем потребностям исследователя природы. Этим потребностям, я полагаю, удовлетворит проектируемая мною станция, хотя скромная, но, несомненно, спокойная, где можно будет работать, не мешая другим, ничем не развлекаясь и не возлагая на себя никаких обязательств.
Главною причиною моего выбора Иохора служит соседство Сингапура, от которого Тампат-Сенанг отстоит в трех- четырех часах. Выгоды этого положения заключаются в том, что здесь легко сообщение со всеми странами мира, что в Сингапуре и Батавии имеются прекрасные библиотеки и что в Батавии ученые статьи могут быть печатаемы на французском, немецком или голландском языках в «Natuurkundig Tjidschrift», a в Сингапуре на английском в «Journal of Eastern Asia».
В надежде, что вы, может быть, будете одним из первых в числе ученых, пожелающих воспользоваться моим Тампат-Сенангом, остаюсь и проч.».
28 апреля 1875 г. Истана Иохор. Я имею намерение не только возобновить при случае Съезду русских естествоиспытателей мое предложение 1869 года: основать зоологические станции в разных местностях России[26], но также обращусь к разным иностранным ученым обществам с предложением учредить подобные зоологические станции в разных частях света, как, напр., в Ост-Индском архипелаге в Австралии, в Полинезии, в Южной Америке (в Магеллановом проливе) и т. п., имея положительное убеждение, что рано или поздно мои предложения осуществятся.
8 июня. Истана Иохор. Так как мое здоровье стало лучше, я отправляюсь, наконец, на днях в Пахан; от этой экскурсии я ожидаю немало трудностей разного рода, но во всяком случае и много интересных результатов.
Сперва я пройду уже известной мне дорогой через Иохор к реке Индау, откуда, подымаясь вверх по течению, я хочу посетить горы Индау; затем отправлюсь в Пахан, где мне надо будет сперва спуститься к морю, повидаться с бандахарой (или радьей) Пахана, чтобы достать от него средства переноски вещей моих в горы.
Верховья реки Пахан населены племенем оран-утан, которых малайцы считают очень злыми и опасными; оран-лиар Текам (дикие люди реки Текам) меня очень заинтересовали, так как я слышал об них много басен, которые ходят между малайцами; некоторые из них так оригинальны (я напишу об них в следующем письме), что должны иметь какое-нибудь основание. Одно для меня ясно: с малайцами туда отправиться мне не следует, если я хочу добраться до них, так как малайцы уже сотни лет как стараются ловить их и продавать в рабство. Придется придумать сообразную с обстоятельствами тактику и вооружиться терпением.
Буду писать Вам, дорогой, из столицы (?) Пахана, Пыкан. Я могу, может быть, переслать письма в Сингапур.
Я придерживаюсь моего старого правила: иметь в виду всегда главную цель и не отвлекаться в сторону, как бы важны причины на то ни были бы.
Поэтому, поправившись немного, я продолжаю мои исследования и не увлекаюсь постройкою Тампат-Сенанг, которое обстоятельство для меня должно остаться второстепенным, хотя это дело, по моему мнению, очень полезное и важное для науки.
Последние дни махарадья Иохорский после 2-месячных переговоров о куске земли, который я выбрал для Тампат-Сенанг и когда я с моей стороны все приготовил (нарисовал планы, нашел людей для постройки и т. д.), стал поговаривать, что может уступить мне землю только на 25 или 50 лет и даже хочет сохранить на землю разные права.
Все это совершенно не согласуется с моими планами, и я, может быть, принужден буду избрать где-нибудь другую местность для будущего Тампат-Сенанг.
Я имел случай во время моей экскурсии в Иохоре собрать остатки исчезающего языка оран-утан, который заменяется все более и более малайским. Эти рудименты могут иметь немалую важность при обсуждении вопроса о происхождении племени оран-утан и сродстве его с другими расами. Считая себя не компетентным решить, с какими языками эти остатки имеют сродство, я посылаю их на суд авторитета по филологии, многоуважаемого академика О. Н. Бётлинга, которому прилагаемое письмо прошу передать или переслать.
Все последние дни идет здесь дождь, что не обещает мне особенно приятное странствие по мокрому лесу, да еще с лихорадкою.
Н. Н. Миклухо-Маклай
Второе путешествие по Малаккскому полуострову
(Письма к секретарю Русского географического общества)
9 июля 1875 г. Пыкан, резиденция радьи Бандахоры Пахана. Из Иохор-Бару отправился я 13 июня сухим путем через лес к р. Индау, по которой поднялся миль около 80 против течения, до 18-го порога, где силы моих людей оказались недостаточными, чтобы протащить пироги через высокие уступы скал. На возвратном пути посетил хотя невысокую (около 1800 ф.), но очень крутую гору Янин (одну из вершин гор Индау), затем, добравшись до устья р. Индау, морем прибыл я сюда и виделся вчера и сегодня с радьей Бандахорой Паханским, который принял меня очень любезно и обещал доставить мне все средства, чтобы посетить его страну, т. е. дать лодки и людей (гребцов и носильщиков) и даже назначил своего имам-иран (главного начальника по военным делам, род военного министра и главнокомандующего), чтобы сопровождать меня часть дороги, но, услыхав от меня, что я имею намерение познакомиться с дикими людьми Текама[27] и хочу отправиться в их сборное место один, без провожатых, настоятельно просил меня написать губернатору в Сингапур или моим друзьям в Европу, что это — моя воля отправиться в лес Текама и что он, радья Паханский, отвечает за своих людей, но не может быть ответственным за диких, которых отравленные стрелы убивают мгновенно людей и животных. За этих людей он так же мало может ручаться, как за тигров и слонов.
Он так настоятельно просил меня дать ему письмо в этом смысле, что я обещал ему написать: что это моя воля отправиться, несмотря на все предостережения с его стороны, к диким людям, и он будет совершенно неповинен, если его опасения оправдаются.
Обещание это — главная причина этих строк.
Пахан для меня интересен как малайская страна, сохранившаяся в стороне от влияния европейцев, и где я имею случай видеть чистый малайский элемент и малайские обычаи.
Меня уверяют, что до Клантан (резиденция радьи Клантан), куда я теперь направляюсь, мне потребуется около 25–30 дней обратно по рекам, отчасти пешком через лес.
Доберусь ли я до Кеды, остается для меня вопросом.
Миклухо-Маклай
15 августа нов. ст. 1875. Котта-Бару, Клантан.
М. Г.
Добравшись до верховьев р. Тамылен (притока р. Пахана) и после бесплодной 3-суточной экскурсии в лесу Текама, я перешел через невысокий горный хребет к верховьям р. Лебе (притока р. Клантан), где все трудности и неудобства путешествия были искуплены неожиданным и блестящим результатом: я нашел наконец несмешанное папуасское племя, живущее номадно в лесах гор, у истоков рек Пахана, Трингано и Клантан.
Много интересных подробностей не позволяют мне при ограниченном времени в нескольких словах изложить результаты наблюдений и описать подробно путь внутри Малайского полуострова, которого горы, странно сказать, несмотря на столетия, как европейцы поселились в Малакке, не были никогда еще посещены белым человеком, почему я встречал всюду между малайским населением тупое изумление и страх, со стороны малайских радий (от которых зависело многое, особенно средства передвижения) большую подозрительность и притворную тупость. При этом, замечу, я нашел немалую выгоду в том, что я не англичанин, так как в последнее время наученные опытом и примером, малайские власти начинают бояться планов Англии, прикрытых миролюбивыми, дружескими и сладкими речами.
Хотя я достиг положительного и удовлетворительного ответа на задачу моего путешествия этого года, я не увлекусь удобством возвращения отсюда морем в Сингапур (при этом муссоне 3, 4-дневное плавание), и предпочитаю не близкий и не легкий путь: отсюда до Кеды на западном берегу полуострова, через земли радий Леге, Са, Патани, Сингоры; к тому почти весь путь пешком по лесу, так как слоны хотя здесь и есть, служат более как украшение и роскошь двора радьи Клантанского.
Здоровье мое относительно изрядное; трудность переноски вещей (несмотря на то, что я имел или мог иметь к моим услугам от 2 до 4 десятков людей) не позволяла мне сделать больших запасов, которые, так как идет уже третий месяц странствия, почти все на исходе, почему мне скоро придется совсем перейти на пищу моих людей, т. е. рис и сушеную рыбу. Этот раз, однако же, я позволил себе роскошь: иметь с собою, кроме палатки, койки и стула, довольно большой стол, который часто бывает мне очень полезен и служил везде предметом чрезвычайного удивления населения, сбегающегося к моим бивуакам, смотреть на человека с белою кожею и диковинными вещами. Буду писать из Кеды.
Миклухо-Маклай
2 октября 1875 г. Котта-Ста, резиденция султана Кеды. Вот в коротких словах мой путь в Малайском полуострове и результаты моей экскурсии.
Собравшись в путь из Иохор-Бару 13 июня, отчасти в туземных прау по рекам Иохор-Лама и Сомброн (южному притоку р. Индау), отчасти пешком, я посетил в горах Индау там живущих оран-утан, которые оказались замечательно малорослым племенем с вьющимися и волнистыми, но не курчавыми волосами и самостоятельным, не малайским диалектом. Затем я поднялся по р. Пахан, до источников р. Тамылен (одного из главных притоков реки Пахан), после бесплодных поисков Оран-Текам. Здесь, в горах у верховьев р. Тамылен и Лебе (притоку р. Клантан) я встретил значительное население оран-сакай, сохранившее вполне папуасский тип и много характеристичных обыкновений (пробуравливание носовой перегородки, татуировку, употребление лука и т. п.), имеющее собственный диалект, но не отличающееся много образом жизни от оран-утан других местностей полуострова.
Спустившись по р. Клантан почти что к устью, повидавшись в Котта-Бару с радьей, я опять вернулся в горы отчасти пешком, отчасти на слонах через земли малайских радий (подвластных Сиаму) Леге, Са, Румен, и почти что во второй раз пересек поперек[28] Малайский полуостров, причем опять имел удачу встретить, или, вернее сказать, отыскать орансакай, очень схожих во всех отношениях с оран-сакай гор Клантана и Пахана. Хотя я был очень близко от западного берега, я снова вернулся к восточному, чтобы ознакомиться с оран-семанг Сингоро и Кеды, а также, имея желание сравнить сиамское население, их быт и политическое положение с малайским, — через Ялор и Патани, затем через земли радий Тодион, Теба, Чена (три последних — с сиамским населением) я добрался до сиамского города Сингоро, откуда уже по хорошей дороге на слонах в 4 дня вчера поздно вечером прибыл сюда, в столицу Ям-Туана (или Султана) Кеды. Сегодня 113-й день путешествия, считая от Иохор-Бару. Способы передвижения были очень разнообразны: я путешествовал пешком, на слонах, на плотах и в туземных прау самой различной величины и конструкций, то один, то со свитою 30 или 40 человек. Наступающее дождливое время затруднило и замедлило значительно последний месяц путешествия и заставило отложить мое дальнейшее путешествие сухим путем до Бангкока.
Положительные результаты моей экскурсии: антропологические и этнологические заметки о папуасском населении полуострова и сведения (хотя не полные) о их распространении; собрание нескольких диалектов этих вымирающих племен. Другой результат (для меня — второстепенной важности) ознакомление с малайцами и их социальным и политическим положением в странах, бывших совершенно в стороне от прямого влияния европейцев; в эти 3 месяца я получил, я думаю, более верное понятие о малайцах и их характере, чем во время почти 3-летнего пребывания в голландских колониях Малайского архипелага.
Немало затруднений, потери времени, неполных и недостаточно положительных сведений было следствием большой подозрительности малайских радий и сановников, несмотря на рекомендательные письма от английского и сиамского правительств, что не раз заставляло меня думать, что эти письма составляют причину подозрительности и лжи; к этим качествам высших присоединялись и большая лень и боязливость низшего населения.
Я вел все время исправный дневник и имею коллекцию рисунков интересных типов; надеюсь также, что мои путевые заметки принесут некоторую пользу для пополнения географических сведений о полуострове.
Но как и результаты предыдущих путешествий, я отлагаю публикацию их до Европы, потому что время мое здесь может быть употреблено с большею пользою на новые исследования и вследствие того, что рисунки и карты не могут быть сделаны без личного надзора.
Отправляясь в прошлом году из Явы и ставя себе задачу доставить положительные сведения о тогда проблематическом папуасском населении, я никак не ожидал, что мне придется употребить на это целый год и что решение этих вопросов, расширяя горизонт наших знаний, повлечет за собою целый ряд новых задач для новых исследований и путешествий, о которых буду писать, как только найду более удобную для этого обстановку.
Прилагаю при сем схематическую карту моих экскурсий на Малайском полуострове.
Переезд в Бюйтензорг и мои работы там Коллекции зоологические и сравнительно-анатомические[29]
31 декабря 1875 г. Бюйтензорг.
М. Г.
Месяца два тому назад я переселился из Сингапура сюда с целью приготовить к печати как можно более накопившихся результатов последней экскурсии и прежних путешествий.
Не одни неудобства пребывания в большом торговом городе, о которых много раз писал и которые дали мне желание устроить в этих странах зоологическую станцию[30], но еще другое обстоятельство (которое не нахожу причины умолчать) решили мой выезд из Сингапура. Путешествие в Малайском полуострове дало мне значительный запас сведений, важных для верного понимания политического положения стран малайских радий. Все пункты, как то: знание сообщений между странами, образ путешествия, степень населенности, характер малайского населения, отношение радий между собою и к своим подданным и т. п., могли иметь для англичан в то время (перед началом последней экспедиции в Перак) немалое значение. Но вторжение белых в страны цветных рас, вмешательство их в дела туземцев, наконец, или порабощение, или истребление последних находятся в совершенном противоречии с моими убеждениями, и я не мог ни в каком случае, хотя и был в состоянии, быть полезным англичанам против туземцев.
Я знал, что некоторые из радий, которых гостеприимством я пользовался, уверившись, что я не англичанин, а человек из большой, но далекой страны[31], не считали нужным слишком не доверять и притворяться относительно меня; я почел бы сообщения моих наблюдений, даже под покровом научной пользы, положительно делом нечестным. Малайцы, доверявшие мне, имели бы совершенное право назвать такой поступок шпионством. Поэтому не ожидайте найти в моих сообщениях об этом путешествии что-либо касающееся теперешнего status quo, социального или политического, Малайского полуострова.
Будучи в Сингапуре, я боялся невольно, мимоходными замечаниями даже, повредить делу малайцев и решил вернуться на Яву, где я оставил много вещей, надеясь также удобнее, чем в Сингапуре, заняться письменною работою.
5 ноября я занял мою настоящую резиденцию в Бюйтензорге — Кабопатен[32], или, как я его окрестил потом, Тампанг-Сусса, и принялся за дело.
Я опять прибегнул к старой моей методе — к диктовке, и опять пришлось, разумеется, диктовать на иностранном языке; но, сделай я иначе, т. е. возьмись я сам писать и переписывать, я думаю, что не более четверти готовых теперь манускриптов были бы кончены мною. Доказательством тому служит это письмо, которое я пишу теперь, которое я откладывал вот уже почти 2 месяца и которое не знаю когда кончу.
В полтора месяца, диктуя каждый день по 6 часов, оказались готовыми к печати следующие рукописи:
1. Ethnologische Excursionen in der Malayischen Halbinsel Nov. 1874 — Oct. 1875, Vorlдufige Mitteilung (mit 1 Kartenskizze und 3 Tafeln)[33].
(Главные антропологические результаты путешествий последнего года).
2. Два письма господину академику О. Н. Бётлингу. Sprachrudimente der Orang-Utan von Johor (посланное Бётлингу еще в мае).
Einiges ьber die Dialecte der melanesischen Vцlkerschaften in der Malayischen Halbinsel.
3. Meine zweite Excursion nach Neu-Guinea 1874 (mit einer Kartenskizze).
(Кроме краткого описания путешествия, некоторые антропологические и этнологические результаты).
4. Eine Anzahl Worte aus den Dialecten der Papua-Kowiay in Neu-Guinea.
(Краткий словарь трех диалектов папуасов этого берега, дополнение подобного словаря Саломона Мюллера, собранного им в 1828 г.).
5. Ethnologische Bemerkungen ьber die Papuas der Maclay-Kьste in Neu-Guinea. II.
(Новый отдел моих «Заметок 1872 г.». К сожалению, я не успел кончить диктовку последней трети, которую приходится опять отложить!)
6. Westiges de l’art chez les Papuas de la Gоte-Maclay, en Nouvelle Guinеe.
(Маленькая статейка, составляющая текст к таблице копий всех папуасских орнаментов, собранных тщательно мною как образцы первых ступеней развития искусства каменного периода, к которым принадлежат жители берега Маклая до 1871 г.)
7. Два письма профессору Р. Вирхову.
(Об обычае употребления ампаланга между даяками острова Борнео.)
Из этих манускриптов № 1, 3, 5 более длинны, и все, кроме двух последних, находятся под печатью в Батавии.
Я нашел возможность сделать это только при помощи диктовки и очень уединенного образа жизни, работая (что нисколько не стесняло меня) от 8 до 10 часов в день.
Но эти занятия, к досаде моей, не оставили мне времени на анатомические исследования мозга малайцев, коллекции, собранной мною еще в 1873 году в тюремном госпитале в Батавии. И эту работу, которая меня очень интересует, приходится отложить.
Отправляясь в январе снова «в путь», я употребил последние дни декабря на пересмотр и на разбор моих небольших коллекций.
При отъезде из России я имел случай сказать Обществу, что не намереваюсь терять времени на собирание коллекций; много раз я уже был доволен, что отстранил от себя эту задачу и не уступил искусу набрать многое множество хотя и интересного материала, на собирание которого тратится значительное время и которое, добираясь к месту назначения или ожидая времени, удобного для разработки, теряет постоянно качества достаточно хорошо сбереженного материала для добросовестного исследования и может служить только для занятия места в шкапах европейских музеев.
Другое дело, если ставить себе главною целью собирание коллекций и соображать с нею свой путь, место жительства и т. п. — одним словом, из путешественника или исследователя превратиться в поставщика музеев! Мои коллекции, о которых я начал говорить, составились иным путем. Занимаясь, где находил возможность, сравнительно-анатомическими исследованиями и не имея часто достаточно времени, чтобы кончить начатое (и предпринятое только как второстепенное занятие), я, надеясь когда-нибудь продолжить эти исследования, сохранял початый материал. Таким образом, у меня находится теперь небольшая, но интересная сравнительно-анатомическая коллекция мозга разных позвоночных[34]. Я также не упускал случая, когда объекты сами попадались или когда собирание их не отнимало времени от других занятий, сохранять то, что попадалось или что мог собрать без большой потери времени. Так составилась довольно полная коллекция насекомых, собранная на мыске Отшельничества (на берегу Маклая) преимущественно с зоогеографической целью.
Пересмотр этих коллекций привел меня к заключению, что собранное вряд ли вынесет еще, может быть, несколько лет сохранения в том же положении, в каком оно находилось до сих пор. К тому, не зная положительно время, когда мне самому удастся заняться ими, я предпочитаю переслать часть этой коллекции Географическому обществу с просьбой передать ее по частям разным ученым в Москве и в Спбурге.
Не посылаю ее в музей, какой-нибудь, не желая, чтобы она заняла бы только место в шкапах!
Ту часть, которая, не портясь, может вынести дальнейшее сохранение, я оставляю пока в Батавии у г-на Анкерсмита, будущего (?) русского в. — консула[35] в Батавии, надеясь со временем сам заняться ее разработкою.
Миклухо-Маклай
8 января 1876 г. Тамтанг-Сусса, Кабопатен, Кампонг Эмпанг, близ Бюйтензорга
Молуккское море. Тихий океан
(29/II—17/III 1876 г.)
(Из письма секретарю Русского географического общества)
29 февраля 1876 г. Молуккское море. В ограниченном[36] поле антропологических исследований главная задача состоит в изучении общего зоологического типа, или habitus’a исследуемой расы[37].
При этом изучении достаточно долгое знакомство с расой, ежедневное столкновение с нею и наблюдение ее характера и особенностей в различных провинциях географического ее распространения дают большую выгоду исследователю, представляя возможность добыть для науки более характеризующие расу наблюдения, выбирая их из множества менее типического, и более верную оценку различий между разновидностями этой расы и степень преобладания одной расы над другою при смешении с соседними. Это положение, я думаю, не требует доказательств.
С другой стороны, мне кажется, изучение преимущественно одной расы позволяет достигнуть полнее этого уровня компетентности, согласно с пословицею: chi troppo abbraccia, nulla stringe.
С этим, я думаю, опять всякий согласится.
Желая увеличить число моих наблюдений над расами Юго-Восточной Азии, Ост-Индского архипелага и островов Тихого океана, я не упускаю случая посетить острова Западной Микронезии и другие, еще более интересные, находящиеся в тех же долготах, не южнее экватора, малоизвестные острова и островки между Новой Гвинеей, Новой Ирландией и Новой Британией. Эта местность Тихого океана имеет для этнографии особенный интерес, так как она находится на границе Малезии, Меланезии и Полинезии (Микронезии), и, по мнению некоторых этнологов[38], послужила воротами, через которые излился поток малайо-полинезийского племени на острова Великого океана.
Я нахожусь на небольшом судне (на шхуне «Sea-Bird», 105 тонн), которое отправляется с товарами и припасами на западные острова Каролинского архипелага, на ос. Палос (или Пелау), остр. Адмиралтейства и т. д. По сделанному условию я имею право, по усмотрению, несколько изменять путь шхуны (т. е. заходить в места, не находящиеся в программе капитана, но лежащие недалеко от пути) и продолжать время стоянки в местах, особенно для меня интересных.
Когда шхуна освободится от груза, она перейдет в полное мое распоряжение.
Так как я не имею желания останавливаться на островах Орт-Индского архипелага, то мы направляемся почти без остановок к ос. Яп, или Вуап, одному из самых западных островов Каролинского архипелага.
Выйдя 18 февраля из Черибонского рейда, мы зашли после 9-дневного плавания (по случаю маловетрия и штилей), 27-го числа, на рейд маленького селения Бонтейн, на южной оконечности ос. Целебеса, последней станции, где я мог передать почте несколько писем — удобство, которого я, вероятно, буду долго лишен. Пройдя через Саляерский пролив, мы обогнули сегодня ос. Бутон и направляемся между Молуккскими островами к ос. Гебе, около которого выйдем в Тихий океан.
Надеюсь встретить на днях молуккский почтовый пароход и передать, если возможно будет, это, немного запоздавшее письмо.
12 апреля 1876 г. Тихий океан, 8°26′ с. ш., 136°12′ в. д. (En route на о-ва Пелау). Случая послать письма до сих пор не представлялось, надеюсь теперь найти возможность отправить мою корреспонденцию с о-в Пелау, via Гонконг, в Европу.
Останавливаясь у островов Гебе, св. Давида, Ауроник, в архипелаге Улити (или Могемуг), мы пришли на ос. Яп, где остались 14 дней; идем теперь на о-ва Пелау (Паллас — испанцев, или Пелью (Pelew) — англичан), откуда отправимся к югу.
Отлагая до следующего письма выписку из моего дневника, я желаю сообщить Обществу главную цель путешествия этого года и мое решение вернуться в третий раз в Новую Гвинею. Для избежания повторений я привожу отрывок из моего письма к другу и товарищу моему Ал. Ал. Мещерскому:
17 марта 1876 г. В Тихом океане, с. ш. 1°30′, в. д. 138°. Покидая в декабре… и т. д. и т. д….
Мне кажется почти лишним прибавить, что отчасти филантропическая сторона моего третьего путешествия в Новую Гвинею не только не помешает научным исследованиям, а, напротив, будет для них даже очень полезною: расширяя поле исследования[39], она доставит более полные наблюдения и, имея следствием более интимные сношения с туземцами, облегчит понимание не вполне разъясненных (при первом путешествии) обычаев.
С другой стороны, знание языка и знакомство с населением дает мне громадное преимущество сравнительно с положением дел перед первым (1871–1872) и вторым (1874) путешествиями в Нов. Гвинею.
Успех науки, который будет необходимым следствием моего нового предприятия, совершенно безличный интерес мой к благосостоянию туземцев берега Маклая, надеюсь, достаточные гарантии того, что Русское географическое общество не изменит своей симпатии ко мне как к соотечественнику и не откажет в своей помощи как ученому в случае, когда дело будет касаться научной пользы.
Миклухо-Маклай
Путешествие по Западной Микронезии и на берег Маклая
(7/III—3/VII 1876 г.)
(Выписки из дневника)
7 и 8 марта. Остров Геби. Холмистый, весь покрытый богатою растительностью островок, находящийся почти под экватором. Три деревни и несколько отдельных хижин расположены у морского берега, который во время отлива представляет большую дорогу, так как внутри острова, по словам туземцев, селений и дорог нет. Жители — главным образом папуасы, между которыми выселенцы из Тидора и Халмагеры встречаются в небольшом числе и преимущественно между мужским населением. Как и на островах Серам-Лаут, я видел здесь детей — от папуасской матери чистой крови и отца-малайца — с прямыми волосами и очень брахицефальным черепом.
Я был встречен несколькими тидорцами, посланными сюда султаном Тидорским в качестве начальников, как старый знакомый под предлогом, что они видели меня в Тидоре во время моего 10-дневного пребывания там в 1873 г.
Главная пища здесь саго и главное занятие собирание трепанга[40] и ловля черепах.
13 марта. Группа Пеган (или острова Фревиль, или св. Давида). Шесть низменных островков, покрытые кокосовыми пальмами и окруженные рифом. Заметив дым и германский флаг у оконечности главного островка, я отправился на берег, где нашел тредора[41] англичанина с многочисленною семьею (человек 20 детей и внуков) и с несколькими туземцами обоего пола с острова Наводо (или острова Плэзант), откуда этот тредор выселился почти год тому назад, чтобы собирать копру (сушеный кокосовый орех) и другие произведения острова для немецкой фирмы Годефруа и К° в Гамбурге.
Спрошенный о туземцах острова, этот человек (убежавший матрос или кто-нибудь тому подобный), по имени Генри Терей, сказал мне, что их на группе очень небольшое число и что они его очень редко навещают. О их внешности он не мог сказать мне ничего точного, так что я остался без сведений о том, к какой расе принадлежат туземцы этой группы.
Капитан одной шхуны, плавающий уже давно в этих морях, рассказывал мне, что видел на этих островах многих папуасов, но не мог мне положительно сказать, постоянные ли они жители этого архипелага или занесены ветром и течением из Новой Гвинеи. Герланд[42] причисляет группу Пеган к Микронезии; вероятно, однако же, что туземцы, которых видел Картере, давно уже вымерли и что теперешние обитатели островов этих недавно живут здесь, так как, по словам Генри Терея (которого словам, однако же, нельзя придавать много веса), в целой группе нет ни одной деревни, а только несколько временно и наскоро построенных хижин и шалашей.
Голландское правительство считает эту группу принадлежащею к нидерландским колониям и даже, если я не ошибаюсь, г-н фон Ренессе фон Дейвенбоде в Тернате имел несколько лет тому назад на одном из островов этой группы свою факторию для выделывания кокосового масла. Я надеюсь от него получить точные сведения о действительных туземцах, которые находились там во время существования его фактории. Европейско-микронезийская помесь (потомство Генри Терея) имеет преимущественно микронезийский тип, и только немного более светлый цвет кожи и легкий русый оттенок волос свидетельствуют о примеси европейской крови.
25 марта. Группа Ауропик. Три маленьких низких островка. Я не съезжал на берег, но, завидя пирогу, мы легли в дрейф, чтобы взглянуть на туземцев. Люди, выехавшие к нам, были не очень темные (№ 37 таблицы Брока), с вьющимися и курчавыми волосами, которые образовывали большие шапки. Носовая перегородка была пробуравлена. Большое число черепаховых колец и других украшений из различных белых и красных раковин сильно оттягивали снабженные громадными отверстиями мочки ушей. На руках, выше и ниже локтя, виднелась татуировка в виде браслета. Кроме большого гребня с развевающимся пером в волосяной шапке, цветка или листа в носовой перегородке, их костюм состоял из узкого пояса, обвязанного вокруг талии и продернутого между ногами. Их вид напомнил мне всех жителей островов на юго-восток от ос. Серама и о-в Кей, и примесь папуасской крови здесь, как и там, мне казалась несомнительною. Как я узнал потом, ос. Ауропик обязан значительною частью своего населения острову Вуап, или Яп, откуда жители часто приезжают сюда для добывания и покупки т. наз. гау, украшений из раковин и камней (?), которые очень ценятся там и служат даже родом денег между начальниками, так что даже обладание ими — привилегия последних.
27 марта. Группа Улити, или Могемог, или Макензи. Она состоит из 20 низких коралловых островков. Короткое мое пребывание на одном из них (ос. Исор) было достаточно, чтоб удостовериться, что население этого архипелага во всех отношениях тождественно с жителями ос. Вуап.
28 марта. Ос. Вуап, или Яп[43]. Небольшой отдельный остров с двумя маленькими (Уромон и Мок) у северной оконечности. Остров этот имеет форму неправильного X, так как две бухты, одна с севера, другая с юга, оставляют посредине только небольшой перешеек, соединяющий обе неравные половины. Невысокие холмы, отчасти почти голые, делают местность несколько разнообразною, не придавая ей, однако же, особенной красоты. Все время стоянки я провел или живя в бай-бай (клубе туземцев или доме собраний) или в разъездах по береговым деревням.
* * *
Не окончив выписки из дневника и не желая послать их в этом отрывочном виде, ограничусь сообщением в немногих словах моего маршрута.
С острова Вуап я отправился на архипелаг Пелау, где пробыл около двух недель. Кроме антропологических исследований, образчики идейного шрифта и слышанные там предания очень заинтересовали меня.
По делам сингапурского контрагента, шхуна, на которой я был пассажиром, вернулась на остров Вуап, а затем, описав значительную дугу (по случаю юго-восточного муссона по ту сторону экватора), пришла к острову Адмиралтейства, где оставалась от 28 мая до 9 июня.
Во время путешествия мне много раз приходилось видеть бесчестную эксплуатацию, которой подвергаются туземцы со стороны белых, и я намерен представить (при первой возможности послать отсюда письма)[44] краткое изложение тех доходящих до преступления несправедливостей, которых мне пришлось быть невольным свидетелем.
Посетив сперва южный, затем северный берег острова Адмиралтейства[45], я нашел у туземцев (принадлежащих к меланезийской расе) этого малоизвестного острова замечательную анатомическую особенность, именно громадную величину очень прогнатностоящих зубов обеих челюстей[46]. Таких же зубастых меланезийцев я нашел на островах Агомес (гр. Хермит), которые посетил после острова Адмиралтейства.
В архипелаге Ниниго (гр. Echiquier) меня ожидал другого рода интересный сюрприз: среди меланезийского населения окружающих архипелагов[47], эти острова, счетом с лишком 50, имеют микронезийское население. Откуда и каким путем оно забрело сюда, осталось для меня вопросом, который, не зная языка этого робкого и напуганного населения, я не мог решить.
С архипелага Ниниго я направился 17 июня к моему берегу, куда прибыл 28-го того же месяца после отсутствия трех лет и шести месяцев.
Мое плавание из Явы продолжилось с лишком четыре месяца и было, по не зависящим от меня причинам, очень некомфортабельно, но я имел случай видеть собственными глазами многие поучительные факты и отношения, посетить несколько интересных местностей и достигнуть моей цели.
Туземцы приняли меня более чем дружелюбно и сказали мне, что ждали меня, так как Маклай обещал им вернуться, и они не сомневались никогда, что это исполнится.
Построив довольно удобный дом, зная язык и пользуясь полным доверием и немалою дружбою папуасов, я имею много шансов подвинуть значительно мои научные задачи, которые назначил себе во время первого пребывания на этом берегу.
Не замедлю приняться за дело и в ноябре буду иметь случай сообщить Вам результаты, которые найдется возможность добыть к тому времени.
Миклухо-Маклай
3 июля 1876. Бугарлом, на берегу Маклая в Н. Гвинее.
Острова Адмиралтейства Очерки из путешествия в Западную Микронезию и Северную Меланезию
6 мая. Остров Вуап. Мы снова подошли к о. Вуап, и я съехал на берег у большой дер. Киливит, на севере острова. Из этой деревни отправлялась с нами партия (22 туземца) для ловли и приготовления трепанга на острова, на юг от экватора. Один из тредоров, живших на о-ве Вуап более года тому назад, заключил условие с вождем Киливита, который обязался в уплату за перевоз «фе» из Пелау отпустить с этим тредором известное число туземцев для ловли трепанга. Вскоре после заключения договора случился печальный факт, что из 65 туземцев Вуапа, отправившихся в двух партиях на европейских судах, вернулось обратно только 7 человек, из которых умерло еще несколько по возвращении домой. Это обстоятельство, разумеется, очень озадачило жителей Киливита, и начальнику было трудно добыть людей: никто не хотел отправиться, видя, что шансы на возвращение очень неверны. Но туземцы, несмотря на это, сдержали слово, и начальник, чтобы убедить других, сам показал пример, послав с прочими своего старшего сына. Пример подействовал, и тредору удалось и на этот раз получить работников.
Когда многочисленные пироги привезли отправляющихся с нами туземцев и провожающих их родственников и друзей, я заметил, что между первыми был и их «матра-мат», который привез с собою маленького деревянного идола, обвязанного тряпками. Идол этот висел у него на груди. На мои вопросы я получил весьма неудовлетворительные ответы: мне сказали, что, когда кто из туземцев заболеет, этого идола ставят около больного и что один из больших «матра-мат» дал идола, чтобы сопровождать экспедицию для предотвращения всяких бедствий. Мое любопытство, видимо, не нравилось туземцам, и они поспешили унести свою святыню в трюм. До этого я не видел ни на о. Вуап, ни на архипелаге Пелау никаких человекоподобных изображений (за исключением «Дилукай» на архипелаге Пелау), которым придавали бы какую-нибудь особенную, сверхъестественную силу.
14 мая. Мы приблизились к группе Улеай[48]. Я насчитал 16 островов, из которых шесть были больше других. К нам выехало значительное число пирог. Люди были немного темнее туземцев Вуапа, имели лицо, раскрашенное красною краской; носовая перегородка была пробуравлена, зубы белые. Некоторые были татуированы; рисунок татуировки не отличался от виденного на о-вах Вуап и Могемуг. Красиво татуированный производит впечатление хорошо одетого, и в толпе, в которой находятся татуированные и нетатуированные, невольно сперва обращаешь внимание на первых. Между людьми среднего роста, из которых многие молодые были весьма красивы лицом и хорошо сложены, некоторые отличались замечательно высоким ростом. Я смерил одного, который был выше других: он оказался 1810 мм высоты.
15 мая. Проштилевав всю ночь, мы незначительно отдалились от группы, но миль 5 или 6 расстояния от нее не помешали выехать пирогам. Туземцы здесь очень падки на табак, так что небольшой кусок его предпочитают ножу.
На одном из островов этой группы живет европейский тредор.
27 мая. На второй день, после того как мы увидели силуэт о. св. Матвея, мы оказались при рассвете на восток от главного острова группы Адмиралтейства (28 мая — 9 июня), около островков, которые на карте носят названия: Los Reyes, Gabriel, Refael, Horno, La Vandola. Как и у о. св. Матвея, к нам не выехала ни одна туземная пирога; это было еще понятно там, так как мы прошли в значительном расстоянии от берега; здесь же мы проходили некоторые из островов в расстоянии не более одной мили и даже менее, так что можно было различать предметы на берегу — хижины, пироги, людей. Причиной было, вероятно, то, что утром шкипер, под предлогом «быть наготове», пробовал свои игрушечные орудия; хотя и не звук, а дым выстрела, вероятно, достаточно напугал туземцев, чтобы парализовать их любопытство.
Около группы Иезу-Мария, которую мы прошли 27 мая около 4 часов, в октябре прошлого года произошло трагическое происшествие — один из многочисленных примеров поведения европейских шкиперов, плавающих в этих морях.
Шхуна «Рупак», шкипер Голл, под английским флагом, забрав на о. Вуап человек 30 туземцев, крейсировала около о-вов Адмиралтейства, отыскивая удобное место для ловли трепанга. Около архипелага Иезу-Мария к шхуне выехало множество пирог; шкиперу показалось это обстоятельство опасным, тем более что он заметил большие связки копий на пирогах. Не имея других причин, кроме трусости, он стал стрелять по пирогам туземцев. Видя, что испуганные туземцы, выехавшие к шхуне, по всему вероятию, для торга, обратились в поспешное бегство, шкипер вздумал дополнить свою победу. Он послал бывших с ним туземцев Вуапа на большой шлюпке в погоню, оставшись, разумеется, сам на шхуне.
Незнакомые с местностью, в пылу погони, туземцы Вуапа попали на риф и, не умея хорошо управляться с европейскою шлюпкой, не могли скоро спихнуть ее в глубокую воду, почему были врасплох настигнуты жителями Иезу-Мария и на виду у шхуны перебиты копьями. Шкипер не пытался подать им вовремя помощи и поспешил в свою очередь обратиться в бегство.
28 мая. Пройдя в ночь незначительное расстояние, мы увидали утром южный берег большого острова, который к западу был горист, на востоке же тянулся длинною низменною полосой.
Кроме этого берега главного острова, виднелось несколько высоких и низких островков, которых я не могу с точностью указать на морских картах[49]. Между прочими один из островков отличался своими холмами, форма которых заставляла предполагать их вулканическое происхождение. Я впоследствии узнал, что туземное название этого острова Лу, или Ло, и что туземцы получают там обсидиан, из которого они выделывают острия своих копий.
Довольно большая пирога с маленьким четырехугольным[50] парусом шла от этого острова, пересекая наш путь; туземцы, находившиеся на ней, не показали и тени страха, когда встреча со шхуной стала неизбежною. Они, вероятно, уже не раз бывали в подобном положении и, как знающие в чем дело, свернули вовремя парус, поймали брошенный со шхуны конец и, убедившись, что за кормой пирога их совершенно вне опасности быть залитою волнами, влезли на палубу.
Пирога эта, кроме небольшого четырехугольного паруса, имела еще две другие особенности, которые бросались в глаза. Во-первых, мачта ее была укреплена не на самой пироге, а за бортом ее, где заостренный нижний конец ее опускался в петлю из ротанга; во-вторых, платформа посредине пироги не лежала горизонтально, а стояла наклонно, образуя тупой угол с бревнами, соединяющими балансир с пирогой. Такое положение платформы, которое представляет большое неудобство для сидящих в пироге, имеет, как я предполагаю, ту выгоду, что облегчает сохранение равновесия, особенно необходимое при значительном волнении, когда парус находится на стороне балансира, отчего крен пироги обыкновенно так значителен, что балансир почти постоянно погружается в воду[51].
Рея, стеньги и штаги пироги были укреплены кистями длинных прядей человеческих волос. При виде этих вымпелов туземцы Вуапа, которые были на шхуне, встревожились и опечалились, признав в них волосы своих соотечественников, перебитых недалеко от этого места в прошлом году, о чем я рассказал выше. Это предположение было весьма вероятным, потому что волосы этих длинных кистей во всяком случае принадлежали не меланезийцам, а туземцам Вуапа, которых было перебито достаточно у рифа Иезу-Мария, чтобы украсить снасти не одной пироги. Мысль, что туземцы, которых мы встретили, нередко бывают в сношениях с европейскими судами, скоро оправдалась: между поклажей, которую они имели с собою на пироге, находилось небольшое зеркало, несколько ножей и топор. Кроме разных туземных украшений, на руках и ногах наших новых знакомых находились браслеты из разноцветных бус, по форме и качеству которых тредоры, бывшие на шхуне, заключили, что перед нами было здесь судно из Австралии. Наши новые спутники жестами показывали на берег, где была, должно быть, их деревня, которую они называли Лонеу, и приглашали нас туда. Назначением шхуны при посещении этих островов была меновая торговля и постепенная высадка шести тредоров, но так как последним в точности не было известно — изобилует ли именно этот остров естественными произведениями, как то: жемчужными раковинами, черепахой и трепангом, то мы и направились к указанному берегу, где виднелись кокосовые пальмы и ряд хижин вдоль берега.
Когда можно было ясно различать людей, находящихся на берегу, туземцы, бывшие с нами, знаками и криками стали звать своих соплеменников на шхуну, вследствие чего некоторые пироги со множеством туземцев всех возрастов окружили судно; туземцы, крича во все горло, старались перекричать друг друга, предлагая свои произведения или передавая свои замечания один другому. Несмотря на страшный гам людских голосов, я, пользуясь случаем первого столкновения, занялся решением задачи: с которою из папуасских разновидностей, прежде мною виденных, эти новые физиономии и фигуры имеют наибольшее сходство? Не успел я перебрать в памяти разновидности папуасов, которых я имел случай ранее видеть, как почти убедился, что, если бы я встретил эту толпу около берегов Новой Гвинеи, то никогда не подумал бы отличить этих людей от тамошних папуасов, туземцев берега Маклая, и считать их за особую разновидность. Не развлекаясь множеством оригинальных украшений и новых для меня мелочей, как навешанных на туземцах, так и наполнявших их пироги, я старался только уловить общий тип. Чем более я всматривался, тем менее мне казалось естественным считать туземцев Новой Гвинеи, Новой Ирландии и о-вов Адмиралтейства (южного берега) чем-либо иным, как географическими разновидностями одного племени.
Туземцы носят здесь много разнообразных украшений. Начну с головы и волос. Из разных куафюр, которые здесь в моде, одна особенно отличалась от усвоенных папуасами причесок. Зачесанные назад и смазанные маслом с охрой волосы были туго обвязаны красною тапой (выделанная древесная кора), что представляло вид как бы надетого на затылок узкого колпака; когда же тапа не скрывает всех волос, то расчесанный пук их, окрашенный красною землей, образует довольно оригинальный шиньон, висящий на тонком стебле, который образуется из туго связанных волос, часто до 20 см длиною.
Характеристичное украшение, носимое здесь то на голове, то на груди, состоит из правильно вырезанного и хорошо выполированного круга, нередко в 12 см в диаметре, сделанного из одной большой раковины; иногда этот круг заменяется одною обчищенною, но не полированною жемчужною раковиной. Часто поверх этого белого круга бывает прикреплен в центре красиво и разнообразно вырезанный орнамент из черепахи, которого рисунок резко выступает на белом фоне раковины. В отверстие носовой перегородки у туземцев был вдет шнурок с нанизанными на нем мелкими раковинами, на котором также висел выточенный из раковины (вероятно, из рода Tridacna) наконечник, величиной в большую ручку для стальных перьев. Это оригинальное украшение, имея от 20 до 25 см длины, болталось под носом. Ожерелья были сделаны из зубов собак, находились нередко между ними и зубы людей; для придания ожерелью разнообразия в известных промежутках между зубами были нанизаны мелкие кости, между прочим и людские phalangi digitorum. Я заметил у многих пожилых людей аппарат, которого значение осталось для меня темным; он состоял из пучка тонких ветвей, на которых засохшие листья были сохранены; эта метелка имела рукоятку из верхней части человеческого humеrus. Эту метелку туземцы носили на шнурке вокруг шеи, так что она болталась у них то на груди, но на спине. Я не узнал, для чего она служит, заметил только, что туземцы неохотно с нею расставались, когда я предложил им выменять ее на европейские изделия.
Туземцы были настолько хорошо знакомы с требованиями европейских торговых судов, что подъехавшие пироги были нагружены всеми предметами торга. Кроме черепахи и жемчужных раковин[52], на пирогах находились предметы, заинтересовавшие меня в этнологическом отношении. Табиры[53] разных размеров, с красивыми резными ручками, по своей величине и искусной отделке обратили мое внимание. Диаметр некоторых достигал 72 см; правильность круга и изгиба вне и внутри была замечательна как образчик ручной и глазомерной работы. Другие сосуды различной формы, как, напр., большие блюда, вазы, бутылки и т. п., были, собственно, не что иное, как корзины, сплетенные из тонкого ротанга, пропитанные непромокаемым черным составом, вероятно соком какого-нибудь растения. Туземцы также привезли для меня множество хорошо сделанных сетей, тонкая бечевка которых была сплетена из весьма крепких фибр. Наконец, копья с острием, состоящим из удачно отколотого куска обсидиана, имели оправу из какого-то весьма твердого цемента, часто мастерски украшенную орнаментом, которая соединяла острие с древком.
До захода солнца туземцы теснились вокруг шхуны. Когда стало темнеть, мы, не найдя хорошего якорного места, отошли немного от берега и легли в дрейф.
29 мая. Ночью все положительно на шхуне спали, так же как шкипер и рулевой. Утром, когда понемногу весь служащий персонал проснулся, мы оказались занесенными далеко на юго-запад от вчерашней деревни, около которой предполагалось оставаться, и очутились около маленького островка, который виднелся вчера вечером на горизонте. Был почти штиль; к нам приблизились от ближайшего берега две маленькие пироги. В одной из них находилась молодая женщина, которая, как и прочие туземцы, взобралась на палубу. Ее внешность отличалась богатой татуировкой, которою было покрыто все лицо и тело до колен. Это были шрамы, расположенные без всякой симметрии; прямые и кривые линии их перекрещивались вдоль и поперек. Татуировка состояла не из наколотых точек, как в Микронезии, а из тонких шрамов, шириной около 0.3 мм, сделанных острым орудием, как я убедился впоследствии — осколком обсидиана[54]. Другой род татуировки составляли пятна — зажившие ранки от ожогов древесным углем. Третий род — покрытые гладкою кожей желваки; эта гипертрофия кожи была, вероятно, следствием втирания какого-нибудь вещества в рану; последних было немного: несколько на плечах и между грудями. Пока я рассматривал татуировку и мерил голову, туземец, с которым приехала эта женщина, видя, что на нее обращено большое внимание, стал ее предлагать европейцам, на что она слегка улыбалась. Это меня крайне удивило, так как меланезийцы весьма нравственны и подобная услужливость вовсе не в их характере.
Не успел я измерить головы других туземцев, как они заговорили что-то в большой тревоге, указывая на берег, у которого мы стояли вчера, и на несколько пирог, показавшихся из-за мыска. Они мимикой уговаривали шкипера и тредоров не возвращаться туда, а направиться в их сторону, далее на запад. Когда же пироги наших вчерашних знакомых стали приближаться, все поспешили спуститься в свои пироги и стали удаляться в противоположную сторону, между тем как туземцы Лонеу, завидя отвалившие пироги, кричали им что-то вслед, стоя на платформе своих пирог, и грозили копьями. Очевидно, мы находились на границе двух враждебных деревень. Вновь прибывшие, заняв на палубе место первых, в свою очередь стали усердно звать нас в деревни Лонеу и Пуби и, указывая на удаляющиеся две пироги, постоянно повторяли: «усия», желая мимикой дать понять, что те люди людоеды[55], и т. п.
Часам к 10 шхуна была окружена более чем двадцатью пирогами различной величины, и на юте шел оживленный торг. Картина его была характеристичная: незначительный ветерок едва подвигал шхуну и не мог парализовать сколько-нибудь силы лучей палящего, ослепляющего солнца (к 11 часам в тени было 32 °Ц); у кормы несколько десятков разукрашенных, размалеванных папуасов кричали, прыгали из одной пироги в другую или бросались в море, держа предметы мены над головой и достигая таким образом до шхуны. У борта происходила страшная давка: несколько рядов туземцев, стараясь перекричать других, предлагали свои произведения, толкались, пытаясь пробраться на палубу или спуститься обратно в пирогу. С другой стороны, тредоры и шкипер с револьверами за поясом, окруженные лежащими наготове штуцерами разных систем, с мешочками, наполненными бисером и стеклянными бусами в руках, отсыпали их маленькими мерками, не больше наперстка, туземцам в уплату за щиты черепах, жемчужные раковины и другие местные произведения[56]. Для дополнения картины прибавьте полдюжины туземцев Вуапа, с заряженными ружьями, стоящих на рубке около шкипера, который с вечера зарядил свои игрушечные пушки и приготовил сегодня тлеющие фитили «на всякий случай».
Иногда, когда ют слишком переполнялся, на туземцев травили большого и сильного водолаза, которого они доселе боятся более тредоров, шкипера и всего экипажа шхуны, вместе взятых. Едва собака показывала свои большие зубы или начинала лаять, ют мигом очищался, и давка у борта еще более усиливалась; многие бросались в море, чтобы скорее уйти, другие лезли на ванты. Это очень тешило шкипера и тредоров.
Несмотря на жару, раздражающие нервы крики и говор, давку около борта, суматоху при травле туземцев собакою и досаду при виде человеческой бесчестности, несправедливости и злости, я старался развлечься наблюдениями над папуасскою толпой. Это мне удавалось несколько раз в продолжение дня; тогда вся описанная непривлекательная обстановка исчезала для меня на время; я видел перед собою ряд интересных объектов для исследования и, пользуясь случаем, спешил записывать, измерять и чертить эскизы для дополнения своих заметок. Я измерил по возможности аккуратно дюжины полторы голов и нарисовал эскизы челюстей с громадными зубами, которых величина и форма сперва меня озадачили[57]. Вьющиеся, не курчавые, волосы у одного особенно светлого мальчика обратили было мое внимание, но, вспомнив о настоятельных предложениях спутника папуасской дамы, я не счел основательным придавать большое значение такому одиночному исключению из общего типа.
Костюм многих был довольно замечателен, хотя он не был для меня сюрпризом, так как я о нем не раз читал[58], но тем не менее вид его очень удивил меня как курьезное изобретение Species homo. У многих конец penis’a был защемлен в узкое отверстие Bulla ovum[59]. Туземцы, казалось, были очень довольны выдумкой такого национального костюма. Как только они замечали, что кто-либо из европейцев обращал внимание на привешенную раковину, почти всегда находился один, который, стоя на платформе пироги, приводил белую раковину в движение. Она то прыгала вверх и вниз, то в стороны, то вертелась, как колесо, вокруг оси; наконец, туземец, устав или считая, что достаточно потешил публику, делал ловкое движение и прятал Bulla ovum между ногами. Движения эти были так ловки, и люди, казалось, имели такой навык делать их, причем разные личности повторяли те же движения и в том же порядке, что не оставалось сомнения в том, что эта гимнастика входит в один из туземных танцев. Когда туземцы меняют костюм, т. е. заменяют «мана» (туземное название Bulla ovum) поясом из тапы, то они надевают раковины часто на ухо или вкладывают ее в небольшой мешочек, носимый на шее. Снимая и надевая мана, они, бесцеремонные в других отношениях, стараются не обнажать glans penis, закрывая ее рукой или защемляя ее между ногами[60].
Я пожелал приобрести для своей этнологической коллекции несколько экземпляров этих раковин отчасти ради орнамента, который был вырезан на них, отчасти же, чтобы удостовериться, что узкое отверстие в раковинах не расширено. Я убедился, что в одном экземпляре оно не было изменено, в другом же было обточено самым незначительным образом. Мне казалось очень сомнительным, чтобы эти люди могли втиснуть glans penis без боли в такое узкое отверстие, в которое едва входит мизинец взрослого человека, а потому предполагал, что они защемляют в раковину только praeputium, который здесь как у детей, так и у взрослых, очень удлинен. Однако же ближайшее наблюдение над многими индивидуумами показало, что не только glans, но и часть corporis cavernalis помещается в отверстие раковины. Другое обстоятельство, убедившее меня в возможности ношения такого аппарата без серьезных неудобств и последствий для здоровья, то, что сдавливание внешних частей не так сильно, чтобы произвести стриктуру мочевого канала, так как туземцы могут испускать мочу, не снимая раковины, чему я сам был свидетелем и для чего сделано небольшое отверстие в круглой стенке Bulla ovum. Этот обычай указывает на незначительный размер мужского полового органа у туземцев, что составляет особенность расы, и этим антропологическим признаком не следует пренебрегать[61].
Торг, который шел без перерыва, не помешал, однако же, туземцам вспомнить о своем желудке. Одни ели таро, которого здесь, кажется, много и хорошего качества, другие — саго, варенное с тертым кокосовым орехом; некоторые же — какую-то массу кирпичного цвета, которую я сперва принимал за особенным образом приготовленное саго, пока не подошел к завтракающему и не удостоверился, что эта масса не саго, а глинистая земля. Туземец ел ее с удовольствием и долго жевал перед глотанием. Земля, которую называют здесь «э-пате», цветом и вкусом похожа на «ампо» — землю, которую малайцы едят на о. Яве, около Самаранга, и на многих других островах Малайского архипелага[62].
Мы употребили почти весь день, чтобы добраться до острова, и к заходу солнца бросили якорь около деревень Пуби и Лонеу, в нескольких саженях от берега.
30 мая. Я отправился в деревню, которая была расположена вдоль берега. Хижины тянулись около самого песчаного берега, а не были спрятаны, как на Новой Гвинее, на берегу Маклая, за поясом берегового леса. Хижины были двух родов: одни в меньшем числе, состояли из крыши, доходящей до земли, и не имели боковых стен. Передний и задний фасады этих хижин имели стены из того же материала, как и крыша, т. е. из листьев кокосовой пальмы; в них были двери, из которых обращенная к морю была шире, и верхний карниз ее был украшен раковинами. Эти хижины служат для собрания мужчин и спальнями для холостых; женщин и детей в них не было. Таких хижин я заметил три во всей деревне; все остальные были меньшей величины и стояли на сваях, которых верхние концы были клинообразно заострены и снабжены круглыми горизонтальными досками, чтобы затруднить доступ крысам в хижины. Можно себе составить довольно верное понятие об этих хижинах, вообразя хижину, состоящую из одного чердака, утвержденного на сваях. Под хижинами между столбами было опрятно, к отверстию в полу, которое образует вход и может запираться опускною дверью, было приставлено бревно с зарубками.
Осмотрев деревню, которая называлась Пуби и была очень невелика, я отправился по тропинке вдоль морского берега в другую — Лонеу, которую можно было видеть со шхуны. Местность между деревнями болотиста, и там растет много саговых пальм. Эта вторая деревня оказалась значительно больше первой. Хижины стояли здесь тесно друг около друга. Пространство под хижинами содержится очень чисто, и сваи, на которых стоят хижины, образуют ряды пропилей, отделяющие анфилады пустых и низких комнат. Под хижинами было прохладно; такое устройство, я полагаю, весьма соответствует тропическому климату. Это были семейные хижины; я бегло осмотрел внутренность некоторых из них; крик грудных ребят выгонял меня скоро из хижин; я успел только заметить, что в хижинах не было перегородок, равно как и никакой особой утвари и мебели, кроме табиров, горшков и цыновок. Около некоторых хижин лежали барумы[63], совершенно схожие по форме и по употреблению с теми, которые я видел на берегу Маклая.
Туземцы здесь не пугливого характера, они не угнали женщин и детей в лес или в другие места, почему я имел возможность продолжить и над ними мои вчерашние антропологические измерения, за которые я принялся, как только осмотрел обе деревни. Вообще я принял за правило предпринимать наблюдения в первые же дни знакомства с туземцами, когда они еще находятся под влиянием известного смущения, с которым обыкновенно бывает сопряжено появление белого в странах, редко посещающихся европейцами. Новизна лица и любопытство, которые группируют туземцев около белого, непонимание его намерений и боязнь рассердить его делают их очень послушными объектами исследования, которые можно измерять, рассматривать и т. д. без помех, если только исследования не переходят границ их терпения. Предлагаемые профессором Вирховым 25 направлений измерений, а тем более проектированные 78 измерений, опубликованные комиссией экспедиции фрегата «Новара»[64], вовсе неприменимы при исследовании здешнего населения, и натуралист, занявшийся выполнением подобных задач, рискует лишиться объекта своих исследований, который вследствие нетерпеливости и подозрительности неожиданно скроется.
Наученный опытом, я сократил значительно свои наблюдения и старался собрать достаточный материал для точных ответов на ограниченное число вопросов. Я убедился уже при прежних путешествиях, что лучше всего начинать исследования со старших по летам или положению и сохранять при этом самый серьезный вид, заставляя хранить молчание всю толпу. Не раз, как и здесь, я замечал, что люди, над которыми я делал наблюдения, сами, без моего вмешательства, следили за тем, чтобы я кого-нибудь из них не пропустил или чтобы кто-либо не укрылся от манипуляций, сделанных над другими. Это происходит, как я предполагаю, от того обстоятельства, что дикие видят даже в самом мелочном действии, произведенном над их особой, какое-то волшебство, навлекающее опасность, почему каждый судит так: если что дурное вследствие этого случится со мною, то пусть и с другим будет то же; как сделали со мною, пусть сделают так же и с другими[65]. Другое правило, до которого я дошел также своим опытом, — делать наблюдения (антропологические) при каждом удобном случае и по возможности неожиданно, особенно если предстоит измерять или рисовать женщин. Я таким образом мог сделать гораздо более измерений и заметок, чем если бы я поручал мужчинам звать их или привлекал бы их подарками. Женщины здесь представляют для краниологии особенно ценный материал, имея, как и во многих местностях Новой Гвинеи, очень короткие волосы или бритые головы, что позволяет весьма верно получать размеры их черепа. Я весь день провел на берегу, измеряя и рисуя[66].
31 мая. Приход даже такого небольшого судна, как шхуна, оказывает заметное влияние на ход ежедневной жизни туземцев, вследствие чего многие их занятия, работы и даже особенности их характера, каковы отношения между собою, с женщинами и детьми, ускользают от наблюдения при кратковременном с ними знакомстве. Когда утром 31 мая я съехал на берег, в деревне не было мужчин: все они были заняты торгом на шхуне. Зато множество женщин сидело около хижин с детьми всех возрастов; все были заняты нанизыванием на длинные нити мелкого бисера, который был наторгован вчера их мужьями и отцами на шхуне.
Бисер был очень мелок. Я подошел к одной группе, чтобы рассмотреть нить, которую употребляли для нанизывания; она при всей тонкости и длине своей оказалась замечательно крепкою и ровною; по крепости она превосходит, мне кажется, все европейские нитки. При посредстве сметливого мальчика мне удалось увидеть разные шнурки и веревки, сделанные из того же материала. Мальчик принес мне также из леса длинную ветвь лианы с очень гибким и ровным стволом, из которой приготовляются нитки. Туземцы называют ветку лианы «кап». Я сохранил ее для определения.
Занятия с бисером помогли моим краниологическим измерениям; вчера мужчин и детей я мог мерить без препятствий; женщины же, вероятно вследствие присутствия первых, очень жеманились, закрывали лицо руками, как только я подходил, или, опустив голову, не хотели поднять ее, вертелись или убегали; одним словом, я не получил вчера ни одного несомненно верного размера женской головы. Сегодня же не было мужчин, и они не считали нужным разыгрывать комедий; притом, боясь рассыпать бисер, который лежал в табирах у них на коленях, они не шевелились, когда я, неожиданно подходя, мерил их головы, сравнивал цвет их кожи с таблицей Брока или рассматривал их татуировку. Последняя, хотя не отличается красотой или сложностью рисунка, расположена по крайней мере симметрично по обеим сторонам тела, а не вдоль и поперек без всякой системы, как у виденной вчера женщины в деревне Усия. Вчера я описал вид самих шрамов, сегодня скажу несколько слов о расположении татуировки у здешних женщин. Начинаясь двумя или тремя желваками гипертрофированной кожи на верхней части рук у плеча, идут два ряда выжженных пятен под грудями, которые, сходясь между ними, образуют латинскую букву S; отсюда простая линия мелких надрезов или несколько подобных линий, расположенных зигзагами, спускаются до пупа. Вообще на татуировку здесь обращается гораздо менее внимания, чем в Микронезии, и расположение ее не установлено строгою модой.
Костюм женщин не отличается почти от костюма на архипелаге Пелау; те же фартуки спереди и сзади из растительных фибр (листьев пандануса, ствола банана и т. п.), только женщины здесь носят их, подвязывая пояс гораздо выше, так что пуп обыкновенно закрыт и самые фартуки длиннее, чем у женщин о-вов Пелау. Почти все женщины казались старухами и были очень некрасивы собою, а девушки, едва достигшие зрелости, были беременны или возились уже с детьми, которых кормили грудью.
Я много раз в эти дни наблюдал способ, которым туземцы обоего пола выражают удивление. Каждый раз, как была к тому даже незначительная причина, они вкладывали палец между зубами, при этом не издавали ни возгласов, ни фраз, выражавших одобрение или страх; когда же удивление усиливалось, в рот вкладывали еще другой палец. Когда руки были чем-либо заняты, тогда вкладывание в рот пальцев заменялось высовыванием языка, причем градусы удивления также выражались длиной высовывающейся части языка.
Женщины сидели на земле, так же как и мужчины, что очень скандализировало моего слугу, туземца Пелау, который уверял меня, что женщины и девушки Пелау никогда так не садятся. Не замечая ничего особенного и не видя отличия от способа сидения, какой был наблюдаем на других островах, я спросил объяснения. Оказалось, что на архипелаге Пелау считается непристойным, если девушка или женщина при лицах мужского пола сидит на корточках или даже, сидя, раздвигает слишком далеко лежащие на земле ноги; эти оба положения были в ходу здесь между женщинами, понятия которых об этикете отличались от понятий туземцев Микронезии. Мальчик, лет двенадцати, нечаянно или умышленно толкнул одну из женщин, которая вследствие того рассыпала немного бисера; она пришла в такую ярость, что, найдя брань, которою она его осыпала, недостаточною, вскочила и, гоняясь за ним, стала бросать в него камнями, палками и всем, что попадалось под руку. Это была уже весьма пожилая женщина; она долго не могла успокоиться: все старалась попасть чем-нибудь в своего противника, который ловко увертывался и убегал от нее. Эта сцена весьма смешная, и несколько мальчиков так сильно хохотали, что валялись по земле и от смеха в глазах у них были слезы.
Окончив измерение голов и роста, я только что собирался рисовать профиль одной из женщин, как заметил суматоху в группе, которая окружала меня: почти все женщины, за исключением нескольких старух, перебрались со своим бисером и детьми за несколько хижин от той, где я сидел; даже оригинал моего предполагаемого эскиза улизнул, пользуясь удобным случаем, когда я оглянулся, чтобы узнать причину общего передвижения. Несколько пирог с мужчинами возвращалось со шхуны, они-то и произвели общее бегство женщин. Когда туземцы вернулись и обступили мой столик, женщины оставались в почтительном отдалении, как подобает «номерам вторым» рода человеческого (которое нормальное отношение сохранилось еще в папуасском мире).
Вернувшиеся со шхуны казались весьма усталыми: утро было очень жаркое, давка и травля собакой на шхуне также, вероятно, повлияли. Я заменил убежавшую женщину весьма интересным объектом мужского пола, у которого громадные зубы были очень замечательны. Многие из туземцев расположились спать, улегшись на живот и уткнув лицо в подложенные под голову руки. Один же из них, которого интересовала почему-то моя камера-люцида, но у которого также слипались глаза, отправился к группе женщин и, сказав что-то одной из них, лег на землю. Подошедшая женщина, присев около него и взяв его голову в руки, стала сдавливать ее то спереди и сзади, то с боков, насколько хватало ее сил. Это продолжалось минуты 3 или 4. Раза два она хотела перестать, но пациент ворчал что-то, вероятно заставляя продолжать эту операцию. Наконец, он встал, протер глаза и, повернувшись ко мне, показал мимикой, что теперь он спать более не хочет, и, действительно, он оставался бодрым до вечера, между тем как его товарищи, все лежа на животе и по временам ворочая голову или раздвигая и сдвигая циркулеобразно ноги, проспали до сумерек.
Наиболее интересным результатом наблюдений этого дня было уяснение факта, что у женщин, как и у мужчин, некоторые зубы имеют способность расти преимущественно перед остальными и что у детей, особенно у мальчиков, некоторые зубы уже так значительны, что обещают достигнуть величины зубов их отцов или даже перещеголять ее; из этого следует, что эта характеристичная для расы особенность стала уже наследственною. Неровность зубов заметнее у женщин и детей, имеющих белые зубы, чем у взрослых мужчин, у которых от употребления пинанга поверхность зубов покрыта как бы черною глазурью.
1 июня. Двое из тредоров должны были по контракту, заключенному с сингапурскою фирмой, остаться на о-вах Адмиралтейства, почему один из них 1 июня избрал дер. Пуби местом жительства. За несколько топоров, ножей и некоторое количество бумажной материи была куплена одна из хижин, и новый хозяин ее стал перевозить свои вещи на берег, почему сегодня многие из мужчин оставались в деревне и толпились около хижины нежданного гостя. Дав мимоходом матери грудного ребенка немного бисера, я привлек внимание матерей: мне стали приносить всех грудных детей, надеясь получить тот же подарок; при этом мне удалось видеть ребенка, которому, по всему вероятию, было не более 8 или 9 дней. Цвет его кожи был сравнительно очень светел (№ 21 таблицы Брока), а голова брахикефальна (индекс ширины 82.4).
Сегодня я был окружен туземцами мужского пола, которых физиономии представляют не менее разнообразия, чем на Новой Гвинее. Сказав несколько слов о татуировке женщин, я еще не описал ее у мужчин, у которых она также встречается и даже произведена тщательнее, чем у женщин, хотя менее обильна, чем у последних. Несмотря на то что туземцы о-вов Адмиралтейства любят украшения, что заметно по множеству предметов, которые они носят, татуировка отступает у них на второй план и заменяется раскрашиванием лица и тела красною краской. Причина этому та, что только в первой юности кожа у мужчин бывает гладкой и светлой; по достижении ими зрелых лет татуировка пунктами и тонкими шрамами уже не производит эффекта; у людей же лет тридцати, а иногда и ранее кожа так темнеет, грубеет и покрывается морщинками (особенно на лице), что татуировка становится почти незаметною. Только пристально и вблизи разглядывая лица мужчин зрелых лет, я замечал татуировку на лице. Женщины, будучи светлее мужчин, татуированы больше; пятна от ожога сохраняются более продолжительное время, почему и встречаются чаще; я видел их даже у стариков.
Рисуя портрет одного из туземцев, с красивым римским носом, горб которого, однако, не был достаточно велик, чтобы отличить его обладателя от прочих туземцев[67], я заметил пять кругов, состоящих из лучеобразно расположенных шрамов до 3 мм длины. Они были симметрично распределены: один над переносицей и по одному на висках и под глазами.
По мере того как я обозначал их на своем эскизе, вокруг стоявшие туземцы, следившие с большим вниманием за движениями моего карандаша, называли мне каждую фигуру татуировки особенным именем и показывали ее, если таковая имелась, также у себя на лице. Круг над переносицей оказался почти у всех, почему часто повторенное имя его «мадаламай» осталось у меня в памяти. Кроме пяти кругов, у рисуемого объекта нашлось по четыре ряда мелких шрамов, расходящихся веерообразно от угла глаз на виски и скулы. Описанные шрамы были так тонки и так мало отличались цветом от прочей кожи, что я должен был смоченною тряпкой несколько раз вытирать виски и лоб моего оригинала, чтобы кончить портрет, не упустив какой-нибудь татуированной фигурки. По окончании эскиза мне захотелось узнать, чем туземцы делают такие тонкие шрамы или чем и как они татуируются. Это нелегко было объяснить, но, наконец, мой вопрос был понят более сметливыми, которые, порывшись в мешочках, носимых туземцами на шее, достали несколько тонких, очень острых осколков обсидиана. Один из туземцев, чтобы показать, насколько понял то, что я желаю знать, стал очень проворно делать, не думая спрашивать на то позволения, ряд надрезов на плече соседа, где скоро обнаружились капельки выступившей крови. Желая показать все достоинства его инструмента, он стал брить висок другого соседа, но, заметив, что несколько волосков на бровях успело отрасти, что не согласуется с модой на о-вах Адмиралтейства, он перешел к бровям. Когда непрошеный оператор делал надрезы, пациент, лицо которого я вполне мог видеть, не моргнул; мне интересно было удостовериться, было ли это спокойствие следствием самообладания или боль при татуировке была незначительной. Я расстегнул рукав рубашки, и мне сделали несколько надрезов к большому удовольствию оператора и окружающей толпы. Я не почувствовал положительно ничего и тогда только удостоверился в их существовании, когда выступила кровь. Так же нечувствительно было и бритье: я предложил свою ногу для этой операции и едва написал несколько слов в записной книжке, как уже одна сторона ноги от колена до ступни была выбрита. Эти осколки-ланцеты и бритвы были приблизительно одной формы, напоминающей клинообразные зубы акул.
Взяв большой кусок обсидиана в руки, я захотел попробовать, легко ли получить подобный осколок и сумею ли я отколоть его сам. Однако же, как ни пробовал, как ни вертел камень, я не отколол ни одного сколько-нибудь годного осколка. Туземцы смеялись, а я должен был сознаться, что не умею отколоть, и, передав кусок обсидиана одному из них, стал смотреть, как он приступит к делу. Он встал, подошел к морскому берегу и поднял небольшую раковину (из рода Cyprаeа); присев затем снова около меня, он положил обсидиан на подошву левой ноги так, что гладкая и широкая поверхность камня приходилась наверху. При втором или третьем легком ударе плоскою стороной принесенной раковины отскочило несколько осколков, совершенно подобных виденным. Выбирая разные стороны и края большого куска обсидиана и ударяя раковиной с разной силой, но всегда слегка, он получал осколки различной формы — то узкие, то широкие[68].
Таким же образом он заострил, по моему желанию, конец копья, которое держал один из толпы. Туземцы указали на о. Ло, или Лу, которого силуэт виднелся на юго-востоке, как на место нахождения обсидиана.
Из значительной толпы, которая со всех сторон обступила нашу группу, я выбрал наиболее высокого туземца и самого низкого; первый был 1740 мм, второй 1470 мм вышины; большинство обитателей острова ниже среднего европейского роста[69].
На берегу все мужчины были повязаны тапой, как и в других местностях Меланезии; я ни на одном туземце не видал костюма, состоящего из одной Bulla ovum.
Большинство имело лицо окрашенным красною краской различным образом, и так как расположение краски на лице, груди, спине варьирует у каждого индивидуума, изменяясь каждый день или каждый раз, когда краска возобновляется, то описание разных комбинаций я считаю здесь излишним.
Уже с первого дня знакомства с этими туземцами меня интересовал вопрос: есть ли у них какой-нибудь начальник, и если есть, то какова его власть? Но мои наблюдения дали отрицательный ответ. Как и на Новой Гвинее (на берегу Маклая), у них некоторые туземцы достигают большого влияния лишь вследствие опытности, знания дела и отчасти по старшинству лет. Мореплаватели и путешественники, которые видят страны только несколько дней или часов, руководясь общепринятыми идеями или тем, что видели в других странах, не стесняются раздачей титулов, каковы вождь, начальник, король, руководясь часто только тем, что один из туземцев более кричит, чем другие, или имеет какое-нибудь внешнее отличие. Повторяю, что я не мог убедиться в присутствии начальника между жителями посещенных деревень, хотя и знал, что Герланд[70], основываясь на описании французских мореплавателей, говорит о князьях (?) на о-вах Адмиралтейства, которых туземцы слушаются и которые деспотически обращаются со своими подданными. Я могу также ошибаться, как и французские мореплаватели, видевшие этих князей, но я, много месяцев живший на Новой Гвинее, все-таки не решаюсь утверждать, что начальники там существуют[71]. Я отказываюсь говорить положительно о подобных вопросах, основываясь лишь на кратковременном знакомстве с туземцами при незнании их языка.
В деревне вдруг произошла тревога; группа около меня также засуетилась, заговорила и разбежалась по хижинам. Много туземцев, вооружившись копьями, бросилось к берегу. Не зная языка, я не мог добиться, что случилось; вероятно, пироги из неприятельской деревни пробовали пробраться к шхуне, чтобы и на свою долю добыть несколько «буаям» (бисер), до которого туземцы здесь большие охотники. Это можно было предположить потому, что несколько отдаленных пирог давно уже занимало туземцев. Скоро и из Лонеу, куда известие уже успело дойти, прибежали воины, преимущественно молодые люди, с большими связками копий на плечах.
Я отправился в противоположную сторону, в Лонеу, желая сделать эскиз хижин, и дорогой имел случай видеть характеристичную картину страха. Тропинка была узка, и в нескольких местах от нее шли другие тропинки, ведущие в лес или к огородам. При одном повороте вышли в нескольких шагах передо мною, по одной такой побочной тропинке, две женщины и направились к деревне, но, заслышав мои шаги и обернувшись, одна из них (с ребенком на плече и с мешком таро на спине) бросилась в соседние кусты, где мигом скрылась. Тогда другая, несшая большую связку сухих сучьев и сахарного тростника на голове, встревоженная бегством спутницы, обернулась с трудом, цепляясь ношей за деревья; это была девочка, лет одиннадцати или двенадцати. Я стоял в нескольких шагах от нее и мог вполне разглядеть выражение ее лица. При виде меня лицо у нее значительно вытянулось, брови поднялись, рот немного открылся, я думал, что она сейчас закричит или заплачет; но испуг был так силен, что она осталась нема, только большие капли пота выступили на висках и на лбу; она так дрожала, что ноша, которую руки перестали придерживать, свалилась у нее с головы. Я думал, что и ноги откажутся ей служить и что она упадет, и поэтому я сделал шаг вперед. Тогда, чувствуя себя не стесненною ношей, она опрометью бросилась бежать по тропинке, оставив вместе с ношей на месте и далее по тропинке след невольных экскрементов[72].
Я пришел в деревню и кончил свой эскиз, когда воины один за другим уже вернулись в деревню. Все дело оказалось не более как ложною тревогой. Единственное оружие, которое я здесь видел, были уже описанные копья с наконечником из обсидиана или из твердого, кажется, внешнего, слоя древесины Caryota. Замечательно, что туземцы не имеют лука и не знают его употребления; я, желая убедиться в отсутствии этого оружия, думая, что рисунок может быть не понят, приказал моему слуге сделать небольшой лук и показать его употребление; туземцы смотрели на него, как на игрушку, и не соединяли никакого понятия с ним. Я не счел нужным настаивать на выгодах такого снаряда перед копьем; для них пока и копья достаточно, чтобы кончать свои споры, а европейские тредоры не замедлят познакомить их с преимуществами огнестрельного оружия. Это случится очень и даже очень скоро, так как в числе груза, которым нагружена шхуна, имеются для раздачи тредорам порох, ружья и даже небольшие пушки — предметы, которые им надлежит ввести в употребление между дикарями. Они также обязаны стараться сделать спрос на эти предметы по возможности большим для выгоды своих патронов в Сингапуре, которым дешево достаются тысячи ружей, вышедших из употребления в Европе[73]. Замечательный факт, что у меланезийского населения о-вов Адмиралтейства лук — характеристичное для меланезийцев оружие — неизвестен, сообщен уже другими путешественниками[74], и я только могу подтвердить положительно его верность, которая оставалась как бы под сомнением для здешнего южного берега. На возвратном пути в дер. Пуби я остановился около группы туземцев, занятых обделкой столбов для довольно большой общественной хижины, которая хотя еще стояла, но казалась очень ветхой. Средний столб был более украшен, нежели оба боковых, у которых капители были одинаковы. Можно было заметить, что маленькие, очень плохого достоинства железные инструменты почти что вытеснили здесь старые топоры, которые делались из обточенных раковин. Кроме маленького железного топора европейской конструкции, куски железа, тщательно обточенные, были прикреплены к рукояткам старого образца. Несмотря на плохие инструменты, столбы были замечательно хорошо обделаны; для окончательной полировки, которою работавшие занимались, когда я подошел к ним, служили обломки разных раковин и большие сухие листья хлебного дерева, которыми они терли столбы, посыпая поверхность их мелким песком.
Я до сих пор не упомянул, что туземцы здесь не знакомы с табаком; они не только отказывались от сигар и трубок, которые им предлагали, но отворачивались и отходили в сторону от табачного дыма. Я также не видал у них кавы (piper methysticum); зато взрослые употребляют пинанг в значительном количестве.
Возвращаясь на шхуну вечером, в темноте, я понадеялся на крепость платформы туземной пироги и, ступив на край ее, попал по колено в воду, но вовремя успел ухватиться за кинутый со шхуны конец.
2 июня. Вчерашняя ножная ванна или гулянье на солнце, или обе причины вместе заставили меня пролежать весь день в сильнейшей невралгии.
3 июня. Снялись с якоря утром, оставив в дер. Пуби одного из тредоров, уроженца Северной Италии, по имени Пальди. Он обещал прислать мне словарь, который поневоле должен будет составить, и несколько ответов на письменные вопросы, которые могут быть даны не иначе, как после некоторого срока пребывания между туземцами.
4 июня. Северный берег о-ва Тауи или о-ва Адмиралтейства. Подошли утром к небольшому островку, который был отделен довольно широким проливом от главного острова; северный берег последнего горист и имеет более привлекательный вид, нежели юго-восточный, однообразный вследствие своей низменности. Горы здесь невысоки, вряд ли выше 1500 футов; они не образуют цепи, а стоят отдельно или соединены в группы. Отсутствие высокой сплошной цепи гор имеет значение по отношению к населению острова[75]. Можно предположить, что внутри, как и по берегам, он заселен. На островке оказалась большая деревня, из которой выехало много пирог, как только мы зашли за риф. Туземцы здесь не отличались физически от жителей юго-восточной оконечности острова; единственным отличием было то, что они носили менее украшений и менее кричали.
Я отправился на большой остров, в деревню, предшествуемый и сопровождаемый туземцами, которые встретили шлюпку.
По крутой тропинке мы поднялись на холм, где расположена была деревня. Грунт был глинистый, а тропинка, по случаю бывшего ночью сильного дождя, оказалась скользкой. Перешагнув через невысокий забор, который перегораживал дорогу (род порога против проникновения свиней), мы очутились на открытом месте, вокруг которого были расположены хижины. Вся деревня состояла из нескольких групп хижин, стоявших вокруг небольших площадок, соединенных между собою тропинками; это расположение напоминало мне деревни Новой Гвинеи (берега Маклая). Деревня имела опрятный вид. Хижины постройкой отличались от виденных на южном берегу; ни одна не стояла, как там, на сваях, и хижины здесь не имели отдельных стен, а крыша везде спускалась до земли, образуя на земле круг или овал; в первом случае крыша была остроконечной, во втором — кончалась коротким коньком[76]. И здесь, как и в деревнях Лонеу и Пуби (на юго-восточном берегу), лежали под навесами барумы разной величины. Меня привели в одну хижину, которая была больше других и служила сборным местом для мужчин. Внутренность представляла овал и освещалась единственною низкою (не выше 1 м), но широкою дверью; в крыше, вдоль конька, находилось небольшое отверстие для дыма; на полках у стен стояли табиры разных форм, горшки и т. п. Ряды черепов рыб, черепах, нижние челюсти свиней, нанизанные рядами, красовались, будучи привешены в разных местах.
Что особенно удивило меня и что в первый раз мне приходилось видеть в папуасской хижине, это была мебель: низкие, но широкие скамьи, род кушеток, широких, но несколько коротких, если лечь на них, с небольшою спинкой (или деревянною подушкой) для головы. Туземцы не расположились на земле, а уселись, поджав ноги, на этих скамьях и указали мне на самую большую с резною спинкой. Мне захотелось узнать, как называются на туземном диалекте эти скамьи; я тщетно пытался выразить мимикой мое желание, но не мог подыскать для этого выражения жестами. При этом я невольно вспомнил, как часто я бывал в подобном положении в первое время своего пребывания на берегу Маклая, пока мне, наконец, не удалось узнать случайно выражение: «как зовут?»[77] После неудавшейся попытки добиться названия скамей, я обошел деревню и заглянул в одну из семейных хижин, которые были вообще меньше общественной. Посещенная мною хижина имела два весьма низких и узких входа с противоположных сторон; посередине (поперек) была перегородка, которая разделяла хижину так, что по сторонам у стен оставались проходы. Женщин и детей не было видно, их или, может быть, припрятали по случаю нежданных гостей, или все они были на работе, на плантациях. Здесь, как и на юго-восточном берегу, никого нельзя было принять за начальника.
В этот же день я посетил и другую деревню на островке, который называется, как я узнал от туземцев, Андра. Этот островок есть не что иное, как возвышенная часть рифа, который тянется параллельно северному берегу. Таких островков на востоке и на западе вдоль берега виднелось несколько. От о. Андра по обеим сторонам тянулся риф, который только в низкую воду и при спокойном море обозначался полосой прибоя. Каналообразная лагуна, приблизительно в 2 мили ширины, представляет удобную якорную стоянку.
Здесь хижины не были соединены в группы, а разбросаны по всему острову и опять оказались отличными от виденных утром в деревне на холме. Общественные хижины были еще хотя приблизительно, схожи, семейные же хижины были по большей части не круглые и не овальные, а четырехугольные и имели перед дверьми небольшой, огороженный высоким забором, дворик, где стояла барла[78] и находился очаг. Иногда на один дворик выходили двери трех или четырех хижин, причем изгородь шла только от одного переднего фасада к другому, хижины же стояли вне ее. Эти изгороди служат преимущественно преградой для свиней. Хижины были очень низки (1.5–2 м), и крыша их доходила до земли.
Туземцы, казалось, уже не раз видели европейцев и были с ними в сношениях; железо почти совсем вытеснило топоры из камня и раковин; женщины и дети хотя оставались в стороне, но не прятались и не убегали, как, напр., на Новой Гвинее в первое время моего там пребывания в 1871–1872 гг. Несколько туземцев даже осталось в первый же день знакомства ночевать на шхуне; такому доверию, должно быть, немало способствовало присутствие многих (двадцати двух) туземцев Япа, цвет кожи которых поддерживал дух в папуасах.
5 июня. Видел и здесь нескольких туземцев с большими зубами, которыми один из них особенно отличался; не только d. incisores, но и d. canini были увеличены, и притом не только зубы верхней челюсти, но и нижней. Перспектива значительного подарка (бус) заставила его сидеть спокойно, так что я смог смерить увеличенные зубы и сделать эскиз вооружения его челюстей. Пока я рисовал, приблизились две девочки, оказавшиеся дочерьми этого человека. У них были зубы очень неправильны, и некоторые имели значительную величину. Щедро раздаваемые бусы привлекли толпу детей; на них я мог убедиться, что эта органическая особенность настолько укоренилась, что сделалась наследственною: почти у всех детей зубы были асимметричны и у многих выдавались своей величиной, несоответственно возрасту.
На о. Андра приезжали во время нашей стоянки жители ближайших деревень с главного острова, а также с других, маленьких — Перелу и Шоу, которые виднелись на востоке, почему толпа постоянно сменялась, и я, таким образом, имел случай наблюдать постоянно новые объекты. Из вновь приехавших с большого острова я обратил внимание на одного туземца, у которого глаза были замечательно светлы. Цвет их соответствовал среднему между №№ 3 и 4 таблицы Брока; по цвету кожи он не отличался от прочих, и, кроме светлых глаз, не было никаких следов альбинизма. Это обстоятельство навело меня на исследование глаз у других туземцев, причем я удостоверился, что и у этих людей plica semilunaris очень широка, до 4 и 5 мм, хотя представляет большие индивидуальные различия. Я заметил, кроме того, у многих на слизистой оболочке верхнего и нижнего века, на крае у самых ресниц, около caruncula lacrimalis, по небольшому бугорку, один против другого; они были также неодинаково развиты у различных особей, но у двух оказались особенно велики. Я никогда не видел таких бугорков на веках у людей белой расы.
Туземцы потешались, между прочим, повторяя очень быстро и долго некоторые слова, что было похоже на кудахтанье кур. Они это делали один за другим или вдвоем зараз, стараясь превзойти друг друга быстротой произношения и продолжительностью этой гимнастики.
6 июня. Утром отправился на большой остров. Я хотел оставить шлюпку у тропинки, ведущей к деревне, которую я уже посетил, и пройти по берегу в другую, немного далее на восток, положение которой определялось группой кокосовых пальм, замеченных при помощи бинокля с о. Андра. Завидев приближающуюся шлюпку, на берегу собралась толпа туземцев, которая радушно встретила меня, как только я вступил на берег; на этот раз пришли не только мужчины, но и женщины и дети. Не зная языка, я жестом показал направление, куда хочу идти; за мною последовало несколько молодых людей. Пробираясь между мангровами, которые вследствие отлива стояли вне воды, я дошел до места на берегу, где находились замеченные кокосовые пальмы, но, к удивлению моему, деревни там не оказалось. Туземцы, видя, что я останавливаюсь по временам и ищу чего-то глазами под деревьями, догадались, что я смотрю, нет ли здесь хижин, и стали словами и жестами рассказывать мне длинную историю. Не понимая их, я из жестов мог заключить приблизительно то, что здесь прежде была деревня (мне указали на следы бывших хижин), но что люди, живущие далее по берегу, их неприятели, приходили сюда, убили несколько человек, а хижины разорили. Внимательно следя за мимикой, я был удивлен тем, как много времени потребовалось для передачи жестами этого случая; но я заметил при этом, что многие жесты совпадали с мимическими знаками туземцев берега Маклая. Так, напр., чтобы показать, что человек убит копьем, они сперва делали жест метания копья (т. е. жест противника), затем хватались обеими руками быстро за грудь или за левый бок, откидывали при этом слегка голову и, закрывая глаза, высовывали немного язык. Чтобы показать, что хижины, прежде бывшие, более не существуют, они, выдувая воздух, проводили рукой по губам.
Дойдя до глубокой речки с хорошею водою, я захотел выкупаться, тем более что во время перехода я должен был довольствоваться обливанием морскою водой, а пресною только во время дождя. Туземцы, однако же, предостерегли меня, жестами показывая, что в речке много больших животных (вероятно, крокодилов), которые откусывают людям ноги. Становилось очень жарко на песчаном берегу, и я, боясь снова получить лихорадку, если подвергнусь несколько часов влиянию солнечных лучей, предпочел возвратиться в деревню, куда меня звали туземцы, называя ее Соа.
Придя в ту же общественную хижину, где был в первый раз, я лег на вышеописанную кушетку и, несмотря на то, что она была не особенно удобна и что окружающие меня туземцы не молчали, против воли заснул. Часа через полтора меня разбудили. Один из туземцев объяснил мне (поднося руку ко рту, как бы кладя что-то в него), что мой завтрак готов.
Хотя я завтрака и не заказывал, но нашел эту предупредительность не излишнею и отправился в хижину любезного туземца. Там я застал все его семейство, которое, казалось, собралось во всем комплекте, чтобы посмотреть на кормление чужестранного зверя. Мне был подан большой табир с вареным таро, бананами и рыбой. Когда я стал есть, туземцы, следуя папуасскому этикету[79], немного отвернулись, но не могли преодолеть любопытства и следили за каждым моим движением. Я поспешил окончить свой завтрак, тем более что за перегородкой находился грудной ребенок, который почти не умолкал и писк которого значительно уменьшил мой аппетит. Когда я вышел из хижины, меня наперерыв стали приглашать зайти в другие. В одной я застал четырех молодых женщин, из которых две нянчились с грудными детьми, а две были беременны. Пригласивший меня в эту хижину туземец, еще очень молодой человек, представил мне этих женщин как своих жен. Я не сейчас же понял, что человек по своей воле может жить в хижине, которая состоит из одной комнаты, с четырьмя женами и их детьми; хозяин же, предполагая, что я сомневаюсь в том, что эти женщины его жены, повторил, поочередно подходя к каждой из них, одну и ту же мимику[80], весьма недвусмысленную, которая и была причиной общей веселости женщин. Скоро вошла еще пятая женщина — мать хозяина или одной из его супруг; она жила, кажется, также в этой хижине. Туземцы умеют приготовлять кокосовое масло: я видел в хижинах бамбуки, наполненные им. Один из жителей принес мне в подарок кусочек корицы (Cinnamonum); она здесь, как и на Новой Гвинее, употребляется, кажется, в качестве лекарства.
Вернувшись в большую хижину, я остался там еще довольно долго, наблюдая туземцев и стараясь уловить и понять выражение их лиц. Эти островитяне, находясь редко в сношениях с европейцами, представляют хороший материал для ряда наблюдений, предложенных Дарвином, над выражением лица и телодвижениями под влиянием разных впечатлений. Во время путешествия, как читатель уже заметил, я не упускал случая делать эти наблюдения[81]; я тем более обратил на них внимание, что, находясь часто и продолжительное время в соприкосновении с совершенно отличным от белой расы племенем — папуасами, притом весьма примитивным, я не мог убедиться в верности положения Дарвина о тождестве выражений ощущений у разных рас, доходящем до мелочей, и принимаемом им за доказанное. Напротив того, различие в выражении чувств мне до сих пор чаще бросалось в глаза, чем их тождество, хотя и мне случалось встречать выражения, совпадающие с наблюдениями Дарвина. Так, напр., пока я сидел между туземцами, зорко следя за каждым их движением, пришел один и рассказал что-то, очень встревожившее, по-видимому, всех слушателей, но, кроме того, что многие вскочили со своих мест и почти все заговорили очень громко и оживленно, я не мог заметить, была ли приятна или неприятна новость, которая их так заняла. К подобному же негативному результату я приходил много раз: физиономии дикарей, как их язык и их мимика, нередко оставались для меня непонятными.
Когда я направился к шлюпке, туземец, в хижине которого я завтракал, нес за мною табир с остатками моего завтрака, а члены его семьи — много бананов и кокосов, а также таро, которое здесь очень вкусно и очень крупно. Этот же обычай встречается и на Новой Гвинее.
7 июня. Несмотря на мою предосторожность, вчерашняя экскурсия повлекла за собою лихорадку. Духота в каюте, крик туземцев, приезжавших на шхуну для торга, травля их собакою и т. п. не позволили мне остаться на шхуне; я отправился на о. Андра, где провел весь день, подвесив в тени большого дерева свою койку. Дерево росло у самого морского берега, и я наслаждался красивою панорамой берега большого острова. Но любоваться видом мешали туземцы, то и дело приходившие и надоедавшие своей болтовней; большинство, однако же, посмотрев на меня, на койку и другие вещи, уходили, так как неподалеку люди Вуапа строили хижину для тредора, который должен был здесь остаться. Некоторые, впрочем, оставались долее и, расположившись на песке, ближе к морю, разглядывали внимательно замечательные вещи, меня окружавшие. Любимою их позой было лежание на животе, причем одна рука или обе подпирали подбородок. Ноги не оставались в бездействии — ими размахивали по воздуху или рыли теплый песок. Наглядевшись вдоволь, некоторые предпочли заснуть, несмотря на палящее солнце, которое пекло их спины и головы; другие продолжали болтать, а один, протянув вперед ноги, стал забавляться гимнастикой пальцев ног, которая показалась мне весьма хитрою. Он так быстро двигал ими, что долго я не мог уловить, в чем состоит эта гимнастика. Он то растопыривал все пальцы или отводил в сторону то большой палец, то первый и второй, то все три вместе, причем ни нога, ни остальные пальцы не двигались; то очень быстро клал первый палец на второй, то второй на первый и т. д. Заметя, что я обратил внимание на его искусство, другие, кто как мог, старались показать, что и они умеют делать то же не хуже первого. Самая хитрая штука, в которой первый превосходил прочих туземцев, состояла в том, что он с замечательною быстротой поочередно клал один палец на другой то в одну, то в другую сторону, причем участвовали три первых пальца. Пальцы ног двигались почти так же самостоятельно, как пальцы рук. Это несомненное доказательство значительного развития мускулатуры ног навело меня на мысль, что оперирование мускулов ступни одного из этих фокусников должно было бы представить большой интерес[82].
Заметив у одного из туземцев на шее так называемые пановы гусли, или панову флейту[83], я знаками просил, чтобы он показал мне свое искусство в игре на этом инструменте. Он не стал церемониться и, приложив гусли к губам, начал дуть поочередно в каждый бамбук, результатом чего был разнотонный, негромкий свист. Этот характеристичный, но, как оказалось, маломузыкальный инструмент я встретил доселе только на Новой Ирландии (Порт Праслин) и здесь[84]. Пока я был занят музыкантом и его искусством, несколько вновь прибывших с главного острова подошли к группе туземцев. Один из них был так погружен в рассматривание меня, койки, столика и складной скамьи, что не подумал о необходимости смотреть под ноги и сильно ударился коленом о большой пень, прибитый морем и лежавший поперек его дороги. Значительная боль заставила его забыть на время обо мне; он потер колено, а затем, как будто бы вспомнив что-то, схватил большой осколок коралла и стал усердно бить то место пня, о которое ударился[85]. Трудно было без улыбки смотреть на этого взрослого человека, бьющего дерево за то, что он сам наткнулся на него; туземцы же серьезно и как бы сочувственно поглядывали на это заслуженное наказание пня. Затем, как бы почувствовав облегчение, он подошел к группе и сел между соплеменниками, изредка потирая колено и дуя на него.
В это время внимание туземцев было привлечено большою шлюпкой, приближавшейся к берегу с вещами тредора, который оставался жить и торговать здесь. Вся толпа, движимая любопытством, отправилась к новой хижине. Но я не остался один: сцена переменилась, новые актеры заменили прежних. Немного дальше от группы мужчин с утра расположилась группа женщин и детей, которые оставались на втором плане в присутствии мужчин и стали смелее, когда они ушли, но все-таки еще не решались приблизиться. Небольшие свертки бус, завернутых в бумагу, бросаемые мною на различные расстояния от койки, все ближе и ближе привлекали ко мне сперва детей, а затем и женщин. Почти у всех женщин были грудные дети на руках. Я обратил внимание на одну из матерей, с которой делались по временам припадки нежности по отношению к полугодовому сынишке. Она нанизывала бисер и кормила грудью ребенка, но, как только он переставал сосать грудь, схватывала его и прижимала к своему носу и ко рту; при этом выражение ее лица казалось мне довольно характеристичным; губы были раздвинуты, так что выказывались ряды стиснутых зубов; прижимая ребенка к лицу, она сильно носом втягивала воздух и по временам кусала дитя, выбирая для нюханья и кусания те части тела ребенка, которые не могли отличаться особенным благоуханием. Лоб и щеки ребенка были покрыты грязью; чтобы удалить ее, нежная мать прибегла к простому средству — она принялась лизать щеку и лоб своего сынишки, который стоически переносил обнюхивание, кусание и лизание. Заметив у ребенка небольшие ранки за ухом, она с помощью слюны бережно сняла корочки с ранок и, несмотря на крик ребенка, насухо вылизала ранки[86], а затем стала на них дуть[87].
Между детьми, которые бегали около моей койки, были несколько имевших некоторые зубы значительной величины. Мне очень хотелось осмотреть их ближе и дополнить свои заметки по этому вопросу, но дети были очень пугливы и, как только я сел у своего походного столика, они не решались подойти близко. Бусы, однако же, снова приманили их; когда же я высыпал несколько ярко-красных бус на большой лист хлебного дерева, все дети, забыв страх, обступили меня и ожидали раздачи, выражая свое удовольствие шумным втягиванием воздуха между полуоткрытыми губами и блеском глаз при взгляде на бусы. Высмотрев у одного из мальчиков, лет 3 или 4, два больших зуба в верхней челюсти, я попробовал притянуть его ближе к себе, чтобы посмотреть на них; но едва я дотронулся до него, как он с пугливым криком бросился к женщине, стоявшей невдалеке; другие дети также разбежались и спрятались за спины женщин. Я даже не успел взглянуть на лицо испугавшегося мальчугана, чтобы посмотреть, как оно изменилось. Обхватив руками ноги женщины, он уткнул лицо в бахрому[88], составлявшую ее одежду. Но испуг выразился не на одном лице; он топал ногами, как бы силясь бежать, и по временам судорожные движения тела доказывали, что испуг почти что дошел до степени, которая сопровождается внезапным расстройством желудка. Я в этот день еще нашел возможность измерить несколько голов женщин, что опять-таки потребовало разных уловок, предупредивших общее бегство.
8 июня. Приехавшие сегодня на шхуне для торга туземцы с одного из ближайших островов привезли между прочим для обмена также человеческий череп. Такое предложение немного удивило меня, так как туземцы вообще редко вызываются сами продавать черепа своих соплеменников. Я объясняю его, однако же, тем, что на каком-нибудь прежде здесь бывшем судне туземцам дали хорошую плату за этот товар[89]. Во всяком случае, достоверность происхождения таким образом приобретенного черепа мне кажется весьма сомнительною. Все черепа двадцати туземцев о. Вуап, убитых около рифа Иезу-Мария, могут, таким образом, перейти со временем в европейские музеи и красоваться под ярлыком: «Черепа туземцев о. Адмиралтейства». Отчасти поэтому я считаю данные о размерах голов туземцев очень полезными для антропологии, в особенности когда известны местность, пол и приблизительный возраст измеренного.
Прибавлю, что при посещении деревень здесь и на юго-восточном берегу я напрасно искал следов каких-либо могил или памятников; ничего подобного я не нашел; поэтому думаю, что, как и на Новой Гвинее (на берегу Маклая), здешние туземцы хоронят своих покойников в самих хижинах.
9 июня. Снялись утром с якоря, оставив здесь тредора, ирландца, по имени О’Хара, который, как и оставшийся на юго-восточном берегу, обещал собрать для меня некоторые сведения, что ему нетрудно будет сделать при продолжительном пребывании на острове; он также обещал переслать мне со временем копию со словаря туземного диалекта, который он должен будет составить для себя самого. Ветерок был тих, и мы весь день шли вдоль северного берега острова, физиономия которого не отличалась от описанной выше.
С небольшого островка, похожего на о. Андра, к нам выехала пирога; люди физически были совершенно схожи с виденными прежде и отличались единственно только носимыми украшениями. Кроме кокосов и щитов черепах, они предлагали для меня саго и большой кусок коры Cinnamonum.
Группа Агомес или Гермит
10 июня. Уже на другое утро (по отплытии с о. Тауи) перед нами открылся архипелаг Агомес. Но при слабом ветре, обогнув с юга группу и войдя с западной стороны за риф, мы только к 4 часам пополудни бросили якорь у южной оконечности главного острова. Группа состоит из трех или четырех островов посредине и многих плоских возвышенных частей окружающего их рифа. Группа довольно обширна, но я, будучи занят другими вопросами, при кратковременной стоянке, не успел составить себе понятия о расположении островов и убедиться в числе их. Главный высокий остров называется туземцами Луб; он тянется узкою полосой с юга на север. Он, как и другие, покрыт растительностью от линии высокого прилива до вершины холмов, которые несколькими группами расположены вдоль острова, приблизительно на 400–500 футах высоты.
Проезжая близко мимо группы и между островами, я заметил, что они мало населены; не было видно деревень и даже отдельных хижин, и за весь день я не заметил ни одной туземной пироги. На следующее утро я нашел на всей группе всего лишь две деревни и, судя по числу хижин, пирог и туземцев, не думаю, чтобы теперешнее население архипелага было более ста душ, включая женщин и детей.
Шкипер шхуны, который был месяцев семь или восемь тому назад и даже по случаю ловли и приготовления трепанга жил на одном из островов, знал хорошо фарватер, почему мы бросили якорь около места, где стояла прежде его хижина. Когда уже стемнело, я услыхал из моей каюты шумное приближение туземных пирог и в полутемноте рассмотрел несколько папуасских фигур, взобравшихся на палубу нашей шхуны; они громко говорили между собою и бесцеремонно расхаживали по шхуне. Несколько папуасов засело в соседней с моею каюте шкипера, с которым они обходились, как со старым знакомым. Из нахальства их требований и шумных возгласов можно было заключить, что туземцы здесь привыкли видеть белых, причем, имея дело с весьма низким разбором людей этой расы, уже успели потерять уважение к европейцам, или, вернее, никогда не имели случая проникнуться им. В этот же вечер я имел случай познакомиться с образчиком взаимных отношений белых и черных друзей. Один из туземцев, которого шкипер назвал «king», во все горло требовал «brandy». A один из полупьяных европейских тредоров спрашивал у него женщину на эту же ночь.
11 июня. Встав по обыкновению на рассвете, я отправился в своей небольшой шлюпке осматривать группу. Моя главная цель была отыскать деревню и познакомиться с туземцами. Вдоль берега росли кокосовые пальмы, которые, будучи, вероятно, посажены некогда более многочисленным населением острова, размножились сами[90]. Я был удивлен малою величиною орехов; воды в них было не более чашки, между тем как обыкновенно в кокосовых орехах средней величины находится воды от двух до трех стаканов, в больших же иногда более четырех. Я указываю на это множество кокосовых пальм на о-вах Агомес (которые, однако же, не образуют сплошного пояса вдоль побережья всех островов) как на доказательство того, что некогда население было здесь более значительно. Но об этом я буду говорить ниже.
Проехав значительное пространство вдоль берега двух островов и не найдя ни признаков жилья, ни туземцев, я направился к пироге, которая пересекала лагуну, отчалив от одного из низких островов у рифа. Небольшая пирога с выносом на одной стороне была очень плохой работы, но, несмотря на это, доски, образующие ее высокие борта[91], оказались разрисованными черными и красными иероглифическими фигурами, которых смысл я не мог понять, но которые положительно нельзя было считать простым орнаментом. Между туземцами в пироге находился Бокчо, молодой туземец о. Агомес, который прослужил 7 или 8 месяцев в качестве матроса или юнги на шхуне и теперь счастливо вернулся на родину. Взятый на шхуну, он получил от шкипера кличку «Бокчо». Настоящего его имени я не мог разузнать, вероятно, вследствие того, что по обычаю, общему туземцам Новой Гвинеи и многих островов Тихого океана, имя туземца можно узнать только от кого-либо постороннего. Зная не больше десятка английских слов и не понимаемый товарищами, которые весьма дурно с ним обращались, Бокчо имел на шхуне очень запуганный и глупый вид, на вопросы он отвечал обыкновенно глупым смехом или постоянным «yes». Проведя ночь на берегу между своими, он совершенно изменился и скоро понял меня, когда я ему объяснил (по-английски), чтобы он перешел в мою шлюпку, показал мне свою деревню и был бы переводчиком. Туземцы Агомес, спутники Бокчо, которых я вчера в полутемноте не мог раз глядеть, имели общий папуасский тип (только не папуасский тип г-на Уоллэса), не отличались значительно от жителей о. Тауи, но не имели щеголеватого вида последних: кроме отсутствия украшений, волосы на голове и бороде были небрежно растрепаны. Мы направились к низкому острову, откуда шла пирога; папуасы, высадив Бокчо в мою шлюпку, продолжали свой путь к шхуне. Завидя приближение шлюпки и услыхав возгласы Бокчо на берегу, где находилось несколько хижин, собралась небольшая толпа, которая помогла втащить шлюпку на отлогий берег. Бокчо, играющий в своей деревне первую роль, как прибывший из дальнего путешествия, достал для меня кокосов и повел в самую большую хижину, которая стояла ближе к берегу.
Это была общественная хижина для мужчин, но сегодня, по экстренному случаю — приезда белого или, может быть, вследствие других причин, некоторые женщины последовали за нами и даже протиснулись вперед. Хотя эти женщины были не стары и несмотря на то, что я уже привык к папуасским лицам, они показались мне здесь особенно некрасивыми, уже не говоря о том, что вследствие elephantiasis у двух из них ноги были двойного объема против обыкновенного. Их костюм показался мне довольно замечательным. Он состоял из небольшого фартука из листьев, закрывавшего нижнюю часть живота; стебли этих листьев и тонкие ветки, продернутые под поясом, который держал костюм, и оплетенные шнурком, образовывали спереди род корзины, которая была наполнена разными предметами ежедневного употребления. Между последними находились и зеленые бананы и обгрызанные куски кокосовых орехов. Когда эти дамы стояли или ходили, корзины вследствие тяжести содержимого оттопыривались вперед; когда же они садились, это плетение представляло род корсета, закрывавшего грудь и доходившего почти до подбородка. Сзади за пояс были заткнуты два или три длинных, но узких листа, которые хвостообразно болтались между ногами. Костюм этот, вероятно, сменяется или дополняется каждые два или три дня, по крайней мере у виденных мною женщин листья переднего фартука были свежие или полусвежие, хвост же сзади, как я предполагаю, прицепляется только в особенных случаях, так как у всех женщин листья, его составляющие, казалось, были сорваны за несколько минут до моего приезда. Почти у всех женщин на руках выше локтя, у некоторых же на внешней стороне ляжек, я заметил татуированный, довольно красивый, у всех однообразный орнамент. Способ татуировки, состоящей из длинных тонких надрезов, сделанных, вероятно, осколками стекла, так же как и рисунки, был очень отличен от виденного мною на о. Тауи. Я подошел к одной женщине, у которой были большие зубы, надеясь с помощью Бокчо уговорить ее показать мне их. Но эта помощь оказалась лишнею. Дама эта, видя, что я интересуюсь ее зубами, с заметным удовольствием, даже с некоторою гордостью поспешила показать мне их; открыв чрезмерно рот, она даже дозволила мне сделать эскиз ее зубов. Все ее передние зубы оказались увеличенными, хотя в различной степени, но два, соответствующие, dentеs incisores (оба средних левой стороны), в обеих челюстях были особенно велики. Кроме того, в нижней челюсти за увеличенными резцами правой стороны росло сзади по лишнему зубу. Это была первая и единственная женщина, у которой я здесь мог свободно рассмотреть гипертрофированные зубы; другие две так же жеманились, как и женщины Тауи.
Женщины так теснились вперед, что мужчины нашли это неприличным и, громко что-то говоря, предложили им, как я предполагаю, выйти из хижины, причем один из туземцев замахнулся на них; женщины также возвысили голос и не хотели выйти. Чтобы отделаться от громкой перебранки, я роздал обеим партиям несколько кусков привезенного табаку и перешел к осмотру хижины. Она была довольно объемиста, футов 40–50 длины и 25–30 ширины, освещалась через четыре небольшие двери, по две в переднем и в заднем фасадах. Боковых стен почти что не было, так как крыша спускалась по сторонам до земли. Материалом для нее служили саговые листья. Два средних столба, подпиравших конек, и другие сваи и перекладины доказывали, что на островах нет недостатка в хорошем лесе. По сторонам было устроено несколько высоких нар, на которых туземцы едят и спят; в разных местах висели горизонтально привешенные копья, между которыми некоторые были очень значительной длины (3.5–4 м) и тяжести и казались мало соответствующими росту и силе туземцев. Подобные же чересчур длинные и тяжелые копья я заметил в бай-баях на о. Вуап. Там мне объяснили, что их не берут в походы, а употребляют только для защиты самих бай в случае нападения, следовательно, копья представляют там род крепостного оружия.
Далее, две пироги очень солидной и тщательной работы, разукрашенные привешенными в разных местах группами белых раковин, обратили на себя мое внимание. Я спросил, кто их строил, и получил ответ, что эти пироги не с архипелага Агомес, а с архипелага Каниес, причем мне указали человек на пять туземцев, как на жителей последней группы. Эти люди положительно ничем не отличались от туземцев Агомес. Таким образом, я одновременно получил несколько интересных сведений: что физически туземцы групп Агомес и Каниес принадлежат одному племени, что жители последней строят хорошие пироги и что жители обоих архипелагов находятся в сношениях между собою. Я убедился также, что Каниес есть туземное название группы, обозначенной на картах под именем Анахорет и находящейся милях в 30 на север от Агомес. Бокчо сообщил мне, что туземцы Каниес, выехав с вечера, к полудню уже вытаскивают свои пироги на берег у селений о-вов Агомес. Расспрашивая о положении Каниес, я воспользовался также случаем, чтобы удостовериться в знакомстве туземцев с положением и названиями других групп, именно Тауи и Ниниго, и получил удовлетворительные ответы касательно обеих, с прибавлением (в переводе Бокчо): «men Ninigo no good men, steal cocoanut». Рассказчики присоединяли к своим словам о Ниниго жесты метания копий, представляя происходившее при экспедициях островитян Ниниго на группу Агомес.
Окончив осмотр большой хижины, я пошел взглянуть на деревню. Шесть или семь хижин стояли между кокосовыми пальмами и несколькими банановыми деревьями. Хижины были невелики, четырехугольны, не стояли на сваях, и крыша их по сторонам доходила почти до земли. Передний и задний фасады были сделаны из стеблей листьев саговой пальмы, а листья этой пальмы, перемешанные с листьями кокосовой, служили для крыши. Спереди крыша немного выступала, и под ее навесом находились у дверей высокие нары. Внутри царствовал полумрак. Несмотря на яркий солнечный свет утра, я с трудом мог разглядеть, что нары (две или три) внутри хижины были отделены перегородками из саговых листьев, так что хижина представлялась разделенною на несколько каморок. Общего пола не было, и очаг помещался между нарами на земле. Хижины, как и их жители, которых тело было обезображено, кроме elephantiasis, также разными нарывами и ранами, были грязны и непривлекательны. Хотя почти все женщины были или казались беременными, детей, за исключением двух или трех грудных, не было.
Между утварью, состоявшей из нескольких деревянных блюд и чаш, выскобленных из скорлуп кокосовых орехов, калебас для хранения извести, необходимой при жевании пинанга, я заметил воткнутые в отверстие последних узкие ложки с весьма красивыми резными плоскими и широкими ручками. Резьба была a jour и представляла интересные образцы папуасского искусства и вкуса. Интересуясь этими первыми ступенями развития искусства и собирая при случае образчики его, я поспешил приобрести несколько экземпляров этих ложек. Сравнивая их орнаменты между собою, я нашел их весьма сходными по характеру, хотя каждый экземпляр был не копией, а самостоятельным вариантом основного рисунка. Я заметил также, что рисунок был одинаков с орнаментом татуировки рук и ляжек женщин, хотя и сложнее. Резьба была, по-видимому, сделана с помощью железного орудия, и Бокчо подтвердил, что она сделана ножом.
Был уже полдень, и становилось очень жарко, почему мне не удалось взглянуть на плантацию, которая находилась на соседнем низком острове. Кроме таро, саговая пальма которая, кажется, растет здесь в изобилии, главным образом, доставляет туземцам пищу.
Вернувшись на шхуну, я узнал, что тредор, который оставался здесь, избрал место для своей хижины на развалинах прошлогодней хижины шкипера; постройка шла успешно, и шхуна была готова сняться уже завтра к вечеру. Я, со своей стороны, решил не задерживать отплытия и, не теряя времени, отправиться на поиски другой деревни, которая должна была находиться где-то на главном острове архипелага — Луб. Проезжая вдоль его западного берега, я заметил здесь на склоне холма, на значительной высоте, группу кокосовых пальм. Нет сомнения, что они могли попасть туда единственно при помощи человека и остались как памятник прежнего селения.
После приблизительно часового плавания, направляясь к северу, я заметил на низком месте между двумя холмами, среди кокосовых пальм и низкого кустарника, несколько крыш и направился к берегу. Была низкая вода, и в этом месте большой коралловый риф мешал причалить у деревни. Чтобы попасть на берег, надо было перескакивать с одного камня на другой и во многих местах, где каналы между коралловыми рифами были слишком широки, входить по колено в воду. Имея несколько ранок на ногах, не заживавших со времени стоянки в Пелау, я не хотел раздражать их ванной морской воды; перебраться же на берег на спинах туземцев, при значительном расстоянии от берега, было во многих отношениях неудобно, в особенности имея одного гребца (моего слугу, туземца Пелау) и множество мелких вещей в шлюпке, которые мне могли понадобиться на берегу. Поручить переноску этих вещей туземцам было также рискованно, так как я уже был предупрежден прежде здесь жившим европейским тредором, что туземцы здесь весьма склонны к воровству.
Видя, что я не выхожу из шлюпки, вся толпа мужчин, собравшаяся на берегу, направилась к шлюпке, и скоро объекты наблюдения обступили меня в значительном числе. Я сперва попробовал поочередно мерить их головы и рассматривать их зубы, показывая на куски табаку, до которого они очень падки. Однако же процедура измерения, казалось, их очень озадачивала, и они, приняв серьезный вид, сжимая и закусывая губы, далеко не все решались подчиниться ей. Я, как бы не замечая этого настроения духа, продолжал мерить и записывать или, раздвигая одной рукой более послушным губы, чертить эскизы зубов. Мне удалось сделать при этом важное приобретение; видя, что я измеряю и рисую у некоторых большие зубы, один из туземцев вынул из мешка, висевшего у него на левом плече и содержавшего разные мелочи[92], тщательно завернутые два кусочка большого зуба и показал их, но не давал мне в руки. Я сейчас же вылил из своей фляги холодный чай — питье, которое я обыкновенно беру с собою при экскурсиях, и в свою очередь показал ее туземцу, который сейчас же передал мне куски зуба, вероятно, своего родственника, так как собственные его зубы не были гипертрофированы. Я был очень обрадован этим приобретением, которое даст мне возможность гистологически познакомиться с аномалией зубов[93]. Мое удовольствие отразилось даже на туземцах; вообще дикие часто бывают хорошими наблюдателями и очень удачно приноравливаются к расположению духа белых, с которыми имеют дело; они стали болтать и смеяться. И здесь, как на о-вах Тауи, мне случилось заметить довольно курьезное обыкновение, которого настоящее значение осталось, однако, неясным. Когда я говорил или приказывал, обращаясь к своему слуге, один из туземцев подхватывал одно из моих слов (чаще последнее) и, как только я кончал свою фразу, повторял его, подражая даже интонации моего голоса, обыкновенно очень хорошо выговаривая. При этом он поглядывал на меня, как бы желая сказать: «вишь какой я хитрый, умею говорить по-твоему». Не было и тени того, чтобы туземцы имели намерение передразнивать меня.
Между обступившими шлюпку туземцами был один юноша, который внешностью резко отличался от прочих. У него были вьющиеся, но не курчавые волосы, как у папуасов, и цвет его кожи был немного светлее кожи туземцев Агомес. Его невозможно было смешать с меланезийским населением архипелага.
Зная, что европейские шкиперы и тредоры уже много лет привозят сюда туземцев Микронезии для ловли и приготовления трепанга, я спросил, указывая на этого человека: «Вуап?» «Яп?» «Пелау?» Меня сейчас же поняли и отвечали: «Ниниго! Ниниго!» Затем последовала пантомима метания копий, которую дополнил житель Агомеса, стоявший рядом с туземцем Ниниго, схватив последнего за обе руки. Было ясно, что это был военнопленный, взятый во время одной из экспедиций туземцев Ниниго, о которых я уже слышал утром от Бокчо. Осматривая в бинокль деревню, которой имя я не мог узнать, потому что туземцы не поняли моих вопросов, я заметил, что почти все хижины были вновь выстроены, и стволы многих деревьев и кокосовых пальм были опалены. Несомненно, это были следы пожара. Я припомнил при этом слышанный на о-вах Яп и Пелау рассказ о подвигах, совершенных белыми на о-вах Агомес и, вернувшись вечером на шхуну, убедился из рассказов Бокчо и одного из тредоров, знавшего дело, что именно эта деревня была сценой происшествия[94].
Собиралась гроза и становилось поздно, почему, посмотрев еще на физиономию юноши с Ниниго и сравнив ее с лицами окружающих его, я отправился в обратный путь. Но дождя не избежал и, промокнув, прибыл на шхуну.
Замечу, что при обеих встречах с туземцами Агомес я не мог убедиться, что есть между ними начальник, который бы пользовался общим послушанием и почетом; хотя тредор, который прежде здесь жил, называл мне одного человека, прибавляя, что это «king», но я думаю, как уже заметил, говоря об о. Тауи, что этот человек de jure не имеет права на этот титул ни по выбору, ни по наследству, а пользуется de facto большим влиянием и властью над своими соплеменниками благодаря своим качествам и энергии.
12 июня. Заметив уже накануне, что на шхуне и около строящейся хижины толпится почти все население архипелага, по крайней мере, почти все мужчины, я предпочел остаться на весь день на шхуне, тем более что из ответов туземцев я не мог убедиться в существовании третьей деревни. Кажется, она теперь покинута, потому что большая часть ее населения вымерла.
Наблюдая туземцев, я имел случай констатировать и здесь, как на о. Тауи, одну характеристичную особенность, о которой буду говорить ниже; также смерил несколько голов и сделал несколько эскизов. Туземцы здесь, как я уже заметил, почти не носят украшений и весьма мало заботятся о своей внешности, что особенно заметно, если посмотреть на состояние волос головы и бороды; волосы принимают такой вид, что поверхностный наблюдатель не задумался бы объяснить его местною особенностью. Известно, что волосы папуасов, достигнув известной длины, собираются в мелкие компактные локоны, которые при дальнейшем росте и при малом уходе за ними — при редком расчесывании — принимают вид длинных свертиков, окружающих голову, вроде толстой бахромы. Можно было бы написать целый том текста, трактующий о росте волос у папуасов, и издать целый атлас рисунков, наглядно представляющий все видоизменения, которым волосы подвергаются; будучи предоставлены сами себе или подвергнуты разным искусственным манипуляциям. Эти последние, оставаясь часто неизвестными путешественнику, составляют отчасти причину разноголосицы у авторов, писавших о волосах папуасов, меланезийцев, негритосов и готтентотов. Туземцы Агомес мало ухаживают за волосами, не расчесывают их достаточно часто, хотя классический папуасский гребень обыкновенно и торчит спереди или сбоку в их волосах; не разбирают также и отдельные локоны, так что вышеупомянутая бахрома скатывается в очень неравные свертки, между которыми некоторые, достигая значительной длины, висят неравномерно вокруг головы и у подбородка. На спиральных локонах нанизаны щеткообразно или болтаются только на концах их скатанные комки черной массы, состоящей из черной земли[95] с примесью кокосового масла; таким тестом папуасы часто смазывают свои волосы. Нередко три четверти всей куафюры состоят из веществ, посторонних волосам, так как туземцы не жалеют черной земли для украшения их; иногда вся бахрома превращена в массивные привески, часто в палец толщины, состоящие из черной земли, выпавших волос и разных предметов, случайно запутавшихся или прицепившихся к волосам. Так как черная масса ссыхается, то эти привески часто бывают поломаны, и собственно волосы в них играют ту же роль, как тонкий фитиль, сдерживающий куски свечи, сломанной во многих местах. Я сожалею, что не могу приложить к этому описанию эскиз одного такого субъекта, который дополнил бы значительно эти строки. Одному из туземцев я обрезал два экземпляра такой бахромы: один, который болтался у него за ухом, другой, который образовался из волос бороды[96]. Этот человек, казалось, остался доволен, что я освободил его от двух лишних прибавок к его особе и, несмотря на общее здесь попрошайничество при каждом удобном случае, не спросил у меня ничего за эти две пробы, взятые для моей антропологической коллекции. Я думаю, что во многих случаях неимение удобных средств для бритья или обрезывания волос[97] влияет значительно на форму и обычай ношения их; так, напр., часто встречающиеся здесь длинные бороды и неношение их на о. Тауи можно всего проще объяснить отсутствием здесь такого подходящего материала для туземных бритв, каков обсидиан на последнем острове.
Толпа различным образом окрашенных, носящих множество разных украшений папуасов или красиво и обильно татуированных полинезийцев производит впечатление, подобное тому, как пестрая толпа разодетых европейцев[98], впечатление довольства и обилия, между тем как растрепанные, грязные, не имеющие никаких украшений туземцы группы Агомес представляют вид нищеты, точно так же как нищенская одежда и лохмотья в Европе[99].
Доказательством того, что туземцам здесь не особенно хорошо живется, служит то, что они не прочь при случае покинуть архипелаг даже на европейских судах, с которыми туземцы Агомес уже давно привыкли иметь дело. Так как по случаю дурного обращения шкипера шхуны с людьми мы постепенно лишились четырех матросов (из пяти), из которых последний, очень деятельный и толковый малаец, сбежал на о. Тауи, то шкиперу было весьма важно пополнить комплект рабочих рук даже такими малосведущими моряками, каковы туземцы Агомес, попадающие в первый раз на европейское судно и не знающие английского языка. При помощи обещаний шкипер нашел двух охотников, которым Бокчо, вероятно, не сообщил того, что ему самому пришлось вытерпеть на шхуне, и которые через несколько дней заметят, что если им худо было жить у себя, то, попав на шхуну, попали из огня в полымя.
Мы снялись с якоря к вечеру и направились к группе Ниниго.
Группа Ниниго
(13–17 июня)
13 июня. К рассвету открылся небольшой низкий остров [одно слово неразборчиво] милях в 30 от группы Агомес. Ветер был весьма слаб, так что мы еле подвигались вдоль северо-восточной стороны группы. Проходя медленно мимо множества маленьких низких островов, которых в продолжение дня я насчитал 58 (это число только приблизительное, так как при низкости и однообразности островов я весьма легко мог ошибиться), на одном только заметил кокосовую пальму, на других (на северной стороне группы) их не было. И также, несмотря на внимательный осмотр при помощи хорошего бинокля, я не мог рассмотреть ни одного селения, ни одной хижины, хотя вдали между островами мы заметили несколько парусов, которые все направлялись на противоположную сторону лагуны. Очевидно, что туземцы, при виде приближения шхуны, искали безопасности в бегстве. (Несколько лет тому назад шкипер одной американской шхуны увез насильно трех туземцев, забрав их вместе с их пирогою. Четырех женщин, также вывезенных немецким шкипером несколько лет тому назад и оставленных в архипелаге Пелау, я видел в Короре. Одним словом, похищение жителей группы европейскими судами — дело часто повторявшееся и повторяющееся.)
Зная, что Бугенвилю не удалось достать дна, которое, по его словам, между коралловыми рифами опускается в чрезмерную глубину, я думал, что нам придется искать якорную стоянку, и удивился, когда к 3 часам, подойдя к северной оконечности группы, без дальнейших поисков мы стали на якорь на 10 саж. глубины. При нашем приближении две пироги отплыли от обращенной к лагуне стороны ближайшего островка. В одном месте у оконечности острова виднеется [одно слово неразборчиво] около нескольких низких хижин. Я отправился к тому месту, не надеясь застать жителей, но чтобы видеть их жилища.
Шкипер рассказывал мне, что туземцы этой группы живут в пещерах и при приближении европейского судна скрываются под землею. Этот рассказ, напоминавший мне, что я слышал на о. Таити об островитянах, по-моему, не оказался — по крайней мере для островов, которые я посетил, — верным.
Второе пребывание на берегу Маклая
(27/VI 1876 г. — 10/XI 1877 г.)
1876 г. Июнь. Прибыл 27 июня на маленькой шхуне под английским флагом по имени «Sea-Bird» (Морская птица). Заметил значительное изменение вида высоких вершин гор. Туземцы были очень обрадованы, но нисколько не изумлены моим приездом: они были уверены, что я сдержу свое слово. Когда я съехал на берег в Горенду, в непродолжительном времени туземцы соседних деревень, не исключая женщин и детей, сбежались приветствовать меня. Многие плакали, и все население казалось очень возбужденным моим возвращением. Я недосчитался нескольких стариков — они умерли в мое отсутствие, но зато многие мальчики были уже почти взрослыми людьми, а между молодыми женщинами, которые должны были скоро стать матерями, я узнал нескольких, которых оставил маленькими девочками.
Жители ближайших деревень упрашивали меня поселиться среди них, но я, как и в 1871 г., предпочел не жить в самой деревне, а поселиться в некотором расстоянии от нее. Осмотрев местность около Горенду, а затем около Бонгу, я остановился на мыске у самой деревни Бонгу, и на другой же день туземцы, под руководством моих слуг и плотника со шхуны, стали расчищать место для моего дома и широкую дорогу от «улеу» (песчаный берег) к площадке, выбранной мною.
На этот раз небольшой деревянный дом в разобранном виде был привезен мною из Сингапура, но сваи, на которых он должен был стоять, весь остов его, а также и крыша были сделаны уже здесь, на месте. К сожалению, желание не задержать слишком долго шхуну и вместе с тем воспользоваться услугами плотника принудило меня не обращать достаточно внимания на качество дерева, почему оно очень скоро пришло в негодность, главным образом от белых муравьев, больших врагов деревянных построек в тропических странах. В числе деревьев берега Маклая имеется, правда, немало видов, которые противостоят этому насекомому, но достаточного количества их нельзя было бы добыть в короткое время.
Июль. На шестой день дом мой был готов. В постройке его, кроме меня, принимали участие двое европейцев, двое моих слуг, несколько десятков папуасов, переносивших срубленные стволы и крывших крышу, а также несколько десятков женщин, очень усердно расчищавших мелкий кустарник вокруг дома. Вследствие того, что сваи, на которых стоял дом, были около 2 м высоты, я обратил нижний этаж в большую кладовую, в которую были перенесены мои вещи (около 70 ящиков, корзин и тюков разной величины), и я мог отпустить шхуну 4 июля.
При помощи своих трех слуг, из которых один был малаец и служил поваром, а при случае и портным, а двое — микронезийцы, туземцы о-вов Пелау, и нескольких жителей Бонгу я скоро привел свою усадьбу в надлежащий вид и устроился довольно комфортабельно.
Очень интересные сведения я получил от туземцев о бывших в мое отсутствие землетрясениях. Как я уже сказал, изменение вида вершин Мана-Боро-Боро (горы Финистер) поразило меня при моем возвращении на этот берег. До моего отъезда (в декабре 1872 г.) растительность покрывала самые высокие вершины; теперь же во многих местах вершины и крутые склоны оказывались голыми. Туземцы рассказывали мне, что во время моего отсутствия несколько раз повторялись землетрясения на берегу и в горах, причем немало жителей в деревнях было убито упавшими кокосовыми деревьями, которые, падая, разрушали хижины.
Береговые деревни пострадали главным образом от необыкновенно больших волн, которые следовали за землетрясением, вырывали деревья и уносили с собою хижины, более близкие к берегу. При этом я узнал далее от туземцев, что давно, еще до моего приезда в 1871 г., целая деревня Аралу, находившаяся недалеко от морского берега, между реками Габенеу и Коли, была совершенно смыта громадной волной вместе со всеми жителями. Так как это случилось ночью, то все жители погибли, только несколько мужчин, бывших случайно в гостях в другой деревне, остались в живых, но не захотели вернуться жить на старое место и переселились в деревню Гумбу, которая избежала разрушения, как построенная далее от берега.
Разрушение этой деревни хорошо помнят даже не очень старые люди, и полагаю, что это случилось около 1855–1856 гг.[100] После этой катастрофы в соседних местностях случилось много заболеваний, окончившихся смертью. Это последнее обстоятельство произошло, может быть, от разложения органических остатков, выброшенных на берег волнами и гнивших па солнце[101].
Я приехал как раз в то время, когда туземцы берега Maклая жгли унан. Вместе со множеством экземпляров Perameles мне принесли один экземпляр тиболя (Macropus Tibol Mсl.), для которого я устроил род клетки, желая сохранить его живым. Туземцы различают здесь два вида тиболя, называя одного «итиболь», а другого — «вальтиболь» (речного и приморского тиболя). Первый из них, т. е. речной, больше ростом и редко достается туземцам. Последние уверяют, что тиболь ест иногда рыбу.
Август. 2 августа собрался идти в Марагум-Мана, а затем 5 — в деревню Рай.
Экскурсия в Марагум-Мана 2 и З августа 1876 г. (часов 5 от берега). В шлюпке до устья речки Морель, затем через лес на холмах, покрытых унаном. Общее направление — юго-юго-восток. С холма обширный вид: Самбуль-Мана на запад, Энглам-Мана — юго-запад, Марагум-Мана — юго-юго-восток. Следы землетрясения попадаются по дороге часто в виде длинных трещин и обвалов. Часа через три вышли на дорогу, которая тянется высоким и обрывистым берегом реки Камран; берега этой реки представляют хорошие геологические разрезы. В широком ложе течет несколько рукавов реки, и в некоторых местах видны обработанные поляны. Горные породы, которые здесь везде встречаются, — глинистый сланец и белый известняк.
Деревня сама разделена на несколько деревушек, отделенных одна от другой глубокими оврагами, и не представляет ничего особенного. Хижины вообще низки, покрыты унаном и однообразной постройки. Кокосов мало. Высота над уровнем моря около 750 футов.
Экскурсия в деревню Рай. По случаю противного ветра оставался весь день в бухточке при устье реки Боу, затем остановился в другой бухточке — Леле. Ночью, обогнув скалистый берег мыса Риньи, прибыли к улеу Рай, первой после Гумбу береговой деревне на юго-восток. За деревней — ряд невысоких холмов, состоящих из поднятых коралловых рифов (на несколько сот футов). За ними — более высокий конический холм, высоту которого не удалось определить.
Везде в горах заметны были следы землетрясений в виде длинных, довольно глубоких трещин, расселин и обвалов.
8-го предпринял экскурсию вверх по р. Габенеу. После четырех часов ходьбы русло поднимается приблизительно на 300 футов над ур. м.
Экскурсия н а пик Константина 12 августа. Когда к 9 часам в своей дынге я отправился в Богати, вся гора Тайо с пиком Константина была ясно видна. Нигде ни облачка. Благодаря свежему ветру через полтора часа прибыл в Богати. Встретившие меня туземцы перенесли вещи в хижину Коды-Боро. Они мне сказали, что уже слишком поздно, чтобы идти на гору, и следует подождать до завтра.
13 августа. Поднял людей в 3 часа утра. Напившись кофе и распределив вещи между несколькими носильщиками, отправился при свете неполной луны сперва по лесной тропинке, а затем по высохшему ложу р. Иор. Когда рассвело, я записал имена своих спутников, которых оказалось 34 человека.
Так как я не взял провизии, мне пришлось зайти в дер. Ярю (810 футов над ур. м.). Моим спутникам очень не хотелось идти далее в горы, но я не обратил на это ни малейшего внимания, тем более что людей у меня было раз в пять более, чем нужно. К каравану присоединилось несколько человек из дер. Ярю. Мы продолжали следовать по ложу реки; в некоторых местах (у порогов) пришлось карабкаться вверх по гладким мокрым камням.
Вообще дорога была не особенно удобна. В третьем часу пошел дождь, и все горы покрылись облаками, идти поэтому вперед было не к спеху. Я сказал туземцам, чтобы они строили шалаш, а сам расположился на ночлег. Сварил себе кофе и смерил высоту местности при помощи аппарата Реньо, показание которого было почти одинаково с показанием моего анероида. Высота оказалась равной 860 футам. Было очень прохладно, вероятно вследствие дождя. Всю ночь дождь лил, как из ведра. Крыша из непромокаемого одеяла, растянутого над моей койкой, оказалась расположенной удачно: несмотря на ливень, я оказался совершенно сухим, но воздух был весьма сыр, и я не был уверен, что день пройдет без лихорадки. Я поднялся в 6 часов и, видя, что не все мои люди готовы, не стал их ждать, а объявил, что тамо билен могут следовать за мной, а тамо борле могут оставаться. Это подействовало: почти все последовали за мной. Вследствие дождя, шедшего ночью, в реке было гораздо больше воды, чем вчера; камни были очень скользки, и надо было быть весьма осторожным в некоторых местах. Пройдя немного, пришлось лезть по склону направо, без малейшего следа тропинки.
Мои спутники стали уверять, что здесь дороги нет, почему мне пришлось идти, или, вернее, лезть вперед. К великой моей досаде я почувствовал, что вчерашний дождь, от которого я промок, и ночная сырость оказали свое действие и что пароксизма лихорадки мне не миновать. Голова сильно кружилась, и я подвигался как бы в полусне. К счастью, склон был покрыт лесом, так что можно было, как помнится, придерживаясь и цепляясь за сучья и корни, подвигаться вперед. В одном крутом месте я протянул руку к лиане, а что произошло после этого, положительно не знаю… Проснулся я как будто от человеческих голосов. Я открыл глаза — вижу кругом лес; не мог ясно представить себе, где я. От общего утомления я снова закрыл глаза и при этом почувствовал значительную боль в разных частях тела, и отдал себе отчет, что нахожусь в очень странном положении: голова лежит низко, между тем как ноги — гораздо выше. Я все-таки не мог уяснить себе, где нахожусь. Когда я опять открыл глаза, то недалеко от меня послышался голос: «А я тебе говорил, что Маклай не умер, а только спит». Несколько туземцев выглянуло из-за деревьев. Вид этих людей возвратил мне память. Я вспомнил, что с ними я лез на гору, вспомнил, как схватился за лиану, чтобы удержаться. Мой вес оказался несоответствующим ее крепости, и вот каким образом я очутился на десяток шагов ниже и в таком неудобном положении. Я недоверчиво ощупал ноги, бок и спину и затем приподнялся. Ничего не было сломано, хотя бок и спина болели, и, кажется, я чувствовал себя бодрее, чем когда упал. Хотел посмотреть на часы, но оказалось, что, вероятно, от толчка при падении они остановились.
Солнце было уже высоко, так что я имел основание думать, что я пролежал в не особенно комфортабельном положении более двух часов, а может быть, и дольше. Времени нельзя было терять, а то к 3 часам, пожалуй, опять пойдет дождь, и с вершины ничего не будет видно. К счастью, один из моих анероидов оказался в полной исправности. В этом месте высота горы была 1500 футов. Немного пошатываясь, спустился я в неглубокую долину, а затем взобрался снова на холм, который туземцы называют Гумуша и высота которого была 1880 футов. За ним следовала опять неширокая долина, а затем возвышенность в 2400 футов. Идя далее, мы пришли к куполообразной вершине горы Тайо, которая с моря придает этому пику такой своеобразный вид. На небольшой площадке росли высокие деревья; высота здесь была 2680 футов.
Мои спутники, чтобы показать жителям окрестных деревень, что мы добрались до вершины, зажгли костер. Двум из них, более ловким, я передал белый флаг из толстой холстины, могущий противостоять некоторое время разрушению и прикрепленный к палке, с приказанием привязать его у вершины самого высокого дерева, обрубив сперва сучья. Когда это было сделано, мы отправились вниз. Я был разочарован этой экскурсией, потому что густая растительность закрывала вид с вершины пика, а я не подумал взять с собою несколько топоров, чтобы вырубить кругом деревья. Мы сошли вниз до места нашего ночлега благополучно и, пообедав здесь, направились в Богати. Из ближайших деревень сходились люди, так что к вечеру моя свита состояла более чем из 200 человек. Хотя я чувствовал значительную усталость, я не захотел нигде останавливаться, и при свете многих десятков факелов мы вошли в Богати часу в десятом вечера.
23 августа. Отправился на о. Били-Били, где туземцы построили мне хижину, темную, но прохладную, на месте, называемом Айру, и куда я думал приезжать от времени до времени. Вернувшись в Бонгу, я посетил деревни Энглам-Мана, Сегуана-Мана и Самбуль-Мана.
Все эти деревни не отличаются значительно одна от другой ни характером построек, ни типом и внешним видом жителей. Собрал при этой экскурсии значительное число черепов, а также разузнал довольно много интересных данных по этнологии горных жителей.
Сeнmябрь. Экскурсия в Бан-Мана, Сандингби-Мана, Бурам-Мана, Манигба-Мана и Колику-Мана. Результатом этих экскурсий было прибавление материалов по этнологии, черепов папуасских для коллекции и несколько дней лихорадки.
20 сентября. Был в Гарагаси, где все очень заросло. Из посаженных мною кокосовых пальм принялись только шесть. На большом кенгаре еще крепко держится оставленная клипером «Изумруд» медная доска, хотя красное дерево изъедено муравьями. Я укрепил ее, вбив несколько гвоздей. Все сваи моей хижины были до того изъедены муравьями, что легкого толчка ногой было достаточно, чтобы повалить их. В Гарагаси гораздо больше птиц, чем около моего нового дома близ Бонгу, и знакомые крики их живо напомнили мне мою жизнь в этой местности (в 1871–1872 гг.).
Распорядился, чтобы Мебли, мой слуга с Пелау, и несколько жителей Горенду расчистили площадку на месте моей бывшей хижины и около растущих там кокосовых пальм.
Октябрь. Благодаря моему теперешнему помещению, гораздо более удобному, чем в Гарагаси, я могу заниматься сравнительно-анатомическими работами. Вообще комфорт (лучшее помещение и трое слуг) благоприятно действует на здоровье. В конце сентября и в начале октября я собрал кукурузу, которую посеял в июле. Затем я снова посеял ее и множество семян других полезных растений, привезенных в этот раз. Вокруг моей хижины я посадил 22 кокосовых пальмы, которые все принялись.
Небольшие ранки на ногах вследствие ушибов о камни, трения обуви и т. п. превращаются здесь, мало-помалу, при небрежном обращении с ними, а главное от действия на них морской воды, от которой нельзя уберечься, в значительные, хотя и поверхностные раны, которые долго не заживают и часто очень болят. Они не раз удерживали меня от экскурсий и заставляли частенько сидеть дома.
Кроме письменной работы, я нахожу возможным заниматься антропологическими измерениями. В Гарагаси это было немыслимо, теперь же туземцы достаточно привыкли ко мне и не видят ничего опасного для себя в этих манипуляциях над ними. Не нахожу, однако, удобным измерять женщин: мужчины здесь ревнивы, а я не желаю давать повод к недоразумениям.
Одним словом, в этом случае «le jeu ne vaut pas la chandelle». К тому же измерения женщин сопряжены с слишком большой возней: уговариваниями, глупыми возражениями и т. д.
В Бонгу был большой «ай», в котором принимали участие и женщины (что я в первый раз увидал). Возвращение «ай» в деревню представляло очень характерное зрелище, которое стоило бы зарисовать.
Узнал подробности операции «у-равар» или «мулум» (обрезание). Все «улеу тамо» следуют этому обычаю (за исключением обитаталей некоторых островов архипелага Довольных людей), но почти все горные жители не признают его.
Ноябрь. Часто хворал лихорадкой, и раны на ногах плохо заживают. Когда было возможно, занимался сравнительно-анатомическими работами, а то читал. Боль от ран бывает по ночам так значительна, что приходится принимать хлорал, чтобы спать. Когда температура по утрам опускается до 21°, то я положительно ощущаю холод, совершенно как и туземцы, которые дрожат при этом всем телом.
5 декабря. После многодневных приготовлений сегодня начался «мун» в Бонгу, самый значительный, какой мне пришлось до сих пор видеть, почему я постараюсь описать его.
Myн в Бонгу 5–6 декабря 1876 г. После долгих приготовлений день муна был, наконец, назначен. Последние дни туземцы соседних деревень почти каждую ночь упражнялись в пляске и пении; барум часто раздавался днем и даже ночью; жители Бонгу ходили в Энглам-Мана за кеу к празднику. Была установлена программа: сперва 5-го числа, вечером, должен был плясать мун Горенду, затем на следующий вечер должны были прийти мун Богати и Гумбу. До начала муна ай вышел из Бонгу с хворостом, который был брошен в море, и после церемонии в лесу туземцы Горенду и Бонгу стали одеваться к муну. Главным характерным украшением были громадные 3-этажные султаны (сангин-оле), которые были так велики, что только курчавые куафюры папуасов могли их удерживать. За пояс были заткнуты три большие ветки Coleus, которые при каждом шаге качались за спиной. Такие же ветки, воткнутые за сагю (браслеты), украшали ноги и руки. Султаны состояли: 1-й, большой, нижний, — из казуаровых перьев; 2-й — из перьев какаду, из которых некоторые были прикреплены верхушкой; 3-й — из перьев райской птицы; он был прикреплен к эластичному стеблю и при каждом движении танцора приходил в движение. Кроме выбеленных двух дю, некоторые туземцы имели на голове род диадемы из собачьих зубов. На шее, кроме буль-ра, ямби и других мелких украшений из зубов или бус, висели у большинства губо-губо. Европейские тряпки (подарки времени Гарагаси) играли также немалую роль.
Мун-Коромром. Танцоры попарно, при звуках окамов, покачивая в такт и одновременно своими сангин-оле, плавно вошли в Бонгу и, описав дугу, стали описывать круги вокруг площадки, иногда попарно, иногда, образуя длинную цепь, в одиночку. Перед пляшущими, лицом к ним, один из туземцев Бонгу двигался, постепенно пятясь назад; он не был украшен подобно танцорам, имел только несколько красных цветков в волосах и держал в руке обращенное острием внутрь копье. На конец копья был насажен кусок скорлупы кокосового ореха из опасения ранить нечаянно своих визави. (Этот как бы встречавший гостей туземец напомнил мне «чекалеле» и встречи в деревнях на Молуккских о-вах.) Пляска и пение были довольно монотонны. Пляска состояла из плавных небольших шагов и незначительного сгибания колен, причем корпус слегка нагибался вперед, и султан также кивал вперед. Мало-помалу присоединялись к группе танцоров и женщины, в новых малях, с множеством ожерелий, а некоторые — украшенные зеленью, заткнутой за сагю на руках. Многие были беременны, другие с грудными детьми на руках. Пляска женщин была еще проще мужской и состояла только в вихлянии задом. Единственная вариация состояла в том, что танцоры останавливались, образуя круг, продолжая петь, бить в окамы и кивать султанами. Женщины тоже останавливались и, расставив немного ноги, еще усерднее вертели задом. Мун продолжался до рассвета; в нем принимала участие молодежь Горенду и Бонгу.
Мун. Я из Богати пошел в Бонгу засветло, часов в пять. Мун был гораздо многочисленнее и группировка была иная, чем в Мун-Коромром. Главных танцоров с сангин-оле и губо-губо окружали женщины, которые держали их луки и стрелы и, кроме того, несли свои большие мешки на спинах. Было также много вооруженных туземцев, которые пели и в случае неимения окамов били небольшими палочками по связкам стрел, которые они несли в руках. Движения пестрой толпы были не так медленны, и двое главных танцоров выделывали довольно замысловатые па (напр., заложив окам за шею и закрыв глаза, выкидывали ногами). Но что особенно мне показалось интересным, — это мимические пляски, при которых танцоры расступались, оставляя между собою свободное пространство, где главные танцоры производили свои эволюции. Мимические представления изображали охоту на свинью, убаюкивание ребенка отцом и матерью, причем один из мужчин надел женскую юбку и мешок и представлял женщину, а окам, положенный в мешок, представлял ребенка. Этот пассаж следовал после сцены, изображавшей, как женщина прячется от преследующего ее поклонника за спиной другого. Но еще замечательнее была карикатура, изображавшая туземного медика и принесение им онима: один из танцоров сел на землю, другой с длинной веткой в руках стал, танцуя вокруг, ударять ею по спине и бокам первого; затем сделал несколько кругов вокруг площадки, прошептал что-то над веткой, потом вернулся к больному и возобновил первую операцию. Танцор представил затем, как совсем запыхавшийся и вспотевший медик отнес ветку в сторону и растоптал ее на земле.
Мужчины и женщины имели однообразно раскрашенные физиономии; во рту все мужчины вертели губо-губо.
Когда я пришел утром (туземцы плясали всю ночь), мун, обойдя вокруг кокосовой пальмы, остановился около нее, в то время как один из участников муна, туземец из Богати, влез на дерево и стряс все орехи, которые и послужили угощением для членов муна.
Что мне бросилось вчера в глаза, — это безобразие физиономий. Неприятное впечатление, которое на меня произвели также туземцы о-вов Адмиралтейства.
Сель-мун (Гумбу). Около восьми часов, в совершенной темноте, при свете одного только факела и негромком звуке окамов вошел Сель-мун на другую площадку Гумбу. Высокими сангин-оле и множеством зелени украшенные танцоры, из коих многие были окрашены черной и белой краской, при слабом свете разгоравшегося костра и при отдаленном громе и частых молниях, имели очень фантастический вид. Из трех сангин-оле самый высокий превышал три человеческих роста и был по крайней мере 5 м вышины. Для того чтобы держать эти громадные бамбуки на головах, бамбук на конце был расщеплен и во многих местах привязан к волосам, которые почти скрывали лицо; спина и грудь были закрыты большим маль; под мышками, почти до колен, висели большие пучки зелени, которой были также украшены руки и ноги. Весь этот наряд почти что скрывал человеческий образ. Эти танцоры двигались почти самостоятельно от прочих, даже когда другие останавливались; напр., когда один из туземцев при общем молчании произносил речь, они, как заведенная машина, продолжали ходить вокруг костра. Сель-мун, который я уже видел в 1872 г. в Гумбу, является ночным; как и при «коромром», туземцы двигались толпой вокруг костра. Мун продолжался до восхода солнца.
Познакомившись с папуасскими танцами, можно заметить: 1) что женщины в них не играют главной роли; 2) что танцы не имеют безнравственного характера. Мужчины являются хорошими танцорами, довольно грациозны и выделывают довольно хитрые штуки. Женщины, как уже сказано, приводят в движение только зад, поэтому обращаются спиной к зрителям.
Морор-мун. Уже вчера были приготовлены пирамидообразные связки кокосовых орехов, которые назначались для туземцев Гумбу, Горенду, Богатим, Колику-Мана. По окончании муна и завтрака туземцы Бонгу принесли большие корзины с аяном, из которых многие едва могли поднять 4 человека, и связки саго. Все корзины были расставлены по группам; к каждой поставили по палке, украшенной веткой Coleus. Один из туземцев Бонгу сказал речь, держа при этом палку с веткой; затем другая длинная речь была сказана Моте, который говорил долго и весьма взволнованно. Можно было заметить, что речи были не импровизации, а приготовленные заранее; по интонации, жестам и выражению казалось, что ораторы не были лишены красноречия. Тон речей, особенно Моте и Эгли, был презрительный, и я предполагаю (речей я не мог понять), что ораторы укоряли своих сограждан за то, что те принесли мало продуктов для морора. Была и ответная речь туземца из Горенду. Каждый оратор приставил обратно палку с веткой к куче корзин, но, когда ораторы кончили свои речи, один из них собрал все палки и отставил их в сторону; затем ораторы и жители Бонгу удалились. Калун взял метелку, лист пинанга, и, шепча что-то, обмел вокруг корзин. Туземцы вернулись, неся много табиров, гунов, малей, собак, и положили все это около корзин. Особенно большая куча образовалась около Муля, который стоял близ одной кучи с женой и дочерью, между тем как у другой стояли жена и дочь Калуна. Отдавая Мулю табиры или мали, клали их ему на голову. Разложив и передав вещи, жители Бонгу, покрыв голову табирами, пробежали по площадке, говоря что-то. Принесенным собакам завязали морды и убили их, ударяя изо всех сил головой о землю. Их также положили на кучи малей и табиров. В одной группе Калун передавал принесенные табиры и пр. Мулю из Богатима, в другой Омуль отдавал их Бонему (из Горенду), который, воткнув копье в землю и поставив табир перед собою, снял сюаль и положил его в табир, накрыв веткой. Омуль, отдавая Бонему один табир за другим, накрывал каждый веткой. Бонем передавал их своему брату. То же было проделано с прочими предметами до последнего, после чего Омуль получил сюаль. Подобным же образом табиры и другие вещи клали на барум Мало, который в свою очередь роздал их присутствовавшим туземцам Богатима. После этого дошли до пинанга и кокосов; большие пирамиды их были повалены и разобраны. Тем морор и кончился.
Мун вообще много, и все они различны. Различны мелодии, а также и сама пляска варьирует; для плясок, впрочем, не установлено строгой последовательности, и фигуры их зависят от самих танцоров.
Дeкабрь. Состояние моих ног заставляет сидеть дома.
22 декабря. Курьезная сцена произошла сегодня в Бонгу. Как я уже не раз говорил, днем в деревнях людей обыкновенно не бывает: мужчины или в других деревнях, или на охоте, на рыбной ловле, в лесу или на плантации; женщины с детьми также на плантациях. Возвращаются они перед заходом солнца. Зная это, а также и то, что мун уже кончился несколько дней назад, мы удивились, услышав несколько громких поспешных ударов в барум, который сзывал людей с плантаций в деревню. Я отправился также туда и был там один из первых. Подоспевший ко мне Буа рассказывал мне следующее (в это время из хижины Лако неслись крики его жены). Лако, вернувшись раньше обыкновенного в деревню, застал в своей хижине жену в обществе Калеу, молодого неженатого человека, лет 22. Туземцы вообще ходят так тихо, что виновные были застигнуты совершенно врасплох. Калеу, побитый или нет — не знаю, выбрался из хижины Лако, который начал тузить жену. Он на минуту оставил ее, чтобы созвать с помощью барума своих друзей. Когда я пришел, Калеу стоял, потупившись, около своей хижины, а Лако продолжал чинить расправу в своей. Наконец, он выскочил, вооруженный луком и стрелами, и, оглядев кругом присутствующих, которых уже набралась целая толпа, увидел Калеу. Тогда он остановился и стал выбирать стрелу для расправы. В то же время один туземец подал и Калеу лук и несколько стрел. Смотря на Лако и на крайнее его возбуждение, я не думал, чтобы он был в состоянии попасть в противника, и, действительно, стрела пролетела далеко от Калеу, который стоял не шевелясь. И другая стрела не попала в цель, так как Калеу вовремя отскочил в сторону, после чего он не стал ждать третьей и быстро скрылся. Стрелял ли он в Лако или нет, я не заметил; я следил за последним. Мне, однако, сказали, что он выстрелил раз и не попал. По уходе Калеу ярость Лако обратилась на хижину первого: он стал рвать крышу и ломать стены ее; но тут туземцы нашли подходящим вмешаться и постарались отвести его в сторону.
На другой день я застал противников дружелюбно сидевшими у берега моря и курившими одну и ту же сигару. Увидя меня, оба захохотали: «А ты вчера видел?» — спросил меня Лако. «Видел», — отвечал я. «А что же сегодня? Калеу хороший или дурной человек?» — захотел я знать. «О, хороший, хороший», — заявил Лако. Со своей стороны Калеу то же говорил о своем сопернике.
На тропинке в Бонгу я встретил Унделя и указал ему на сидящих Лако и Калеу. Ундель сказал мне, что Лако прогнал свою жену, которая живет теперь в хижине Калеу, причем он прибавил известную пантомиму и громко рассмеялся.
Однако такие случаи происходят не часто; это всего третий, о котором я узнал.
1877 ГОД
Январь. Наблюдения по антропологии. Волосы новорожденных не курчавы. До сих пор измерил 102 головы мужчин, 31 — женщин и 14 — детей. Рассматривал также ноги, руки и ногти туземцев.
Февраль. Пребывание в Айру и экскурсия на архипелаг Довольных людей и в деревню Эремпи. Так как Каин не знал дороги в эту деревню, то мы заехали на о. Сегу и забрали там двух людей как проводников. Из бухты мы вошли в речку Аюн-Монгун. Проехав незначительный приток ее, мы очутились в небольшом, почти что круглом, окруженном лесом озерке, называемом Моут-Монгун. Здесь пришлось оставить пирогу и идти по узкой тропинке, очень неудобной по причине множества пересекающего ее ротанга, цепляющегося за платье. Замечательно высокий, дикий бананник обратил на себя мое внимание; плоды были маленькие, зеленые, полные зерен. Их нельзя было есть. Листья были, сравнительно с другими видами, очень узки. Мы продолжали наш путь на запад и после более чем часовой ходьбы пришли в дер. Эремпи. Жители ее были очень испуганы моим неожиданным появлением и, вероятно, моим видом, так как они до сих пор, как мне сказал Каин, не видали белых.
Несколько протяжных ударов в барум созвали жителей деревни, которые работали на плантациях и в окружающих селениях. (Люди Эремпи живут в небольших, разбросанных в лесу хижинах, приходя от времени до времени в главную деревню.)
Хижины в Эремпи были почти все на сваях, но люди внешностью ничем не отличались от других папуасов берега Маклая. Я смерил несколько голов и записал несколько слов их диалекта.
Хотя люди здесь, как говорят, людоеды, но в своих украшениях не имеют ни одного человеческого зуба или кости, и последние никогда не употребляются ими как орудия. Каин мне сказал, что остатки костей выбрасываются в море. Я здесь видел щиты другой формы, чем на о-вах Довольных людей, — они не круглы, а продолговаты.
Возвращаясь на другой день рано утром, я с удивлением услыхал очень громкий голос, который я не мог приписать никакому мне известному животному; во всяком случае, можно было думать, что животное это должно быть значительных размеров. Я был очень удивлен, узнав, что это был голос взрослого казуара. Каин уверял, что их здесь, в этом лесу, особенно много и что он часто слышал их.
Тревога людей Бонгу вследствие булу-рибут около моей хижины. Мне как-то не спалось, и я подумал, что хорошо было бы послушать музыку, которая всегда освобождает от различных назойливых размышлений. Я вспомнил, что, путешествуя по Малайскому полуострову, я не раз в селениях и даже в лесу засыпал под звуки своеобразной, заунывной музыки малайских булу-рибут.
Надеясь, что Сале сумеет их сделать, я заснул, очень довольный своей идеей. Узнав на другой день, что Сале действительно умеет делать булу-рибут, я приказал ему сделать мне 4–5 штук различной величины.
Объясню в двух словах, что такое булу-рибут, по крайней мере та форма, которая в употреблении у малайцев Иохора и Явы. Они состоят из стволов бамбука различной длины (до 60 футов и более), внутренние перегородки которых удалены и в которых в разных местах и на различных расстояниях одна от другой сделаны продольные щели, широкие и узкие. Такие бамбуки укрепляются у хижин или на деревьях в деревне, а иногда и в лесу. Ветер, проникая в щели, производит весьма курьезные звуки. Так как отверстия расположены с разных сторон бамбука, то всякий ветер приводит в действие эти оригинальные эоловы арфы. От длины и толщины стенок бамбука, степени сухости его и положения булу-рибут (т. е. находится ли он посередине дерева или на вершине его) зависит характер звуков.
Дня через три Сале показал мне пять штук сделанных им булу-рибут; два из них имели более 45 футов в вышину. С помощью своих людей я распределил их по вершинам стоявших около хижины деревьев, укрепив один из них на самой веранде моего дома. Так как полагается, по объяснению Сале, чтобы булу-рибут стояли отвесно, то нам стоило немало труда прикрепить их к деревьям надлежащим образом, тем более что нужно было привязать их во многих местах для того, чтобы их не сдуло ветром. Я с нетерпением ждал вечера, чтобы убедиться, удались ли Сале его булу-рибут. Днем ветер слишком силен, так что шелест листьев окружающего леса и шум прибоя на рифе вокруг мыска заглушают звуки малайской арфы. Разные занятия в течение дня совершенно отвлекли меня от мысли о бамбуках, и, только когда я уже лег и стал засыпать, я услышал какие-то протяжные, меланхолические звуки, а затем был озадачен резким свистом, раздавшимся у самого дома; свист этот повторялся неоднократно. Несколько других, трудноопределяемых звуков, не то завыванье, не то плач, слышались близ дома. Я услыхал голоса Сале и Мебли, толкующих о булу-рибут, и вспомнил о нашем утреннем занятии.
В течение ночи меня раза два будил резкий свист на веранде; так же явственно слышались звуки и других бамбуков. Вся окрестность казалась оживленной этими звуками, которые перекликались, как разноголосые часовые на своих постах.
На другой день никто из туземцев не явился ко мне. Когда же и следующий день прошел без посещений, я стал недоумевать и думать, что в Бонгу, вероятно, что-нибудь случилось, раз туземцы целые два дня не показываются около моего дома. Это было совершенно против их обыкновения, так как редко проходил день, чтобы кто-нибудь из жителей окрестных деревень не зашел посидеть и поболтать со мною или с моими слугами. Вследствие этого я отправился в деревню узнать, в чем дело.
Я вышел перед заходом солнца, когда туземцы обыкновенно возвращаются с работ. Я застал всех по обыкновению занятыми приготовлением ужина. Я подошел к группе туземцев, поспешивших очистить для меня место на барле.
— Отчего вчера и сегодня не приходили в таль Маклай?
Туземцы потупились, говоря: «Мы боялись».
— Чего? — с удивлением спросил я.
— Да тамо русс.
— Каких тамо русс? Где? — допрашивал я, озадаченный. — Где вы их видели?
— Да мы их не видели, но слышали.
— Да где же? — недоумевал я.
— Да около таль Маклай. Мы слышали их вчера и сегодня ночью. Их там много, они так громко говорят.
Тут мне стало ясно, что булу-рибут около моей хижины были причиной этого недоразумения, и я невольно улыбнулся. Туземцы, внимательно следившие за выражением моего лица, подумали, что я соглашаюсь с ними, и осыпали меня вопросами: «Когда прибыли тамо русс? Каким образом? Корвета ведь нет? Прилетели они? Что будут делать? Долго ли останутся? Можно ли прийти посмотреть их?» Все это показалось мне до такой степени смешным, что я захохотал. «Никаких тамо русс в таль Маклай нет. Приходите посмотреть сами», — сказал я и вернулся домой в сопровождении полдеревни, отправившейся искать тамо русс и оставшейся в большом недоумении, не найдя никого. Туземцы, однако же, не были совершенно убеждены, что тамо русс не являются, по крайней мере, по ночам, каким-либо образом для совещаний с Маклаем, и положительно боялись приходить ко мне после захода солнца.
Звуки булу-рибут первое время своей пронзительностью будили меня, но потом, привыкнув к ним, я хотя и просыпался, но тотчас же опять засыпал. И когда я засыпал, то эта мягкая заунывная музыка под аккомпанемент шелеста деревьев и плеска прибоя убаюкивала меня.
Март. Свадьба Мукау. Несколько мальчиков из Горенду прибежали сказать мне, что невесту уже ведут из Гумбу. Я последовал за ними к песчаному берегу около ручья и застал там несколько сидящих тамо из Гумбу и нескольких туземцев из Бонгу, пришедших с невестой. Они сидели и курили, пока двое из молодых людей (лет 17–18) занимались туалетом невесты. Я подошел к ней. Ее звали Ло, и она была довольно стройная и здоровая, но не особенно красивая девочка, лет 16. Около нее вертелись три девочки, 8—12 лет, которые должны были проводить невесту до хижины ее будущего мужа. Но собственно туалетом невесты занимались, как я уже сказал, молодые люди. Они вымазали ее, начиная с волос головы до пальцев ног, положительно всю, за исключением мест, покрытых несложным костюмом папуасок, красной краской — «суру». Пока невесту натирали охрой, туземцы, сидевшие поодаль, подходили к ней, чтобы оплевать ее со всех сторон нажеванной заговоренной массой: это называлось «оним-атар». Последний из оплевывавших, нажевав какую-то специальную массу, обрызгал ею нижнюю часть живота невесты, отогнув для этого верхний край ее костюма. Он проговорил еще что-то, и тем операция оним-атар кончилась. Невесте провели три поперечных линии белой краской (известью) поперек лица, а также линию вдоль спинки носа и навесили много ожерелий из собачьих зубов, а за браслеты на руках воткнули тонкие и гибкие отрезки пальмового листа, к концу которых прикрепили по разрисованному листику. Невеста подчинялась всем этим манипуляциям с величайшим терпением, выставляя поочередно ту часть тела, которую натирали. Поверх небольшого девичьего пояса, очень короткого спереди, надели на нее новый маль, желтый с красными полосами, доходивший до колен, но по сторонам оставлявший ноги и бедра совершенно открытыми. Остатками суру вымазали девочек, сопровождавших невесту.
Ло положила обе руки на плечи девочек, которые обнялись таким же образом, т. е. положив руки на плечи своих спутниц, и все двинулись по тропинке в деревню. У всех четырех головы были опущены, они не смотрели по сторонам, а в землю, и двигались очень медленно. На головы им был положен большой женский «гун». Их сопровождали гуськом пришедшие с ними туземцы Гумбу. В процессии, кроме трех девочек, не было других женщин. Чтобы видеть все, я следовал одним из первых за невестой, смешавшись с толпой туземцев Гумбу.
Войдя в деревню, мы застали всех жителей, мужчин и женщин, у дверей хижин. Дойдя, наконец, до площадки Конило, квартала Бонгу, где находилась хижина жениха, девушки остановились в том же порядке, как и шли. Здесь же сидели женщины Бонгу и приготовляли «инги», а мужчины сидели в разных группах.
Прошло несколько минут общего молчания, которое было прервано короткой речью Моте, подошедшего к девочкам и положившего на мешок, закрывавший их головы, совершенно новый маль. Отошедшего в сторону Моте заменил Намуй, вышедший из хижины напротив, который, произнеся краткую речь, беглым шагом приблизился к девушкам и положил на голову Ло новый табир. Из группы женщин Гумбу выделилась одна, которая сняла с головы невесты табир, маль и гун и положила их около нее. После этого последовал целый ряд жителей Бонгу, принося один за другим разные вещи: табиры, большое число мужских и женских малей, мужские и женские гуны и т. д. Двое принесли по новому копью, так называемому «хадга-нангор». При этом некоторые из туземцев говорили короткие речи, другие же молча клали свои приношения около невесты и молча отходили в сторону. Женщины Гумбу поочередно подходили к невесте, чтобы снять подарки с ее головы, и клали их около нее. Когда последний подарок был положен, подруги Ло отошли от нее и занялись разборкой даров, кладя табиры к табирам, мали к малям и т. д., а затем присоединились к группе женщин Гумбу. Воцарилось опять общее молчание. Один из старых туземцев (тамо-боро), Гуна, опираясь на копье, подошел к Ло и, обвив вокруг пальца пук ее волос, начал речь, обращаясь к невесте, сидевшей у его ног. По временам, как бы для того чтобы подчеркнуть сказанное и обратить ее особенное внимание, он сильно дергал ее за волосы. Было ясно, что он говорил о новых ее обязанностях как жены. Его место занял другой старик, который также, перед тем как начать говорить, навернул себе на палец прядь волос Ло и при некоторых наставлениях дергал их так усердно, что девушка привскакивала на месте, ежилась и тихо всхлипывала. Все шло, как по заученной программе; видно было, что обычай так уже установился, что каждый твердо знал свою роль.
Во время всей церемонии присутствовавшие сохраняли глубокое молчание, так что речи, произносившиеся не очень громко, можно было хорошо слышать. Собственно, невеста и жених были совершенно на втором плане, и старик Гуна — одно из главных действующих лиц, — забыв имя жениха, обратился к присутствовавшим, чтобы узнать его, что было принято однако ж не без смеха. Также отец и мать невесты не принимали никакого особенного участия в происходившем.
После того как двое или трое стариков прочли свои инструкции, подкрепляя свои назидания дерганьем волос бедной Ло, от чего она все более и более всхлипывала, церемония кончилась. Пришедшие с невестой туземцы стали собираться домой. Женщины Гумбу забрали все дары, сложенные около Ло, распределив их по своим мешкам, и стали прощаться с новобрачной, пожимая ей руку над локтем и гладя ее по спине и вдоль рук. Невеста, все еще всхлипывая, осталась ожидать в том же положении прихода своего будущего мужа.
Я узнал, что все вещи, послужившие для покупки Ло, были даны туземцами Бонгу вообще, а не только родственниками Мукау, и в свою очередь они не пойдут единственно в семью невесты, а будут распределены между всеми жителями Гумбу. Разумеется, при этом распределении родственные отношения к семье невесты будут играть известную роль.
Когда я пришел в Бонгу через полчаса, то, вернувшись к хижине Мукау, я застал уже будущего супруга Ло, занимающегося приготовлением угощений для гостей. Мукау — лет 14 или 15; Ло годом или двумя старше его. Над первым не была еще совершена операция «мулум», почему многие жители Бонгу изъявили свое неодобрение, другие указывали на то обстоятельство, что Асель, который давно женат и имеет уже детей, не был еще подвержен этой операции. Из этого обстоятельства я видел, что обычай «мулум» не соблюдается слишком строго на берегу Маклая. На другой день я видел целую толпу молодых людей Бонгу, которые шли вместе с Мукау к морю купаться. Они громко говорили и смеялись. Это купанье, очевидно, имело непосредственную связь со свадьбой; провожали ли и мыли ли молодые девушки Ло, я не знаю; во всяком случае это купанье Мукау было последним актом его свадьбы.
20 июня 1877 г. я видел и другой род свадьбы, именно похищение девушки силой (случай с дочерью Калуна), но собственно силой только для вида, по заранее условленному соглашению. Случай этот произошел таким образом. Часа в два или в три дня послышался барум в Бонгу, призывавший к оружию. Прибежал мальчик в деревню с известием, что несколько вооруженных людей из Колику-Мана неожиданно явились на плантацию, где работали две или три женщины Бонгу, и увели с собою одну из девушек. Несколько молодых людей Бонгу отправились в погоню за похитителями. Произошла стычка, но только для вида (так как все было условлено заранее), после чего все отправились в Колику-Мана, где было приготовлено общее угощение. Между людьми, принимавшими участие в погоне, находились отец и дядя увезенной девушки. Все вернулись с подарками из Колику-Мана, и все довольные. Похищенная девушка стала женой одного из похитителей.
Апрель. Я сидел около дома, любуясь вечерним освещением далеких гор и леса кругом. Пришел Саул-боро и сел возле меня, но долго ничего не говорил. Наконец, он собрался и сказал: «Маклай, сколько у тебя жен, детей, внуков и правнуков?» Я посмотрел на него и невольно улыбнулся. Он говорил очень серьезно и смотрел на меня вопросительно. «Где?» — спросил я. — «Я не знаю, — ответил Саул, — в России, на луне», — поправился он. — «У меня ни жены, ни детей, нет», — сказал я. Саул недоверчиво засмеялся. «Маклай не хочет говорить, — добавил он. — Ну так скажи, помнишь ли ты, когда это дерево было очень маленьким? — спросил он, указывая на громаднейший Calophilum inphilum, росший неподалеку и которому было, наверное, несколько сот лет. — Ты, может быть, посадил его?»
Поглядев на Саула и не доверяя что-то его серьезности, я пожелал знать, почему он думает, что я так стар? «Да ты никогда не бегаешь, не хочешь плясать, когда все старики у нас пляшут; жен здесь не хочешь брать; седых волос на голове много и ты не хочешь, чтобы тебе их выдернули». В этот вечер Саул ушел от меня очень недовольный тем, что Маклай ничего не хочет ему сказать.
Экскурсия на о-ва Били-Били, Ямбомбу и некоторые острова архипелага Довольных людей. Из Били-Били я отправился на остров Ямбомбу. Дорогой туда остановился у островка Урему, или Урембу, как другие его называют. Здесь собственноручно посадил в разных местах на берегу 12 кокосовых пальм и приказал Каину помнить, что здесь посадил их Маклай, прибавив, что в следующий мой приезд я построю себе дом вместо Айру в Урембу. На этом островке никто никогда не жил; только по вечерам слетается сюда, как и на Били-Били, множество голубей, которые остаются здесь до следующего утра, когда они снова массами летят в леса. Каин называет часто поэтому Урему Мулики-амб (дом голубей). Мулики означает на диалекте Били-Били голубь, а амб — дом.
На материке, против о. Урему, в море впадает речка Ио-Гуму, довольно значительная. Небольшое селение находится в верховьях ее. Урему и Ямбомба ограждают небольшую гавань, которая может быть довольно удобной для небольших судов.
В Ямбомбе я встретил очень радушный прием. Все, казалось, были рады моему приезду. Бирамор проводил меня в свой «дарем» (что значит на диалекте Ямбомба — буамбрамра). Видел у него топор, ручка которого была образцом папуасской резьбы. Это был первый и единственный экземпляр, виденный мною на берегу Маклая. Заметил также висевший на шнурке, пробуравленный, плоский, круглый камень. На мои вопросы: «Откуда, кто сделал?» — туземцы отвечали: «Из моря», «Не знаем», «Это сделано не людьми». Однако нашелся один, который пояснил, что «наме-наме» (давно, давно) людям Ямбомбы привезли этот камень с о. Карагу[102], который находится очень далеко от Ямбомбы, что теперь люди Ямбомбы не только не ездят туда, но не знают даже, где он находится. Люди Ямбомбы не знали, для чего служили эти камни[103].
Группа туземцев работала над новой пирогой, именно — пришивала длинную планку у одного борта ее. Несколько соответственных отверстий было сделано в краях пироги и доски; в них продевалась крепкая лиана, которую туземцы называют «урамер», много раз, пока отверстия, сантиметров около четырех в диаметре, не были совершенно заполнены оборотами лианы. Одно подобное закрепление отстояло от другого приблизительно на полметра, и все скважины и отверстия были законопачены наскобленными и размоченными внутренними слоями коры «дым». Работы было немало, но прежде было еще больше, потому что, не имея гвоздей, туземцы должны были делать отверстия каменными орудиями, вследствие чего отверстия были больше; теперь же они обтачивают большие гвозди в виде долот и очень искусно делают небольшие четырехугольные отверстия. Они очень обрадовались, когда я им показал, что, накалив гвоздь на огне, они могут прожигать отверстия разного диаметра, смотря по толщине гвоздя, в бамбуке и не слишком толстых досках. Они очень серьезно просили меня поселиться на о. Урему, надеясь, вероятно, на помощь, которую я могу оказать им своими столярными инструментами. Подаренные мне при отъезде старые кокосовые орехи с ростками я прибавил к тем, которые посадил сегодня утром на о. Урему.
Вернувшись на Били-Били, я сказал Мебли, что подниму его очень рано, чтобы отправиться на о-ва Довольных людей.
10 мая. За неименем часов я пожертвовал свечой с пометками, соответствующими часам и получасам. Проснувшись, когда моя свеча-часы показывала половину первого часа ночи, я встал и разбудил Мебли, но прошло более часа, пока было все готово и мы могли сдвинуть «дынги» в море. Ветер был слаб, и к рассвету мы были не далее как милях в двух на юго-восток от о. Тамб — крайнего острова группы.
Тамб и Матарен имеют улеу, обращенный к лагуне, между тем как о. Певай кругом окаймлен скалами, так что пристать к нему неудобно. Проход между островами Тамб и Матарен чист, между тем как между Певай и Митебог находится риф.
Мы высадились на о. Тамб. Он весь покрыт лесом и не имеет воды. Кроме больших деревьев, здесь встречается один вид пандануса, а также один кустарник, который при положительном отсутствии здесь тропинок очень затрудняет передвижение по острову. После завтрака Гассан очень тщательно собрал все объедки и, свернув их, положив камень в середину и обвязав все гибкой лианой, бросил связку далеко в море, для того чтобы дурные люди, найдя наши объедки, не заговорили их и не причинили нам вреда.
С о. Тамб мы направились к о. Митебог. Везде глубина была значительной, но могла представлять много удобных якорных стоянок. Пролив между материком, мысом Год-Аван и о. Митебог был достаточно глубоким для судов больших размеров. На о. Митебог две деревни: Митебог и Гада-Гада. Жители последней — переселенцы с другого острова, который они покинули вследствие войны с жителями о-вов Тиары. Семейные хижины все построены на сваях, даремы[104] же — прямо на земле, как на Били-Били, Тиаре и т. д. На конце конька, над входом, красовалась большая, из дерева вырезанная рыба. Люди здесь были особенно любезны, упрашивали остаться ночевать у них, на что я не согласился потому, что Гассан предупредил меня, что очень боится остаться ночевать в Митебоге или в Гада-Гада, с которыми жители Били-Били находятся в неприязненных отношениях; он боялся, что во время сна ему отрежут несколько волос, заговорят их и что он от этого заболеет.
В Митебоге строят много пирог; в одной полуготовой, т. е. не вполне выдолбленной, была налита вода, как мне объяснили, чтобы размочить дерево и сделать его более мягким для долбления.
Лишившись моих часов, я должен был приискать какое-нибудь мерило времени. Днем (так как пасмурных дней здесь сравнительно мало) солнечные часы определяют время, но вечером я много раз замечал, что, занимаясь какой-нибудь работой, совершенно теряешь всякое представление о времени. Я придумал следующий способ, который оказался довольно практичным. Я взял две стеариновые свечи, у которых отрезал верхние конические концы, а затем зажег одну из них. По прошествии часа я отметил на незажженной свече чертой, насколько вторая свеча сгорела, и, заметив время, снова зажег вторую. По прошествии еще часа я сделал то же, т. е. отметил на целой свече, насколько вторая свеча укоротилась вследствие горения в продолжение двух часов. Я сделал то же и для третьего часа. Найдя, что отмеченные отделы были почти равны, я взял среднюю величину и разделил ее на четыре равные части. Таким образом, я получил скалу сгорания свечи. Я, однако, скоро заметил, что сквозной ветер, дующий с разных сторон, делает сгорание свечи неравномерным, почему пришлось придумать какой-нибудь способ для ограждения свечи от сквозного ветра. Такой аппарат я себе устроил очень просто: вырезав одну из стенок большой жестянки от бисквитов, я получил аппарат, предохраняющий свечу от сквозняка и неровного сгорания. К подсвечнику, который был употреблен для этой цели, я прикрепил масштаб из бамбука с делениями. Так как в этой местности почти круглый год солнце поднимается в одно и то же время, то, зажигая свою свечу в 6 часов утра, я мог почти точно определять с помощью ее сгорания часы вечера.
29 мая. Болезнь и смерть жены Моте. Утром мне сказали, что жена Моте очень больна, и просили прийти в деревню. В час пополудни один из туземцев пришел с известием, что женщина эта умирает и что муж ее просит меня дать ей лекарство. Я отправился и, услышав жалобный вопль женщин, которые голосили в разных углах площадки перед хижиной, подумал, что больная уже умерла. Около хижины сидело несколько женщин из Бонгу и Горенду, кормивших грудью детей и голосивших. Мне указали на хижину умирающей, в которую я вошел. В хижине было очень темно, так что, войдя в нее со света, я сперва не мог ничего разглядеть. На меня набросилось несколько женщин, прося лекарства. Когда глаза мои привыкли к темноте, я разглядел, что умирающая лежала и металась посередине хижины, на голой земле. Около нее расположилось 5 или 6 женщин, державших кто голову, кто спину, кто руки, кто ноги больной. Кроме того, в хижине было еще много других женщин и детей. Умирающая не разжимала зубов и только по временам вздрагивала и старалась подняться. Вне хижины, как и внутри, все толковали о смерти. Сама больная иногда вскрикивала: «Умру, умираю!»
Не успел я вернуться домой, как Моте пришел за обещанным лекарством. Я повторил, что принесу его сам. Отвесив небольшую дозу морфия, я вернулся в Бонгу. Меня встречали и провожали, как будто действительно я нес с собою верное исцеление от всяких недугов. В хижине меня ожидала та же картина. Больная не захотела принять лекарство, несмотря на то, что все уговаривали ее и один из туземцев старался даже разжать ей зубы донганом, чтобы влить лекарство в рот. Больная повторяла по временам: «Умираю, умираю!»
30 мая. Солнце только что взошло, когда несколько коротких ударов барума, повторенных в разных кварталах деревни, возвестили, что жена Моте скончалась. Я поспешил в Бонгу. Вой женщин слышался уже издали. Все мужчины в деревне ходили вооруженные. Около хижины Моте я увидел его самого: он то расхаживал, приседая при каждом шаге, то бегал, как бы желая догнать или напасть на кого-то; в руках у него был топор, которым он рубил (только для вида) крыши хижин, кокосовые пальмы и т. д. Я пробрался в хижину, переполненную женщинами, где лежала покойница, но там было так темно, что я мог разобрать только, что умершая лежит на нарах и кругом нее теснятся с причитаниями и воем женщины. Часа через два Лако и другие родственники покойницы устроили в переднем отделении хижины род высокого стула из весел и палок. Один из туземцев вынес тело женщины, очень похудевшей в последние дни, на руках, другой принял и посадил на приготовленный стул. У покойницы ноги были согнуты в коленях и связаны. Их завернули в женские мали, а около головы и по сторонам воткнули ветки Coleus с разноцветными листьями.
Между тем на площадку перед хижиной высыпали пришедшие из Горенду и Гумбу туземцы, все вооруженные, с воинственными криками и жестами. При этом говорились речи, но так быстро, что мне трудно было понять сказанное. Моте продолжал свою пантомиму горя и отчаяния; только теперь он был одет в новый маль, а на голове у него был громадный «катазан» (гребень с веером из перьев, который носят единственно тамо боро, т. е. отцы семейств); большой гун болтался под мышкой, и, как утром, на плече у него был топор. Он расхаживал, как прежде, приседая, т. е. это был род пляски, которую он исполнял в такт под свою плаксивую речь и завывание женщин.
Что все это была комедия, которую присутствовавшие считали необходимым исполнять, было ясно и прорывалось по временам, когда Моте среди своих монологов (он хороший оратор), войдя в азарт, стал неистово рубить топором кокосовую пальму; тогда одна из женщин, кажется сестра его, которая также выла, вдруг прервала свои отчаянные вопли, подошла к Моте и заметила ему самым деловым тоном, что портить дерево не следует; после чего Моте, ударив еще раза два, но уже менее сильно, отошел прочь и стал изливать свою горесть, ломая старый, никуда не годный забор. Также, когда стал накрапывать дождь, Моте выбрал себе сейчас же место под деревом, где дождь не мог испортить его нового маля и перьев на голове.
Пришло несколько друзей Моте из Гумбу, которые принесли, чтобы изъявить свое сочувствие, подарки (табиры), положив их перед входом в хижину умершей. Табиры были сейчас же разобраны членами семьи. Весь день продолжалось вытье Моте, и даже вечером, в сумерках, он расхаживал и тянул свою песню, начинавшуюся словами «аламо-амо». Насколько я мог понять, он говорил приблизительно: «Уже солнце село, она все еще спит; уже темнее, а она все еще не приходит; я зову ее, а она не является», и т. д.
Покойницу принесли снова в хижину, и снова множество женщин окружило нары, на которых она лежала, поочередно воя, поддерживая огонь и болтая.
Зайдя в Бонгу ночью, я застал ту же сцену: женщины бодрствовали внутри хижины и у входа в нее, мужчины — на площадке у костра. Несколько раз ночью я слышал барум, на звуки которого отзывался другой, где-то далеко в горах (как я узнал потом, то был барум деревни Бурам-Мана).
31 мая. Придя утром в Бонгу, я застал очень измененное настроение. Люди оживленно болтали, следя за приготовлением угощения, которое, судя по числу горшков, стоявших рядами на длинном костре, и по грудам шелухи таро, ямса и т. п., над которыми трудились, жадно хрюкая, несколько свиней, должно было быть значительным. Все приготовления к угощению были сделаны ночью. Мне сказали, что люди Бурам-Мана, откуда была родом покойница и где жило несколько близких ей родственников, должны прийти «гамбор росар» (связать корзину) и что их теперь ждут. Я отправился в хижину, где увидал, что труп был уже упакован женщинами в коробку из «губ»[105], но голова была еще видна. Подойдя к гамбору, я заметил, что все украшения, ожерелья и т. д., которые были навешаны на покойницу при вчерашнем выставлении ее тела, теперь сняты; даже новый маль не был оставлен и, кроме нескольких ветвей, ничего не было положено в гамбор.
Я вышел из хижины, услыхав страшные крики. То была ватага жителей горной деревни Бурам-Мана, которые с криками и воинственными жестами явились со всех сторон на площадку, как вчера люди Горенду, но еще с большим шумом и азартом. Вслед за ними появился ряд женщин Бурам-Мана, которые направились прямо в хижину покойницы, причем завыли самым усиленным образом. Так как люди Бурам-Мана должны были вернуться домой сегодня же, то жители Бонгу поторопились распределить между ними угощение, которое не полагалось есть здесь, а надо было взять с собою. Для этого в каждый табир были положены банановые листья, а на них вареные овощи и куски свинины, так что было удобно связать их в большие свертки; затем к каждому свертку, число которых соответствовало числу пришедших мужчин (почти все родственники умершей), были приложены разные вещи, как то: табиры, гуны, мали и т. п.
Между тем двое из туземцев Бурам-Мана вынесли из хижины гамбор с покойницей, причем вой женщин очень усилился, как и толкотня около гамбора. Мужчины занялись увязкой корзины с телом. Она была привязана к бамбуку, концы которого двое мужчин держали на плечах, а двое других, не скупясь на ротанг, увязывали корзину, доведенную вследствие этого стягивания до весьма небольших размеров. Женщины, не переставая выть, стали кружиться и плясать кругом. По временам они останавливались, продолжая выделывать среднею частью тела положительно неприличные движения; некоторые скребли и терли руками гамбор, как бы лаская его, причем причитывали на разные голоса. Эти группы постоянно менялись, пока, наконец, гамбор не был внесен обратно в хижину и не повешен при помощи перекладины в углу ее. В это время люди Бурам-Мана, нагрузив жен своими долями угощения и наследства, поспешили отправиться домой и ушли с гораздо меньшим шумом, чем приходили.
2 июня. Застал утром всех туземцев от мала до велика с вычерненными лицами. У некоторых, кроме лица, грудь была также натерта черной краской; у третьих, кроме груди, — и руки, и спина, а Моте, муж покойницы, имел все тело испещренным черной краской — «куму». Мне сказали, что это было сделано уже вчера вечером и что сегодня все туземцы Бонгу и Гумбу оставались в своих деревнях и никто не ходил на работу. Мужчины были заняты питьем кеу и едой из табиров, женщины возились около хижин. Все были испачканы куму, не имели никаких украшений и походили на трубочистов. Заметив, что все без исключения были вымазаны черной краской, я, подойдя к Моте, попросил куму, которая мне и была тотчас же подана. К величайшему удовольствию обступивших меня туземцев, я, взяв мизинцем немного куму, сделал себе на лбу небольшое черное пятнышко. Моте стал пожимать мне руку, приговаривая: «э аба», «э аба», и со всех сторон послышались одобрительные возгласы.
Я вошел в хижину Моте и увидел большой цилиндр из кокосовых листьев метра в два вышиной как раз в том углу, где был повешен гамбор. Раздвинув немного листья, я убедился, что гамбор висел, как и вчера, на перекладине, а цилиндр был сделан вокруг него. В хижине горели два костра, что было целесообразно, так как запах от разлагавшегося трупа был очень сильный.
Июнь. Экскурсия в Гориму. Сидя за ужином на барле, около хижины Коды-боро, в Богати, я прислушивался к разговору, который вел мой хозяин, сидевший на пороге своей хижины, со своим сыном Уром, только что вернувшимся из другой деревни. Они говорили не громко и жевали при этом бетель, так что я почти ничего не понял из их разговора, хотя мог расслышать несколько раз мое имя.
Когда я кончил ужинать, слез с барлы и намеревался пройтись по деревне, Коды-боро удержал меня, схватив за рукав.
— Маклай, ты не ходи в Гориму (деревня, лежащая в милях четырех от Богати по берегу).
— Я в Гориму не иду; я завтра вернусь в таль Маклай.
— Это хорошо, — сказал Коды.
— А отчего же мне не ходить в Гориму? — спросил я.
— Да люди Горимы нехорошие, — объяснил Коды.
Я на этот раз удовлетворился этим ответом, так как до наступления темноты я хотел взять несколько пеленгов для определения положения некоторых вершин хребта Мана-Боро-Боро, который был хорошо виден в этот вечер. Когда стемнело, я обошел несколько костров и поговорил с разными знакомыми. Вернулся к буамбрамре, где должен был провести ночь. Коды-боро хлопотал у костра. Я разостлал одеяло на барле и, найдя бамбук, на который положил все, что мог снять, приготовился к ночи, т. е. снял башмаки, гамаши и т. д. Затем позвал Коды-боро и спросил его:
— Отчего люди Горимы борле (нехорошие)?
Коды замялся. Я сунул ему в руку несколько больших кусков табаку.
— Ты скажи, Коды, а то я вернусь домой, возьму шлюпку и поеду прямо в Гориму.
— О, Маклай, не езди в Гориму! Люди Горимы скверные.
— Ты скажи почему? Что тебе сегодня сказал Ур?
Видя, что я не оставлю его в покое, Коды решился сказать, что слышал. Ур, вернувшись из деревни, куда ходил к родителям жены, рассказал, что встретил там двух туземцев из Горимы, которые говорили обо мне, что у меня много вещей в доме, что если бы люди Бонгу убили меня, то могли бы все взять, что двое из жителей Горимы хотят приехать нарочно в таль Маклай, чтобы убить меня и взять, что могут, с собою. Вот почему Коды называет людей Горимы «борле» и просит Маклая не ездить в их деревню.
— А как зовут этих двух людей Горимы, которые хотят убить Маклая? — спросил я.
— Одного зовут Абуи, другого Малу, — ответил Коды.
Я дал ему еще кусок табаку и сказал, что хочу спать. По мере того, как Коды говорил, у меня составился план относительно того, что делать в этом случае. Я был удивлен, что после такого долгого знакомства со мною (правда, люди Горимы только один раз, во время моего первого пребывания, были у меня, так что, разумеется, очень мало знали меня) находились еще люди, говорящие, что хотят меня убить. На это они имели уже довольно времени и случаев. Я в сущности не верил, что они говорят серьезно, и был убежден, что при самых подходящих обстоятельствах эти люди не посмели бы напасть на меня открыто; бросить же копье из-за угла, подкараулив меня около хижины, или пустить стрелу, — на это я их считал вполне способными. Худшим обстоятельством, мне казалось, было то, что они сами говорят об этом, так как это может подать подобную же мысль кому-нибудь из моих более близких соседей. Кто-нибудь может подумать: «Зачем ждать, чтобы люди Горимы убили Маклая и взяли его вещи. Я попробую сделать это, и вещи будут мои». Засыпая, я решил отправиться сам в Гориму, даже, пожалуй, и завтра, если буду чувствовать себя достаточно свежим.
Проспав хорошо всю ночь, я был разбужен до рассвета криком петухов в деревне; встав, я нашел, что чувствую себя в расположении идти в Гориму. Недопитая вчера бутылка холодного чаю и несколько кусков холодного таро, оставшегося от вечернего ужина, послужили мне завтраком. Я оставил большую часть своих вещей в буамбрамре и на всякий случай перевязал белой ниткой крест-накрест небольшой ранец с разными мелкими вещами. Забрав только одеяло и несколько кусков таро, я отправился в путь. Так как все это происходило в буамбрамре, то меня никто не видел, и вышел я из буамбрамры прямо к морю, не проходя через деревню. Хотя я и не знал дороги в Гориму, но надеялся добраться туда, идя берегом, что было бы, вероятно, немногим дальше, но зато таким образом я не мог бы миновать деревни, лежащей у моря. Один из жителей Богати, исправлявший что-то в своей вытащенной на берег пироге, спросил меня, куда я иду; я ответил: «К реке Киор», что не было неправдой, так как для того, чтобы дойти до Горимы, мне надо было перейти р. Киор.
Не стану вдаваться в описание пути. К 11 часам солнце стало печь весьма сильно. Пришлось перейти вброд р. Киор, где вода доходила мне до пояса, и еще другую, более мелкую. Снять башмаки я боялся, сомневаясь, можно ли будет надеть их снова, так как они могли быть промочены насквозь. Мелкие камни, сменявшие в некоторых местах песок на берегу, делали ходьбу босиком положительно невозможной. В одном месте я пошел по тропинке в лесу, полагая, что она проложена параллельно берегу, но тропинка так углублялась в лес, что мне пришлось свернуть на другую, а затем и на третью. Я уже думал, что заблудился, когда при следующем повороте я вдруг снова увидел море. Был уже третий час, и я решил отдохнуть в этом месте и съесть взятое с собою таро. Горима была недалеко, но мне не хотелось прийти туда ранее 5 часов. Я вспомнил одно обстоятельство, очень для меня неудобное, и которое я совершенно упустил из виду, именно, что диалект Горимы был мне абсолютно неизвестен и что там вряд ли найдутся люди, знающие диалект Бонгу. Возвращаться, однако же, было поздно, оставалось только рискнуть. Отдохнув, я пошел дальше.
Деревня Горима расположена на мыске, так что людям, ходившим или стоявшим в это время около берега, мое приближение заметно было еще издали. Вряд ли я попал бы в тот день в деревню, так как по берегу на значительном пространстве росли мангровы. К счастью для меня, на берегу лежала вытащенная пирога, и слышалось несколько голосов в лесу, почему я и решил подождать возвращения туземцев. Нелегко было бы описать выражение их удивления, когда они вернулись и увидели меня. Мне показалось, что они готовы были убежать, почему я поспешил сейчас же подойти к самому старому из трех.
— Вы люди из Горимы? — спросил я на диалекте Бонгу.
Туземец приподнял голову — жест, который я счел за утвердительный ответ. Я назвал себя и прибавил, что иду осмотреть Гориму и что мы поедем вместе.
Туземцы имели очень растерянный вид, но скоро оправились, и так как им, вероятно, и самим надо было домой, то они, по-видимому, были даже рады отделаться от меня так дешево. Я дал каждому из них по куску табаку, и мы отправились. Расстояние оказалось гораздо более далеким, чем я ожидал. Солнце было совсем низко, когда мы подъехали к деревне. Мою белую шляпу и такую же куртку жители заметили еще издали, почему многие собрались встретить меня, между тем как другие то выбегали к морю, то опять возвращались в деревню. Дав еще табаку и по одному гвоздю своим спутникам, я направился в деревню, сопровождаемый туземцами, встретившими меня у берега. Ни один из них, однако, не говорил на диалекте Бонгу, и я сомневаюсь, чтобы кто-либо даже достаточно понимал его. Пришлось поэтому прибегнуть к первобытному языку — жестам. Я положил руку на пустой желудок, затем указал пальцем на рот. Туземцы поняли, что я хочу есть, по крайней мере один из стариков сказал что-то, и я скоро увидел все приготовления к ужину. Затем, положив руку под щеку и наклонив голову, я проговорил: «Горима», что должно было означать, что я хочу спать. Меня опять-таки поняли, потому что сейчас же указали на буамбрамру. Я не мог объясняться, а то бы я первым делом постарался успокоить жителей, которых, кажется, в немалое смущение привел мой неожиданный приход. За себя я был очень рад, так как мог быть уверен, что не лягу голодным и проведу ночь не под открытым небом (на что я решаюсь только в самых крайних случаях, из опасения лихорадки). Я так проголодался, что с нетерпением ожидал появления табира с кушаньем и почти что не обратил внимания на приход человека, хорошо знавшего диалект Бонгу, С большим ожесточением принялся я за таро, которое мне подали туземцы, и полагаю, что это была самая большая порция, которую я когда-либо съел на Новой Гвинее.
Утолив голод, я припомнил главную причину, которая привела меня в Гориму; я подумал, что теперь как раз подходящее время поговорить с туземцами, имея под рукой человека, способного служить переводчиком. Я его скоро нашел и сказал, что желаю поговорить с людьми Горимы и узнать, что они мне могут сказать. Я предложил ему созвать сейчас же главных людей Горимы. Пока же я занялся устройством своего ночлега. У входа в буамбрамру собралась толпа людей, созванных моим переводчиком. Последний объявил мне, наконец, что все люди Горимы (т. е. тамо боро) в сборе. Обратившись к переводчику, я велел, чтобы в костер подбросили сухих щепок для более сильного освещения буамбрамры. Когда это было сделано, я сел на барум около костра, освещавшего лица присутствующих. Первые мои слова переводчику были:
— Абуи и Малу здесь или нет? — Перед тем, забыв эти имена, я должен был пересмотреть свою записную книжку, так как я записал их вчера вечером в полутемноте. Когда я назвал эти два имени, туземцы стали переглядываться между собою, и только через несколько секунд я получил ответ, что Абуи здесь.
— Позови Малу! — было мое распоряжение.
Кто-то побежал за ним. Когда Малу явился, я встал и указал Абуи и Малу два места около самого костра, как раз против меня. Они с видимым нежеланием подошли и сели на указанные места. Затем я обратился с короткой речью к переводчику, который переводил, по мере того как я говорил, т. е. почти слово в слово. Содержание речи было приблизительно следующее. Услышав вчера от людей Богати, что двое людей Горимы, Абуи и Малу, хотят меня убить, я пришел в Гориму, чтобы посмотреть на этих людей. (Когда я стал смотреть поочередно на обоих, они отворачивались каждый раз, как встречали мой взгляд.) Что это очень дурно, так как я ничего не сделал ни Абуи, ни Малу и никому из людей Горимы, что теперь, пройдя пешком от Богати до Горимы, я очень устал и хочу спать, что сейчас лягу и что если Абуи и Малу хотят убить меня, то пусть сделают это, пока я буду спать, так как завтра я уйду из Горимы. Договорив последние слова, я направился к барле и, взобравшись на нее, завернулся в одеяло. Мои слова произвели, кажется, значительный эффект. По крайней мере, засыпая, я слышал возгласы и разговоры, в которых мое имя было не раз повторяемо. Хотя я плохо спал и просыпался несколько раз, но это происходило не из страха перед туземцами, а, вероятно, по причине моего тяжеловесного ужина, чего я обычно избегаю.
На другое утро я был, разумеется, цел и невредим, и перед уходом из Горимы Абуи принес мне в дар свинью почтенных размеров и вместе с Малу непременно пожелал проводить меня не только до Богати, но и в таль Маклай. Этот эпизод, рассказанный и пересказанный из деревни в деревню, произвел значительное впечатление.
Июль. Экскурсия в деревню Телята. Моя шлюпка (дынга) была слишком мала для помещения провизии на несколько дней и разных вещей (стола, складного табурета, гамака и т. п.), необходимых для многодневной экскурсии. Кроме того, она была слишком плоской (низкой) и легко могла быть залита водой при большом волнении. Поэтому я нашел ее неудобной для экскурсии в Телята и решил воспользоваться одним из больших ванг Били-Били. Эти пироги, как я уже говорил, имеют довольно поместительную хижину на платформе, так что в одной из таких пирог я мог не только уместить все свои вещи, включая даже и висячую керосиновую лампу, но нашел место для стола и для моего небольшого кресла. В хижине же другой пироги поместился Сале со всеми кухонными принадлежностями. Каждым вангом управляло двое людей: один — парусом, другой — рулем. Один ванг принадлежал моему старому приятелю Каину, другой — Кисему, очень энергичному, но, к сожалению, чересчур болтливому жителю Били-Били. Люди этой деревни из поколения в поколение ежегодно по нескольку раз совершают путешествия вдоль северо-восточного берега до деревни Телята.
Они изучили эту местность, господствующие ветры, периодичность их, течения, удобные пристани вдоль берега и т. д. Поэтому было вполне естественно, что я предоставил своим спутникам всю мореходную часть экспедиции, уговорившись только, что мы будем останавливаться в каждой деревне столько времени, сколько это будет для меня необходимо. Каин и Кисем объяснили мне, что все переходы из деревни в деревню вдоль берега мы будем делать по вечерам или по ночам, пользуясь береговым ветром, который дует равномерно каждую ночь, начинаясь через час или два по заходе солнца и продолжаясь до рассвета. В продолжение дня нам невозможно было бы бороться с противным зюдвестом, который иногда бывает очень свеж.
Итак, часов в 8 вечера туземцы Бонгу помогли людям Били-Били спихнуть оба тяжеловесных ванга в море. Ветер был незначительный, так что мы подвигались вперед очень медленно. Так как я уже знаком с этим берегом, то лег спать, вполне полагаясь на опытность Каина и Гассана. В некотором отдалении двигалась за нами и другая пирога с Кисемом, его сыном, и Сале в качестве пассажира.
6 июля, на рассвете, мы проходили мимо мыса Риньи, который туземцы называют «Тевалиб». Мыс этот состоит из поднятого кораллового рифа, возвышающегося футов на 15–20 над ур. м., в виде черноватой, изъеденной прибоем стены, над которой в свою очередь поднимается первобытный лес. Пройдя мыс Тевалиб, мы очутились у песчаного берега (улеу), за деревьями которого виднелись хижины покинутой деревни Бай. Немного спустя мы прошли отмель, около которой вода сильно волновалась и пенилась.
В то время как мы шли вдоль берега, несколько туземцев бежало по берегу, стараясь рассмотреть, кто могли быть эти странно одетые люди (я и Сале), плывущие на вангах Били-Били. Пройдя устье р. Говар[106], мы должны были вытащить свои ванги на берег, так как наступил штиль; при этом нам немало помогла система блоков, данных мне П. П. Новосильским еще в 1871 г., за которые я ему не раз был очень благодарен. Мои спутники скоро выучились их применению и обращались с ними очень ловко. С этого места открывался красивый вид на горы. Но мне не пришлось долго любоваться ими, так как большие белые облака закрыли горы и долины. Здесь на берегу когда-то существовала деревня, но вследствие нападения неприятелей была перенесена в лес на довольно далекое расстояние от берега по правую сторону р. Говар.
Имея перед собою целый день, я пошел с Каином и Гассаном в деревню Бай. Мы шли не спеша все по лесу, представлявшему для меня большой интерес своей разнообразной растительностью, и только после полудня пришли в деревню. Около некоторых хижин, — все они были совершенно новые, — были посажены бананы и много табаку; кокосовых пальм, за исключением одной, не было вовсе. Это обстоятельство, как мне объяснили, произошло оттого, что туземцы боялись, чтобы пальмы не послужили, когда они подрастут, приманкой для неприятелей. Дарем с особенными украшениями была единственная хижина, отличавшаяся от других своей постройкой. Мы приютились в ней, скрываясь от солнечных лучей. Тут же нам подали угощение, состоявшее из таро и вареной курицы.
Записывая диалект деревни Бай, я нашел, что туземцы здесь не имеют названия для Piper methysticum. Они не только не употребляют напиток, приготовляемый из него, но даже отказываются от кеу, когда бывают в деревнях, где он составляет главный аксессуар всякого пиршества.
Нарисовав дарем, я собрался в обратный путь. При прощании туземцы поднесли мне живую курицу и таро. Ночевал на ванге, вытащенном на берег.
7 июля. Разбудил людей очень рано. Мы продолжали путь в темноте. В одном месте Каин указал мне, что тут находилась деревня Миндир, но что она была сожжена и покинута жителями, которые переселились в другое место. Когда стало светать, мы плыли вдоль берега, окаймленного скалами (поднятый коралловый риф). Здесь на значительном протяжении не встречается ни одного улеу, почему нет и береговых деревень. Когда совсем рассвело, мы подъехали к деревне Мегу, где, по словам Каина, почти все жители вымерли. Несколько рак-рак (пироги, сделанные из невыдолбленных стволов) виднелось у берега. Так как дул довольно умеренный зюд-ост, то мы благодаря очертаниям берега могли продолжать наш путь в бейдевинд. Пройдя деревню Лемчуг и устье Сарекак, мы обогнули мысок, за которым показался другой, густо поросший кокосовыми пальмами. Это был Бан (деревня Сингор) — одно из значительнейших селений этого берега.
Мы подошли к его улеу около 5 часов пополудни. Большая толпа туземцев ожидала нас у берега и, подхватив наши ванги, вытащила их высоко на берег. Я отправился в деревню. Она оказалась сравнительно очень большой. Тип людей ничем особенно не отличался от типа моих соседей. Костюмы мужчин были совершенно такие же, как у людей Били-Били; замужние женщины закрывали груди, надевая на шею мешок, спускавшийся до пояса. У девушек одежда походила на легкий костюм девочек Били-Били, т. е. кроме небольших кисточек из бахромы спереди и сзади, несколько рядов полукругом спускающихся нитей нанизанных раковин и собачьих зубов висело по сторонам ягодиц. Вообще здешние туземцы в избытке носили украшения из раковин. Здесь также главное место выделки больших украшений, носимых туземцами на груди, так называемых «сюаль-боро», очень ценимых повсюду на берегу Маклая. Мне хотелось приобрести один экземпляр этого украшения, почему я предложил большой нож и множество различных безделушек в обмен за сюаль-боро. Но это оказалось недостаточно; прибавив еще нож, я, наконец, получил желаемое. Повсюду валялись большие раковины (Tridacna), из которых вытачиваются сюаль-боро; тут же лежали большие точильные камни, на которых вытачиваются эти украшения. К сожалению, я не видел, каким образом они изготовляются. Множество орехов кенгара лежало в шелухе на циновках. Орехи выставляются таким образом на 2 или на 3 дня на солнце, после чего мясистая оболочка их делается очень мягкой, и орехи легко от нее отделяются.
Хотя деревня была большая, однако ни площадка ее, ни хижины не содержались в чистоте. Туземцы также не показались мне особенно чистоплотными. Эту ночь я предпочел спать в гамаке, подвешенном мною между деревьями, близ берега моря. Стол, кресло, складной табурет, висящая над столом лампа, а затем появившийся ужин и чай — все это было рядом сюрпризов, и изумление жителей деревни Сингор, видевших белого и его обстановку в первый раз в жизни, все более увеличивалось. К моему удовольствию, удивление их выражалось не шумно, а ограничивалось (я нарочно внимательно наблюдал за выражением их лица) вкладыванием одного или двух пальцев в рот и прищелкиванием языком, причем некоторые прикладывали себе к носу сжатый кулак левой руки. Одним словом, непосвященному европейцу, увидавшему эти странные жесты туземцев, никак не пришло бы на ум, что они служат выражением удивления. Особенно лампа, свет которой я мог усиливать и уменьшать по желанию, привела всех в неописуемый восторг. Также немало удивляло их, что Маклай запивает «инги» горячей водой.
Толпа не расходилась до тех пор, пока Сале не убрал все со стола и я, сделав записи в дневнике, не снял башмаков и гамашей и не влез в койку. Тогда явился Сале и объявил через посредство Каина, что сейчас потушит лампу. Это, наконец, заставило туземцев удалиться. Они увели Каина с собою, надеясь, вероятно, узнать от него многое о виденном около моего бивуака и оставшемся для них загадочным.
8 июля. Песчаный берег около Сингора состоял собственно из крупного гравия или мелкого булыжника, так что всю ночь море разбивалось с большой силой о каменный вал, и шум от набегавших и удалявшихся волн был очень силен и не раз будил меня в течение ночи. Я проснулся, когда было уже совершенно светло, и посмотрел на часы: было уже половина седьмого. Посмотрел кругом — ни один из моих людей еще не встал; все они спали крепким сном. Не желая долго ждать завтрака, я решил их всех поднять зараз, выстрелив из двустволки, привезенной мною для охоты. Трудно описать, как быстро вскочили мои люди и принялись уверять меня, что оглохли на одно ухо. Я их успокоил и сказал, чтобы они скорее помогли Сале разводить огонь и готовить завтрак для всех. Мой выстрел привлек жителей деревни, которые прибежали осведомиться, что случилось. Каин воспользовался этим случаем и набросился на бедных жителей Сингора. «Как это, — завопил он, — Маклай тамо боро боро, каарам тамо, тамо русс приехал сам в Сингор, и эти люди не принесли еще ни свиньи, ни поросенка, ни даже аяна».
Каин так расходился, что угнал всех обратно в деревню. По прошествии пяти минут стали появляться из деревни туземцы; кто с аяном, кто с курицей, кто с поросенком, с бананами и мешками орехов кенгара. Двое пришли сказать, что так как свиньи уже разбрелись, то их можно будет ловить только вечером, когда они вернутся в деревню. Пока длились все эти разговоры, две из принесенных куриц выпорхнули из рук державших их, так что на берегу состоялась в высшей степени курьезная погоня туземцев за курами. Она окончилась тем, что куры исчезли в лесу и были принесены только через несколько времени, обе пронзенные стрелами. Порода кур здесь очень маленькая, и они сохранили все привычки полудикой птицы.
После завтрака я пошел смотреть деревню и нашел, что за нею на юго-восток море образует довольно значительную, хотя мелкую, бухточку с многочисленными коралловыми рифами. На противоположном мыске расположена другая большая деревня — Телята — цель моей экскурсии. Этим обстоятельством я был неприятно удивлен, так как знал, что никакими обещаниями или подарками мне не удастся уговорить моих спутников отправиться далее этой местности; а путешествие в туземных пирогах, с туземными переводчиками, благодаря которым меня всюду ожидал хороший прием, пришлось мне очень по нраву. При помощи бинокля я мог рассмотреть несколько деревень, расположенных вокруг бухты.
Я решил переправиться в деревню Телята, что можно было сделать довольно удобно даже при помощи весел, так как в этот день на море господствовал почти что мертвый штиль.
Мои люди из Били-Били были недовольны мною за то, что я оставил людям Сингора большую свинью, обещанную мне ими; они успокоились, когда я заявил, что они могут взять ее от моего имени при следующем посещении этой деревни, съесть ее на месте или отвезти в Били-Били. Сале как магометанин, не евший свинины, отнесся к этому подарку совершенно равнодушно. Когда мы подъезжали к одной из деревень в бухте, нам навстречу выехало несколько пирог, предполагая в нас людей с о. Тиары (архипелаг Довольных людей). С этим островом здешние жители имеют постоянные сношения, проводя на нем иногда по нескольку месяцев, и жители Тиары также приезжают сюда в гости на долгое время. У следующей деревни — Аврай — мы зашли за риф, тянущийся вплоть до самой деревни Телята. Когда ванги наши были вытащены на берег, я приказал выбрать из них все мои вещи, так как полагал, что, живя в деревне, мне удобнее будет видеть ежедневную жизнь туземцев и иметь их под рукой для постоянного наблюдения. Дарем, или буамбрамра, для такой обширной деревни, как Телята, представлял собою довольно небольшое здание и был, как я узнал к великому моему удивлению, единственным даремом во всей деревне. Для меня одного, впрочем, дарем этот был достаточно велик.
Пока переносили мои вещи, я увидел среди обступивших меня людей первого совершенно седого папуаса, т. е. такого, у которого все волосы до одного были белые. У половины мужчин, которых я знал, волосы были черные с проседью; у некоторых было немало седых волос, но у этого человека все волосы на голове и борода были совершенно белые. Туземцы здесь обыкновенно скрывают седину, постоянно напитывая и смазывая себе волосы черной краской (куму) и выдергивая седые волосы из усов и бороды; этот же старик, напротив, как бы гордился своей белой головой и не только не мазал ее никакой краской, но даже содержал ее очень чисто. Я сперва подумал, что имею дело со случаем альбинизма, но, осмотрев старика поближе, нашел, что он сед от старости, а не от чего-либо другого. Через Каина я спросил его, видел ли он когда-либо белого человека и слыхал ли что о белых людях. Он без запинок ответил «нет» на первый вопрос; на второй же сказал, что люди ему говорили о Маклае, который живет в Бонгу и Били-Били.
Убедив старика, что я и есть именно тот Маклай, о котором он слышал, я подарил ему нож, к большой зависти остальных, и дал ему большую порцию табаку. Данный старику нож произвел странное действие: всем туземцам вдруг захотелось иметь по ножу, но так как у них не было ни совершенно седых волос, ни каких-либо других характерных особенностей, то я объявил первому из просящих, что дам ему нож в обмен за «буль-ра» (украшение из свиных клыков, которое туземцы носят на груди), другому обещал дать нож за большой табир, третьему — за каменный топор и т. д. Все эти вещи явились в продолжение дня, и каждый получил в обмен за них хороший стальной нож. Как и в Сингоре, туземцы здесь повсеместно сушили на солнце орехи кенгара; свежие орехи, собираемые в это время года, очень вкусны и очень богаты маслом.
Отдохнув немного, я прошелся по деревне, за которой сейчас же начинаются большие плантации, чего мне до сих пор не приходилось видеть в деревнях, расположенных вокруг бухты Астролябии. На этих плантациях росло особенно много бананов, но так как плодов на них еще не было, то я и не мог видеть, сколько разновидностей разводят здешние туземцы. Бананы здесь едят недозрелыми и варят их, как овощи, так что и впоследствии мне не удалось познакомиться с разновидностями этих плодов.
Пройдя через плантацию, я вышел к морю и очутился перед обширной открытой бухтой, тянувшейся на восток. Благодаря биноклю мне удалось рассмотреть хижины трех деревень; но здешние туземцы не находятся в сношении с тамошними, так что я даже не мог добиться названий тех деревень.
Вечером я имел долгое совещание с Каином, уговаривая его отправиться далее; обещал ему один и даже два топора, ножей, красного коленкора, бус, одним словом несметные для него богатства, но он стоял на своем: «нет», «нельзя», «убьют», «всех убьют», «съедят» и т. д. Вот все, чего я мог от него добиться. Я указывал на мой револьвер. Он хотя и попросил спрятать его, но все-таки продолжал говорить: «убьют», «Маклай один, а людей там много». Часа два бился я с ним таким образом и все-таки не уломал его. В досаде на его возражения я повернулся к нему спиной и заснул, вероятно, прежде чем он договорил.
9 июля. Отправился по широкой, хорошей тропинке, пролегавшей в лесу, в деревню Аврай. Повсюду поднимались высокие стволы кенгара; их здесь так много, что, полагаю, они были насажены предками теперешних жителей. Орехами кенгара туземцы ведут меновую торговлю с соседними деревнями. На рифе, который можно было видеть с дороги, множество женщин собирало морских животных, пользуясь отливом. Деревня Аврай представляет собою живописный уголок в лесу; только весьма немногие мелкие деревья были вырублены и заменены кокосовыми и арековыми пальмами, бананами, кустами разных видов Coleus и Hibiscus, a большие все оставлены, так что везде на площадках, вокруг которых живописно ютились небольшие хижины были тень и прохлада. Дарема не оказалось, почему я и пришедшие со мною люди из Били-Били и Телята расположились на циновках, на площадках. Я положительно отказался от всякой еды, кроме кокосовой воды и свежих орехов кенгара. Однако туземцы непременно хотели поднести мне что-нибудь, хотя бы курицу. Чтобы поймать ее, туземцы устроили род ловушки, состоявшей из петли, которая была затянута, как только одна из кур неосторожно ступила в круг, где было набросано несколько кусочков кокосового ореха.
Я видел в деревне Аврай несколько очень больших табиров замечательно правильной овальной формы. Трудно себе представить, каким образом достигается такая правильность, так как известно, что туземцы не имеют других инструментов, кроме осколков кремня и разных раковин. Это можно объяснить единственно тем, что на выделку каждой вещи туземцы посвящают очень много времени, уже не упоминая о том, что они обладают очень верным глазом и значительным вкусом. Один из туземцев принес в деревню два вновь заостренных копья. Я пожелал узнать при посредстве Каина, каким образом они были сделаны. Было видно, что работа сделана только наполовину; недоставало окончательной полировки и окраски. Каин объяснил мне, что концы этих копий были сломаны при охоте на диких свиней и, чтобы заострить их вновь, их отточили на кораллах. Это обстоятельство меня очень заинтересовало, и я попросил, чтобы один из мальчиков сбегал на риф и принес образчик коралла, употребляемого при этой операции. Мне принесли весьма красивый экземпляр из рода Meandrina, величиной с человеческую голову. На довольно ровной и вместе с тем шероховатой поверхности его при некоторой силе и ловкости было нетрудно заострить любую палку. На рифе, кроме того, вода и слизистая оболочка коралла помогают процессу стачивания. Каин сказал мне, что везде на берегу при выделке деревянного оружия употребляется этот метод полировки.
Вернувшись в деревню Телята, я нарисовал группу хижин, которые напоминали собою скорее хижины горных деревень, чем хижины на берегу и на островах. Пока я рисовал, Сале прибил к одному из деревьев медный ярлык с моей монограммой.
11 июля. Так как не стоило возобновлять разговор с Каином о поездке дальше вдоль берега, я собрался в обратный путь рано утром. Для возвращения зюд-ост был нам почти попутным ветром. По пути я хотел посетить еще деревню Рай-Мана и взобраться на гору Сируй. Когда мы подошли к берегу около деревни Биби, берег оказался совершенно пустынным, и в деревне никого не было. Каин объяснил, что все жители ушли в горы: «унан барата буль уяр» (жечь унан и есть свиней).
Мои спутники из Били-Били почему-то трусили перед горными жителями и в качестве приморцев полагали, что карабкаться по горам — не их дело. Я знал положение деревни Рай только приблизительно: с пироги я мог с помощью бинокля разглядеть в горах группы кокосовых пальм, но все-таки отправился туда в сопровождении моего слуги Сале. Мне без особенного труда удалось добраться до деревни Рай-Мана, где горные жители приняли меня как нельзя лучше; они, по слухам, уже знали мое имя и сейчас же догадались, кто это к ним пришел. Я пожалел, что мы не понимали друг друга, но знаками объяснил, что хочу идти на высокий холм, который находился за их деревней и который они называют Сируй-Мана. Проводники нашлись сейчас же, и мы отправились немедленно. С вершины Сируй-Мана (около 1200 футов) открывалась красивая панорама берега Маклая на значительном протяжении. Вернувшись в деревню, я снова был встречен жителями крайне любезно и предупредительно. Я провел ночь в одной из хижин и вернулся на другое утро довольно рано к месту, где оставил ванги. Выкупавшись в море, мы пустились в обратный путь и еще засветло подошли к улеу Бонгу. Встретивший меня Мебли и туземцы Бонгу сообщили мне о смерти Вангума во время моего отсутствия: это был туземец из Горенду, человек лет 25. Вангум был крепкий и здоровый мужчина, как вдруг заболел и дня через два-три внезапно умер. Мебли сказал мне, что деревни Бонгу и Горенду находились в сильной тревоге вследствие этой смерти. Отец, дядя и родственники покойного, которых было немало в обеих деревнях, усиленно уговаривали все мужское население Бонгу и Горенду безотлагательно отправиться в поход на жителей одной из горных деревень. Это обстоятельство было очень серьезно, так что я, услышав о происшедшем, решил не допустить этой экспедиции в горы. Я воздержался, однако, от всяких немедленных заявлений, желая сперва обстоятельно узнать положение дела.
15 июля. Я узнал вчера вечером об одном благоприятном для моих планов обстоятельстве, именно, что жители Бонгу и Горенду никак не могут сговориться насчет того, в которой деревне живет предполагаемый недруг Вангума или его отец, приготовивший оним, который причинил смерть молодому человеку. Это разногласие, однако, они надеялись устранить весьма простым способом, а именно — напасть сперва на одну, а затем и на другую деревню.
Явившаяся ко мне депутация из Бонгу для того, чтобы просить меня быть их союзником в случае войны, получила от меня положительный отказ. Когда некоторые из них продолжали уговаривать меня помочь им, я сказал с очень серьезным видом и возвысив немного голос: «Маклай баллал кере» (Маклай говорил довольно). После этого депутация удалилась. Затем я отправился в Горенду послушать, что мне скажут там. Людей там я встретил немного; все говорили о предстоящей войне с мана тамо. Я вошел в хижину Вангума; в углу, около барлы, возвышался гамбор; недалеко от него горел костер, около которого на земле, вся измазанная сажей, почти без всякой одежды, сидела молодая вдова умершего. Так как в хижине никого, кроме меня, не было, то она улыбнулась мне далеко не печально. Ей, видимо, надоела роль неутешной вдовы. Я узнал, что она должна перейти к брату умершего. Не достигнув задуманной цели моего посещения, я отправился домой и дорогой увидел отца Вангума, раскладывавшего огонь на берегу под совершенно новой пирогой своего умершего сына, которую последний окончил всего за несколько дней до своей смерти. Пирога была порублена во многих местах; теперь он хотел покончить с нею совершенно, т. е. сжечь ее.
Зная, что я отговариваю людей от войны, затевавшейся по поводу смерти его сына, старик еле поглядел на меня.
Прошло несколько дней. Экспедиция в горы не состоялась. Впрочем, я не приписываю этого моему вмешательству, а просто обе деревни не сошлись на этот раз во мнениях.
23 июля. Около трех часов я сидел на веранде за какою-то письменной работой; вдруг является Сале, весь запыхавшийся, и говорит мне, что слышал от людей Бонгу о внезапной смерти младшего брата Вангума. Опасаясь за последствия смерти обоих братьев в течение такого короткого времени, я сейчас же послал Мебли в деревню узнать, правда ли это. Когда он вернулся, то рассказал мне следующее. Утром Туй, 9- или 10-летний мальчик, брат Вангума, отправился с отцом и другими жителями Горенду ловить рыбу к р. Габенеу. Там его ужалила в палец руки небольшая змея; яд подействовал так сильно, что перепуганный отец, схватив ребенка на руки и бросившись почти бегом в обратный путь, принес его в деревню уже умирающим. Собрав в одну минуту все необходимое, т. е. ланцет, нашатырный спирт, марганцовокислый калий и несколько бинтов, я поспешил в Горенду. Нога у меня сильно болела, почему я очень обрадовался возможности воспользоваться пирогой, отправлявшейся в порт Константина, так как она могла довезти меня в Горенду. Около Урур-И мы узнали от бежавших из Горенду, сильно возбужденных Иона и Намуя, что бедняга Туй только что умер и что надо идти жечь хижины ямбау тамо. Послышалось несколько ударов барума, возвещавших смерть мальчика. Когда я вышел на берег, меня обогнало несколько бегущих и уже воющих женщин. В деревне волнение было сильное; страшно возбужденные мужчины, почему-то все вооруженные, воющие и кричащие женщины сильно изменяли обыкновенно спокойную и тихую обстановку деревни. Везде только и было слышно, что «оним», «кумана», «ямбау тамо барата». Эта вторая смерть, случившаяся в той же деревне и даже в той же самой семье, где и первая, с промежутком в каких-нибудь две недели, произвела среди жителей обеих деревень настоящий пароксизм горя, жажды мести и страха. Даже самые спокойные, которые раньше молчали, теперь стали с жаром утверждать, что жители которой-нибудь горной деревни приготовили оним, почему Вангум и Туй умерли один за другим, и что если этому не положить конец немедленным походом в горы, то все жители Горенду перемрут и т. п. Война теперь казалась уже неизбежной. О ней толковали и старики и дети; всего же больше кричали бабы; молодежь приготовляла и приводила в порядок оружие.
На меня в деревне поглядывали искоса, зная, что я против войны; некоторые смотрели совсем враждебно, точно я был виноват в случившейся беде. Один старик Туй был, как и всегда, дружелюбен со мной и только серьезно покачивал головой. Мне не оставалось ничего больше делать в Горенду; люди были слишком возбуждены для того, чтобы выслушать меня спокойно. Пользуясь лунным светом, я пошел в Бонгу наикратчайшей тропинкой. Здесь тревога хотя была и меньше, но тем не менее довольно значительная. Саул старался уговорить меня согласиться с ним в необходимости похода на мана тамо. Аргументы его были следующие: последние события — результат онима; затем, если они (т. е. тамо Бонгу) не побьют мана тамо, то будут побиты последними. Вернувшись домой, я даже и у себя не мог избавиться от разговоров об ониме; Сале сказал мне, что на о. Яве оним называется «доа», и верил в значение его. Мебли сообщил, что на о-вах Пелау «олай» — то же самое, что оним, и также не сомневался в том, что от действия онима люди могут умирать.
24 июля. Утром отправился в Горенду. Туземцы имели более спокойный вид, чем накануне, но продолжали быть очень мрачными; даже Туй был сегодня в пасмурном настроении. «Горенду басса» (конец Горенду), — сказал Туй, протягивая мне руку. Я пожелал, чтобы Туй объяснил мне, в чем именно заключается оним. Туй сказал, что мана тамо как-нибудь достали таро или ямса, недоеденного людьми Горенду, и, изрезав его на кусочки, заговорили и сожгли. Мы направились к хижине, где лежал покойник и где толпились мужчины и женщины. Неожиданно раздался резкий свист «ая»; женщины и дети переполошились и без оглядки пустились бежать в лес. Я также не понимал, что будет, и ожидал целую процессию; но вместо нее появился только один человек, который непрестанно дул в мунки-ай; свистя, прошел мимо входа в хижину, где лежало тело мертвого Туя, заглянул в нее и снова ушел. Что это значило, я так и не понял. Когда замолк свист «ая», женщины вернулись и вынесли покойника из хижины. Старик Бугай натер ему лоб белой краской (известью), провел той же краской линию вдоль носа; остальные части его тела были уже вымазаны куму (черной краской). В ушах у него были вдеты серьги, а на шее висело «губо-губо». Бугай прибавил к этому праздничному убранству еще новый гребень с белым петушиным пером, который он воткнул ему в волосы. Затем тело стали обертывать в губ; но это было только на время, так как собственно «гамбор росар» (увязать корзину) должны были не здесь, а в Бонгу. Сагам, дядя покойного, взял труп на плечи, подложил губ под тело и направился скорым шагом по тропинке, ведущей в Бонгу. За ним последовала вся толпа.
Я с несколькими туземцами пошел другой дорогой, а не той, по которой отправилась похоронная процессия, и прибыл на одну из площадок Бонгу почти одновременно с нею. Здесь из принесенных губ был приготовлен гамбор, в который опустили покойника, причем ни одно из украшений, надетых на него, не было снято; голову покойника закрыли мешком. Пока мужчины, ближайшие родственники умершего, увязывали гамбор, несколько женщин, вымазанных черной краской, вопили, приплясывая, причем они очень вертели задом и гладили гамбор руками. Больше всех их отличалась Каллоль, мать умершего: она то скребла землю ногами, то, держась за гамбор, немилосердно выла, приплясывая и делая положительно неприличные телодвижения.
Наконец, гамбор был отнесен в хижину Сагама. Мне, как и другим, был предложен оним для того, чтобы и с нами не случилось какого-нибудь несчастья. Я согласился, желая увидеть, в чем состоит оним. Ион, один из присутствовавших, выплюнул свой оним мне и другим на ладонь, после чего мы все гурьбой отправились к морю мыть руки. Старик Туй уговаривал меня приготовить «оним Маклай», чтобы сильное землетрясение разрушило все деревни в горах, но не делало бы ничего прибрежным жителям.
Вечером этого же дня я услыхал звуки барума в Горенду, и вернувшийся оттуда через несколько времени Мебли, который зачем-то ходил в деревню, разбудил меня и таинственно сообщил, что война с мана тамо (вероятно, с Теньгум-Мана) решена. Но было положено ничего не говорить о ней Маклаю.
Войны здесь хотя и не очень кровопролитны (убитых бывает немного), но зато бывают очень продолжительны, переходя часто в форму частных вендетт, которые поддерживают постоянное брожение между общинами и очень затягивают заключение между ними мира. Во время войны все сообщения между многими деревнями прекращаются[107].
Преобладающая мысль каждого: желание убить или страх быть убитым. Мне было ясно, что на этот раз мне не следовало, сложа руки, смотреть на положение дел в деревне Бонгу, находившейся всего в 5 минутах ходьбы от моего дома. При этом молчание с моей стороны при моей постоянной оппозиции войнам, когда только несколько дней тому назад я восстал против похода после смерти старшего брата Туя, было бы странным, нелогичным поступком. Мне не следовало уступать и на этот раз, чтобы не быть принужденным уступить впоследствии. Мне необходимо было оставить в стороне мою антипатию к вмешательству в чужие дела. Я решил запретить войну. На сильный эффект следует действовать еще более сильным, и сперва необходимо разрознить единодушную жажду мести. Следовало поселить между туземцами разногласие и тем способствовать охлаждению первого пыла.
25 июля. Я долго не спал, а затем часто просыпался, обдумывая план моих будущих действий. Заснул я только к утру; проснувшись и перебрав вчерашние размышления, я решил избрать план действий, который, по моему мнению, должен был дать желаемые результаты и который, как оказалось, подействовал даже еще сильнее, чем я ожидал. Главное, не надо было торопиться. Поэтому, несмотря на мое нетерпение, я выждал обычный час (перед заходом солнца), чтобы отправиться в Бонгу. Как я и ожидал, в деревне всюду шли толки и рассуждения о случившемся. Заметив, что туземцам очень хочется знать, что я думаю, я сказал, что и Вангум и Туй были молоды и здоровы и что старик-отец остается теперь один, но что все-таки Маклай скажет то же, что говорил и после смерти Вангума, т. е. — войне не быть. Весть о словах Маклая, что войны не должно быть, когда все готовятся к ней, мигом облетела всю деревню. Собралась большая толпа, но в буабрамру, где я сидел, вошли только одни старики. Каждый из них старался убедить меня, что война необходима. Рассуждать о неосновательности теории онима было бы невозможно ввиду ограниченности моего знания языка туземцев — это, во-первых; во-вторых, я только даром потратил бы время, так как мне все равно не удалось бы никого убедить; в-третьих, это было бы большим промахом, так как каждый стал бы перетолковывать мои слова на свой лад. Тем не менее я выслушал очень многих. Когда последний кончил говорить, я встал, собираясь идти, и обыкновенным моим голосом, представлявшим сильный контраст с возбужденной речью туземцев, повторил: «Маклай говорит — войны не будет, а если вы отправитесь в поход в горы, с вами со всеми, с людьми Горенду и Бонгу, случится несчастье». Наступило торжественное молчание; затем посыпались вопросы: «Что случится?», «Что будет?», «Что Маклай сделает?» и т. п. Оставляя моих собеседников в недоумении и предоставляя их воображению найти объяснение моей угрозы, я ответил кратко: «Сами увидите, если пойдете». Отправляясь домой и медленно проходя между группами туземцев, я мог убедиться, что воображение их уже работает: каждый старался угадать, какую именно беду мог пророчить Маклай.
Не успел я дойти до ворот моей усадьбы, как один из стариков нагнал меня и, запыхавшись от ходьбы, едва мог проговорить: «Маклай, если тамо Бонгу отправятся в горы, не случится ли тангрин?» (землетрясение). Этот вопрос и взволнованный вид старика показали мне, что слова, произнесенные мною в Бонгу, произвели значительный эффект.
«Маклай не говорил, что будет землетрясение», — возразил я. — «Нет, но Маклай сказал, что если мы пойдем в горы, случится большая беда, а тангрин — большое, большое несчастье. Это страшное несчастье. Люди Бонгу, Гумбу, Горенду, Богати, все, все боятся тангрина. Скажи, случится тангрин?» — повторил он просительным тоном. «Может быть», — был мой ответ. Мой приятель быстро пустился в обратный путь, но был почти сейчас же остановлен двумя подходившими к нам туземцами, так что я мог расслышать слова старика, сказанные скороговоркой: «Я ведь говорил, тангрин будет, если пойдем. Я говорил».
Все трое почти бегом направились в деревню.
Следующие затем дни я не ходил в Бонгу, предоставляя воображению туземцев разгадывать загадку и полагаясь на пословицу «У страха глаза велики». Теперь я был уверен, что они сильно призадумаются, и военный пыл их, таким образом, начнет мало-помалу остывать, а главное, что теперь в деревнях господствует разноголосица. Я нарочно не осведомлялся о решении моих соседей, они тоже молчали, но приготовления к войне прекратились. Недели через две ко мне пришел мой старый приятель Туй и подтвердил доходивший до меня не раз уже слух, что он и все жители Горенду хотят покинуть свою деревню, хотят выселиться.
— Что так? — с удивлением спросил я.
— Да мы все боимся жить там. Останемся в Горенду, все умрем один за другим. Двое уже умерли от оним мана тамо, так и другие умрут. Не только люди умирают, но и кокосовые пальмы больны. Листья у них стали красные, и они все умрут. Мана тамо зарыли в Горенду оним — вот и кокосовые пальмы умирают. Хотели мы побить этих мана тамо, да нельзя, Маклай не хочет, говорит: случится беда. Люди Бонгу трусят, боятся тангрин. Случится тангрин — все деревни кругом скажут: «Люди Бонгу виноваты; Маклай говорил, будет беда, если Бонгу пойдет в горы…» Все деревни пойдут войной на Бонгу. Вот люди Бонгу и боятся. А в Горенду людей слишком мало, чтобы идти воевать с мана тамо одним. Вот мы и хотим разойтись в разные стороны, — закончил Туй уже совсем унылым голосом и стал перечислять деревни, в которых жители Горенду предполагали расселиться[108]. Кто хотел отправиться в Гориму, кто в Ямбомбу, кто в Митебог; только один или двое думают остаться в Бонгу. Так как расселение это начнется через несколько месяцев, после сбора посаженного уже таро, то я не знаю, чем это кончится[109].
Август. Новый дом, начатый еще в июне, был окончен в первых числах августа. Размерами он совершенно походит на тот, в котором я живу. Думаю, что, вероятно, не буду нуждаться в нем, если только ожидаемая мною шхуна придет ранее конца года; если же нет, то мне придется переселиться в него, потому что крыша моего настоящего дома навряд ли выдержит более 18 месяцев: некоторые столбы и балки сильно изъедены белыми муравьями, так что я ежедневно опасаюсь, как бы они не забрались и в ящики с книгами или бельем. Углядеть за ними очень трудно, так как белые муравьи устраивают крытые ходы от одного предмета к другому, как, напр., от ящика к ящику. Осматривать же ящики каждый день — такая возня, что, действительно, в этом случае игра не стоит свеч. В моем новом доме все столбы и балки сделаны из такого леса, который белые муравьи не трогают. Когда его строили, я нарочно не дозволял брать других видов дерева, кроме вышеупомянутых. Одно из них было темного цвета, другое — очень белое и твердое, носит здесь название «энглам». Постройка отличалась прочностью.
Я имел обыкновение часу в шестом вечера отправляться к своим соседям в деревню Бонгу. Сегодня я отправился, зная, что увижу там также и жителей Били-Били и Богати, которые должны были прибыть туда. Придя в деревню, я вошел в буамбрамру, где происходил громкий оживленный разговор, который оборвался при моем появлении. Очевидно, туземцы говорили обо мне или о чем-нибудь таком, что им хотелось скрыть от меня. Заходящее солнце красноватыми лучами освещало внутренность буамбрамры и лица жителей Бонгу, Горенду, Били-Били и Богати. Было целое сборище. Я сел. Все молчали. Было очевидно, что я помешал их совещанию. Наконец, мой старый приятель Саул, которому я всегда доверял более других, позволял иногда сидеть на своей веранде и частенько вступал в разговоры о разных трансцендентальных сюжетах, подошел ко мне. Положив руку мне на плечо (что было не простой фамильярностью, которой я не имею обыкновения допускать в моих сношениях с туземцами, а скорее выражением дружбы и просьбы), он спросил меня заискивающим голосом и заглядывая мне в глаза: «Маклай, скажи, можешь ты умереть? Быть мертвым, как люди Бонгу, Богати, Били-Били?»
Вопрос удивил меня своей неожиданностью и торжественным, хотя и просительным тоном. Выражение физиономий окружающих показало мне, что не один только Саул спрашивает, а что все ожидают моего ответа. Мне подумалось, что, вероятно, об этом-то туземцы и разговаривали перед моим приходом, и я понял, почему мое появление прекратило их разговор. На простой вопрос надо было дать простой ответ, но его следовало прежде обдумать. Туземцы знают, убеждены, что Маклай не скажет неправды; их пословица «Баллал Маклай худи» (слово Маклая одно) не должна быть изменена и на этот раз. Поэтому сказать «нет» — нельзя, тем более что, пожалуй, завтра или через несколько дней какая-нибудь случайность может показать туземцам, что Маклай сказал неправду. Скажи я «да», я поколеблю сам значительно свою репутацию, которая особенно важна для меня именно теперь, через несколько дней после запрещения войны. Эти соображения промелькнули гораздо скорее, нежели я пишу эти строки. Чтобы иметь время обдумать ответ, я встал и прошелся вдоль буамбрамры, смотря вверх, как бы ища чего-то (собственно, я искал ответа). Косые лучи солнца освещали все предметы, висящие под крышей; от черепов рыб и челюстей свиней мой взгляд перешел к коллекции разного оружия, прикрепленного ниже над барлой[110]; там были луки, стрелы и несколько копий разной формы. Мой взгляд остановился на одном из них, толстом и хорошо заостренном. Я нашел мой ответ. Сняв со стены именно это, тяжелое и острое копье, которое, метко брошенное, могло причинить неминуемую смерть, я подошел к Саулу, стоявшему посреди буамбрамры и следившему за моими движениями. Я подал ему копье, отошел на несколько шагов и остановился против него. Я снял шляпу, широкие поля которой закрывали мое лицо; я хотел, чтобы туземцы могли по выражению моего лица видеть, что Маклай не шутит и не моргнет, что бы ни случилось. Я сказал тогда: «Посмотри, может ли Маклай умереть». Недоумевавший Саул хотя и понял смысл моего предложения, но даже не поднял копья и первый заговорил: «Арен, арен!» (нет, нет!). Между тем некоторые из присутствовавших бросились ко мне, как бы желая заслонить меня своим телом от копья Саула. Простояв еще несколько времени перед Саулом в ожидании и назвав его даже шутливым тоном «бабой», я сел между туземцами, которые говорили все зараз. Ответ оказался удовлетворительным, так как после этого случая никто не спрашивал меня: «Могу ли я умереть?»
Сентябрь. Мун в Богати. Привезенные семена, посеянные на плантациях туземцев, хорошо растут.
Крокодилы часто переплывают большие расстояния залива.
Октябрь. Похороны Танока в Гумбу.
Люди Горенду, действительно, думают выселиться.
Ноябрь. Недобросовестность моих людей, которые крадут вещи для обмена с туземцами. Не будучи в хороших отношениях друг с другом, один день М. приходит сказать, что С. крадет, на другой — С. показывает, что М. обкрадывает.
6 ноября. Приход шхуны «Flower of Iarrow».
9 ноября. Смерть и похороны матроса Абу.
10 ноября. Около 6 часов вечера подняли якорь. Оставил много вещей в доме, который я запер и предоставил охранять людям Бонгу.
Моя ежедневная жизнь и отношения с туземцами
Спокойствие жизни среди обширного поля многосторонних исследований составляло самую привлекательную сторону пребывания на Новой Гвинее. Спокойствие это, благотворно действующее на характер, неоценимо, так как деятельность мозга не развлекаясь различными мелочами, имеет возможность сосредоточиться на некоторых избранных задачах. Дни здесь кажутся мне слишком короткими, так как мне почти что никогда не удается окончить к вечеру все то, что я предполагал утром сделать в точение дня.
Сплю я здесь обыкновенно от 9, редко от 10 часов вечера до 5 утра; на сиесту (от часу до двух пополудни) полагается еще час. К этим восьми или девяти часам прибавляю на еду три раза в день около часа с половиной, на разговоры с туземцами и слугами уходит еще один час. На работу, таким образом, мне остается около 12 часов в день. Это распределение дня и занятий совершенно нарушается во время экскурсий. Во время моего второго пребывания на берегу Maклая мне не приходилось терять времени на заботы о ежедневной жизни. Мои трое слуг вполне освобождали меня от этих докучных занятий; благодаря ружью и уменью обращаться с ним моего слуги из Пелау мой стол не имел недостатка в здоровой и свежей провизии. Кроме охоты, Мёбли занимался также и рыбною ловлею. Он сплел себе для этого корзину из бамбука, такую, какую употребляют его земляки на о-вах Пелау. Корзины эти называются там «пубами». Я приобрел для него туземную пирогу, и Мёбли разъезжал вдоль берега, опуская в воду свой пуб там, где надеялся найти рыбу, и редко случалось, чтобы он вынул его пустым.
Кроме птиц и рыбы, у меня почти всегда были под рукою свиньи, домашние и дикие. Прибавив ко всему этому привезенные с собою рис, бобы, бисквиты, кофе, чай, шоколад и даже вино, очень порядочное бордо и шампанское, и пользуясь при этом услугами весьма порядочного повара Сале, я могу положительно сказать, что мой стол был достаточно разнообразен и во всяком случае здоров. Случалось иногда даже такое embarras de richesses в этом отношении, что я даже имел возможность быть разборчивым и совершенно устранить свинину из моего стола. К тому же я не желал заставлять моего повара-магометанина касаться до нечистого по его религии животного.
Мои отношения с туземцами. Несмотря на наилучшие отношения наши, я мог пользоваться только случаем. Чтобы видеть что-нибудь, я должен был «случайно» заставать туземцев. Достаточно было предупредить, что приду, или приказать, чтобы позвали меня, когда случится то-то и то-то, чтобы это повлияло на всю процедуру. По опыту я пришел к выводу, что лучше всего относиться к обычаям туземцев с полным равнодушием, и только таким образом мне удается видеть кое-что из их интимной жизни, не искаженное скрытничанием и ложным стыдом. Несмотря на это утомительное движение в 1/4 и 1/5 шага вперед, я продолжаю этот путь, подстерегая, под видом безразличия, туземцев и нередко даже хитростью добывая частички материала к их этнологии, поставив себе за правило верить только своим глазам. Эту главную часть моих наблюдений я тем более не должен был упустить из виду, что именно она скорее всего изменяется и исчезает, как только белый человек появляется между первобытными племенами.
Во время моих пребываний на этом берегу я старался как можно меньше вмешиваться в дела туземцев, чтобы не изменять их обыкновения или обычаи. Мое внимание я употребил только на уменьшение войн, что во многих случаях мне удалось.
О втором пребывании на берегу Маклая в Новой Гвинее
(от июня 1876 по ноябрь 1877)
О моем третьем посещении Новой Гвинеи могу сказать, во-первых, что оно не сопровождалось такими помехами, какие приключились при второй экспедиции (на берег Ковиай в 1874 г.), и, во-вторых, что, сообразно с моим наперед обдуманным планом, оно составляет во всех отношениях продолжение исследований, начатых во время первого пребывания на этом берегу в 1871–1872 годах.
Мой отъезд в декабре 1872 г. был слишком неожиданным, чтобы не пришлось оставить многих значительных пробелов в предпринятых работах; и если я согласился на отъезд, то это было только вследствие принятого мною уже тогда решения вернуться со временем на этот берег и дополнить, сколько возможно, все то, что приходилось оставить начатым и отчасти едва затронутым.
Направленный местными условиями при первом посещении Новой Гвинеи главным образом на исследования по антропологии и предоставив ее задачам указать мне направление пути при последующих путешествиях (при второй экспедиции в Новую Гвинею, путешествии на Малайском полуострове), я и на этот раз остался ей верным.
Предпринимая путешествие, я намеревался посетить несколько местностей и, выбрав одну из них, остаться в ней долее. Но впоследствии мне казалось, помимо других причин[111], вернее и целесообразнее не поддаться на приманку новизны, а, вернувшись сюда, на берег Маклая, продолжать и дополнять начатое. Пересмотр перед отъездом из Явы (в декабре 1875 г.) сведений, добытых в 1871–1872 годах о туземцах берега Маклая, по случаю публикации продолжения моих замечаний о них[112], весьма сильно повлиял на это решение: откинув то, в верности чего у меня оставалось сомнение, мне ясно представилось большое число пробелов и вопросов, оставшихся без удовлетворительных ответов. Зная язык и пользуясь доверием туземцев, я более чем кто другой был в состоянии дополнить уже добытые сведения о их нравах и обычаях.
Возвращаясь на берег Маклая, я уже не имел в виду предпринять дальней экскурсии вовнутрь страны. Этот проект, несмотря на всю его заманчивость, я устранил еще при отъезде из программы моей деятельности 1876–1877 годов, полагая, что и без такой экскурсии мне остается немало дела по дополнению неоконченного и неясного в прежних моих работах; к тому же приобретение запасов и снарядов разного рода, наем необходимого контингента людей потребовали бы значительных. расходов, средствами для покрытия которых я не располагал в то время. К тому же эти люди, совершенно необходимые для дальней экспедиции вовнутрь страны[113], были бы мне совершенно не нужны при продолжительном пребывании в Новой Гвинее и составляли бы даже в последнем случае положительное бремя. Не только их пропитание представляло бы затруднение, но даже сомнительно, что они ужились бы мирно с туземцами; во всяком случае потребовались бы постоянный надзор за ними и разбирательство вероятных частых ссор между ними самими и между ними и туземцами. На все это пришлось бы жертвовать время, с которым европеец в этой интересной, но нездоровой стране должен обходиться весьма и весьма экономно.
С другой стороны, ватага слуг, окружающая путешественника, составляющая как бы живой забор, часто мешает непосредственному наблюдению им туземцев, нередко значительно влияет на сношения с последними, не говоря уже о том, что, внося при случае посторонний элемент в процесс мышления и во взгляды туземцев, запутывает и искажает сведения об их обычаях и воззрениях, которые при знании языка возможно получать непосредственно от них самих[114]. Взятые мною три человека прислуги достаточно освобождали меня от докучных забот ежедневной жизни, а мое помещение в Бугарломе[115], было настолько удобно, что я, отдыхая от небольших, несколькодневных, часто предпринимаемых экскурсий в окрестности, мог заниматься моими работами по сравнительной анатомии.
Начну с перечня главных работ, которые занимали мое время.
Во 1-х, работы по антропологии[116]. Я занимался при случае антропологическими измерениями[117], которые, вследствие недоверия и подозрительности папуасов, я не мог предпринять в 1871–1872 годах, но теперь, при старом знакомстве со мною, они не могли более отказывать мне и принуждены были побеждать свое отвращение к подобным, непонятным для них манипуляциям над их личностью. Я увеличил также мою коллекцию дюжиною черепов, которые родственники умерших захотели предоставить мне; но, не желая злоупотребить доверием туземцев, был принужден оставить нетронутыми (иными словами, не украл) несколько, вероятно, полных скелетов, хотя знал, где они находятся; сами же туземцы не захотели понять моих весьма ясных намеков о том, что я желаю иметь скелеты. Зная, что возможно добыть совершенно полные скелеты в разных госпиталях[118], я не желал поколебать легкомысленным шагом добытое с большим трудом доверие папуасов. Отсутствие фотографической камеры весьма чувствовалось: эту работу приходилось отложить до третьего посещения берега моего имени.
Во 2-х, мое внимание было главным образом направлено на вопросы по этнологии, ибо я сознавал, что нахожусь вследствие многих обстоятельств в удобном положении для наблюдения несмешанного и изолированного племени.
Кроме знакомства с туземцами и обоюдного доверия, сознание ими того, что если я и оставлю опять на время этот берег, то впоследствии снова вернусь сюда, заставляет туземцев мало-помалу менее стесняться моим присутствием и не изменять, не стараться скрывать постоянно свои обычаи и насиловать свою обыкновенную maniere d’еtre[119]. Немало помогает моему успеху в сохранении и укреплении доверия туземцев то, что я здесь единственный белый, который живет между ними; отсутствие других лишает туземцев мерила, которым они могли бы руководствоваться при оценке отношений к ним каждого белого в отдельности.
Но при всей обширности поля исследования, несмотря на все мое старание не упустить случая, чтобы познакомиться со всеми подробностями папуасской жизни, я должен сознаться, что мои успехи в этом отношении подвигаются крайне медленно. Кто имел случай поставить себе задачею наблюдение первобытного племени при ограниченном знании языка[120], тот знает, как туго идет вперед работа, если, относясь критически к каждому так называемому «открытию», отбрасываешь весь хлам неполных, неточных и искаженных посторонним влиянием наблюдений… Выражение «шаг за шагом» весьма недостаточно выражает всю медленность этого движения.
Расспросы у туземцев об их обычаях вследствие многих причин мало помогают[121], так как приводят к ошибкам или к воображаемому разрешению вопросов. Единственный надежный путь — видеть все собственными глазами, а затем, отдавая себе отчет о виденном, надо быть настороже, чтобы полную картину обычая или обряда дало не воображение, а действительное впечатление наблюдения. Мне даже кажется полезным быть еще осторожнее: следует удержаться при этом описании виденного от всякого рода гипотез, объяснений и т. п. Далее, для каждого обряда, церемонии, обычая требуется соответствующий предлог; но эти предлоги, как на зло наблюдателю, представляются в некоторых случаях очень и очень редко[122].
Несмотря на установившиеся дружественные отношения с туземцами, я единственно мог лишь рассчитывать на случай; чтобы видеть что-нибудь, я должен был случайно заставать туземцев на месте действия. Предупреждение о моем прибытии или приказ призвать меня, когда случится то и то, когда будут делать это или другое, были часто достаточны, чтобы повлиять на всю процедуру обряда. Опытом я пришел к результату, что лучшим образом действия с моей стороны, для того чтобы узнать и увидеть что-либо в неискаженном виде из обычаев туземцев, состоит в том, что я принимаю относительно всего сюда относящегося вид полнейшего равнодушия; только таким образом мне удается узнать кое-что из их интимной жизни, не измененное скрытничанием и суеверным страхом…
Несмотря на это утомительное движение по полушагу вперед, иногда же целый шаг назад[123], я продолжаю этот путь, подстерегая ежедневные и экстраординарные эпизоды жизни туземцев под видом полнейшего индифферентизма, иногда даже хитростью добываю по частям материал для их этнологии, поставив себе за правило верить единственно своим глазам и не поддаваться воображению. Я тем более старался накоплять постоянно мои наблюдения в этом направлении именно потому, что эта сторона жизни скорее всего изменяется и исчезает, как только белый человек появляется между первобытными племенами.
Я вошел не без намерения в некоторые подробности относительно способов, которыми я пользовался при собирании материалов по этнологии потому, чтобы показать, через какой фильтр критики с моей стороны проходили собираемые сведения, и чтобы дать понятие о количестве времени и внимания, которыми я должен был жертвовать для их получения. Я старался как можно менее вмешиваться в дела туземцев, старался не изменять их обыкновений и обычаев; только в одном случае я изменял роль беспристрастного наблюдателя, и уже не раз с успехом употребил мое влияние для предупреждения войн между деревнями. Об этом несколько слов ниже.
В 3-х. Я мог более удобно заниматься здесь сравнительно-анатомическими работами, чем на Гарагаси[124], где был очень затруднен теснотою помещения и образом моей тогдашней жизни, поглощаемой старанием сблизиться с туземцами, заботою о продовольствии охотою, терпел от недостатка в прислуге и т. п.
В этой сфере работы мое внимание сосредоточено главным образом на продолжении моих исследований по сравнительной анатомии мозга позвоночных и некоторых дополнениях по анатомии сумчатых. Не время и не обстановка мешали этим занятиям, а сравнительная редкость материала.
В 4-х. На метеорологические наблюдения было обращено должное внимание, и их результаты составят дополнение и проверку 15-месячных наблюдений 1871–1872 гг. Разумеется, пробелами остаются дни, посвященные на экскурсии. Термометры и оба анероида были проверены в метеорологической обсерватории в Батавии перед отъездом.
После этого обзора предметов моих занятий скажу несколько слов о более интересных экскурсиях, которые мне удалось совершить. Если, как сказал вначале, я не имел средств предпринять большое странствие вовнутрь страны, то от небольших экскурсий по окрестностям я не отказывался. Я начал их посещением многих деревень, которые по случаю войн между туземцами или по своей отдаленности мне были недоступны в 1871–1872 годах. Это были деревни в горах южного и юго-западного берега залива Астролябии, причем преимущественно мною посещались деревни, за которыми (или выше которых) горы уже не населены. На юго-западе, где высокий береговой хребет понижается и распадается на несколько кряжей, находится большое число деревень и очень значительное население; но мне не пришлось далеко проникнуть в этом направлении, так как почти каждая деревня находится на военном положении относительно другой[125] и я не смог уговорить ни моих соседей, ни жителей ближайших гор сопровождать меня, но зато я обошел почти все горные деревни вокруг залива. При этих экскурсиях я имел обыкновенно значительное число спутников из ближайшей деревни — Бонгу. Когда я доходил к вечеру или на другой день до одной из горных деревень, вся моя свита сменялась жителями последней. Люди Бонгу оставались ждать моего возвращения или уходили домой, если я их отпускал, что я обыкновенно и делал, когда не знал наверно, сколько дней продолжится экскурсия. Береговые жители, не имея сношений, не зная диалекта последующих деревень и отчасти не убежденные в своей безопасности между горцами, редко решались идти выше ближайшей цепи гор.
Переменяя раза по два или по три носильщиков моих вещей, причем для каждой палки и бутылки требовалось по человеку, я обходил деревни; если при первой встрече без страха со стороны туземцев не обходилось, то тем дружелюбнее были проводы (удовольствие отделаться от незваного гостя имело, в чем не сомневаюсь, немало влияния на это добродушие); часто приходилось отказываться от тяжеловесных изъявлений дружбы — обычных подарков съестных припасов на дорогу.
На возвратном пути провожатых набиралось обыкновенно очень много, так как в каждой деревне находились охотники взглянуть на «таль Маклай» (дом Маклая).
Если при этом способе путешествия я нередко должен был, соображаясь с туземными обычаями и характером, подчиняться многим их желаниям, что иногда было скучновато, то, с другой стороны, он представлял и серьезные выгоды. Посещая новые и отдаленные деревни, где имя мое едва было известно понаслышке, имея туземцев моими спутниками, я не только знакомился со взаимными отношениями туземцев, но мог получать и разъяснения многих вопросов, возникающих при новых встречах. Я не встречал боязливой замкнутости со стороны населения и мог свободно знакомиться со страною и людьми; немалое удобство было также иметь почти что всюду переводчиков.
Более отдаленные, но не менее интересные экскурсии мне удалось сделать по морю близ берега, причем я снова воспользовался туземными средствами. Моя шлюпка, в которой я разъезжал по заливу, выходя даже за крайние мысы его, слишком мала (не достигает 4 метров у ватерлинии) для многодневного плавания; не имея тента, днем она представляла серьезное неудобство, не предоставляя возможности укрыться от солнца, и, забрав необходимую поклажу и провизию на несколько дней, с большим трудом могла помещать лишь 3 человек (2 гребца были необходимы в случае штиля). В больших же пирогах острова Били-Били я не только мог разместить удобно все мои вещи, быть укрытым от солнца и дождя, но, главное, я был освобожден от всех работ и забот: быть капитаном, лоцманом и матросом моей шлюпки. Я посетил таким образом острова архипелага Довольных людей[126] и деревни у мыса Дюпере.
Я нарочно отправился в последнюю местность, узнав положительно, что люди Еремпи, населяющие с лишком 20 деревень, — людоеды. Я провел в одной из этих деревень, лежащей около небольшого озера, два дня. Они не рознились от моих соседей и хороших знакомых ни в антропологическом, ни в этнологическом отношении и отличались единственно обыкновением съедать после войн всех убитых, не разбирая при этом ни пола ни возраста. Так как людской мозг и мягкие части головы считаются ими очень вкусным блюдом и так как люди, как и вообще все животные, здесь съедаются без остатков, обглоданные же и раздробленные кости бросаются, как мне сказали, в море, то при этом посещении, вопреки моим расчетам, моя краниологическая и остеологическая коллекция не обогатилась. Мне кажется также, что им не часто приходится лакомиться этим родом пищи. Я посетил о-в Сегу, один из островов архипелага Довольных людей, где строят большие пироги и жители которого посещают иногда (однако же не каждый год) остров Кар-Кар (ос. Дампьер). Целью моего визита на остров Сегу было уговорить жителей его снарядить в скором времени экспедицию в Кар-Кар, в которой я сам думал участвовать[127].
Жители островков Били-Били и Ямбомбы, занимаясь горшечным производством, имея большие пироги и посещая значительное протяжение берега материка Новой Гвинеи, находятся благодаря своим торговым сношениям[128] в мире с большинством береговых деревень и могут безопасно посещать их. Разузнав мало-помалу все подробности этих экспедиций, мне удалось после долгих прений, множества отговорок и задержек разного рода нанять две пироги, в которых я в сопровождении двух слуг (оставив третьего в Бугарломе) и четырех туземцев для управления пирогами отправился вдоль берега по направлению к мысу King William с целью посетить деревни, имена которых я часто слышал от жителей Били-Били. По случаю преобладающего юго-восточного ветра, который дул большую часть дня[129], мы подвигались единственно ночью, пользуясь береговым ветром, который дул ровно, но с достаточною силою. Таким образом, почти каждую ночь мы делали переходы, причем темнота не мешала нам, потому что фарватер на 1.5 или 2 мили от берега не представляет никаких опасностей (за исключением банки около деревни Бай, в полумиле от берега). К утру мы останавливались около селений, где проводили день или несколько дней, смотря по интересу, который представляло для меня селение и его жители.
Посещенный берег, как и вокруг залива Астролябии, был довольно густо заселен, и, так же как и там, селения находились преимущественно в тех местах, где берег был песчаный, где же скалы (поднятые коралловые рифы) окаймляли берег на значительное расстояние, деревень не было, хотя в горах селений было немало. Я старался отыскать отличительные черты в сравнении с моими соседями; но ни физический habitus, ни образ жизни не представляли большой разницы, только некоторые производства были специальны для некоторых деревень и произведения служили для мены, которая составляла монополию жителей острова Били-Били и архипелага Довольных людей. Почти в каждой деревне мне приходилось записывать отдельный диалект. На пути я везде разузнавал, между прочим, умеют ли туземцы добывать огонь, но везде слышал один ответ, что никакой способ получать его им неизвестен[130]. Как и следовало ожидать, «очень, очень дальние» расстояния, по словам моих друзей с острова Били-Били, оказались весьма недальними, так что, проведя четыре ночи в море и сделав миль 50 или немного более, считая от мыса Тевалиб (мыса Риньи), мы были у предела, за который морское странствие жителей Били-Били в настоящее время не простирается и никакие обещания не смогли убедить моих спутников отправиться со мною далее. Море, жители по берегу, — все было им одинаково страшно. Мне пришлось удовлетвориться, видя, что я не в состоянии победить в них страха[131].
Значительное селение, которое оказалось последним из посещенных во время этой экскурсии, называется Телята, и я надеюсь при помощи моих заметок определить эту местность, как и положение других береговых деревень (Биби, Бай, Кунила, Миндир, Авой, Дайны, Мегу, Об, Дамтуг, Сингор, Аврай) на карте, сделанной офицерами парохода «Базилиск» в 1874 г.[132] К моей большой досаде погода в продолжение двух дней, проведенных в деревне Телята, была туманная, почему нельзя было разглядеть островов Куруа, Бунанга, Кую[133], которые, по словам туземцев, бывают видны отсюда в светлую погоду и по которым я легко бы мог определиться. Местность эта, однако же, весьма характеристична вследствие положения на выдающемся мысе, от которого идет гряда скал, издали видимых даже при высокой воде[134].
Так как отправиться далее люди Били-Били никак не решались и уговор, заключенный с ними, — посетить вышеназванные деревни до деревни Телята, — был ими выполнен, приходилось вернуться. На возвратном пути, оставив пироги и людей Били-Били, не дойдя до мыса Тевалиб (Риньи), я отправился в горы познакомиться с горными жителями этой местности, которую называли «Хогему Рай» (деревни Рай). Берег оказался пустынным, жители ближайшей деревни Биби были все в горах «унан барата — буль уяр» (жечь «унан», есть свиней)[135]; люди Били-Били трусили горных жителей и как приморцы полагали, что карабкаться по горам не их дело. Я знал положение деревень только весьма приблизительно (с пироги в море я мог с помощью бинокля различить лишь группы кокосовых пальм в горах), но все-таки отправился в сопровождении моего слуги яванца. Мне удалось посетить три деревни и в этот же день взобраться на гору, которая своим положением давно меня манила. Несмотря на то что мы не могли понимать друг друга (не было переводчика), горные жители Рай приняли меня как нельзя лучше; они по слухам знали мое имя и, увидев белого, догадались, кто пришел к ним. Я знаками объяснил, что хочу идти на высокий холм, который открывался за их деревнею и который они называют Сируй-Мана (гора Сируй). Проводники нашлись, и мы отправились немедленно. С вершины ее (около 1200 футов) мне представилась красивая панорама берега Маклая[136] на значительном протяжении.
Ночь я провел в деревне Рай; на другое утро, рано, был на месте, где оставил пироги и благодаря порядочному попутному ветру к вечеру вернулся в Бугарлом. Мне так понравился этот способ путешествия, что я готовился к экспедиции на остров Кар-Кар[137] вместе с жителями острова Сегу.
Спокойствие жизни среди обширного поля многосторонних исследований составляло особенно привлекательную сторону моей новогвинейской жизни. Спокойствие это, благотворно действующее на характер, неоценимо, так как деятельность мозга, не развлекаясь различными мелочами, может быть сосредоточена на немногих избранных задачах. Дни здесь казались мне слишком короткими, так как мне почти что никогда не удавалось окончить к вечеру все то, что я утром предполагал сделать в продолжение дня[138]. Не забывая назойливую истину «einen jeden Abend sind wir um einen Tag дrmer», приходится нередко отгонять невеселые думы о мизерных свойствах человеческого мозга, о необходимости собирания материалов по песчинкам, иногда даже сомнительной доброты и т. п.
По временам, однако же, моя трудовая отшельническая жизнь прерывается на несколько часов, иногда даже на несколько дней неожиданными случайностями. Об одной такой случайности, представившейся недавно, расскажу для примера.
Я заметил выше, что воздерживался от вмешательства в политическую и социальную жизнь моих соседей и старался единственно лишь о предупреждении войн между туземцами.
Одна из многих причин междоусобий основана на поверии, что смерть, даже случайная, происходит через посредство так называемого «оним»[139], приготовленного врагами умершего, — врагами семьи его или врагами деревни, в которой он жил[140]. При смерти туземца (иногда даже заблаговременно перед кончиною опасно больного) родственники и друзья его собираются и обсуждают, в какой деревне и кем был приготовлен «оним», который причинил смерть умершему или болезнь умирающему. Толкуют долго, перебирая всех недругов покойного, не забывая при этом и своих личных неприятностей. Наконец, деревня, где живет недруг, открыта, виновник смерти или болезни (чаще несколько таковых) найден. Открытие мигом переходит из уст в уста, причем часто прибавляются обвинительные пункты и иногда увеличивается реестр виновников. После этих прелиминарий составляется план похода, подыскиваются союзники и т. д. В Бонгу при смерти жены одного из тамо-боро (общее название главы семейства) я услышал совещание о походе на одну из соседних деревень; на этот раз, когда дело касалось смерти бездетной старухи (дети ее умерли малолетними), мне без особенного многословия удалось уговорить туземцев воздержаться от войны. Несколько месяцев спустя, при возвращении с моей экскурсии в деревню Телята, которую я описал в кратких словах выше, я застал ближайшие деревни Бонгу и Горенду в сильной тревоге: Вангум, туземец лет 25, крепкий и здоровый, после 2- или 3-дневного нездоровья внезапно умер. Отец, дядя и родственники покойного, которых было случайно немало в обеих деревнях, усиленно уговаривали все мужское население этих деревень отправиться безотлагательно в поход на жителей одной из горных деревень (чаще других обвиняемых в колдовстве). С большим трудом и после очень серьезных переговоров мне и на этот раз удалось устранить набег на горцев. Обстоятельство, что жители Бонгу и Горенду не были одного мнения насчет деревни, где жил предполагаемый недруг Вангума или его отца, значительно помогло моему успеху. Это различие мнения они, однако же, думали парализовать простым способом: напасть сперва на одну, затем на другую деревню. Я отклонил их от этих замыслов. Несколько дней спустя я узнал, что брат умершего Вангума, мальчик лет 9 или 10, отправившись с отцом и несколькими жителями Горенду на рыбную ловлю к реке Габенеу, был ужален небольшой змеею; яд подействовал так сильно, что перепуганный отец, схвативший ребенка на руки и почти бегом бросившийся в обратный путь, принес его в деревню мертвым. Эта вторая смерть в той же деревне и в той же семье, последовавшая в промежуток нескольких дней, произвела настоящий пароксизм горя, жажды мести и страха между жителями обеих деревень… Даже самые умеренные стали с жаром утверждать, что жители Теньгум-Мана приготовили «оним», почему Вангум и Налай [Туй. — Ред.] умерли и что если этому не положить конец немедленным походом, то все жители Горенду перемрут и т. п. Война казалась неизбежною. Об ней толковали старики, дети и бабы; молодежь готовила и приводила в порядок оружие.
Войны здесь хотя и не отличаются кровопролитием (убитых бывает немного), но бывают очень продолжительны, исходя часто или переходя в форму частных вендетт, которые поддерживают постоянное брожение между общинами и очень затягивают заключение мира или перемирия. Во время войны все сообщения между многими[141] деревнями прекращаются, преобладающая мысль каждого: желание убить или страх быть убитым.
Я не мог смотреть сложа руки на такое положение дел в деревне Бонгу, которая находилась минутах в пяти ходьбы от моего дома в Бугарломе. Притом молчание с моей стороны при моей постоянной оппозиции войнам, когда только несколько дней тому назад я восстал против похода при смерти старшего брата, было бы странным, нелогичным поступком; уступив в этот раз, я мог бы потерять мое влияние при всех последующих подобных случаях. Я должен был устранить мою антипатию вмешиваться в чужие дела. Я решил запретить войну. На сильный эффект следует действовать более сильным эффектом, а главное, следовало разъединить их единодушную жажду мести, следовало поселить между ними разногласие и тем способствовать охлаждению первого возбуждения.
Будучи достаточно знаком с процессом мышления и склонностями туземцев, я обдумал план, который, по моему мнению, должен был произвести желаемое действие и который, как на деле оказалось, подействовал сильнее, чем я ожидал.
Придя в обычный час (перед заходом солнца) в Бонгу на другой день после происходивших при мне рассуждений о случившемся накануне и заметя, что туземцы интересуются узнать мой взгляд на положение их дел, я сказал, что хотя очень жаль отца, который потерял двух сыновей, молодых и здоровых, но что войны все-таки не должно быть и что все, что я сказал при смерти Вангума, остается верным и теперь.
Весть, что Маклай говорит «войны не должно быть», когда все готовы предпринять ее, облетела мигом всю деревню. Набралась значительная толпа и почти все старики обступили «барлу»[142], в которой я находился; каждый старался убедить меня, что война положительно необходима.
Доказывать неосновательность их теории «онима», вступать в теоретические рассуждения о нем было бы с моей стороны не только потерею времени, но и большим промахом.
Я выслушал, однако же, очень многих; когда последний кончил, вставая и собираясь идти, я повторил тем же обыкновенным голосом, который представлял сильный контраст с возбужденною речью папуасов, но которому я постарался придать тон убеждения: «войны не должно быть; если вы отправитесь в поход в горы, с вами со всеми, людьми Горенду и Бонгу, случится несчастие».
Наступило торжественное молчание, затем посыпались вопросы: что случится? что будет? что Маклай сделает? и т. п.
Оставляя моих собеседников в недоразумении и предоставляя их воображению найти перевод моей угрозы на свой лад, я ответил кратко: «Сами увидите, если пойдете».
Направляясь домой, проходя медленно между группами туземцев, я мог расслышать, что их воображение уже работает, каждый старался угадать беду, которую я пророчил.
Не успел я дойти до ворот моей усадьбы, как один из стариков нагнал меня и, запыхавшись от ходьбы, торопливо проговорил: «Если тамо Бонгу (люди Бонгу) отправятся в горы, не случится ли тангрин (землетрясение)?»
Этот странный вопрос и запыхавшийся старик показали мне, что мои слова в Бонгу произвели значительный эффект.
«Маклай этого не говорил», — возразил я. — «Нет, но Маклай сказал, что тогда случится большая беда; а тангрин большая, большая беда. Все люди Бонгу, Горонду, Гумбу, Богатим, все, все, боятся тангрин. А что, случится тангрин?» — спросил он опять упрашивающим тоном. «Может быть», — был мой ответ.
Мой приятель быстро пустился в обратный путь, проговорив скороговоркою, обращаясь к двум туземцам, которые подходили к нам: «Я ведь говорил: тангрин будет, если пойдем. Я говорил».
Все трое почти бегом направились в деревню.
Следующие дни я не ходил в Бонгу, предоставляя воображению туземцев разгадывать загадку и полагаясь на пословицу «у страха глаза велики». Я был уверен теперь, что они сильно призадумаются, и военный пыл мало-помалу начнет охладевать, а главное, что теперь в деревнях господствует разноголосица. Я не спрашивал, что мои соседи решили; они также молчали, а к войне далее не приготовлялись.
Недели через две пришел ко мне Туй, житель Горенду, самый старый мой приятель[143], с неожиданной новостью: что он и все жители Горенду решили покинуть свою деревню, решили выселиться.
— Что так? — спросил я, удивленный.
— Да все мы боимся жить там. Останемся в Горенду, все перемрем один за другим. Двое уже умерли от оним мана-тамо[144], так и другие умрут. Не только люди Горенду умирают от оним мана-тамо, но и кокосовые пальмы больны, листья у всех стали красные, и они все умрут. Мана-тамо зарыли в Горенду оним — вот и кокосовые пальмы умирают[145]. Хотели мы побить этих мана-тамо, да нельзя, Маклай не хочет, говорит, случится беда. Люди Бонгу трусят, боятся тангрин. Случится тангрин, все деревни вокруг скажут: люди Бонгу виноваты, Маклай говорил, будет беда, если Бонгу пойдут в горы… все деревни пойдут войною на Бонгу, если тангрин будет. Так люди Бонгу боятся. Мы и решили разойтись в разные стороны», — добавил Туй все более и более унылым голосом и стал пересчитывать деревни, куда каждый из жителей Горенду думает переселиться[146]. Так как это переселение начнется через несколько месяцев, после сбора посаженного уже таро, то не знаю, чем это кончится[147].
Я рассказал немного подробнее этот эпизод из моей новогвинейской жизни потому, что он кажется мне довольно характеризующим мои отношения к туземцам; но для полного понимания предыдущего я полагаю не лишним напомнить о том обстоятельстве, которое так помогло мне уже при первом пребывании на берегу Маклая[148] и которое представляет повторение уже несколько раз случившегося с европейцами при первых посещениях ими островов Тихого океана[149].
Раз возведя меня в положение каарам-тамо (человека с луны), придав мне это неземное происхождение, каждый поступок мой, каждое мое слово, рассматриваемые в этом свете, казалось, убеждали в них это мнение. С моей стороны мне не приходилось и не приходится лгать (напротив, правдивость до последних мелочей — качество каарам-тамо), ни играть роли или быть чем-либо особенным, так что вся моя сверхъестественность обусловливается лишь в воображении папуасов[150].
Имей я белых слуг или живи я в близости других белых, туземцы скоро убедились бы в земном происхождении каарам-тамо, но мой образ жизни и мои привычки не смогли изменить установившегося между папуасами мнения об особенности моего существа.
Я не считаю нужным разубеждать их[151] потому, во-первых, что я обращаю мало внимания здесь, как и в других частях света, на «qu’en dira-t-on», во-вторых, потому, что моя репутация и обстановка, с нею сопряженная, представляют ту громадную выгоду, что избавляют меня от необходимости быть всегда вооруженным и иметь в доме наготове заряженные ружья, разрывные пули, динамит и подобные им аксессуары цивилизации. Проходит уже третий год, и ни один папуас не перешагнул еще порога моего дома ни на Гарагаси, ни в Бугарломе; незначительный негативный жест каарам-тамо достаточен, чтобы держать, если хочу, туземцев в почтительном отдалении. Пристальный взгляд каарам-тамо, по мнению папуасов, достаточен, чтобы наносить вред здоровым[152] и исцелять больных. Мне не приходится носить при себе воинственную амуницию и в незнакомых деревнях быть постоянно «au qui vive?» и т. д.
Эта репутация дает мне иногда возможность видеть и узнавать многое, что, вероятно, осталось бы для меня тайною, если бы в идеях туземцев я был не каарам-тамо, а простой белый человек. Она приносит также и туземцам ту несомненную пользу, что благодаря ей я был в состоянии не допустить несколько раз междоусобные войны, чем избавил туземцев от всех соединенных с ними бедствий.
Признаюсь, однако, что если бы потребовалось для сохранения этой репутации не единственно пассивное молчание, но иногда и уклончивые ответы, я вряд ли воспользовался бы долго ее покровом; и в таком случае мне, конечно, не удалось бы прожить так мирно и спокойно, как я живу вот уже около 3 лет между туземцами.
Сообщив в общих чертах о моих работах, о направлениях моих экскурсий и о способах для этих путешествий, рассказав некоторые эпизоды, прерывавшие иногда мою спокойную жизнь, и познакомив, наконец, читателя с причинами, которые помогают мне без особенных хлопот уживаться с папуасами, перейду к обратной, теневой, стороне медали.
Сюда относится, во-первых, нездоровье мое и моих людей, которые чаще были больны, чем я. Кроме моей старой знакомой — лихорадки (Febris remittens) с ее непредвиденными и неправильными пароксизмами, которые являются иногда в форме сильных невралгий (neuralg. ram. I et II. Nervi Trigemini), род хронической Dermatitis[153], особенно ног, заставляет меня проводить целые дни, иногда даже недели (!) дома, и как на зло, это нездоровье было причиною, что мне пришлось упустить случай (пока еще не возвратившийся) предпринять экскурсию, которая помогла бы мне дополнить мои наблюдения над обычаями туземцев.
Другая неприятность состояла в недостатке европейской провизии и многих весьма важных мелочей (между прочим, бумаги, чернил, стальных перьев, носков и т. п.), запас которых или истощился, или которые были забыты и утрачены при переезде моем сюда из Батавии.
Главною причиною этой неприятности было почти годовое запоздание прихода ожидаемого судна. Об этом несколько слов.
Я упустил из вида, что с членом коммерческого сословия условия и поручения должны сопровождаться положительными доказательствами, что при выполнении их он не будет в убытке; я не догадался подкрепить мою просьбу о присылке судна за мною[154] в ноябре или декабре 1876 года некоторою суммою наличных денег, векселем или тому подобным ручательством. Моя непрактичность была наказана: я остаюсь вот уже 20 месяцев[155] без писем и принужден изловчаться прожить с запасом провизии на 5 или 6 месяцев[156]. Вся вина лежит, разумеется, на мне самом: я не могу винить человека, с которым был знаком всего несколько недель, в том, что он не оказал мне более доверия и не пожелал рисковать суммою, которая могла бы возрасти до значительного размера при большой ценности найма судна (500 долларов в месяц) в зависимости от продолжительности плавания в местностях, подверженных неправильным ветрам (полоса штилей и переменных ветров близ экватора)[157].
При другом характере и других воззрениях на окружающее я мог бы отнестись к такому стечению обстоятельств и вследствие его весьма некомфортабельной жизни в продолжение многих месяцев как к значительному несчастию; но на опыте я убедился, что отношусь к этим аксессуарам жизни, которую сам избрал, с большим индифферентизмом, и, замечая новое лишение или недостаток привычного удобства, могу повторять слова философа: «много есть, однако же, вещей, которых мне не нужно».
Если, замечая, что я ни слова не говорю о новооткрываемых видах райских птиц, не обещаюсь описать сотни и привезти тысячи новых редких насекомых, меня, может быть, удивляясь, спросит ревностный зоолог: отчего я ради вопросов по этнологии, которая, собственно, не составляет моей специальности, отстранил от себя собирание коллекций, я отвечу на это, что хотя и считаю вопросы зоогеографии этой местности весьма интересными, особенно после весьма подвинувшегося в последние годы знакомства моего с фауною Малайского архипелага, все-таки почел за более важное обратить мое внимание, теряя при этом немало времени, на status praesens житья-бытья папуасов, полагая, что эти фазы жизни этой части человечества при некоторых новых условиях (которые могут явиться каждый день) весьма скоропреходящи. Те же райские птицы и бабочки, даже и в далеком будущем будут не менее восхищать зоолога, те жe насекомые наполнять тысячами его коллекции, между тем как почти наверное при повторенных сношениях с белыми не только нравы и обычаи теперешних папуасов исказятся, изменятся и забудутся, но может случиться, что будущему антропологу придется разыскивать чистокровного папуаса в его примитивном состоянии в горах Новой Гвинеи, подобно тому как я искал сакай и семанг в лесах Малайского полуострова. Время, я уверен, докажет, что при выборе моей главной задачи я был прав.
Tempo e galant’uomo
Миклухо-Маклай.
Написано в Бугарломе, на берегу Маклая в Новой Гвинее, в октябре 1877 г.
Переписано и дополнено некоторыми примечаниями во время якорной стоянки в лагуне Рифа Канделария, в июле 1879 г.
Несколько дополнений о втором пребывании на берегу Маклая в Новой Гвинее в 1876–1877 гг
(Из письма к (князю) А. А. М.)
Так как остается еще несколько листов бумаги, то я могу доставить себе удовольствие писать Вам и при этом дополнить мое письмо Географическому обществу, которое не хотел растянуть лишними подробностями, боясь главным образом, что не хватит бумаги, которой, хотя обходился с нею весьма экономно, осталось очень немного. Причина, что многие из моих запасов истощились или близки к тому, та, что вот уже 10 месяцев или более, как со дня на день ожидаю прихода судна, которое должно было прийти сюда в ноябре прошлого года, чтобы забрать меня, а в случае если пожелаю остаться, возобновить припасы и привезти письма. Вследствие чего это случилось, я сообщил в письме Географическому обществу. Хотя совершенно верно, что жду шхуну каждый день и подчас с нетерпением, но в то же время боюсь ее прихода, боюсь, что ее приход оторвет меня от работ, которые так интересны, но так трудно и медленно достаются, что приходится дорожить каждым днем, тем более что между прочими индифферентными является иногда такой, который дает более результата, чем неделя терпеливого наблюдения.
Добравшись до моего берега 28 июня 1876 г., я поселился недалеко от Гарагаси, местность, где стояла моя хижина в 1871–1872 годах.
Причина этого выбора была, во-первых, та, что диалект соседних деревень (Бонгу, Горенду, Гумбу) был мне знаком достаточно; во-вторых, потому, что якорная стоянка около этого места, защищенная небольшим мысом Габина (м. Обсервации на карте, сделанной офицером корвета «Витязь»), безопасная и довольно удобная, позволяла всегда сообщаться с берегом, между тем как в очень многих других местностях на берегу бухты Астролябии сообщение не всегда удобное.
Бугарлом, туземное название местности, которую я избрал для постройки дома, находится у самого моря близ довольно большой (по здешнему понятию) деревни Бонгу. Я решил жить в близости одной из деревень потому, что знал, что в очень многих случаях моей прислуги мне не будет достаточно, жить же в самой деревне не хотел по случаю людского шума, крика детей и воя туземных собак. Хижина, для которой я привез доски (стены и пол) из Сингапура, построена на сваях с лишком 2 метра высотой, имеет около 10 метров длины на 5 метров ширины. Верхний этаж состоит из комнаты и веранды, между тем как нижний, который также имеет стены, но сквозные, отчасти из досок, часть из бамбука, — это моя препаровочная для анатомических работ, мой кабинет для антропологических наблюдений (измерений) и складочный магазин для припасов.
Люди и кухня помещаются шагах в 10 от дома, в отдельной хижине, наконец, для шлюпки построена третья хижина.
Складная мебель, привезенная еще из России и Германии, дополнена в Батавии и Сингапуре. Китайские циновки, несколько ящиков с размещенным в порядке оружием и инструментами, опрокинутые и снабженные полками и таким образом обращенные в шкаф ящики для книг, банок и склянок обратили мой небольшой домик в достаточно удобное помещение, которого умеренный комфорт был весьма приятен после утомительных экскурсий в горы и ночлегов в палатке или темных и далеко не опрятных хижинах туземцев.
Слуг у меня трое, вернее два с половиной: яванец, весьма порядочный человек, кроме того, что он исправлял должность слуги, он оказался изрядным портным и сносным поваром (по части малайской кухни); другие два — туземцы Пелау. Одного я взял как гребца для моей шлюпки и как охотника собственно не для собирания орнитологических коллекций, а для доставления мне свежей провизии для стола. Третий, лет 12 или 13, прислуживает мне в доме и сопровождает меня иногда при небольших экскурсиях. Хотя я не имел причины быть недовольным прислугою, но вряд ли я взял бы двух последних, если бы имел случай испытать их с неделю. Но если даже прислуга могла бы быть и лучше, то главная цель достигнута, и я избавлен от ежедневных хозяйственных забот, которые в Гарагаси падали главным образом на меня и которые в то время так были мне противны, что я часто предпочитал голодать, чем носить воду, собирать дрова и раздувать огонь.
Первые месяцы по моем приезде время года было самое сухое на этом берегу, почему я воспользовался, чтобы сделать несколько экскурсий в горы, куда ложе больших рек, почти что высохших в это время, представляло сравнительно удобный путь до высот 2000–3000 футов.
Моей целью при первой экскурсии было не столько посещение горных деревень, сколько желание испытать годность туземцев как носильщиков для более отдаленных странствований. Но уже трех-четырехдневная экскурсия отняла у меня эту иллюзию и доказала, что все попытки этого рода ни к чему не поведут. Главная помеха употреблять людей как носильщиков была невозможность забрать достаточное количество громоздкой и малопитательной туземной провизии, потому что от другой (риса и сушеной оленины) они категорически отказывались. Затем постоянный страх перед горным населением, к чему присоединяется непривычная система ежедневного напряжения. Для опыта я выбрал трех человек, которых считал более надежными и выносливыми. Груз, который каждый, смотря по силам, должен был нести, не превышал 15–20 фунтов, ежедневный переход в гористой лесной местности не превышал 8-часовой ходьбы.
При всех этих умеренных требованиях уже на третий день я имел досаду видеть, что один из папуасов, на которого я даже более чем на других надеялся, первый отказался идти далее. Когда, после недолгого отдыха, я подал знак двинуться вперед, он не встал и, лежа, плаксивым голосом заговорил: «Я голоден, таро сегодня кончился, ноги болят, дороги не знаю, дороги нет, горные жители убьют. Bce одно придется умереть, так ты, Маклай, лучше убей меня сейчас, ноги так болят, что далее я не могу идти». Видя, что он при таком настроении, что никакие уговаривания не помогут, я взял молча его ношу поверх моей и повторил знак идти далее. Не прошло и часу, как явился и второй инвалид — Мебли, мой слуга с архипелага Пелау, рослый парень, но большой лентяй. Жалостным голосом он сказал мне, что уже второй день у него лихорадка и что он чувствует себя очень слабым, что он догонит нас сегодня или завтра, как только оправится немного. Лихорадка его была выдумкой, я это видел, но крайние меры редко приводят к удовлетворительным результатам. Без него было бы легко обойтись, но не без его ноши, потому что было взято единственно самое необходимое. Три папуаса имели такое раскисшее выражение лица, которое становилось еще кислее, как только я взглядывал на них, что увеличить их ноши никак не было индицировано, — я и то несколько раз думал, что при каком-нибудь повороте они, оставив мои вещи, скроются. Нести самому еще третью ношу мне было не по силам. Итак, на мой опыт я получил отрицательный ответ. Я свернул с пути в ближайшую горную деревню, из которой, сменив людей, направился в следующую и обошел таким образом несколько деревень.
В знакомой местности, между известными им деревнями, туземцы были хорошими, даже очень предупредительными проводниками. Но едва они вышли из знакомого им (весьма малого) околотка, как становятся совершенно негодными; все им кажется невозможным, за каждым кустом или камнем они видят неприятеля. Одна только боязнь отказать мне заставила туземцев Бонгу согласиться пойти со мной за границу их обычных странствий.
Высокая цепь гор, не будучи населена, не представляла препятствий со стороны населения, но для переноски самого ограниченного количества вещей требовались люди, а для них провизия. Кроме даже небольшой ноши, человек может нести съестных припасов для себя только на очень ограниченное число дней. Брать для переноски провизии особых носильщиков мало помогает, так как и для последних требуется дневная порция. Мне несколько раз являлась мысль, что, если бы я имел конденсированные съестные припасы, которых переноска для продовольствия в продолжение многих дней не представляет ни слишком большой груз, ни объем, я мог бы один предпринять подобные экскурсии и быть избавлен от множества хлопот, противного мне уговаривания и т. п. Изобретение такого портативного питательного вещества могло бы сделать возможным длительные экспедиции и таким образом оставить науке немало ответов еще не разрешенных вопросов.
Если вследствие описанных причин мне пришлось оставить мысль проникнуть при помощи папуасов вовнутрь страны, то, переменив план, я употребил с полным успехом их содействие при ознакомлении с горными деревнями, которых образ жизни во многих подробностях, сообразно с местностью, в которой они поселились, отличен от береговых жителей и отчасти беднее и примитивнее жизни последних.
Жители Бонгу и Горенду, воспользовавшись моей наклонностью посещать селения, предложили мне идти в Марагум-Мана; с жителями этой деревни они во время моего первого пребывания на этом берегу вели войну. Хотя мир был заключен, но обе стороны, боясь измены бывших неприятелей, не хотели сделать первого шага, хотя и желали упрочить мир возобновлением обоюдных посещений. Отправляясь со мной, жители Бонгу, Горенду и Гумбу считали себя в полной безопасности. Согласившись и отправившись в Марагум-Мана, более 100 человек образовали мою свиту, и вид этой толпы вооруженных и разряженных как на пир (они хотели поразить своим числом и блеском своих бывших неприятелей) папуасов был оригинален и привлекателен.
Экскурсия в Марагум-Мана имела полный успех и за нею последовал целый ряд других.
Островок Били-Били у западного берега бухты Астролябии и своим положением и образом жизни его жителей представлял для меня удобный центр для морских экскурсий. Когда я выразил желание иметь на острове собственную хижину (каждая хижина была мне к услугам при моем посещении), жители деревни с готовностью исполнили мое желание. Хотя моя вторая резиденция — Айру была не более как папуасская хижина, но я от времени до времени с удовольствием проводил в ней несколько дней, особенно потому, что выбранное местечко представляло весьма обширный, иногда при утреннем и вечернем освещении, грандиозный вид гористого берега Новой Гвинеи. Моим хорошим отношениям с туземцами я обязан многими поездками к людоедам Еремпи и вдоль берега до мыса Тевалиб, каковые поездки я не мог бы предпринять в моей шлюпке, которая не более невского ялика. Но малость ее была весьма удобна для других целей, позволяя, например, мне одному разъезжать по бухтe, что, однако, я стал предпринимать в крайних случаях, убедившись, что даже при малости и легкости шлюпки, когда приходилось грести при штиле или при противном ветре (лавировать с одним парусом не стоило), силы моей хватало не надолго. Раз, когда я отправился вечером из Бугарлома в Айру без воды и провизии, шлюпку мою, когда затемнело, занесло течением далеко в открытое море, так что мне казалось, что попасть на один из островов Кар-Кар или Ваг-Ваг можно уже было считать счастливым случаем. Случился, однако же, еще более счастливый случай: прокачавшись несколько часов, несомый от берега течением (грести я и не думал, — это было бы напрасно выбиваться из сил), явился ветерок с подходящего румба и, подняв парус, в два или три часа пополудни, немного испеченный солнцем, с хорошим аппетитом, я добрался до Били-Били, где я мог бы быть часа в 3 или 4 утра. После этого опыта я стал брать Мебли с собою, который мог гресть в случае надобности.
Другое приключение, которое также благополучно сошло с рук, случилось при восхождении на пик Константина, вершину хребта Пайо, на западном берегу бухты, у подножия которого находится значительная деревня Богатим, и по своей форме — самый характерный пик между горами, окружающими бухту Астролябии.
На второй день ходьбы, проведя по случаю проливного дождя весьма скверно ночь, мне и моим спутникам (человек 20 туземцев деревни Богатим) предстояла самая крутая[158]… Отправились, карабкаясь и скользя, между скалами и камнями горного потока. Наконец, компас показал, и туземцы согласились — надо было, оставив ложе, направиться в сторону и лезть вверх между деревьями. Не было и признака тропинки, и так как ни один туземец не знал или не хотел знать дороги, приходилось мне идти вперед.
Предыдущий день надо было несколько десятков раз переходить вброд р. Иор, и контраст весьма свежей воды, которая в иных местах доходила мне до пояса, и палящих лучей солнца производил очень неприятное ощущение. Почти всю ночь, не переставая, лил дождь и, несмотря на три фланелевых рубашки, толстое войлочное, а затем каучуковое одеяла, я не мог согреться. Пароксизм лихорадки, для которой причин было достаточно, я ожидал к вечеру, потому поднялся рано, чтобы успеть добраться до вершины. Кроме незначительной головной боли над глазом, я чувствовал по временам легкое головокружение, что заставило меня останавливаться и придерживаться за ближайшую скалу, ствол или ветку. В одном месте подъем был особенно крут и без корней больших деревьев, которые благодаря громадному развитию первых могли удержаться на этой крутизне, и лиан, которые нам служили как канаты, нам пришлось бы, вернувшись почти к месту ночлега, сделать большой обход и подняться с другой стороны.
Эта крутизна представляет метров 20 или 25 ширины, по обеим сторонам которой были обрывы — следствия последнего сильного землетрясения (1873 г.).
Цепляясь за корни, я почти добрался до более отлогого места, когда я почувствовал сильное головокружение, наступившее так неожиданно, что я не успел рассмотреть ближайшей более крепкой опоры, чем тонкая лиана, за которую я держался в ту минуту.
Когда я пришел в себя, я очутился, лежа в очень неудобном положении (голова лежала гораздо ниже ног и туловища), около большого дерева, между большими корнями. Я долго не мог понять, как я попал сюда, и вообще, где я нахожусь. Я не чувствовал никакой боли, кроме странного ощущения в голове. Кругом было совершенно тихо, ни души. Мне хотелось спать, и вопрос, где я и т. д., мне казался вовсе неинтересным. Приведя мои члены в более удобное положение, причем я почувствовал с удивлением легкую боль во многих местах, я было закрыл глаза, как вдруг услыхал недалеко от меня слова: «Я ведь говорил, что Маклай не умер, что он только спит!» Снова открыв глаза, я увидел папуасов, жителей Богатим, которые сидели и лежали недалеко, и двух или трех, которые подошли ко мне. Мне трудно было собрать мысли и привести их в порядок. Несколько глотков крепкого кофе с небольшим количеством рома (отличный напиток при экскурсиях) помогли мне отдать себе отчет в случившемся и вспомнить всю связь обстоятельств. Солнце было уже высоко, так что я пролежал после падения по крайней мере часа полтора. Рассматривать долго место, по которому я скатился к дереву, и рассчитывать шансы скатиться немного в сторону, прямо в обрыв, было некогда. Ноги и голова были целы, и время подняться на вершину терять было нельзя. Я был очень рад, что утром, уже чувствуя себя некрепко на ногах, передал анероид и термометр одному из папуасов. Несмотря на это приключение, я имел силы добраться до вершины и в тот же день, правда часам к 11-ти ночи, дойти до деревни Богатим, откуда я предпринял экскурсию. Правда, что дней пять я хромал и дней десяток чувствовал контузию, полученную во время падения в разные части тела.
Эти головокружения являются изменнически, когда их вовсе не ожидают, одно из самых неприятных следствий анемии, происходящей от лихорадки, которая время от времени посещает меня, хотя в последние годы (и также и здесь, в Н. Г.) гораздо реже, чем прежде.
Уже на Яве в 1874-м, а затем во время странствований по Малайскому полуострову головокружения были причиной весьма неприятных случайностей, которые, однако же, не имели пока слишком дурного исхода.
Другая немочь, которая гораздо более, чем лихорадка, надоедала мне, была род Dermatitis (?) или…[159] (я не могу подыскать более специального научного названия), которая принимала хронический характер. Самая незначительная ранка, царапинка, ушиб, укол, укушение насекомого образовывали нарыв, который очень долго, по неделе бывало, не заживал. Особенно ноги мои подвергались этому бедствию и представляли по временам более десятка небольших нарывов, за которыми ухаживать было необходимо, но крайне скучно. Если я не обращал на них внимания, они так разбаливались, что в свою очередь заставляли сидеть несколько дней, не выходя из дома, а сон по ночам был возможен единственно при помощи приема Hydras Chlorat. Я до этого, даже во время первого пребывания на этом берегу, не испытывал подобной неприятности. Терпение и перевязывание Ac. carbol. было единственным и достаточным лекарством, но заживает одна ранка, является другая. По виду и характеру они были совсем подобные тем, которых сотни я видел у туземцев, у которых ноги также чаще подвергаются…
Замечательно, что когда ноги болели, я не имел пароксизмов лихорадки, которые обыкновенно напоминали мне каждую неосторожность. При этом я вспомнил о поверии, распространенном на некоторых из Молуккских островов, что, когда есть раны на ногах, нет лихорадки. Действительно, лихорадка и раны на ногах находились в каком-то взаимном отношении. Дни домашнего ареста я употреблял на приведение в порядок моих заметок и на выписку из дневника сообщений Русскому географическому обществу о путешествии из Явы в Новую Гвинею.
Мои люди чаще, чем я, болели лихорадкою, но во многих случаях лень и притворство увеличивали число дней нездоровья. Во всяком случае я не могу жаловаться на особенно нездоровый климат Новой Гвинеи.
Уже вначале, как только поселился в Бугарломе, при помощи туземцев было расчищено место около дома и посажены разные деревья и посеяны семена различных растений (кокосы, бананы, папая, мангис, арбузы, тыквы, кукуруза и т. д.), из которых большинство принялись и стали расти очень хорошо. От времени до времени я призывал жителей Бонгу, чтобы срубать деревья, расчистить тропинки и т. п. Туземцы всегда охотно являлись или, смотря по работе, присылали своих жен, которые даже лучше работали, чем мужчины, часто прерывавшие работу, то чтобы покурить, то чтобы пожевать пинанг. Когда мне нужны были люди для какой-нибудь работы, несколько ударов в гонг, который для этой цели висел у меня на веранде, сзывал их. Если недостаточно было жителей Бонгу, призывались люди Горенду. Без помощи туземцев очень многое необходимое и удобное не могло быть предпринято и устроено. К моему первоначальному домику из привезенных из Сингапура досок прибавились новые пристройки почти одинаковой величины, состоящие из большой комнаты с двумя верандами, соединенной коридором с жилым домом. Он построен на сваях самого прочного дерева, которое белые муравьи не трогают, и покрыт прочной крышей из листьев саговой пальмы. Жители Бонгу под управлением обоих моих слуг построили мне этот европейско-малайско-папуасский дом, который образует прохладное помещение и который я позаботился заблаговременно построить, думая, что наскоро крытая крыша первого дома из листьев кокосовой пальмы не выдержит ливней декабря и января месяцев.
Сообразно с моим письмом в Сингапуре, я ожидал прихода шхуны за мною в ноябре месяце, но, принимая в соображение довольно далекий путь и зависимость паруса от благоприятного ветра, я не был удивлен, когда шхуна не пришла и в декабре, полагая ее увидеть во всяком случае в январе. Я ожидал ее со дня на день, как видите, еще жду по сей день (2 сентября).
Годовое запоздание прихода шхуны, хотя и было источником многих неудобств, дало мне случай сделать наблюдения над действием папуасской пищи (единственно в подробностях немного отличающейся от пищи жителей островов Тихого океана) на белых.
Кроме писем, приход шхуны интересовал меня в чисто материальном отношении. Имея намерение оставаться этот раз на берегу Маклая пять-шесть месяцев, я никоим образом не имел в виду неисполнение моего поручения, и мои припасы были сделаны сообразно тому. В конце января кончился запас риса, затем в продолжение февраля, марта и апреля — все другие. Зная, что провизии на 5 или 6 месяцев у меня достаточно, я не обратил внимания, когда шкипер шхуны сдал мне многие мешки, далеко не полные (сухари, бобы) или подменные (в мешки риса лучшего сорта был подсыпан рис дурного качества).
Возвращаясь из моего путешествия по Малайскому полуострову в ноябре 1875 г. и имея всего два или три месяца до отъезда в Новую Гвинею, я не хотел прерывать моих занятий в Бюйтензорге поездкой в Батавию для приготовлений к новому путешествию. Все закупки и приготовления было лучше сделать в Сингапуре, откуда шхуна отправлялась, поэтому я отступил от важного правила, которое должен иметь в виду каждый путешественник: не поручать никому другому приготовления, а делать все запасы и приготовления к путешествию до мельчайшей подробности самому. Я поручил их одной личности в Сингапуре, которая с готовностью взялась исполнить мои поручения и обратить должное внимание, чтобы все было бы хорошо упаковано. Я был наказан за свое доверие и пренебрежение к материальной части моего предприятия.
Я не был доведен до положения, в котором находился в Гарагаси в 1871–1872 гг., когда пришлось обходиться восемь месяцев без соли; у меня и теперь еще есть немного кофе, какао, чай, красное и хинное вино. Некоторые из вещей не были взяты, многие, по случаю дурной упаковки, оказались в малопригодном состоянии. Оказалось, например, что запас дроби был весьма мал, так что уже в марте месяце Мебли, который был на деле далеко не такой стрелок, каким его описывали его соотечественники, исстрелял с лишком 1600 патронов и должен был по случаю недостатка дроби прекратить охоту, так что и в этом отношении стол мой обеднел и, чтобы не быть принужденным есть одно таро, надо было приискать другие источники.
Я нашел для лентяя Мебли, вместо охоты, другое занятие, именно рыбную ловлю, которая в результате несколько разнообразит мой даже в сравнении с первыми месяцами пребывания в Бугарломе весьма однообразный стол.
Жизнь в такой отдаленной местности от европейских колоний имеет то большое неудобство, что надо или делать громадные запасы, или привыкать обходиться без многих, иногда весьма необходимых вещей. Мои сборы к этому путешествию в декабре 1875 г. были весьма спешны, и многое было позабыто. Двое из моих часов были приведены в бездействие, одни вследствие падения при экскурсии в горах, другие вследствие опытов, которые вздумал производить над ними один из моих слуг с о. Пелау. Мне пришлось поэтому быть очень осторожным с оставшимися, и я заводил их единственно, когда предпринимал экскурсии. Днем, когда я оставался дома, высота солнца была для меня достаточным регулятором времени. Для вечера я придумал весьма удобное мерило времени, именно сгорание стеариновой свечи. Масштаб, приделанный к подсвечнику, деления которого были определены несколькими опытами, мог мне показать ход времени с достаточной точностью. Если не ошибаюсь, японцы имеют нечто подобное: тоже применяется огонь как мерило времени.
У меня оказалось только полдюжины тонких стекол для микроскопических объектов (?). Пришлось быть весьма осторожным и не пренебрегать самыми малыми осколками. Обуви было значительно, но я позабыл привезти пару туфель.
Последствия расхищения моих вещей в Айве (Папуа-Ковиай в апреле 1874 г.) отозвались неприятным сюрпризом и в настоящем путешествии. Многих вещей, которых я тогда лишился, я не мог пополнить в Батавии и Сингапуре, не успел или забыл выписать их из Европы, тем более что 1876 год я провел почти постоянно «en route» (Сиам, Малайский полуостров). Так, напр., мой большой ящик с анатомическими инструментами, который был унесен папуасами в горы вместе с другими полезными и необходимыми вещами, я совершенно забыл заменить новым, вовремя выписав из Европы. Пришлось довольствоваться оставшимся небольшим ящиком, дополнив его из несессера хирургическими инструментами и остальными, выбрав даже между столярными принадлежностями.
Не стану далее приводить примеров ухищрений разного рода, к которым мне приходилось прибегнуть по случаю недостаточно полных приготовлений к затянувшемуся пребыванию в Новой Гвинее и разным лишениям вследствие запоздалого прихода шхуны. Тех и других я мог бы привести дюжину. Но перейду лучше от этой misere de la vie journaliere к весьма серьезному вопросу, который занимает меня часто.
Размышления о судьбе туземцев, с которыми я так сблизился, часто являлись само собою, и прямым следствием их был вопрос, окажу ли я туземцам услугу, облегчив моим знанием страны, обычаев и языка доступ европейцев в эту страну. Чем более я обдумывал подобный шаг, тем более склонялся я к отрицательному ответу. Я ставил вопрос иногда обратный: рассматривая вторжение белых как неизбежную необходимость в будущем, я снова спрашивал себя: кому помочь, дать преимущество, миссионерам или тредорам? Ответ снова выпадал — ни тем, ни другим, так как первые, к сожалению, нередко занимаются под маской деятельностью последних и подготовляют путь вторым. Я решил поэтому положительно ничем, ни прямо, ни косвенным путем, не способствовать водворению сношений между белыми и папуасами.
Возражения подобные: темные расы, как более низшие и слабые, должны исчезнуть, дать место белой разновидности, высшей и более сильной, мне кажется, требуют еще многих и многих доказательств. Допустив это положение и проповедуя истребление темных рас оружием и болезнями, логично идти далее и предложить отобрать между особями для истребления у белой расы всех неподходящих к принятому идеалу представителей единственно избранной белой расы. Логично не отступать перед дальнейшим выводом и признать ненужными и даже вредными всякие больницы, приюты, богадельни, ратовать за закон, что всякий новорожденный, не дотянувшись до принятой длины и веса, должен быть отстранен и т. д.
Дойдя, наоборот, при помощи беспристрастного наблюдения до положения, что части света с их разными условиями жизни не могут быть заселены одной разновидностью species homo с одинаковой организацией[160], с одинаковыми качествами и способностью, и додумавшись, что поэтому существование различных рас совершенно согласно с законами природы, приходится признать за представителями этих рас общие права людей и согласиться, что истребление темных рас не что иное, как применение грубой силы, и что всякий честный человек должен восстать против злоупотреблений ею. В большинстве случаев [эти злоупотребления] предпринимаются отдельными личностями, которых вся цель жизни сосредоточена единственно на добывании долларов. История европейской колонизации и европейского влияния на островах Тихого океана переполнена слишком грустными примерами, чтобы взять на себя ответственность привлечением сюда белых увеличить их число.
Чтобы отогнать эти невеселые размышления, мне стоит только обратиться к моим научным занятиям, которые всегда были и всегда будут главнейшею целью моих странствований. И при этом верность замечания «Im Reiche der Intelligenz waltet kein Schmerz, sondern alles ist Erkenntnis» здесь снова подтверждалась. Так как это письмо, однако же, не имеет назначения трактовать о научных результатах и бумага еще есть, то, чтобы переменить тему, расскажу случай, который может послужить примером, как осторожно надо быть при делании «открытий» в стране, подобной Новой Гвинее. Обходя горные деревни вокруг залива Астролябии, я провел первую ночь в Энглам-Мана, затем следующую в Сегуана-Мана, где мои спутники из Бонгу пожелали остаться ждать меня, пока я вернусь с моими новыми проводниками и носильщиками из Самбуль-Мана, куда я направился на другое утро. Спускаясь в лощину между обрывом и хребтами и перейдя вброд весьма быстрый горный поток (верховье р. Коли), мы снова поднялись на противоположную высоту, где стояла деревня Самбуль-Мана. В деревне я расположился в большой хижине, назначенной для хранения принадлежностей «Ай», для гостей и вообще для мужского населения деревни. Барлы в горных деревнях отличны от подобных построек в береговых деревнях. Они малы, низки, не открытые с обеих сторон. Небольшое отверстие (1 м высоты, 0.5 м ширины) в полметра от земли в фасаде служило дверью. Крыша доходила до земли, так что боковых стенок не было, передняя и задняя были образованы из расколотого бамбука, корзинообразно переплетенного. Над дверью под крышею были воткнуты кроме обыкновенных [одно слово неразборчиво] нижние челюсти свиней, собак, черепа разных видов кускуса и Perameles (разные предметы, которые что-либо напоминают или чем-нибудь обратили внимание туземцев[161]). Не только над входом, но и внутри барлы находятся обыкновенно разные этнографические достопримечательности. Осмотрев все предметы у входа, я вошел в хижину, где было так темно, что пришлось зажечь свечу. Кроме двух из дерева вырезанных масок, какие употреблялись при Ай-Мун, несколько костей, привешенных в самом видном месте среди хижины, главным образом привлекли мое внимание. Это были два позвонка быка (средней величины). Из тщательного образа, каким они обязаны хорошо скрученным шнурком, и из выражения физиономии окружающих меня жителей деревни я мог заключить, что последние весьма дорожат этим орнаментом барлы.
— Анде рие? (это что?), — спросил я, удивленный, забыв, что оставил людей Бонгу в Сегуана-Мана. Никто здесь не понимает диалекта Бонгу. Хотя ответили многие, и некоторые вдались в длинные рассказы, я не мог ничего понять. Эта находка меня, однако, сильно заинтриговала. Каким образом эти бычьи позвонки попали сюда? Хотя я читал, что в Новой Гвинее были найдены следы не только быка, но следы и каменного носорога, видеть в этих позвонках доказательства этих открытий мне не пришло в голову. Однако же я сейчас же послал в Сегуана-Мана за одним из людей Бонгу, чтобы получить объяснения.
На другой день пришел один из жителей Бонгу, и я услыхал следующую повесть. По уходе корвета «Изумруд» находили многие предметы, выброшенные на берег, между которыми находили несколько костей, которые были признаны за «сурле буль-боро русс». Один из туземцев ухищрялся вечером объяснить мне, что это — кости большой свиньи и что они получили их из Энглам-Мана. Эти кости, принадлежащие «большой свинье с большими зубами на голове», были собраны и сохранены как редкость жителями Горенду, от которых один из туземцев Энглам-Мана получил два позвонка в подарок. От него они перешли к отцу его невесты, жителю Самбуль-Мана.
Другие кости быка были подарены в другие деревни и, может быть, пространствовав подобным образом дальше, не только удивят, но послужат к гипотезам, если будут найдены путешественником по ту сторону Мана-Боро-Боро.
При посещении горных деревень я осматривал со вниманием не только хижины, но также материал всех украшений[162], которые носят жители берега Маклая и которые отличаются значительно, смотря по деревням, надеясь найти следы животного, которое, вероятно, существует в Новой Гвинее не только на севере, где его нахождение было доказано мне в 1875 г.[163] Я говорю о Gen. Echidna.
Я думал найти или иглы его, употребляемые как украшение какого-нибудь рода (в виде ожерелья, браслета и т. п.), или его череп как остаток туземного угощения. Но иглы не нашлись между украшениями, и ревизия всех костей и черепов, которые попались мне до сих пор на глаза, не повела к открытию. К тому же такое животное так характерно, что туземцы, которых я не раз спросил о нем, должны бы его знать…
Бугарлом, на берегу Маклая,
Октябрь и ноябрь
Ноябрь 1877. В море, около о-ва Агомес. Мое письмо было прервано приходом шхуны. Шхуна не привезла ни писем, ни провизии. Г. Ш. в Сингапуре предположил, что, наскучив ждать шхуны (ждал ее, правда, 12 месяцев), я покинул, вероятно, свой берег с одним мимо проходящим судном, почему заблагорассудил оставить мои письма у себя в Сингапуре. Но, не будучи, однако же, положительно уверен в возвращении моем, он дал инструкцию шкиперу заглянуть на всякий случай на мой берег. Прождав письма 21 месяц, придется прождать еще месяц или два. От шкипера узнал весть о войне России с Турцией и о взятии Константинополя.
Идем в Сингапур, но противный западный ветер или штиль очень задерживает плавание.
Сингапур. Сидней
Секретарю Географического общества из Сиднея 28 окт. 1878 г.
М. Г.
Мое около полугода (от января до июля) продолжавшееся нездоровье (Feb. remit., Diarrh. chron. beri-beri[164] и т. д.) вынудило меня против желания выехать из Сингапура, так как я убедился, что в Сингапуре мне не удастся поправиться. Малейшее несоблюдение строжайшей диеты вызывало новые рецидивы, которые увеличивали слабость; анемия и общее истощение сил, которые были причиною почти постоянного головокружения, нередко внезапно наступающей бессознательности и сильнейшей гиперстезии, довели меня до крайней нервной раздражительности (самая незначительная причина, глупейшая малость чрезмерно раздражали меня; шум шагов, легкий кашель, звук голоса окружающих и т. п. доводили меня до самого смешного, почти истерического состояния). О серьезной работе нельзя было и думать. Даже простая переписка писем, написанных Географическому обществу в Бугарломе (на берегу Маклая), была слишком утомительна, и я не смог ее окончить. Полагая, что, может быть, перемена воздуха будет иметь хорошее влияние на здоровье, я перебрался в Иохорбару и снова воспользовался любезным гостеприимством махарадьи Иохорского. Я пробыл в Иохоре около 6 недель, но, несмотря на то, что воздух там чище и термометр не поднимается так высоко, как в Сингапуре, эта перемена не помогла мне. Я должен был согласиться с мнением трех сотоварищей по медицине, д-ров Требинга, Робертсона и Арнольди, имевших любезность посещать меня весьма часто во время моей болезни в Сингапуре, которое сводилось к тому, что в моем случае более верное (или, вероятно, единственное) средство оправиться — это переселение на время в более холодный климат (я семь лет не покидал тропических стран). Мне приходилось выбирать между Европой, Японией и Австралией. Между многими причинами, вследствие которых мой выбор пал на Австралию, — желание познакомиться с интересною австралийскою фауной, дополнение моих сравнительно-анатомических исследований мозга позвоночных, продолжение моих антропологических наблюдений и т. д. выдвигались на первый план.
Оставив часть моего многочисленного багажа у русского вице-консула, моего приятиля г-на Вампоа, я прибыл через Торресов пролив в Сидней. Хотя пароход останавливался в разных портах восточного берега Австралии (Куктауне, Таунсвилле, Бовене, Кеппельском заливе, Брисбене), но остановки были, к сожалению, так непродолжительны, что нельзя было съезжать на берег.
Мое здоровье при этом двадцатидвухдневном путешествии значительно поправилось[165], так что, приехав в Сидней, оказалось лишним, как я сперва намеревался, поместиться в больнице.
С возвращением сил я с нетерпением ожидал возможности возобновить первоначальные сравнительно-анатомические работы. Но при этом являлся вопрос: где? Превратить одну из комнат Австралийского клуба, где я жил, в препаровочную, было бы против правил этого полезного учреждения; нанять квартиру? — хозяин или жильцы могли бы во многих случаях изъявить претензии; нанять отдельный коттедж? — пришлось бы нанять прислугу, заводить хозяйство и т. д., т. е. хлопот много и притом дорого.
На выручку явилось предложение г-на Вильяма Маклея, известного энтомолога, обладателя интересного зоологического музея[166], члена верхней палаты Нью-Саус-Уэльского парламента и т. д. Г-н В. Маклей предложил мне не только работать в его зоологическом музее, но даже поселиться в его доме.
На первое предложение я, разумеется, с благодарностью тотчас же согласился, более подходящего места для работы трудно было бы пока найти. Второе также соблазняло меня, представляя возможность беззаботно и комфортабельно жить в нескольких шагах от музея, где я мог работать; к тому же я положительно не знал, как долго я пробуду в этом городе.
После 9-месячного вынужденного перерыва в занятиях со времени, как в ноябре прошлого года я покинул мой спокойный домик в Бугарломе на берегу Маклая по случаю переезда из Новой Гвинеи в Сингапур, а главным образом вследствие моего вышеописанного продолжительного нездоровья, я с наслаждением воспользовался возможностью работать. Чувство, которое я испытывал, было весьма похоже на чувство голодного, наконец, находящего случай попробовать ряд любимых блюд.
За материалом для работы дело не стало. Я много лет уже старался добыть несколько экземпляров акулы из рода Heterodontus, но безуспешно. Один вид Heterodontus Philippiвстречается очень нередко в водах порта Джексона. Я не только получил несколько экземпляров этой акулы, которой анатомия мозга оказалась, как я и ожидал, весьма интересною, но значительное число других видов из отряда Plagiostomata.
Мое второе желание было добыть мозг австралийских туземцев. Несмотря на все старания с моей стороны, это желание еще (кончается уже 3-й месяц) не осуществилось (надеюсь, что мои старания не останутся одним пожеланием). Но так как при большой бедности исследований, относящихся к сравнительной анатомии мозга человеческих рас, всякий материал ценен и не должен быть отложен в сторону, то я не упустил случая сохранить для исследования мозг двух туземцев островов Тихого океана, умерших в городском госпитале. Так как австралийские туземцы очень редко попадают в городскую больницу, то я постарался официальным путем через инстанции секретаря колонии и главного директора тюрем получить позволение в случае смерти одного из содержащихся в тюрьме туземцев, вынуть и сохранить для научного исследования его мозг. Но пока этот случай представится, я между прочими занятиями считаю своим долгом не оставить без внимания с каждым годом исчезающих[167] австралийцев и при каждой возможности занимаюсь антропологическими измерениями и снятием фотографий.
Совет директоров австралийского городского музея в Сиднее был так любезен, что предоставил мне для снятия этих фотографий фотографическое ателье и фотографа, находящегося при музее. Если мне удастся довести в целости эти негативы до Европы, то они, отпечатанные при помощи фотографии, послужат мне отличными иллюстрациями к моим антропологическим наблюдениям.
Кстати замечу здесь, что, наперекор желанию, приходится сознаться, что для естествоиспытателя, а тем более для путешественника, необходимо быть самому фотографом, и мне волей-неволей приходится учиться этому положительно необходимому искусству[168]. Кроме всего в австралийском музее обратили на себя мое внимание несколько черепов, и я не упущу случая сообщить проф. Вирхову об этих краниологических достопримечательностях.
В этом же музее внимательный осмотр собрания этнологических предметов с южного берега Новой Гвинеи и с островов Меланезии пополнит мой уже весьма значительный материал[169] по отделу первобытного искусства меланезийцев.
Программа моих сравнительно-анатомических, антропологических, этнологических работ в Австралии в кратких словах следующая: 1) продолжение сравнительно-анатомических исследований мозга Plagiostomata (быстро подвигающееся); 2) исследования и тщательное изображение (при помощи фотографических снимков) мозга туземцев Полинезии, Австралии, Меланезии (начата); 3) антропологическое исследование и фотографирование австралийцев (подвигается); 4) исследования мозга Ornithorynchus echidna, Halicore dugong, Ceratоdus Forsteri (in spe); 5) продолжение этнологических заметок «Artes papuanае» (подвигается).
Потребуется на эти работы, как я предполагаю, 5 или 6 месяцев. Для добытия Ceratodus и Halicore придется мне отправиться месяца на полтора в Квинсленд, где так же, как я слыхал, чаще, чем в Сиднее, может представиться случай добыть мозг австралийцев.
Было бы непростительно с моей стороны бросить весь этот материал без исследования или, увлекшись коллекторством (слабостью, которою я, впрочем, никогда не страдал), попытаться перевезти в Европу «малую толику» материала, который к тому же вряд ли доберется туда в состоянии, достаточно хорошем для анатомических исследований. Мне кажется лишним далее развивать эту ясную для каждого мысль…
К тому же, выезжая из Сингапура, я обратился к командующему отрядом судов в Тихом океане, прося его известить меня о времени возвращения судов в Россию. Недавно получил я ответ от контр-адмирала барона Штакельберга с известием, что клипер «Всадник» возвращается в Россию, что в исходе сентября или начале октября клипер будет в Сингапуре и сможет взять меня.
Письмо было отправлено из Иокагамы 24 июня, я его получил в Сиднее 11 октября, оно пробыло 80 (!) дней в дороге из Японии в Австралию (через Цейлон). Итак, мне не посчастливилось попасть на «Всадника».
Но из выше сообщенной программы моих работ ясно, что я не мог покинуть Австралию ранее нескольких месяцев (это было бы положительно преступлением перед наукой), и в то же время легко понять, что мое время в Сиднее не уходит даром. Оказывается положительно, что день слишком короток для работы, а ночь недостаточно длинна для отдыха! К тому же еще, хотя здоровье значительно поправилось[170], я все-таки чувствую нередко приступы лихорадки.
Миклухо-Маклай
Все еще не получил ни одного номера «Известий РГО», давно, очень давно обещанных.
Пребывание в Сиднее
(от августа 1878 г. по март 1879 г.)
Сравнительно-анатомические работы: мозг хрящевых рыб selachii («Plagiostomata of the Pacific…»); развитие извилин большого мозга у меланезийской расы. Предложение об основании зоологической станции в Сиднее. Письмо его превосходительству сэру Артуру Гордону.
В моем предпоследнем письме (в октябре 1878 г.) я сообщил перечень начатых работ. Продолжая сравнительно-анатомические исследования мозга хрящевых рыб и добыв достаточный материал для этих исследований, я нашел при попытке определения видов, что, прежде чем заняться исследованием мозга и нервной системы, мне придется сперва критически разобрать и в некоторых случаях значительно дополнить систематическое описание многих видов Plagiostomata. Таким образом состоялась работа по систематике хрящевых рыб[171], которой первый выпуск уже напечатан и которой продолжение будет выходить от времени до времени в Сиднее; она составляет дополнение, род комментария к сравнительно-анатомическим исследованиям мозга этих рыб. Полная монография по этому предмету может быть издана только в Европе, так как в колониях исполнение таблиц слишком неудовлетворительно и дорого.
Считая исследование мозга людей темных рас делом первой важности для антропологии, я не пропустил ни одного смертного случая в госпитале и имел возможность добыть таким образом шесть экземпляров мозга туземцев с островов Тихого океана (меланезийцев)[172]. Так как сравнительная анатомия мозга человеческих рас находится еще в весьма примитивном состоянии, то я избрал между многими вопросами, возникающими при этих исследованиях, вопрос о степени и характере развития извилин большого мозга как один из наиболее интересных. Ряд фотографий и весьма точных рисунков в естественную величину, в числе около пятидесяти, составит иллюстрации к пятому выпуску моих «Beitrдge zur vergleichenden Neurologie der Wirbelthiere»[173]. Кроме этой весьма обширной работы, я занялся анатомией мозга ехидны (Echidna hystrix Cuv.), причем, исследуя мозг в совершенно свежем состоянии, я мог исправить многие неточности, допущенные другими исследователями, имевшими для своих работ экземпляры этого животного, консервированные в спирту.
Эти работы поглощали все мое время, почему я не нашел возможности воспользоваться морскими экскурсиями с зоологическою целью (draging excursion), предпринимаемыми часто для пополнения коллекций музея в Сиднее. Я тем более сожалел об этом, что при хорошем знакомстве с береговою фауной Австралии изучение японской фауны, которое я все еще имею в виду, представило бы двойной интерес. Тот же недостаток времени принудил меня отложить внимательное рассмотрение этнологических коллекций Австралийского музея[174].
При обилии интересного материала мне приходилось рассчитывать каждый день, даже стараться не потерять и часа, который мог бы быть употреблен на научные занятия. Я не мог позволить себе даже сделать экскурсию в Голубые горы, одну из самых живописных и геологически интересных местностей Нью-Саут-Вуельса, экскурсию, которую можно было бы сделать в два или три дня, т. к. туда проложена железная дорога.
В одном из предыдущих писем я писал, что, приехав в Сидней, я воспользовался любезным гостеприимством г-на Вильяма Маклея, в музее которого я нашел возможность работать. Когда же мои дальнейшие работы повлекли за собою необходимость помощи фотографии, почему мне приходилось бывать ежедневно в Австралийском музее, в фотографической мастерской которого были исполняемы для меня фотографические снимки с разных препаратов, то г-н Е. П. Рамсей, куратор[175] Австралийского музея, предложил мне комнату в музее.
Хотя мне жаль было прекрасный вид, густой сад в Elizabeth Bay, частые беседы с его любезным хозяином, но я решил принять предложение г-на Рамсея, видя возможность сохранить много времени, живя в самом здании, где я мог заниматься своими анатомическими исследованиями.
Несмотря, однако же, на любезное гостеприимство г-д В. Маклея и Е. П. Рамсея, на значительную помощь моим научным занятиям со стороны директоров Австралийского музея, которым я обязан частью материала для моих анатомических занятий, позволением употребления фотографического ателье и т. п., за что всем этим господам приношу здесь свою полную благодарность, я в Сиднее, как уже много раз и в других местностях, неоднократно сожалел об отсутствии зоологической станции. Здесь было бы не у места входить в подробности, почему музей Маклея и Австралийский музей не могут при теперешней обстановке считаться помещениями, достаточно приспособленными для серьезных научных занятий. Замечательная австралийская фауна может и должна послужить со временем предметом исследований весьма многих естествоиспытателей, которым, как и мне, отсутствие удобного для работы помещения будет очень чувствительно и может повлиять немало на полноту и качество работ их. Убежденный в несомненной пользе зоологической станции и считая основание подобного учреждения в Сиднее при значительном богатстве колонии и большой амбиции австралийцев не уступать ни в чем или почти ни в чем другим странам делом весьма возможным, я уже через несколько недель по приезде в этот город сделал серьезное предложение основать зоологическую станцию в Сиднее или близ Сиднея[176]. Предложение мое было принято так сочувственно большинством членов Linnean Society of New South Wales, в собрании которого было прочитано мое предложение, что я даже некоторое время думал, что сочувственные фразы перейдут в дело и что мне как иностранцу для успеха предприятия лучше не вмешиваться, предоставляя желающим австралийским патриотам всю честь привести проект в исполнение, тем более что избрать пути и найти средства для постройки станции мне казалось более легким и подходящим делом для туземца. Однако же от слов до дела оказалось далеко, так далеко, что прошло 6 месяцев, а основание зоологической станции в Сиднее остается только сочувственно принятым проектом на словах и на бумаге. Я обратился к разным членам Linnean Society, которые вначале особенно сочувственно относились к моему предложению, но, кроме общих фраз, ничего не добился; от некоторых же я услышал даже положительное сомнение в том, что открытие зоологической станции в случае моего отъезда из Сиднея когда-либо состоится. Шесть месяцев полной неподвижности доказывали мне, что последнее мнение легко оправдается. Когда я пришел к этому заключению, оставалось недели две до моего отъезда, но несмотря на то, я решил попробовать сколько-нибудь подвинуть дело, по моему мнению, столь тяжеловесное последствиями для науки, направить его в колею, следуя которой оно может со временем достигнуть цели. Надо было, во-первых, добыть, если возможно, даровой (от правительства) кусок земли в один или даже пол-акра, во-вторых, найти средства для постройки здания.
Я отправился к правительственным лицам (Colonial Secretary, Minister of Lands и т. д.) и после нескольких визитов и переговоров получил от Совета министров колонии Нью-Саут-Вуельса формальное обещание, переданное мне президентом его — Colonial Secretary: даровать для постройки зоологической станции из казенных земель кусок земли, если найдется подходящий для этой цели. Местность таковая нашлась в Watson Bay, и я тогда приступил к другой половине задачи — сбору денег по подписке. В три или четыре дня с помощью нескольких лиц, интересующихся приведением в исполнение моего плана, отправляясь сам собирать подписи, мне удалось собрать для постройки зоологической станции около 100 фунтов стерлингов. Г-н Е. П. Рамсей, имеющий большой круг знакомства, обещал мне собрать такую же сумму. Я слышал от многих компетентных людей, что если в колонии собрана по подписке на какое-нибудь полезное учреждение известная сумма, то правительство имеет обыкновение выдавать из казначейства сумму, равную собранной по подписке от частных лиц.
Таким образом, выезжая из Сиднея, кое-что для будущей зоологической станции в Сиднее было уже достигнуто: во-первых, формально обещан от правительства кусок земли и, во-вторых, вероятие получить на постройку станции около 400 фунтов стерлингов (около 2.800 р. с). Во время моего отсутствия я поручил г-ну Е. П. Рамсею и г-ну В. Хасвелю, молодому зоологу, недавно прибывшему из Эдинбурга, в котором городе он был в университете, следить за тем, чтобы план устройства зоологической станции, по моем отъезде, не канул бы в забвение[177]. Эти лица, прощаясь со мною, выразили надежду, что, когда я вернусь через несколько месяцев в Сидней, я буду в состоянии продолжать начатые и неоконченные еще работы в зоологической станции в Ватсон-бай, к постройке которой они обещали мне приступить, как только получат от Colonial Secretary формальные документы и будут введены во владение[178] дарованным участком земли в Ватсон-бай.
Перспектива эта заманчива, но «верится с трудом», что она окажется действительностью через несколько месяцев: от слов до дела не всегда близко![179]
О содержании письма его превосходительству сэру Артуру Гордону. Считая истребление темных рас на островах Тихого океана не только несправедливою жестокостью, но и непростительным промахом в политико-экономическом отношении[180], я счел долгом изложить в коротком письме на имя его превосходительства сэра Артура Гордона, губернатора о-вов Фиджи и высокого комиссара западного Тихого океана (High Commissioner of the Western Pacific)[181], некоторые пункты, на которые я желал бы направить его внимание в его качестве «высокого комиссара» в случае, если бы Британское правительство сочло нужным (что вероятно) и своевременным аннектировать юго-восточную половину Новой Гвинеи.
Не стану здесь подкреплять положения, высказанные в этом письме, ни фактами из новейшего времени, ни дополнять и объяснять их длинными комментариями из истории колонизации. Положения, как: право туземцев на землю, которую они обрабатывают сотни лет, вред спиртных напитков, значительно способствующих вымиранию туземцев, вред ввоза огнестрельного оружия, умножающий междоусобные войны туземцев[182], и т. п., так ясны для каждого при первом взгляде, что не требуют многословных доказательств и были бы не у места в письме, в котором я хотел указать только на главные моменты, которые не должны быть забыты со стороны всякого гуманного правительства в случае столкновения белой и темной рас. Я обратился к великобританскому правительству, т. к. более вероятно вторжение в эту часть Новой Гвинеи (берег Маклая) последует из Австралии[183], и в таком случае «высокий комиссар» будет первое время одною из высших инстанций во главе новой колонии. К тому же известно, что во время губернаторства на о-вах Фиджи, с 1875 г., сэр Артур Гордон показал себя человеком, который не считает белый цвет кожи ручательством за справедливость требования или правоту дела…
С другой стороны, хотя на английском правительстве лежит черным пятном окончательное уничтожение туземцев Тасмании и постепенное, по сие время продолжающееся истребление австралийцев[184], все же британское правительство по временам старалось быть в отношении туземцев справедливым[185] неприятелем; иногда оно вступалось за них, когда эксплуатация и притеснения в различных формах со стороны частных лиц доходили до крайних границ. Я предпочел не медлить, потому что история колонизации Австралии, Тасмании и Новой Зеландии показывает, что покровительство это со стороны правительства являлось, может быть не без намерения, слишком поздно, и «Rescue the remnant!» был более или менее фарисейский возглас победителя, когда оставалось почти что некого спасать…[186]
Имей я возможность вернуться на берег Маклая и остаться жить среди туземцев, как я прожил около трех лет, я, вероятно, не стал бы писать писем, а доказал бы на деле, что, обладая терпением и необходимою для успеха дозой такта, при действительном понимании характера и положения обеих сторон, со знанием языка и обычаев туземцев, возможно обойтись без несправедливого и жестокого истребления туземцев и сохранить расу, далеко не такую кровожадную, как ее любят описывать любящие эффекты путешественники [расу], способную противостоять при известной добросовестной поддержке опасностям при столкновении[187] с белыми и совершенно акклиматизированную в стране, где европейская колонизация невозможна без помощи темной расы. Надеюсь, однако же, иметь со временем возможность на деле подтвердить это убеждение…
Я передал мое письмо к его превосходительству сэру Артуру Гордону его превосходительству сэру Геркулесу Робинсону, губернатору колонии Нью-Саут-Вуельс, который был так любезен, что взялся послать его сэру Артуру (который тогда находился в отпуску в Европе), а копию того же письма г-ну государственному секретарю для колоний сэру Михаилу Xикс-Бичу.
…Не могу, однако же, удержаться от пессимистического замечания, что справедливость предложений, пожалуй, окажется важной причиной [к тому], что мое письмо останется без желаемых последствий…[188]
Миклухо-Маклай
3 апреля 1879 г. В море, между Сиднеем и Новой Каледонией.
Путешествие на острова Меланезии. 1879 г
Письмо проф. Р. Вирхову. — Препятствие. — Н. M. S. «Renard». — Трехмачтовая шхуна «Sadie F. Caller». — Программа путешествия.
Мог бы я, без постоянных и частых помех разного рода, спокойно заниматься моими анатомическими работами; одним словом, существуй уже зоологическая станция в Сиднее, я призадумался бы прервать начатые работы, чтобы предпринять новое путешествие, не окончив начатых занятий… Но при данной обстановке, видя, что я теряю даром много времени по случаю неудобного, даже совершенно негодного для серьезных занятий, но, к сожалению, единственного места для анатомических работ1, я стал помышлять об отъезде в Японию. Но обдумывая свои предыдущие путешествия и подводя итоги результатов, я пришел к заключению, что о возвращении в Европу пока думать еще не время, что мне следует дополнить мое знакомство с Меланезией посещением Новой Каледонии, Новых Гебрид, Соломоновых о-вов и др. Чтобы избегнуть повторений, приведу здесь письмо, посланное мною проф. Р. Вирхову перед отъездом из Австралии.
Сидней, 13 марта 1879 г. Письмо проф. Р. Вирхову «…Начать какую-нибудь работу бывает обыкновенно легче, чем закончить ее удовлетворительно. Наполнить пробелы хламом слов — дело возможное и нередко пускаемое в ход — противно настоящему исследованию (ist der wahren Forschung ganz und gar zuwider). Так как после 9-летнего странствия по островам Тихого океана мне более бросаются в глаза (в областях: антропологии и этнологии) вопросы без ответов, чем ответы, удовлетворительные и так как здоровье мое снова достаточно поправилось, то я решил, продолжая избранный мною путь, предпринять 4- или 5-месячную экскурсию на о-ва Меланезии, и преимущественно на те, которые остаются мне еще неизвестными. Мне кажется весьма важным видеть самому как можно большее число разновидностей меланезийского племени; несколько дней, даже несколько часов личного наблюдения туземцев на месте родины, и в их ежедневной обстановке имеют в этом случае большее значение, чем повторное чтение всего о них написанного.
Я предпринимаю это путешествие при особенных условиях, и только сознание значения его для моих антропологических исследований побудило меня остановиться на этом решении, сообразно моему убеждению, что в предприятиях, касающихся успеха науки, всякий личный интерес должен уступить.
Будучи убежден, высокоуважаемый господин профессор, что Вы разделяете мое мнение о немалом значении для антропологии беспристрастного разъяснения отношений между разновидностями меланезийского племени, смею думать, что мой план окажется достойным Вашего полного одобрения.
Другое обстоятельство побуждает меня не отлагать мое путешествие, — то, что, если я отложу его теперь, — пожалуй, никогда не буду в состоянии его предпринять…»
Препятствие. Мое решение не только шло наперекор моему намерению вернуться в этом году в Европу, что было для меня желательно и даже важно во многих и многих отношениях; но при этом представлялось еще и другое затруднение, заключающееся в моем финансовом положении. Ожидать присылки денег было неоткуда; даже, наоборот, в то время как я обдумывал план путешествия, я получил из Батавии письмо от одного торгового дома — настоятельную просьбу об уплате старого долга, составлявшего относительно значительную сумму.
Но подчинить дело науки грошам, бросить план научного путешествия вследствие недостатка нужных грошей, мне показалось делом совсем неподходящим. Я решил прибегнуть к крайнему средству, будучи убежден, что Русское географическое общество, помогшее мне девять лет тому назад предпринять путешествие на о-ва Тихого океана, не задумается помочь мне, когда дело касается серьезной попытки удовлетворительно закончить ряд нелегких и многосторонних исследований.
Вексель на кассу Русского географического общества, который В. Маклей имел любезность индоссировать, на сумму 150 фунтов стерлингов (расчетливо предположенный минимум на издержки) помог мне выйти из затруднительной дилеммы.
H. M. S. «Renard». Мое намерение было отправиться с одною из военных шхун, которые посылаются английским правительством на станции в разные архипелаги юго-восточной Меланезии с целью контроля над вывозом так называемых «free labourers» (вернее — рабов) с этих островов. Эти шхуны уходят из Сиднея и остаются месяцев шесть, иногда более, в этих архипелагах. Сообщив коммодору Вильсону, начальнику Австралийской морской станции, мое желание и спросив его позволения отправиться с одною из шхун на острова, я получил ответ, что он не имеет ничего против, если командир одной из шхун согласится взять меня, но что при тесноте помещения (шхуна всего около 80 т) он не желал бы стеснить двух офицеров (лейтенанта и мичмана), помещающихся в небольшой каюте, приказанием [взять меня на шхуну].
Случилось, что командир одной из шхун, H. M. S. «Renard», был лейтенант Ричардс, сын адмирала Ричардса, с которым я познакомился в Лондоне в 1870 г. при выдаче мне из английского адмиралтейства линя для термометрических наблюдений. Я отправился повидаться с г. Ричардсом, который с первых же слов согласился взять меня с собою.
Однако же, осмотрев шхуну, убедившись в тесноте кают и узнав, что г. Ричардс обещал Л. Лайарду, английскому вице-консулу в Новой Каледонии, взять его с собою из Hумеи на Соломоновы о-ва, мне оставалось, чтобы других не стеснять и самому не быть стесненным, приискать другую оказию, чтобы попасть на о-ва Меланезии. Такая не заставила долго себя ждать.
Американская трехмачтовая шхуна «Sаdie F. Caller» — хороший ходок с довольно большим помещением — должна была отправиться на о-ва Меланезии и на Новую Гвинею с коммерческою целью. Программа экспедиции довольно сложная. Освободившись от своего груза из Сиднея в Нумее, она должна будет по пути, via Новая Каледония, о-ва Лойэлти и Новые Гебриды, набрать человек 40 или 50 рабочих для ловли и препарирования трепанга на о-вах Санта Крус. Затем для меновой торговли предполагалось посетить Соломоновы о-ва, о-ва Адмиралтейства и о-ва у юго-восточной оконечности Новой Гвинеи. Программа эта подходила к моим планам, [так как] шхуна должна была посетить многие острова, и даже довольно продолжительная стоянка на о-вах Санта Крус для ловли и приготовления трепанга, могущая продолжиться даже полтора или два месяца, не пугала меня, так как группа Санта Крус, или Нитенди, хотя открытая в конце XVI столетия (Мендана в 1595 г.), все еще остается известною в этнологическом отношении, главным образом, лишь по описаниям первых испанских мореплавателей. Обстоятельство, что шхуна посетит о-ва Тауи (Адмиралтейства) и зайдет на о-ва у юго-восточной оконечности Новой Гвинеи, представляло удобный случай навестить берег Маклая. Все это, в связи с возможностью пользоваться довольно большой каютой, определило мое решение отправиться с этою шхуной.
Наученный опытом путешествия 1876 г., я счел нужным заручиться письменным документом, излагающим на бумаге обоюдное соглашение между шкипером шхуны и мною. Содержание этого документа в кратких словах следующее:
«Нижеподписавшиеся согласны в следующих пунктах:
Во 1-х. Трехмачтовая шхуна «Сади Ф. Кэллер» после посещения островов Новой Каледонии, Новых Гебрид, Соломоновых и других зайдет на берег Маклая на Новой Гвинее, где останется, по крайней мере, 14 дней, а затем посетит также острова Кар-Кар и Ваг-Ваг.
Во 2-х. Капитан Веббер обязывается оказать всякое содействие (to give every assistance) г-ну Миклухо-Маклаю, связанное с его научными работами, взамен чего г-н Миклухо-Маклай обещает содействовать экспедиции своим знакомством с островами, нравами туземцев и т. д.
В 3-х. Г-н Миклухо-Маклай обязуется платить 30 шиллингов в неделю; в эту плату включается содержание его слуги.
В 4-х. В случае если г-н Миклухо-Маклай будет убит туземцами одного из островов, капитан Веббер обещается не позволить себе никаких насилий относительно туземцев под предлогом «наказания» (will not permit himself to employ any kind of violence against the aborigines by way of punishment)»[189].
Шхуна «Сади Ф. Кэллер» отправилась в путь из Сиднея 29 марта, в 5 часов 30 минут утра.
22 апреля 1879 г.
На якоре, Bonne Anse, Baie de Prony
на юге Новой Каледонии.
Новая Каледония и острова Лифу
(1—26 апреля 1879 г.)
Отрывки из дневника путешествия на острова Меланезии
1 апреля. На одиннадцатый день плавания из Сиднея шхуна бросила якорь в порте Нумея.
Отправившись на берег, я познакомился с английским генеральным консулом господином Лайардом, человеком, занимающимся, между прочим, также и зоологией. От него я пошел к pere Montrouzier, весьма интересному человеку, пробывшему несколько десятков лет миссионером на островах Тихого океана, а последнее время окончательно поселившегося в Новой Каледонии. Имея большое пристрастие к естественным наукам, pere Montrouzier в продолжение своей деятельности миссионера занимался также собиранием коллекций по всем отраслям естествознания. Будучи человеком очень наблюдательным и обладающим хорошей памятью, pere Montrouzier мог сообщить мне также немало сведений по антропологии и этнологии жителей островов, где он жил в качестве миссионера. Он обещал полное содействие и пригласил меня в монастырь Conception, где я буду иметь возможность видеть туземцев, живущих под специальным покровительством миссионеров.
2 апреля. Был обрадован утром визитом господина Ш., сына доктора Ш., долго жившего и практиковавшего в Петербурге, которого я знал в Иене. Господин Ш. уже много лет живет в Новой Каледоний, имеет обширную плантацию в нескольких километрах от Нумеи и, кроме того, занимается торговыми делами. Восстание туземцев, при котором плантация господина Ш. с ее жителями подверглась опасности быть разграбленной, а люди, при их сравнительной малочисленности, убитыми поголовно, так напугало госпожу Ш., что ее муж решил, во избежание повторения такой случайности, совершенно покинуть Новую Каледонию и переселиться в Аргентинскую республику. Пока же он оставался в Нумее для продажи своей плантации и окончания дел. Господин Ш. любезно пригласил меня к себе на плантацию, причем я буду иметь возможность видеть немного внутренность острова, так как Тамоа (плантация Ш.) лежит за береговым хребтом.
Сделал визит губернатору capitaine de vois Jean Olry, который обещал, когда захочу, дать мне возможность осмотреть все достопримечательности Нумеи как места ссылки.
12 апреля. Экскурсия в Тамоа. Около 2 часов пополудни мы выехали в небольшом кабриолете по хорошей дороге в Тамоа. Часть дороги туда мы могли сделать по шоссе, идущему от Нумеи на север острова, а затем свернуть с большой дороги по проселочной на плантацию господина Ш. По обеим сторонам шоссе растительность роскошная, а силуэты гор, эффектно освещенные заходящим солнцем, придавали дороге особенно живописный вид. Под вечер, по случаю усталости лошади и тяжелого экипажа, нам пришлось оставить последний и верхом добраться до Тамоа, куда приехали в совершенной темноте.
13 апреля. Хотя было далеко за полночь, когда мы приехали вчера вечером, комары разбудили часа в 3 ночи и не давали заснуть. В 7 часов утра, уже после завтрака, в сопровождении одного из надсмотрщиков, данного мне г. Ш. в провожатые, я отправился в деревню туземцев. Она была расположена на холме, на склонах которого была разведена плантация таро и ямса. Мы были встречены несколькими жителями обоего пола, тип которых почти что не отличался от типа папуасов Новой Гвинеи. Несколько украшений, татуировка женщин делали их будто отличными от последних, но тип был одинаков. Я сделал несколько рисунков татуировки, записал несколько слов туземного диалекта, выпил кокосовой воды и отправился дальше. Мой спутник, оказавшийся ссыльным, но вследствие хорошего поведения могущий пользоваться относительной свободой, спрошенный о месте, где я мог бы найти черепа туземцев, обещал показать мне таковые, предупредив, однако, что дорога будет очень скверная. Мы добрались туда, и под навесом скалы я увидел два скелета, обложенные с четырех сторон небольшими камнями. У скелетов недоставало, кроме маленьких костей рук и ног, обоих черепов. Это место называлось «куни», и на некоторых деревьях вблизи я заметил привязанные тряпки. Вид с этого места обширный и красивый. Мой проводник, заметив, что я остался недоволен отсутствием черепов, повел меня в другое место. Здесь мы нашли хижину, около которой были врыты в землю деревянные, особенным образом заостренные столбы, так называемые «нукума». Эти «нукума» ставятся в виде memento по усопшим и суть не что иное, как верхи хижин, которые они занимали при жизни. Хотя место было уединенное, мой проводник, очевидно, не желал, чтобы туземцы видели его здесь, поэтому, сказав, что я, вероятно, найду череп или два в хижине, остался сторожить у входа. Я нашел, что искал, в одной из корзин, висевшей под крышей. В хижине были, кроме того, другие предметы: большие глиняные горшки, железная кастрюля, железный же топор, несколько копий и множество висящих из-под крыши узких полосок тапы. Посредине находился большой очаг. Мой проводник объяснил мне, что в этой хижине жил человек, пользовавшийся между туземцами большим значением, и что он похоронен в самой хижине. От времени до времени туземцы сходятся сюда на разные церемонии, причем не обходится без пиршеств. Рядом с хижиной находится род шалаша, служащий кухней при этих торжествах. Приперев деревянную дверь так же, как и нашли ее, мы поторопились убраться и, к удовольствию моего проводника, не были замечены туземцами. После обеда господин Ш. сделал мне сюрприз, собрав значительное число туземцев обоего пола, желая показать туземную пляску. Один из главных начальников окрестных деревень, по имени Jagnes, явился очень подпивши, в сюртуке с галунами, в офицерской кепи, но без панталон. Он начал с того, что обратился к господину Ш. и просил у него бренди, обещая пляску на славу. Когда стемнело, пляска началась. Она вышла, разумеется, настоящей карикатурой; барабаны туземцев были заменены жестянками из-под керосина, удовольствие и возбуждение обыкновенной пляской заменилось полуопьянением от европейских спиртных напитков (рома и джина).
14 апреля. Пляска туземцев продолжалась до 2 часов ночи, так что едва я заснул, как пришлось встать. В четверть пятого в темноте мы верхом были уже на обратном пути. В 11 прибыли в Conception, где нас ожидали с обедом pere Montrouzier и pere Tomassin. Узнал от них немало интересного о туземцах и смерил две интересные головы, доказывающие, несомненно, деформацию черепа, которой подвергаются здесь дети в первые месяцы жизни.
Мы вышли осмотреть деревню, лежащую у самого морского берега. Влияние миссионеров отозвалось на постройке хижин, утративших туземный характер, на самих туземцах, заменивших свой первобытный костюм разнокалиберным европейским отрепьем, и на всей домашней обстановке. Во многих хижинах я нашел, кроме больших лубочных изображений Пресвятой Девы и разных святых, также столы и стулья. Все жители этой деревни номинально христиане, и дети при нашем приближении сбегались целовать руку патера. Между детьми я заметил несколько прямоволосых, головки которых резко отличались от черных, курчавоволосых. Близость европейского населения и благосклонность женщин к европейцам вообще легко объясняет это явление.
Pere Montrouzier отвез меня вечером в Нумею.
15 апреля. По приказанию губернатора в мое распоряжение был прислан небольшой пароходик для осмотра так называемого Оle Nout, где находится главная тюрьма. Повидавшись с commendant de la place, который мне дал проводника, отправился в тюрьму. Несколько отдельных зданий окружены высокой стеной. Первое, в которое мы вошли, служило спальней заключенным. По обеим сторонам длинного прохода находились маленькие камеры для одного или двух человек. Постели везде заменены койками, которые на день скатывались и висели на одной из стен. Каждая камера была снабжена тяжелой, окованной дверью с небольшим окошечком. Вечером посредине коридора зажигают фонари.
Затем я осмотрел мастерские — столярную, кузнечную, портняжную. В этих помещениях было светло, прохладно и просторно. Некоторые из заключенных работали усердно и, казалось, интересовались работой.
Больница хорошо содержится и отлично вентилирована. Заключенные едят три раза в день; получают кофе, вино три раза в неделю, и вообще в этом отношении им хорошо.
С Оle Nout я переехал на полуостров Ducos, где познакомился с commendant Bascans. Ha этом полуострове поселены коммунары.
В довольно обширной долине построены небольшие домики с садиками, назначенные одному или двум (по желанию); здесь они пользовались значительной свободой и могли делать, что хотели. Им отпускается каждый день паек. Многие из них разводят небольшие огородики для личного обихода. Два раза в неделю по очереди их отпускают в Нумею, где они могут сбывать свои произведения, так как между ними есть очень хорошие мастеровые и даже художники.
Я был рад, когда окончил осмотр этих учреждений для ссыльных.
Место заключения женщин находится на том же полуострове, но ехать туда было поздно, а завтрашним днем я уже располагать не могу.
Вечером обедал в «Cercle», здешнем клубе, ресторан которого содержится каким-то графом. Обед был очень хорош. На площади перед «Cercle» играла музыка с «Victorieuse», и все европейское население разгуливало по пыльной и некрасивой площади.
19 апреля. При маловетрии на четвертый день шхуна находилась в канале «Вудин» между островом Vea и Новой Каледонией. Лоцман сообщил мне, что прежде на этом острове было более 1000 человек туземного населения, теперь же остается менее сотни. Причина этого уменьшения — различные эпидемии, занесенные европейцами. Лоцман винил также миссионеров, которые, по его словам, сильно вмешиваются в домашнюю жизнь туземцев, запугивая их адом.
Между растительностью новокаледонийская ель характеристична. Кругом почти нет признаков жизни. На берегу находится военный пост и телеграфная станция. От одного из служащих я приобрел несколько земноводных раковин.
20 апреля. По случаю штиля не могли сняться. Отправился на берег. Дети французского унтер-офицера и жены его туземки Новой Каледонии (очень темной и курчавоволосой) были замечательно светлокожи с темно-каштановыми волосами, вьющимися и мягкими. В Южной Европе внешность их не отличалась бы резко от других детей. Они казались здоровыми и рослыми для своих лет. Поднялся сильный ветер, и чтобы добраться до шхуны, потребовалось четыре с половиной часа.
24 апреля. Три дня погода была шквалистая, дождливая, холодная, и очень непостоянный ветер заставил нас, ежечасно надеявшихся уйти, простоять на якоре. Утром пришла небольшая казенная шхуна с чиновником, посланным капитаном над портом Нумеи, с приказанием от губернатора отправиться сейчас же далее или вернуться в Нумею. Такое приказание показалось сперва смешным шкиперу американцу, но он не замедлил послушаться, когда узнал, что причина этого приказания была — возможность бегства каторжников из Pеnitenciere, которые могли бы нахлынуть неожиданно и, перерезав всех, захватить судно. Несмотря на противный ветер, дождь, мы снялись.
25 апреля. Остров Лифу, гавань Кепенге. Только к часу пополудни, после неспокойной ночи по случаю сильной качки мы бросили якорь около селения против дома французского резидента.
Французский военный пароход и две небольшие шхуны были на якоре. На берегу виднелись несколько белых домов европейцев, а за ними там и сям проглядывали крыши туземных хижин.
Я имел от pere Montrouzier рекомендательное письмо ко всем католическим миссионерам (p. Maristes). Съехав на берег и выбрав между сбежавшимися мальчиками туземцами одного, по имени Оно, я направился в селение Яшо, где жил pere Fabere. Тропинка в лесу была мокрая от дождя и темная, так как лес был густ. После 40 минут ходьбы мы пришли к выбеленному, но внутри очень грязному и неуютному домику, где также грязный старый padre встретил меня. Перед входом не было и признаков садика. Прямо с дороги можно было войти в комнату без окон. Весь свет проникал в дверь, которая, вероятно, всегда оставалась [открытой] настежь. На столе валялись объедки, в комнате пахло чем-то кислым. Я пришел с намерением остаться здесь дня на два, но вся обстановка заставила меня сейчас же переменить намерение. От миссионера, живущего здесь уже несколько лет, я почти ничего не узнал о нравах и обычаях туземцев. На все мои вопросы он отзывался незнанием и глядел на меня, удивляясь, как я могу интересоваться такими вопросами. Я пробыл у него менее получаса и вернулся в Кепенге, куда пришел засветло. Пройдя дом президента, я очутился в проходе между школою туземцев и красивым садиком, раскинутым перед верандою просторного дома миссионера-протестанта. Недолго думая, я направился по средней дорожке садика к дому и был встречен господином Крэй у веранды. Мы познакомились, и господин Крэй предложил на время пребывания моего здесь поселиться у него, извиняясь, что, может быть, я найду хозяйство его не совсем в порядке, так как жена находится в Сиднее, куда отправилась определить в школу сына. Предложение было сделано так просто и любезно, что я сейчас же согласился. Вечер был проведен в интересных разговорах о туземцах, между которыми господин Крэй прожил много лет.
26 апреля. Отправившись на шхуну за кое-какими нужными вещами, я встретил там полупьяного мис. Р. из Сиднея с супругою Mediy, туземкою с острова Ven. Цвет кожи ее варьировал между №№ 45 и 47 таблицы профессора Брока. В ней была заметна примесь полинезийской крови, волосы, хотя сильно вились, не были так курчавы, как у туземок Лифу.
Между остальными туземцами, сидящими и расхаживающими по палубе, выделялся полукровный, с сравнительно очень светлой кожей и не очень темными глазами (№ 3 таблицы Брока). Это был сын одного из главных начальников острова и белой (дочери столяра европейца). Они были формально повенчаны протестантским миссионером, но французское правительство сочло нужным объявить этот брак недействительным, что не мешает им жить как муж и жена.
Вернувшись на берег, я отправился осматривать деревню и нарисовал так называемую «ума» (большая круглая хижина, где спит молодежь мужского пола).
Островок Андра и остров Сорри
(Из дневника 1879 г.)
I
Est is eine der ernstesten Aufgaben unserer Zeit, die Eigenthьmlichkeiten der noch vorhandenen Naturvцlker so genau wie mцglich festzustellen, alle noch vorhandenen Ueberreste ihrer Cultur sorgfдltig zu sammeln und der Nachwelt, welche bald dieses Mittels der Untersuchung beraubt sein wird, eine Literatur zu hinterlassen, welche reicher und wollstдndiger, als es fьr uns die klassische Literatur gelцst hat, die Quellen fьr eine vergleichende Wissenschaft vom Menschen zu erhalten, im Stande ist.
Rudolf Virchow.
Предварительные замечания об о-вах Адмиралтейства. — Островок Андра. — Торг произведениями рифов, оружием и предметами домашнего обихода. — Хижины деревни Андра. — Торг с Европой уже начинает отзываться на образе жизни туземцев. — Употребление табака и водки пока неизвестно. — Татуировка женщин. — Пример людоедства. — Экзекуция воровки. — Массаж при головной боли. — Тип туземцев о-вов Адмиралтейства. — Предложение женщин. — «Э-пате», съедобная земля. — Экскурсия в дер. Пургасси на большом острове. — Странный временный костюм женщин. — Неприятная, но поздно открывшаяся ошибка тредоров. — Европейская гимнастика не дается туземцам. — Устройство «коптилки» на берегу. — Мое переселение из «ум-камаля» в «ум». — Ночные посетительницы. — Приключение ирландца О’Хара на о. Андра.
Острова Адмиралтейства, к которым принадлежит также и остров Андра, хотя и были открыты в 1616 г., остаются до сих пор мало известными, несмотря на то, что в течение 270 лет, т. е. со времени их открытия, они были посещены многими мореплавателями и несколькими естествоиспытателями. Они представляют группу, состоящую из одного большого, гористого и многих, вокруг него лежащих, по большей части низких островков. Группа находится между 1°58′ и 3°10′ ю. ш. и 146° и 148°6′ в. д., милях в 100 на юг от экватора, в 130 милях от о. Нового Ганновера и в 150 — от ближайшего берега Новой Гвинеи. Большой остров Адмиралтейства приблизительно 50 миль длины и 15 миль ширины, тянется от запада на восток и имеет поверхность приблизительно в 550 кв. миль; во многих местах он невысок, между тем как в других (в юго-восточной части) горы поднимаются до 3000 футов высоты.
Ле-Мер и Шутен, проходя в июле 1616 г. мимо о-вов Адмиралтейства вдоль южной стороны их, дали им название «Двадцать три острова», которое, однако же, не удержалось, а заменено названием «о-ва Адмиралтейства», данным им капитаном Ф. Картере, подошедшим на английском военном шлюпе «Swallow» в сентябре 1767 г. к одному из островков на юге группы Адмиралтейства[190]. Двенадцать или четырнадцать туземных пирог приблизились к шлюпу и атаковали его, бросив неожиданно большое число копий в матросов, бывших на палубе. Капитан Картере, несмотря на свои миролюбивые намерения относительно туземцев, был принужден стрелять, чтобы отделаться от них. Несколько туземцев было убито, остальные спаслись вплавь, покинув пирогу, которая была забрана на шлюп, осмотрена, а затем расколота на топливо. Это было первое знакомство туземцев этой группы с европейцами.
Причиной посещения двух французских судов «Recherche» и «Espеrance» под командой адмирала Д’Антркасто (d’Entrecasteaux) о-вов Адмиралтейства в 1792 г. были известия, полученные Д’Антркасто на мысе Доброй Надежды, что будто бы разные вещи, принадлежащие экспедиции Лаперуза, замечены у туземцев о-вов Адмиралтейства. Это известие было сообщено коммодором Хунтером, который в 1790 г., потеряв свое судно, фрегат «Syrius», y о. Норфольк, отправлялся на голландском судне в Батавию. Когда судно это проходило мимо о-вов Адмиралтейства, несколько туземных пирог было замечено в отдалении. Белые украшения из раковин, резко выделяющиеся на темной коже, и куски выделанной древесной коры, намазанной охрой, были приняты коммодором Хунтером за клочки мундиров французских матросов и офицеров экспедиции Лаперуза; он был так уверен в этом обстоятельстве, что поспешил сообщить командующему экспедицией, посланной французским правительством отыскать место и все подробности, касающиеся гибели экспедиции Лаперуза. Д’Антркасто, получив сообщения коммодора Хунтера, прибыл на о-ва Адмиралтейства в июле 1792 г. и, побывав сперва на о-вах Иезу-Мария и Ла-Вандола, прошел вдоль северного берега большого острова. При посредстве торга он вошел в сношения с туземцами многих островов группы, но нигде не нашел следов европейских произведений, почему, заключив, что коммодор Хунтер ошибся, экспедиция покинула группу, нигде не высадившись. Об этом посещении о-вов Адмиралтейства существуют два сообщения. Одно — самого Д’Антркасто[191], другое — естествоиспытателя Лабиллардиера[192].
В 1843 г. острова эти были посещены американским клипером «Margaret Oakley» под командой капитана Морреля; описание посещения этого было сделано неким Т. Якобсом[193]; экипаж клипера съезжал на берег в разных местах большого острова, а также малых островов.
Экспедиция «Челленджера» посетила о-ва Адмиралтейства в марте 1875 г. Семь дней пребывания фрегата у восточной оконечности большого острова дали возможность офицерам сделать съемку довольно удобного порта у северо-восточной оконечности большого острова Адмиралтейства, названного в честь командира Nares Harbour, а естествоиспытателям экспедиции позволили съезжать часто на небольшие острова порта и ознакомиться с флорой, фауной и отчасти этнологией этой местности. Профессор Мозлей в отдельной статье[194] с иллюстрациями сообщил немало интересных сведений о туземцах и их домашней обстановке.
Я несколько раз бывал на островах Адмиралтейства, на большом острове и на маленьких островках, прилегающих к нему; не раз жил по неделям на берегу и имел случай более, чем другие естествоиспытатели, посетившие эту группу, познакомиться с туземцами о-вов Адмиралтейства и образом их жизни. Первое посещение было в мае 1877 г., т. е. два года спустя после экспедиции «Челленджера». Я тогда побывал на юго-восточном берегу большого острова, а затем прожил несколько дней на о. Андра, одном из островков, лежащих вдоль северного берега большого острова. Мое второе посещение группы Адмиралтейства состоялось в августе и октябре 1879 г. Я жил на о. Андра и на островке Сорри (Wild Island, на английской карте — Nares Harbour). В 1879 г. я опять прожил на этих островах около 25 дней. В июне 1883 г. я провел только несколько часов на островке Сорри, зайдя туда на русском корвете «Скобелев». Посещение о-вов Адмиралтейства в 1877 г. было описано мною отчасти в письмах Русскому географическому обществу[195]. Описание других посещений этого архипелага войдет в общий отчет о моих путешествиях, настоящий же отрывок заключает в себе описание в форме дневника моего десятидневного пребывания на о. Андра в августе 1879 г.
Путешествие на о-ва Меланезии и четвертое посещение о. Новой Гвинеи (от марта 1879 г. по апрель 1880 г.) я предпринял с целью видеть как можно более мне еще неизвестных разновидностей меланезийского племени и решил тогда, faute de mieux, отправиться на острова Тихого океана на американской трехмачтовой шхуне «Сади Ф. Кэллер», снаряженной для ловли трепанга[196] и меновой торговли на этих островах.
21 августа (1879 г.). Шхуна (Сади Ф. Кэллер) лавировала на севере о-вов Адмиралтейства, которые были в виду, но на значительном расстоянии. К полудню более свежий ветерок позволил нам приблизиться настолько, что я мог рассмотреть и узнать контуры гор большого острова, а по ним определить положение небольших островков, лежащих под самым берегом его. Мне хотелось повидать своих старых знакомых, жителей о. Андра[197], с языком которых я отчасти познакомился в 1877 г., и узнать о судьбе оставшегося там матроса-малайца Ахмата, сбежавшего вследствие дурного обращения с ним шкипера шхуны «Sea Bird». Мне нетрудно было убедить шкипера В. зайти в порт Андра, сказав ему, что он может рассчитывать там на хорошую добычу трепанга и на порядочную якорную стоянку. Местность мне была хорошо знакома, почему я мог послужить на этот раз лоцманом, что было очень кстати, так как зыбь мешала разглядеть рифы. Я указал шкиперу на западный проход за о. Андра, потому что на восток от него находится много рифов. Шхуна благополучно прошла через бар между рифами, тянущимися один с западной оконечности о. Андра, другой с восточной — островка Бонем (или Понем), и легкий ветерок позволил войти в лагуну и бросить якорь на 10-саженной глубине. Со стороны моря островок этот представляется низким, но покрытым густою растительностью. Нигде между деревьями, смотря с моря, нельзя разглядеть ни деревни, ни даже хижины. Единственно голубоватый дымок, который вился и расстилался в одном месте над островком, доказывал присутствие человека.
Как только мы зашли за риф, то увидали над отлогим песчаным берегом ряды кокосовых пальм, над которыми высился лес, а внизу, между пальмами, стали показываться крыши хижин; вдоль же берега можно было разглядеть группы туземцев. Некоторые приготовляли пироги к спуску, другие спокойно ожидали, когда шхуна бросит якорь. Дети особенно волновались, перебегали от одной группы к другой, и можно было расслышать их крики и хохот. Женщины стояли и сидели поодаль, около хижины. Вся обстановка доказывала, что приход европейского судна сделался и здесь явлением не необыкновенным. Мой хороший бинокль позволял мне разглядывать все подробности, узнавать хижины, осматривать разнообразные группы туземцев, следить за движениями людей. Наконец, две небольшие пироги стали медленно приближаться к шхуне, рекогносцируя ее. По разговору и по жестам можно было заметить, что никто на пирогах не узнает шхуны (которая никогда не бывала еще здесь), туземцы не видят на ней ни одного знакомого лица (я был единственным человеком, которого они могли бы узнать). Между приближающимися я и сам не мог признать ни одной знакомой физиономии.
Неожиданно раздавшийся возглас «Макрай!»[198] убедил меня, что нашелся один из туземцев, узнавший меня. Между людьми на пирогах завязался оживленный разговор, в котором мое имя часто слышалось. Результатом разговора было то, что туземцы один за другим влезли на трап, а затем на палубу. Все они окружили меня, протягивая руки, гладя по плечу и спине и т. д., повторяя мое имя с прибавлением «уян», «ян» (хороший, хороший) и «кавас», «кавас» (друг, друг). Особенно суетился туземец, который первый узнал меня. Это был небольшой человек, лет 40, с очень подвижною и хитрою физиономией; его звали Кохем, что он мне сам объявил, ударяя себя по груди. Он убеждал меня сейчас же съехать на берег и, нагнув голову набок и приложив руку к щеке, показывал, чтобы я отправился ночевать в деревню. При помощи небольшого лексикона диалекта этого островка, составленного мною еще в 1877 г., мне удалось объяснить Кохему и его товарищам, что капитан пришел сюда за «бечтема», как они называют трепанг[199], за «поэсю» (жемчужными раковинами), за «писпонем» (черепахой), и что если всего этого найдется много, то «роль» (судно вообще) останется здесь долго и что им будут даны большие и маленькие «самель» (железо, нож), «палюсь» (красная бумажная материя), «буаяб» (стеклянный бисер). Моя речь произвела большой эффект и прерывалась только словами «уян» (хорошо), «ксанга» (много), «кавас», «кавас», (друг, друг).
Уверения туземцев, что всего много, и трепанга и перламутра, очень понравились шкиперу, который просил меня сказать туземцам, чтобы на другой же день с раннего утра они стали привозить трепанг и жемчужные раковины на шхуну. Покончив эти переговоры, я съехал с Кохемом и другими туземцами на берег и был встречен толпой мальчиков и девочек, которые все кричали; кто кричал «Макрай», кто — «уян», кто протягивал уже руку и орал «буаяб, буаяб!» (бисер, бисер!). На берегу я узнал действительно несколько туземцев, с которыми часто был в сношениях в 1877 г.
Я отправился по знакомой тропинке вдоль берега и осмотрел всю деревню, которая показалась мне на этот раз меньше, чем при первом моем посещении в 1877 г. И людей как-то показалось мне меньше. Сев у одного из «ум-камаль»[200] (общественная хижина для мужчин) и указав жестом своей немалочисленной свите также присесть, я достал опять свою записную книгу 1877 г. и стал читать громко записанные в ней имена жителей деревни. Эффект был изумительный, все вскочили и стали орать: «Макрай, уян! уян! уян!» Когда они поуспокоились, я снова стал называть имена; некоторые отзывались, но некоторые отвечали «римат» (умер), иногда прибавляли «салаяу» (неприятель), что означало, вероятно, что человек был убит неприятелями. При некоторых именах окружавшие меня туземцы прибавляли имя какой-нибудь деревни, что означало, вероятно, что названный субъект ушел туда-то. Одним словом, туземцы скоро почувствовали, что нашли во мне старого знакомого, который немного понимает их, интересуется ими и не думает причинить им какой-либо вред или обмануть их при торге, которым, как они скоро убедились, я не занимался. Я роздал взятый с собою бисер женщинам и детям; каждая или каждый подходили ко мне с листиком с ближайшего куста, на который я отсыпал понемногу буаяб, находившийся у меня в небольшой склянке. Физиономию, украшения, одежду подходящего я внимательно осматривал, а затем записывал его имя, прибавляя для памяти какую-нибудь особенность физиономии или телосложения, чтобы потом узнать его. Тем из детей, которых физиономии, расторопность или услужливость мне более нравились, я повязывал поверх обыкновенно носимого туземцами выше локтя плетеного браслета по ленточке красной материи, которою дети остались очень довольны и которая стала предметом зависти остальных.
Солнце уже зашло и начало темнеть, когда я вернулся на шхуну.
22 августa. С самого рассвета торг с туземцами на шхуне начался. Когда часам к 6 я вышел на палубу, то увидал кучи трепанга разного рода, а также груды жемчужных раковин, которые туземцы в это утро уже успели собрать на рифах. Была низкая вода, и рифы чернели на далеком расстоянии в море, на них копошились женщины и дети, собирая моллюсков и маленьких рыбок для собственного стола. Мужчины в пирогах переезжали от рифа к шхуне, сдавая свой груз и получая взамен «самель» (обручное железо). Картина была оживленная и интересная. Я остался на палубе и следил за окружающим. Некоторые более ленивые туземцы или такие, за которых работали их жены или сыновья, выехали в пирогах, наполненных разными вещами, предлагая их купить. На пирогах этих можно было видеть разного рода копья, большие «пуенкай» (деревянные блюда), сети для ловли рыб, глиняные горшки, так называемые «кур» (непромокаемые корзины), разного рода украшения, носимые туземцами, и т. п. Я обратил особенное внимание на горшки, которые были тщательно сделаны и орнаментованы, все они, хотя и разной величины, сводятся к двум формам: одни с одним отверстием и с немногими украшениями — для варки, другие с двумя отверстиями и с орнаментом вокруг них — для пресной воды. Обе формы имели круглое дно. Я приобрел один с двумя отверстиями. Орнамент состоял из рядов продолговатых выемок (сделанных, вероятно, небольшою заостренной палочкой), расположенных совершенно таким же образом, как татуировка женщин. Туземец, у которого я купил горшок, объяснил мне, что горшки делаются женщинами на большом острове, что в одно отверстие вливают воду, а через другое наливают[201] воду в рот. Другая вещица, замеченная мною, был кинжал с двумя лезвиями, сделанными из игл большого ската[202]. Иглы эти, очень острые, снабженные по краям в виде пилы загнутыми вниз острыми придатками, представляют при своей ломкости очень опасное оружие. Всаженные в не защищенное одеждой тело туземца и почти всегда ломаясь в ране, они могут причинить почти неминуемую смерть раненому. Деревянная ручка этого кинжала представляла примитивно вырезанную человеческую фигуру.
Кучи трепанга между тем росли на палубе, и шкипер В. потирал себе руки, так как большая часть привезенного трепанга оказалась очень хорошего качества[203]; тонна такого трепанга китайцами, даже и в Куктауне (в северном Квинсленде), оплачивается более чем 100 фунтами стерлингов. Шкипер платил за трепанг здесь кусками обручного железа (так называемого ironhoop y англичан). Он сказал мне, что сегодня еще приступит к сооружению «smoke house»[204] на палубе и что не уйдет отсюда, не выловив весь трепанг на рифах кругом. Позавтракав и взяв с собою койку и записную книгу, я отправился на берег. От крика и шума на шхуне у меня разболелась голова, так что, съехав на берег и выбрав подходящее большое дерево, недалеко от хижин туземцев, я был очень рад подвесить свою койку и, растянувшись на ней, отдохнуть. Как только я вышел на берег, ко мне навстречу прибежали трое из отмеченных мною вчера вечером красными ленточками детей; другие работали, вероятно, на рифе. Эти трое были мальчик Качу и две девочки Пинрас и Аса. Качу, лет тринадцати, имел энергическую и интеллигентную физиономию; Пинрас, лет двенадцати или тринадцати, могла назваться недурненькою девочкой даже в европейском смысле; Аса — веселая, подвижная и очень услужливая девчонка, лет девяти, не более. Они оставались весь день при мне, если же и уходили, то скоро возвращались и старались предупреждать малейшее мое желание. Качу очень ловко привязал койку к указанным сучьям большого Ficus и принес мне несколько молодых кокосовых орехов для питья. После шума и суеты на шхуне в тени громадных деревьев с красивой панорамой островов, моря и гор я положительно наслаждался отдыхом; но предаваться долго этой dolce far niente оказалось нелегко, так как все окружающее было так интересно.
Сперва я обратил внимание на жилища туземцев. На о. Андра хижины расположены иным образом, чем на южном берегу большого острова и в деревнях на холмах северного берега. Они не стоят вокруг площадок, как там, а тянутся по сторонам тропинки, идущей параллельно песчаному берегу моря, стоя иногда одиноко у тропинки, иногда группами по три или четыре. Около дерева, под которым была подвешена моя койка, находилось пять хижин, из которых одна представляла так называемый здесь ум-камаль, или просто камаль, т. е. большую хижину, где мужчины проводят свободное время, едят, принимают гостей и т. п. Камаль служит также спальней для неженатых мужчин и для ночевок посетителей из других деревень[205]. Размеры смеренного камаля: 9 м длины, 5 м ширины и почти 6 м высоты. Остальные хижины, называемые просто «ум», были семейные хижины. Последние обыкновенно немного меньше, но гораздо ниже (не более 3 м высоты) первых, т. е. камаль. Семейные хижины имели четырехугольную форму с небольшим двориком, так называемым сарри, обнесенным высокою изгородью перед входом. Кроме высоких нар, на которые садятся мужчины во время еды, на двориках находится очаг, состоящий из трех специально для этой цели выбранных камней, между которыми разводится огонь и ставятся горшки. Дворики главным образом устроены для того, чтобы избегнуть при домашней работе, еде, отдыхе и т. п. назойливости свиней, которых немало бегает в деревне. Крыши обоего рода хижин (т. е. ум-камаль и ум) спускаются чуть не до земли, так что боковых стен почти не видно с внешней стороны хижины. Двери ум-камаль сравнительно с дверями семейных хижин широки и часто украшены рядами белых раковин (Ovula ovum), деревянными фигурами по сторонам входа или резными столбиками. У хижин сидело несколько старух и детей; меновая торговля отвлекла к шхуне и на риф всех мужчин и многих женщин.
Ежедневная жизнь туземцев здесь, вследствие нередких посещений европейских судов, потеряла уже ту первобытность и отчасти монотонность, которые мне так нравились на берегу Маклая, куда, как я сам испытал, по 28 месяцев, а иногда еще больше не заходят суда[206]. Спокойная жизнь туземцев при приходе торговых судов сменяется лихорадочною работой; каждый старается наловить больше трепанга, жемчужных раковин и т. п. Стимулами деятельности являются пока лишний наперсток (потребляемый как мера) бисера, лишний кусок обручного железа, лишний кусок красной бумажной материи и т. п. Туземцы удовлетворяются еще этим, но скоро они станут требовать ножей, стальных топоров, а затем пожелают и ружей, пороха и т. д. Новые требования и стремление к наживе упрочат, разумеется, торговые сношения с европейцами, которые не замедлят познакомить туземцев с табаком, спиртными напитками и т. д. До сих пор еще ни то, ни другое не вошло в употребление на о-вах Адмиралтейства, несмотря на то, что разным шкиперам очень хотелось научить туземцев курить, так как выменивать на табак произведения островов им очень выгодно, но попытки эти им еще не удались. К сожалению, это, однако же, только дело времени. Табак и водка — дешевые товары, которые европейцам слишком выгодно сбывать[207]. Что последние губят туземцев, — до этого шкиперам и торгашам мало дела.
Возгласы нескольких женщин, которым их мужья или сыновья привезли со шхуны значительное количество бисера, прервали мои размышления о взаимодействии рас на островах Тихого океана. Большинство женщин занялось нанизыванием бисера, только одной из них не досталось ничего. Так как она была татуирована и не казалась особенно пугливой, я послал мальчика Качу за ней: хотелось рассмотреть внимательно здешнюю татуировку и нарисовать портрет женщины. Несколько показанных мною стеклянных бус приманило ее к моей койке. Лицо, руки, живот, спина, верхняя часть ног ее были испещрены перекрещивающимися рядами (по два и по три) линий, состоящих из шрамов от небольших надрезов. Так как цвет кожи женщины (как и всех жителей о-вов Адмиралтейства вообще)[208] не был особенно светел, то татуировка была хорошо видна только на близком расстоянии и при хорошем освещении. Общий эффект ее был далеко не такой замечательный, как татуировка наколами на о-вах Полинезии. Шрамы были от 4 до 6 мм длины и от 1 до 0,5 мм ширины. Кроме этих шрамов, расположенных линиями, на плечах этой женщины виднелось несколько плоских пятен, так называемых здесь «тунудун», произведенных прижиганием с помощью небольших угольков, которые кладутся на кожу горящими и оставляются на ней, пока они не превратятся в пепел. Так как описывать расположение татуировки было бы и длинно и сложно, то я принялся рисовать портрет женщины, намереваясь особенно тщательно нарисовать именно татуировку. Исполнение этого желания, однако же, не удалось. Послышался зов с приближавшейся пироги, и оригинал моего будущего рисунка вскочил и бросился к берегу.
В пироге находился, как оказалось, муж этой женщины, вернувшийся из деревни на большом острове Адмиралтейства. Он привез с собою разные вещи, вероятно подарки приятелей, к которым он ездил, а также большое «поэку» (деревянное блюдо для кушанья) с вареным таро. Вид последнего и во мне возбудил аппетит, и я направился к группе, расположившейся около входа в одну из хижин. Любезный муж, возвращаясь с хорошего завтрака, не забыл свою молодую жену. Он привез остатки съеденного им завтрака (или, может быть, ужина). Когда я подошел ближе, то увидал, что женщина держала большую кость в руках и зубами отрывала куски еще кое-где висевшего мяса. По форме кости мне легко было признать ее за верхнюю половину человеческого femur. Это был первый раз, что я увидал собственными глазами на о-вах Адмиралтейства положительный пример людоедства[209]. Женщина, казалось, ела с большим аппетитом и передала, наконец, почти голую кость другой женщине, ее сестре, уже ожидавшей очереди поесть мяса и не трогавшей большой кусок таро, который находился у нее в руке. Стоявший рядом ребенок, девочка лет трех, следила за старшими завистливыми глазенками. Через час времени приблизительно я заметил в руках этой девочки ту же, но уже совершенно очищенную кость. В поэку, между таро, находилось несколько кусков темного мяса, вероятно человеческого; они были слишком велики для кусков мяса кускуса и без всякого жира, чтобы оказаться мясом свиньи.
Не купив таро, я вернулся к своей койке, надеясь докончить начатый портрет. Хотя, как и утром, ко мне подошло несколько женщин и детей, но между ними татуированной женщины не было. У каждой из присутствовавших было на теле и на лице по нескольку татуированных фигур и линий, но сравнительно в очень незначительном количестве и мало заметных, так как женщины эти были пожилые и старые, почему имели кожу более темную и морщинистую. Видя, что я интересуюсь татуировкой, одна из них достала откуда-то кусок обсидиана и плоским камнем отбила несколько маленьких осколков. Выбрав один и заметив, что я внимательно слежу за нею, она вздумала показать мне свое искусство на одной из сидевших около нее девочек, которая, однако ж, убежала. Тогда я протянул ей свою руку и указал ей на место выше локтя. Она резнула меня несколько раз, что причинило весьма незначительную боль.
Операция эта была прервана очень шумною сценой, привлекшей к себе общее внимание. Одна из девочек, лет шести или семи, воспользовавшись тем, что женщины обступили мою койку и очень заняты осмотром ее, разговорами, татуировкой и т. п., стянула из кокосовой скорлупы щепотку бисера, принадлежащего одной из старух и оставленного ею у порога хижины. Хотя похищение было сделано проворно и воровка быстро скрылась, но она все-таки была замечена одной из женщин, которая поспешила сообщить об этом собственнице оставленного «буаяб» (бисер). Девочка между тем, спрятав украденное, как ни в чем не бывало приблизилась к нашей группе и стала с любопытством разглядывать меня и мои вещи. Внезапно налетела на нее сзади разъяренная, рослая, худощавая старуха. Она держала в руке довольно длинную плоскую деревянную дощечку. Мигом свалила она девочку-воровку на землю, повернула ее спиной вверх и очень ловко подсунула тело ее под себя таким образом, что голова и руки девочки очутились сзади, а зад и ноги спереди старухи. Разогнувшись и переводя дух, последняя стиснула свою жертву между ногами. Старуха и девочка сперва молчали, как и все присутствующие. Выражение лица старухи было замечательно злое; рот с одной стороны, как раз над dens caninus, полуоткрыт, брови подняты, лоб весь в морщинах. Она заговорила что-то очень скоро, нагнувшись и откинув назад недлинную кисточку, которая болтается у девочек сзади и составляет половину костюма их[210], стала немилосердно бить свою жертву плоскою дощечкой. Девочка сперва взвизгнула раза два, а затем замолкла. Старуха, устав, снова выпрямилась, перевела дух, а затем, опять нагнувшись, продолжала экзекуцию, но на этот раз стала бить другую сторону тела. Девочка ежилась, болтала ногами, но не кричала. Причина этого стоицизма не характер девочки, а, вероятно, то обстоятельство, что дощечка была плоская, гладкая и удары ее по мягким частям не могли быть очень чувствительны. Старуха, умаявшись, выпустила, наконец, свою жертву, которая не замедлила убежать; старуха же, оправившись немного, села и занялась серьезным рассматриванием моего столика, причем лицо ее приняло обычное, даже доброе выражение.
Однако ж, несмотря на разнообразные наблюдения, голова у меня по-прежнему болела, и я по временам прикладывал руку ко лбу и закрывал глаза на несколько секунд. Это было замечено туземцами. Я мог понять, что они говорили обо мне и головной боли. В заключение разговора одна из женщин почти насильно подвела находившуюся вблизи Пинрас — девочку, о которой я уже упоминал. Убедившись, что приходится исполнить общее желание старших, последняя усердно принялась за дело, которое состояло в том, что, схватив обеими руками мою голову, Пинрас стала сжимать ее периодически изо всех сил. Я предоставил свою голову в полное ее распоряжение. Сдавливание перешло в растирание кожи головы двумя пальцами, причем массажистка надавливала растираемое место, насколько могла. Когда правая рука ее устала, она стала делать это левой, причем я заметил, что сила пальцев левой руки ее не уступала силе правой. Ощущение было приятное: я при этом как бы перестал чувствовать боль, почему и не подумал о кокосовом масле и орехе, которыми были смазаны ее руки. Когда Пинрас кончила, я насыпал ей, к ее большому удовольствию и великой зависти остальных женщин и девочек, полную пригоршню мелких бус из склянки. Несколько девочек стало предлагать мне массировать голову, причем я мог заметить, что ни одна из женщин, вероятно из страха перед мужем, не рискнула предложить мне свои услуги в этом отношении. Солнце уже садилось, и пироги одна за другой подходили и были быстро вытаскиваемы на отлогий песчаный берег.
Группа около моего бивуака изменилась в составе: все женщины исчезли, и вместо них расположились мужчины. Они громко болтали, жевали бетель и показывали друг другу разные вещи, которые получили в обмен за произведения рифов. То были куски обручного железа различной длины, большие и малые ножи (так называемые butcher-knife) английских фабрик, бусы, бисер и красные бумажные материи (так называемые turkey-red)[211]. У одного туземца нашелся кусок витого американского табаку, о котором показавший его прочел остальным целую лекцию. Табак обошел все руки, но, никто не вздумал попробовать покурить.
Так как туземцы целый день были на работе, то имели на себе очень немного из обычных украшений, которые они носят на голове, в ушах, в носу, на шее, груди, руках, поясе и ногах. Оригинальный примитивный костюм здешних мужчин, состоящий единственно из одной раковины[212], носимый ими в пирогах, был заменен обыкновенным поясом (из приготовленной древесной коры), обхватывающим несколько раз талию и проходящим между ногами.
Отсутствие характеристичных для этой местности специальных украшений облегчало сравнение их с другими разновидностями папуасского племени. Я и сегодня, смотря на них, пришел к результату, записанному при первой моей встрече (в 1876 г.) с жителями этих островов, и который сообщил я в свое время в письме Географическому обществу[213] в следующих словах: «…Я старался только уловить общий тип. Чем более я всматривался, тем менее мне казалось естественным не считать туземцев Новой Гвинеи, Новой Ирландии и о-вов Адмиралтейства (южного берега) чем-либо иным, как географическими разновидностями одного племени».
Следя за разговором туземцев, которых я понимал только отчасти, я старался пополнить и проверить небольшой словарь здешнего диалекта, записанный в 1877 г. Мне удалось записать несколько новых слов и между прочим уловить очень важное для меня выражение «ланган-се?» (как зовут), представляющее ключ ко многим другим, как я не раз имел случай убедиться, изучая какой-нибудь новый для меня туземный язык.
Пинрас, благодарная за полученный от меня бисер, не отходила от койки и следила за выражением моего лица, стараясь предупредить мое желание. Этот пристальный взгляд девочки не понравился ее отцу, который сказал ей что-то, заставившее ее удалиться. Уходя, она несколько раз оглядывалась, вероятно досадуя, что приходится послушаться. Мне жаль было вернуться снова на шхуну, но у меня не было ничего теплого с собою, а я боялся сырости и холода ночи на берегу; к тому же на другой же день я собирался посетить большой остров, что было удобнее предпринять со шхуны.
Шкипер В., завидя мое приближение к шхуне, поспешил встретить меня у трапа, чтобы крепко пожать мне руку за то, что я привел его сюда, — так доволен был он результатом дня. Торг, как он мне объявил, шел без перерыва весь день, и, несмотря на многочисленный экипаж шхуны (более сорока человек), не хватало рук, чтобы забирать привозимые трепанг и раковины. Столяр с двумя помощниками почти что окончили сооружение smoke house, который шкипер хочет затопить завтра же.
23 августа. Я намеревался взять на берег фотографический аппарат, и мне необходимо было иметь с собою кого-нибудь, кто понимал бы, что некоторые вещи европейцев очень ломки и нести их надо с большой осторожностью. Все мое знание туземного языка было бы недостаточно, чтобы объяснить это обстоятельство моим знакомцам с о. Андра; к тому же все туземцы были заняты торгом, ловлей и т. п. Я попросил шкипера В. позволить одному из людей его шхуны отправиться со мною, на что, по нашему уговору, я имел право. Он предложил мне выбрать, кого захочу. Я сказал матросу Стиву, туземцу Австралии, что он должен отправиться со мною на берег. Я его выбрал, так как он хорошо понимал английский язык и очень порядочно говорил на нем. Стив сперва согласился, но, когда я вынес вещи свои из каюты, он попросил меня под предлогом нездоровья (просто струсил) взять кого-нибудь другого. Я заменил его туземцем с о. Лифу (из группы Лойэлти), по имени Джо, веселым и не трусливым малым, который хотя и говорил по-английски, но очень плохо и, побывав на Новой Каледонии, так же коверкал и французский, но все-таки понимал оба языка достаточно, чтобы исполнить мои приказания. Не без разговоров и уговоров разного рода удалось мне найти туземную пирогу, чтобы перевезти меня на большой остров, так как почти все пироги около судна были заняты оживленным торгом или перевозкой трепанга с рифа на шхуну.
Сегодня между предметами торга фигурировала также молодая женщина, сидевшая в одной из пирог. Ее усердно предлагал мужчина средних лет, весьма может быть ее же муж или брат, европейским тредорам, стоявшим у борта и платившим за привозимый трепанг. Между тем как муж или брат на палубе при помощи очень характерной пантомимы[214]предлагал свой товар, женщина, сидя в пироге как ни в чем не бывало, изредка улыбалась, жевала э-пате, красную землю, которую туземцы здесь едят[215].
Перенесши осторожно камеру и другие принадлежности фотографического аппарата в пирогу, мы отправились в Пургасси, одну из ближайших деревень на берегу большого острова. Джо выпросил у шкипера револьвер, который он гордо прицепил к поясу. Я сперва не хотел позволить ему брать револьвер с собою, так как знал, что он стрелять не умеет, но, когда он заявил, что револьвер не заряжен и патронов у него нет, не захотел лишать его удовольствия носить безвредное оружие только для вида. Мы причалили к роду пристани в глубине небольшой бухточки. В этом месте выдвигалось из земли несколько поднятых коралловых глыб, почти что закрытых песком. По обеим сторонам мыска или пристани этой росли мангровы. Один из туземцев Андры, бывший на пироге, пожелал отправиться со мною, от чего я не отказался, так как при большом числе тропинок я мог бы попасть далеко в лес и, пожалуй, не найти деревни, которая, как я убедился при помощи бинокля со шхуны, находилась на холмике. О присутствии ее со шхуны можно было догадаться единственно по верхушкам кокосовых и арековых пальм.
Собрав все вещи, отпустил пирогу и в сопровождении Джо и туземца из Андры направился по тропинке, около которой, кроме других деревьев, росло немало саговых[216] пальм; далее, взбираясь на холм, я увидел, что растительность здесь была разнообразнее[217], повсюду можно было заметить влияние человека. Кроме хлебного дерева, кокосовых и арековых пальм, виднелись кусты китайской розы (Hibiscus Rosa Sinensis) с цветами разных оттенков, разных видов Codium с пестрыми листьями, возвышались красивые верхушки Соlodracon с красноватыми узкими листьями; это были все растения, листьями которых туземцы любят украшать себя.
Когда завиделись первые крыши, я был удивлен тишиной в деревне: кроме крика нескольких птиц, не слышно было ничего, ни говора мужчин, ни перебранок женщин, ни крика и визга детей. Войдя на площадку деревни с несколькими хижинами вокруг, над которыми качались ветки кокосовых пальм, мы действительно не увидели никого, кроме очень тощей, высоконогой свиньи, которая, хрюкая, убежала, и черной собачонки с белыми пятнами, с сердитым визгом последовавшей за первой. Я направился по узкому проходу между густою растительностью ко второй площадке. Из-за одной хижины выскочило двуногое существо (не знал тогда — мужчина или женщина), весьма странно упакованное в циновку таким образом, что, кроме ног ниже колен, тела не было видно. В профиль этот курьезный субъект имел вид прямоугольника из циновки на двух ногах; он быстро пробежал через площадку и скрылся за одной из хижин в лес[218]. Несколько кур, очень маленьких, взлетело на крыши хижин и ближайшие деревья, когда мой спутник из Андры начал во все горло сзывать жителей деревни. Я не видал на о. Андра ни собак, ни кур, в присутствии которых на о-вах Адмиралтейства я не сомневался, так как видел не раз собачьи клыки в ожерельях, а петушиные перья на гребнях туземцев. Отсутствием жителей я воспользовался, чтобы снять вид площадки с просторным ум-камаль на первом плане[219]. На зов послышались в ответ отклики, и скоро появилось несколько мужчин, очень смущенных, как мне показалось, моим присутствием в их деревне. Розданные бусы, куски железа привели их в нормальное и даже веселое настроение.
Я пожелал осмотреть камаль, в который из деликатности гостя не хотел войти без приглашения или по крайней мере во время отсутствия хозяев. Я скоро убедился, что не могу понимать здешних людей, так как диалект их не похож на диалект жителей о. Андра. Камаль здесь вообще ничем не отличался от подобных же построек в дер. Андра: крыша его спускалась по сторонам до земли, вход был спереди, хотя низкий (нельзя было войти, не нагибаясь), но довольно просторный. Войдя в камаль, надо было обождать несколько секунд, чтобы примениться к освещению, так как свет проникал единственно через двери. Когда я мог разобрать окружающее, то, кроме длинных нар, увидал несколько «мраль» (большие деревянные барабаны), два или три «кеду»[220] и довольно разнообразную коллекцию вещей, подвешенных под крышу или лежащих на полках вдоль стен; она состояла из деревянных блюд различной величины, горшков, копий различной формы и длины и т. п. На веревочке было нанизано несколько небольших черепов, и они висели гирляндами между почерневшими от дыма стропилами. Эти черепа, тоже коричневые от дыма, некоторые совсем черные, оказались при осмотре черепами кускуса (Cuscus), вида, не отличающегося от новогвинейского. В углу были также и человеческие черепа, но поломанные и очень черные, при виде которых мне вспомнился виденный вчера пример людоедства. Я выбрал один из черепов кускуса для более тщательного осмотра; человеческие же оставил: они были поломаны, а главное, потому, что о происхождении их при моем незнакомстве с языком я не мог бы узнать.
Так как никто из жителей деревни не приходил, то я ограничился еще осмотром одной из семейных хижин. В ней не оказалось ничего замечательного, кроме очень большого блюда, почти 1 м в диаметре, но с поломанною ручкой. Выходя из хижины, я заметил под навесом, перед дверью ее, продолговатые пространства, покрытые старою циновкой, на которой лежало по углам несколько камней. Почему-то подумал, что это, должно быть, могила, но расспросить туземцев не умел[221]. Другой тропинкой, чем та, которой пришли, мы спустились к морю, где, однако ж, пироги из Андры не оказалось. Пришлось ждать, пока мои новые знакомые снарядили другую, и на ней я добрался до шхуны, где меня встретил чад «коптилки», хохот, прерываемый бранью подгулявших тредоров, крики туземцев и т. п. Собрав необходимые вещи — койку, складной стол и скамейку, ружье, одеяло, консервы, медный чайник и небольшую корзину с необходимою посудой и т. п., я поспешил убраться от этого гама на о. Андра. Там я расположился довольно удобно, заняв половину ум-камаля. Пользуясь лучами заходящего солнца, я вскипятил еще воду и приготовил себе чай; эта операция заинтересовала в высшей степени туземцев, с удивлением смотревших, как «Макрай ест горячую воду». Я не раз замечал, что даже теплая вода кажется туземцам горячею, и они делают вид, что обожглись, дотронувшись до нее.
Белые тредоры со шхуны приехали поздно вечером и сообщили мне, что шкипер В., которого я не видел, отправляясь на берег, крайне беспокоится о моей безопасности на берегу и просит непременно вернуться на шхуну. Уходя в сопровождении одного туземца, с очень таинственным видом они прибавили, что вернутся через час и что надеются найти меня готовым отправиться ночевать на шхуну. Я отвечал, чтобы они не беспокоились, что я сейчас лягу спать и прошу меня не будить, когда вернутся к шлюпке.
24 августа. Первую половину ночи я проспал хорошо в койке, подвешенной мною в хижине. К утру же говор и шум туземцев, которые собирались на риф, пробудили меня рано, но я не захотел подняться и заснул снова, как только пироги ушли. Когда я проснулся во второй раз, солнце уже стояло высоко. Я вздумал выкупаться в море. Надев купленные в Макассаре (на о. Целебес) малайские штаны (очень похожие на общеевропейский костюм мужчин-купальщиков), я вышел на берег и, объяснив туземцам, что мне нужно будет много «ва» (пресной воды), обещав им за нее «буаяб» (бисер), вошел в воду. Так как я не умею плавать, то мне пришлось быть весьма осторожным, чтобы не попасть в какую-нибудь яму; но берег был отлог и вода очень прозрачна. С большим удовольствием пробыл я минут 10 или 15 в воде и нехотя вышел на берег, заметив, что целая вереница женщин и детей с раковинами[222], наполненными пресною водой, ожидает меня. Я показал, чтобы принесшие воду, одна за другой, выливали ее мне на голову, плечи, грудь, спину и т. д. Эта процедура очень рассмешила женщин. Они, смеясь, исполнили мое желание и, вероятно, остались довольны, так как я наделил всех щедро бисером. Выпив кофе, я поспешил отправиться на охоту; убил только двух голубей. Будь не так поздно, моя добыча была бы значительнее, потому что голуби, переночевав на островках, улетают скоро по восходе солнца на большой остров и возвращаются оттуда к заходу солнца. Один из убитых голубей — Caloenas nicobarica. Вернувшись в деревню, я встретил там тредоров. Оба имели раздосадованный вид; один из них признался мне, что их вчерашние ночные похождения окончились очень плачевно, в чем, однако ж, они убедились только утром, увидя разные украшения не на молодых девушках или женщинах, а на 50-летних старухах, которые сегодня при встрече им сладко улыбались. «Как же такая ошибка могла случиться?» — спросил я. — «Да в хижинах было совершенно темно, и потом мы очень спешили», — ответил он с досадой. Я посоветовал ему в другой раз запастись спичками.
Один из белых, хороший гимнаст, предложил туземцам скаканье через веревку со сжатыми ногами; он сам начал и действительно очень отличился; за ним последовали некоторые из матросов, туземцев о. Лифу, приехавшие с тредорами со шхуны. Двое из них скакали также очень хорошо, как не удалось ни одному из жителей Андры; трое или четверо даже свалились, задев ногами за веревку. Тредоры меня снова стали уговаривать не ночевать на берегу, говорили об опасениях шкипера, так что я счел нужным написать последнему записку, чтобы успокоить и вместе с тем напомнить ему один из параграфов нашего обоюдного уговора[223]. Передавая записку одному из тредоров, я попросил его сказать шкиперу, чтобы он спал спокойно, что со мною на берегу ничего не случится, разумеется, если и он на шхуне ничего не сделает ни одному из жителей Андры. Посланный мною в деревню Суоу на большом острове Кохем вернулся с известием, что Ахмат, матрос-малаец, о котором я выше упоминал, находится в другой деревне, дальше внутри страны, но что жители Суоу передадут Ахмату мое желание видеть его.
25 августа. Моя записка не только, кажется, ободрила и успокоила шкипера, но навела его на мысль устроить второй «smoke house» на берегу, так как железная коптилка на шхуне была совершенно переполнена, а количество трепанга, которое каждый день доставлялось на шхуну, не убавлялось. Он прислал одного из тредоров нанять хижину на берегу, которую он полагал возможным, закупорив все отверстия и скважины, приспособить к копчению трепанга. Хижина, которую туземцы согласились предоставить для этой цели, была именно ум-камаль, в которой я помещался. Заметив, что предложение шкипера нравится туземцам, я со своей стороны не хотел делать затруднений, почему сейчас же стал приискивать себе другое помещение. Кохем был очень рад предложить мне свою хижину, и найдя ее только немногим меньше, чем ум-камаль, я распорядился, чтобы перенесли мои вещи в новое помещение. В одном отношении хижина Кохема была удобнее ум-камаль, так как была частной собственностью и меня там не могли так часто беспокоить разные посетители, которых из ум-камаль — хижины, назначенной для всех мужчин деревни вообще, я не считал себя вправе выпроваживать без дальнейших церемоний. Устройство моего нового помещения заняло несколько часов, так как хижину пришлось фундаментально вычистить: обмести паутину и толстый слой копоти под крышей и по стенам, вымыть нары и т. п. Перенесенные из ум-камаль мои вещи я расположил довольно удобно. Повесив фонарь-лампу над столом, я имел по вечерам достаточно света, чтобы писать дневник.
Очень устав, намеревался лечь спать рано, и в 8 часов я забаррикадировал входную дверь досками, назначенными для этой цели, и циновкой из панданусовых листьев, чтобы предупредить подсматривание. Полураздетый, лежа уже в койке, но еще не потушив лампы, я был удивлен внезапным появлением около задней стены весьма пожилой женщины, которая что-то бормотала и странно поглядывала на меня. Простой знак рукой был достаточен, чтобы выпроводить ее. Она исчезла так же тихо, как и пришла. Я вспомнил тогда, что, кроме передней главной двери, хижина имела небольшую заднюю дверь, через которую старуха проникла в хижину. Мне так хотелось спать, что я не счел нужным вылезти из койки и как-нибудь запереть ее. Скоро задремав, сквозь сон я услыхал снова шорох, но не сразу открыл глаза. Движение, сопровождаемое скрипом и какими-то вздохами, заставило меня, однако же, очнуться. На нарах, на чистой циновке, лежала женщина, лет двадцати, и притворялась спящею. Нужно было подняться, так как она не откликнулась, и разбудить ее, чтобы выпроводить; но на этот раз мне не так легко было избавиться от второй посетительницы, как от первой. Она хихикала, не хотела идти, указывая на койку, чтобы я лег, делая знаки, что сама ляжет на нары. Пришлось почти силой ее вытолкать. Когда она, наконец, убралась, и, пока я сидел еще у стола, записывая эти строки, появилась еще третья. Это была девочка лет десяти, которая пришла сюда, вероятно, по приказанию папаши или мамаши, а не по своей воле, так как, войдя, она остановилась у стены, потупилась, молчала и боялась, кажется, двинуться, но сейчас же улизнула, как только я указал рукой на дверь. В деревне было очень тихо, и я остаюсь под сомнением, были ли эти непрошеные визиты делом моего хозяина Кохема или нет. В ум-камаль, куда не допускаются женщины, таких оказий со мною не случалось[224].
26 августа. Встал рано, чтобы отправиться на охоту; убив несколько голубей (Carpophaga oceanica) и желая сократить путь в деревню, я пробирался по заросшей тропе, которая, по моему расчету, должна была прямо привести меня к морскому берегу. Я вышел действительно к берегу, но довольно далеко от деревни. Местность, в которую я попал, показалась мне знакомою. Я мало-помалу убедился, что в 1876 г. я не раз бывал здесь, узнал не только дерево, но и сучья, к которым я привязывал тогда свою койку. Недалеко от этого дерева строился тогда домик для тредора, который был оставлен здесь шхуной «Sea Bird» в 1876 г.[225] Я поспешил в этом убедиться и, пройдя несколько шагов, увидел действительно развалины хижины, несколько свай и остатки крыши, лежавшей на провалившемся полу. Обрубки стволов доказывали, что место было когда-то расчищено, но зеленеющие молодые побеги от них свидетельствовали в то же время, что прошло достаточно времени с тех пор, как место это было покинуто. Я расположился удобно на срубленном пне; весь эпизод знакомства моего с ирландцем О’Хара, его высадка и поселение в этой построенной для него туземцами хижине, а затем печальный конец его предприятия ясно представились моей памяти.
Так как история поселения этого первого европейского пионера-колониста на о-вах Адмиралтейства довольно характеристична для местности и туземцев, то я нахожу подходящим рассказать здесь приключения бедного О’Хара. Этот человек родом ирландец, получивший в Европе, сперва в Англии, потом где-то на Рейне, а затем во Флоренции, очень порядочное образование, был сперва, если не ошибаюсь, учителем где-то в Индии, занимал потом какую-то должность в колонии ссыльных на Андаманских о-вах, был одно время главным сотрудником, чуть ли не редактором английской газеты в Пуло-Пинанге. Попав, наконец, в Сингапур, он вошел там в сношения с торговою фирмой Ш., которая вела меновую торговлю на островах Тихого океана. Ему вздумалось попытать счастье на островах, куда он согласился отправиться в качестве агента или тредора для меновой торговли с туземцами. Чтобы пополнить число агентов своих на островах Тихого океана, фирма эта отправила в 1876 г. на о-ва Меланезии четырех тредоров на английской шхуне «Sea Bird», нанятой для этой цели. Двое из них должны были быть высажены на о-вах Адмиралтейства, один тредор — в группе Луб, а четвертый должен был быть оставлен на о-вах Каниес, или Каниет.
Итальянец С. Пальди и ирландец О’Хара были назначены поселиться на о-вах Адмиралтейства. Они были, как и я, пассажирами на шхуне «Sea Bird», и я был знаком с ними в продолжение трех или четырех месяцев, т. е. во все время перехода от Явы до о-вов Адмиралтейства. Пальди был оставлен в июне 1876 г. в деревне Пуби, на южном берегу большого острова; О’Хара остался на о. Андра. Оба они как люди образованные обещали мне собрать значительный материал по этнологии местностей, в которых остались. Я передал обоим по короткой инструкции и по списку дезидерат — по антропологии и этнологии, на которые я желал иметь ответы. Ни одного, однако ж, мне не пришлось более видеть: Пальди был убит туземцами, а о судьбе О’Хара я узнал случайно при моем возвращении с берега Маклая в 1877 г. от лица, которое встретилось с ним около года спустя после того, как он поселился на о. Андра. Этот человек был тогда пассажиром на небольшом кутере «Рабеа» под американским флагом. Приблизившись к о. Андра, но не желая бросить якорь, шкипер X., много лет проведший на островах Тихого океана, занялся меновой торговлей, которая шла очень успешно: множество пирог окружало кутер. Шкипер случайно обратил внимание на человека с очень светлой кожей, в изорванной шляпе, без рубашки, сидевшего в небольшой пироге и как будто не дерзавшего приблизиться к кутеру. Это последнее обстоятельство заинтриговало шкипера; он окликнул на английском языке проблематического незнакомца и, пригласив его на кутер, получил ответ, также по-английски, что он сделать этого не может, так как боится, что туземцы на пирогах не пропустят его к кутеру. Тогда шкипер, поворотом руля (кутер лежал в дрейфе) и движением вперед, очистил дорогу для пироги с незнакомцем. Когда последний приблизился, то этот человек был узнан многими на кутере: это был не кто иной, как О’Хара, но очень изменившийся. С величайшим трудом (его ноги оказались очень опухшими, и он сильно дрожал, вероятно, от возбуждения при встрече с европейцами) взобрался он на палубу. Костюм его состоял единственно из грубого холщового мешка, который обхватывал самым неуклюжим образом его талию, и из дырявой грязной соломенной шляпы. В нескольких словах рассказал он шкиперу X., что жители Андры, скоро после ухода шхуны «Sea Bird», угрожая ему смертью, забрали все товары для меновой торговли и все его личное имущество, как платье и белье, не оставив ему ничего, кроме старого мешка от риса и шляпы; что он уже много месяцев живет у одного старика-туземца, который, сжалившись над ним, дал ему угол в своей хижине, кормил его и при приближении кутера дал О’Хара свою пирогу, чтобы добраться до судна. О’Хара умолял шкипера отвезти его на южный берег большого острова Адмиралтейства, где он надеялся встретить Пальди. Так как шкиперу было почти что все равно, где торговать, то он согласился исполнить просьбу О’Хара и направился на восток, чтобы обогнуть восточную оконечность большого острова[226].
II
Расспросы у туземцев об их обычаях, главным образом вследствие недостаточного знакомства с их языком и многих других причин, мало помогают, приводят к ошибкам или к воображаемому разрешению вопросов. Единственный надежный путь — видеть все собственными глазами, а затем, отдавая себе отчет о виденном, надо быть настороже, чтобы полную картину обычая или обряда дало бы не воображение, а действительное наблюдение. Мне кажется даже полезным быть еще осторожнее: следует удержаться при описании виденного от всякого рода гипотез, объяснения и т. п.
Mиклухо-Маклай (Письмо Русскому географическому обществу. Изв. Русск. геогр. общ., т. XVI, 1880.)
Морская стычка у южного берега большого острова. — Обнюхивание. — Ожидание не состоявшегося ночного нападения. — Знакомство туземцев с луком («осокай»). — Смерть Панги. — Самоистязание жен его. — Пляски перед умершим. — Туалет покойника. — Выражение горя. — Ночные пляски вокруг трупа. — Погребение его. — Воинственная демонстрация по случаю смерти Панги. — Баталия женщин. — Первобытные орудия. — Быстрое вытеснение их европейскими. — Приглашение жителей островка Сорри. — Третье пребывание на о. Андра в ноябре 1879 г. — Забавы детей. — Положение пленников. — Экскурсия в деревню Суоу. — Малаец Ахмат. — Интересные сведения относительно нравов и образа жизни туземцев, полученные от Ахмата. — Черепа съеденных. Выделка «кур». — Женщина-покойница в деревне Суоу. — Этнологические загадки. — Необходимость большой осторожности и критики при наблюдениях.
Кутер «Рабеа» был очень небольшое судно, всего 35 т вместимости. Экипаж состоял из шести человек матросов, четырех малайцев из Манилы, одного негра и одного туземца с о-вов Ниниго.
Подойдя утром, на другой день, к селению Пуби (на южном берегу большого острова), где в 1876 г. был оставлен тредор Пальди, шкипер послал на берег шлюпку с тремя людьми за водой. Двое туземцев о-вов Адмиралтейства отправились с ними, чтобы указать ближайшую речку или ручей. В это время кутер окружило от сорока до пятидесяти пирог, из которых некоторые были очень значительны, с экипажем более чем в сорок человек. Пальди все еще не появлялся, почему О’Хара вздумал написать ему и передать записку одному из туземцев для передачи Пальди. Туземец, к которому он обратился, казалось, хорошо понял, что от него желают, взял бумагу, свернул ее, вложил в отверстие мочки уха и, не говоря ни слова, направился в свою пирогу, которая сейчас же отошла от кутера, но недалеко. Туземец с запиской в ухе обратился к землякам с короткой речью, после которой они поспешно очистили палубу кутера и слезли в свои пироги. Людям на кутере нетрудно было понять, что, вероятно, скоро произойдет; пользуясь временем, пока туземцы, которых на палубе было множество, перелезли в свои пироги, они сами стали готовиться к защите. Кроме шкипера, на кутере оставались только трое человек матросов (трое других были отправлены за водой) и два белых тредора. Итак, этим шестерым пришлось вступить в борьбу с несколькими сотнями[227] туземцев. Никто, разумеется, не оставался на палубе; шкипер X., будучи замечательно хорошим стрелком, взял всю стрельбу на себя, предоставив остальным заряжать ружья, из которых некоторые были магазинные. Шкипер расположился у входа в каюту, так что половина его туловища находилась в самой каюте, а верхняя — несколько защищена небольшими дверцами каюты. Первое копье брошено было человеком с запиской Пальди в отверстии мочки уха, который, казалось, распоряжался атакой, а за ним последовал град копий, направленных в полуоткрытые двери и маленькие окна кутера. Шкипер, вооруженный прекрасным скорострельным ружьем, принялся за свое смертоносное дело. Он стрелял, только хорошо целясь и почти без промаха.
Первым убитым со стороны туземцев был человек с запиской. Несмотря на меткость выстрелов, туземцы с замечательнейшей храбростью и яростью поддерживали нападение. Число копий было так велико, что после боя никому не пришла мысль пересчитать их: копий было так много и все они были так поломаны (оконечность их сделана из осколков обсидиана, материала очень ломкого), что их, чтобы очистить палубу, смели в море. Многие из копий пробили насквозь толстые двери каюты, и, несмотря на массивную медную проволоку и толстое стекло, два окна оказались пробитыми. При одном неловком движении шкипер, выставивший неосторожно руку, был ранен копьем, что, однако ж, не помешало ему, перевязав наскоро рану платком, продолжать свою стрельбу в цель. Очевидец этого происшествия рассказывал мне, что при каждом выстреле один из туземцев на пирогах валился мертвым или раненым. Туземцы не отдавали себе, кажется, полного отчета в действии ружей; это можно было заключить из обстоятельства, что они чересчур нахально подставлялись под выстрелы. Один туземец, напр., бросив копье, поднял лежавшую у ног его циновку, как бы желая укрыться от пули, которая недолго заставила себя ждать, свалив несчастного мертвым за борт. Шкипер полагал, что число убитых или раненых им в тот день было около шестидесяти и никак не менее пятидесяти. Через полчаса боя туземцы решились уступить, прекратили метание копий и двинулись по направлению к берегу. Как раз в это время шлюпка с водой находилась на пути к кутеру; шкиперу можно было поэтому прикрыть ее возвращение. Две пироги отделились было от флотилии по направлению к шлюпке, но несколько метких выстрелов заставили их оставить шлюпку в покое. Кроме шкипера, двое из бывших в каюте оказались также раненными копьями, проникшими через разбитые окна, но все три раны были незначительными.
Главный парус, которого не успели убрать, был изорван копьями и превращен в лохмотья. Кутер, однако же, направился к берегу и приблизился к деревне Пуби настолько, что все хижины были ясно видны. О’Хара узнал ту, в которой поселился Пальди, но забора вокруг нее, построенного по желанию последнего людьми шхуны «Sea Bird», не существовало.
После такой стычки с туземцами о торговле с ними, разумеется, нельзя было и думать, почему шкипер X. отправился далее. О судьбе Пальди я узнал впоследствии, о чем упомяну в свое время…
Возвращаюсь к своему дневнику.
Я вернулся по ближайшей тропинке в деревню и услыхал там неожиданную новость, что «менова» (искаженное английское название «man of war» — военное судно) приближается. Я так мало верил этому известию, что не захотел сопутствовать Кохему, который тащил меня на северный берег островка, чтобы показать мне «менова», а остался в деревне, где занялся осмотром большой акулы, пойманной на рифе при собирании трепанга. Ее привезли в деревню, и мне хотелось определить, к какому виду она принадлежит, перед тем как туземцы распластают ее.
Известие о приближающемся судне, однако ж, оправдалось, но, как часто случается, слон превратился в муху.
«Военное судно» было не что иное, как очень небольшой, довольно безобразный пароходик, по имени «Alice», под германским флагом. Он принадлежал фирме братьев Гернсгейм и был на пути о. Герцога Йоркского (между Новой Британией и Новой Ирландией) в группу Луб, где жил тредор этой фирмы. Я отправился на пароходик передать несколько готовых писем в Европу и Австралию, так как знал, что между о. Герцога Йоркского и Куктауном в Австралии существует довольно правильное почтовое сношение. На пароходике мне сообщили, между прочим, что недавно был убит некий шкипер Л. своими же людьми. Этот человек несколько десятков лет был известен на островах Тихого океана своим бесстыдным и часто жестоким обращением с туземцами; жалеть было нечего и оставалось только принять к сведению, что на островах Тихого океана одним дрянным белым человеком стало меньше. Отдав свои письма, я поспешил вернуться на берег[228], где мне хотелось дополнить свои заметки об акуле; вернулся я, однако ж, слишком поздно: акула, по всей вероятности Caleocerdo Rayneri, оказалась изрезанною на куски и уже варилась в горшках на обед жителям о. Андра.
Вздумав купаться в море, я опять попросил женщин приготовить для меня пресной воды, чтобы смыть соль с кожи. Раздевшись в хижине, надев свои короткие малайские штаны и род туфель или сандалий с деревянными подошвами, я вышел на площадку, где туземцы с криками встретили меня и сбежались, чтобы осмотреть меня поближе. Что выражали эти крики — изумление ли, удовольствие или неудовольствие — я не мог решить. Полагаю, что первое чувство было преобладающее. Белизна кожи и длинные волосы на груди и ногах особенно удивляли их. Несколько женщин пробилось вперед и вздумало (странно сказать) обнюхивать мою грудь и спину, около regio subaxillaris. Это мне показалось очень курьезным, и я, закинув обе руки на голову, минуты две предоставил себя обнюхиванию. Мне кажется, все женщины деревни сбежались, и я решил войти в воду, чтобы избавиться от них. Качу и несколько мальчиков и девочек последовали за мною, и, следя за их ловкими движениями в воде, мне стало досадно, что я не умею плавать. Я убежден, что туземцы не верили, что я не умею, и не могли представить себе, как это может быть. Качу особенно тащил меня в глубокую воду. Я насилу отвязался от него и, выйдя на песок, поднял кусок дерева и камень. Бросив в воду дерево, которое поплыло, я назвал его «Качу». Бросив затем камень, пошедший ко дну, я назвал его «Макрай». Это наглядное объяснение очень понравилось окружавшим меня, которые стали повторять: «Качу — дерево, Макрай — камень!» Обмывшись пресною водой, я вернулся в хижину, чтобы избавиться от двух-трех старух, которые не были здесь перед моим купаньем и ждали, чтобы я вышел из воды, желая, должно быть, проверить рассказы других женщин.
27 августа. Коптилка на берегу вышла удовлетворительною. Тредорам и пяти людям о. Лифу, которые поселились в деревне, удалось очень плотно заткнуть все отверстия хижины, так что, когда в ней сегодня утром были разложены два значительных костра и двери плотно закрыты, дым почти что не проходил через крышу, а оставался в хижине и коптил трепанг. Недалеко от коптилки в двух больших полукруглых железных котлах варился трепанг, который привозили уже готовым для варки со шхуны. Люди Лифу устроили себе шалаш; в передней части последнего поместился капитан Б.[229], один из белых тредоров, которому были поручены варка и копчение трепанга на берегу, как и присмотр за людьми Лифу.
Я отправился на охоту, которая здесь, при незнакомстве птиц с огнестрельным оружием, очень незатруднительна; птицы, еще не наученные опытом, подпускают охотника на близкое расстояние, часто не улетают после выстрела, не обращая даже внимания на падение одной из них на землю. Я уронил нечаянно свой старый нож, с ручкой в серебряной оправе, и хотя заметил потерю его скоро и вернулся к тому месту, где обронил его, не нашел его. Он был, вероятно, найден и присвоен одним из туземцев, сопровождавшим меня. Я предложил два, даже три ножа тому, кто найдет потерянный, но никто не пришел, и мне пришлось заменить потерянный другим. Это был первый случай воровства, замеченный мною на этих островах. При возвращении в деревню капитан Б. сказал мне, что в то утро перебывало около коптилки очень много людей, вероятно, из других деревень, так как в большинстве своем физиономии были для него новыми. Все они осматривали европейские вещи с большим интересом и видели их, кажется, в первый раз.
Я пожалел, что меня не было в деревне, потому что я пользуюсь всяким случаем для антропологических наблюдений, и отправился к своей хижине докончить начатый портрет одного из туземцев. Не успел я приняться за работу, как капитан Б. явился снова прочесть полученное им письмо от шкипера В. Последний писал, что с самого утра он замечал пироги, которые одна за другой направлялись к небольшой бухточке большого острова, недалеко от о. Андра, что в настоящее время там находится целая флотилия пирог с сотнями туземцев, что движения туземцев кажутся ему очень таинственными и подозрительными и что, по его мнению, нападение на нас, живущих на берегу, а может быть, и на шхуну очень вероятно. Ввиду этого он желает, чтобы мы непременно вернулись на шхуну и т. д. Капитан Б. был очень встревожен и, не зная, что предпринять, обратился поэтому ко мне с вопросом, что я стану делать. «Я останусь здесь, — отвечал я, — потому что страх шкипера В. мне кажется неосновательным». Капитан Б., с одной стороны, боялся ослушаться шкипера, с другой — ему не хотелось показаться трусом, почему он объявил мне, что, если шкипер настоит на перевозке людей на шхуну, он, разумеется, их отправит со всеми вещами, но сам останется со мною.
Выслушав мое заключение, что мне никого не нужно и что ничего серьезного не произойдет, он отправился на шхуну переговорить со шкипером; я же — в хижину, чтобы отдохнуть и обдумать наше положение. Я положительно не верил, что жители Андры осмелятся напасть на нас, но отчасти допускал возможность такого глупого поступка со стороны жителей других деревень, союзников людей Андры. Не додумавшись ни до чего, я задремал; было уже темно в хижине, когда у дверей послышался в третий раз голос капитана Б., говорившего мне, что шкипер согласился оставить людей на берегу с условием, чтобы никто не спал ночью и все было готово к отражению нападения. Кроме бывших на берегу четырех, ружей системы Шнейдер, он прислал еще два той же системы, несколько фальшфейеров для сигналов и т. д. Капитан Б. отправился совещаться со своими людьми; я же сел у моря подышать свежим вечерним воздухом и полюбоваться последними лучами солнца. Б. опять подошел ко мне, но уже с менее радостной физиономией, как за минут пять перед тем, и знаком предложил мне следовать за ним. Не было еще так темно, чтобы не видеть довольно ясно предметов.
Хижины, как я уже сказал, стояли в деревне Андра группой и были обращены передними фасадами на довольно неправильную площадку. Несколько тропинок, четыре или пять, вели к ней, и все они были обыкновенно довольно открыты и заметны. Капитан Б. привел меня к одной из них; она была завалена высокою кучей колючего хвороста; подошли ко второй — то же; к третьей — то же. Только четвертая и пятая, ближайшие к берегу, оставались открытыми. Оба мы знали положительно, что никогда этого прежде не бывало. Для чего это было сделано? Когда и кем? Мы не знали. Эти баррикады показались мне странными, а в пылком воображении капитана Б. рисовалась целая картина атаки, засад и т. д. Я предложил ему не показывать и виду наблюдавшим за нами туземцам, что мы придаем большое значение этому обстоятельству. Капитан Б. сообщил мне, что распределил своих пятерых людей по вахтам: два человека по два часа, сам же не будет спать всю ночь. «Напрасно, — сказал я, — если что случится, то случится не вечером и не ночью, а под утро; к тому времени я буду к вашим услугам, а теперь я отправлюсь спать, чтобы приготовиться на всякий случай».
Несмотря на виденные баррикады, мне все еще не верилось, что люди Андры рискнут на серьезное нападение. Я не стал пить чаю, который всегда действует на меня возбудительно и не дает мне спать. На всякий случай я вытащил свое ружье Шнейдера из чехла, зарядил его, вложил дюжину патронов в пояс и осмотрел патроны револьвера, которые оставляю иногда по неделям невынутыми в револьвере, потому что смотрю на этот инструмент как на нужный только в крайнем случае, а не как на игрушку для стреляния в цель, ради забавы. Револьвер, нечаянно смоченный, оказался очень ржавым; пришлось разобрать его на части, вычистить их и смазать, а также вложить новые патроны. Кончив эту операцию, я был рад лечь, наконец, и не захотел встать, когда Кохем, которого я не видал весь день, явился и разложил небольшой костер в очаге. Это было сделано для света, так как лампа не горела. Кохем покрыл нары новою циновкой и долго с кем-то шептался у задней двери хижины. Он вернулся, а за ним следовали две женщины или девушки, которых он уложил на циновке на нарах, прикрыв каждую свежею циновкой.
Между женщинами находилось место как раз для одного, и я думал, что он оставил его для себя, но ошибся. Кохем подошел к койке и знаками предложил мне лечь на нары; все это показалось мне очень странным, потому что я не высказал желания иметь общество кого-либо ночью, а тем более двух женщин. Это показалось мне даже какой-то западней[230]. Я встал поэтому, зажег лампу и сдернул циновку с лежащей женщины, — это была та же, которая приходила беспокоить меня в прошедшую ночь; но сегодня она не хихикала, а серьезно поглядывала то на Кохема, то на меня. Подойдя к другой, я и с нее стащил покров, — это была Пинрас, девочка, о которой я уже говорил. Кохем стоял, умильно поглядывая на меня и повторяя: «уян, уян!» (хорошо, хорошо!). Чтобы отвязаться от них и не обидеть никого, я указал на мои сонные глаза, сказав: «Матин» (спать). Потушил лампу и лег на койку, предоставив Кохему и моим посетительницам делать, что угодно.
28 августа. Я проспал отлично до 3 часов утра и, слыша голос Б. и людей Лифу на площадке, вышел к ним и нашел всех на ногах. Б. было как будто досадно, что я проспал напролет всю ночь, а он без толку бодрствовал. Позвав его в хижину, я предложил ему для подкрепления сил выпить чашку кофе, который при помощи экстракта кофе мог быть приготовлен очень скоро. Требовался единственно кипяток.
«Теперь, — сказал я Б., когда мы напились кофе, — если туземцы затеяли что-нибудь против нас, то мы узнаем это весьма скоро. Прикажите людям Лифу быть наготове и исполнять наши приказания безотлагательно». Капитан Б. вышел распорядиться, а я стоял в раздумье, что предпринять — лечь ли снова, писать ли дневник, или выйти на площадку. Вдруг послышались невдалеке отчетливые звуки мраля (деревянного барабана), как будто с пироги у берега, а затем на самой площадке возгласы жителей Андры: «усия, усия!» (неприятель, неприятель!). Схватив ружья и фальшфейер, я выскочил на площадку, где, к моему неудовольствию, заметил немало людей Андры. Мне почему-то подумалось, что эти люди останутся нейтральными до тех пор, пока исход схватки, которая теперь казалась неминуемой, не определится, что они с удовольствием бросятся доколоть и ограбить нас, когда главное дело будет сделано людьми, которых они называют «усия». В группе туземцев я заметил и Кохема. Мраль и говор вдали послышались снова.
Я подошел к Б. и людям Лифу, которые стояли, вооруженные ружьями, около потухающего костра.
— Что теперь будем делать? — спросил Б. — Не зажечь ли фальшфейер? (Это должно было быть сигналом, что мы находимся в опасности.)
— Оставьте шкипера В. спать, мы и без него управимся, а я вам сейчас скажу, что делать.
В критические минуты мне иногда приходит какая-нибудь счастливая идея, исполнение которой приводит натянутое, иногда опасное положение к благоприятному исходу. Потухающий костер в этом случае дал мне эту идею. «Дайте мне факел, — обратился я к людям Лифу, — и бросайте в костер все, что найдете, что может гореть». Загорелся великолепный костер. Звуки мраля усиливались, и крики были слышны очень близко.
Терять времени нельзя было.
Я зажег факел и сказал громко, чтобы все меня слышали, вероятно, значительно коверкая туземный язык: «Усия идет, Маклаю и людям шхуны надо много огня, чтобы видеть, в кого стрелять. Кохем, скажи женщинам и детям выйти из хижин, потому что Маклай будет сейчас жечь их!» Б. и люди Лифу поняли мою мысль и стали вооружаться факелами; я же был готов поджечь ближайшую хижину. Мои решительные слова и возможность в несколько минут лишиться жилья и имущества очень озадачили Кохема и его земляков. Я заметил, что некоторые убежали, вероятно, предупредить усия; Кохем же и несколько других поспешили ко мне с уверениями, что усия еще далеко, что усия, вероятно, не придет, и просили не жечь хижин. «Если усия не придет, то хижин не будем жечь», — успокоил я некоторых, между тем как другие уже суетились, желая вынести разные драгоценности из своих хижин.
Рассвело, и шлюпка с десятком людей отвалила от шхуны. Махинация Кохема и компании на этот раз не удалась.
— Что сталось с баррикадами? — поинтересовался я узнать у Б.
— Исчезли, — ответил он, — как только туземцы заговорили, что усия не придет.
Именно проблематическое сооружение их поддерживало мою мысль, что если бы нападение на нас состоялось, то в нем участвовали бы наши приятели из деревни Андра.
После эпизода, который я описал, мне показалось не особенно удобным оставаться в хижине Кохема, где я находился совершенно как бы в руках туземцев, которые доказали, что не заслуживают большого доверия. Недолго думая, я поставил свою палатку, которую на всякий случай привез с собою, на краю деревни, под большим деревом, где прежде подвешивал койку. Мое помещение при этом выиграло тем, что стало светлым; в хижине и днем при открытых дверях господствовал полумрак. Палатка представляла спальню; в ней находились сложенные все мои вещи; около нее я поставил складной стол и скамейку. Немного расчищенное место вокруг служило для принятия посетителей-туземцев. В палатке я только спал или отдыхал, но писать, есть и т. п. мне приходилось у стола, с трех сторон открытого для взоров любопытных; но я так привык не стесняться десятков глаз, следящих за каждым моим движением, что давно уже стал к этому совершенно равнодушен и нередко совершенно забывал о присутствии посторонних. Я приставил Качу, который по-прежнему был готов всегда услужить мне, — за что, разумеется, я со своей стороны отплачивал от времени до времени небольшими подарками, — охранять мои вещи, когда я уходил куда-нибудь, в деревню, на охоту или когда купался. Моя остальная свита, человек шесть или семь мальчиков и девочек, понемногу отстала, появляясь редко, на короткое время, и то только для того, чтобы выпросить что-нибудь. Пинрас после вчерашней сцены в хижине Кохема более не появлялась.
Расхаживая по деревне, я наткнулся в одном из камаль на торчащий между атапами[231] крыши небольшой лук, который, судя по размерам, собственно, был не что иное, как детская игрушка. Эта находка была интересна, потому что нигде на о-вах Адмиралтейства употребление лука как оружия неизвестно. Ни один из путешественников, посетивших эту группу до меня, о луке не упоминает, а многие удивляются его отсутствию. До сегодняшнего дня я и сам его нигде не видал на этих островах. Я сейчас же позвал одного из более толковых туземцев, указал на него и прибавил: «ланган-се?» (как зовут?). Вытаскивая между атапами лук, он назвал его «осокай»[232] и, приискав где-то под крышей несколько легких стрел, названных им «поренгун», он пустил одну в море, прибавив часто туземцами употребляемое слово «уян» (хорошо). Итак, лук, правда как детская игрушка, известен на о-вах Адмиралтейства. Отчего он не вошел в общее употребление, не стал действительно важным для туземца оружием на войне и при охоте, я не берусь решить. Может быть, имея копья различной формы и величины (некоторые не больше больших стрел папуасов Новой Гвинеи), привыкнув метать их с большой ловкостью, туземцы нашли лук лишним.
Другое предположение: может быть, кто-нибудь из посетителей островов Адмиралтейства, европеец или житель других островов, где употребление лука известно, показал здешним людям именно этот осокай как новую штуку. Пример подобной возможности я видел на днях: как-то утром пришла шлюпка со шхуны; через несколько времени я заметил толпу детей, между которыми находились и взрослые, окружавшие матроса Джо, туземца Лифу. Я подошел к группе и нашел, что последний обучает туземцев Андры употреблению так называемого «ceпa», небольшого приспособления, при посредстве которого жители группы Лойэлти бросают свои копья на гораздо большее расстояние и с большею силой, чем если бы бросали просто рукой. При помощи ceпa Джо в метании легких детских копий перещеголял всех своих конкурентов. Жители Андры скоро переняли у Джо умение делать сеп, и я каждый день замечал у мальчиков этот новый инструмент, и имя «сеп» вошло в общее употребление на о. Андра.
Может быть, подобно сепу, и осокай был показан здешним туземцам каким-нибудь приезжим. Услужливый Джо, научив туземцев употреблению ceпa, хотел выучить их делать и «эте» (пращи), употребляемые как на Новой Каледонии, так и на о-вах Лойэлти. Полагая, что у туземцев здесь и без этого довольно смертоносного оружия, я сказал Джо, считающего себя усердным христианином (он католик), что показывать людям, как убивать друг друга, большой грех, и что я непременно напишу миссионеру, что Джо занимался на островах поучением туземцев делать сеп и эте. Это сильно смутило Джо, он чуть не заплакал и обещал, разрывая на части начатую пращу, более этого не делать, прося только не писать миссионеру, которого он всегда очень хвалит. Чтобы развеселить Джо и потупившихся жителей Андры, которым мое вмешательство не понравилось, я предложил первому показать туземцам пляску Лифу, так называемую «пилу-пилу», до которой Джо был большой охотник и плясать которую был мастер.
Несколько сильных ударов в мраль (деревянный барабан) в камале одной из ближайших групп хижин, несколько пронзительных криков и завываний женщин заставили нас всех оглянуться. Туземцы все разбежались. Я направился с Джо к своей палатке, не понимая, в чем дело. Мимо нас пробежала, крича и воя, пожилая женщина, вся измазанная небрежно черною краской[233] (а может быть, просто углем). Обыкновенный, очень приличный костюм пожилых женщин — два длинных, спереди и сзади висящих фартука из растительных фибр — был заменен у этой женщины несколькими обрывками короткого старого фартука, который почти что не прикрывал ее тела. Пробежав около нас, она стала еще сильнее кричать и голосить и вдруг со всего размаха бросилась на землю и начала кататься по ней. Там, где она бросилась на песок, торчало несколько острых кораллов, так что она поранила себе тело до крови во многих местах. Было неприятно смотреть на это самоистязание. Она схватила лежащий обломок коралла и принялась бить им выбритую голову, лицо, грудь. К ней подошло несколько других женщин, вероятно, утешить ее; но она только вскочила и, завопив еще громче, во второй раз, плашмя, как стояла, бросилась на землю.
Я все еще не знал, в чем дело. Подошедший Качу тихо сказал мне: «Панги римат» (Панги умер). Я понял тогда, что женщина эта должна быть одною из жен старого Панги, которого я уже несколько дней не видал. Женщина между тем, теперь вся покрытая песком, окровавленная, почти что голая, вскочила и побежала дальше и скрылась между хижинами. Я направился к хижине покойника. Меня никто не остановил, почему я влез в узкую дверь семейной хижины, где увидал следующую картину. Недалеко от двери, на земле, покрытой кадьяном[234], лежал покойник, окруженный несколькими женщинами, тянувшими заунывную песню, между тем как две или три громко, что имели сил, рыдали. Свет из дверей прямо падал на совершенно голое тело умершего; голова его лежала на коленях одной из женщин, которая, грея пальцы над огнем, старалась закрыть полуоткрытые глаза. Вдруг одна из женщин, страшно воя, бросилась обнимать умершего, прильнула к груди его и рукой стала гладить лицо его; другая бросилась обнимать его колени. За заднею дверью послышались крики женщины, которую я видел на берегу. На ней еще виднелся песок, и кровь текла из ран на лице, груди и руках. Перелезши высокий порог хижины, плаксиво что-то напевая, пошатываясь и как бы приплясывая, не глядя ни на кого, она медленно приблизилась к покойнику, от которого другие женщины тогда отступили. Вновь пришедшая при виде трупа снова пришла в сильное волнение; с пронзительным криком, срывая с себя последний клочок одежды, она бросилась на мертвого, которого, лежа на нем, стала теребить то в одну, то в другую сторону; приподнимала его голову, трясла за плечи, усиленно звала его, как бы желая разбудить спящего. Вскочив опять на ноги, вся в поту, в крови и грязи, она принялась выплясывать какую-то странную пляску, напевая самым жалостным голосом непонятные для меня слова. Я приютился, сев на старый мраль, в углу хижины и следил за происходящим. Сцена была такая необыкновенная, что мне казалось, что я вижу какой-то странный сон — не верилось действительности.
Женщина не сводила глаз с лица покойника, словами и телодвижениями она как бы старалась вернуть мертвеца к жизни. По временам движения тела у женщины, которая как бы забыла все окружающее, кроме умершего, доходили до самых неистовых.
Когда она устала, ее заменила другая из присутствовавших.
Во всех завываниях, жестах, телодвижениях можно было, однако же, заметить много искусственного, заученного. Обычай этого требовал, чувство отступало на второй план. Что я не ошибался в этой оценке, доказала происшедшая передо мной сцена, немного в стороне от покойника и главных действующих лиц. Как только главная жена отошла от трупа и была заменена другою, она непосредственно перешла от самых бешеных криков и жестикуляций к простому разговору; она достала горшок с водой и жадно напилась; уместившись поудобнее, все время болтая с близсидящими женщинами, она стала очищать от грязи и угля ею же самою нанесенные себе раны. Она производила впечатление актрисы, сошедшей со сцены.
Вторая женщина была сменена третьей и четвертой, после чего сидевшие ближе к покойнику (вероятно, более близкие родственницы) перешли к убиранию тела. Лицо, голова были тщательно выбриты осколками обсидиана, даже пучок волос в ушах не был забыт. Все тело затем было тщательно вытерто мягкою тапой[235], все волосы со всех частей тела удалены.
Все время я был единственным мужчиной в хижине. Заметя общее утомление, я подумал, что некоторое время ничего не произойдет замечательного, и вышел поэтому из хижины на свежий воздух. Войдя полчаса спустя, я застал небольшую группу около умершего. То были, вероятно, самые близкие родственники и друзья его. Выражение горя на лицах было глубоко и трогательно. Не было театральных жестов и поз, не было даже крика или воя; по лицам всех текли обильно слезы, и кроме тихих всхлипываний я ничего не слыхал.
Эта сцена неподдельного горя представляла сильный контраст с видом группы женщин и детей, жадно обгладывавших человеческую кость! Выходя из хижины, я прошел мимо женщины, сидевшей у берега. То была, вероятно, сестра или одна из молодых жен усопшего. Выражение горя было очень характерно: из закрытых глаз текли ручьем слезы, губы что-то бормотали; бессознательно водила она по песку руками; иногда, как ребенок, нагребала она песок в кучки, потом снова сравнивала все рукой. Я прошел мимо, затем остановился, простоял довольно долго, глядя на нее, но она меня не видала и не слыхала.
Из моего бивуака я мог видеть, как несколько процессий черною краской обмазанных женщин с разных концов острова прошло к хижине покойника. Я последовал за ними и увидел, что в мое отсутствие покойник был вымазан красною краской[236] и имел вокруг головы, шеи и рук несколько украшений из раковин. Я приютился в своем уголке. Входившие группы женщин еще до входа в хижину начинали заунывный вой; когда же подходили к покойнику, одни начинали выплясывать пляску, подобную виденной мною утром, другие с плачем и воем бросались к трупу.
Около 3 часов пополудни мужчины принесли несколько больших и малых мраль и, поставив[237] их у заднего входа в хижину покойника, уселись около них. Скоро оглушительный стук начался. Во все мраль били зараз палками из очень сухого дерева и били изо всех сил. Стук, как я сказал, был оглушительный.
Хижина переполнилась понемногу женщинами; большинство стояло, и только ближайшие к покойнику предавались разным телодвижениям, стоя на месте.
Движения производились средней частью туловища и должны были быть весьма утомительны: женщины часто сменялись. Те, которые хотели показаться более растроганными (как мне показалось), подходя к покойнику и начиная свою пляску на одном месте, срывали с себя оба фартука, т. е. не оставляли ничего на себе. Пробыв более часа в хижине и видя, что ничего нового не происходит, я ушел.
Виденные сцены, а главным образом томительное завывание женщин и несмолкаемый громовой стук мралей, привели меня в крайнее утомление: голова кружилась, глаза слипались.
Несмотря на продолжающийся гам в хижине умершего, я не входил туда до вечера. Внутри хижины пляска шла своим чередом. Костер, разложенный около головы покойника, освещал пляшущих. Вою и крику женщин вторили звуки мраля.
Не будучи в состоянии при этих условиях заснуть, я принял небольшую дозу морфия, которая доставила мне несколько часов сна, но около 3 часов утра особенно сильный звук мралей пробудил меня. Я спал нераздетым, намереваясь посмотреть, что будет твориться ночью в хижине умершего; я сейчас же встал и направился туда. Была великолепная лунная ночь, и много женщин стояло и плясало вне хижины, в ней же самой женщин всех возрастов было, кажется, еще более, чем днем. Костер около покойника иногда ярко вспыхивал, и при этом свете я мог видеть, что все пляшущие (в хижине не было тогда ни одного мужчины) были совершенно голы. Пляски и телодвижения были обращены к покойнику, который был положен боком и как бы смотрел на пляшущих; старые женщины особенно отличались в пляске.
При самых усиленных ударах в мраль появился в хижине человек лет сорока пяти. Он был весь вымазан черным, и костюм его состоял единственно из раковины Ovula ovum. Когда он шел к покойнику, все дали ему дорогу и приутихли; подошедши к самому костру, он остановился шагах в двух от покойника. Все присутствующие женщины тогда уселись, как могли, на земле, только две из них стали по сторонам вновь пришедшего. Эти трое (мужчина и обе женщины), подняв руки над головами и расставив ноги, начали вопить самым немилосердным образом. Когда их вопли немного стихли, мрали вне хижины старались как бы заглушить голоса человеческие. Движения мужчины были очень энергичны, но вряд ли уступали в этом отношении движениям обеих женщин. Минут через 10, при самом неистовом крике всех и сильнейших ударах мраля мужчина[238] вышел из хижины, и весь гам оборвался.
Все стали расходиться; я тоже ушел, надеясь еще заснуть перед восходом солнца. Это удалось, — прием морфия еще действовал.
Все утро в деревне было тихо, ни воя, ни звуков мраля не было слышно, так что я подумал, что покойника куда-нибудь унесли. Я пошел удостовериться. Он лежал на старом месте, сильно вспух и вонял; стаи мух наполняли хижину; множество их жужжало вне ее. Несколько женщин постоянно обмахивало, обтирало и обкуривало труп. Это занятие продолжалось все утро.
Около 2 часов 30 минут пополудни покойник был вынесен из хижины на особенно устроенных носилках из досок и положен среди площадки между хижинами. Мужчины стояли и сидели кругом, женщины образовывали группы за ними. Один из мужчин[239], взяв кокосовый орех в одну руку, а туземный топор в другую, произнес короткую речь, которую я, к сожалению, не понял. При каждом имени, произнесенном оратором в конце речи, он делал топором на кокосе легкую зарубку. Все время, пока тело лежало на площадке, над ним держали циновку. После речи все поднялись, и покойника на тех же носилках отнесли в «сари» (дворик перед хижиной) и там, около самого входа в хижину, стали рыть яму. Яма эта, вследствие твердости кораллового грунта, имела не более 2.5 или 3 футов глубины. Тело, на котором были оставлены немногие украшения, завернутое в кадьян и обвязанное, опустили в яму в лежачем положении и стали наполнять ее землей. Пока покойника зарывали, некоторые плакали и кричали, но все спешили окончить церемонию погребения.
Часа два спустя на площадке произошел дележ наследства, которое состояло из нескольких больших деревянных блюд, множества копий, разных украшений, домашней утвари, циновок и т. д. Все это было сложено в небольшие кучки и унесено немногими мужчинами и женщинами.
В каком родстве к покойнику состояли эти люди, по недостаточному знанию языка, я не мог спросить.
Вечером и ночью в хижине умершего было собрание воющих женщин, а на могиле ярко горел костер, сложенный из больших стволов.
31 августа. Утром большинство мужского населения острова стало собираться в поход на деревню Рембат. Эта экспедиция находилась в прямой связи со смертью Панги[240]. Ко мне и капитану Б. туземцы обратились с просьбой принять участие в предпринимаемой экспедиции. Мы, разумеется, отказались. Женщины снаряжали мужчин: таскали в пироги копья, провизию, воду п т. д. Отправилось одиннадцать пирог; в каждой было от семи до девяти человек.
Отправляясь на охоту, мне пришлось проходить около колодца, находившегося почти посредине островка и состоящего из ямы фута в 3 или 4 глубиной; вкус воды был солоноватый, хотя ее можно было пить без отвращения. Колодец содержался очень опрятно, был обыкновенно покрыт кадьяном, и недалеко от него на сучьях дерева висело несколько скорлуп кокосового ореха, служащих обыкновенно туземцам ковшами.
У колодца можно было почти всегда встретить женщин и детей, приходящих за водой с самыми разнообразными сосудами[241]. Сегодня, проходя невдалеке, я был удивлен гамом нескольких десятков крикливых женских голосов. Я сперва хотел пройти, но остановился, заметив, что среди толпы женщин находились две, лежащие на земле, которых били, топтали ногами и т. д. Против этих несчастных двух было, как я уже заметил, несколько десятков женщин, из которых некоторые были вооружены палками почтенных размеров. Сопровождавший меня Качу объяснил мне, что это женщины из Рембат, именно той деревни, с которой жители Андры отправились воевать. Хотя мужья этих двух женщин были туземцы Андры, но это обстоятельство, кажется, не было достаточно в этом случае, чтобы избавить их от нападения остальных женщин. Это истязание показалось мне несправедливым, и я направился в середину свалки. Гам и побои продолжались, голос же мой был заглушен всеобщими криками, и мне необходимо было поэтому прибегнуть к энергичной мере, которая, я надеялся, произведет свое действие. Оба дула моего ружья были заряжены дробью. Я выстрелил вверх, над головами беснующихся баб. Все разом притихли, большинство разбежалось, но несколько особенно озлобленных старух не хотело выпустить своих жертв. Увидя полную раковину с водой, я схватил ее, подошел к самой разъяренной из мегер и плеснул все содержимое раковины ей прямо в лицо. Она, разумеется, не ожидала от меня такого успокоительного средства. Выпустив из рук дубинку, она с руганью убралась.
Крики в деревне заставили меня направиться туда. Экспедиция в Рембат вернулась, но без раненых или убитых, не ранив и не убив никого из противников. Все ограничилось воинственною комедией.
Я посвятил сегодня несколько часов на приобретение коллекции первобытных туземных орудий[242], которые очень быстро вытесняются европейскими. Первое место между этими орудиями каменного века занимает «реляй», или большой топор — орудие действительно очень примитивное; оно состоит из деревянной палки (около 80 см длины), один конец которой гораздо толще другого. В этом толстом конце сбоку выдолблено углубление, в которое плотно вставляется отточенный кусок базальта или другой вулканической породы (чаще треугольной, редко продолговатой формы) или подходящим образом отломанный кусок раковины Hippopus или Tridacna. Только один край куска раковины бывает отточен, остальная поверхность его остается без обделки. Эта первобытная форма топора встречается также на некоторых островах Микронезии и в Австралии. «Реляй-риин» (топор малый) походит на более распространенную форму каменных топоров островов Тихого океана. Ручка его имеет форму цифры 7; к верхнему колену ее прикреплена с помощью ротанга наполовину сточенная раковина Теrebra maculata. Эти топорики очень легки и могут служить только для легкой работы.
Ножами служат куски обсидиана, вправленные в деревянные ручки, а чаще отточенные молодые раковины или продолговатые обрезки больших жемчужных раковин. Отточенные на камне края этих раковин могут быть сделаны очень острыми; ими режут веревки, клубни корнеплодных растений и т. д. Для резания мяса, однако, туземцы употребляют ножи из бамбука.
Резьба на дереве (красивых ручек больших деревянных блюд, деревянной оправы обсидианового острия копий и т. п.), на бамбуке и на раковинах (Tridacna, Meleagrina, Trochus и др.) производится главным образом с помощью осколков кремня. Для полировки дерева (больших деревянных блюд, например) употребляются обломки разных раковин, а затем куски пемзы, которая по временам в значительном количестве приносится приливом к берегу[243]. Осколки обсидиана служат для бритья, татуировки, разных хирургических операций.
Туземцы охотно расставались со своими топорами, меняя их на железные топоры, ножи и даже обручное железо. Последнее они очень ценят потому, что куски его им нетрудно прикреплять к ручкам из небольших топоров (реляй-риин) вместо отточенных раковин Terebra maculata.
Обручное железо служит также жителям островков и береговых деревень большого острова удобным средством обмена при сношениях их с жителями материка.
Между тем как большие реляй (топоры) почти что вышли уже из употребления, реляй-риин, с куском железа вместо раковины, и все остальные инструменты туземцев из раковин, кремня и обсидиана еще долго, а может быть и навсегда, останутся необходимыми предметами повседневного обихода жителей о-вов Адмиралтейства, вследствие того, что последние не получат от европейцев ничего подходящего, что могло бы заменить их[244], и потому, что материалы для туземных орудий (жемчужная раковина, обсидиан и т. д.) находятся в таком количестве, что пока нет причины и думать, что в них может оказаться недостаток.
Ножи, большие гвозди, топоры ценились туземцами гораздо более, чем бусы, красная бумажная материя и т. п. До сих пор еще, к большому удовольствию и большой выгоде шкиперов и тредоров, туземцы не открыли различия между железом и сталью. Я попытался объяснить разницу некоторым, но они, кажется, меня не поняли.
Одиннадцать четырехугольных парусов туземных пирог показались в проливе между большим островом и островком Понем, то были пироги с островка Сорри. Все они окружили скоро шхуну, куда и я отправился. Там я узнал, что новоприбывшие приглашали шкипера отправиться к ним, обещая ему трепанга, жемчужных раковин, черепаховой скорлупы вдоволь. За последние дни туземцы Андры были слишком заняты собственными делами, так что добыча произведений рифов была незначительной. Шкипер решил поэтому уйти и предложил мне вернуться завтра же на шхуну.
Я поспешил поэтому на островок, к себе в палатку. Множество из вновь прибывших жителей Сорри находились в деревне и приготовляли себе ужин. Лунная ночь была великолепна, и я долго просидел с туземцами на берегу моря, стараясь пополнить словарь диалекта Андры. При этом мне удалось записать также много слов диалекта островка Сорри, который неодинаков со здешним.
Туземцам очень нравилось мое желание знать их язык, и они с удовольствием отвечали на мои вопросы.
1 сентября. Люди Сорри утром собрались в обратный путь. Некоторые из пирог были значительной величины, и знал бы я наверное, что шкипер В. отправится прямо туда, я с удовольствием рискнул бы перебраться в Сорри на одной из пирог; но слову шкипера я уже привык не доверять, и так как я не знал языка Сорри, такое предприятие могло оказаться действительно небезопасным. Когда пироги Сорри ушли, я стал собираться на шхуну. На прощание Кохем и несколько других туземцев сочли своим долгом наделить меня и капитана Б. подарками. Мне были даны свинья и тридцать один кокосовый орех, Б. получил несколько больших рыб и дюжину кокосовых орехов. Дети — Качу, Аса и др. — все принесли мне по какому-нибудь небольшому подарку. Я также не поскупился и убежден, что они сохранят по мне добрую память. При последних лучах солнца, пользуясь задувшим береговым ветерком, трехмачтовая шхуна «Сади Ф. Кэллер» вышла за риф в открытое море.
17 окmября. Посещение острова Сорри [17–24 октября 1879 г.]. Несмотря на значительное расстояние (около 11 миль от острова Сорри), полдюжины пирог прибыли к шхуне, которая лавировала с трепангом. На одной из пирог я заметил небольшую акулу, которую приобрел. Между прибывшими я увидал многих, которые приезжали на островок Андра. Громадные зубы одного были очень замечательны. Когда лицо было совершенно спокойно, зубы торчали между губами, когда же он улыбался, размеры зубов казались положительно невероятными. Мне не удалось привлечь этого человека на палубу. Заметив, что я обратил на него особенное внимание, он никак не хотел выйти из своей пироги. Я его оставил в покое при виде трех людей, очень отличных от остальных туземцев островов Адмиралтейства. Поглядев на них, мне нетрудно было заметить их сходство с жителями архипелага Ниниго. Подойдя к ним, я только назвал имя их родины, как двое из них, ударяя себя рукою в грудь, стали повторять: «Ниниго, камаль Ниниго» (человек с Ниниго). Третий сказал, что он туземец островов Луб. Вероятно, все они в пироге были занесены ветром или течением сюда. Как давно это было, мне не удалось узнать. Они казались знающими хорошо здешний язык, и с ними обращались здешние туземцы хорошо. При маловетрии шхуна плохо подвигалась. Мы проходили, идя с запада, мимо островков порта Нарес. Я стал спрашивать туземные названия. Остров д’Антркасто (английских карт) туземцы называют Пелланган. Было уже темно, когда пироги, одна за другой, отвалили от шхуны.
18 окmября. Утром перебывало на шхуне много туземцев. Мы бросили якорь. Я стал собираться на берег. Одному из туземцев, физиономия которого мне понравилась, по имени Каду, я дал позавтракать (бисквит, вареного риса с сахаром и банан), а затем предложил ему ехать с ним в Сорри, который находился, по крайней мере, в 2.5 мили от нашего якорного места. Захватив необходимое, чтобы провести ночь в деревне, я спустился в пирогу Каду, которому, очевидно, понравилось мое доверие к нему. Всем встречающимся пирогам мои спутники сочли нужным объявлять мое имя и известие, что я отправляюсь жить в Сорри. Островок Сорри немного больше островка Андра, и на нем живет, кажется, значительно больше людей, чем на последнем. Как и там, хижины разбросаны группами. Мы подъехали к одной, более значительной, которую туземцы называют здесь Совай. В этом месте, недалеко от берега, находились несколько изгородей; то были род акварий, где сохранялись черепахи живыми. Пирога была вытащена на берег, близ площадки, представляющей центр деревни Совай. Хижины были очень скучены. Только перед ум-камаль, который здесь называется ум-каман, было оставлено больше места кругом. Семейные хижины были большею частью обнесены забором. Поручив мои вещи Каду, я отправился в сопровождении нескольких человек по тропинке осматривать другие части острова. Побывал в двух деревнях, в которых не нашел ничего особенного, кроме выделки ожерельев, так называемого здесь «соуль», а в другой мне повстречалась какая-то больная (вероятно, страдавшая лепрой) с закрытым листьями лицом. При моем приближении сопровождавшие меня люди прогнали ее, говоря при этом, что она «релан» (нехороший) и затыкая себе нос, старались объяснить, что от нее пахнет. Мне хотелось посмотреть ее ближе, но окружающие не допустили этого, повторяя «релан, релан». У одной хижины молодая женщина весьма странным образом укачивала ребенка. Последний находился в мешке, шнурок которого обхватывал лоб женщины, а сам лежал на спине. Мешок был просторный, так что несколькомесячному ребенку, лежащему на дне его, места было довольно. Тело ребенка приходилось как раз над задним фартуком женщины. Убаюкивание состояло в том, что мать, придерживаясь одной рукою за изгородь, раскачивала среднюю часть тела, надеясь толчками усыпить свое кричащее чадо. Это ей действительно удалось, но только при самой усиленной гимнастике. Забыв захватить с собою конденсированное молоко (мою главную пищу в настоящее время), я ничего не мог найти в деревне, чтобы поесть. Таро, варенный и печенный в золе, я не мог тронуть, достаточно спелых бананов не нашлось, полусырые не годились. Пришлось удовольствоваться несколькими глотками воды кокосового ореха и лечь голодным на «кэяу» (род широкой скамьи).
19 октября. Проспал очень скверно, так как циновка, покрывавшая кушетку, не делала досок ее более мягкими, а задние перекладины ее представляли довольно неудобную подушку. Первым делом надо было подумать о лучшем помещении, и, осмотрев деревню, я остановился на небольшой хижине — род небольшого камана — и решил переселиться туда. Пришлось отправиться на шхуну за вещами, и к вечеру я устроился довольно удобно в моем новом помещении. Все туземцы были очень заняты варкою трепанга и устройством коптилки. Заметил, между прочим, очень рослого туземца, который с сознанием собственного достоинства позволил себя смерить. Он оказался 1765 мм вышины. Мой приятель Каду только немногим ниже его. Видел вчера, проходя по деревням, несколько крупных экземпляров женщин, но они убежали при моем приближении.
20 октября. Ходил на охоту, чтобы добыть несколько свежей провизии. Голубей, как на острове Андра, здесь много. Мне попались два экземпляра голубя. Очень толковый мальчишка, лет двенадцати, по имени Варай, сопровождал меня на охоту. Проходя мимо окруженного плетнем места позади деревни, я захотел знать, для чего оно. Варай стал показывать на резанье горла, но я не мог добиться, кого здесь режут — людей или свиней. Суп, сваренный мной из голубей, оказался очень хорошим, несмотря на то, что пришлось есть его без соли — забыл захватить ее на шхуне. Но я прожил в Новой Гвинее целых десять месяцев без нее, и это обстоятельство не уменьшило моего аппетита. В продолжение дня я сделал несколько рисунков, смерил несколько голов и выучился нескольким словам здешнего диалекта. Перед заходом солнца пролежал с полчаса в море, наслаждаясь теплотою воды и воздуха. Никого из белых со шхуны целый день не видал и радуюсь, что устроился почти вне деревни.
21 октября. В одной из хижин, недалеко от моей, всю ночь плакали и выли две или три женщины, иногда слышен был голос и мужчины. Я думал, что кто-нибудь умер или умирает. Утром, однако, узнал, что причиной этого вытья была случайная смерть свиньи, принадлежавшей хозяевам. Здесь, как и в Новой Гвинее, женщины нередко вскармливают поросят собственным молоком. Это обстоятельство может служить поводом большой нежности женщин к свиньям, вскормленным таким образом.
Отправился рисовать фигуры у входа в каман деревни Совай. Одна изображала мужчину, другая — женщину; обе были почти что в рост человека и довольно примитивно вырезаны из дерева. Около мужской фигуры на небольшой подставке лежал череп с шапкою обстриженных волос. Обе фигуры, которые назывались: мужчина — Нянро, женщина — Нидитан, были изображениями двух неприятелей, убитых и съеденных при постройке этого камана. Череп и волосы принадлежали Нянро. На обеих фигурах была изображена татуировка, на женщине очень полная. Эти фигуры описаны профессором Музлеем. Что фигуры, описанные экспедицией Челленджера и виденные мною, несомненно, те же самые, доказывается описанием подробностей, из которых некоторые довольно характеристичны, например изображение рыбы между ногами женщины.
Другие два камана не имели фигур у входа, зато один из столбов внутри был покрыт обильною резьбою. Осмотрев основательно все хижины деревни, я пришел к заключению, что туземцы здесь проявляют значительную самостоятельность в постройке и внутреннем устройстве своих жилищ, они слепо следуют обычаю. Постройка семейных хижин (так называемых «ум») гораздо разнообразнее, чем устройство каманов.
Пребывание европейского судна и постоянные торговые сношения с ним значительно изменяют образ жизни туземцев, так что наблюдение обычаев и характера их делается весьма нелегким. Одну общую черту легко, однако, заметить: туземцы здесь очень склонны к торгу и проявляют при этом значительную ловкость и большое корыстолюбие.
Мне хотелось составить словарь диалекта Сорри, который немало отличается от диалекта островка Андра. Найдя подходящего человека, я стал записывать слова, но ему не сиделось, он, видимо, желал избавиться от меня. Подумав, что, может быть, работа ему более понравится, если она окажется не даровая, я начал отсыпать ему немного бисеру за каждый десяток слов. Он превратился в очень внимательного и терпеливого учителя.
Диалект островка Сорри оказался значительно схожим с диалектом архипелага Луб, и к последнему он подходит даже ближе, чем к диалекту островка Андра.
22 октября. При самом рассвете, лежа еще на моей постели, я заметил женщину, вышедшую из-за кустов с большой пачкой листьев. Оглядываясь кругом, она вырыла в песке небольшую ямку и, оставив себе только два или три листика этого перечного растения, положила остальные в ямку и сровняла песок. Оглянувшись еще, не видал ли ее кто-нибудь, она направилась в деревню.
Этот примитивный способ сохранения собственности встречается нередко (как я слышал потом) на островах Адмиралтейства. Между женщинами здесь встречаются некоторые, гораздо тщательнее татуированные, чем в других виденных мною местностях этой группы, хотя татуировка совершенно одинакова, как и там (те же небольшие надрезы осколком обсидиана), но расположение рисунка на теле гораздо симметричнее. Мне удалось нарисовать татуировку девушки лет двадцати.
Вечером пришла пирога с островка Понем и привезла известие, что неприятель напал на жителей островка Андра и убил из последних человек десять, которых увезли с собою и съели.
23 октября. Здешние жители в настоящее время не находятся в хороших отношениях с туземцами острова Пелланган (остров д’Антркасто на английской карте), почему мне невозможно было найти здесь пироги [для того, чтобы] отправиться на островок Пелланган, шкипер же не мог уделить несколько человек экипажа шхуны, так как все были заняты копчением трепанга. Пришлось отложить этот план.
Сегодня произошла ссора между туземцами и тредорами, которым первые просто предложили забрать весь трепанг из временной коптилки на берегу и отправить на шхуну.
Шкипер В. был настолько благоразумен, что не стал настаивать и решил собраться в путь. С четырех часов шел проливной дождь, так что все туземцы, как и я, сидели по хижинам.
24 октября. Мне удалось, наконец, заманить к себе туземца с громадными зубами. Я не только смерил и осмотрел их, но и нарисовал рот этого человека в en face и в профиль. Приложенные рисунки и размеры делают длинное описание лишним. Этот образчик окончательно убедил меня, что мы имеем дело здесь не с увеличением собственно зубов, а с чрезмерным отложением конкремента, особенного рода винного камня. Жевание бетеля находится в прямой связи с этою аномалией. Здесь жуют куски ореха арековой пальмы, как обыкновенно, с негашеной известью, но кроме листьев бетеля нередко жуют также обрезки корня Piper. О пропорции каждой составной части я, к сожалению, не могу дать точных сведений; она, мне кажется, главным образом зависит от вкуса потребителя. Некоторые из туземцев жуют бетель здесь не в меру; весь день они, кажется, заняты этим жеванием. Заслуживает интереса, что, когда европейцы в первый раз познакомились с жителями островов Адмиралтейства, жевание бетеля не было во всеобщем употреблении, только начальники предавались ему. Не будучи знакомыми с употреблением кавы, не познакомившись еще ни с табаком, ни со спиртными напитками, единственное наркотическое вещество, с которым туземцы знакомы, есть жевание бетеля.
4 ноября. Наш курс лежал очень близко от о. Андры, и на этот раз без моей просьбы шкиперу вздумалось заглянуть туда и захватить, если возможно, еще немного трепанга.
К 5 часам вечера мы бросили якорь на старом месте. Одним из первых явившихся был Кохем. Известие, слышанное нами в Сорри, подтвердилось: о. Андра выдержал набег Салаяу[245], причем из жителей Андры было убито семь человек, в том числе и Греги, отец Качу. Очень выразительной мимикой Кохем показал, что Греги вместе с другими убитыми был увезен неприятелями и съеден.
5 ноября. На берегу, в деревне, куда я отправился утром, я нашел значительную перемену. Вместо ум-камаль, который послужил шкиперу для устройства коптилки, стояли теперь целых три небольших камаля рядом. Двери их выходили на песчаный морской берег. Крайний из них, самый отдаленный от деревни, понравился мне по своей чистоте и уединению, почему я и занял переднюю часть его. Я подвесил койку таким образом, что мог видеть все, что происходило на берегу.
Несколько девочек, от трех до двенадцати лет, купались на берегу и, заметив, что я обратил на них внимание, они очень долго занимались этим делом: то выходили из воды и ложились на теплый песок, то с криком бегали в воду и барахтались на весьма мелком месте. Температура воды (30 °Ц) и воздуха (31.2 °Ц) делала, разумеется, это препровождение времени весьма приятным, и скоро примеру девочек последовало множество детей обоего пола. Я нарочно не показывался, чтобы не нарушать их забав.
В деревне я видел одного из пленников, забранных во время недавней схватки жителями Андры. Участь этих людей, как я узнал потом, не особенно завидная. Во всякое время они могут опасаться быть убитыми и съеденными. Им приходится много работать и быть в полной зависимости чуть ли не от каждого жителя деревни, где они находятся в плену. Мне было указано место, теперь расчищенное, где прежде стояли две хижины, и несколько пней кокосовых пальм, — все это, как мне объяснили, было делом Салаяу.
Я уговорился с Кохемом и другим туземцем отправиться завтра в деревню Суоу, где, как мне сказали, находится в настоящее время Ахмат, малаец, о котором я уже не раз упоминал. Мне было интересно поговорить с этим человеком, прожившим здесь между туземцами более трех лет, могущим поэтому разъяснить многое для меня загадочное, а также послужить переводчиком. Имея эту экскурсию в виду, я предпочел вернуться ночевать на шхуну.
Шкипер потирал себе руки. Результатом сегодняшнего дня была покупка за несколько десятков фунтов обручного железа и несколько фунтов стеклянного бисера не менее тонны трепанга, ценностью, при самом умеренном расчете, не менее 100 фунтов стерлингов.
6 ноября. Считая поездку в Суоу предприятием довольно рискованным и не желая подвергнуться расспросам и выслушивать советы, я предпочел не говорить никому из белых на шхуне о моем намерении. На всякий случай, однако, я оставил записку капитану Б., в которой сообщил, куда и зачем я отправлюсь, прося его, в случае моего невозвращения, поддержать шкипера В. в точном исполнении нашего уговора.
Часов в 9 я отправился на большой остров в пироге Кохема; с нами был также и мой старый знакомый (1876 г.) Подако, житель деревни Суоу. Без приключений пристали мы к пристани деревни Суоу. Я предпочел остаться в пироге, а Подако послать в деревню, находящуюся на холме, чтобы привести Ахмата сейчас же. Не прошло и пяти минут, как Ахмат, который, вероятно, ожидал меня, окруженный толпой жителей Суоу, подошел к пироге. Хотя на нем был костюм туземца, т. е. простой пояс, но сравнительно с туземцами светлый цвет кожи и отросшие прямые волосы резко отличали его от прочих — темнокожих и курчавоволосых. Ахмат робко подошел ко мне и сперва не смог ничего сказать (не знаю, от робости или от возбуждения). Несколько малайских слов, сказанных мною, ободрили его. Он мне ответил, что его содержат здесь вроде пленника и что он желает, если только возможно, отправиться со мною; что это будет, однако же, зависеть от меня, так как туземцы Суоу не отпустят его без выкупа, а у него ничего нет. Я утешил Ахмата, сказав, что выкуп я заплачу и намерен это сделать сегодня же, не зная наверное, когда шхуна снимется.
Я пошел затем, сопровождаемый всею толпой, в деревню и расположился в том же камале, где был три года тому назад. Мне несколько раз пришлось остановить Ахмата, который порывался рассказать мне свои приключения, сказав, что выслушаю его с интересом вечером на шхуне и чтобы он теперь переговорил обстоятельно с туземцами и узнал от них, какой выкуп они за него потребуют. Для нас, меня и моих спутников из Андры, жители Суоу приготовили завтрак. Я воспользовался этим временем, чтобы сделать несколько набросков, нарисовал между прочим портрет одной из девочек. Так как она никогда не видела белого, смущение и страх ее при виде меня сделали ее совершенно неподвижною. Она даже боялась моргнуть. Портрет, сделанный при помощи камеры-люциды, вышел поэтому очень удачный. От вернувшегося Ахмата я узнал, что за него требуют, и обещал ему и жителям Суоу вернуться с выкупом за Ахматом к 3 часам. Время дня легко объясняется туземцам указанием на приблизительное положение солнца. Я поспешил на шхуну. При прощании Ахмат был очень растроган, чуть не плакал, хотел целовать мне руки и т. п. Он просил меня привезти с собой со шхуны пару старых панталон и какую-нибудь рубашку, потому что, говорил он, ему было бы совестно явиться на шхуну в костюме дикаря.
Я сдержал слово и, несмотря на усталость, отправился за бывшим пленником, как обещал, к 3 часам. Выкуп за него состоял из следующих предметов: большой американский топор, 6 сажен красной бумажной материи, 3 больших (полметра длины) ножа, 12 больших кусков железа, половина кокосовой скорлупы бисеру, 2 ящика спичек. Все это я передал Ахмату, который в свою очередь отдал каждый предмет, один за другим, одному из людей Суоу. «Они поделятся в деревне», — пояснил мне Ахмат, поспешно переодеваясь в европейские штаны и рубашку. Некоторые из жителей Суоу подошли к нему проститься, потрепали по плечу, сказали несколько слов; Ахмат оказался очень равнодушен, оставляя местность, где провел более трех лет.
На шхуне я узнал от него несколько интересных подробностей из жизни туземцев (к сожалению, далеко не так много, как ожидал)[246] и несколько дополнений к истории жизни тредора О’Хара на о. Андра и кое-что об участи другого тредора, С. Пальди, убитого в деревне Пуби. Начинаю с первых.
Власть начальников в деревнях о-вов Адмиралтейства показалась Ахмату очень незначительною и зависела более от личности и характера начальника, чем от его положения. Хотя Ахмат порядочно знал диалект деревни Суоу, но за все время своего пребывания там он не узнал названия (титула) начальника на туземном языке. Часто некоторые туземцы пользуются между своими большим авторитетом, чем другие, он часто замечал, что это было более вследствие личных качеств этих некоторых.
Людоедство — явление здесь очень нередкое. Туземцы предпочитают мясо людей свинине. Едят его вареным в пресной воде; тело режется на небольшие куски так, чтобы можно было поместить их в горшки. Внутренности, за исключением мозга, сердца и печени, выбрасывают. Человеческое мясо разрешается есть женщинам и детям. После стычек привозят на пирогах или приносят убитых издалека с целью есть их. Ахмат уверял меня, что хотя и был очень много раз свидетелем людоедства, но никогда не принимал в нем участия. Туземцы обыкновенно предлагали ему порцию человеческого мяса, но не сердились на него, когда он отказывался. Черепа, которые нередко бывают выставлены в ум-камалях, в большинстве случаев принадлежат людям, съеденным в этих камалях. Пленников, забранных во время набегов, нередко убивают и съедают, иногда после того, как последние прожили несколько месяцев в деревнях. Исключение из этого правила составляют те из пленников, которые сумеют найти себе в деревнях победителей между молодыми девушками жену. Ахмат уверял меня, что туземцы здесь не очень разборчивы относительно того, каким образом добывать человеческое мясо. Он рассказал мне случай, свидетелем которого он сам был.
За несколько недель до первого прихода шхуны «Сади Ф. Кэллер» в порт Андра (т. е. в августе этого года), во время отлива, когда все рифы были оголены, из деревни Суоу, находящейся на высоком мысу, была замечена девушка, собиравшая там морских животных. Никто из жителей Суоу, обративших на нее внимание, не признал ее за живущую в соседних береговых деревнях, а некоторые подробности ее костюма и украшений свидетельствовали, что она принадлежит к одной из горных деревень. Все же горные деревни на большом острове находятся во враждебных отношениях к береговым. Это обстоятельство решило участь девочки. С общего согласия один из жителей Суоу отправился за легкой добычей; Ахмат, понимавший, в чем дело, остался смотреть, что будет. С выступа скалы, покрытого зеленью, можно было все видеть, что происходит на рифе, и не быть замеченным оттуда. Житель Суоу выехал в пироге один, как бы на рыбную ловлю. Девочка хотя и заметила его, но не испугалась и продолжала собирать раковины. Охотник, обогнув риф, чтобы сделать бегство его добычи невозможным, вышел на риф и стал мало-помалу приближаться к неосторожной, не подозревавшей ничего девочке. Подойдя к ней, он схватил ее поперек тела и скорыми шагами направился к своей пироге. Добравшись туда, он с силой бросил несчастную на острые кораллы спиной вниз. Пока она была еще ошеломлена от падения, ушибов и боли, людоед хладнокровно перерезал ей горло небольшим европейским ножом и здесь же на рифе принялся за распластание своей добычи. Ахмат видел затем, как ее принесли в деревню. Все внутренности были вынуты, но тело, помимо длинного разреза вдоль linea alba и нескольких ран на спине от ушибов, было цело. Оно принадлежало девочке лет четырнадцати или пятнадцати. «Я бы взял ее себе в жены, — добавил Ахмат, — а не съел бы ее». Не так думали люди Суоу — жена достанется одному, между том как все жители деревни получили, вероятно, по крайней мере по кусочку от сваренной девочки. Этот пример людоедства, по словам Ахмата, в Суоу не считается ничем особенным. Неосторожные женщины и неопытные дети горных деревень нередко становятся легкою добычей жителей береговых деревень или прибрежных островков.
Многоженство. По словам Ахмата, у весьма немногих туземцев более пяти жен, у большинства их две, нередко одна. Особенной покупки женщин в жены не существует, это — дело соглашения с родственниками. Все жены, хотя бы их было и пять, живут в одной хижине[247]. Когда мужчина берет себе новую жену, то он уводит ее на несколько дней с собою в лес, оставаясь иногда там недели две и более. Потом парочка возвращается домой, и новой жене приходится знакомиться со старыми. Без побоев и брани не обходится.
Сначала, когда Ахмат только что появился между туземцами, когда имел еще достаточно вещей разного рода, нравившихся туземцам, он был встречен по деревням с большим почетом: везде его кормили исключительным образом и, когда он отправлялся спать, клали около него по обе стороны молодых девушек, к которым он, однако же, не должен был прикасаться. При малейшей фамильярности с его стороны они с криком убегали. Я узнал также от Ахмата, что девушки при наступлении зрелости и женщины после родов носят здесь специальный костюм из кадьяна, вид которого меня так изумил при посещении деревни Пургасси[248].
«Р у e н — р и м а т» — кость, украшенная перьями крыльев орла (Pandion spec.?), замеченная мною уже в первое мое пребывание на о-вах Адмиралтейства в 1876 г., оставалась для меня проблематическим украшением[249]. Профессор Музлей, также описавший этот предмет, называет его просто общим названием «charm». Значение руен-римат было уяснено для меня Ахматом. Руен-римат не что иное, как кость (обыкновенно humеrus) отца или дяди, и носится только теми из туземцев, отец или дядя которых был начальником или известным почему-либо человеком. Иногда случается, что туземец носит два таких руен-римат, что значит, что не только отец, но и дед его был значительным человеком, всеми признанный за такого; одним словом, руен-римат — род вещественного знака хорошего происхождения, род патента на дворянство. Руен-римат носится только при особенных случаях, и Ахмату несколько раз cлyчалось видеть, как носителям этого знака предоставлялись особенные преимущества.
Раз, напр., Ахмат был свидетелем следующего случая. В Суоу пришло несколько гостей из соседней береговой деревни. Между ними находился один туземец, державший себя очень важно, на спине у которого болтались два руен-римат. После обычного угощения, когда гости собирались уходить, им были поднесены жителями деревни Суоу, сообразно общему папуасам обычаю, подарки. Эти подарки состояли, во-первых, из свертка недоеденного угощения[250], а затем из нескольких предметов, которые не составляют редкости в деревне Суоу, но не встречаются в таком изобилии[251] в деревне посетителей. Все гости молча приняли подарки, но важный человек с двумя руен-римат насупился и, положив подле себя подарки, начал речь, в которой высказал мнение, что подарки эти достаточны были бы для простого человека, но не для него. Перекинув оба руен-римат себе на грудь, он указал на один из них, требуя прибавки подарков. Их принесли. Он этим, однако же, не удовольствовался и, показывая на другой руен-римат, потребовал: «и для этого». И это было исполнено как что-то должное. Ахмат уверял меня, что туземцы, обладатели руен-римат, очень нередко прибегают к подобным вышеописанным указаниям на руен-римат.
В последние годы туземцы, заметив желание европейских тредоров, собирающих этнологические коллекции, приобретать экземпляры руен-римат, прибегли к подделке настоящих. В некоторых случаях они просто делают их из куска дерева, вырезывая его в виде кости или вставляя между перьями какую-нибудь человеческую кость (не humеrus), иногда даже птичью.
Правосудие. По словам Ахмата, если кто-нибудь убит или что-либо украдено, третье лицо не вмешивается. Обиженный или обиженные мстят, как могут. Если кто открыл что-нибудь у него украденное в хижине соседа, то он берет свое и отправляется в ум-камаль бить в мраль. Если вор молчит — делу конец; если произойдет драка и один убит — посторонние не вмешиваются.
О своей жизни между туземцами Ахмат сказал, что хотя ни разу туземцы не покушались его убить, но что он никогда не чувствовал себя в полной безопасности среди них. Одно казалось ему верным, что его не убьют из-за желания съесть его, так как он не раз слышал от туземцев выражение отвращения к мясу светлокожего человека. Ему много раз предлагали жен, обещая построить для него отдельную хижину, если он женится. Но все предлагаемые женщины были стары, и это обстоятельство заставляло Ахмата отказываться. Лишних молодых девушек в Суоу не было, или туземцы берегли их для себя. Он обыкновенно жил в одном из ум-камаль и не может вообще жаловаться, что с ним туземцы обращались нехорошо.
О тредоре О’Хара Ахмат рассказал мне многое, что объясняет плачевную участь этого человека. По уходе шхуны «Sea Bird» О’Хара, которому, как и другим тредорам, был оставлен небольшой запас красного вина и «бренди», находился почти ежедневно в полупьяном состоянии и нередко в положении полной невменяемости. Разумеется, такое состояние не могло поставить этого человека высоко в глазах туземцев. От полной фамильярности туземцы мало-помалу перешли к самым нахальным требованиям. Смотря по состоянию, в котором находился О’Хара, он то упрямо отказывался от исполнения желаний туземцев, то, смеясь, раздавал им больше, чем требовали. Хижина его была днем, а иногда и ночью полна народу. В одно прекрасное утро, наконец, полутрезвый О’Хара отправился купаться в море, оставив в хижине и около нее множество туземцев. Когда он вышел из воды, ему представилось зрелище общего разграбления его имущества: без всякой церемонии, как бы не видя его, туземцы вытаскивали ящики с товаром, и каждый брал, что хотел. Когда О’Хара вздумал что-то сказать, некоторые из туземцев, схватив копья, так серьезно пригрозили ему, что он не стал далее препятствовать. У него было взято положительно все, и, если бы не нашелся между туземцами действительно добрый человек, который сжалился над ограбленным, О’Хара остался бы без крова и пищи. Я поспешил узнать имя этого доброго туземца, приютившего О’Хара, намереваясь познакомиться с ним и дать ему несколько подарков. «Его имя Мана-Салаяу, — ответил Ахмат, — он совсем старый человек и живет один; жены его умерли, а дети уже все взрослые. Приютить, кормить и поить О’Хара старику не было никакой выгоды; напротив, над ним смеялись, иногда даже ругали за О’Хара», — прибавил Ахмат.
Так и между людоедами встречаются сострадательные люди.
Об участи Пальди от Ахмата узнал я следующее. Немного месяцев (три или четыре) по уходе шхуны «Sea Bird» до деревни Суоу дошла молва, что белый, оставленный судном в деревне Пуби на южном берегу большого острова, был убит и все вещи его забраны туземцами. Защищался ли Пальди перед смертью или был убит во сне, Ахмат не слыхал, знает только, что, когда труп его был раздет и хотели приступить к приготовлению из него разных кушаний, никто не захотел его есть. Тогда голова его была отрезана для сохранения как трофея в камале, а тело, изрезанное на куски, сложено в пирогу, отвезено и брошено в море на съедение рыбам. Эту историю Ахмат слыхал несколько раз и не сомневался в ее верности[252].
На мои вопросы, есть ли между южным и северным берегами большого острова постоянное прямое сообщение и есть ли внутри острова деревни, было отвечено Ахматом, что он слыхал положительно, что такого сообщения не существует; для того чтобы из Суоу прямо попасть на южный берег, приходится перебраться через значительное пространство соленой воды, род большого озера. Сообщение, однако же, существует вдоль берега или где-то через остров, но весьма непрямым путем.
7 ноября. Отправился с Ахматом на о. Андра, чтобы отыскать туземцев Пакау и Мана-Салаяу, которым О’Хара главным образом обязан своею жизнью и некоторым комфортом во время пребывания здесь. Обоим я дал по нескольку подарков и при помощи Ахмата, который служил переводчиком, объяснил, что даю эти вещи им как друзьям О’Хара. Старик Мана-Салаяу очень расчувствовался, даже заплакал.
Мне хотелось узнать, чем натирают корзины, здесь называемые «кур», чтобы обратить их в непромокаемые сосуды. При помощи Ахмата туземцы хорошо поняли, что я желаю знать, но заявили, что «апис» (растение какое-то) растет только на большом острове.
Проходя через деревню Андра, мимо новых хижин, и припоминая ночное приключение 27 августа (несостоявшееся нападение усия), мне вздумалось спросить Ахмата, знает ли он что-нибудь о нем. «Как же! Все деревни кругом много говорили о нападении на туан[253] Маклай и людей со шхуны, живущих на берегу. Некоторые хотели даже попытаться завладеть и шхуной; предлагали и мне присоединиться в этом случае к ним», — сказал Ахмат. — «Отчего же все это не состоялось?» — спросил я. — «Да оттого, — ответил Ахмат, — что все боялись европейских ружей, которых, говорят, на шхуне много; а жители Андры боялись, чтоб туан Маклай не сжег их деревни».
8 ноября. Шкипер В. послал шлюпку с тредором к деревне Суоу скупить там кокосовое масло. Я воспользовался этим случаем, чтобы снова побывать там, надеясь с Ахматом как переводчиком разузнать о многих меня интересующих вопросах по антропологии и этнологии. Ахмат между прочим сказал мне, что в ум-камале, где меня принимали, сохраняется 5 черепов жителей большого острова и что туземцы за несколько кусков железа отдадут их мне. Такую краниологическую добычу, несомненно, верного происхождения не следовало упускать.
Добравшись до деревни, я сейчас же захотел видеть эти черепа. Сперва туземцы немного церемонились, но показанные большие куски железа очень оживили их, и все 5 черепов были положены к моим ногам. Через Ахмата я спросил туземцев, указывая на первый попавшийся череп, кому принадлежал он. Взглянув на него внимательно, один из присутствующих ответил: «Камаль Ругуль» (человек из деревни Ругуль); другой был из Рембат, третий — из Терлоу, а четвертый и пятый — из Терлут (все эти деревни находятся на северо-восточном берегу большого острова). Каждый из черепов имел кое-какие особенности, так что туземцы, вероятно, не ошибались, обозначая их. Все черепа были совершенно черны от копоти. Ахмат дополнил историю происхождения их, сказав, что эти 5 человек уже мертвыми были привезены в Суоу и все съедены в этом же камале.
Я вспомнил о растении апис, употребляемом при выделке так называемых кур. Ахмат отрядил двух мальчиков принести мне из леса листья, цветы и плоды апис. Немного погодя я получил желаемое, за исключением цветов. Один из туземцев принес в камаль плотно сплетенную корзину — будущий кур. Взяв один из плодов апис и сдернув ногтями довольно плотную кожу с одной стороны, он принялся натирать корзину мякотью плода. Последняя очень волокниста, но довольно сочна. Сок этот, проникая в скважины плетения, быстро застывал, так что через некоторое время дно корзины, несколько раз смазанное соком апис, сделалось непромокаемым. На одну небольшую корзину требуется несколько плодов апис, потому что внутри плода находится большое зерно. Апис формой и величиной напоминал манго (Mangifera indica)[254], почему я захотел узнать, едят ли апис, на что туземцы, делая разные гримасы, как бы съев что-то очень кислое и невкусное, отвечали: «пый» (нет). Мне были показаны кур разной величины и формы, и Ахмат уверял меня, что для холодной воды эти сосуды могут быть употребляемы долго, даже несколько лет, если покрывать их новыми слоями сока апис.
Выйдя на площадку, я заметил некоторое оживление у входа в одну из хижин. В ней я увидел лежащую на циновке мертвую женщину, около которой голосило несколько баб. Никаких плясок не было. Ахмат сказал мне, что пляшут только вокруг покойников-мужчин; при смерти женщин ближайшие родственники, вымазавшись черным, а иногда и белым красильным веществом[255], только причитают и воют, сидя вокруг покойницы, которую затем зарывают близ хижины. От трупа сильно пахло, почему я не остался долго в хижине. Не дошел я еще до камаля, как меня и моих провожатых обогнало несколько мужчин странного вида. Все тело их было вымазано белою глиной, даже головы были вымазаны ею. На них не было никаких украшений, и костюм их состоял единственно из раковины Ovula ovum. Быстро пройдя мимо нас, они вошли в камаль, где стали бить в мраль. Они то же повторили и в другом камале и, наконец, направились в хижину покойницы, которая приходилась им родственницей. Эти вымазанные белым люди были жители другой деревни и пришли, чтобы присутствовать при похоронах умершей.
Проходя мимо хижины моего старого приятеля (1876 г.) Подако, я не узнал его, потому что ему явилась фантазия выбрить себе голову, за исключением узкой полоски волос на затылке. Мне пришли сказать, что шлюпка, на которой я приехал, скоро отвалит, так как все кокосовое масло в деревне скуплено тредором. Собрав свои покупки, которыми нагрузил Ахмата, я спустился к пристани и нашел в шлюпке, кроме полного бочонка кокосового масла, несколько бамбуков, наполненных им. По отзывам Ахмата, туземцы здесь не умеют приготовлять его, однако это делается ими, но не с помощью гниения, а кипячения.
9 ноября. Ночью и утром шел сильнейший дождь, почему я остался на шхуне. Торг трепангом продолжался, но последний оказался уже мелким; шкипер неохотно его брал, уговаривая туземцев привозить ему крупный.
У одного из жителей Андры, приехавшего на шхуну, я заметил привешенные к его ожерелью из собачьих зубов несколько характерных бус, употребляемых на о-вах Пелау как деньги[256]. Каким образом они попали сюда, был бы хитрый вопрос для этнолога, мало знакомого с новейшей историей о-вов Адмиралтейства. Эти бусы довольно редки и на о-вах Пелау, и туземцы там только при крайней нужде расстаются с ними. Здесь же человек, украсившийся ими, не придавал им особенного значения. Загадка уяснилась для меня простым образом. Ахмат сказал мне, что эти бусы были найдены между вещами О’Хара.
Это наглядный пример, указывающий, как следует быть осторожным при рассмотрении этнологических коллекций островов Тихого океана[257]. Вкус туземцев, на одной ступени развития относительно украшений будучи довольно сходным, имеет следствием, что туземцам одних островов нравятся туземные украшения жителей других гораздо более, чем европейские произведения[258]. Этим обстоятельством шкиперы торговых шхун и тредоры давно уже воспользовались, скупая на одних группах разные туземные украшения для меновой торговли на других островах.
Не подумав о возможности такого обстоятельства, член какой-нибудь ученой экспедиции, заходящей на военном судне на несколько дней на какую-нибудь группу, мимолетный путешественник, попадающий на несколько часов на какой-нибудь остров, видя одинаковые украшения, может быть очень характерные в обеих местностях, иногда очень отдаленных, невольно приходит к разным гипотезам о тождестве рас, о сношениях между островами и т. д. Только продолжительное пребывание в одной местности, знакомство с языком, а иногда просто случай могут оградить путешественника-этнолога от подобных «невольных» ошибок.
Первое посещение южного берега Новой Гвинеи
(20/I—6/III 1880 г.)
Целью моего посещения южного берега Новой Гвинеи было желание ознакомиться с туземцами этого берега для сравнения их с теми, которых я уже знал и имел возможность наблюдать на берегу Маклая и на берегу Папуа-Ковиай, а также с прочими курчавоволосыми и темнокожими жителями разных групп и архипелагов Меланезии. Мне хотелось лично убедиться в верности разных сообщений о какой-то особенной «желтой малайской» расе, которая обитает на юго-восточной оконечности Новой Гвинеи, — название, вошедшее в употребление в последние годы. Прийти к окончательному решению этого вопроса мне казалось стоящим нескольких месяцев путешествия.
Имея в виду более продолжительное пребывание на этом берегу, я должен был оставить шхуну «Sadie F. Caller» на о. Базилаки (или о. Моресби), но, зная, что там мне навряд ли можно будет дождаться судна, я решил перебраться на о. Варе (о. Тесте (Teste) — на картах), чтобы выждать там небольшой пароход «Элленгован», принадлежащий London Missionary Society (Лондонскому миссионерскому обществу). Оставив почти все свои вещи на шхуне для доставления в Сидней, забрав только несколько необходимых вещей, я отправился на о. Варе, где в ожидании оказии поселился в доме миссионеров или «тичеров» (teachers)[259], туземцев о-вов Лойэлти, у которых я нашел два письма на свое имя и известие, что военная шхуна «Бигль», заходившая сюда недель шесть тому назад, старалась разузнать место моего пребывания, так как имела несколько писем на мое имя, которые командир не захотел оставить здесь. Я устроился довольно удобно в небольшой хижине, принадлежащей миссионеру. Как только устроился, я отослал шлюпку и людей обратно на шхуну.
20 января. Узнал от миссионера, которого зовут Вауная, туземца о. Лифу, что здесь, на о. Варе, нет начальников в настоящем смысле этого слова, что покойников зарывают, и на могиле ближайший родственник спит ночей десять. Наш разговор был прерван множеством голосов. Мы вышли и направились к группе туземцев, собравшихся под одной из хижин[260]. При этом я убедился в верности того, что уже предполагал, а именно, что большие топоры, называемые туземцами «куне», собственно не употребляются как орудие или оружие, а главным образом служат средством обмена, родом денег, как, напр., на о-вах Микронезии сверток циновок, на котором никто никогда не будет спать, служит денежной единицей. Под хижиной, на циновке, вокруг которой собрались туземцы, были положены 12 новых, или кажущихся новыми, куне. Это была уплата за пирогу умершего туземца, хозяина той хижины, под которой мы стояли. Вдова его, находившаяся в самой хижине, должна была ex officio выть в память покойника, пирогу которого она продавала. Мне сказали, что 12 куне не составляют всей платы за пирогу, так как вдове был уже дан прежде значительный задаток.
Я пошел осматривать деревню.
Видел замечательную ловушку для рыб. Внутренность хижин оказалась сходной с рисунком в книге Мак-Гилливрея[261]; в ней помещались три пары, т. е. трое мужчин, трое женщин и двое детей. В деревне я насчитал более ста хижин.
21 января. Около полудня показались два судна: одно из них был небольшой пароход, оказавшийся «Элленгован», другое — шхуна «Анни». Оба отправлялись на другое утро: шхуна — прямо в Куктаун, «Элленгован», заходя в разные местности вдоль южного берега Новой Гвинеи, возвращался обратно в деревню Ануапата. Мне предстоял выбор, но желание видеть туземцев южного берега, о которых я уже читал не раз, что они принадлежат к «малайской расе», превозмогло неудобство продлить еще на несколько месяцев уже и без того затянувшееся путешествие. Я решил, недолго думая, отправиться с «Элленгован» и посетить Новую Гвинею в четвертый раз.
На пароходе я познакомился с г. Чальмерсом, известным миссионером, прожившим много лет на о-вах Тихого океана и прибывшим на южный берег Новой Гвинеи, где он неутомимо продолжал свою деятельность миссионера. Чальмерс любезно согласился взять меня до Ануапаты (порт Моресби), и я с удовольствием узнал, что он имеет намерение посетить многие деревни по берегу, чтобы навестить живущих в них миссионеров (тичеров), по большей части туземцев о-вов Тихого океана.
Пришлось вернуться в хижину и снова уложить вещи, которые разложил, полагая, что придется прожить несколько недель на этом острове. Собрал все и был к 7 часам вечера на пароходе. Спал на палубе. Общество миссионеров (Чальмерса и Безвика) представляло большой контраст с тем обществом, с которым мне приходилось мириться на шхуне.
22 января. Снявшись с якоря в 6 часов, пришли в третьем к островку Самарай. Познакомился здесь с капитаном Редлихом, который, потеряв свое судно, занимается собиранием коллекций птиц. С ним был другой коллектор, также немец, Хундштейн. Они оба попросили Чальмерса взять их с собою, на что и получили согласие. Между вещами, принадлежащими Хундштейну, находился небольшой темнокоричневый кенгуру, который был пойман туземцами на материке Новой Гвинеи против островка Самарай.
Встретился здесь с замечательным туземцем Джимми с Новой Каледонии, который был некогда в Австралии счастливым золотоискателем. Спустив все, он прибыл вместе с другими на Новую Гвинею искать золото, но, как и другие, ничего не нашел. Он между прочим сказал мне, что при промывке большой тарелки песку обыкновенно находилось несколько блесток так называемых «следов золота» (color оf gold).
23 января. На якоре у деревни Бара-Бара. Измерял головы. Бритые головы женщин и детей представляют особенно подходящий материал для этих измерений. У некоторых женщин я нашел интересную деформацию головы вследствие ношения больших тяжестей в мешках на спине таким образом, что веревка мешка покоится на средней части головы. Так как женщины уже маленькими девочками начинают помогать матерям по хозяйству и очень рано подражают взрослым во всем, так же и в ношении мешков, то от этого у них образуется поперек головы поперечное вдавление, которое легко нащупать у взрослых женщин; оно заметно на многих женских черепах этой местности[262].
На многих деревьях я заметил фигуры. Хижины были похожи на виденные на о. Базилаки, с такими же вогнутыми крышами. Проходя мимо группы туземцев, занятых приготовлением обеда, я увидел, как они резали на куски змею значительной длины. Я попробовал эту змею, когда она сварилась: мясо было очень бело, но жестковато.
У туземцев здесь нет барумов. Женщины не татуированы, но разрисовывают себя разными фигурами[263], употребляя для этого черную смолу «думу». Этой же смолой туземцы смазывают некоторые части своих пирог, полагая, что это будет иметь благоприятное действие при ловле черепах.
24, 25, 26 января. На якоре у островка Самарай. Лихорадка. Чувствовал себя очень неладно. Ничего не делал.
27 января. Снявшись рано утром, бросили якорь к 11 часам в проливе между материком Новой Гвинеи и о. Суоу, недалеко от дома миссионера. Съехав на берег, я получил здесь три письма, оставленные командиром канонерской лодки «Бигль». Все три были из Европы; одно из них было от сестры из Петербурга. Это было последнее, которое я получил от нее. (Вернувшись в Европу, я не застал ее в живых.)
28 января. Снял несколько фотографий. Татуировка женщин здесь отлична от виденных мною на о-вах Луизиады. Между туземцами видел женщину с прямыми волосами.
У одной из хижин увидел ловушку для рыб, называемую «мотабо», ту самую, которая заинтересовала меня на о. Варе. Имея время, я нарисовал ее, а затем, взяв ее с собою на пароход, убедился, что она действует хорошо.
Был с Чальмерсом в школе. Мальчики хорошо знали азбуку, и некоторые порядочно писали.
30 января. Пройдя под парами миль 25, зашли в совершенно замкнутый между холмами порт, названный Дудфильд, по имени бывшего капитана парохода «Элленгован». В этом месте туземцы напали несколько месяцев тому назад на шлюпку капитана, причем один человек был убит и несколько, вероятно, ранены. Миссионерам, однако же, удалось восстановить мир, и сегодня много мужчин и женщин съехались вокруг парохода и толпились на палубе.
31 января. На якоре. После ночи и утра под парами пришли в эту большую удобную гавань. Матросы отправились рубить дрова. Несколько туземцев выехало к пароходу; ни на них, ни на их пирогах, ни на веслах я не заметил никаких украшений. Деревни расположены по холмам довольно высоко; они не видны с парохода, а на посещение их не было времени.
1 февраля. На якоре. Пришлось остановиться, чтобы нарубить дров. Якорная стоянка была совершенно открытой, так что сильно качало. Вдали виднелись невысокие горы. Жителей здесь нет.
2 февраля. Там же. Продолжали рубить дрова, которые привезли сегодня 8 шлюпок на пароход. Выгружать длинные тяжелые поленья при сильной качке — была тяжелая работа, но матросы, преимущественно туземцы с о. Лифу, работали хорошо.
4 февраля. На якоре у деревни Маупа. Бросили якорь у деревни Парамата около полудня. К нам выехал миссионер с рослым широкоплечим туземцем, который мне был представлен как начальник, по имени Квапена, или Куапена.
Съехав на берег, я направился в деревню Маупа, но предпочел идти по лесной тропинке, а не более прямым путем, вдоль песчаного берега. Лес состоял почти весь из кокосовых пальм; множество спелых орехов, из которых уже большинство пустило ростки, было собрано и положено по обеим сторонам тропинки. После почти часовой ходьбы я пришел, наконец, к дому миссионера, стоящему у края большой деревни. Не только площадка около дома, но и самый дом, состоящий из двух больших комнат, был переполнен туземцами. Около почетного места — стола и единственного стула — на чистых циновках на полу сидели разные члены семьи Квапена. Так как Чальмерс думает идти далее завтра, то я воспользовался безотлагательно случаем и принялся мерить головы, рисовать портреты и татуировку. Мужчины мало татуированы, так как у них татуировка связана с убийством врага; женщины же все покрыты разнообразными и оригинальными фигурами, которые вытатуировываются на разных частях тела, сообразно их летам Фигуры или орнаменты татуировки здесь опять отличны oт виденных мною на о-вах Луизиады и в деревне Суоу.
Татуировка представляет значительный интерес для этнолога: во-первых, потому, что известные орнаменты переходят как бы по наследству, от одного поколения к другому, и характеристичны для известной местности; при переселении туземцы вместе с языком и физическими особенностями переносят также и татуировку в место своего нового жительства, почему на орнаменты татуировки и всю операцию, сопряженную с нею, путешественник должен обращать полное свое внимание; во-вторых, именно против татуировки миссионеры ведут ожесточенную войну, и, по мере распространения христианства, обычай этот постепенно исчезает, а с ним вместе и важный этнологический материал. Я счел поэтому положительно своей обязанностью делать точные замечания о ней, причем, разумеется, рисование орнаментов было необходимо. К величайшему моему неудовольствию, я еще ранее убедился, что татуировка, произведенная способом накалывания (причем узоры выходят синевато-серого цвета, как на о-вах Полинезии, и здесь, на южном берегу Новой Гвинеи), положительно не выходит на фотографии, так что для передачи ее остается утомительный и менее точный, но единственный способ — рисование. Поэтому я уже в марте принялся за рисование татуировки и очень аккуратно продолжал это делать при каждом удобном случае.
Я отправился в деревню с тичером. Она состояла, по словам последнего, из более чем трехсот хижин, расположенных по сторонам улиц, перекрещивающихся под прямыми углами; все хижины были на сваях, довольно похожи на те, которые строятся туземцами на южном берегу о. Адмиралтейства. Деревьев между хижинами не было; хижины стояли близко друг от друга; везде — на улицах и под хижинами — виднелся один песок. Нас сопровождала целая толпа девушек, от которых мы не могли иначе отделаться, как зайдя в хижину Квапена, начальника, к которому они не осмеливались войти за нами. Я вернулся в дом миссионера, где переночевал.
5 февраля. Деревня Маупа. Всю ночь дул сильный ветер; один шквал сменялся другим, более сильным. В 4 часа Чальмерс, который спал в том же доме, сказал мне, что по случаю ветра нам, вероятно, нельзя будет отправиться сегодня далее, чему я был рад, желая докончить несколько начатых рисунков. Когда рассвело, «Элленгован» оказался не на том месте, где был вчера, и неподвижен: его, вероятно, ночью подрейфовало, и пароход очутился на рифе. Чальмерс поспешил на пароход, и я отправился с ним. Необходимо было выждать высокую воду, чтобы сойти с рифа; это значило, что мы не снимемся ранее завтрашнего дня. Я вернулся на берег с Безвиком и Редлихом, и мы отправились назад в деревню и только благодаря Безвику мне удалось нарисовать татуировку одной из молодых девушек, что оказалось не особенно легким предприятием. Присутствие миссионера помешало ей снять свой… [пропуск], и таким образом мой рисунок остался недоконченным до следующего посещения этой деревни. При посредстве Безвика и тичера мне удалось узнать несколько подробностей о жизни туземцев.
6 февраля. Смерил, по возможности аккуратно, около двадцати голов женщин, что, разумеется, не обошлось без крика, давки и суматохи. Я избрал женщин, а не мужчин, так как головы замужних женщин тщательно выбриты и, таким образом, для антропологических измерений более подходят, чем головы мужчин и девушек с их громадной шапкой волос, при которой трудно избежать погрешностей при измерении. Собрание состояло приблизительно из 300 или 350 женщин; все лезли, все хотели быть измерены или, вернее, хотели получить кусок табаку. Здесь я видел несколько положительно прямоволосых (которых, я предполагаю, не наберется более 2 %); у большинства волосы вьющиеся, но курчавых, настоящих папуасских, будет не менее 25 %. Таким образом, о так называемой «малайской расе» не может быть и речи. Можно говорить только о «полинезийской примеси». Некоторые субъекты были очень светлы; у девушек, только что достигших половой зрелости, я заметил замечательную форму груди: вся часть, ограниченная ареолой, представляла одну полукруглую выпуклость, причем papilla mammae не была заметна; эту форму груди я много раз уже видел на о-вах Полинезии и на Новой Гвинее.
7 февраля. Деревня Карепуна, в доме миссионера. В 3 часа утра пришла с берега шлюпка. Чальмерс, тичер и я отправились в шлюпке под парусами в Карепуну, куда «Элленгован» должен был последовать после восхода солнца. Вначале ветер был ровный и благоприятный, но к рассвету он засвежел, а нам оставалось пересечь еще значительную бухту. Пришлось лавировать, и мы лавировали до 9 часов утра. Видя, что подвигаемся медленно и ветер сделался совсем противным, мы подошли близко к берегу, убрали паруса и, взяв весла наукол, стали толкаться вдоль мелкого берега и к 11 часам, гораздо позже, чем предполагали, прибыли к дому тичера в деревне Карепуна. Деревня эта оказалась большой и интересной, со многими хижинами замечательной постройки, а также с очень оригинальными высокими заборами, называемыми «пири», построенными, чтобы заградить хижину и улицу вдоль берега от норд-веста, который дует у этого берега весьма сильно в продолжение нескольких месяцев. Заборы состоят из крепких свай, футов в 15 вышины; между ними укреплены перекладины, поддерживающие двойной или тройной слой «атапов» — особенным образом сплетенных циновок из листьев разных видов пальм.
Туземцы здесь видели уже не раз европейцев, почему они менее застенчивы, и все женщины и мужчины, от мала до велика, при встрече с нами с разными интонациями голоса просили у нас «куку», т. е. табаку.
Одежда мужчин состоит здесь положительно из «одной веревочки», которой они придумали придавать себе такой вид, что при первом взгляде не знаешь, к какому полу принадлежит встреченный, или является мысль, что над ним была произведена какая-то операция. Женщины покрыты богатой татуировкой, которая здесь отлична от виденной мною в деревне Mayпа.
8 февраля. Ночью был сильный ветер, так что «Элленгован» не пришел. После завтрака я отправился к обедне, которая, так как церковь еще не построена, должна была происходить на веранде одной из больших хижин. Присутствовали большей частью дети, несколько женщин и весьма немного мужчин. Многие собрались посмотреть на белых и послушать пение тичера, который сказал длинную проповедь, видимо, надоевшую туземцам: они стали зевать, перемигиваться, хихикать; многие принялись за работу, но вообще не шумели. По окончании службы я зашел в несколько больших хижин. Помещения просторные, но темные; постройки вообще солидные, на толстых сваях. Я нарисовал одну из больших хижин, которые называются «oгe», между тем как обыкновенные — «нума». Я также принялся рисовать татуировку женщин, но было заметно, что присутствие миссионеров, которые были со мною, стесняло девушек, почему я и отложил рисование до другого дня.
Имел довольно длинный разговор с г. Чальмерсом, который полагал, что туземцы здесь не папуасы, а принадлежат к какой-то особенной расе.
— Вопрос, к какой именно, решится, когда язык и мифология туземцев будут известны, — прибавил г. Чальмерс.
— Я допускаю, — отвечал я, — что полинезийская примесь здесь несомненна; почти что прямые волосы некоторых туземцев, более светлый цвет кожи, обычай татуировки и грамматические формы языка свидетельствуют несомненно, что сюда забралось каким-то образом несколько полинезийцев. Но я не допускаю, чтобы мифология могла считаться имеющей такой же вес, как наблюдения анатомического типа какой-нибудь расы. Предположите, что спустя несколько сот лет после вашей деятельности здесь какой-нибудь миссионер какого-либо другого вероисповедания, буддист, напр., прибыв в Карепуну, найдет следы христианской мифологии. Насколько будет справедливо его предположение, что туземцы здесь принадлежат к кавказской или семитической расе… Туземцы любят сказки, скоро их усваивают и хорошо помнят, хотя и примешивают много своего. Мифология поэтому никогда не может иметь одинакового значения с антропологическими наблюдениями, почему я повторяю, что основная раса здесь чисто папуасская с весьма небольшой примесью полинезийской крови.
Не знаю, насколько я убедил г. Чальмерса.
9 февраля. Продолжал осматривать деревню и рисовать то, что находил более интересным. Женщины, которым г. Чальмерс или, вероятнее, тичер делал какие-нибудь замечания относительно безнравственности татуировки и неприличия гордиться ею и выставлять ее напоказ, гораздо более церемонятся, когда я начинаю рисовать татуировку их тела, боясь появления миссионеров, почему я решил оставить их в покое до отъезда белых миссионеров, который состоится завтра. Результаты измерения голов показали, что у многих проявляется наклонность к брахикефальной форме головы. Заметил между прочим двух альбиносов, но видел их только мельком. Узнал, что отец и мать их были не светлее большинства.
10 февраля. Гг. Чальмерс и Безвик отправились в шлюпке в деревню Хура, или Хула; я же остался обождать прихода «Элленгована», но более для того, чтобы сделать несколько рисунков татуировки женщин. Я не ошибся. Как только отъезд миссионеров стал известен в деревне, около дома, в котором я помещался, стали бродить девушки и женщины, прося куку. Впуская их по две, я мог без затруднения рисовать их татуировку, причем, если двери были закрыты, они нисколько не жеманились и даже без моего приказания развязывали свои юбки, чтобы показать мне татуировку на всех частях тела. Я отпустил первую с порядочным количеством куку за ее терпение, а затем без моего приглашения ко мне в течение всего утра являлись девушки разного возраста, готовые стоять натурщицами. При этом я заметил, что татуировка известных частей тела совпадает с известным возрастом. Так, напр., у девочек около десяти лет татуировка встречалась на лице, на руках, иногда на предплечье; на нижней части живота, иногда и под мышками, где волосы, как и на mons Veneris, были выщипаны, находились вытатуированные фигуры. У девочек между десятью и пятнадцатью годами были татуированы нижняя часть спины, ягодицы и ноги спереди и сзади до колен. У девушек от пятнадцати до двадцати лет и у замужних женщин татуировка распространялась на груди, спину и ноги ниже колен. Фигуры татуировки повторялись на разных частях тела и имели особые названия. Я мог заметить, что девушки немало гордились своей татуировкой, и многие, татуированные более других, приходили не только для того, чтобы получить табаку, но и для того, чтобы показать красивую татуировку. Видя, что я рисую их терпеливо, натурщицы стояли, пока я не кончал, и непременно желали посмотреть мой рисунок и, не находя какой-нибудь характерной фигуры, они указывали на нее и готовы были стоять даже в неудобных положениях, чтобы дать мне возможность нарисовать ее. Одним словом, я мог видеть, что татуировка здесь имеет большое значение и что миссионерам не слишком легко будет вывести этот обычай.
Могу еще прибавить, что девушки, предоставляя даже с удовольствием рисовать татуировку, делали это без малейшего намека на стыдливость со своей стороны; они положительно не видели в этом ничего худого и, я думаю, не могли понять убеждения миссионеров, что не следует выставлять на вид татуировку. Так как некоторые женщины, лет около двадцати пяти, были татуированы с головы до колен, я стал сомневаться, чтобы операция эта могла быть сопряжена со значительной болью. Не умея спросить у них об этом, решил сам испытать эту операцию.
11 февраля. Я не только интересовался знать, сопряжен ли процесс татуировки с болью, но хотел видеть и инструменты, употребляемые при операции, а также и все церемонии, которые ее сопровождают. Я отправился в хижину, куда я обещал обратиться по этому делу. Хижина оказалась просторной, с большой верандой, куда я взобрался. Хозяйка позвала двух помощниц; кроме них, несколько других любопытных женщин собралось вокруг нас. Все были очень довольны, что белый захотел подвергнуться операции «ало-ало» (так здесь называют татуировку), несмотря на то, что миссионеры так восстают против этой процедуры. Они немного разочаровались, когда я им предоставил левое плечо, а не грудь, для татуировки и выбрал небольшой рисунок для этой цели, так как я не хотел провозиться слишком долго с этой операцией. Надо было высвободить руку из рукава рубашки, показать место, а затем предоставить себя в полное распоряжение операторов, которые все были женщины. Принесли циновку и предложили мне лечь, причем одна из девушек показала на свои колени, чтобы я положил на них голову, на что я, однако, только тогда согласился, когда было постлано несколько свежих листьев хлебного дерева, на которые я мог положить голову; другие две схватили мою руку, а третья, сидя на противоположной стороне, т. е. за моей спиной (я лежал на правом боку, предоставляя левое плечо и левую руку для операции), обмакнув небольшую палочку в род чернил[264], принялась выводить на руке указанный мною узор. Линии были в 2 мм толщиной. Пока операторша делала это, две или три женщины давали ей разные советы относительно рисунка, причем одна из них мягким листом стирала те линии, которые казались неподходящими. После нескольких исправлений рисунок был окончен, и когда все женщины, осмотрев его, выразили свое одобрение, операторша принялась за второй акт операции. Вооружившись так называемой «кини» — небольшой палочкой (собственно, отрезок стебля одного вида Dioscorea, на конце которого был оставлен острый шип) и взяв «беу» — небольшой молоток — в правую руку, она приложила «кини» к черным линиям рисунка. После этого она обратилась к своим помощницам с несколькими словами; та из них, на коленях которой лежала моя голова, стала гладить мои волосы, напевая что-то, а две другие, державшие мою руку и плечо, стали сдавливать их, насколько могли. Быстро ударяя беу по кини, операторша стала вонзать острый шип в кожу, передвигая кини по линиям рисунка; боль при этом была далеко не так значительна, как можно было предполагать, хотя кончик шипа углублялся миллиметра на 2 и даже на 3 в кожу. Скоро весь черный рисунок сделался красноватым от выступившей при каждом уколе крови. Одна из помощниц острым ребром расколотого бамбука провела по рисунку, чтобы снять кровь и убедиться, действительно ли рисунок достаточно ясен. В некоторых местах линии не были достаточно видны, почему были снова выведены черной краской точкообразными наколами на коже. Моим операторшам один рисунок показался недостаточным; после первой и другая захотела показать свое искусство; еще один рисунок был нарисован, а затем нататуирован на другом месте руки. Этот раз татуировка вышла темнее, вероятно, потому, что вторая ударяла сильнее молотком по кини, и наколы были более часты, чем в первом случае. Заплатив операторшам, их помощницам, а также купив инструменты, употребляемые при татуировке, я вернулся домой, убедившись, что операция была сопряжена с сравнительно незначительной болью. Я понял, почему женщины стараются быть как можно более татуированы, считая татуировку действительным украшением. Я полагаю, что выщипывание волос под мышками и на mons Veneris, а не самая татуировка этих частей главным образом сопряжены с болью.
В продолжение дня множество туземцев, мужчин и женщин, приходили просить меня показать им татуировку.
12 февраля. К 5 часам был уже на пароходе. Снявшись в 6, часа через два «Элленгован» бросил якорь в трех милях от дома миссионера. Деревня Хура, или Хула, была расположена не на материке, а состояла из длинного ряда хижин, построенных на сваях в воде, в расстоянии от четверти до полумили от берега; длинный ряд их был разделен на несколько групп. Когда мы проезжали мимо, большое число свай, на которых стояли хижины, а также кривизна и сучковатость их бросились мне в глаза. Перед каждой хижиной был род веранды или платформы, обращенной, как и двери всех хижин, к берегу, с весьма примитивной лестницей, спускавшейся в воду. Все эти хижины казались наскоро построенными, причем главное внимание было обращено более на солидность, чем на красоту. Отправляясь в шлюпке на берег, мы встретили несколько туземцев, которые плыли от хижин к берегу, держа разные предметы в одной руке над головой, чтобы не замочить их. Между туземцами находилось несколько женщин с грудными детьми за спиной. На берегу стояли только две или три хижины и довольно большой дом миссионера, также построенный на сваях. Здесь жил г. Безвик. К дому примыкали довольно значительный сад и огород, так что вся усадьба миссионера занимала мысок бухты Кало, противоположный мыс которого был занят деревней Карепуна. По прямой линии расстояние между обоими мысами небольшое, но судам, даже таким маленьким, как «Элленгован», приходится выходить далеко в море, чтобы обогнуть рифы около деревни Хура.
У дома миссионера собралась толпа туземцев, и, осматривая их, я заметил, что внешностью и татуировкой они не отличались от жителей Карепуны. Безвик представил мне одну из женщин как образец татуировки. У этой женщины, лет двадцати или двадцати двух, положительно вся поверхность тела, ото лба до ногтей ног, была покрыта разными фигурами татуировки; из частей тела, покрытых у взрослых волосами, единственно кожа головы была не татуирована. В этом отношении ее перещеголяла только одна женщина из той же деревни, которая сбрила себе волосы на голове, чтобы нататуировать и на ней несколько орнаментов. Так как волосы на голове не были выщипаны как на других частях тела, то ей приходилось выбривать себе волосы, когда они вырастают.
Безвик показал мне также очень курьезный инструмент, род орудия, который туземцы употребляют во время войны, когда преследуют неприятелей. Туземное название этого инструмента «коро»; он состоит из небольшого копья, к которому прикреплена петля из ротанга; оба конца петли, связанные с копьем, образуют ручку. Преследующий старается накинуть на голову преследуемого коро и вонзить ему копье в затылок или шею неожиданным толчком, а затем, притягивая к себе назад противника, он валит его, приканчивает и отрезает голову с помощью бамбукового ножа, который для этой цели туземцы носят за браслетом на руке. Мне захотелось посмотреть если не убийство, то по крайней мере употребление коро при преследовании, и за небольшое количество табаку я доставил себе эту забаву. Я отправился затем в одну из хижин и нашел ее почти пустой. Кроме очага, состоящего из плоского ящика с землей, и нескольких сетей и оружия, ничего не было; пол из кривых палок разной толщины с множеством щелей был очень неудобен; по крайней мере в башмаках ходить по нему было небезопасно — того и гляди, провалишься; туземцы же ходят босыми ногами по этим жердям с большим проворством. На веранде я примостился и нарисовал соседнюю хижину, которая может служить здесь образчиком этих построек. Длинный конек хижины выдвигается метра на полтора над верандой; к нему были прикреплены на длинной веревке разные предметы: листья, скорлупы сухих кокосовых орехов, перья и т. п. Движимые ветром, они производят разнообразный шум, сообразно силе ветра. Смотря на детей, не умеющих еще ходить, а ползающих по дырявой веранде без перил, я удивился, что несчастных случаев встречается, как говорят, очень мало.
Пока я рисовал, постоянное сообщение вплавь от хижин к берегу и обратно не прерывалось.
13 февраля. В 5 часов утра отправились далее. Часа через два подошли к деревне, также построенной на сваях, называющейся Тупузелей. Туземный миссионер выехал к нам навстречу. Много пирог окружило пароход, и туземцы усердно продавали перья райских птиц, черепаховую скорлупу и каменные топоры, которые быстро выводятся здесь из употребления и заменяются железными; туземцы охотно отдавали топоры без ручки за кусок табаку.
Рисунки татуировки женщин здесь те же, как и в Карепуне.
Съезжая на берег, я насчитал 83 хижины. Чальмерс предложил мне посмотреть на площадку, где туземцы в известное время года и при каких-нибудь чрезвычайных событиях устраивают свои пиршества и пляшут. По одну сторону площадки воздвигнуты 4 «попокатубу», или платформы, где во время пиршества туземцы развешивают и раскладывают свои съестные припасы. Собственно попокатубу соответствует так называемой барле на берегу Маклая; только бревна, из которых она была построена, очень толсты и покрыты резьбой.
Когда я кончил рисунок, представляющий попокатубу, один из туземцев подошел попросить куку (табаку), объясняя, что эта постройка принадлежит ему. Хотя это требование показалось мне курьезным, я, разумеется, не отказал ему.
Возвращаясь в хижину тичера, где мы переночевали, любовался великолепным вечерним освещением, но, к сожалению, высокого хребта Owen Stanley, который бывает отсюда виден, мы не видели.
14 февраля. Вид при приближении к деревне Ануапата, главному селению порта Моресби, произвел на меня далеко не благоприятное впечатление: холмы кругом покрыты мизерной растительностью, очень напоминавшею мне Австралию, но никак не Новую Гвинею.
В этой деревне Чальмерс имел свою главную резиденцию, и я решил остаться его гостем на несколько недель, тем более что из этой местности я без особенной трудности мог, при помощи парохода миссионеров, переезжать из одной деревни в другую.
25 февраля. Все это время мне надоедала лихорадка, возвращавшаяся регулярно каждый день, но в разные часы, вследствие чего я не мог почти делать экскурсий по окрестностям.
Небольшой кенгуру капитана Редлиха, о котором я уже упоминал, околел сегодня и был передан мне. Туземцы уверяют, что подобное животное водится и здесь, но не на берегу, а в горах. Его туземное имя здесь — «гове», или «кове».
27 февраля. Сделал весьма удачный портрет старого туземца из деревни Майвы, лежащей миль на 50 по берегу на северо-запад. Лицо этого человека было характеристичное отчасти потому, что волосы головы, за исключением двух пучков, были выбриты. Портрет Мирия (так называли туземца из Майвы) вышел так похож, что многие туземцы Ануапаты предложили, чтобы я нарисовал и их, но так как я могу получить от г. Л., который занимается фотографией, портреты здешних туземцев, то я предпочел заняться рисованием татуировки женщин, которая не выходит на фотографии. Татуировка здешних женщин отличается от виденной мною в Суоу, Ароме и Карепуне. Я выбрал девушку, лет шестнадцати, которая считалась миссионерами за какую-то «заблудшую овцу» (ее звали Макане, или кенгуру), полагая, что именно по этому случаю мне не придется иметь особых затруднений при рисовании татуировки, украшающей ее тело, даже тех частей его, которые обыкновенно бывают покрыты одеждой. Это занятие очень утомительно, почему я должен был ограничиться на первый раз одним лицом и грудью, отложив остальное до другого сеанса. Между желающими быть нарисованными находилась также одна девушка с Самоа, жившая давно уже с миссионерами и предназначавшаяся в жены одному из них. Когда я, усадив ее, расстегнул на ней блузу и предложил спустить ее с плеча, заметив при этом, что у меня нет времени для рисования тряпок, она сделала это сейчас же, но при этом очень заметно покраснела, т. е. на несколько секунд лицо ее потемнело. Когда я кончил, ее сменила другая туземка этой местности; только рисуя ее профиль, я заметил, до какой степени она была некрасива. Устав рисовать людей, я принялся за рисование большой зеленой, очень интересной лягушки, которую мне принесли сегодня; если не ошибаюсь, она тождественна с теми, которых я собирал в большом количестве на берегу Маклая.
28 февраля. Мне принесли три экземпляра Belideus ariel — очень красивого животного, величиной с мышь, но кажущегося больше вследствие перепонок между передними и задними конечностями, дающих этим животным возможность как бы летать. Это выражение, однако, не совсем сюда подходит, так как при помощи этих перепонок они могут спускаться с высоких деревьев, но не подниматься на них. Они были светло-серого цвета, с черной полосою вдоль спины и большими глазами. Крик их был очень неприятен.
Вечером отправился в деревню, состоящую из хижин, построенных на высоких кривых сваях на самом краю песчаного берега, так что при приливе сваи находятся в воде; но и тогда при помощи подмостков в эти хижины можно пробраться, не замочив ног. Вдоль по берегу тянется улица. Некоторые из хижин были в два этажа; нижний этаж не имел стен, а состоял только из пола, над которым возвышалась собственно хижина. За некоторыми хижинами стояла вторая, а иногда и третья, и все три были соединены мостками. Проходя по улице, я заметил около одной платформы место, покрытое циновкой, и узнал, что это не что иное, как могила недавно умершего туземца.
Проходя из одной деревни в другую по берегу, я увидал несколько обрубков громадных стволов, отчасти выдолбленных, до 60 футов длиной и до 3 футов в диаметре. Туземцы связывают их по два и употребляют для плавания вдоль берега. Они направляются до Fresh Water Bay где, кроме закупки саго, занимаются также рубкой этих стволов, долблением их и т. д., а затем возвращаются, связав выдолбленные стволы вместе. Эти неуклюжие суда со многими парусами и большой платформой, на которой построена одна или несколько хижин, называются «лакатой». В деревне мне был указан молодой туземец Меа, которого я уже видел в Сиднее, куда он был завезен г. Л., коллектором предметов естественных наук. Я еле-еле узнал моего старого знакомого, которого я измерял и с которого снимал фотографии. В продолжение года юноша этот очень возмужал. По его возвращении обратно в Ануапату для него была выстроена новая хижина, где он помещался с молодой женой.
29 февраля. Один из тичеров вернулся с охоты и принес несколько кенгуру, которые оказались отличными от приобретенного мною «кове». Этот вид был описан профессором Петерсом и маркизом Дориа и назван Macropus papuensis. Я сохранил для своей коллекции молодой экземпляр и череп взрослого. Отпрепарировал также мозг большого новогвинейского голубя (Goura).
1 марта. Снова рисовал татуировку спины Макане. Разнообразие рисунков довольно значительное. Когда я дошел до пояса, Макане без всяких ужимок спустила свою юбку из бахромы ниже колен. Она это сделала, вероятно, зная, что г. Чальмерса нет дома (он отправился в Redscar Bay) и что тичер не войдет в мою комнату. Все тело Макане было татуировано до колен, которые, вероятно, со временем также будут украшены татуировкой.
Около 10 часов вошла в бухту большая шлюпка, в которой находился один только человек. Мне сказали потом, что он заходил за водой и свежей провизией. Человек этот, как я узнал впоследствии, должен был искать спасения жизни в бегстве и намеревался добраться в своем кутере до Суоу, где его еще не знают и откуда он при случае может на одном из проходящих судов отправиться в Австралию. Этот случай показал мне, как сравнительно безопасно здесь плавание вдоль берега, главным образом вследствие значительного числа хороших портов, в которых, в случае скверной погоды, можно укрыться. Единственную опасность представляют туземцы; последние, увидя, что человек один, легко могут покуситься убить его, чтобы завладеть шлюпкой ради ее паруса и железа, до которого туземцы здесь очень падки.
6 марта. Ввиду того, что вследствие лихорадки мне пришлось снова потерять несколько дней, я полагаю, что климат здесь не особенно благоприятный, почему и решил воспользоваться случаем и отправиться на пароходе «Элленгован», который отправляется за лесом в Карепуну. Только известный род дерева не трогается белыми муравьями, причиняющими большой вред здешним деревянным постройкам. Сюда относятся также и мангровы, дерево которых, будучи очень твердо и пропитано солью, не трогается муравьями. Для новой церкви в Ануапате требовались столбы из этого дерева, а ближайшее место, где их можно было достать в достаточном количестве, было Карепуна.
Путешествие на острова Меланезии и четвертое посещение Новой Гвинеи
(Март 1879 г. — апрель 1880 г.)[265]
Для достижения своей цели — видеть как можно более мне еще не известных разновидностей меланезийского племени — я решил, faute de mieux, отправиться с американскою трехмачтовою шхуной «Сади Ф. Кэллер», снаряженною для ловли трепанга и меновой торговли на островах Тихого океана.
Об этом решении я уже писал в начале путешествия[266]. Теперь, находясь уже на возвратном пути в Австралию, т. е. почти закончив предпринятую экспедицию, имею честь послать краткое предварительное сообщение о ходе путешествия и о некоторых выяснившихся[267] результатах его.
С Новой Каледонии (из Нумеи и бухты Прони) шхуна направилась к о. Лифу (группы Лойэлти), а затем на о-ва Новые Гебриды, где шкипер, заходя на о-ва Танна, Фате, Тонгоа, Май, Эпи, Амбрим, забрал около пятидесяти туземцев разного возраста (предназначавшихся для ловли трепанга, собирания жемчужных раковин и т. п.) и закупил провизию (ямс, таро, кокосы и т. д.) для их продовольствия на шхуне. Я не упускал, разумеется, случая во время якорных стоянок, которые иногда продолжались от пяти до десяти дней, видеть туземцев как можно более, для чего обыкновенно жил в их деревнях.
Достигнув о-вов Мало и Вануа Лева, шхуна направилась сперва к группе Квироса (или Дуфф), а затем к группе Санта Крус. Но ни на одной из этих двух групп нам не удалось остаться достаточно долго. В первой из них (группа Квироса) предполагаемого значительного рифа для ловли трепанга не оказалось; а на другой (группа Лом-Лом, одна из групп небольших островков архипелага Санта Крус) шкипер, уже предупрежденный о дурной репутации туземцев, видя их многочисленность и воинственную осанку, не найдя к тому же достаточно безопасного якорного места, не решился попытать счастья и направился к группе Леунева (о-ва Онтонг-Ява или Лорда Гау). Не дойдя, однако же, до этих островов, шхуна бросила якорь в лагуне рифа Канделярии (или Ронкадор), где мы застряли почти на целый месяц. Пребывание в этой лагуне, окруженной не островом, а рифами, было для меня не особенно интересно: во время прилива весь риф был залит, за исключением нескольких скал; заняться наблюдениями над фауной рифа и формацией его также не приходилось (на этот раз я не имел, как в 1876 г., собственной шлюпки), а на шхуне все люди были заняты с утра до ночи ловлей трепанга, варкой и копчением его[268]. Пришлось удовольствоваться письменною работой, насколько позволяли людской шум, жара каюты, дым коптилки и тому подобные неудобства, и исследованием случайно словленных животных. Отсюда шкипер намеревался отправиться на о-ва Адмиралтейства, но обещал мне идти туда проливом св. Георгия и таким образом дать мне возможность, высадившись на о. Герцога Йоркского[269], вернуться via Куктаун в Сидней. К тому же я не имел особенного желания посетить вторично о-ва Адмиралтейства, где я был уже в 1876 г. Однако же противный ветер и значительное противное течение не допустили исполнения этого плана. Потеряв неделю у южного входа в пролив, я не счел себя вправе более настаивать, чтобы шкипер сдержал данное мне обещание и высадил меня на о. Герцога Йоркского. Мы отправились поэтому вдоль восточного берега Новой Ирландии, пройдя между о-вами Новым Ганновером и св. Матвея к о-вам Адмиралтейства. Здесь у о. Андра, найдя значительное количество доброкачественного трепанга, шхуна пробыла на якоре дней десять. Я жил все время на берегу, где туземцы, припомнив мое пребывание между ними в 1876 г., встретили меня как старого знакомого. Живя между ними, я имел случай познакомиться с некоторыми из обычаев и даже нашел возможность, несмотря на непродолжительное пребывание, выучиться понимать немного их диалект. Заходя на группы Ниниго (Эшикье) и Луб (Гермит)[270] и потеряв много времени, лавируя против юго-восточного пассата, мы снова вернулись к группе Адмиралтейства, к о-вам северо-западной оконечности большого острова, где я прожил снова десяток дней на островке Сорри[271] и снова имел интересное поле для изучения нравов туземцев и для антропологических наблюдений над ними. Как у островка Андра, рифы около Сорри снабдили шхуну значительным количеством отличного трепанга и перламутра, который сотни туземцев за небольшие куски железа или за незначительное количество мелких бус ловили и доставляли на шхуну[272]. Эта местность была интересна для меня также потому, что в 1875 г. экспедиция «Челленджера» провела несколько дней в Nares Harbour, и туземцы, их жилища, домашняя утварь, оружие и т. д. были описаны одним из членов экспедиции[273]. Вследствие этого мои наблюдения в этой местности могут служить проверкой и, может быть, дополнением результатов, добытых экспедицией «Челленджера». Мы вернулись снова к о. Андра, и я мог при этом третьем посещении добыть немало новых интересных сведений о туземцах и о взаимных отношениях между деревнями. Отсюда при других обстоятельствах шхуна, на пути к о-вам Луизиады, могла бы зайти на берег Маклая, но я сам уволил шкипера от его обязательства[274], почему он не желал рисковать, проходя при ненадежной погоде (шквалы сменялись штилями) между плохо нанесенными на карту рифами и островами (между о-вами Адмиралтейства, Новою Британией и Новою Гвинеей), и предпочел старый путь вокруг Новой Ирландии. К большому моему сожалению, мне не удалось съехать на берег на Новой Ирландии, но ежедневно многие пироги выезжали к судну, которое оставалось в дрейфе на время их визита, имевшего целью торг съестными припасами и черепахой.
Таким образом, я мог видеть несколько сотен жителей Новой Ирландии, причем мне удалось сделать несколько интересных антропологических наблюдений над этими туземцами, которых общий habitus особенно близко подходит к типу жителей Соломонова архипелага. Это обстоятельство, как и немало интересных наблюдений и замечаний, сделанных мною на о-вах Адмиралтейства, Ниниго и Луб, примирили меня с фактом, что я, почти против желания, во второй раз посетил эти острова.
Несмотря на позднее время года, довольно ровный зюд-ост привел нас к группе Тробриан, которая была для меня весьма интересной своею близостью к о-вам д’Антркасто и Новой Гвинее, а также своею малою известностью. К сожалению, однако же, скверная погода, шквалы с продолжительными дождями, значительное волнение, мешавшее ловле трепанга, сократили наше пребывание, но все-таки мне удалось провести интересный денек в деревне на о. Тума и видеть, мерить и рисовать туземцев в продолжение трех остальных дней нашей стоянки, во время которой туземцы были нашими постоянными гостями. Шкипер на пути к о-вам Луизиады хотел обогнуть группу Лалэн, где, он слышал, есть гуано. Он желал зайти туда, чтобы удостовериться в верности этого слуха, но, приблизившись к этим островам, вследствие очень свежего северо-западного ветра, весьма ненадежной погоды, расшатавшихся вант, порванных парусов, принужден был переменить курс, и вместо Луизиады мы попали на небольшую группу, означенную на картах именем о-вов Симбо, или Эдистон, в группе Соломоновых[275].
По случаю починки снастей мы пробыли здесь дней двадцать, т. е. до 27 декабря. Разумеется, все это время я жил на берегу и остался весьма доволен моим пребыванием там, хотя дождливая погода была причиной довольно сильных пароксизмов лихорадки. Наконец, в начале этого года шхуна добралась до архипелага Луизиады и бросила якорь для продолжительной якорной стоянки (ловли трепанга) в бухте Махиу о. Бухилари[276] (Pitt Harbour, о. Моресби).
Сделав несколько экскурсий на о. Бухилари, я решил оставить здесь шхуну, что я уже давно имел в виду, и перебраться на о. Варе (о. Тесте на картах), надеясь найти там случай попасть, пользуясь проходящим судном, в Куктаун, или, на что я имел большую охоту, отправиться на небольшом пароходике «Элленгован», принадлежащем London Missionary Society, на южный берег Новой Гвинеи, а оттуда на острова Торресова пролива.
Расстояние от о. Варе до бухты Махиу не более 20 миль, и утром 19 января, оставив почти все свои вещи на шхуне для доставления в Сидней[277], забрав несколько необходимых вещей, я отправился в шлюпке на о. Варе и поселился в туземной хижине в ожидании оказии.
На третий день моего пребывания на о. Варе два судна бросили якорь около острова: пароход «Элленгован» и шхуна «Анни». Оба отправлялись на другое утро; шхуна прямо отправлялась в Куктаун; «Элленгован», заходя в разные местности вдоль южного берега Новой Гвинеи, возвращался обратно в деревню Ануапата. Мне предстоял выбор, но желание видеть туземцев южного берега, о которых я читал уже не раз, что они принадлежат к «малайской расе», превозмогло неудобство продлить еще на несколько месяцев уже и без того затянувшееся путешествие. Я решил, недолго думая, отправиться с «Элленгован» и посетить Новую Гвинею в четвертый раз. Заручившись позволением Чалмерса, старшего из двух миссионеров London Missionary Society, живущих на южном берегу Новой Гвинеи, отправиться на пароходе в Ануапату, я едва успел вернуться в деревню и уложить снова вещи, которые разложил в хижине, не подозревая, что останусь на о. Варе только три дня.
На другое утро, 22 января, с рассветом мы снялись, но только 14 февраля прибыли в деревню Ануапата, находящуюся у большой бухты, обозначенной на картах под именем Порт Моресби. Плавание это вдоль берега (всего около 300 миль) продолжалось 23 дня, так как Чалмерс находился в инспекторской поездке и должен был останавливаться в местностях, где поселены были наставники[278], а также в разных местах для рубки дров для парохода[279]. Оставаясь в некоторых деревнях по 4 и 5 дней, я имел достаточно времени, чтобы видеть туземцев, жилища их и поверхностно ознакомиться с их нравами, так что это четвертое, хотя и непродолжительное посещение Новой Гвинеи обогатило меня интересными и немаловажными результатами по антропологии и этнографии. В Ануапате, где я воспользовался любезным гостеприимством Чалмерса, здоровье мое, которое во все время этого путешествия только два или три раза, и то на короткое время, изменяло мне, принудило меня к относительному бездействию[280] недели на три и заставило отказаться от экскурсии в окрестные горные деревни, куда доступ благодаря лошадям, привезенным на этот берег Новой Гвинеи австралийскими золотоискателями в 1877 г.[281] и оставленным здесь, был незатруднителен. Полагая, что местные условия в Ануапате имеют значительное влияние на возобновление пароксизма лихорадки, я отправился снова вдоль берега и посетил во второй раз деревни Хуру и Карепуну, куда пароход «Элленгован» был отправлен Чалмерсом за деревом для постройки церкви и других зданий в Ануапате. Я вернулся в Ануапату, чувствуя себя гораздо здоровее, чем выезжал оттуда. В апреле «Элленгован» отправился на о. Вайбин (или Thursday Island) — станцию пароходов на пути из Австралии в Сингапур и Китай. Это обстоятельство было для меня в высшей степени подходящее, так как я имел при этом возможность видеть жителей Новой Гвинеи в деревнях Бура, Майва и Сило, а также о-ва Торресова пролива — Зруб, Мэр, Дауван, Сейбай, Мабиак. С о. Вайбин (Thursday Island) я имел честь послать письмо с извещением о моем возвращении в Сидней, которое, однако же, еще не состоялось, причины чего я предполагаю сообщить в скором времени в следующем письме.
Для более верной оценки некоторых результатов путешествия мне кажется не лишним дополнить этот перечень посещенных местностей более кратким итинерарием с прибавлением продолжительности пребывания в каждой местности.
1879 год
Март 23: выехал из Сиднея.
Апрель: о. Новая Каледония; порт Нумея (8 дней); бухта Прони (5 дней); о. Лифу (5 дней); в море 12 дней.
Май: дрейф у о. Танна (2 дня); о-в Фате (12 дней); Тонгоа (2 дня); Май (2 дня); Эпи (3 дня); Амбрим (1 день); в море 9 дней.
Июнь: о-в Мало (4 дня); Вануа-Лева (7 дней); дрейф у о. Квироса и о. Лом-Лом; в море 19 дней.
Июль: риф Канделярия, или Ронкадор (28 дней); в море 3 дня.
Август: штили и противные ветры у пролива св. Георгия; Новая Ирландия (дрейф у восточного берега); о. Андра (у северного берега большого острова Адмиралтейства) (10 дней); в море 21 день.
Сентябрь: архипелаг Ниниго (10 дней); архипелаг Луб (4 дня); в море 15 дней.
Октябрь: архипелаг Луб (6 дней); островок Сорри, у северо-западной оконечности большого о. Адмиралтейства (13 дней); о. Андра (3 дня); в море 9 дней.
Ноябрь: Новая Ирландия (дрейф у восточного берега); группа Тробриан (3 дня); в море 27 дней.
Декабрь: о. Симбо (Соломонов архипелаг) (20 дней); в море 11 дней.
1880 год
Январь: западные острова архипелага Луизиады; Базилаки (8 дней); Варе (3 дня); Самарай (4 дня); дер. Барабара (Новая Гвинея) (1 день); о. Суоу (3 дня); южный берег Новой Гвинеи: Dutfield Harbour (полдня), Milport Harbour (1 день); в море 8 дней.
Февраль: южный берег Новой Гвинеи: Тэбль-пойнт (2 дня); М. Родней (1 день); дер. Арома (3 дня); дер. Карепуна (5 дней); дер. Хула, или Хура (полдня); дер. Тупузелей (полдня); дер. Ануапата, или порт Моресби (15 дней); в море 5 дней.
Март: южный берег Новой Гвинеи: дер. Ануапата (7 дней); дер. Хура (4 дня); дер. Кало (1 день); дер. Карепуна (2 дня); дер. Ануапата (2 дня); в море 5 дней.
Апрель: южный берег Новой Гвинеи и острова Торресова пролива: дер. Бура (полдня); о-ва Эруб (2 дня); Мэр (3 дня); Дауван (полдня); Сейбай (3 дня); дер. Майва (1 день); дер. Моту-Моту (полтора дня); дер. Сило (полдня); Мабиак (5 дней); Вайбин (6 дней); в море 8 дней.
Май: восточный берег Австралии: Сомерсет (3 дня); г. Куктаун (3 дня); г. Таунсвиль (1 день). 12 мая прибыл в г. Брисбейн.
Итого, во время этого с лишком 13-месячного путешествия из 409 дней приблизительно 237 дней были проведены на берегу или на якоре, а около 162 дней в море. Только некоторые результаты путешествия могут быть сообщены в кратких положениях. Между ними выдвигаются на первый план следующие:
1) Жители весьма многих островов Меланезии[282] (некоторых из о-вов Новогебридских, Соломоновых, Луизиады и др.) оказались имеющими форму черепа брахикефальную (индекс ширины превышал во многих случаях 81 и в некоторых даже 85), обстоятельство, которое доказывает, что брахикефалия имеет в Меланезии гораздо большее распространение, чем до сих пор полагали.
К этому неожиданному результату меня привели многочисленные измерения голов и черепов[283] туземцев весьма многих островов Меланезии.
2) Хотя в некоторых деревнях южного берега Новой Гвинеи[284] заметна полинезийская или малайская примесь (смесь с прямоволосой расой)[285], но она сравнительно весьма незначительна и не дает права назвать жителей юго-восточной оконечности Новой Гвинеи «желтою малайскою расой», название, вошедшее в употребление в последние годы.
3) Ознакомление с языком и некоторыми традициями туземцев группы Луб и с диалектами северного берега большого острова Адмиралтейства положительно доказало, что население этой группы происходит с северного берега о. Адмиралтейства.
4) Жизнь между туземцами о-вов Адмиралтейства дала мне возможность ознакомиться со многими интересными обычаями этих туземцев, но эти наблюдения и исследования теряют слишком свое настоящее значение и ясность, будучи переданы без необходимых подробностей и иллюстраций, почему сообщение их не может войти в рамки настоящего письма[286]. К этому же разряду результатов принадлежат наблюдения, которые я никогда не упускал из виду, когда представлялся случай, как то: наблюдения эффекта обычаев деформации головы, татуировки, перфорации septum narium, alae nasi, разных частей уха и т. п. Мне удалось также сделать более наблюдений и добыть более сведений относительно макродонтизма у туземцев архипелагов Адмиралтейства и Луб.
В заключение замечу, что убеждение, которое я высказал, предпринимая эту экспедицию, что несколько дней, даже несколько часов собственного наблюдения дадут мне более верное мнение о туземцах Меланезии, чем повторное чтение всей о них накопившейся литературы, вполне подтвердилось, и не раз, во время этого путешествия, которое прошло не без многих неприятных случайностей, я был доволен, что, вопреки многим затруднениям и жертвам, я предпринял его и могу таким образом дополнить некоторые пробелы по антропологии и этнографии этой части света.
16 ноября 1880 г.
Пейкдель, около Станторп в Квинсленде
Второе посещение южного берега Новой Гвинеи
(Август 1881 г.)
Телеграмма из Куктауна, напечатанная в сиднейских газетах об убийстве миссионеров (туземцев) в деревне Кало, подтвержденная письмом от миссионеров из порта Моресби, побудила коммодора австралийской морской станции предпринять что-либо в виде наказания туземцев, чтобы предупредить повторение подобных убийств. Скоро получились дальнейшие подробности, и я узнал, что коммодор Уильсон имеет намерение сам отправиться в Новую Гвинею разобрать дело и наказать, если нужно, туземцев.
Пробыв в деревне Кало несколько дней, зная многих туземцев этой деревни и вообще знакомый с условиями их жизни и отношениями к миссионерам и другим белым, я отправился к коммодору Уильсону, которого знал за справедливого и хорошего человека. После краткого разговора о предстоящей экспедиции я спросил коммодора, что он намерен делать.
— Жители, вероятно, разбегутся при появлении корвета, так что мы найдем деревню пустою, и нам не останется ничего другого, как сжечь ее, потому что убийство 12 человек не может быть оставлено без наказания.
— Но, коммодор, — возразил я, — Кало большая деревня, в ней несколько сот домов, и, вероятно, более тысячи жителей, из которых, может быть, только несколько десятков участвовали в убийстве, подговоренные двумя или тремя, а, может, даже и одним зачинщиком всей катастрофы. Справедливо ли будет наказывать всех, разорив их жилища, представляющие собою не какие-нибудь мизерные хижины, а большие дома на крепких, прочных сваях, на постройку которых требуется немало времени и очень много труда?
— Что же бы вы сделали на моем месте? — спросил коммодор.
— Я бы отыскал настоящих виновников, т. е. зачинщиков убийства, и наказал бы их только, а не всех без разбора. Таким образом, туземцы поняли бы, что справедливость белых отличается от их справедливости, заставляющей их мстить за смерть кого-либо из своих убийством не того, кто виноват в этой смерти, а кого бы то ни было из жителей его же деревни.
— Это легко говорить «найти виновника», — возразил коммодор, — на деле же весьма трудно, а иногда даже и совсем невозможно.
— Не так трудно, как вы полагаете, коммодор! — был мой ответ.
— На южном берегу Новой Гвинеи живут уже несколько лет миссионеры, которые знают туземные языки. В самой деревне Кало в продолжение одного года или двух жил тичер. Деревни Карепуна и Ула, расположенные около Кало, разумеется, находятся с нею в дружественных отношениях, несмотря на убийство тичеров. При посредстве миссионеров и жителей соседних деревень нетрудно вступить в переговоры с населением провинившейся деревни, потребовать от них имена виновников и выдачу их, объявить, какое наказание может постичь их в случае невыполнения этого требования, и т. д. Я убежден, что таким образом можно добраться до настоящих виновников, наказать их и оставить невинных в покое, доказав им, однако, что справедливость белых стоит выше справедливости туземцев. Я не сомневаюсь, что такой поступок будет иметь крайне благотворное влияние на отношение туземцев к белым.
Мои доводы убедили коммодора в возможности обойтись без разорения или сожжения деревни. Мы перешли к обсуждению деталей экспедиции, и наш разговор закончился предложением коммодора отправиться с ним и убедиться в возможности применить на деле предложенный мною план действий, который он решил испытать. Хотя предложение это являлось для меня и не совсем удобным, я тем не менее согласился, но посоветовал коммодору непременно отправиться в Ануапату и заручиться там помощью человека, которая могла бы оказаться гораздо более действительной, чем моя, — именно взять оттуда господина Чалмерса, знающего туземные языки и имеющего большое влияние на туземцев южного берега. Коммодор согласился и заявил, что корвет «Вульверин» снимается с якоря 10 августа.
В назначенный день в 4 часа пополудни мы вышли из порта Джексон вместе с летучей эскадрой, находящейся под командой адмирала графа Кламульяма, в которой находились оба сына принца Уэльского. Мы плыли с эскадрой только до следующего утра, когда сигнал, поднятый на адмиральском судне, дозволил коммодору отделиться от эскадры и плыть по своему назначению. Мы поставили паруса и направились почти на север, между тем как эскадра продолжала свой путь вдоль берега, намереваясь зайти в Брисбейн.
Не стану описывать ни весьма удачного перехода, совершенного под парусами в 11 дней, ни любезного гостеприимства коммодора Уильсона, в одной из кают которого я помещался, а перейду прямо к прибытию корвета в порт Моресби, где мы бросили якорь 21 августа.
Здесь мы встретили два английских военных судна — шхуны «Beagle» и «Sand-Fly». Съехав с коммодором на берег, мы были встречены обоими миссионерами, господами Лооз (Lawes) и Чалмерсом. От них мы узнали точную историю убийства.
Уже за несколько времени до убийства в ближайших деревнях распространился слух о том, что жители деревни Кало собираются убить живущего среди них тичера. Последний, однако же, не хотел верить этому и даже обратился к главному начальнику деревни Кало, по имени Квайпо, с вопросом, должен ли он верить этому слуху или нет. Последний постарался уверить его, что эти слухи — чистая выдумка.
Тариа, тичер деревни Хула, отправился 25 марта в своей шлюпке в Карепуну с намерением забрать оттуда своего товарища — тичера, так как последний был нездоров. С ним поехали пятеро молодых людей из деревни Хула. Тариа заехал также и в Кало и условился с тамошним тичером, обещав ему взять его с собой на обратном пути. Обещание это он исполнил. Кроме Тариа, в шлюпке находились тичер деревни Карепуна, его жена и двое детей. Пока Тариа ждал прихода тичера деревни Кало и его семейства, Квайпо, начальник деревни, вошел в шлюпку поболтать с миссионерами. Скоро пришли тичер деревни Кало, его жена, двое детей и тичер из Мататути, находившийся в гостях у первого. Когда все уселись в шлюпку, Квайпо вышел на берег. Это было сигналом для нападения. Десятки копий полетели на шлюпку; сопротивление было бы совершенно напрасно и всякая попытка к бегству вполне бесполезна, так как с одной стороны несчастных была вода, а с другой — туземцы с их копьями.
Один Тариа вздумал сопротивляться, но четыре брошенные в него копья покончили его тут же. Всех убитых было двенадцать1 человек. Среди них находились и двое туземцев из деревни Хула. Четверо спаслись, бросившись вплавь вниз по реке; их не преследовали, так как еще в начале нападения Квайпо приказал щадить туземцев Хула. Только тело одной из женщин вместе с трупом ее ребенка были погребены туземцами Хула и Карепуна, остальные же сделались добычею крокодилов. Туземцы соседних деревень указывают на Куапена, начальника деревни Арома, который уверял жителей деревни Кало, что иностранцев можно убивать безнаказанно, и даже привел несколько примеров, между которыми было убийство, случившееся в Ароме около года тому назад, и толковал о том, какая большая слава выпала на долю его деревни. Туземцы Кало не пропустили этого совета мимо ушей.
Но ближайшей и более действительной причиной этого убийства была ненависть жены начальника Квайпо к жене Анедерса (Андрея) — тичера Кало. Вражда длилась долго, и жена Квайпо не оставляла его в покое бесконечными жалобами своими на тичеров, что и привело, наконец, к вышеописанной печальной развязке.
Когда коммодор Уильсон в немногих словах рассказал миссионерам наш план наказания туземцев, настоящих виновников убийства, т. е. Квайпо и его сына, то они выразили большое сомнение относительно выдачи туземцами своего начальника. Единственною возможностью успеха, по их мнению, было овладеть деревней врасплох и захватить начальника.
Оставив коммодора и миссионеров совещаться, я сам отправился в деревню. Проходя между группами туземцев, которые так часто видели европейцев, что появление последних нисколько не отвлекает их от занятий, я мог заметить, что употребление каменных орудий (осколков кремня) еще не вполне вытеснено железом и сталью. Я видел двух человек, обтесывающих какие-то палки кусками кремня; острые края свежеобломанных сторон камня отлично стругают самое твердое дерево; третий туземец заострял копье не ножом, который был заткнут у него за браслет на руке, а куском продольно расщепленного свиного клыка. Носовые украшения из Tridacna gigas также режутся и полируются кремнем. Встретил Макане, ту молодую девушку, с которой я рисовал татуировку; завидев меня, она прибежала ко мне и, помня мое рисование, указала на несколько фигур на ляшке и стала настаивать, чтобы я сейчас же срисовал их, т. е. дал ей за это куку (табаку). Я ограничился тем, что дал ей табаку.
Во время прогулки наткнулся на женщину с очень светлокожим ребенком на руках. Цвет кожи и характер волос не оставлял сомнения в том, что отец ребенка был белый. Мне сказали после, что, действительно, им был долго живший здесь ирландец.
22 августа. Ко мне привели мальчика лет 5, о котором я уже успел услышать, как только ступил на берег; мне говорили, что у него был хвост. Когда отец мальчика с таинственным видом снял с него тряпку, составлявшую его одежду, я увидел, что в pars sacralis, как раз в средней линии, действительно, находился род хвостика, около 5 см длиною и шириною в детский мизинец, но, собственно, хвостом его назвать было нельзя, так как это был не что иное, как накожный полип значительной длины и мог считаться хвостиком только по своему положению на теле. Линия более длинных волос посередине спины продолжалась и на этот придаток. Я осмотрел, смерил и нарисовал этот курьезный объект. Отцу, очевидно, нравилось, что я так внимательно отнесся к этой особенности его сынка. Он заставил его сесть и в таком положении этот накожный придаток очень походил на настоящий хвостик.
Надо заметить, что у здешних туземцев очень распространено поверье о существовании хвостатых людей, о которых все говорят и рассказывают, но которых до сих пор еще никто не видел. Один туземец, хорошо говоривший по-английски, серьезно рассказывал мне, что хвосты этих людей, живущих где-то в горах, состоят из костей и кожи и не сгибаются, так что, когда они садятся на землю, им приходится, чтобы не сломать хвостик, сделать сперва копьем довольно глубокое отверстие в земле и сесть так, чтобы хвост поместился в это отверстие. Этот рассказ я слышал на острове Базилаки, но господин Чалмерс сказал мне, что поверье о существовании хвостатых людей очень распространено среди туземцев южного берега Новой Гвинеи.
Макане не забыла явиться, и так как рисунка ее татуированного тела у меня с собою не было и я вспомнил, что вид татуировки на передней части тела был сделан мною тогда второпях, я сделал новый рисунок татуировки ее туловища и ног до колен спереди. Меня отчасти удивило то обстоятельство, что рисунки, недавно сделанные на ее теле (несколько месяцев тому назад), цветом своим почти что не отличались от цвета сделанных несколько лет тому назад.
Так как предполагалось сняться на следующий день, то коммодор Уильсон роздал начальникам и туземцам деревни большое количество подарков (бумажной материи, ножей, несколько топоров, бус и главным образом табак). Все раздавалось от имени королевы Виктории, которая благодаря стараниям миссионеров очень популярна на этом берегу.
23 августа. Шхуна «Sand-Fly» отправилась с почтою в Куктаун. Корвет «Vulverin», взяв шхуну «Beagle» на буксир, снялся около часу пополудни. Господин Чалмерс и вдова тичера деревни Хула, убитого в Кало, знающая хорошо язык и обычаи этой деревни, отправилась с нами. План, на котором остановился коммодор, должен был заключаться приблизительно в следующем: корвет «Vulverin» должен был пройти почти до деревни Карепуна и бросить якорь к вечеру, затем, на другое утро, несколько вооруженных шлюпок будут отправлены к устью реки, где расположена деревня Кало. Часам к 8–9, как только послышится рожок — быть готовыми к атаке, другая партия, состоящая из десанта, высаженного еще накануне, который в продолжение ночи должен был пробраться сухим путем к деревне, должна была войти в деревню с тыла. Полагалось, что все туземцы будут ожидать нападения с реки и вовсе не подумают о возможности атаки с тыла и что таким образом жители Кало, застигнутые врасплох неожиданным нападением с двух сторон, должны будут сдаться, или во всяком случае оставить деревню в руках белых. Тогда последние могут назначить свои условия и т. д. В этот вечер нам, однако, не пришлось дойти до места назначения; по случаю темноты оказалось неудобным слишком приблизиться к берегу.
24 августа. Пролежав всю ночь в дрейфе, около полудня «Vulverin» и «Beagle» бросили якорь у рифа, в виду «Round Head». Восемьдесят пять матросов, составляющие десант под начальством командира корвета Ватсона, господин Чалмерс, вдова тичера и я были переведены с корвета на шхуну «Beagle». Между тем как корвет продолжал путь к Hood-Bay, «Beagle», пролавировав часов до 9, бросила якорь в Палавайя-Бай. Господин Чалмерс с командиром съехали на берег искать тропинку, которая, как уверял господин Чалмерс, ведет от этого пункта берега прямо в деревню Кало. Я же предпочел заснуть, сильно сомневаясь, чтобы тропинка находилась как раз против того места, где мы бросили якорь. Я был разбужен часа через полтора голосами вернувшихся. Они громко рассуждали, толкуя о том, что по случаю темноты невозможно было найти тропу. Была уже половина 12-го ночи и командир приказал перевезти десант в двух партиях на берег. Они должны были как-нибудь, вероятно следуя берегом, добраться до Кало.
Зная, что отлогость берега помешает баркасу подойти ближе к сухой земле, я спустился в шлюпку босиком. Мое предположение оказалось верным, так как, подойдя к берегу, можно было добраться до него лишь по колено в воде. Здесь я с удовольствием надел сухую обувь.
Была уже четверть второго; нам пришлось прождать другую партию десанта, так как баркас на буксире паровой шлюпки, который привез нас, должен был вернуться за нею к шхуне. Было очень темно, и все время моросил дождь.
Я был очень доволен, что надел кожаную куртку, заказанную мною перед отъездом.
По высадке на берег второй партии господин Чалмерс повел нас через лес, надеясь, что тропинка, на которую он наткнулся, приведет нас к противоположному берегу, т. е. наперерез от Палавайя-Бай к Hood-Bay. Пройдя четверть часа частью лесом, частью по высокой траве, мы пришли к болоту, и такому топкому, что пришлось вернуться. Было так темно, что в лесу, на расстоянии двух-трех шагов, нельзя было разглядеть человека.
Голоса и шум шагов руководили нами. Вернувшись к морскому берегу, мы отправились к мысу, у которого находилась деревня Хула. Здесь Кайранги, вдова тичера, попробовала привести нас к тропе, ведущей к деревне Кало. Проплутав с полчаса между банановыми и другими плантациями, нам пришлось снова вернуться к берегу и взять в деревне молодого туземца, который рискнул быть нашим путеводителем, так как, показывая нам путь в Кало, он делался изменником относительно союзной деревни. На этот раз тропинка оказалась настоящей, но, так как уже было пять часов, пришлось отправиться в путь ускоренным маршем. Люди с корвета, а также и офицеры были сильно утомлены, и неудивительно, так как воинская сбруя разного рода тяжела и, кажется, далеко не удобно приноровлена к походу в тропической стране. Не успели люди достаточно отдохнуть, как послышался рожок, вероятно, партии, прибывшей под начальством коммодора на шлюпках в устье реки. Тогда и наша партия двинулась к деревне, разделившись на три отряда, которые вошли в деревню разом с трех сторон.
План мой вполне удался: вместо сожжения деревни и поголовного истребления ее жителей, все ограничилось несколькими убитыми в стычке, в которой пал главный виновник убийства миссионеров, начальник деревни Квайпо, и разрушением большой его хижины. Посетив затем несколько деревень южного берега, я дополнил некоторые прежние свои наблюдения, но краткость стоянки корвета и дело в Кало значительно помешали моим работам.
Третье посещение берега Маклая
(1883 г.)
Я имел возможность снова посетить берег Маклая, встретив на пути в Австралию, в Батавии, корвет «Скобелев».
Узнав от адмирала Н. В. Копытова, что он намеревается посетить некоторые о-ва Меланезии и, может быть, зайдет на берег Маклая, я предложил адмиралу взять меня с собою, так как благодаря моему знанию туземного языка и местных условий островов, куда должен был зайти корвет, я мог быть полезным при плавании, а я, с своей стороны, мог бы вновь посетить знакомые мне места. Должен сказать, что берег Маклая особенно притягивал меня, так как мне хотелось знать, что сталось с моими новогвинейскими друзьями. Адмирал согласился, и я, распорядившись, чтобы мой багаж был отправлен в Австралию на английском пароходе «Chyebassa», на котором я ехал из Порт-Саида в Брисбейн (Квинсленд), захватил несколько необходимых вещей и перебрался на корвет, который снялся на другое же утро. За неимением свободной каюты, мне было устроено при помощи брезентов и флагов отличнейшее помещение под полуютом. Кроме подвешенной офицерской койки, служившей мне постелью, стол, стул и кресло были помещены в моей временной каюте, которая, находясь на палубе, была прохладна и светла.
При заходе в Макассар и в Амбоину я попросил адмирала приобрести здесь одного бычка, двух телок и коз местной породы, уже акклиматизировавшихся на Малайском архипелаге, в подарок туземцам берега Маклая. Мое желание было исполнено, и, кроме того, на казенные деньги были куплены для подарков туземцам тех островов, куда мы должны были зайти, разные вещи, как то: малайские паранги (большие ножи), красная бумажная материя, бусы, небольшие зеркала и т. п. Кроме того, мною было приобретено множество семян разного рода, между прочим семена дуриана, мангустана, манго, нескольких видов хлебного дерева, апельсина, лимона, ланзата, кофейного дерева, несколько молодых ананасов и много семян разных других полезных растений и овощей.
Пройдя пролив Буру и Сайгуйэн (между о-вами Салавати и Батанта), 12 марта мы подошли к северному берегу Новой Гвинеи. По случаю дождя и густых облаков, скрывавших берег, и вообще вследствие дождливой погоды адмирал решил не заходить в Дорэ, а идти прямо к берегу Маклая. 15 марта мы проходили мимо бухты Гумбольдта на Новой Гвинее. На открывшемся перед нами 16 марта о. Вулкане оказался снова действующим вулкан, как и в 1877 г. 17-го утром, пройдя проливом Изумруд (между Новой Гвинеей и о. Кар-Кар), мы медленно прошли архипелаг Довольных людей около 2 часов пополудни и в половине шестого вечера бросили якорь в порте Константина.
Я съехал на берег, на мысок Обсервации, и, увидев там несколько старых знакомых из Гумбу, сказал им, что я буду завтра утром в Бонгу и что для корвета нужна провизия — свиньи, таро, бананы и т. п. Боясь лихорадки, я не рискнул в тот же вечер отправиться в другие деревни и вернулся на корвет.
18 марта адмирал, несколько офицеров и я съехали на берег около деревни Бонгу. Сопровождаемые туземцами, которые, перебивая один другого, обращались ко мне с расспросами, где я буду жить, когда начать строить мне хижину и т. п., мы обошли деревню. Она показалась мне на этот раз как-то меньше и запущеннее, чем в 1876–1877 гг. Припомнив расположение деревни, я скоро открыл, что целые две площадки с окружавшими их хижинами обратились в пустырь. Площадки заросли травой, а на развалинах хижин рос кустарник. На мои вопросы мне объяснили, что из туземцев, живших в этих хижинах, одни перемерли, а другие выселились. Сообразно с моими инструкциями, данными при отъезде в 1877 г., все девушки и молодые женщины были удалены; оставалось только несколько безобразных старух. Помня также мои советы, туземцы явились не только без оружия, но даже и без малейшего украшения. Вид их поэтому был сегодня довольно мизерный (дикие без украшений, лохматые, напоминают одетого в лохмотья европейца), тем более что почти вся молодежь отсутствовала. Одни находились в Богати по случаю происходившего там большого ая и муна; другие, вероятно, были в лесу, охраняя женщин.
Мой старый приятель Саул рассказал мне длинную историю о «тамо инглис» (вероятно, экспедиции шхуны «Dove»), затем о приходе в Гарагаси «абадам Маклай» (брата Маклая), как они, вероятно, называли г. Ромильи. Вспомнив, что я еще не видел Туя, я прервал разговор вопросом о нем. «Туй муэн сен» (Туй умер), — ответил мне Саул. Я очень пожалел о моем старом приятеле. Я вызвал у туземцев Бонгу большое волнение, объявив, что привез им быка, корову, козла и коз. Все повторяли за мною имена этих животных; все хотели их видеть сейчас же. Я объяснил, что для привезенного скота надо построить изгородь, чтобы он не разбежался. Туземцы много говорили, и никто не принимался за дело. Еще раньше я убедился, что если дать туземцам какую-нибудь вещь для общего пользования, а не исключительно одному, то это всегда окажется ошибкой, так как никто не заботится об общей собственности. Однако дать привезенный скот кому-нибудь одному или же раздать по одному животному на несколько лиц казалось мне несправедливым. Сказав, что приведу быка, корову и коз к заходу солнца, я направился к тому месту, где в 1876–1877 гг. стоял мой дом. Придя туда, я почти не узнал местности. Под большими деревьями, которые некогда окружали мой дом, рос теперь повсюду большой кустарник; только местами, изредка, проглядывали между зеленью посаженные мною кокосовые пальмы, бананы и множество Carica Papaya значительной толщины[287]. Вместо широких дорожек, содержавшихся всегда в большой чистоте, около моей хижины оказалось теперь две-три тропинки, по которым можно было пробраться только с трудом. Я пошел прямо туда, где прежде стояли оба дома. Между кустами я нашел полдюжины еще стоявших свай. И это было все. Припоминая, с какими хлопотами я строил себе дом, с каким терпением я разводил плантацию, мне трудно верилось, что каких-нибудь 5–6 лет было достаточно, чтобы превратить все в глухой уголок густого леса. Это был пример роскошного плодородия почвы.
Времени на размышления, однако, у меня не было, почему я приказал сопровождавшим меня туземцам расчистить то место, где в 1877 г. у меня росла кукуруза и где мне показалось, что кустарник был не так част. Я велел выдергивать с корнями небольшие деревца, что при большом числе рабочих рук оказалось вовсе нетрудно. Расчищенное место было вскопано матросами, имевшими с собою железные лопаты, на пространстве нескольких квадратных сажен. Я послал туземцев за водой, а сам с помощью своего слуги из Амбоины, Яна, и обоих матросов стал рассаживать молодые растения и семена, привезенные из Амбоины. Принесенная в бамбуках вода послужила для поливки вновь посаженных растений. Не посадил я только семян кофе, отдав их Саулу и некоторым другим туземцам для передачи жителям горных деревень, где для кофейного дерева климат подходит больше, нежели на берегу Маклая. Туземцы, по-видимому, интересовались всей этой процедурой. Я тем не менее не был уверен, что мой эксперимент удастся, и даже боялся, чтобы на вновь взрытую землю не явились в тот же день или на другой свиньи и не разрыли новую плантацию; сделать же достаточно прочную изгородь было невозможно. У меня не было времени, чтобы приглядеть за сооружением ее самому, а туземцы были слишком возбуждены приходом корвета и постройкой у деревни забора для скота. Я отправился лесом по хорошо знакомой тропинке в Горенду, но и тропинка была сильно запущена; невысокий тогда кустарник вырос теперь в большие деревья, так что знакомая тропинка показалась мне совершенно новой. Добравшись, наконец, до места, где 6 лет тому назад была расположена деревня Горенду, я был окончательно поражен ее измененным видом. Вместо значительной деревни остались только две-три хижины; все заросло до неузнаваемости. Мне стало почему-то так грустно, что я поспешил выйти к морю и отправиться обратно на корвет.
После полдника и короткой сиесты я вернулся на берег и пошел снова в Бонгу. Я чувствовал себя, как дома, и мне положительно кажется, что ни к одному уголку земного шара, где мне приходилось жить во время моих странствований, я не чувствую такой привязанности, как к этому берегу Новой Гвинеи. Каждое дерево казалось мне старым знакомым. Когда я пришел в деревню, вокруг меня собралась толпа. Многих знакомых лиц я не мог досчитаться; многие показались мне совершенно незнакомыми: в мой последний приезд они были еще юношами, а теперь у них самих были дети. Только немногие старики оказались моими старыми приятелями. Два обстоятельства особенно бросились мне в глаза. Во-первых, мне и всем окружавшим меня казалось, что как будто только вчера, а не 6 лет тому назад, я был в Бонгу в последний раз; во-вторых, мне показалось странным отсутствие всякой дружественной демонстрации по отношению ко мне со стороны папуасов после моего долгого отсутствия. Подумав немного, я нашел второе обстоятельство совершенно понятным: ведь я сам ничем особенным не выражал своего удовольствия при возвращении сюда; что же мне удивляться, если и папуасы не скачут от радости при виде меня. Были, однако, и такие среди них, которые, прислонясь к моему плечу, всплакнули и, всхлипывая, стали пересчитывать умерших во время моего отсутствия: «и этот умер, — говорили они, — и этот, и этот», и т. д. Всем хотелось, чтобы я по-старому поселился между ними, но на этот раз уже в самой деревне; хотели также знать, когда я опять вернусь и что им делать, если «тамо инглис» снова появятся.
Несколько мальчиков, перегоняя друг друга и запыхавшись, прибежали с известием, что «тамо русс» с «буль боро русс» «(большая русская свинья) приближаются в «кабум ани боро» (в шлюпке очень большой). Все бросились бежать; я тоже последовал за толпой. Действительно, большой баркас шел недалеко от берега. Так как вследствие отлогости берега большому баркасу нельзя было подойти к нему, то офицер, в распоряжении которого находился баркас, скомандовал нескольким матросам, чтобы они, засучив панталоны, соскочили в воду. Большая толпа жителей Бонгу, Горенду и Гумбу молча стояла вдоль берега, следя за каждым движением людей. Двое из выскочивших матросов держали концы веревок, привязанных к рогам бычка. Из накренившегося на один бок баркаса выскочило молодое животное и, очутившись в воде, направилось сперва вплавь, а затем бегом к берегу, так что матросам было нелегко задерживать его. Бычок побежал вдоль берега и тянул бегущих за ним матросов. Было крайне комично видеть, как около сотни туземцев, которые при виде нового для них животного, казавшегося для них, не знающих животных больше дикого кабана, громадным, рассыпались во все стороны; некоторые даже полезли на деревья, другие бросились в море. За бычком последовала корова, оказавшаяся гораздо смирнее его. За нею появился козел в сопровождении коз. Всех их матросы вели за веревки, привязанные к рогам. Вся эта процессия направилась в деревню, куда я также поспешил, чтобы распорядиться и приказать туземцам помочь матросам. В деревне была сооружена изгородь метров 15 в квадрате для бычка и коровы. С некоторым затруднением матросы заставили их перепрыгнуть через высокий порог изгороди. Калитка была сейчас же заколочена, так как я полагал, что пройдет некоторое время, пока животные привыкнут к своему новому положению. Несколько матросов с баркаса, пришедшие смотреть деревню, наломали в лесу молодых ветвей разных деревьев и бросили их за изгородь; по-видимому, угощение пришлось по вкусу корове, которая тотчас же принялась жевать ветки. Бычок же был очень неспокоен: он ходил вдоль изгороди, нюхая воздух и как бы ища выхода. Присутствие матросов, которые ухаживали за животными во время переезда из Амбоины, как бы успокаивало их. Рога были освобождены от веревок, и животные, кажется, чувствовали себя спокойнее. Козла и коз, за неимением другого помещения, я предложил туземцам поместить в одну из хижин и сказал, чтобы женщины принесли им завтра молодого унана. Один из матросов заметил, что нужно было бы показать туземцам, каким образом доят коз. Когда спрошенный мною табир был принесен и матрос стал доить козу, все туземцы сбежались посмотреть на это диво. Возгласам и расспросам не было конца, но никто не отважился попробовать молоко, которое и было выпито матросами.
Солнце уже садилось, почему я сказал матросам, что им пора собираться на корвет. Оба матроса, находившиеся за изгородью, должны были перепрыгнуть через забор, так как калитки не было. Я продолжал давать туземцам кой-какие инструкции относительно их поведения в случае прихода белых. В это же время возгласы туземцев заставили меня обратить внимание на поведение бычка. По уходе матросов он стал очень беспокоен, все бегал вдоль изгороди и, как мне сказали туземцы, хотел сломать забор. Я поспешил на место и увидел, что рогами бычку удалось разворотить в одном месте верхнюю часть забора. Сбегавшиеся туземцы приводили беднягу в ярость. Он еще раз бросился к забору с нагнутой головой, и еще несколько палок вылетело из изгороди. Не успел я крикнуть одному из туземцев, чтобы он побежал за тамо русс, как бычок отбежал от забора, ринулся опять к нему, но на этот раз уже с намерением перескочить через него. Это ему удалось, и он, выбравшись на свободу, как бешеный, полетел по деревне. Туземцы в ужасе быстро попрятались кто куда.
Я остался один и мог видеть, как телке удалось тоже перескочить через ограду и побежать стремглав вслед за бычком. Сомневаясь в удаче, я все же скорым шагом пошел по тропинке к морю, где был встречен возвращающимися матросами. Я в двух словах рассказал им, в чем дело. Они отвечали, что, вероятно, удастся загнать бычка обратно за изгородь, так как он очень ручной. Когда мы вернулись в деревню, то оказалось, что бычок и телка нашли тропинку, ведущую в лес, почему я послал туземцев в обход, чтобы не допустить бычка зайти слишком далеко; матросы же должны были, стараясь по возможности не пугать животных, попытаться загнать их обратно в деревню. Не стану распространяться далее. Вся эта история кончилась тем, что попытка вовсе не удалась, так как, завидев людей, бычок стремительно пустился вперед, а туземцы, разумеется, разбежались в разные стороны. За бычком последовала и телка, и интересная парочка унеслась на ближайшие холмы.
Было уже темно, когда мы вернулись на корвет после постигшей нас неудачи. Я был так утомлен происшествием дня, что, несмотря на большое желание, не мог исполнить обещанного, т. е. вернуться ночевать в Бонгу.
19 марта на рассвете корвет «Скобелев» снялся и направился к островку Били-Били. Так как предполагалось сделать съемку порта кн. Алексея, то для нас было очень важно иметь переводчиков, потому что диалектов жителей архипелага Довольных людей несколько, и они мне незнакомы; в Били-Били же я мог рассчитывать найти кого-нибудь из знакомых, которые согласились бы отправиться с нами. Так как глубина в этом месте была достаточна, то корвет направился в пролив между о. Били-Били и материком Новой Гвинеи. Подходя к деревне, мы уменьшили ход и спустили шлюпку, и я направился к деревне. На берегу нас ожидала большая толпа, узнавшая меня и вопившая: «О, Маклай! О, Маклай! Эме-ме, э-аба! Гена!»
Несколько пирог приблизилось к шлюпке. В одной из них находился Каин, в другой — Марамай и Гассан и несколько других. Чтобы не терять времени на лишние переговоры, я предложил им всем последовать за мною на корвет, обещая дать табаку и гвоздей. Каин перебрался ко мне в шлюпку и стал предлагать всевозможные вопросы, на которые я, разумеется, не мог отвечать за недостатком времени. Очутившись на палубе, туземцы были очень смущены и перепуганы шумом машины и множеством матросов. Они сейчас же стали просить меня отпустить их домой. Сказав Каину и Гассану, что мне их нужно для того, чтобы говорить с людьми о-ва Сегу, куда идет корвет, я роздал остальным очень щедро то, что им было обещано (т. е. табак и гвозди), и отпустил их, задержав Каина, Гассана и Марамая, который сам пожелал отправиться с нами. Когда корвет двинулся, я почти насильно должен был удержать Каина; Гассан же, улучив момент, когда я на него не смотрел, взобрался на полуют и оттуда бросился в море. Проходя мимо островка Урему, где я в 1877 г. посадил несколько кокосовых пальм, я имел удовольствие видеть, что они все принялись и росли хорошо. Каин и Марамай, указывая на них, повторяли мое имя, приговаривая: «Нуи Маклай», «Монки Маклай» (остров Маклая, кокосы Маклая), «Навалобе Маклай Урему и на таль атар» (со временем Маклай прибудет в Урему и построит себе дом). Туземцам очень хотелось, чтобы корвет прошел через узкий пролив между о. Грагером и мысом Бейле на материке Новой Гвинеи и таким образом направился к о. Сегу. Адмиралу, однако, это показалось слишком рискованным, почему мы продолжали путь вдоль о-вов архипелага Довольных людей. Мы прошли длинный о. Сегу и увидели пролив между ним и материком, совершенно свободный от всякой опасности. Пройдя пролив, корвет бросил якорь у западного берега о. Сегу. Так как было еще не поздно, то в тот же день было сделано несколько промеров.
Я отправился с несколькими офицерами на паровом баркасе осмотреть бухты обширного порта кн. Алексея. При моем возвращении мне было сообщено, что Каин и Марамай последовали примеру Гассана, т. е. воспользовались приблизившейся пирогой, которая забрала их из воды, и более не возвращались. Хотя я отчасти извинял страх туземцев, но все-таки был сильно раздосадован их поступком, почему, увидя пирогу с двумя туземцами, я приказал рулевому направиться к ней, почти что силой взял одного из них, другой же бросился в воду. Я отвел моего пленника на корвет, убежденный, что это обстоятельство побудит Каина и Марамая вернуться на корвет. На палубе я начал с того, что убедил знаками (диалект Сегу был для меня незнаком) моего пленника, что его не ожидает никакая опасность, а, напротив того, он получит много подарков, из которых многие были вручены ему немедленно.
Перед заходом солнца вид высоких гор с их вершинами, пиками Канта и Шопенгауэра, был великолепен. Двум людям из команды было поручено смотреть за пленником, который благодаря добродушию матросов чувствовал себя совершенно спокойно, принимая все, что ему только давали.
20 марта. Был одет в половине пятого, а после завтрака отправился с лейтенантом Б. в бухту Еремпи, которая оказалась гораздо более обширной, чем мы думали, и состояла собственно из трех бассейнов. Глубина воды в бухте совершенно достаточна для больших судов. Берега кругом были покрыты лесом. Мы видели нескольких туземцев, которые, однако, побоялись приблизиться к плывшему паровому баркасу, дым которого очень смущал их. На обратном пути я попросил лейтенанта Б. войти в речку Аю, которая мне была знакома еще с 1877 г.
Речка оказалась достаточно глубокой, хотя и узкой. Растительность кругом была роскошная. Одна лиана с пучками лиловых цветов попадалась очень часто. Очень высокие бананники росли у самого берега. Кроме высокого ствола и узких листьев, они отличались маленькими несъедобными плодами, полными зерен[288].
Недалеко от устья речки Аю я заметил небольшое озеро, которое я видел, отправляясь в деревню Еремпи в 1876 г.
Я решил, вернувшись на корвет, отпустить нашего вчерашнего пленника, и поэтому сам отправился с ним в деревню Сегу, которая, однако же, оказалась совершенно безлюдной. В одной из покинутых хижин я увидел два круглых щита, несколько горшков с орнаментами вокруг горла и один очень замечательный телум, представлявший мужскую и женскую фигуры in copula. Наш пленник остался на острове и не отходил от шлюпки до нашего отъезда. Он был очень не прочь вернуться обратно на корвет, где все обращались с ним очень хорошо. Встретив на обратном пути к корвету несколько пирог, я стал уговаривать туземцев (говоря на диалекте Бонгу, который они, по-видимому, отчасти понимали) вернуться в деревню, откуда они выбрались вчера вечером вследствие прихода нашего корвета. Дав им несколько подарков (табаку, красного коленкора и бус), я сказал, чтобы они привезли нам на другое утро кокосовых орехов. Когда стемнело, можно было разглядеть во мраке несколько пирог, возвращавшихся на о. Сегу. Огоньки, замелькавшие там и сям, показали нам, что туземцы послушались и вернулись по домам.
21 марта. До восхода солнца я отправился в деревню Сегу и отпустил шлюпку. Кругом не было видно ни души, но я был убежден, что туземцы скоро покажутся, и не ошибся. Не только мужчины явились ко мне, но от них не отстали и женщины. Каин был между первыми. Очень радостно пожимая мне руку, он сказал, что вчера он потому только сбежал с корвета, что боялся остаться среди тамо русс без меня, но что со мною он готов вернуться хоть сейчас и отправиться, куда я пожелаю. Я поймал его на слове и предложил ему отправиться со мною в деревню Бомассия, про которую я только слышал в 1876 г., побывать же там самому мне не удалось.
Кроме Каина, я взял с собою еще и моего амбоинца Яна. В небольшой пироге мы отправились к реке Аю; затем через небольшой приток, по имени Маус, мы переплыли маленькое озеро Аю-Тенгай, окруженное лесом. Около тропинки мы вытащили пирогу на берег и втроем отправились вперед. Часа через полтора мы пришли к деревне, очень похожей на Еремпи. Жители ее сперва было бросились бежать, но несколько слов, сказанных Каином, успокоили их совершенно. А когда я роздал несколько подарков, вся деревня, как мужчины, так и женщины, сбежались, чтобы получить от меня что-нибудь; мужчинам я давал табак и гвозди, женщинам — бусы и красную материю, разорванную на длинные полосы. Здесь, как и в Еремпи, жители людоеды.
Мне хотелось приобрести несколько черепов, но Каин уверил меня, что мозг обыкновенно варится в самом черепе, а затем, когда все уже съедено, кости выбрасываются в море. Мне предложили купить здесь очень интересный для меня, довольно длинный щит, не деревянный, а сплетенный из ротанга. Этот щит приобретен туземцами от жителей Кар-Кара (о. Дэмпир). Так как владелец щита хотел получить за него топор, которого у меня не было с собою, и не хотел доверить мне и подождать уплаты при посредстве Каина, да и самому ему не хотелось идти на корвет, где он мог получить топор, то мне пришлось отказаться от приобретения щита. Тем не менее мне удалось приобрести копье, лук и стрелы весьма тщательной работы и этим пополнить небольшую коллекцию папуасского оружия. Наконечники стрел в особенности были вырезаны очень искусно, с разными зарубками и засечками.
Когда нам подали угощение из вареного таро и т. п., я пожелал узнать, имеют ли здешние жители специальные табиры для угощения, на которых бы подавалось исключительно человеческое мясо. Ответ получился отрицательный. Мне сказали, что человеческое мясо варится в обыкновенных горшках и подается тоже в обыкновенных табирах. Так как сегодня меня не угощали мясом, то на этот раз я мог быть уверен, что мне не преподнесли человеческого мяса. На обратном пути нам пришлось пройти несколько довольно больших и очень хорошо обработанных плантаций. По-видимому, земля здесь особенно плодородна.
Мы вернулись на корвет как раз перед сильным ливнем. От адмирала я узнал, что он намеревается сняться на следующий день. Это меня крайне удивило и опечалило, так как на карту еще не было нанесено и половины обширного порта кн. Алексея. Все бухточки и якорные места около о-вов Рио, Тиара, Грагер и др., т. е. вся южная часть этого порта, не значились еще на карте, сделанной офицерами корвета «Скобелев». Я несколько раз начинал доказывать адмиралу, как было бы хорошо распространить промер и на остальную часть порта. Адмирал, однако, оставался непреклонен, говоря, что уже сделано все необходимое и что лучшей якорной стоянки, чем мы имели около о. Сегу, искать нечего, что ему необходимо крайне дорожить временем, и т. д. Мне было очень досадно, что не русскому военному судну удастся сделать полную карту отличного порта[289].
22 марта. Встав до рассвета, отправился на мостик и сделал эскиз гор Мана-Боро-Боро и архипелага Довольных людей. Сильный противный ветер помешал нам сняться, почему я отправился на небольшой островок, по имени Маласпена, покрытый растительностью и представляющий во многих местах некоторые удобства для причаливания шлюпок. Оттуда я переехал на о. Сегу, отыскал Каина и через него спросил туземцев, которые считают о. Маласпена своим, согласны ли они дать мне этот остров для того, чтобы построить там дом в случае моего возвращения. Все оказались не только согласны, но даже очень довольными, услышав, что я поселюсь недалеко от них.
23 марта. Снялись с якоря в 6 часов, около 8 проходили пролив Изумруд между Новой Гвинеей и о. Кар-Кар. У юго-западной оконечности последнего мы заметили несколько парусных пирог, и часа через три я убедился, что эти самые пироги были вытащены на берег у мыса Круазиль; это послужило мне доказательством постоянного сообщения между туземцами Кар-Кара и жителями материка.
На несколько дней в Австралию
(Из путевых заметок 1887 г.)
I
Пароходное сообщение Европы с Австралией. — Пароход северо-германского Ллойда «Неккар». — Несколько замечаний об Адене. — Острова Келинг, или Кокосовые. — Интересная аномалия кокосовых пальм. — Ловля жемчужных раковин и жемчуга в Индийском и Тихом океанах. — Курьезное поверие о размножении жемчужин.
Я выехал из Петербурга во вторник, 17 (29) марта, рассчитывая быть в Одессе в пятницу вечером; но вследствие недоразумения по поводу поездов я попал туда только в субботу утром. В тот же день, в 4 часа пополудни, я отправился далее, в Александрию, на пароходе Русского общества пароходства и торговли «Чихачев» и на восьмой день по выходе из Одессы, заходя в Константинополь, Смирну и Хиос, прибыл в Александрию. Я намеревался в Порт-Саиде пересесть на пароход «Messageries Maritimes», который должен был быть в Порт-Саиде около 12 апреля нового стиля, на пути в Австралию. По приходе в Александрию, однако ж, я переменил мой план, узнав, что на другой день должен был выйти из Суэца пароход северо-германского Ллойда «Неккар», также отправляющийся в Австралию. «Неккар» ожидал прибытия другого парохода германского Ллойда из Бриндизи, на котором должна была прийти почта и приехать несколько пассажиров. Пароход этот ожидали на следующее утро рано, почта и пассажиры должны были быть перевезены на специальном поезде из Александрии в Суэц. Еще в Петербурге я слышал и читал об этой новой линии между Европой и Австралией. Отзывы об удобстве и скорости пароходов были очень благоприятны, почему я был не прочь собственным опытом проверить слышанное, тем более что я рассчитал, что, отправляясь на германском пароходе, я мог прибыть в Сидней — цель моей поездки — несколькими днями ранее парохода «Messageries Maritimes».
В настоящее время главных почтовых пароходных линий между Австралией и Европой не менее шести: 4 английских (Peninsular and Oriental S. N. С° или так называемое Р. аnd О., Union Steam Ship C° of New Zealand, Orient Line of Stеаmers и Queensland Royal Mail (или British India S. N. C°), одна французская и одна немецкая. Пути каждой линии различные. Пароходы P. and О., выходя из Европы через Аден, идут в Коломбо, а затем следуют в Австралию, заходя в порты Альбани, Аделаида, Мельбурн и Сидней. Пароходы «Orient» обходят мыс Доброй Надежды, а на обратном пути из Австралии, зайдя на свою угольную станцию на острова Чагос в Индийском океане, направляются прямо в Суэц и далее. Пароходы «Queensland Royal Mail» идут из Брисбейна, заходя в главные северо-восточные порты Австралии (Рокгамптон, Макай, Бовен, Тоунсвиль, Куктаун, Тюрсдей-Айланд), идут в Батавию, затем через Galle в Аден, Суэц и т. д.
Американские пароходы «Union Steam Ships C° of New Zеаland», выходя из Сиднея, направляются сперва в Аукланд в Новой Зеландии, а затем через Гонолулу на Сандвичевых островах в Сан-Франциско, откуда пассажиры, выбрав одну из трех железнодорожных линий, переезжают по ней материк Северной Америки и из Нью-Йорка следуют далее в Лондон. Вследствие конкуренции этот интересный путь стоит не дороже пути по Индийскому океану и Суэцкому каналу. Несколько лет тому назад французская линия «Messageries Maritimes» открыла сообщение между Марселем и Сиднеем, откуда почта и пассажиры на пароходах уже меньших размеров отправляются в Новую Каледонию. Со временем предполагается устроить сообщение и с островами Таити. Пароходы французской линии идут из Адена на острова Сейшельские и остров Морис (Иль-де-Франс).
Наконец, в прошлом году открылась еще линия в Австралии, линия северо-германского Ллойда.
Пароходы идут из Бремена, но почта и пассажиры могут нагнать их в Суэце[290], откуда через Аден, Коломбо, заходя в Аделаиду и Мельбурн, приходят в Сидней. Отсюда небольшие пароходы отвозят пассажиров и почту на острова Тонга и Самоа.
Кроме этих шести линий из Европы в Австралию, существуют еще две линии из Европы в Новую Зеландию, имеющую удобное пароходное сообщение с Австралией (всего 4 или 5 дней пути).
Эти линии, имеющие отличные, скороходные пароходы, проходят между Новой Зеландией и Лондоном, via Магелланов пролив, Рио-де-Жанейро и Тенериф.
Все пароходы этих линий вместимость имеют от 3000 до 6000 тонн и более и совершают путь из Австралии в Европу, круглым числом, от 35 до 40 дней.
Стоимость проездной платы в первом классе из Европы в Австралию различна, она меняется от 50 до 70 фунтов стерлингов, смотря по линии, к которой принадлежит пароход, и даже каюте на том же пароходе[291]. За билет туда и обратно цена сбавляется. Билет второго класса стоит от 30 до 35 фунтов стерлингов.
Хотя я и желал отправиться на «Неккаре», но мне показалось необходимым удостовериться в одном важном для меня обстоятельстве, именно, могу ли я рассчитывать на отдельную каюту. Мое нездоровье, во-первых, делало это почти необходимым; во-вторых, даже для человека вполне здорового перспектива прожить с кем-нибудь в одной каюте в продолжение сорока пяти дней была не особенно привлекательна. При высокой цене билета и немалом числе пароходов такая требовательность вполне понятна[292].
Я обратился к агенту германских пароходов за справками; он уверил меня, что при незначительном числе пассажиров первого класса капитан парохода «Неккар», несомненно, предоставит мне отдельное помещение. Тогда я уплатил ему за билет из Александрии в Сидней 63 фунта стерлингов (что при тогдашнем курсе составляло более 700 руб.). Цена эта оказалась равною стоимости билета из Порт-Саида в Сидней на французских пароходах «Messageries Maritimes». Мне не пришлось долго ждать в Александрии, так как на другой день по моем прибытии в этот порт, часам к восьми утра, пришел из Бриндизи пароход германского Ллойда с почтою и несколькими пассажирами, которых ожидал пароход «Неккар». Как только свезли на берег почту, а пассажиры, в числе которых находился и я, расположились по вагонам специального поезда, предназначенного везти нас в Суэц, мы тронулись в путь.
Поезд подвигался очень медленно; в плохих, дребезжащих египетских вагонах было грязно, пыльно и жарко. На одной из станций нас ожидал скверный обед; достаточно было взглянуть на него, чтобы потерять всякий аппетит. Развлечениями во время довольно долгого скучного пути служили виды из окон вагона (физиономия растительности, группы людей в разнообразных живописных костюмах или без оного, постройки в некоторых селениях, через которые мы проезжали, и т. д.) и отличные сочные апельсины. Смотря на красивые виды, я не раз пожалел, что я не художник, и, кушая апельсины, досадовал, что чистить их без ножа и тарелки в пыльном вагоне представляет немало возни.
Только в 12 часу ночи добрались мы до Суэца и не ранее половины первого подъехали на маленьком пароходике к ожидавшему нас под готовыми парами пароходу «Неккар». Не без труда, и лишь при помощи одного из матросов, взобрался я на палубу, так как боль в обоих плечах и руках не позволяла придерживаться за перила, да и вообще я едва держался на ногах от ревматизма. Меня любезно встретил капитан, получивший от агента в Александрии телеграмму о моем приезде, и сейчас же обещал мне отдельную каюту и прибавил, что с величайшим удовольствием сделает все от него зависящее, чтобы устроить меня покомфортабельнее.
Почта была скоро выгружена из маленького пароходика, и я только успел передать агенту германских пароходов телеграмму в Сидней, как «Неккар» двинулся в путь.
Расположение и устройство кают, электрическое освещение, число очень прилично обмундированной, очень вежливой прислуги, одним словом, вся комфортабельная обстановка, которую нетрудно заметить при первом, даже поверхностном осмотре, была для меня приятным сюрпризом ввиду 45 или 46 дней пребывания на этом пароходе. Каюта, которую я занял, была просторна, имела две койки, одну над другою; верхнюю сейчас же подняли[293], так как мне была предоставлена вся каюта; против коек находился довольно удобный широкий диван; между ним и койками два умывальных стола (каюта назначалась для двух) с зеркалом над ними, по обе стороны которого находилось по полке. Каюта освещалась белым шаром электрической лампы. Свет мгновенно потухал и являлся при легком движении небольшой ручки. Около нее находился электрический звонок для прислуги. Обер-стуартом мне был назначен один из wailer’oв (слуга) для специального прислуживания; на нем же и лежала обязанность наблюдать за чистотою и порядком в моей каюте. В каюту, смежную с моею, по приказанию капитана были положены мои вещи. Стюарт пришел сказать мне, что и эта каюта находится в моем распоряжении. Иметь весь свой багаж под рукою было для меня, разумеется, большим удобством. В столовой два ряда электрических ламп, по обеим сторонам обеденного стола, делали эту комнату ночью более светлою, чем днем, глазам, однако же, не было больно, так как лампы были помещены высоко. Над столами, которых было пять или шесть, между двумя рядами ламп висели «понки» (громадные веера, употребляемые в Индии и других тропических странах для доставления искусственной прохлады); они приводились здесь в движение не людьми, как обыкновенно, а паром.
— Есть ли у вас библиотека? — спросил я стюарта.
— Как же, — был ответ. — Прикажете принести каталог?
— А есть аптека? — продолжал я.
— Есть, но ключ от нее находится у доктора, который уже спит (был уже второй час ночи). — Но, если прикажете, его сейчас разбудят, так как он и днем и, если нужно, ночью к услугам гг. пассажиров.
Я заметил, что могу подождать до завтра.
— А ванная есть? — продолжал я расспрашивать.
— Какую прикажете, теплую или холодную? — спросил стюарт. — Если теплую, она может быть готова через четверть часа, а холодную можно иметь сейчас же.
Я сказал, что желаю иметь теплую ванну в шесть часов утра.
— Я передам ваше приказание цирюльнику, на котором лежит обязанность смотреть за исправностью ванн. Какой температуры вы желаете иметь ванну? Ее можно сделать совсем горячую или какой угодно температуры, пуская в холодную воду пар, — пояснил мне стюарт.
Назвав температуру, я продолжал:
— Так у вас и цирюльник есть?
— Как же. Он имеет прекрасное помещение для стрижки волос и бритья гг. пассажиров.
— Может быть, у вас и прачка найдется?
— Есть и прачка. Прикажете отдать ей белье сегодня же или завтра?
На этот раз расспросы показались мне достаточными, и я вернулся в свою каюту, где меня ожидал Фриц, мой временный слуга, чтобы помочь раздеться.
Невольно сравнивая комфорт, найденный мною на «Неккаре», с тем, что я видел на «Чихачеве», мне показалось, как будто я переселился в первоклассный отель с вполне современным комфортом из хорошей гостиницы пятидесятых годов с патриархальными порядками. Я улегся в постель, состоящую из железной рамы и проволочного матраца, покрытого легким волосяным тюфяком.
Так как в каюте вовсе не было жарко (повешенный мною термометр показывал 28 °C), то легкое байковое одеяло нисколько не было лишним. Не было ни малейшей качки, стук и сотрясения от винта почти что не ощутительны. При таких условиях, даже после менее утомительного дня, проведенного в вагоне, было нетрудно хорошо проспать ночь.
На другой день я осмотрел пароход. На палубе первого класса расположена небольшая гостиная и очень комфортабельная каюта для курящих. Пассажиров в первом классе было весьма немного, что являлось немалым удобством. Температура воздуха в Красном море оказалась очень умеренною, и я ни разу не видел, чтобы в моей каюте она превышала 32°; даже при полном штиле фланелевый костюм нисколько не был стеснительным.
Мы пришли в Аден на четвертый день плавания от Суэца. Здесь значительное число пассажиров второго и третьего классов съехало на берег в ожидании парохода германского Ллойда, который должен был перевезти их в Занзибар и новые германские колонии на восточном берегу Африки; большинство же пассажиров осталось на «Неккаре», так как почти все отправлялись в Австралию, и только весьма немногие ехали далее, на острова Самоа.
Здоровье мое не позволяло мне съехать на берег в Адене, да и провести два-три часа в городе при несколькочасовой стоянке в этом порту было бы для меня не особенно интересно, так как это было уже мое третье посещение этого города и в продолжение предыдущих несколькодневных пребываний в Адене мне уже удалось познакомиться с его главнейшими достопримечательностями.
Аден и Коломбо — две самые интересные станции австралийских пароходных линий, но описывать такой город, как Аден, только словами, без иллюстраций, — дело неблагодарное; такое описание не может дать читателю почти никакого представления действительности, т. е. физиономии местности, типе населения и т. п., почему я и ограничусь здесь только немногими замечаниями об Адене; предлагаю тем из читателей, которые пожелают ознакомиться более обстоятельно с подробностями относительно этого интересного и важного для мореплавания пункта, прочесть книгу капитана (ныне майора) Хунтера, правительственного резидента в Адене. В Адене, собственно, два города — старый и новый. Старый представляет остатки очень древнего[294] арабского города, новый же, европейский, был основан англичанами в 1839 г. и сделался важною угольною станциею для коммерческих пароходов всех наций и не менее важным пунктом для британских военных судов во время войны. Кроме того, новый Аден обратился в удобный вклад для продуктов западного берега Африки, Аравии и отчасти Персии. Поводом, поведшим к приобретению Адена, послужило разбитие английского судна, которое было разграблено жителями Адена. Англо-индийское правительство овладело городом в 1837 г., а в 1839-м принялось за основание нового Адена около порта. В 1850 г. Аден был объявлен порто-франко. Устройство и содержание этого города делают большую честь предприимчивости и энергии англичан. Все правительственные здания построены прочно и хорошо, город удобно расположен и содержится опрятно. Климат, несмотря на довольно высокую температуру (средняя годовая температура 21.4°), вероятно благодаря своей сухости, сравнительно здоров, так что сюда посылают из Индии больных для поправления здоровья. Несмотря на то что дождь в Адене редкое явление, вода здесь отличная, так как вся она, по крайней мере та, которую употребляют европейцы, дистиллирована из морской воды[295]. Фабрика, где дистиллируют воду, и рядом с ней другая, где выделывают искусственный лед, — два учреждения, очень важные для благосостояния европейского населения в Адене. Тонна дистиллированной воды стоит 13 шиллингов (около 4 руб.).
Живописные, но голые скалы Адена представляют хороший пример того, насколько отсутствие растительности делает пейзаж безжизненным и монотонным; только при вечернем и утреннем освещении серые скалы представляют иногда неожиданно световые эффекты. Если ботаник не найдет в Адене богатой добычи, зато для антрополога и этнографа разнообразное и меняющееся население Адена может представить обильный материал для изучения. Помеси разных семитических и негритянских племен могут выяснить при этом немало вопросов относительно скрещивания и образования новых рас.
Значение Адена ежегодно возрастает, и он смело может считаться самым важным портом и городом для европейцев на Аравийском полуострове. Его значение, разумеется, было поднято тем обстоятельством, что он сделался важной станцией для почтовых пароходов; не проходит дня, чтобы в порт не пришел один или несколько пароходов из Европы, идущих в Японию, Китай, на острова Тихого океана, в Австралию, Индию и берега Западной Африки, или возвращающихся обратно.
Английский гарнизон в Адене обыкновенно значительный и, несмотря на кажущуюся безопасность со стороны Аравийского материка, англичанам не следует упускать из виду, что все население внутри страны более или менее враждебно европейцам и, воодушевленное фанатизмом, может при случае оказаться серьезным их врагом, несмотря на все превосходство европейского вооружения. Майор Хунтер, правительственный резидент в Адене, спрошенный мною во время одного из посещений моих Адена о возможности путешествия сухим путем из Адена в Мокку, Лахаию или прямо в Джедду, ответил мне, что считает такое предприятие рискованным, потому что в нескольких милях расстояния от города жизнь европейца не в безопасности.
Главные жизненные припасы привозятся не с аравийского, а с ближайшего африканского берега[296]. Это обстоятельство представляет немалое удобство, так как во время войны, например, эта доставка может быть прервана или очень затруднена неприятельскими судами. Для молодых колоний, как Обок (французской) и Ассаб (итальянской), близость Адена весьма удобна. Здесь новые колонисты могут найти всегда главнейшие предметы, необходимые европейцу, а также при посредстве этого порта они находятся в правильном и часто пароходном и телеграфном сношениях с Европою. О новых колониях я в Адене узнал очень мало и полагаю, что в Париже и в Риме, пожалуй, легче узнать что об них, чем в соседнем им Адене. Во всяком случае там возможно найти кое-какие брошюры и отчеты об этих колониях, что в Адене мне не удалось, несмотря на все старания[297].
Пароход «Неккар» на пути в Коломбо прошел очень близко от острова Сокоторы, острова, на котором недавно был поднят британский флаг, и остров этот включен в число стран, находившихся под протекторатом Великобритании. Султан на острове Сокоторе получает теперь небольшую субсидию, под условием заботиться об экипажах европейских судов, которые нередко разбиваются у берегов Сокоторы[298]. Остров Сокотора был посещен года 4 тому назад известным ботаником г. Швейнфуртом, который остался, как мне говорил при нашей встрече в Александрии в 1883 г., очень доволен своею экскурсиею, давшей несколько интересных результатов по географии растений.
Г. Швейнфурт отправился на остров Сокотору и вернулся оттуда на английском военном судне, которое несколько раз в год из Адена посещает Сокотору и разные местности аравийского и африканского берегов.
На седьмой день пути из Адена мы пришли в Коломбо, откуда, после несколькочасовой стоянки направились к западному берегу Австралии.
30 апреля (нов. ст.) мы прошли острова Кокосовые, или Келинг[299], посещенные в 1836 г. Дарвином и описанные им в его кругосветном путешествии (в 9-й главе II тома). Эти острова, когда были открыты в 1608 г. капитаном Келингом, не имели жителей; они были заселены сперва в 1823 г. неким Александром Хером (Alexander Hare), привезшим с собою из Батавии несколько десятков малайцев и целый гарем малайских женщин. В 1826 г. прибыл на острова капитан Росс (J. С. Ross), который ранее несколько раз бывал на островах Келинг. На этот раз он окончательно здесь поселился со всей семьей и стал заниматься выделкою из кокосовых орехов копры[300]. К нему присоединились скоро малайцы, привезенные Хером, так как последний дурно с ними обращался. Это обстоятельство заставило Хера покинуть острова Келинг, и Росс остался один с своим помощником Лиском и малайцами. При посещении островов «Биглем» малайцев с женщинами и детьми было более сотни; теперь, как я слыхал, их несколько сотен. Несмотря на то что капитан Росс был совершенно другой человек, чем Хер, и старался не подавать причин к неудовольствию окружавших его малайцев, но и против него составился заговор, имевший целью убить его, чтобы завладеть его имуществом. Исполнение этого заговора не состоялось, так как он был вовремя открыт женою (малайкою) Росса и вследствие энергичных мер, принятых семьею Росса.
Сыновья капитана Росса, полукровные, получили в Батавии европейское образование и теперь, по смерти отца, продолжают начатое им дело, делая громадные запасы копры для вывоза, разводя новые плантации на других островах.
Когда года два или три тому назад многие из островов Тихого океана были заняты Германией, то и на острова Келинг британское правительство, во избежание недоразумений, сочло подходящим послать из Сингапура военное судно с приказанием поднять там британский флаг. Это было, если не ошибаюсь, в конце 1886 г. Посылкою этого судна воспользовался один мой знакомый, г. С. из Мельбурна, и провел недели две на этих интересных для естествоиспытателей островах. Так как г. С. особенно интересовался ботаникою, то он проверил и, может быть, дополнил наблюдение Дарвина, который, как известно, нашел здесь, кроме одного вида мха, одного вида лишая, одного гриба, одного дерева, которое за отсутствием цвета не мог определить, и другого, о котором только слышал, всего-навсего только 20 видов растений, из которых 19 принадлежали к различным родам.
Между фотографиями, привезенными г. С. с острова Келинг, одна особенно заинтересовала меня. Она представляла кокосовую пальму со множеством побочных ветвей. Пальма эта была показана г. С, одним из молодых Росс, который прибавил, что таких кокосовых пальм находится несколько на островах Келинг. Подобная аномалия между кокосовыми пальмами, насколько я знаю, была неизвестна до сих пор и покажется новинкою для ботаников[301]. Виденная мною на одном из островов близ Новой Гвинеи кокосовая пальма с тремя главами совершенно отлична от пальмы на островах Келинг. Там ствол у самой верхушки разделялся как бы на три ветви одинаковой толщины[302], здесь же почти что от самого корня от ствола отделяются миниатюрные ветви.
Шхуна, принадлежащая братьям Росс, раза два в год ходит с островов Келинг в Батавию, так что естествоиспытатель, который пожелал бы посетить эту интересную местность, не найдет много затруднений, чтобы добраться туда.
Погода стояла отличная, Индийский океан имел вид не моря, а спокойного громадного озера; а между тем, как я узнал по прибытии в Аделаиду, не далее как недели две тому назад в этих широтах разразился такой шторм, что целая флотилия мелких судов, служащих для ловли жемчужных раковин и жемчуга, была почти что уничтожена.
21 апреля, в 8 часов вечера, флотилия эта была на якоре вдоль местности, известной под именем «Ninety mile Beach». Уже вечером налетали шквалы, которых сила увеличилась постепенно ночью. К утру шторм все крепчал, так что многие из судов были сорваны с якоря и унесены в море, где были залиты волнами и затонули. К трем часам пополудни ни одного судна не оставалось на якоре, все были унесены в море и находились в самом печальном положении, многие погибли. На следующее утро шторм стал уменьшаться, но весьма немногие из судов оказались уцелевшими; несколько шхун, около 20 люгеров и других судов разной величины погибли, причем утонуло около 250 человек.
Несколько слов о ловле жемчужных раковин[303] и жемчуга в Индийском и Тихом океанах, могут, может быть, показаться интересными.
Как известно, богатые рифы жемчужных раковин находятся в Индийском океане, у западного берега острова Цейлона между 8 и 9° с. ш., у берегов Кондатчи, Арино и Манаар; ловля их составляла монополию британского правительства. Вследствие долгой бесконтрольной ловли раковин рифы там вдруг так оскудели, что доход пал с 120 000 на 10 000 ф. ст., почему ловля жемчужных раковин в этих местностях была прекращена британским правительством[304] на 16 лет (от 1838 до 1854 г.). Это обстоятельство было поводом, что предприимчивые люди стали разыскивать новые рифы и эксплуатировать случайно открытые, где ловля жемчужных раковин и жемчуга оказалась в разной степени доходною. Между островами Тихого океана архипелаг Поумоту особенно прославился в этом отношении, особенно когда распространился слух о нескольких ценных жемчужинах, привезенных оттуда миссионерами в Вальпарайсо, о доставке в Европу агентом торгового дома Годефруа и Ком. пакета жемчужин, ценностью с лишком в 20 000 долларов, которые были собраны им в несколько месяцев при объезде островов этого архипелага. Лет двадцать или тридцать тому назад доходы, которые наживались разными шкиперами, выменивавшими у туземцев жемчужные раковины и жемчуг на европейские вещи, были громадны; так, например, за простой железный топор островитяне платили в иной местности по тысяче жемчужных раковин. Иным из этих шкиперов они доставались еще дешевле; так, например, некий «каптен Рагг» (Rugg), хорошо известный лет тридцать тому назад в восточном Тихом океане, имел обыкновение периодически обходить на своей шхуне острова Поумоту и, разузнав о заготовленном для продажи складе жемчужных раковин, просто забирал его вооруженной силою. Эти времена, конечно, прошли или проходят и наживаться шкиперам и тредорам[305] с каждым годом труднее; однако я сам помню, что на островах Мангарева в 1871 г. мне не раз предлагали довольно крупную жемчужину за рубашку. При отправлении тогда в Новую Гвинею рубашка для меня представляла гораздо большую ценность, чем даже очень крупная жемчужина. Во время посещения моего островов Адмиралтейства в 1877 г, я видел, как тысячи жемчужных раковин и другие произведения островов уплачивались бисером, который тредоры отмеривали маленькими наперстками. За большую жемчужную раковину, иногда за пару, туземцы получали наперсток мелкого, стеклянного бисера, количество, представлявшее такую незначительную ценность, что ее даже трудно определить; барыш, получаемый европейцами при этой торговле, может насчитываться смело сотнями процентов[306]. Количество вывезенных с островов Поумоту жемчужных раковин было за последние 25 или 30 лет приблизительно 25 000 тонн, ценностью более чем 1 млн. фунт. стерл. В настоящее время вывоз с этих островов упал с тысячи тонн на двести в год. Как в Индийском океане, так и здесь рифы заметно оскудели, разумеется, только на время, так как приблизительно шесть или семь лет требуется для жемчужной раковины, чтобы дорасти до величины, имеющей значительную торговую ценность[307]. В последних годах со многих островов Меланезии (островов: Адмиралтейства, Луб, Луизиады и др.) стали вывозить жемчужные раковины, выменивая у туземцев. Систематическою ловлею жемчужных раковин теперь занимаются европейцы у западного и северо-западного берегов Австралии и в Торресовом проливе.
Простых водолазов, ныряющих просто или иногда опускающихся при помощи камня (от 15–25 фунт. веса), который они выпускают из рук, как только достигают дна, заменили по берегам Австралии водолазы, облаченные в полный водолазный аппарат. Экономия труда при последнем способе ныряния громадная Между тем как первые могут оставаться под водою от 50 до 60 секунд и только весьма немногие от 80 до 84 секунд, водолаз, ныряющий в водолазном костюме, работает по нескольку часов сряду, не подымаясь со дна моря. Туземные пироги и лодки, где, как, например, около Цейлона, род «колдуна» или «заговорщика»[308] был необходимым человеком при ловле, без которого водолазы, буддисты, магометане и даже христиане[309], не осмеливались нырять, заменились здесь хорошими европейскими кутерами, экипаж которых состоит из хорошо оплачиваемых водолазов и матросов.
У западного берега Австралии в 1860 г. ловля жемчужных раковин была ограничена Акульею бухтою (Shark Bay, 26° Lat. S.), где раковины были малы и не представляли большой ценности. Несколько лет промышленность эта была очень незначительна, когда неожиданная находка очень ценных жемчужин быстро подвинула промысел. Лучший класс судов заменил прежний, и выписанные или привезенные водолазы-малайцы и полный водолазный аппарат для них стал необходимою принадлежностью каждого судна; затем рифы к северу от Акульей бухты были исследованы и доставили лучшие жемчужные раковины и немало первоклассного жемчуга. Промысел так увеличился, что правительство колонии Западной Австралии назначило специального чиновника, который имеет в своем распоряжении небольшой кутер для периодического посещения флотилии жемчугопромышленников. Его обязанность состоит в инспекции судов, раздаче свидетельств на право ловли, разборе ссор между промышленниками и наблюдении за верной уплатою вывозной пошлины раковин.
Рифы жемчужных раковин здесь тянутся от Акульей бухты к северу до 25° ю. ш. и могут быть эксплуатированы только во время больших отливов, т. е. от 6 до 8 дней каждый месяц, и то не круглый год, а только от апреля до сентября.
Суда, употребляемые для этого промысла, от 5 до 50 тонн вместимости, и большинство их представляет тип кутеров. На них находятся 2 или 3 белых, человек 5–6 темнокожих (малайцев, полинезийцев и австралийцев). Как только судно сделало достаточный запас жемчужных раковин, оно возвращается к берегу, чтобы сдать груз и снова отправиться на риф. На берегу животное, отделенное от раковины, бросается в бочки, где их предоставляют гниению. По временам бочки потрясывают, чтобы освободить жемчуг от сгнивающего тела моллюсок, причем жемчужины падают на дно бочки; зловоние при этом бывает крайнее, к которому, однако ж, промышленники скоро привыкают. Когда моллюски совершенно сгнили, зловонную жидкость осторожно сливают, а осадок на дне бочки промывают самым тщательным образом, чтобы не потерять ни одной жемчужины. Жемчужные раковины затем упаковываются плотно в деревянные ящики и отправляются в Лондон и Америку.
По последним статистическим данным, по берегам Западной Австралии около 1000 человек заняты жемчужным промыслом, из которых одна треть малайцы. Промышленники предпочитают, однако же, услуги австралийцев, так как с ними ладить легче. Малайцы имеют здесь репутацию опасных людей, которые недолго думают, при удобном случае, зарезать белых и вернуться домой на забранном судне.
Промысел этот существует, как я сказал, также и в Торресовом проливе, как и у западного берега Австралии, хотя на совершенно других основаниях. Опыт показал, что полинезийцы и малайцы гораздо лучшие водолазы, чем белые, почему ловля жемчужных раковин предоставлена преимущественно первым.
На разных островах Торресова пролива находятся станции промышленников, которые не владетели, а только агенты разных сиднейских фирм. Такие станции состоят из дома агента, или так называемого manager’а, другого для людей, магазина для раковин и разных принадлежностей для ловли и судов, кухни и т. д. Постройки большею частью из цинкованного железа, очень удобного материала для временных построек в тропических странах. Эти станции служат для хранения запасов различного рода, как провизии для людей и вещей, для ремонта судов и водолазных аппаратов; здесь же, на этих станциях, совершаются разные починки, получаются раковины, чистятся и упаковываются для отправки в Сидней. Живущие на таких станциях manager и плотник обыкновенно белые, остальные — темнокожие.
Подобных станций было при моем посещении Торресова пролива в 1880 г. около 12, которые имели 88 судов, от 5 до 8 тонн вместимости; средину этих лугеров и кутеров занимал обыкновенно аппарат для водолаза. В Торресовом проливе уже несколько лет как все нырянье за жемчужными раковинами производится при помощи водолазного аппарата. На 88 упомянутых судах 70 имели водолазный аппарат и только 18 имели водолазов, нырявших без аппарата. Цена такого кутера с аппаратом в Сиднее, где они строятся, 400 фунт. стерлингов. Доставка кутера из Сиднея в Тюрсдей-Айланд (пароходной станции в Торресовом проливе) на почтовом пароходе стоит 40 фунт. стерл. Были не раз сделаны попытки послать кутера под парусами из Сиднея в Торресов пролив, вдоль австралийского берега, но такие попытки никогда не окупались. Водолаз — капитан судна; кроме его помощника, обязанность которого состоит в том, чтобы помогать водолазу во всем при его работе, т. е. одевать и раздевать его и заботиться, чтобы все было бы исправно, когда водолаз работает под водою, на судне находятся еще 4 матроса.
Плата водолазу не малая, немногие берут менее 200 фунт. стрел. в год; многие получают от 5 до 10 фунт. в месяц и значительный процент с каждой тонны раковин. Бывают года, когда водолаз зарабатывает 350 фунт. стерл. и более. Жалованье матросов — полинезийцев и малайцев — два фунта в месяц. Водолаз нанимается обыкновенно на три года. Провизия, которую получает экипаж этих судов, очень хороша, но им не полагается спиртных напитков.
Водолаз собирает раковины на глубине 8 сажен, редко более 10. Раковины лежат свободно, т. е. не прикрепленные к скалам, хотя иногда почти что совсем бывают покрыты песком. Когда в случае ветра водолаз не может работать, он с помощником принимается за очистку раковин.
Тело раковин выбрасывается за борт; когда раковин набрано достаточно, т. е. приблизительно каждые две недели, суда возвращаются на станции для сдачи груза; там перед принятием раковин в магазины их считают и вешают, и аккуратная ведомость, сколько было поймано каждым судном, ведется агентом.
Раковины во второй раз чистятся, обмываются, край обламывается, а затем раковины упаковываются в ящики для отправки в Сидней, а затем в Англию. Обыкновенная цена тонны перламутровых раковин около 120 фунт. стерл., но она доходила до 280 фунт. стерл. Каждый кутер добывает круглым числом около 7 тонн раковин в год.
В 1878 г. было собрано и вывезено 449 тонн, ценностью в 53 тыс. 21 фунт. стерл. Ценность в том же году вывезенных жемчужин была всего 230 фунт. стерл. Незначительное количество жемчуга, вывозимого со станции Торресова пролива, происходит от того, что агенты редко получают их, они остаются в руках водолаза и матросов, которые продают их на стороне. Насколько я слыхал, весьма немногие жемчужины превышают здесь цену 40 фунт. стерл., средняя цена хороших жемчужин от 5 до 8 фунт[310].
Что промышленники обращают главным образом внимание на жемчужные раковины, которые имеют значительную цену и на которые существует постоянный спрос, неудивительно еще по тому обстоятельству, что иногда в нескольких сотнях раковин не найдется ни одной жемчужины, между тем так в иной их находится 30, 40, иногда 100 различной величины.
Почти что каждый год в окрестностях Торресова пролива открываются новые рифы, так что этот промысел имеет перед собою значительную будущность.
Курьезное поверье о жемчуге существует в Сингапуре, не только между малайцами, но и между европейцами. Это поверье состоит в том, что некоторые лица, основываясь на опыте, убеждены, что можно «разводить» жемчуг. Уверяют, что если положить несколько (4 или 5) жемчужин в ящик с несколькими (15 или 20) зернами сырого, т. е. невареного, риса и оставить его, не трогая в продолжение значительного времени (приблизительно года), то, открыв ящик, можно найти (но не всегда, вставляют они) на дне ящика некоторое число очень маленьких жемчужин и заметить, что и большие жемчужины увеличились в объеме. Если ящик или коробку снова закупорить и не трогать в продолжение шести месяцев или года, и тогда снова посмотреть, что стало с жемчужинами, то окажется, что жемчужины стали больше и что явилось несколько новых жемчужин. Зерна риса при этом тоже оказываются измененными. Концы у некоторых как будто откушены, и уверяют, что число новых жемчужин соответствует числу зерен риса с откушенными концами. Дамы особенно часто занимаются этими опытами, держат жемчужины в ящиках по двадцати лет и уверяют, что, положив несколько жемчужин, получают несколько десятков новых, которые с годами увеличиваются. Не только дамы убеждены в верности факта размножения жемчужин, но многие образованные люди положительно верят в него, хотя и допускают, что эти опыты не всегда удаются. По вопросу о размножении жемчужин можно найти в естественно-научном журнале, который издается в Сингапуре[311], несколько статей, автор которых очень склонен, как кажется, верить в возможность такого размножения.
Если разводить жемчуг при помощи риса окажется самообольщением, то разведение самих жемчужных раковин в подходящих для разводки местностях будет делом весьма возможным, так как доктор Келаар (Kelaart) доказал своими исследованиями цейлонских рифов, что жемчужные раковины можно без вреда для них переселять из одного места в другое, даже в воду не особенной солености; поэтому искусственное разведение жемчужных раковин окажется совершенно простым и доходным промыслом, за который, однако же, можно будет приняться тогда, когда рифы в океанах Индийском и Тихом не будут доставлять достаточной добычи и прибыли, что еще нескоро будет.
Н. Миклухо-Маклай
II
Насадка леса в Южной Австралии. — Китайский вопрос. — Бедствие от кроликов. — Введение новой религии на островах Тонга.
Утром, 5 апреля (н. ст.), на 23-й день пути из Суэца, можно было разглядеть с палубы северо-германского Ллойда «Неккар» ряд низких холмов, а под ними белую линию песчаного берега. Открывшаяся земля была юго-западная оконечность австралийского материка. Мы проходили в таком отдалении, что селения Альбани не было видно, и с берега, на сигнальной станции, наш флаг не мог быть узнан, почему о приходе почтового парохода «Неккар» в Австралию было извещено по телеграфу во все главнейшие города не из Альбани, как обыкновенно, а из Аделаиды, куда мы пришли двумя днями позже.
Недавно оконченная железная дорога из Аделаиды в Мельбурн дает теперь возможность путешественникам отправляться сухим путем в Мельбурн (около 12 час. пути) и в Сидней (около 30 час). При моем нездоровье, однако же, мне не только нельзя было и думать воспользоваться этим удобством, но даже не пришлось съездить на берег в Аделаиде, хотя «Неккар» простоял там около 20 час.
Между немалым числом посетителей, которые поинтересовались осмотреть пароход новой почтовой линии, нашлось несколько лиц, с которыми я познакомился при моем первом посещении Аделаиды в 1882 г. От них я имел случай узнать довольно подробно о результатах опыта, о котором я слышал уже ранее, именно о попытке насадки леса в безлесных дотоле долинах колонии Южной Австралии. Консерватор правительственных лесов г. Джемс Браун, занявшись этим делом, доказал, что с необходимыми знаниями и искусством разные деревья могут быть посажены и расти хорошо в безлесных до тех пор, даже очень сухих местностях. Первый опыт был сделан в лесном резерве Бундалери, находящемся недалеко от городка Джемстауна, в 150 милях на север от Аделаиды и в 40 милях на запад от порта Пири, на заливе Спенсер. Резерв этот находится на 1500 фут. над уровнем моря и защищен от NW рядом голых холмов. Количество дождя за последнее лето было в этой местности не более 13 дюймов, так что эта местность должна считаться очень сухою. Почва в резерве недурная и состоит из красноватой глины.
Величина резерва 22 тыс. акров, но из этого количества только тысяча акров была занята плантацией. Деревья были посажены в 1878 и 1879 гг. В настоящее время средняя высота их 35 фут., многие 40 и 50 фут. вышины, между тем как некоторые, посаженные в особенно благоприятных условиях, достигают вышины 65 фут. Большинство деревьев имеет здоровый вид, и объем стволов, в нескольких футах от земли, достигает от 2 до 5.5 футов, немногие — 6 футов. Деревья, составляющие плантацию, принадлежат к видам: Eucalyptus Globulus, E. Carynocalyx, E. Leucoxylon, E. Roswata, E. Cornuta и Е. Diversicolor.
По мнению г. Брауна, самое ценное дерево между остальными есть южноавстралийский Е. Carynocalyx. Достигши полного роста, Е. Carynocalyx представляет самое большое дерево сравнительно с остальными, растет скоро, и дерево его считается лучшим, чем другие виды Eucalyptus. Г. Браун имеет заказ от управления телеграфов на доставку 5000 телеграфных столбов, который он надеется выполнить в продолжение двух лет. За каждый столб он получит по 7 шиллингов и 6 пенсов (около 2 р. 25 к.), и вырубка деревьев с этой целью, по его мнению, не только не уменьшит ценности леса, а, напротив, окажется полезною для дерев, которые в настоящее время стоят слишком часто.
Резерв вполне окупается. Наем земли под пастбище и продажа дерева составляют источники дохода, который в прошлом году представлял уже 2578 фунт. стерл. Расходы по плантации не превышали 1387 фунт. стерл., так что баланс в пользу резерва был 1191 фунт. стерл. Деревья резерва уже так велики, что скот не может вредить им, и уже 4 года лесная плантация отдается внаем под пастбище, что приносит 2 шил. 8 пенс. за акр.
Г. Браун изучал лесоводство в Европе и в Америке и, познакомившись обстоятельно с климатическими условиями Южной Австралии, одолел препятствия, и устроенные им плантации представляют хорошее доказательство его знания дела. Некоторые из деревьев сеются прямо в землю, а затем пересаживаются; для других, более нежных, применяется следующая система. Бамбук или род камыша (Arunda donex) режется на куски, дюймов 5 длиною, таким образом, что оба конца остаются открытыми; вырывается яма в земле, в нее вставляются отрезки бамбука, которые наполняются подходящею землею, и затем в каждый бамбук сажается по зерну. Таким образом в этих ямах вырастают много тысяч молодых деревьев, из которых каждое растет в отдельном бамбуке. Во время рассадки, бамбуки вынимают из ямы и в ящиках развозят куда потребуется. Бамбук с деревцом опускается в землю, и таким образом пересадка совершается, не тревожа корня. Бамбук скоро сгнивает, так что удаления его не требуется. Сеяние деревьев производится в январе и в феврале, пересадка же от июня по октябрь.
Для плантации земля приготовляется вспахиванием глубиною от 7 до 8 дюймов. Прежде полагали, что один раз вспахать землю было достаточно, теперь же нашли лучшую систему: земля, назначенная под плантацию, отдается внаем фермерам под пшеницу на 1 или 2 года, за что фермеры платят по 4 шилл. 6 пенс. за акр в год. Таким образом, плантатор леса за вспахивание не только ничего не платит, но получает еще деньги за наем, и земля после двухгодовой обработки делается более пригодною для посадки деревьев, чем была в своем девственном состоянии.
Прежде деревья сажали в 16 фут. друг от друга, что, однако же, требовало подрезания ветвей, теперь их сажают в расстоянии от 6 до 8 фут., вследствие чего подрезание ветвей делается ненужным. Расходы всякого рода по первоначальному устройству плантации и забота о деревьях в продолжение первых двух лет стоят около 3 фунт. стерл. за акр. Г. Браун убежден, что лес достигнет полного роста через 30 лет и будет иметь тогда ценность 100 фунт. стерл. за акр.
Правительство Южной Австралии очень интересуется насаживанием леса в колонии, и парламент вотирует ежегодно 300 фунт. стерл. для даровой раздачи молодых деревьев, что дает возможность г. Брауну раздавать ежегодно по 300 тысяч дерев. В продолжение последних пяти лет 1 200 000 деревцев были розданы таким образом; кроме того, правительство колонии платит по 2 фунт. стерл. премии за акр успешно разведенной плантации.
Просматривая австралийские газеты, которые были присланы редакциями двух главных газет в Аделаиде на пароход для пассажиров, и прислушиваясь к разговорам новых наших спутников из Аделаиды в Мельбурн и Сидней, мне нетрудно было угадать, какие вопросы выступили за последнее время на первый план. Это было для меня тем более возможно, что, прожив около семи лет в Австралии, я всегда следил с интересом за общественною жизнью и главнейшими происшествиями в австралийских колониях, а мое пребывание в Европе было сравнительно короткое.
Очень много толковали о совещаниях «имперской конференции», которая продолжала заседать в Лондоне, но никто здесь в колониях не придавал ей большого значения, и большинство очень критически относилось к ее деятельности. Разумеется, в таких случаях угодить всем бывает очень трудно. Между тем как воинственно настроенные австралийцы были довольны, что вопрос об обороне Австралии занимал в прениях конференции видное положение, более мирные считали это ошибкою. Один из представителей последней группы как-то в кают-компании, бросив на стол прочтенную им газету, разразился следующим монологом: «Спорят они (члены имперской конференции) там, где следует строить крепости: в Альбани, в Порт-Дарвине или в Торресовом проливе, а никто и не подумает поднять вопрос, чтобы по крайней мере главнейшие законы были бы у нас те же в разных австралийских колониях. А то, что в одной колонии запрещено законом, закон соседней разрешает, санкционирует. Не глупо ли, — продолжал он с азартом, — подобное положение дел? Хочет человек жениться на сестре умершей жены — если он живет в Сиднее, закон это не дозволяет, и ему приходится съездить в Мельбурн, где он может вступить в брак сообразно желанию и с полнейшей санкцией закона». Ему стали возражать, что этот закон о браке с сестрой умершей жены (закон, о котором было наговорено очень много в Англии и в колониях) представляется сравнительно с вопросом об обороне колоний очень незначительной важности и т. д. Но речи, произнесенные на конференции, содержание которых было передаваемо телеграфом, производили здесь немного действия, так как у всех было убеждение, что все ораторство членов конференции не может нисколько связать колониальные правительства1. Совершенно иначе относилось большинство людей, которых мне на этот раз пришлось встретить в Австралии, как только разговор касался китайцев. Здесь индифферентное выражение мнения заменялось сейчас же очень определенным приговором и в большинстве случаев очень ожесточенными нападками на колониальные правительства, что они допускают вообще приезд «желтолицых» в колонии.
Отношения белых с китайцами, которые в Австралии никогда не были нормальны, обострились в последние годы. Европейское рабочее население, не могущее конкурировать с китайцами относительно заработной платы, имея в Австралии значительное влияние на парламент, всевозможными мерами стало стеснять эмиграцию китайцев, наложив так называемую «poll tax», в 10 фунт. стерл. на каждого приезжающего; связало пароходные компании относительно числа китайцев, которых каждый пароход мог привозить в Австралию, назначив большие штрафы в случае неисполнения новых правил. Все это не помогло. Ежегодно китайцы прибывали, и китайские кварталы пополнялись. Китайцы, несмотря на разные несправедливости со стороны белых, мирно работают, довольствуясь сравнительно с европейцами значительно меньшей платой.
Озлобление рабочих классов европейского населения против китайцев доходит нередко до того, что насилия разного рода над китайцами стали обыденным явлением. Доходит до того, что среди белого дня жизнь китайца в главных городах Австралии не может считаться совершенно вне опасности. Я помню случай в одном из предместий Сиднея, когда совершенно безобидный китаец, продавец овощей, был смертельно ранен. Несколько уличных мальчишек и молодых людей, принадлежащих к классу людей, для которого в Австралии существует особенное название «larrikin»[312], преследовали этого несчастного сперва насмешками, затем бранью, затем комьями грязи, пока, наконец, булыжник, раздробивший китайцу череп, не свалил его. Тогда недалеко стоявший полисмен счел своей обязанностью позвать кеб и свезти раненого в больницу, где последний на другой день умер. Имена некоторых преследовавших китайца молодых людей были записаны полисменом и затем они притянуты к ответственности. Их судили. Убийца, не отрицавший своей виновности, оправдывался тем, что бросил грязью, а не камнем. Это объяснение показалось, однако ж, совершенно удовлетворительным присяжным, которые почти сейчас же вынесли оправдательный приговор.
Полная безнаказанность европейцев или самые легкие наказания, как штрафы, несколькодневный арест в случаях самого серьезного насилия против китайцев, имели результатом, что при враждебном отношении рас жизнь последних на улицах, особенно по вечерам и ночью совершенно не безопасна. Если бы европейцам, живущим или путешествующим в Китае, пришлось бы подвергаться такому налогу при въезде в Китай (который китайцы платят, приезжая в Австралию), а главное, тем неприятностям и опасностям, которым китайцы подвергаются ежедневно в Австралии, все европейские газеты каждый день были бы переполнены сообщениями возмутительных фактов, жалобами и требованиями прекращения такого положения дел. Китайцы пока молчат и продолжают ежегодно прибывать в разные порты Австралии.
Поэтому приезд китайских комиссаров, генерала Вон-Юнг-Хоу и господина У-Цин в Австралию, последовавший в мае этого года, несколько удивил правительство австралийских колоний и австралийскую публику. Цель прибытия комиссаров состояла в исследовании положения китайцев вообще и китайской торговли в разных местностях, где китайцы поселились, и доставке полного отчета этих исследований китайскому правительству. Генерал Вон-Юнг-Хоу, по словам австралийских газет, мандарин 2-го разряда, человек лет 40, с приятными, весьма учтивыми манерами, выразительным, добродушно-хитрым лицом. Во время восстания тайпингов он был переводчиком при генерале Гордоне и помнит хорошо хартумского героя. Он отлично говорит по-английски. Его настоящая миссия началась в сентябре прошлого года, когда он выехал из Гонконга в Сингапур, Малакку, Пинанг, Перак, Борнео, Яву, Суматру, Манилу, Австралию и Рангун.
Комиссары были очень любезно встречены в главных городах Австралии, где осматривали все достопримечательности и старались убедиться в положении своих соотечественников.
Вряд ли, однако ж, их миссия много послужит улучшению положения китайцев в Австралии, сомнительно, что после такого хорошего приема со стороны австралийских властей отчет о несправедливостях, претерпеваемых их земляками в Австралии, будет достаточно беспристрастен. Не успели комиссары выехать, как митинги рабочих в разных городах Австралии начали требовать от колониальных правительств повышения таксы для китайцев при приезде в Австралию, которую они требуют повысить до 100 фунт. стерл., и, кроме того, назначить ежегодную таксу (на право жительства в Австралии) в 20 фунт. стерл. На одном из таковых собраний обсуждался даже серьезно вопрос просить правительство обязать всех приезжающих в Австралию китайцев обрезать себе косы. Хотя в Австралии не дошли еще относительно китайцев до таких возмутительных несправедливостей, как в Западных Соединенных Штатах, но это, кажется, скорее вопрос времени. Останется ли китайское правительство индифферентным зрителем подобных нарушений международного права, получив отчет посланных комиссаров, пока еще остается неизвестным. Во всяком случае разные представители рабочего сословия, которых я видел в Мельбурне и Сиднее, уверяли меня, что добьются от колониальных правительств таких мер, которые прекратят окончательно эмиграцию китайцев в Австралию. «Но на такие меры колониальных правительств имперское британское правительство навряд ли согласится, — возразил я на предыдущее заявление. — Ведь китайское правительство войдет в сношения по этим вопросам не с австралийским, а с имперским правительством».
— Если имперское правительство в данном случае не исполнит желания австралийского народа и станет поддерживать китайцев, так тем лучше для нас, австралийцев, — отвечали мне, — тем скорее Австралия будет самостоятельною.
Такое мнение, однако ж, популярно лишь в крайнем демократическом лагере; более разумные, которые пока составляют громадное большинство, считают отделение австралийских колоний от Англии еще несвоевременным, хотя убеждены в то же время в его неизбежности, но не теперь, не скоро, а со временем.
Другой «непрошеный» гость в Австралии, который стоит колониальным правительствам больше всяких китайцев и от которого, оказывается, труднее отделаться, чем от последних, не кто иной, как — странно сказать — довольно в других местах безобидное животное — кролик.
В Сиднее в мае месяце мне передавали за факт, что правительство колонии Нового Южного Уэльса имеет намерение предложить премию в 25 тыс. фунт. стерл. (или, при настоящем курсе, около 260 тыс. руб.) за лучшее средство истребления кроликов. Премия будет выдана после того, как предложенное средство, обстоятельно испробованное, окажется удовлетворительным[313]. Предложение такой высокой премии не особенно удивительно, когда бюджеты колоний показывают, что в колонии Виктории было до сих пор истрачено уже более миллиона фунтов стерлингов на истребление этих животных, а в Новом Южном Уэльсе убыток и расходы на истребление кроликов обходятся колонии более чем 500 тыс. фунт. стерл. в год. Все до сих пор употребленные средства[314] уничтожения их оказываются недействительными, и миллионы акров мало-помалу заселяются этими маленькими грызунами, страшно обесценивающими землю.
Первые кролики были привезены в Австралию в 1860 г. г. Остином (Austin), который выпустил несколько этих животных, дикой серой породы, в своем Барвонском парке (в колонии Виктории) просто для охоты, разумеется, не думал, что эта фантазия будет стоить его новому отечеству миллионов фунтов стерлингов. Кролики очень быстро размножились в Австралии не только потому, что нашли во многих местностях для себя очень подходящие условия, но вследствие того обстоятельства, что в Австралии они могут размножаться круглый год, между тем как в Европе время их размножения ограничивается восемью месяцами. Г. Блак в Виктории рассчитал, что если выпустить беременную самку в подходящей местности, ее потомство в продолжение одного года может дойти до 3400 особей, из чего можно заключить, до какой степени серьезна может быть опасность от дальнейшего размножения этих кажущихся невинными животных. В австралийских газетах эта опасность сравнивается с чумой, называется национальным несчастьем и т. п. Рассчитано, что двадцать кроликов съедают в определенное время то же количество растительной пищи, что съедает овца, почему для овцеводства размножение кроликов положительно громадное бедствие.
Интересно с зоологической точки зрения что европейский кролик в Австралии переменил значительно свои привычки и применился легко к новой местности[315]. Он стал лазить на заборы и взбираться на деревья как австралийский опоссум, перестал бояться воды, и реки не представляют препятствия его распространению. В некоторых местах колонии Виктории воспользовались размножением кроликов и стали приготовлять из их мяса консервы, а кроличьи меха собирать для выделки касторовых шляп и т. п.
Между городами Коллак и Кампер-даун, в колонии Виктории, открыты фактории для приготовления консервов из кроликов, и ежегодно около миллиона этих животных варятся и закупориваются в жестянки. Ловля кроликов при помощи ловушек может принести опытному охотнику от 2 фунт. 10 шилл. до 4 фунт. стерл. в неделю. Цена дюжины кроликов там 2.5 шилл. За дюжину кроликовых шкурок платится зимой также 2.5 шилл., летом же только 1 шилл. В этой местности не менее 300 человек занимаются этим промыслом. Но такие местные выгоды не могут быть принимаемы в расчет, когда дело идет о громадном уменьшении ценности земли на очень больших пространствах. Средства частных лиц совершенно бессильны против этого «национального несчастья», почему правительства всех австралийских колоний обратили должное внимание на этот вопрос.
Во время моего пребывания в Сиднее пришел почтовый пароход с островов Фиджи и между прочим привез известия с островов Тонга[316], которые на следующий день были напечатаны в главных сиднейских газетах. Эти корреспонденции с островов Тонга могут представить наглядную иллюстрацию зол, связанных с поселением белых на островах Тихого океана и вместе с тем послужить примером, до каких безобразий доходят иногда люди под предлогом «просвещения» и «христианства». История слишком длинна, чтобы входить в подробности, скажу в нескольких словах, в чем дело.
Уже лет 50 или 60 как туземцы островов Тонга обращены в христианство миссионерами — последователями Веслея. Между миссионерами выдвинулся в продолжение последнего десятка лет особенно один, по имени Бакер, и стал играть в делах королевства Тонга значительную роль, став первым министром короля Георга. Этому г-ну Бакеру и другому миссионеру г-ну Ваткину вздумалось в один прекрасный день заняться основанием придуманной ими новой религии и организациею новой церкви, которую они назвали «свободною церковью Тонги» (The free church of Tonga), во главе которой стал г. Ваткин. Первый министр (Бакер) уговорил короля сделать эту новую свободную церковь официальною для королевства Тонга и заставить всех своих подданных, отказавшись от «веслеянства», примкнуть к новой им придуманной религии и церкви. (Насколько религия гг. Бакера и Ваткина отличается от веслеянства, мне не удалось узнать.) Довольно понятно, что большая часть населения отказалась от перемены религии. Тогда наступило гонение веслеянцев, продолжавшееся около двух лет, которое в феврале этого года достигло, наконец, крайней формы.
Один из корреспондентов с острова Вавау приводит следующий случай. В конце февраля получился приказ от правительства островов Тонга (т. е. г. Бакера) прибегнуть к крайним мерам, т. е. сечь и подвергать пытке непослушных до тех пор, пока они не изъявят согласия присоединиться к «новой» церкви. Эти приказания были исполнены с крайним варварством. 2 марта, по окончании службы «свободной церкви», около 9 часов утра, власти начали свое дело. Воспитанник веслеянского училища, сын одного из самых старых веслеянских пасторов, был спрошен: хочет ли он переменить религию? Вследствие его отказа он получил 72 удара по плечам и спине, 73-й удар разрезал кожу поперек груди, 74-й удар он получил по лицу, причем один глаз был поврежден, наконец, 75-й удар, последний, по голове и шее. Имя этого мальчика Ион Хавер. Затем женщина, по имени Меле-Тахи, была опрошена. Так как и она отказалась, то ее стали сечь, но уже после третьего удара она была приведена в беспамятство, почему ее на этот раз оставили.
Корреспондент с двумя другими европейцами пришли на место вскоре после экзекуции и видели обе жертвы. Вся спина и плечи несчастного мальчика представляли синевато-красную массу; глаз и голова во многих местах были поранены. Зад женщины имел вид, как бы она получила не три удара, а несколько дюжин ударов, чему, однако ж, нельзя было удивляться, потому что этих людей секли кнутами о шести концах, из которых каждый был толще и жестче, чем обыкновенная веревка, употребляемая для развешивания белья. Каждый удар был равен поэтому не одному, а шести ударам и был наносим здоровенным человеком изо всех сил, который при каждом ударе приподнимался даже на цыпочки, чтобы усилить удар. Очень многих мужчин, женщин, некоторых почти что детей подвергли истязанию, которого два примера были сейчас приведены. И на других островах архипелага Тонга веслеянцы были подвержены различным насилиям. В Хабайе 29 человек обоего пола были заключены в тюрьму, состоявшую из единственной небольшой комнаты. Ночью оба окна этой комнаты запирались. Положение заключенных можно легче представить, чем описать: без свежего воздуха, не имея места лечь от тесноты, в полнейшей темноте и в зловонной атмосфере. Между заключенными женщинами находилась и принцесса Шарлотта, дочь короля, не хотевшая переменить религию; она вела себя с большим достоинством в продолжение всех этих испытаний. Тиран островов Тонга (г-н Бакер) содержит еще многих заключенными в тюрьме, из которых он приказал расстрелять шестерых, главнейших противников его религии.
Прошение, подписанное всеми независимыми белыми людьми, проживающими в группе, было препровождено британскому консулу в Тонга-Табу. В этом прошении заключается просьба всех европейцев, чтобы все дело, в котором г. Бакер, английский подданный, играет главную роль, было бы подвергнуто строгому расследованию и чтобы е. пр. губернатор островов Фиджи и вместе с тем британский обер-комиссар западного Тихого океана лично занялся этим расследованием.
Позднейшее известие с острова Тонга сообщило, что 27 марта сэр Чарльз Митчелл, губернатор Фиджи и т. д., прибыл на корвете «Даямонт» вместе с главным судьею, г. Кларком.
На следующий день по приходе корвета депутация была принята сэром Чарльсом, которая вручила ему прошение, подписанное 60 европейскими купцами, тредорами и т. п., живущими на островах Тонга, выражающее убеждение, что настоящее печальное положение островов было делом управления первого министра, г. Бакера, которого они просят удалить с группы. Назначенное следствие показало, что главною причиною жестоких истязаний и насилий, которые в продолжение двух лет были совершаемы от имени правительства Тонга, было единственно заставить народ присоединиться к так называемой «свободной церкви» г-д Бакера и Ваткина. Следствие далее показало, что г. Бакер каждый день мог бы прекратить все насилия, которые совершались по его приказу. Следствие не было еще заключено, когда пароход «Любек» ушел из Тонга, так что мне не удалось узнать из газет, решил ли представитель британского правительства (сэр Чарльз Митчелл) вмешаться в дело и удалить г. Бакера, первого министра короля независимого государства Тонга. Сэр Чарльз поставлен в щекотливое положение, и я не думаю, что он рискнет своею властью на решительную меру, как удаление г. Бакера с островов Тонга, особенно в настоящее время, когда германское правительство очень своевольно вмешивается в дела о-вов Самоа. Подобный шаг со стороны британского обер-комиссара развязал бы еще более руки германских властей на о-вах Самоа. Другое обстоятельство, хотя меньшей важности, то, что г. Бакер, принимая положение первого министра короля Георга, отказался от британского и принял подданство Тонга — королевства, признанного Англиею самостоятельным.
Н. Миклухо-Маклай
Пароход германского Ллойда «Неккар».
Май 1887 г.
Примечания
1
Crawford называет семангов «карликовыми неграми Малайского полуострова», «племенем малорослых негров, обитающим в горах Малайского полуострова», также и во многих других местах своего «Descriptive Dictionary of the Indian Archipelago» (1847). Logan говорит о семангах, что хотя они, подобно туземцам Андаманских о-вов, смешались с другими племенами, тем не менее являются несомненными неграми (Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, p. 31, 32).
(обратно)2
Newbold говорит о семангах, что они почти ничем не отличаются от якун, а в другом месте констатирует, что оран-бенуа (как иногда называют якун) не отличаются от малайцев (N e w b o l d. Political and Statistical Account of the British Settlements in the Straits of Malacca, 1839).
(обратно)3
«Их (семангов) следует считать не негритосами и не одичавшими малайцами, а особой расой» (W a i t z. Antropologie der Naturvölker, Th. V, S. 87).
(обратно)4
См. Известия Русского географического общества, 1873, и «Реtermann’s Geographische Mitteilungen», 1873–1874.
(обратно)5
У туземцев сохранилось предание, что не все малайцы, жившие раньше на побережье, согласились принять ислам: часть из них ушла в леса. Мне неоднократно рассказывали об этом оран-утан разных частей Иохора. Нашли ли эти малайские беглецы какие-либо примитивные племена в лесах и горах, куда они скрылись, об этом, насколько мне известно, предание ничего не говорит.
(обратно)6
В дальнейшем я говорю только о тех племенах, которые я сам видел, и не принимаю во внимание данных прежних авторов относительно распространения и наименования этих племен; я описываю только современное состояние этих племен и только на основании собственных наблюдений.
(обратно)7
Слово «райет» означает «человек». Каким образом это слово стало названием племени, мне не удалось выяснить.
(обратно)8
У некоторых племен существует очень примитивное земледелие; у них есть огороды, которые они время от времени посещают, также имеются определенные места в лесу, куда они время от времени возвращаются.
(обратно)9
Как на пример таких различий укажу, что столь важное оружие, как сумпитан (тростник для выдувания отравленных стрел), одним племенам совершенно неизвестен, а другими постоянно употребляется.
(обратно)10
Записанные мною немногие слова этого почти исчезнувшего языка я показывал многим малайцам, весьма основательно знающим свой язык, напр. Дато Бинтара в Иохоре и другим, и они нашли, что эти слова не малайские; чтобы окончательно решить вопрос, я посылаю составленный мною краткий словарь в Европу на суд компетентного лица.
(обратно)11
Я употребляю общий термин «первобытные меланезийские племена», так как надлежащая классификация меланезийцев, при современном состоянии наших знаний, невозможна. Я пришел к этому заключению на основании собственных наблюдений над папуасами, негритосами и меланезийцами.
(обратно)12
Составить правильное мнение об отношениях, которые я здесь нашел, мне очень помогли наблюдения, которые я имел возможность сделать над папуасско-малайскими метисами на островах к востоку от Серама в 1874 г. и благодаря которым я являюсь довольно компетентным в этом вопросе.
(обратно)13
Так называемые оран-лиар (дикие люди) уходят все дальше в глубь лесов, в бедные жизненными ресурсами районы, и вымирают. Те из них, которые продолжают жить на прежних местах, по соседству с пришлыми малайцами и китайцами, не оставили бродячего образа жизни, но заимствовали некоторые малайские обычаи и часто выдают своих дочерей замуж за малайцев, которые охотно покупают наиболее красивых и сильных девушек.
Лишь в очень редких случаях оран-утан принимают ислам и пытаются переходить более или менее к тому же образу жизни, какой ведут малайцы. Язык оран-утан почти вытеснен малайским.
(обратно)14
Утомительные, часто одиннадцатичасовые переходы, затопленный лес, дождливое время года, недостаток провизии, транспортных средств и т. д. и т. д.
(обратно)15
Crawfurt (A descriptive Dictionary of the Indian islands, 1856)…The Semang, or dwarf negros of the Malay peninsula (p. 259)…race of small negros found in the mountains of the Malay peninsula (p. 273) и на многих других страницах.
(обратно)16
Logan («The Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia») говорит о семанг, что хотя они, как и андаманцы, смешаны с другими племенами, но несомненно — негры (стр. 31 и 32 привед. соч.).
На основании этих мнений большинство авторов по этнологии и этнографии в Европе, однако же не все, как, напр., Вайтц, сами не видавшие этих стран и людей, один за другим повторяют старую песню, как бы она была совершенно доказанною.
(обратно)17
…dass sie (Semang) weder als Negritos noch als verwilderte Malaien, sondern als eine besondere Race zu betrachten sind. W a i t z. Anthropologie der Naturvölker. 5 Th. 1 Heft, S. 87.
(обратно)18
F. J. N e w b o l d. Political and statistical account of the British settlements in the Straits of Malacca, 1839, p. 377.
(обратно)19
Там же, стр. 370.
(обратно)20
Оран-райет можно перевести приблизительно — «туземцы»
(обратно)21
Оран-якун, собственно, не имеет особенного значения, как и предыдущие названия, тоже Crawfurt (выше привед. соч., стр. 161) говорит, что имя «jakun» — a name of unknown origin and meaning.
(обратно)22
Приехав в Сиам, я искал случая купить по возможности молодого слона для исследований мозга, который, будучи неудовлетворительно исследован, очень интересует меня в сравнительно-анатомическом отношении. Оказалось, что в Бангкоке один только король имеет слонов. Я почти отказался от моей мысли, когда неожиданно получил от молодого короля, которому было рассказано о моем желании и о моих поисках, формальное обещание, переданное мне секретарем министра иностранных дел, что при следующей большой королевской охоте (которая ежегодно предпринимается в окрестностях старой столицы Сиама — Аютии) он прикажет сохранить для меня самого молодого из пойманных слонов. Это было тем более любезно со стороны короля, что накануне я отказался от предложенной мне аудиенции под предлогом, что у короля по случаю приезда английского губернатора много дела и что, не имея ничего сказать ему, не желаю беспокоить короля; собственно же потому, что аудиенция молодого короля, который очень старается по возможности копировать европейцев, имела для меня очень небольшой интерес. Так как этот подарок — пойманный при случае большой охоты молодой слон — не представляет почти никакой ценности, а мозг его меня сильно интересует, то я принял подарок или вернее обещание подарка. Как только время найдется здесь в Сингапуре или на Яве (куда я еще намерен вернуться), я распоряжусь о присылке моего слона и займусь исследованием его мозга.
(обратно)23
И с т а н а — по-малайски дворец.
(обратно)24
Я только что привел несколько из них, но это только частичка…
(обратно)25
Я не слыхал, достигла ли какого-нибудь развития станция, которую я вместе с вами в 1867—68 г. устраивал в Мессине. При моей кочевой жизни я получил только сведения о вашей Неаполитанской станции; я не знаю также, устроилась ли станция на Черном море, учреждение которой я предлагал Московскому обществу натуралистов в 1868 г.
(обратно)26
Я охотно возьму на себя во время моего будущего (в 1876 или 1877) путешествия в Северо-Восточную Азию осмотреть, с целью основания зоологической станции, берега Охотского моря и Восточного океана.
(обратно)27
Очень дикое номадное племя оран-утан, скитающееся в лесу около Текам, о которых ходит между малайцами множество суеверных поверий и которых малайцы очень боятся.
(обратно)28
См. мое сообщение об экскурсии в Иохоре в начале этого года.
(обратно)29
Письмо секретарю Русского географического общества.
(обратно)30
В одном из следующих писем я сообщу о моих успехах в этом отношении. Я считаю устройство зоологических станций для науки слишком важным, чтобы бросить эту мысль.
(обратно)31
Отношение малайцев полуострова к англичанам приблизительно сходно с отношением малайцев Суматры (в соседстве Аче) к голландцам. Я думаю, что при бестактной политике со стороны англичан они могут навязать себе нечто подобное англо-голландской войне.
При всей ограниченности и искаженности географических сведений малайцев внутри Малайского полуострова они слыхали, что есть, где-то далеко, очень большая страна — Россия, хотя они отчасти убеждены, что она, подобно как и другие страны белых людей, зависима от султана турецкого.
(обратно)32
К а б о п а т е н — по-малайски дом регента; в настоящее время, по упразднении поста этого туземного сановника, дом этот, перейдя в частные руки, находится почти что в положении развалин; но, несмотря на дырявую крышу и дырявый пол, я нанял его вследствие величины и уединенности.
(обратно)33
Три фигуры и три портрета оран-сакай.
(обратно)34
Немногих, но интересных Marsupialia Новой Гвинеи, малайцев о которых уже говорил в начале письма, и многих хрящевых рыб (Selаchii).
(обратно)35
Во всем Ост-Индском архипелаге нет ни одного русского консула или даже вице-консула. Надеюсь, что когда-нибудь русское правительство найдет полезным утвердить такового и что в этом случае это будет г-н Анкерсмит, который всегда старался быть полезным командирам и штабу приходящих на Батавский рейд русских военных судов и вот уже три года не отказывается исполнять разные мои поручения — услугу, которую я имел бы право требовать от русского консула, а не от частного жителя Батавии.
(обратно)36
В одном из последующих писем я объясню, почему я называю поле антропологических исследований «ограниченным».
(обратно)37
См. мою программу исследований в Изв. 1870 г.
(обратно)38
Waitz.-Gerland’sche Anthropologie der Naturvölker, 5 Th., 2 Abth., S. 43.
(обратно)39
В 1871–1872 гг. я изучал папуаса более с антропологической (анатомической) стороны; теперь положение его в среде его соплеменников, общественная сторона его быта войдет в мою программу и будет одной из главных задач исследования.
(обратно)40
Т р е п а н г — различные разновидности голотурий (Holothuria); вареные, затем сушеные на солнце — лакомство китайцев.
(обратно)41
Т р е д о р а м и называются на островах Тихого океана агенты торговых домов, которые получают от торгового дома товары для меновой торговли с туземцами, за что имеют известный процент произведений: копры, трепанга и т. п.
(обратно)42
Waitz-Gerland’sсhe Anthropologie der Naturvölker, 5 Th., 2 Abth., S. 38.
(обратно)43
Туземцы произносят имя острова чаще: Вуап. Жители архипелага Пелау называют ос. Вуап — Пелу Лекоп (Пелу — значит остров).
(обратно)44
Эта возможность представится, к сожалению, не ранее ноября месяца.
(обратно)45
Остров Адмиралтейства, как большинство больших островов, разделенных между множеством отдельных и враждебных племен, не имеет общего имени: каждое племя знает только свой участок или свои деревни и участки и деревни своих неприятелей. Туземцы острова Агомеса, говоря об острове Адмиралтейства, называют его Тауи, название, которое, будучи не туземным, имеет столько же права существовать, как и данное европейцами — остров Адмиралтейства, почему я не заменяю его агомесским названием. Архипелаги же — Хермит, Ешикие и Анахореты — имеют туземные названия. Группа Хермит называется Агомес, группа Ешикие (Echiquier) — Ниниго, группа Анахоретов — Каниес, почему в последующем я заменяю этими туземными названиями европейские имена.
(обратно)46
Об этом открытии, заслуживающем внимания антропологов, я отправляю с этою же почтою письмо председателю Берлинского антрополого-этнологического общества проф. Р. Вирхову. Прилагаю здесь для демонстрации гг. членам Русского географического общества наскоро набросанную копию одного из посылаемых г-ну Вирхову эскизов, который представляет образчик такого зубастого меланезийца в профиль.
(обратно)47
Архипелаг Каниес имеет также меланезийское население.
(обратно)48
На некоторых картах этот архипелаг носит название Волеа.
(обратно)49
Вся группа весьма недостаточно подробно нанесена на картах.
(обратно)50
Четырехугольная форма паруса кажется характеристичною для Меланезии; у полинезийцев и микронезийцев я всегда видел треугольные паруса.
(обратно)51
Туземцы берега Маклая, имея пироги с горизонтальною платформой, в случае свежего ветра, боясь потерять баланс, становятся на противоположный выносу паруса борт пироги и, держась за конец, прикрепленный к верху мачты, своею тяжестью и движениями тела, сообразными с креном пироги, не допускают балансир погружаться слишком в воду, отчего пирога сохраняет равновесие.
(обратно)52
Туземцы, будучи еще незнакомы с ценностью жемчуга, выбрасывали обыкновенно животное обратно в море, сохраняя от него одну только раковину.
(обратно)53
Т а б и р — название, которое дают папуасы берега Маклая большим чашам или блюдам, выдолбленным из дерева и употребляемым для сервировки кушаний.
(обратно)54
Совершенно подобную татуировку я видал на Новой Ирландии (в Port Praslin) и у негритосов в горах Лимай на о. Люсоне, где шрамы, однако же, были немного толще, так как инструментом для татуировки служил нож из бамбука, а не острый и тонкий осколок обсидиана. У негритосов женщины были также более татуированы, нежели мужчины.
(обратно)55
Значение слова «усия» осталось мне неизвестным; может быть, оно значит неприятель или дурной, или просто выражает название местности. Я не видел ничего, подтверждающего существование людоедства на о-вах Адмиралтейства; украшения из человеческих зубов и людских костей недостаточны, чтобы служить доказательством. Слова же туземцев имеют в этом случае еще менее веса, так как очень распространенная уловка дикарей состоит в выдумке всего возможного и невозможного, единственно с целью заставить белого согласиться с их мнением.
(обратно)56
Проценты, которые берут европейцы при этой торговле, выменивая мелкий бисер на черепаху и перламутр, могут считаться сотнями. Один из опытных тредоров, много лет занимавшийся этим делом, рассказывал мне, что во многих случаях при торге на островах Тихого океана барыш в 800 % не редкость. Разумеется, главная выгода достается фирме, которая доставляет тредорам — своим агентам — предметы для мены, с назначением цен, по которым от них принимаются произведения островов. Не помню всех мне сообщенных цен, но все они были замечательно высоки, напр., пустая бутылка от вина или пива ценилась приблизительно около 1 доллара. Понятно, что тредоры при торговле с туземцами также не упускают случая набить большую цену, чтобы и для себя заработать что-нибудь. Слушая эти рассказы и видя на деле, что они не преувеличены, я невольно вспомнил страницу в сочинении Уоллэса (во втором томе его сочинения о Малайском архипелаге), где он негодует, что туземцам о$вов Ару достаются европейские произведения почти что не дороже, чем европейцам в Европе. Уоллэс мог бы остаться доволен заработком европейских купцов в Океании.
(обратно)57
Портрет одного обладателя такой челюсти я послал Русскому географическому обществу при последнем сообщении
(обратно)58
Waitz-Gerland (Anthropologie der Naturvölker, Bd. VI, S. 566) приводит свидетельство Форстера, Картере и Хунтера об этом обыкновении.
(обратно)59
В рукописи Bulla ovum; в издании 1940/41 г. — Ovula ovum. Примечание относится и к дальнейшим случаям, где мы пишем Bulla ovum. — Ред.
(обратно)60
Герланд (Bd. VI, S. 575) говорит, что в Полинезии единственная часть тела, с обнажением которой соединен стыд, это glans penis.
(обратно)61
Замечу, что другая крайность (т. е. чрезмерная величина) этого органа найдена у негров (см. H. H о m b r o n. Anthropologie, p. 139. Voyage au Pole sud et dans l’Océanie, pendant les années 1837–1840), расы, которая ближе других родственна меланезийской.
(обратно)62
На Яве эту землю продают на улицах тонкими пластинками, слегка поджаренными, как лакомство. Кроме Явы, подобная ей глинистая земля, употребляемая в пищу на о. Амбоине, описана Ф. Мюллером («Reizen en onderzuekingen in den Indischen Archipel, dooz Salamon Müller, 1857, Deel II, p. 65»); анализы съедобной земли с Суматры находятся в журнале «Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie», Deel XXXIV, 1874, p. 185.
(обратно)63
Б а р у м — туземное название, которое дают папуасы берега Маклая большому стволу, выдолбленному наподобие корыта; ударяя толстою палкой в стенки его, они извлекают сильный, немного глухой звук, который слышится на большом расстоянии; он служит набатом для сообщения разных происшествий (смерти, пиршества, войны и т. п.) в деревне и окрестным деревням. См. мои «Этнологические заметки о папуасах берега Маклая».
(обратно)64
В работе S с h e r z e n and E. S c h w a r z, On measurements as a diagnostic means for distinguishing the human races, Sydney, содержится 78 номеров измерений; в Instructions générales pour les recherches anthropologiques 1865—63 номера или, по крайней мере, 30; в антропологической инструкции British association — 47; в антропологической программе проф. Вирхова — 38 или, по крайней мере, 25.
(обратно)65
Мне хорошо помнится смешная, но характеристичная сцена, которой я был свидетелем во время моего первого пребывания на берегу Маклая на Новой Гвинее (1871) и которая может служить иллюстрацией этого психологического замечания. Туземцы, которые, как известно, много месяцев были крайне недоверчивы ко мне, имели также недоверие и к моим вещам и даже к моей еде. Раз, месяца четыре после моего приезда, когда я уже немного понимал папуасский язык, трое жителей соседней деревни застали меня за завтраком, который состоял из вареного с солью риса, без других приправ. Один из пришедших, сжимая обеими руками живот, который он втянул сильным выдыханием (обыкновенная папуасская мимика, чтобы изобразить голод, пустоту желудка), сказал, что он очень голоден, не ел еще ничего в этот день. Я предложил ему ложку риса, хотя знал, что он откажется от него. Но в тот день туземец осмелился попробовать мою еду: он слегка вскинул голову, поднял глаза и, втягивая воздух между сложенными как бы для свиста губами (обыкновенный жест согласия у папуасов), сперва обнюхал ложку и взял в рот рис. Не успел он проглотить половину, как сообразил всю отважность своего поступка — попробовать «инги Маклая» (еду Маклая), — и с полным ртом спросил меня, не умрет ли он от этого. Я сказал, что нет. Проглотив еще немного и обратившись к своим спутникам, он предложил им также попробовать рису, на что оба отвечали сильным отвергающим жестом, подаваясь всем туловищем назад и тряся плечами и руками, как будто он предлагал им яд. Тогда первый перестал есть и еще раз настойчиво просил их попробовать рис. Но они опять отказались. Тогда его поступок и ему самому показался необдуманным и опасным. Он быстро выплюнул в ладонь остатки риса и стал быстро мазать ими грудь и руки своих товарищей, приговаривая: «если я умру, то и ты умрешь». Удивленные неожиданностью, его спутники сперва пятились, затем вскочили и бросились бежать в деревню. Он пустился также за ними, стараясь выплюнуть остатки риса изо рта и продолжая кричать: «и ты умрешь, и ты!»
(обратно)66
Так как туземцы северного берега о-ва Адмиралтейства не отличаются в антропологическом отношении от жителей южного берега, то я предпочитаю сообщить общие результаты антропологических измерений и наблюдений в конце этого письма
(обратно)67
Профессор Вирхов («Sitzungsberichte der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte», март 1873) говорит, что он видит неразрешенное противоречие между большим носом папуасов Доре, как описывает их Уоллэс, и короткими, сплющенными (еcrasé) носами новокаледонцев, которых кончик направлен вверх. Это противоречие разрешается, главным образом, не только невозможностью подвести все носы какого-нибудь племени под одну схему, но и изменением формы носа вследствие операции пробуравливания носовой перегородки, а также обычая втыкать разные предметы в образовавшееся отверстие и оттягивать низ носовой перегородки.
(обратно)68
В Punta Arenas, в Магеллановом проливе, мне подарили в 1871 г. несколько наконечников стрел, сделанных туземцами Огненной Земли из стекла прибитых к берегу европейских бутылок. Они были очень искусно сделаны, и изготовление их казалось мне делом большого терпения и ловкости. Видев описанный способ обращения с обсидианом, которого свойства очень подобны стеклу, я пришел к убеждению, что наконечники стрел были сделаны тем же или весьма подобным способом и привычными руками.
(обратно)69
Я подразумеваю средний рост европейца: мужчины, 25 лет, 1680 мм, женщины 1570 мм (см. U h l e und Wagner. Handbuch der Allgemeinen Pathologie. 1868, 4-te Auflage, S. 72).
(обратно)70
W a i t z — G e r l a n d. Anthropologie der Naturvölker, Bd. VI, S. 654.
(обратно)71
На берегу Маклая на Новой Гвинее нет, собственно говоря, ни наследственных, ни выборных начальников; всем взрослым принадлежит одинаково право голоса, но между ними находятся более влиятельные, отличающиеся своим умом или ловкостью, и люди слушаются не их приказания, а совета или их мнения.
(обратно)72
Другой пример страха, не менее характеристичный, я имел случай видеть в прошлом (1875) году при моем путешествии по Малайскому п-ову. Войдя в хижину, где находилась семья оран-сакай, и подошедши к первому попавшемуся лицу, которое оказалось женщиной, я был поражен ее видом. Лицо выражало крайний страх: она странно водила глазами вокруг, подбородок дрожал, и она судорожно схватила меня за платье обеими руками. Она имела вид сумасшедшей. Я сказал несколько слов по$малайски, чтобы успокоить ее, и был немало удивлен, когда она повторила эти же слова и даже с тою же интонацией, как я произнес их. Я прибавил еще одну фразу — тот же эффект: повторяет, как попугай, каждое слово. Я сказал несколько русских слов, думая озадачить ее, но и те она повторила, не запинаясь и очень отчетливо. В промежутках она что-то бормотала, причем голос ее сильно дрожал. Я обернулся к старому малайцу, моему спутнику, чтобы узнать, не сумасшедшая ли она. Она этим мгновением воспользовалась, чтобы спрятаться в самый темный угол хижины и отнести туда ребенка, которого я сперва не заметил и который, вероятно, был причиной того, что она схватила мою ногу обеими руками, когда я остановился перед нею. Мне сказали, что она не сумасшедшая, а только очень испугалась. Я захотел сделать ее портрет и удостовериться, что только под влиянием испуга она повторяла мои слова, что мне показалось весьма интересным. Почти силой привели ее ко мне, и она постоянно отворачивалась, чтобы не видеть моего лица. Мне сказали, что до этого дня она ни разу не видела белого и что поэтому она так меня боится. Чтобы ободрить ее, я посадил около нее старого малайца, который знал ее еще девочкой. Она обхватила его шею и прижалась к нему так, что я мог нарисовать ее только в профиль. Она все еще не могла успокоиться и по временам дрожала. Когда я к ней прикасался, чтобы повернуть немного лицо или поправить волосы, она сильно вздрагивала, и крупные капли пота выступали у ней на лбу и на носу, несмотря на то, что лоб и руки ее были холодны. Хотя при каждом прикосновении она содрогалась, но слов моих более уже не повторяла. Пароксизм страха прошел, и она теперь вовсе не казалась сумасшедшей, как при первой встрече. (Из дневника 1875 г.) Что же касается непроизвольных экскрементов при испуге, то я часто видел это влияние страха в разных местностях на детях, которых родители, имея в виду подарок, силой хотели иногда привести ко мне для измерения их голов или рисования портретов.
(обратно)73
Было бы достойной гуманности мерою международного права запретить на о-вах Тихого океана ввоз и распространение тредорами пороха, огнестрельного оружия и спиртных напитков. Эта негативная мера может иметь более влияния на сохранение туземного населения, чем ввоз миссионеров и молитвенников.
(обратно)74
W a i t z — G e r l a n d. Anthropologie der Naturvölker. Bd. VI, S. 598.
(обратно)75
На Новой Гвинее (в местностях, мною посещенных) туземцы не селятся в горах выше 1500 футов, и горные хребты представляют непроходимые рубежи для распространения туземцев внутрь и для сношений с соседями.
(обратно)76
Хижины эти совпадают по внешней форме с хижинами жителей островов Торресова пролива, которые изображает на некоторых таблицах Юкс (I. В. J u k e s. Narrative of the surveying Voyage of Н. M. S. Fly, 1842—46, v. II).
(обратно)77
Это выражение, как и большинство важных слов (особенно глаголов), я узнал, подслушивая разговор туземцев. До того счастливого случая я имел обыкновение, находясь в обществе туземцев, класть ряд предметов перед собою и один за другим называть их по$русски. Обыкновенно один из толпы или все хором, поняв в чем дело, говорили мне соответственные туземные имена, хотя не обходилось при этом без частых недоразумений. Здесь же это средство не помогло — меня не поняли.
(обратно)78
Б а р л а — папуасское (берег Маклая) название стола или высокой скамьи, на которой помещаются при еде туземцы, преимущественно с целью избавиться от докучливых собак и свиней, которые при каждом удобном, случае готовы схватить все съедобное.
(обратно)79
Когда (на берегу Маклая) я приходил в какую-нибудь деревню и мне приносили есть, туземцы или выходили из хижины, где я находился, или, когда дождь или темнота мешали им выйти, как только я начинал есть, отворачивались в сторону и переставали говорить.
(обратно)80
Мимика эта совершенно одинакова и на Новой Гвинее и имеет то же значение.
(обратно)81
Я нашел при этом, что делать как следует эти наблюдения весьма трудно. Чтобы уловить момент изменения в выражении лица, особенно важно не развлекать ничем своего внимания, что, однако же, не следует выказывать, так как это нередко смущает наблюдаемого; равно для успешности наблюдения надлежит самому быть незаинтересованным причиной, вызывающей эти изменения лица, чего, впрочем, нелегко достигнуть. Важно при самом наблюдении записывать свои замечания, не полагаясь на память.
(обратно)82
На о. Вуап и архипелаге Пелау я часто имел случай удивляться, до чего довели туземцы, особенно девочки, гибкость своих рук и самостоятельные движения отдельных пальцев.
(обратно)83
Инструмент этот состоит из семи или восьми бамбуков разной длины, связанных рядом сообразно своей длине, так что с одной стороны приходится самый большой (12–15 см), с другой — самый малый (5–7 см).
(обратно)84
См. G e r l a n d, Th. VI, S. 602 (о распространении этого инструмента в Меланезии).
(обратно)85
Я обстоятельно рассказываю о всех этих мелочах, потому что они одинаковы с совершенно подобными же чертами, которые я не раз наблюдал на Новой Гвинее (берег Маклая). При экскурсиях споткнувшийся или упавший туземец никогда не упускал случая излить свою досаду или облегчить свою боль, побив то место или предмет, которые были причиной ушиба. Я, впрочем, не думаю, чтобы туземцы соединяли с этим поступком мысль, что предметы «живы или могут чувствовать» (см. John L u b b о с k. The origin of civilization, sec. edit., 1870, p. 202 и сл.; life atributed to inanimate objects).
Несмотря на старания, я не нашел никаких доказательств, подтверждающих, что такой nexus idearum мелькает при этом в мозгу папуаса.
(обратно)86
На о-вах Пелау я видел человека, которому собака вылизывала большую рану на ноге; мне сказали, что это считается родом лекарства, к которому здесь часто прибегают. В Патане, на Малайском п-ове, я слышал рассказ или предание об одной принцессе из Ачина, которая была вылечена от ран, покрывавших все ее тело, тем, что большая собака ежедневно вылизывала каждую рану.
(обратно)87
Дуть на рану или на больную часть тела — весьма распространенное обыкновение, которое практикуется, кажется, почти у всех рас.
(обратно)88
Костюм женщин здесь почти одинаков с одеждой женщин Микронезии и состоит из двух передников, сделанных из волокон листьев пандануса, волокон ствола банана и т. п.; один из передников висит бахромообразно, придерживаемый поясом, спереди, а другой сзади.
(обратно)89
Один из тредоров, встреченных мною на о. Вуап, рассказывал мне, что купил у туземцев о. Адмиралтейства три черепа, которые потом подарил офицерам прусского корвета, бывшего в прошлом году на о. Вуап.
(обратно)90
Нисколько не оспаривая случаев и возможностей самостоятельного засевания кокосовой пальмы, замечу, что, насколько я знаю из собственных наблюдений, это далеко не часто случается. Везде, где мне приходилось быть, кокосовые пальмы были признаком населения настоящего или некогда бывшего. Раз посаженные, ясно, они сами засевались вблизи посаженных. Папуасы на берегу Маклая и малайцы на Яве, которых я расспрашивал о том, положительно отвергли само собою засевавшиеся, а не посаженные человеком кокосовые пальмы.
(обратно)91
Эта пирога, весьма отличная от микро- и полинезийских пирог, была во всех отношениях подобна новогвинейским.
(обратно)92
Не лишено значения и характеристично, что даже в мелочах туземцы Тауи и Агомес показывают сходство с папуасами Новой Гвинеи, так, напр., этот мешок, который на берегу Маклая называется «гун», или «тельгун», имеет одинаковое назначение и носится всеми одинаковым образом; другой, весьма небольшой — «ямби» (на берегу Маклая), висит на шее. Подобных согласований я заметил много в их украшениях, костюме и образе жизни.
(обратно)93
Но так как это исследование для меня лично может остаться еще долго одним желанием, то я решил послать эти обломки зуба при моем письме об этом предмете проф. Вирхову.
(обратно)94
Вот содержание этого эпизода, который передаю, компилируя его из рассказов многих европейцев, которые были даже отчасти причастны к делу или слышали о нем от действовавших лиц. Несколько лет тому назад (1872 или 1873 г.) пришла сюда для ловли трепанга с туземцами о. Яп шхуна «Орел» под американским флагом. Чтобы иметь свежую провизию, шкипер Бурдет, или Бёрд (рассказчики различно называли его), посылал несколько раз своих людей на берег за кокосовыми орехами, а главное — за таро на плантации туземцев, у которых он и не думал спрашивать на то позволения. Когда же последние явились к нему с претензиями и, требуя небольшое вознаграждение за уже взятое, предлагали сами привозить ему таро и кокосы, шкипер рассердился и отвечал им, что он и не думает платить за забранное и впредь, когда ему понадобится, будет посылать своих людей; при этом прибавил, что завтра же он отправится на берег и посмотрит, кто запретит ему брать, что ему вздумается.
На другое утро шкипер действительно приказал двадцати туземцам Япа вооружиться копьями и отправился с ними на берег. Не прошло и часа, как никого из всей партии не осталось в живых; видя это, штурман, родом голландец, счел за более безопасное перепилить якорную цепь и, поставив паруса, выйти в море. Штурман не обладал сведениями, необходимыми для мореплавания, однако же счастливо довел шхуну до о. Яп, но здесь нечаянно или, как говорят другие, умышленно, разбил ее о коралловый риф в одном из проходов к острову. Этот человек и теперь живет на о. Вуап, где известен как горький пьяница и ловкий тредор.
Случай со шкипером «Орла» окольными путями дошел до сведения прессы в европейских колониях, причем, как водится, без прикрас и выдумок дело не обошлось. К истории убийства шкипера приплели обстоятельство, что не все были убиты туземцами и что некоторые из участников экспедиции, между которыми находилась белая женщина или белый ребенок, остаются в плену у черных и т. п. Австралийское правительство сочло долгом послать в архипелаг Агомес канонерскую лодку с приказом разузнать дело и освободить несчастных пленников. Когда канонерская лодка пришла в Агомес, на группе жил европейский тредор Том Шоу (о котором будет речь ниже); он разъяснил командиру канонерской лодки вышеприведенный случай и убедил его, что никакой женщины или ребенка в плену у туземцев нет. Сообразно со своею инструкцией командир потребовал тогда от туземцев выдачи убийцы шкипера Бёрда и назначил срок исполнения своего требования, грозя в противном случае сжечь деревню.
Туземцы, перепуганные приходом военного судна, не имея почти никакого правительства, не привыкшие к такой процедуре, не явились в назначенный день с требуемым соплеменником, а попрятались по островам в лесу. Обождав немного и видя, что никто не является, командир лодки счел своею обязанностью внушить туземцам страх к приказаниям представителей ее королевского британского величества и исполнил свою угрозу.
Он послал десант на берег, к которому присоединилась часть экипажа находившейся в то время в архипелаге германской шхуны или брига. Соединенные австралийско$германские силы, войдя в покинутую деревню, зажгли хижины и не нашли другого дела, как забрать с собою всех свиней, которых могли поймать в деревне. Через несколько дней командиру удалось захватить убийцу шкипера, местопребывание которого в лесу было выдано одним из его соплеменников. Об участи этого последнего, который был увезен канонерской лодкой, один из рассказчиков уверял, что, чтобы не возиться далее с этим делом, ему была дана нарочно возможность сбежать у о-ва Амакака (герцога Йоркского — на картах), мимо которого проходила на возвратном пути канонерская лодка.
Прибавлять размышления о поведении шкипера Бёрда считаю лишним, но замечу, что подобное непризнание права туземцев на их собственность и работу — случаи ежедневные на о-вах Тихого океана и что даже в этом провиняются не единственно полуграмотные или малообразованные шкиперы разных мелких судов, а даже командиры военных судов. Мне был передан достоверный факт (к сожалению, без передачи имен), что испанское военное судно на пути в Манилу зашло на группу Улеай и, желая запастись дровами для топки машины, вырубили значительное число хлебных деревьев, несмотря на то, что на острове другой растительности было немало. Командир не принял в соображение, что лишает тем туземцев большей части их пропитания, которое на о-вах Тихого океана не слишком обильно.
На другой случай я наткнулся в архипелаге Пелау, где в Короре Айбадул жалобным тоном рассказал мне, что недавно (кажется, даже в 1876 г.) немецкое военное судно послало партию матросов на берег, которые перестреляли для доставления свежей провизии экипажу всех коров (за исключением одной), которые были много лет тому назад привезены в подарок туземцам Корора (как мне говорил Айбадул) за помощь, оказанную капитану Вильсону. Айбадул жалостливо добавил: «Mаn of war take no pay» (Я предполагаю, что в последнем случае вышло какое$нибудь недоразумение, не считая возможным, чтобы военное судно в деле нескольких долларов нарушило бы так явно права собственности).
(обратно)95
Черная земля «куму», употребляемая на берегу Маклая как для этой же цели, так и для окрашивания кожи, состоит из пиролюзита с примесью незначительного количества окиси железа. Эвервейн в Батавии был настолько любезен, что сделал для меня химический анализ привезенного образчика «куму».
(обратно)96
Первый экземпляр имел длину 47 см и весил 12 г, второй имел длину 22 см и весил 5 г.
(обратно)97
Сакаи Малайского п-ова, как я сам видел, обжигают длинные концы своих волос горящею головешкой, рискуя спалить при этом всю свою куафюру. Островитяне Пелау, в деревнях, где ножницы еще не вошли в употребление, еще и теперь, как в прежнее время, избавляются от слишком богатой растительности около Symphylis pubis, также обжигая волосы.
(обратно)98
Одно из различий то, что между папуасами разукрашены более мужчины, у европейцев же, наоборот, — женщины.
(обратно)99
На Новой Гвинее (на берегу Маклая) молодежь, особенно в многолюдных деревнях, конкурирует между собою и каждый день, после непродолжительной своей работы, наряжается; надевает множество украшений, окрашивает волосы и тело красною землей. Я не раз наблюдал, как быстро деревня принимает праздничный вид.
(обратно)100
Мне указали на молодого туземца, который только что родился, когда случилась катастрофа в Аралу; ему не могло быть больше 20 лет.
(обратно)101
Подобный же прилив случился на о. Луб в 1875 г. и был сообщен мною в моем письме Русс. геогр. о-ву, напечатанном в Изв. Г. О., т. XV.
(обратно)102
Я много раз от других слышал название Карагу, но не мог добиться, где находится этот остров. Мне кажется, что из теперешних жителей берега Маклая никто там не бывал, а только слышали от отца или от деда это имя.
(обратно)103
Этот камень был не что иное, как каменный наконечник палицы; подобные палицы употребляются на южном берегу Новой Гвинеи, а также на некоторых островах архипелага Луизиады.
(обратно)104
На диалекте Митебог даремами называются хижины, которые на диалекте Бонгу носят название буамбрамра.
(обратно)105
Губ не что иное, как листовые влагалища пальм разных видов.
(обратно)106
Жителями других деревень река эта называется Гуан или Вай.
(обратно)107
Обе стороны имеют или думают иметь многих союзников, почему боятся идти в каждую деревню, о которой не знают положительно, что она дружественная; таким образом, случается, что нейтральные деревни подолгу считаются союзниками противной стороны.
(обратно)108
Достойно внимания, что обычай выселяться из местностей, где произошел один, а тем более несколько смертных случаев, который я нашел в силе между меланезийскими номадными племенами о. Люсона, Малайского п-ова и западного берега Новой Гвинеи, встречается также и здесь, среди оседлых жителей берега Маклая, дорожащих своею собственностью.
(обратно)109
Покидая берег Маклая в ноябре 1877 г., я не думал, что жители Горенду приведут в исполнение свое намерение выселиться. Вернувшись туда в мае 1883 г. на корвете «Скобелев» и посетив Бонгу, я по старой тропинке отправился оттуда в Горенду. Тропинка сильно заросла; по ней, очевидно, ходили мало. Но, придя на то место, где находилась старая деревня Горенду, я положительно не мог сообразить, где я. Вместо значительной деревни, большого числа хижин, расположенных вокруг трех площадок, я увидел только две или три хижины в лесу: до такой степени все заросло. Куда переселились тамо Горенду, я не успел узнать.
(обратно)110
У большинства туземных построек на этом берегу крыша опускается почти что до земли, так что образует и стены хижины.
(обратно)111
Причины эти изложены в моем письме князю Ал. Ал. Мещерскому, которого перевод находится в одном из номеров итальянского журнала «Cosmos» за 1877 год.
(обратно)112
N. N. M i c l u c h o $ M a c l a y. Ethnologische Bemerkungen über die Papuas der Maclay-Küste in Neu-Guinea II, напечатанное в Natuurkundig Tjidschrift, Batavia, 1876. Я отдал тогда в печать этот 2-й выпуск замечаний, потому что не знал, сколько времени я останусь в Новой Гвинее и даже придется ли мне вернуться
(обратно)113
Прислуга при такой экспедиции по многим причинам должна быть набрана не из туземцев этого берега, из коих главные: во 1-х, постоянные войны между деревнями, большая раздробленность населения, отсутствие безопасности в чужих деревнях, что делает туземцев весьма боязливыми вне собственной территории, или участка ближайшей дружественной деревни; во 2-х, их припасы (таро, ямс и т. п.) слишком неудобопереносимы (громоздки) и тяжелы при пешеходных экспедициях, а они не хотят заменить свою традиционную пищу другою (напр., рисом и т. п.); в 3-х, туземцы моего берега, не имевшие сношений с белыми и по своему общественному устройству не имеющие понятия об отношениях слуги к господину, весьма неясно усваивают условия договоров, почему всякая дисциплина, необходимая при дальней экспедиции в страну с незнакомым населением, весьма затруднительна, даже почти невозможна; наконец, в 4-х, здесь семейные связи очень препятствуют набору людей, которые даже в последний момент могут поддаться просьбам, увещаниям, слезам матери, жены, детей и т. п.
(обратно)114
В доказательство каждого пункта я мог бы привести примеры из собственного опыта, но удерживаюсь, считая эти комментарии по своему объему здесь неуместными.
(обратно)115
Б у г а р л ом – туземное название места, где стоит мой домик.
(обратно)116
Мое мнение об антропологических наблюдениях, которыми большинство путешественников принуждены ограничиваться, я сообщил в моем письме г-ну проф. Р. Вирхову, напечатанном в Sitzungsberichte der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte за март 1878 года.
(обратно)117
По программе г. проф. Вирхова (Anleitungen zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen, S. 585).
(обратно)118
Не только скелеты, но и все тело умерших меланезийцев, с немногими, впрочем, трудностями, можно получить иногда в госпиталях Нидерландских колоний в Австралии, Новой Каледонии и др.
(обратно)119
Эта скрытность, основанная на труднопреодолимой недоверчивости характера, может легко привести к ряду ошибочных наблюдений.
(обратно)120
Хотя я говорю по-папуасски порядочно, но во многих случаях мое знание оказывается все еще весьма ограниченным.
(обратно)121
Туземцы трудно или совершенно не могут понять цели, для которой мне хочется знать все эти подробности о их обычаях и обыденной жизни; убедясь, что я не могу уличать их во лжи, они большею частью отвечали только из вежливости, лишь бы отделаться. Я много раз наталкивался также на людей, которые сами не знали подробно процедуру обычая; и вообще не всегда легко бывает найти действительно компетентный источник. Другая причина неудобства способа собирания сведений посредством расспросов та, что при расспрашивании туземцев о каком$либо обычае следует быть весьма осторожным, так как они очень склонны отвечать на все вопросы «да» или так неясно, что приходится угадывать, что они хотят сказать; а станешь угадывать, – девять шансов из десяти впасть в ошибки; к тому же и самая постановка вопросов весьма затруднительна.
(обратно)122
Так, например, «мулум» (обряд обрезания) производится, сообразно с числом подрастающих мальчиков нескольких соседних деревень, один раз в 6 или 7 лет, так что вряд ли мне придется видеть собственными глазами эту операцию, сопряженную с очень многими церемониями.
(обратно)123
Например, в том случае, когда, сделав из нескольких наблюдений слишком поспешный вывод, натыкаешься неожиданно на факт, который разрушает созданную теорию.
(обратно)124
Туземное название мыска, где стояла моя хижина в 1871–1872 гг.
(обратно)125
Безопасность для туземцев разных деревень на береге моего имени пока еще «pia desideria». He говоря уже о горных жителях, которые считаются особенно воинственными, и между береговыми положение дел таково, что ни один туземец, живущий у мыса Дюпере, не осмеливается дойти, следуя вдоль морского берега, до мыса Риньи, что составляет лишь 2 или 2.5 дня ходьбы.
(обратно)126
Весьма удобную якорную стоянку для судов средней величины, среди островов этого архипелага, без трудности доступную нескольким достаточно глубоким и широким пароходам, я позволил назвать Портом великого князя Алексея.
(обратно)127
Эта экспедиция почти состоялась, когда приход шхуны помешал осуществлению моего плана.
(обратно)128
Замечательно, что единственно эти две деревни (Били$Били и Ямбомба) занимаются горшечным производством. По всему берегу Маклая они не имеют конкурентов. Распространение этого производства по берегам Нов. Гвинеи представим, когда будет известен интересный этнографический результат.
(обратно)129
Ветер начинался различно: между 9 и 11 часами утра и спадал между 4 и 6 часами вечера, редко он продолжал дуть после захода солнца.
(обратно)130
Я заметил при этом расспрашивании, что мой вопрос многим туземцам казался весьма странным. К чему добывать огонь, если они уже имеют его? Если он потухнет в одной хижине, то в другой он горит или тлеет; если он каким-либо образом погаснет во всех хижинах одной деревни, то найдется в соседней. К чему же добывать его, искать то, что есть. Таков был ход их мысли, смысл их ответов
(обратно)131
Имей я подходящую для многодневного плавания достаточно большую шлюпку и наемных людей (не папуасов), я, разумеется, отправился бы далее; но в таком случае сомневаюсь, что меня бы так же мирно встречали, как между Бугарломом и Телята, благодаря моим туземным спутникам. Без них я не увидел бы четвертой части того, что мне удалось увидеть.
(обратно)132
Г-н капитан Моресби был так любезен, что прислал мне в мае прошлого года карты своих съемок восточного берега Новой Гвинеи с приложением нескольких номеров «Hydrographiс Notice». Но, к сожалению, береговой контур от мыса короля Вильяма до мыса Риньи (на этой карте) имеет так мало деталей, что мне будет весьма трудно согласить с этою картою мои заметки 1877 г., которые остались в Сингапуре.
(обратно)133
Туземные имена этих островов: Рук, Лотин и Лонг; но так как мне не пришлось увидеть их, то не знаю, какое туземное имя соответствует английским названиям на картах.
(обратно)134
Я надеюсь встретить капитана Моресби при моем возвращении в Европу, и, может быть, из разговоров с ним мне удастся разъяснить остающиеся недоумения.
(обратно)135
Перед концом сухого времени года (в июле и августе) папуасы обыкновенно жгут «унан» (Sacharum Konigii) главным образом для охоты на диких свиней, почему они сопоставляют обыкновенно эти два удовольствия «унан барата – буль уяр».
(обратно)136
Я называю здесь берегом Маклая часть северо-восточного берега Новой Гвинеи, между мысами Еремпи и Телята, или, соображаясь с картами, приблизительно от мыса Круазиль до мыса короля Вильяма. Очень сожалею, что, не имея с собою моих записок и дневника 1876–1877 гг., нахожусь пока в невозможности приложить картографический эскиз берега Маклая.
(обратно)137
Я уже сказал, что эта экспедиция по случаю отъезда моего в ноябре не состоялась.
(обратно)138
Сплю я здесь обыкновенно от 9, редко от 10 час. вечера до 5 час. утра, на сиесту (от 1.5–2.5 час. пополудни) требуется еще 1 час; к этим 8 или 9 часам сна на еду (3 раза в день) уходит около 1.5 часа, так что около 13 часов остается на работу. Это распределение времени нарушается во время экскурсий.
(обратно)139
«Оним» называется заговоренный с какою$нибудь целью предмет; всякое лекарство называется оним.
(обратно)140
Подробности об «ониме» сообщу в следующем отделе (III) моих заметок по этнологии папуасов берега Маклая, в Новой Гвинее.
(обратно)141
Обе стороны имеют или думают иметь многих союзников, почему боятся идти в каждую деревню, о которой не знают положительно, дружественная она или нет, считая нейтральные деревни за союзников своих противников.
(обратно)142
Б а р л а – большая, открытая с обеих сторон хижина, преимущественно назначенная для мужчин.
(обратно)143
Тот самый, который приходил при постройке матросами корвета «Витязь» моей хижины на Гарагаси в сентябре 1871 г. и уверял, что меня убьют, когда корвет уйдет.
(обратно)144
М а н а – гора, т а м о – человек или люди. Мана-там о – люди гор.
(обратно)145
Не помню латинского названия грибка, который причиняет эту болезнь кокосовым пальмам, при которой листья мало-помалу желтеют, затем делаются красными и дерево умирает. Эта болезнь очень часто встречается на Малайском полуострове, на Яве и в многих других местностях.
(обратно)146
Достойно внимания, что этот весьма распространенный обычай – не оставаться в местностях, где случился один или тем более несколько смертных случаев, – который был сообщен многими путешественниками в разных странах и который я нашел в силе между меланезийскими номадными племенами острова Люсона, Малайского полуострова, западного берега Новой Гвинеи, – встречается также между оседлыми, дорожащими своею собственностью жителями берега Маклая.
(обратно)147
По случаю моего отъезда в ноябре я и теперь не знаю, приведен ли этот проект выселения в исполнение; или, предполагая, что в мое отсутствие им нечего бояться тангрина вследствие войны, более ярые приверженцы войны сделали набег на одну из горных деревень, и убив 2–6 горцев, думают, что задержали дальнейшее приготовление онима, почему и остались жить в Горенду.
(обратно)148
Смотри: «N. de M. Mа с l а у. Mijn Verblijf aan de Oostkunst van NieuwGuinea in de Jaaren 1871 en 1872, Natuurkundig Tijdschrift, Batavia, 1873. Голландский перевод моего сообщения, полнее напечатанного в «Известиях Русск. геогр. общ.»
(обратно)149
Примеров слишком много, и они, полагаю, достаточно известны, чтобы приводить их здесь. Вера в сверхъестественность белых продолжалась в большинстве случаев очень недолго: ром и тому подобные слабости обличали скоро их земное происхождение и помрачали репутацию.
(обратно)150
Может быть, впоследствии, если найдется время и соответствующее настроение, я расскажу несколько сюда относящихся случаев.
(обратно)151
На днях произошел весьма курьезный и характеристический разговор между одним старым туземцем Бонгу и мною. Придя в обычное время в деревню, я вошел в барлу, в которой происходил громкий, оживленный разговор, который оборвался при моем появлении. Очевидно, туземцы говорили обо мне или о чем-нибудь, что желали скрыть от меня. В барле, кроме жителей Бонгу, были гости из деревень Богатим и Били$Били. Я сел. Все молчали. Наконец, мой приятель, Саул, которому я всегда доверял более других и с которым нередко разговаривал о разных трансцендентальных сюжетах, подошел ко мне и положив руку мне на плечо (что было более выражение дружбы и просьбы, чем простая фамильярность, которую я имею обыкновение исключать в моих отношениях с туземцами), заглядывая в глаза, спросил меня масляным голосом: «Маклай, скажи, можешь ты умереть? Быть мертвым, как люди Бонгу, Богатим, Били-Били?» Вопрос удивил меня своею неожиданностью и серьезным, хотя просительным, тоном, которым он был сказан. Выражение физиономий желающих услыхать мой ответ присутствующих показало мне, что не один Саул спрашивает. На ясный вопрос следовало дать ясный ответ, но который следовало прежде обдумать. Тем более необходимо было обдумать, что туземцы знают, убеждены, что Маклай не скажет неправды. «Баллал-Маклай-худи» (слово Маклая одно) вошло между ними в пословицу, в верности которой им никогда не приходилось сомневаться. Скажи я «нет», пожалуй, завтра или через несколько дней представится случай уличить Маклая во лжи. Скажи я «да», я поколеблю сам значительно мою репутацию, которая особенно важна для меня именно теперь, несколько дней после запрещения войны. Эти соображения промелькнули гораздо скорей, нежели я написал последние строки. Чтобы иметь время обдумать ответ, я встал и прошелся в длину барлы, как бы ища что-то (собственно, я искал ответа). Наконец, остановившись, я снял со стены солидное папуасское копье. Я выбрал нарочно самое тяжелое; подошел с ним к Саулу, который, следя за моими движениями, стоял посреди барлы, подал ему копье, а сам, отойдя несколько шагов, остановился против него. Затем, сняв шляпу, которой широкие поля скрывали мое лицо (чтобы туземцы могли по выражению лица видеть, что Маклай не шутит и не моргнет, что бы ни случилось), сказал: «Попробуй, посмотри, могу ли я умереть». Недоумевающий Саул, хотя понял теперь смысл моего предложения, не подняв даже копья, первый заговорил: «Арен, арен» (нет, нет), между тем как несколько из присутствующих бросились ко мне, как бы желая загородить меня от копья Саула своим телом. Простояв еще несколько времени в ожидании пред Саулом и назвав его даже шутливым тоном «бабою», я сел между туземцами. Ответ оказался удовлетворительным, так как никто ни разу после этого случая не спрашивал, могу ли я умереть.
(обратно)152
Это было причиною, как я узнал теперь, что в 1871 г. в продолжение с лишком 4 месяцев туземцы скрывали от меня своих жен и детей, что еще и теперь случается в горных деревнях.
(обратно)153
Да извинят гг. дерматологи мне это чересчур общее название; пока не могу приискать в памяти более специального, подходящего к физиономии болезни, которая, будучи, как кажется, вызвана ничтожными ушибами, царапинами, трением обуви, одежды и т. п., перешла в значительные, хотя поверхностные раны, нарывы, сопряженные с опухолью желез и т. п.; вероятно, основною причиною всех этих «приятностей» были не ушибы и царапины, а общая анемия вследствие неподходящей для белого туземной пищи, на которую я обречен обстоятельствами.
(обратно)154
Судно не должно было прийти нарочно для меня одного из Сингапура, но, посещая торговые станции своей фирмы на островах Тауи, Агомес, Каниес, должно было лишь зайти за мною на берег Маклая.
(обратно)155
Я получил адресованные мне письма, прибыв в Сингапур, в конце января 1878 г., следовательно, оставался на этот раз 23 месяца без писем.
(обратно)156
Это обстоятельство, принудив меня употреблять главным образом туземную пищу, имело для моего здоровья очень серьезные последствия и было главною причиною моей почти 7$месячной болезни в Сингапур
(обратно)157
Запоздание шхуны имело, как я узнал впоследствии, весьма критические последствия для пяти белых тредоров, поселенных на островах. Три были, вероятно, убиты (1 – на острове Тауи, 2 – на группе Каниес); а двое были ограблены и прожили несколько месяцев в очень неприятном положении.
(обратно)158
Пропуск в оригинале. – Ред.
(обратно)159
Неразборчиво. – Ред.
(обратно)160
В тексте вначале стояло «с одинаковым цветом кожи»; переправлено рукой автора. – Ред.
(обратно)161
О б л о м о к м о е й п а л к и. Я заметил обломок сучковатой палки, форма которой мне показалась знакомой. Видя, что я обратил на нее внимание, один из папуасов предупредительно напомнил мне, что это была палка Маклая, которую Маклай сломал давно-давно, по дороге из Гарагаси в Мале. Я действительно припомнил этот случай.
Если во время моего посещения мне случалось иметь с собою консервы, то пустая жестянка выпрашивалась обыкновенно для того, чтобы повесить ее в барле в память моего посещения. То же делали с изорванными после экскурсии брошенными перчатками и т. п.
(обратно)162
К сожалению, некоторые и даже самые интересные украшения вынимаются и носятся только в экстраординарных случаях, при Ай-Мун, так что в обыкновенное время их не принято надевать.
(обратно)163
В марте 1874 г. на берегу Папуа-Ковиай я видел у одного жителя той местности несколько игл ехидны, прикрепленных к концам ожерелья. Спрошенный, откуда он имел их, он не только назвал туземное имя животного, но сказал, что это животное часто отыскивается собаками в лесу на горах. Мои спутники из Серам-Лаута называли его малайским именем «ландак», название, которое дается на Яве роду Hystrix, и прибавил, что один такой «ландак» был привезен раз в Кильвару (небольшой остров около Серама). Спрошенный далее, он сказал, что «ландак» не кусается, так как у него нет зубов. Это последнее обстоятельство склонило мое мнение, что этот «ландак», вероятно, ехидна. Не добыв никаких материальных доказательств о существовании этого животного в Папуа-Ковиай, я совсем забыл об этом виденном и слышанном, до тех пор как я прочел (кажется в ит. журнале) письмо г-на Ад. Бекари с островка Сорон, где он упоминает о животном, покрытом иглами, полученном г. Д. Альбертис, которого он, однако же, не называет ехидною. Существование ехидны в Новой Гвинее оказалось подтвержденным. На севере (в горах Папуа-Нотан) она описана под именем Acanthoglossus Brujnii, на южном берегу – под именем Acanth. Lawesi. Что касается последнего вида (которого 2 экземпляра я видел в Австралийском музее) [позднейшая приписка. – Ред.], то она не более отличается от австралийского вида Е. Hystrix, как последняя от тасманийской Е. Setosa.
(обратно)164
Довольно подробный отчет о наших далеко не удовлетворительных познаниях этой исключительно тропической болезни, господствующей эпидемически по берегам Тихого и Индийского океанов, можно найти в книге: H i r s c h. Historisch-geographische Pathologie. Bd. I, 1860, стр. 599. Патология и терапия этой болезни представляют ряд до сих пор не отвеченных вопросов.
(обратно)165
Мой вес перед выездом из Иохора (28 мая) был 97 фунтов, оказался перед приездом в Сидней (15 июля) 129 фунтов.
(обратно)166
Этот музей образовался из коллекций, собранных во время экскурсий г-на В. Маклея на южный берег Новой Гвинеи в 1875 г. (см. об этом путешествии в «Petermann’s Geograph. Mitteilungen», 1876, H. I, стр. 84).
(обратно)167
Как замечательно быстро австралийцы вымирают, показывает пример племени нарриньери (Narringerie tribe) в Южной Австралии. Численность этого племени в 1842 г. была 3200, в 1875$м их остается около 511. Между туземцами Южной Австралии в 1875 г. умерло около 140, а только 55 родилось (см. Annual Report of the Sub$protector of aborigines in South Australia, 1876).
(обратно)168
Г-н Фрич (F r i t s с h. Photographische Aufnahmen. Anleitungen zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen, von Neumayer, 1875) замечает весьма верно: «Если он (т. е. путешественник) хочет видеть не только для себя лично, но надеясь в будущем быть также полезным большому кругу людей и двигаться вперед в своих исследованиях, необходимо, чтобы он в тех случаях, когда описания виденной им местности недостаточны для полной ее характеристики, прибегал к приведению в качестве дополнений вещественных доказательств, которые и могут только служить достоверным материалом и вместе с тем хорошим коррективом к субъективным впечатлениям путешественника. Во всех указанных случаях исчерпывающе помогает фотография. Она позволяет в кратчайший срок воспроизвести картину местности и дает всем возможность видеть ее во всех подробностях с максимальной точностью. Фотография дает вместе с тем отпечаток всего окружающего, что помогает воспроизвести в памяти все подробности местности вплоть до ее характерной окраски».
(обратно)169
С 1871 г. я веду род иллюстрированного каталога всех предметов, встреченных во время моих путешествий, представляющих образцы примитивного искусства папуасов. Эта работа, которой я, однако же, занимаюсь только в свободное от моих специальных исследований время, может со временем составить труд, аналогичный книге г$на Швейнфурта «Artes Africanae».
(обратно)170
Мой вес в сентябре был 134 ф. Недостает еще около 10 ф., чтобы дотянуть до среднего веса нормального человека белой расы моего роста (1670 мм) и моих лет (31 год).
(обратно)171
Plagiostomata of the Pacific by N. de Miklouho$Maklay and William Macleay, Part 1, Fam. Heterodontidae (with 5 Plates). Этот первый выпуск уже послан мною библиотеке Русского географического общества.
(обратно)172
См. мое письмо проф. Р. Вирхову «Rassenanatomische Studien in Australien» (Abhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, 1879).
(обратно)173
Первые два выпуска этой работы, изданной Энгельманом в Лейпциге, вышли в 1870 г.; остальные три, почти уже готовые к печати, будут изданы по моем возвращении в Европу.
(обратно)174
Эти коллекции, весьма значительные и интересные, с каждым днем увеличиваются благодаря судам, приходящим ежегодно в Сидней в значительном числе с островов Тихого океана и привозящим собранные там этнологические предметы, которые ныне становятся все более и более редкими, будучи заменяемы у туземцев предметами европейского производства.
(обратно)175
Городской музей в Сиднее, называемый Австралийским, заключающий не только зоологическую, но и минералогическую, этнологическую и другие коллекции, находится под управлением Совета директоров (Board of Trustees of the Australian Museum), от которого зависит, даже в мелочах, куратор музея.
(обратно)176
N. de M i k l o u h o – M a c l a y. Proposed Zoological Station for Sydney. Proceedings of the Linnean Society of N. S. W., Part III, 1878.
(обратно)177
С этой же целью я написал гг. профессорам Гексли и Вайвиль-Томсону, чтобы они своим авторитетом поддержали мое предложение и способствовали устройству зоологической станции в Австралии.
(обратно)178
В прошении, которое мне пришлось подать г. колониальному секретарю о даровании для постройки зоологической станции участка из казенных земель, я просил передать его в распоряжение «Trustees of the Zoological Station» нескольким лицам, которых с их согласия я выбрал между лицами, более других интересующимися приведением в исполнение моего плана.
(обратно)179
Тех из читателей «Известий Русского географического общества», которые интересуются вопросом зоологической станции, я отсылаю к номерам (мне пока еще неизвестным) английского журнала «Nature» за 1879 г., в котором напечатаны или будут напечатаны несколько сообщений об австралийской зоологической станции.
(обратно)180
Одна из многих сторон этого обширного вопроса, очень ясная и понятная при самом поверхностном знакомстве с ним, эта: что тропический климат, не допускающий белого предаваться постоянным тяжелым работам, препятствует также, действуя особенно на здоровье белой женщины, достаточному размножению белой расы под тропиками и т. д.
(обратно)181
Правда, что постановления этого высокого должностного лица обязательны только для английских подданных.
(обратно)182
Новое оружие, попадая в руки жителей береговых деревень, дает им перевес над другими, который сам по себе делается причиной ряда войн. На западном берегу Новой Гвинеи и на о-вах Микронезии я имел не раз случай слышать и видеть, что привоз нескольких ружей более новой системы, чем та, которая была в общем употреблении, добытых при помощи мены жителями одной из деревень, влек за собою почти всегда нападения на соседей, отчасти с целью попробовать новое оружие, отчасти потому, что вследствие расхваливания белыми продавцами туземцы, получив высокое мнение о нем, были убеждены в успехе и добычей от набега надеялись покрыть высокую плату за новое оружие. Что цена может иногда возвыситься на островах Тихого океана до сказочных сумм, доказывает пример (один из очень многих): что ржавая 9-фунтовая железная пушка была выменена одним шкипером за 1000 долларов разными продуктами острова.
(обратно)183
В одном из номеров «Sydney Morning Herald» (если не ошибаюсь, за ноябрь прошлого года) был напечатан рассказ, что шхуна «Dove» из Мельбурна прибыла (кажется) в октябре к берегу Маклая, бросив якорь, вероятно, в бухте Габенеу, в одной четверти мили от моего дома в Бугарломе. Вооруженная партия отправилась на берег искать золото, но, не найдя и следов его, вернулась на шхуну, которая отправилась далее вдоль северного берега Новой Гвинеи и, наконец, разбилась около о. Манипы, между о-вами Буру и Серам. Это, вероятно, не последняя экспедиция.
(обратно)184
В Северной Австралии, где туземцы еще довольно многочисленны, в возмездие за убитую лошадь или корову белые колонисты собираются партиями на охоту за людьми и убивают сколько удастся черных, не думая о том, что, оттесняя с каждым днем туземцев из более плодородных местностей, они ставят их в положение или голодать, или убивать скот белых взамен растений и животных, уничтоженных или ставших редкими вследствие овцеводства и плантаций у белых
(обратно)185
Насколько эта «справедливость» может быть названа справедливостью, доказывает (беру и здесь один из многочисленных примеров): признание, напечатанное в Hobart Town Times (за апрель 1836 г.), что, хотя правительство не стесняется вешать туземцев, правительство, «to its shame be it recorded, in no one instance on no single occasion, ever punished or threatened to punish, the acknowledged murderers of the aboriginal inhabitants» [ «правительство, к его стыду, ни разу, ни в одном случае не наказывало и не грозило наказанием за доказанное убийство туземных жителей»].
(обратно)186
Приказание одного из государственных людей Англии, отданное, когда в Тасмании почти уже не оставалось более туземцев
(обратно)187
Как, напр., распространение пьянства, проституции, заразительных болезней и т. п.
(обратно)188
Не скрою также, что когда я писал сэру Артуру, мне не раз приходила на ум мысль, что мои увещания пощадить «во имя справедливости и человеколюбия» папуасов походят на просьбу, обращенную к акулам не быть такими прожорливыми! Папуасы имеют, однако же, некоторые шансы: во-первых, они имеют сильного союзника в климате, не особенно любезном к белым; во$вторых, что «l’animal méchant par excellence» (человек) в то же время настолько разумен и расчетлив, что может предусмотреть всю выгоду завладеть не только землею, но и рабочими руками для обработки ее и не иметь расходов на привоз китайских и индийских кули или т. п. желтых или черных рабов.
(обратно)189
Вина белых в отношении островитян Тихого океана, по моему мнению, так громадна, что всякое так называемое «наказание» только увеличивает число преступлений против них! Поэтому я считаю командиров военных судов не вправе, в большинстве случаев, брать на себя ответственность за так называемые «наказания»; шкипера же торговых судов не могут быть беспристрастными и компетентными судьями, – это не их дело.
(обратно)190
An account of a Voyage round the World in the years 1766, 1767, 1768, 1769, By Philip Carteret, Esq., Commander of H. M. Sloop «Swallow», Hawkesworth’s Voyages. London, 1773, vol. I.
(обратно)191
Voyage de d’Entrecasteaux a la Recherche de La Perouse. Rеdigå par M. de Rоssel. Paris, 1808.
(обратно)192
L a b i l l a r d i e r e. Relation du Voyage a la Recherche de La Perouse 1791. Paris, VIII
(обратно)193
T. J. J a c o b s. Scenes, Incidents and Adventures in the Pacific Ocean during the Cruise of the Clipper «Margaret Oakley» under Capt. H. Morrell. New York, Harper Bros., 1844.
(обратно)194
H. N. M o s e l e y. On the Inhabitants of the Admiralty Islands, with Plates. Journal of the Anthropological Institute. May, 1877.
(обратно)195
Изв. Географ. общ. за 1880 г.
(обратно)196
Т р е п а н г – различные разновидности голотурий (Holothuria), вареные, копченые – большое лакомство китайцев
(обратно)197
Туземцы называют этот островок также Анра, но чаще Андра.
(обратно)198
На о-вах Адмиралтейства туземцы никак не могли выговорить «Маклай», а называли меня «Макрай» или иногда «Макай».
(обратно)199
Б е ч т е м а – не что иное, как искаженное название «båche de mer», трепанг.
(обратно)200
У м – хижина, к а м а л ь – мужчина.
(обратно)201
Здесь, как на многих островах Меланезии, воду вливают в рот, так что губы не касаются сосуда с водой (горшка, бамбука, скорлупы кокосового ореха и т. п.). 2 Скат этот
(обратно)202
Скат этот описан Вильямом Маклеем и мною под именем Miliobatis punctatus Mel. в 3-й части статьи «Plagiostomata of the Pacific» by N. de Miklouho-Maclay and William Macleay. Proceedings of the Linnean Society of New$South$Wales, vol. X, part 4.
(обратно)203
Это был так называемый «black till$fish» английских тредоров.
(обратно)204
Шхуна «Сади Ф. Кэллер», как выше уже было сказано, была специально снаряжена для ловли трепанга. Для того чтобы избегнуть потери времени, сопряженной с постройкой так называемого «smoke house» на берегу, и не подвергаться опасности нападения со стороны туземцев, что нередко случается при таком предприятии, на палубе шхуны мог быть поставлен «smoke house», или коптилка, как я его называл, состоящий из железного домика, или, вернее, большого железного ящика метров в 7 длины, такой же ширины и метра 3 вышины. В этом ящике были растянуты многочисленные полки из проволочных сетей, на которые клался разрезанный и вареный трепанг. Две большие печи с трубами, идущими внутрь коптилки, топили днем и ночью, наполняя ее дымом, и коптили трепанг, на что, однако ж, требовалось не менее трех дней. Коптилка могла вмещать около тонны трепанга.
(обратно)205
Подобные общественные хижины, преимущественно для одних мужчин, находятся, как известно, почти на всех островах Меланезии; их часто путешественники, мало знакомые с жизнью туземцев, принимали и описывали как храмы, что не выдерживает критики.
(обратно)206
Проф. Мозлей в приведенной статье («On the inhabitants of the Admiralty Islands») на стр. 40 замечает, что нравы туземцев со времени посещения островов капитаном Картере (109 лет тому назад) и Д’Антркасто (84 года тому назад) почти что не изменились. Это, может быть, было справедливо, но сношения с белыми последних лет не замедлили уже проявиться.
(обратно)207
Несомненный факт, что шкиперы некоторых судов, ежегодно торгующих на островах Западной Меланезии, где употребление спиртных напитков еще не очень распространено, даром угощают туземцев водкой, надеясь, что со временем, когда спиртные напитки войдут в употребление, их либеральность будет богато вознаграждена. Они назначают для раздачи водки туземцев, которые, прожив несколько лет с белыми, уже сделались пьяницами; такие люди очень красноречиво расхваливают действие водки, сами показывают пример, ловко соблазняют новичков попробовать и т. д.
(обратно)208
Черновато-коричневый различных оттенков цвет кожи жителей о-вов Адмиралтейства соответствует основному тону № 50 таблицы Брока, с оттенками, переходящими к № 43 и 28. Женщины и дети вообще светлее.
(обратно)209
Проф. Мозлей, член экспедиции «Челленджера», говорит (op. cit., р. 36), что не видал никаких признаков людоедства на о-вах Адмиралтейства.
(обратно)210
Костюм девочек здесь состоит из небольшой и недлинной кисточки из растительных фибр, окрашенных обыкновенно в красный и желтый цвет горизонтальными полосами, которая подсовывается под пояс спереди и единственно закрывает mons Veneris, и другой, более длинной, но не более широкой, которая, подсунутая под пояс, болтается сзади между ногами. У взрослых женщин кисточки заменяются более или менее широкими фартуками из таких же фибр, один спереди, другой сзади. От носки цвет фартуков из красного делается грязно-коричневым.
(обратно)211
Эта жиденькая материя, если не ошибаюсь, специально делаемая для торговли с темными расами Африки, Азии и островов Тихого океана, кроме своей непрочности, очень быстро линяет от солнца и воды. Туземцы ее все менее и менее ценят.
(обратно)212
Носимой ими ut tegimen glandis mentulae.
(обратно)213
Изв. Геогр. общ. за 1878 г.
(обратно)214
Пантомима эта была: Dum ex digitis dextrae unum in pugnum sinistrae interponebat et in eo vario modo agitabat.
(обратно)215
Об этом странном обыкновении наполнять желудок глиной, которое было замечено мною во время первого посещения о-вов Адмиралтейства в 1876 г., я сообщал Географическому обществу (op. cit., cтp. 12); химический анализ э-пате, сделанный по моей просьбе доктором Кретье (D-r Cretier) в Батавии, был напечатан в «Natuurkundig Tijdschrift», Deel XXXVIII, p. 70, 71.
(обратно)216
Саго, кокосовые орехи и таро представляют три главных растительных продукта, употребляемых в пищу здешними туземцами. Приготовление саго совершенно такое, как на Новой Гвинее.
(обратно)217
На малоизвестную флору о-вов Адмиралтейства было обращено особое внимание проф. Мозлеем во время стоянки «Челленджера» в Nares Harbour, и результат его наблюдений напечатан им в отдельной статье в Journ. Linn. Soc. (vol. XV, p. 13).
(обратно)218
Я узнал впоследствии, что таким образом должны здесь одеваться девушки при появлении первых признаков половой зрелости и женщины, недавно родившие.
(обратно)219
К сожалению, этот негатив, как и многие другие, сделанные во время этого путешествия, был привезен испорченным в Австралию. Продолжительность ли сохранения (более года), проникнувший ли свет, но все негативы одного ящика прибыли в Сидней покрытые белою пеленой, т. е. никуда не годными.
(обратно)220
К е д у – род небольшой широкой низкой скамейки, на которой может поместиться только один человек. Такой образец примитивной, но довольно удобной мебели был виден мною только на о-вах Адмиралтейства.
(обратно)221
Через несколько дней пришлось убедиться, что мое предположение было верно.
(обратно)222
Большие раковины из рода Cassis с ручкой из плетеного ротанга употребляются здесь как ведра для переноски воды.
(обратно)223
Параграф 4-й письменного документа, подписанного шкипером В. перед нашим отплытием из Сиднея, был следующий: «В случае, если г. Миклухо-Маклай будет убит туземцами одного из островов, капитан Веббер обещает не делать никаких насилий относительно туземцев под предлогом «наказания» (will not permit himself to employ any kind of violence against the aborigines by way of punishment).
Причины, почему я сделал этот пункт одним из параграфов условия, изложены мною в письме Географическому обществу (Изв. Геогр. общ., т. XVI, стр. 429).
(обратно)224
Я убедился потом, что эти ночные визиты женщин находятся в связи с туземными обычаями.
(обратно)225
См. мою статью об о-вах Адмиралтейства.
(обратно)226
Дневник 1879 г. просмотрен и дополнен примечаниями в С.$Петербурге в октябре 1887 г.
(обратно)227
Считая самое меньшее по 10 человек экипажа на пирогу (на некоторых было насчитано более сорока) и принимая число пирог в 45, выходит, что нападавших было 450–500 человек.
(обратно)228
Посещение порта Андра пароходиком «Alice» послужило поводом сообщения, которое я, не без удивления, прочел в «Sitzungsberichte der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte» (декабрь 1879 г.). Оно находилось в письме доктора Финша (Finsch), написанном им с о. Ялуит (главного острова Маршалловых о-вов) от 30 сентября. Ради курьеза я приведу это место письма: «…Miklouhо-Maclay ist mit einem Sydney-Trader nach den Admiralitäts gegangen und wohnt in einer Eingeborenenhütte mit Eingeborenen zusammen und studiert – Haie! von denen er täglich neue entdeckt. Hr. Robertson, der ihn auf den Admiralitäts traf, fürchtet sehr, dass ihn die Eingeborenen aufessen werden. Maclay hat aber Capitain und Steuermann einen Schein unterzeichnen lassen, dass man in diesem Falle an den Eingeborenen keine Rache resp. Vergeltung üben soll, sondern sich nur bemühe seinen Kopf zu erhalten und in Spiritus nach Petersburg zu senden…» Этот Робертсон (которого я не знаю) был на пароходе «Alice», вероятно, видел меня и слыхал, должно быть, мое замечание, которым я мотивировал свое желание вернуться на берег, что на берегу находится интересная для меня акула, которую я достаточно еще не рассмотрел. Это замечание превратилось в заявление: «Maclay… studiert Haie!» Откуда Робертсон взял, что я, пожалуй, попаду на обед туземцам, я не знаю: вероятно, это просто заключение из разных рассказов шкиперов о жестокости и людоедстве туземцев. Это пример, как появляются и распространяются «сообщения».
(обратно)229
Итальянской службы.
(обратно)230
В этом я ошибался. Это предложение женщины гостю оказывается, как я узнал, обычаем на о-вах Адмиралтейства.
(обратно)231
Атапами называются особенным образом сплетенные циновки из листьев кокосовой и других пальм, употребляемые для крыш, стен, заборов и т. д. «Атап» – название малайское.
(обратно)232
Было бы интересно убедиться, не встречается ли подобное имя, как «осокай», в одном из меланезийских диалектов. На одном из диалектов Фиджи лук называется «такай». Не лишено интереса то обстоятельство, что в этнологическом отделе Австралийского музея в Сиднее находится лук средней величины с ярлыком «Острова Адмиралтейства», без более подробного обозначения местности, где он был приобретен. Коллекция, в которой находился этот лук, была куплена музеем у какого-то шкипера. Не упуская из виду большой недостоверности сообщений коллекторов этого рода, факт этот, мне кажется, заслуживает внимания, вследствие того обстоятельства, что даже берега о. Адмиралтейства, не говоря уже о внутренности его, далеко не исследованы, и, может быть, именно в одной из таких непосещенных местностей туземцы и знакомы с луком. Это, однако же, не более как предположение.
(обратно)233
Растертым пиролюзитом или, может быть, просто растертым углем.
(обратно)234
К а д ь я н – циновка из листьев пандануса. «Кадьян» – название малайское.
(обратно)235
T a п a – приготовленная древесная кора. «Taпa» – название полинезийское.
(обратно)236
Красная охра заменяется здесь часто для окрашивания тела толченой сургучной яшмой.
(обратно)237
Для резонанса мраль ставится на два толстых поперечных бруска из сухого дерева.
(обратно)238
Имей я скверную привычку говорить более, чем знаю, и обыкновение давать проблематическим (для меня) личностям и вещам определенные названия, мне показалось бы здесь весьма уместным назвать этого черным вымазанного человека с болтающеюся белой раковиной чем-нибудь вроде жреца, кудесника или по крайней мере знахаря. Мне кажется, однако же, при моем настоящем знании обычаев туземцев о-вов Адмиралтейства, более соответствующим правде оставить титул этого человека вопросом открытым. Во все время моих четырех пребываний на этих островах я не видал никого и ничего, что бы дало мне право утверждать, что между этими островитянами есть личности, занимающие положение жрецов, колдунов и т. п.
(обратно)239
Не тот, который плясал у трупа утром.
(обратно)240
Туземцы большинства островов Меланезии не верят в естественную смерть, а считают ее следствием колдовства врагов умершего, почему смерть туземца сопровождается часто походом на одну из враждебных деревень, в которой, полагают, живет причинивший заговором смерть туземцу. Пример тому сообщен в моем письме Географическому обществу: «Второе пребывание на берегу Маклая на Новой Гвинее 1876–1877 гг.».
(обратно)241
Здесь можно было видеть сосуды из дерева, скорлупы кокосовых орехов, бамбуки разной длины и разные раковины (Cassis, Voluta и др.), глиняные горшки, непромокаемые корзины («кур»), сосуды из пальмовых листьев и т. п. Полное описание всех этих сосудов потребовало бы нескольких страниц.
(обратно)242
Все эти вещи можно видеть в Музее Академии наук, так как они составляют часть этнологической коллекции с островов Тихого океана, подаренной мною в прошлом году С.-Петербургской Академии наук.
(обратно)243
Между островами, на юг от большого острова Адмиралтейства, находится несколько с действующими вулканами.
(обратно)244
Осколки обсидиана и кремня представляют в руках туземцев такие превосходные бритвы, хирургические инструменты и аппараты для резьбы орнаментов по дереву и раковинам, что сомнительно, чтобы европейские бритвы, ланцеты а т. п. когда$либо заменили их.
(обратно)245
Значение слова «Салаяу» на диалекте Андры я не мог уяснить; может быть, это название какой$нибудь местности, деревни или острова; быть может, означает, как и «усия», – неприятель вообще.
(обратно)246
Зная, что Ахмат человек неглупый, я был убежден, что получу от него немало сведений о туземцах, с которыми ему пришлось прожить 3 года и 5 месяцев. От него туземцы не скрывались, а в рассказах о них Ахмату не было причины утаивать что-либо или выдумывать. Все сообщаемые ниже заметки о туземцах, узнанные от Ахмата, заслуживают, по моему мнению, полного доверия.
(обратно)247
Приведу здесь несколько строк из моего дневника 1876 г. «… В одной из хижин я застал четырех молодых женщин, из которых две нянчились с грудными детьми, а две были беременны. Пригласивший меня в эту хижину туземец, еще очень молодой человек, представил мне этих женщин как своих жен. Я не сейчас же понял, что человек по своей воле может жить в хижине, которая состоит из одной комнаты, с четырьмя женами и их детьми; хозяин же, предполагая, что я сомневаюсь в том, что эти женщины его жены, повторил, поочередно подходя к каждой из них, одну и ту же мимику, весьма недвусмысленную, которая и была причиной общей веселости женщин. Скоро вошла еще пятая женщина – мать хозяина или одной из его супруг; она жила, кажется, также в этой хижине».
(обратно)248
См. первую часть: Островок Андра.
(обратно)249
В моем письме Русскому географическому обществу о путешествиях 1876 г. о руен-римат находится следующее замечание: «Я заметил у многих пожилых людей аппарат, которого значение осталось для меня темным; он состоял из пучка тонких ветвей, на которых засохшие листья были сохранены; эта метелка имела рукоятку из верхней части человеческого humеrus. Эту метелку туземцы носили на шнурке вокруг шеи. Я не узнал, для чего она служит, заметил только, что туземцы неохотно с нею расставались».
(обратно)250
Каждому гостю на о-вах Меланезии подносится при угощении большое деревянное блюдо с едой, которой обыкновенно так много, что за один раз одному человеку невозможно съесть более одной пятой или одной четверти поднесенного. Все недоеденное связывается после угощения в свежие листья (хлебного дерева, банана и т. п.) и отдается гостю со словами: «на дорогу», или «съешь потом», или «дашь детям», или что$нибудь в этом роде.
(обратно)251
Каждая деревня производит обыкновенно что-нибудь с избытком: в одной делаются, напр., горшки, в другой растет много арековых пальм, третья богата красною охрой, четвертая – съедобною землей и т. п. В каждой деревне гостям при уходе подносится по горшку, по нескольку связок орехов арековой пальмы, охра и т. д., одним словом, то, что находится в ней в изобилии.
(обратно)252
При этом рассказе мне вспомнился разговор с Пальди накануне ухода шхуны «Sea Bird» с рейда у деревни Пуби, где последний остался, а потом был убит. Разговор был приблизительно следующий:
– Что вы думаете о моем новом местожительстве, о решении жить здесь между дикими и вероятном результате моего плана? Прошу очень сказать мне совершенно откровенно! – обратился ко мне Пальди.
– Зачем мне вас разочаровывать? – ответил я. – Мои слова будут лишними, так как вы решились остаться здесь.
Пальди стал настоятельно просить сказать, что я думаю.
– Если вам жизнь дорога, если вы когда-нибудь надеетесь жениться на вашей возлюбленной, о которой вы как$то мне говорили, то, по моему мнению, не оставайтесь здесь! – были мои слова.
– Это почему? – вскричал Пальди.
– Потому, что вы проживете здесь месяц, может быть два, а возможно также, только день или другой по уходе шхуны.
– Что же вы думаете, меня убьют туземцы? – спросил Пальди недоверчиво.
– Да! – ответил я решительно.
– Отчего же меня убьют?.. Вас же не убили папуасы на берегу Маклая! Почему же убьют меня? Вы же ужились с туземцами Новой Гвинеи!
Разве люди здесь другие? – стал спрашивать Пальди каким$то обиженным тоном, в котором слышались также досада и недоверие. – Вам же удалось, отчего это не может удаться другому? – добавил он.
– Причин тому много. Лучше прекратим этот разговор, – возразил я.
Пальди, однако же, настаивал, чтобы я договорил, что начал. Он был прав, почему я продолжал.
– Главные причины следующие: вы – горячекровный житель юга, я— северянин. Вы считаете вашим другом и помощником, вашею силою ваш револьвер; моя же сила на берегу Маклая было хорошее и справедливое обращение с туземцами; револьвер же мне никогда не казался там нужным инструментом. Вы хотите, чтобы туземцы вас боялись благодаря револьверу и ружью; я же добивался и добился их доверия и дружбы. Вот главнейшие различия наших воззрений относительно обращения с туземцами.
Есть еще второстепенные причины трудности вашего успеха. Вот они: вы остаетесь жить в самой деревне туземцев, не зная ни их языка, ни их обычаев; не думаете ли вы, что вы будете для них скоро «как бельмо на глазу», от которого они постараются избавиться? Оставаясь на Новой Гвинее, я поселился в лесу, в местности, до меня никем не занятой, построил себе хижину в одной миле от одной и в двух милях от другой деревни… Есть еще одна серьезная причина трудности вашего успеха: все туземцы, при которых были перевезены вещи ваши со шхуны, знают, какие сокровища, по их мнению, будут находиться в вашей хижине; думаете вы, никому из них не придет мысль, что одним удачным ударом пущенного копья все эти сокровища могут сделаться их? Вы скажете: не очень вероятно, чтобы первое пущенное копье попало в цель, что ваш револьвер положит нахала на месте, заставит остальных разбежаться. Согласен, верю даже, что, будучи, как вы говорите, хорошим стрелком, вы положите не одного, а шестерых на месте, что каждая пуля найдет своего человека. Тем хуже для вас. Все разбегутся, но вы прибавите к желанию завладеть вашими сокровищами еще чувство, даже долг (обязательный у туземцев) мести. Но довольно, хотя это далеко не все, что можно бы сказать. Но я сказал нарочно более, чем хотел сперва, думая, время еще есть, и вы можете переменить ваше решение.
Хотя мои слова заставили, кажется, Пальди очень призадуматься, но он остался в Пуби.
Убийство его показало, что я был прав; как долго он прожил, как я уже сказал выше, мне не удалось узнать; смерть его в глазах туземцев была блистательно отомщена белыми, так как шкипер X. положил на месте 50 или 60 человек.
(обратно)253
Т у а н – по-малайски значит господин.
(обратно)254
Сохраненные плоды и листья апис я препроводил, при возвращении в Австралию, известному ботанику, барону Ф. Мюллеру в Мельбурне, прося его определить растение, от чего другие ботаники, к которым я обращался, за отсутствием цветка отказывались. Громадное знакомство с туземной флорой этой части света (Австралии и островов Тихого океана) барона Мюллера делало исполнение моей просьбы возможным. Определение аписа в систематическом отношении на этот раз, однако же, не состоялось. Письмо мое было получено Мюллером, но приложенные образчики листьев и плодов каким$то образом были затеряны в ботаническом музее в Мельбурне. Я полагаю, что апис может оказаться важным и для европейской мануфактуры. Ахмат натер, по моему желанию, мои парусиновые штиблеты соком апис, – они стали непромокаемы, остались мягкими, и я их проносил года два или даже более.
(обратно)255
Перекисью марганца (пиролюзитом), глиной или пеплом.
(обратно)256
См. мои письма с архипелага Пелау.
(обратно)257
Сеп, который войдет, вероятно, здесь в употребление, представляет другой пример этого же рода.
(обратно)258
Я много раз убеждался в этом же на берегу Маклая в Новой Гвинее, где предметы моей этнологической коллекции, собранные на других островах, очень ценились туземцами, гораздо более, чем европейские бусы, бисер и т. п.
(обратно)259
Тичерами называются миссионеры$туземцы, помогающие белым миссионерам распространять христианство среди местного населения. Принадлежа часто к одной и той же расе, они чаще достигают доверия туземцев, лучше переносят климат и неудобства первого поселения. Тичеры были, можно сказать, главным орудием успешного распространения христианства среди туземцев о-вов Тихого океана
(обратно)260
Большинство хижин на о. Варе построено на сваях так, что под ними можно ходить.
(обратно)261
John Mac G i l l i v r a y. Narrative of the voyage of H. M. Ship «Rattlesnake» during the years 1846–1850, London, 1852.
(обратно)262
Об этой непроизвольно являющейся деформации головы я написал короткую заметку.
(обратно)263
Из которых каждая имеет специальное название: на лбу над глазами она называется «као-каб», вокруг губ – «ререре».
(обратно)264
Водяной раствор толченого угля, для добывания которого употребляется несколько известных растений; т. к. другие, обращенные в уголь, производят при татуировке большие опухоли.
(обратно)265
Это сообщение было начато во время моего нездоровья, в деревне Ануапата (порт Моресби) на Новой Гвинее, а затем переписано и дополнено несколькими примечаниями 8 месяцами позже в Пейкдель (около Станторпа, Квинсленд), так как анатомические работы, которые я не мог отложить, не дозволили заняться этою перепиской во время моего 6-месячного пребывания в Брисбейне.
(обратно)266
См. мое письмо от 22 апреля 1879 г. из бухты Прони на Новой Каледонии (Изв. Геогр. общ., т. ХVI, стр. 425).
(обратно)267
Многие результаты, как зоологические, краниологические и т. п., определятся только по разработке собранных материалов, что будет возможно только при более подходящей обстановке, чем та, которую я пока могу найти в Австралии.
(обратно)268
Шхуна, как я выше уже сказал, была специально снаряжена для ловли трепанга. Для того чтобы избегнуть потери времени, сопряженной с постройкой так называемой «smoke house», или коптилки, как я ее назвал, на берегу, и не подвергаться опасности нападения со стороны туземцев, что нередко сопряжено с таким предприятием, на палубе шхуны была поставлена коптилка, состоящая из железного домика, или, вернее, большого железного ящика, метров 7 в длину и ширину и метра 3 вышины, с многочисленными полками из проволочных сетей, на которые клался вареный трепанг (разные виды голотурий). Две большие печи, которых трубы открывались внутрь коптилки, топились днем и ночью, наполняли ее дымом и коптили трепанг. Таким образом тонна трепанга могла быть добыта в продолжение трех дней.
(обратно)269
Мне было известно, что немецкая коммерческая фирма (Хернсхейм и К°)имеет главную станцию для меновой торговли в Меланезии на о. Герцога Йоркского и посылает от времени до времени один из своих небольших пароходов в Куктаун, как в ближайший порт, для получения и отсылки корреспонденции.
(обратно)270
Во время своего последнего посещения группы Луб я убедился, что название «Агомес», сообщенное мною в моих «выписках из дневника» 1876 г., не что иное, как искаженное туземным произношением английское название Hermit, которое туземцы часто слышат от шкиперов. Туземцы этой группы, как и жители групп Ниниго и Каниет, называют эти острова «Луб», именем главного острова группы.
(обратно)271
Wild Island, или на карте, сделанной офицерами «Челленджера», Nares Harbour.
(обратно)272
Тонна этого трепанга, который добывается здесь за бесценок, стоит в портах Австралии и Китая 100 и даже 120 фунтов стерлингов (700–800 рублей).
(обратно)273
Музлей, член экспедиции «Челленджера», описавший в статье со многими иллюстрациями предметы, собранные в этой местности, имел любезность прислать мне этот интересный мемуар, который даст мне скоро возможность проверить наши обоюдные наблюдения.
(обратно)274
Хотя мне было весьма желательно повидаться с моими друзьями на берегу Маклая и посетить о-ва Кар-Кар и Ваг-Ваг, что я имел право требовать от шкипера в силу нашего условия, но, к сожалению, мое мнение о личностях, находившихся на шхуне, было таково, что я не захотел подвергнуть моих черных друзей риску этого знакомства.
(обратно)275
Кроме копры (сушеных кокосовых орехов) и черепахи, один из главных предметов вывоза здесь представляет так наз. Vegetable ivory, что оказалось плодом пальмы из рода Sagus. В письме от 14 октября этого года известный австралийский ботаник д-р Ф. фон Мюллер в Мельбурне пишет мне, что это – Sagus vitiensis Wendland.
(обратно)276
Туземцы называют свой остров «Бухилари», но жители окружающих его островов называют его «Базилаки».
(обратно)277
Шкипер Веббер намеревался вернуться в Сидней в апреле, и так как я знал, что пароход «Элленгован» очень невелик и не будет в состоянии забрать все мои вещи, то мне казалось весьма подходящим оставить большую часть их на шхуне. За недостатком времени накануне своего отъезда, отчасти вследствие своей природной доверчивости (17$летнее скитание по свету не изменило еще эту черту характера!), я сказал шкиперу: «Считая вас честным человеком, я надеюсь, что вы сдадите все мои вещи исправно в русское консульство в Сиднее, почему мне не надо никакой расписки о вещах». Шкипер поспешил уверить меня, что мое мнение о нем окажется верным и т. д. Когда даже в июле шхуна не прибыла в Сидней, где, по словам шкипера, она должна была быть в апреле или мае, я написал русским консулам в Сингапур, Гонконг, С.-Франциско и Лондон, прося их, в случае, если «Сади Ф. Кэллер» прибудет в один из этих портов, взять на себя труд получить мои вещи и сохранить их до востребования в консульстве. В августе, наконец, в Сидней пришло известие с о. Фате (Новые Гебриды), что шхуна «Сади Ф. Кэллер» заходила туда на пути своем в С.-Франциско, что шкипер Веббер умер и что некоторые из моих вещей были переданы на другую шхуну, отправлявшуюся в Сидней. Какие из моих вещей вернулись в Сидней и сколько увезено в Америку, я еще не имел возможности узнать, не добравшись еще сам до этого города. Надеюсь, что русский консул в С.$Франциско найдет возможность выручить остальные вещи. Во всяком случае, каждый из утраченных ящиков представит для меня значительную потерю.
(обратно)278
Уже много лет миссионеры на островах Тихого океана имеют обычай посылать на острова, куда они думают перенести со временем свою деятельность, не белых своих собратьев, а туземцев$миссионеров. Этот способ имел и имеет большой успех. Охотников между христианами на островах Самоа, Раротонга, Таити и т. п. всегда находится немало, и таким туземцам-миссионерам многие острова (как, напр., о-ва Лойэлти и др.) обязаны введением христианства. Уже 7 лет тому назад было привезено на южный берег Новой Гвинеи несколько таких миссионеров, или наставников, которые значительно облегчают деятельность белых миссионеров.
(обратно)279
Эти периодические посещения южного берега Новой Гвинеи небольшим пароходом, как «Элленгован», который должен часто останавливаться для возобновления запаса дров и может по малости своей подходить близко к берегу, имели прямым следствием хорошее знакомство шкипера его с этою частью берега, что повело к открытию нескольких весьма удобных и обширных гаваней, как Milport Harbour, Dutfild Harbour и др.
(обратно)280
Пароксизмы лихорадки были не особенно сильны и позволяли мне посвящать каждый день несколько часов письменной работе; таким образом, я имел случай выписать из дневника настоящее сообщение.
(обратно)281
Ануапата, или порт Моресби, и окрестности были полем деятельности золотоискателей, нахлынувших из Австралии в 1877 и 1878 гг. Из с лишком восьмидесяти прибывших сюда многие умерли, остальные вернулись в Австралию или были вывезены с Новой Гвинеи присланным английским судном, когда известие об их неудаче и печальном положении стало известно в Австралии.
(обратно)282
Меланезийцами я называю единственно «курчавоволосых» жителей островов Тихого океана.
(обратно)283
Чтобы устранить всякое сомнение в верности измерений голов меланезийцев, я собрал достаточное число несомненно подлинных черепов туземцев Новой Каледонии, о-вов Адмиралтейства, Соломоновых, Новой Гвинеи и др.
(обратно)284
Главным образом в деревнях Хура, Карепуна, Арома.
(обратно)285
Изучение языка и традиций, а также сравнение узоров и стиля в этой части южного берега Новой Гвинеи весьма распространенной: татуировки дадут, вероятно, возможность определить, из какой части Полинезии происходят предки полинезийского элемента этой смеси.
(обратно)286
К сообщениям, которые я отлагаю до подробного описания своих путешествий, принадлежит также ряд сведений, имевших для меня второстепенную важность, но которых собиранием я не пренебрегал, считая их не лишенными интереса и недостаточно известными. Сюда относится, кроме сведений о продуктах островов, предметах вывоза и ввоза, вопрос об эффекте столкновений белой расы с туземцами. Самое поверхностное и беспристрастное наблюдение открывает вереницу злоупотреблений, сопровождающих вывоз туземцев Меланезии на плантации в Австралию, Новую Каледонию, Фиджи, Самоа. Это весьма редко без обмана обходящееся, а иногда и с помощью насилия, добывание темнокожих рабочих на плантации прикрывается в английских колониях эпитетом «free labour trade», так как название «slave trade» хотя и более приближается к истине, не особенно благозвучно и должно быть избегнуто, что весьма нетрудно, так как очень немногие желают видеть настоящее положение дел, которое для них самих или друзей их выгодно, почему всякий протест против этой бессовестной эксплуатации темнокожих встречает здесь положительную непопулярность. Большинство не хочет знать правды, что не помешает, однако же, этому большинству, когда будет уже слишком поздно, притворяясь, уверять, что никогда и не подозревало истинного положения дел, и негодовать против торга человеческим мясом и варварского насилия, которые прикрываются невинным названием «free labour trade». Собранные факты по этому вопросу (которому я думаю посвятить со временем особую статью) я считаю долгом довести до сведения лиц, имеющих возможность, если захотят, облегчить участь пострадавших и отчасти, хотя бы в незначительной степени, предупредить повторение постоянно практикуемых злоупотреблений белых на островах Тихого океана.
(обратно)287
Вообще я заметил, что Carica Papaya очень быстро акклиматизировалась на берегу Маклая. Теперь нет деревни, где бы она не росла.
(обратно)288
Этот вид дикого банана, по рисунку цветов и плодов и по моему описанию, был назван бароном Ф. Мюллером в Мельбурне «Musa Maclayi» (см. Ргос. of Lynn. Soc. of N. S. W.).
(обратно)289
Я не ошибся, так как месяцев 5–6 спустя германским корветом была сделана съемка южной части порта кн. Алексея, две бухточки которого были названы немцами.
(обратно)290
Тан же могут поступить и пассажиры пароходов других линий, идущих через Суэцкий канал, но германский Ллойд располагает для этой цели специальным пароходом; он идет из Бриндизи, а большой австралийский пароход ожидает его прибытия в Суэце.
(обратно)291
Так как на больших пароходах каюты первого класса расположены не одинаково, т. е. одни расположены на рубке, на палубе, другие выходят в общий зал, третьи находятся около машины и т. п., то совершенно справедливо, что и цены им назначены различные
(обратно)292
Новейшие пассажирские пароходы в Англии и Америке строятся так, что значительное число кают помещают только одного пассажира.
(обратно)293
Койки были на петлях, устроены как «полки на петлях», т. е. их можно было легко поднимать или опускать.
(обратно)294
О древности Адена свидетельствуют искусственные водоемы в скалистом ущелье, которых первоначальное основание полагается 600 лет до христианской эры; в 1873 г. решено реставрировать главнейшие из них и некоторые находятся уже в употреблении.
(обратно)295
Туземный город снабжается водою, доставляемою из Шейк-Отман водопроводом длиною 7 миль, а также после дождей из реставрированного искусственного водоема, который, когда будет совершенно окончен, может вмещать 8 миллионов галлонов воды.
(обратно)296
Который года два тому назад был объявлен находящимся под британским протекторатом.
(обратно)297
Интересная статья, касающаяся антропологии и этнологии племени данакиль, живущего около колонии Ассаб, была напечатана гг. Скарамучи и Жильоли (F. S c a r a m u c c i e E. G i g l i o l i. Notizie sui Danakil e più specialemente su quelli di Assab) «Archivio per l’Antropologia e la Etnologia», 1884
(обратно)298
На возвратном пути из Австралии (в июне) в Коломбо мы узнали, что, например, «Одер», один из новых пароходов северо-германского Ллойда, разбился у с.-в. берега острова Сокоторы, причем все пассажиры и весь экипаж без исключения были спасены, но пароход со всем грузом и багажом пассажиров погиб.
(обратно)299
Называемые так по имени капитана Келинга, который открыл их в 1608 г.
(обратно)300
Копрою называются нарезанные и высушенные куски зерна кокосовых орехов.
(обратно)301
Мне пока остается еще неизвестным, напечатал ли г. С. сообщение о своем посещении островов Келинг и описал ли свои наблюдения об этой интересной аномалии кокосовых пальм.
(обратно)302
Показав сделанный мною на острове Сайбан, около Новой Гвинеи, эскиз этой трехглавой кокосовой пальмы известному австралийскому ботанику барону Ф. Мюллеру в Мельбурне, я узнал от него, что подобная или похожая аномалия находится в одном из садов (если не ошибаюсь, в ботаническом) в Калькутте, но что вообще эти аномалии встречаются очень редко.
(обратно)303
Жемчужная раковина принадлежит к классу Acephala, разряду Мytilасеа, семейству Aviculidae, роду Meleagrina и известна в зоологической систематике под именем Meleagris margaritifera. Хотя особи этого вида очень различны по величине, внешнему виду, цвету и т. п., но они представляют один вид. Научные подробности о жемчужных раковинах (genus Avicula и genus Unio) можно найти в книге: «Die Perlenmuscheln und ihre Perlen». Leipzig. 1859.
(обратно)304
О ловле жемчужных раковин около острова Цейлона см. «An account of the Pearl fisheries of Ceylon, by Gapt. J. Stenart of Colombo», 1843, а также того же автора «Note оn Ceylon», 1862.
(обратно)305
T r a d e r – общее название торговцев в Тихом океане.
(обратно)306
См. мои письма об островах Адмиралтейства, в «Известиях императорского Русского географического общества» за 1878 год.
(обратно)307
Около 20 см в поперечнике. Величина, которую достигают раковины в 6 или 7 лет, различна, смотря по местности, где они живут.
(обратно)308
Обязанность этого человека была своими «чарами» или «заговорами» предохранить ныряющих от разных морских чудовищ, как акул и крокодилов.
(обратно)309
Бывали случаи, что эти «колдуны» были даже христиане (католики).
(обратно)310
Во время моего пребывания на островах Торресова пролива разные темнокожие водолазы часто предлагали мне купить у них жемчуг; в Сиднее я раз видел очень красивую крупную жемчужину, купленную у водолаза-туземца за 10 фунт. стерл. и оцененную знатоками не менее как в 80 фунт. стерл.
(обратно)311
«Journal of the Strait Branch of the Royal Asiatic Society», Singapore, 1878, p. 31.
(обратно)312
Специально австралийское название «уличных негодяев» самого скверного разбора.
(обратно)313
В полученных мною за октябрь месяц австралийских газетах находилось уже официальное заявление со стороны колониального правительства об условиях выдачи премии.
(обратно)314
Эти средства были главным образом разные формы отравы кроличьих нор или разбрасывание отравленной пищи. Против распространения кроликов было предложено сооружение особенных заборов и т. п.
(обратно)315
Не один только кролик выучился применяться к новому отечеству(Австралии), и другие привезенные из Европы животные изменили свои привычки, что видно, например, в перемене пищи овец и скота, которые во время засухи выучились есть такую пищу, до которой не дотронулись бы в Европе. Так, например, презираемый ими в Европе репейник спас огромное количество скота от голодной смерти во время засух. Английская лисица в Австралии предпочитает охотиться на молодых овец и оставляет в покое домашнюю птицу и кроликов. Подобных примеров можно насчитать немало.
(обратно)316
Острова Тонга, открытые в 1643 г. Тасманом, лежат, как известно, между 18 и 22° ю. ш. и 174 и 176° з. д. Между сотнею островов, образующих эту группу, только три (Тонга-Табу, Вавау и Эуа) значительной (около 20 миль длины), семь других средней (от 5 до 7 миль длины) величины, остальные все гораздо меньше. Большинство островов низки. Жителей на всей группе около 30 000 человек.
В 1826 г. туземцы (принадлежащие к полинезийской расе) были обращены в христианство веслеянскими миссионерами. Все умеют читать и писать. Образ правления – монархия, ограниченная периодическими собраниями начальников. Королевство Тонга признано европейскими государствами независимым королевством.
(обратно)
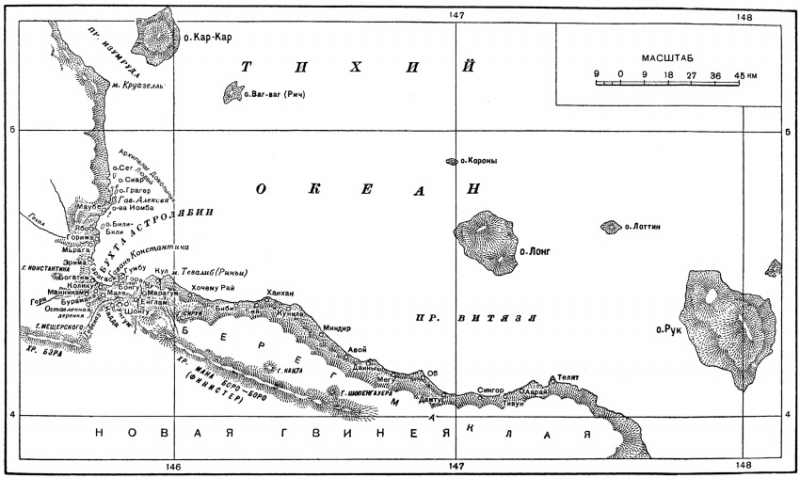
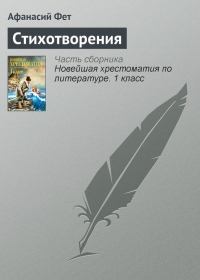

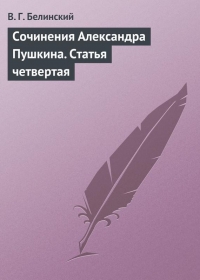
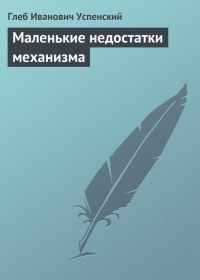
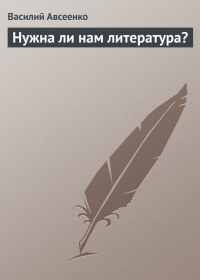
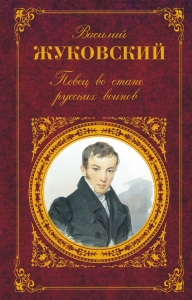

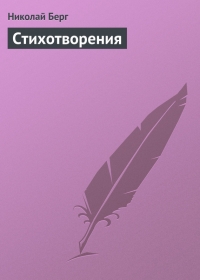
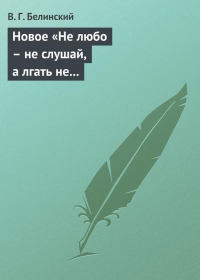
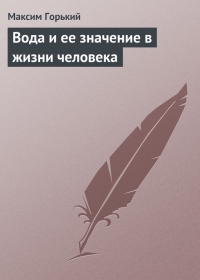

Комментарии к книге «Путешествия на Новую Гвинею (Дневники путешествий 1874—1887). Том 2», Николай Николаевич Миклухо-Маклай
Всего 0 комментариев