Герман Мелвилл Пьер, или Двусмысленности
© Ченская Д.С., перевод на русский язык, 2017
© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2017
* * *
Посвящение
Грейлоку,[1]
Его Великолепнейшему ВеличествуВ былые времена авторы гордились честью посвятить плоды своих трудов Его Величеству. Прекрасный благородный обычай, который мы, жители Беркшира[2], должны возродить. Оживим ли мы его, нет ли, Его Величество по-прежнему находится неподалеку от нас, здесь, в Беркшире, возвышаясь, как на великом Венском конгрессе, грядой величественных холмов и вечно подвергая сомнению наше перед ним преклонение.
Но с тех пор, как величественная гора Грейлок – мой личный, истинный лорд-суверен и король – на протяжении бесчисленных лет была единственным великим вдохновителем посвящений, а было это в те дни, когда первые проблески всех беркширских рассветов только-только начинали брезжить на горизонте, уже много воды утекло. И теперь мне неведомо, как его Императорское Пурпурное Величество (королевской породы: Багрянородный)[3] примет посвящение от моей скромной затворницы-музы.
Как бы там ни было, поскольку я живу в мире с моими добрыми соседями, Кленами и Буками, в амфитеатре, над которым царствует его Августейшее Величество, то я получил от него самые щедрые удобрения в безмерном количестве, и так подобает, чтобы здесь я почтительно преклонил колени и вознес благодарность, невзирая на то, тем не менее, кивает ли благосклонно своей седовласой венценосной головой Его Великолепнейшее Пурпурное Величество Грейлок или нет.
Питтсфилд, МассачусетсГлава I ПЬЕР ВСТУПАЕТ В ЮНОСТЬ
I
В летнюю пору бывают в деревне такие удивительные рассветы, когда тем горожанам, что приехали сюда ненадолго погостить, следует отправиться на раннюю прогулку по полям и преисполниться изумления, увидев, как дремлет этот мир зелени и золота. Ни один цветок не шелохнется, деревья забывают шелестеть, сама трава словно перестает расти; и кажется, что вся природа тихо внемлет своему глубочайшему таинству и, видя, что ей не остается ничего другого, молча тонет в этом восхитительном и неописуемом сне.
Таким было утро в июне, когда из старого, обнесенного оградой фамильного особняка с высоким фронтоном, вышел Пьер, дыша свежестью и бодростью после сна, и радостно ступил на длинную, широкую, поросшую вязами улицу деревни, по привычке направив свои шаги к коттеджу, что смотрел окнами на пейзаж в конце аллеи.
Всюду, куда ни кинь взор, царство зелени лежало в сонной неге, и бодрствовали одни только пестрые коровы, которые сонно брели по своим пастбищам, сопровождаемые – не ведомые – краснощекими босоногими мальчишками.
Притихший, словно околдованный прелестью этого безмолвия, Пьер приблизился к коттеджу и поднял глаза; замерев на месте, он устремил свой взгляд на одну оконную створку, которая была открыта на самом верху. Почему пылкий юноша замер? Почему его щеки вспыхнули и засияли глаза? В окне на подоконнике лежала белоснежная гладкая подушечка, и побег кустарника, темно-красный цветок, нежно склонил на нее свою кудрявую головку.
Немудрено, что на этой подушке ты смотришься прекрасно, ты, благоуханный цветок, подумал Пьер, ведь не более часа назад ее щечка должна была покоиться тут.
– Люси!
– Пьер!
Так сердце беседует с сердцем, чьи голоса обрели звучание, и на мгновение, в радостном затишье утра, двое стояли, молча, но страстно смотря друг на друга, наблюдая взаимные знаки бесконечного обожания и любви.
– Всего лишь Пьер, – сказал наконец молодой человек, смеясь. – Ты забыла пожелать мне доброго утра.
– Этого будет недостаточно. Добрых рассветов, добрых вечеров, добрых дней, недель, месяцев и лет тебе, Пьер, прекрасный Пьер!.. Пьер!
Несомненно, подумал молодой человек, по-прежнему глядя на нее с невыразимой нежностью, несомненно, распахнулись врата рая, и это светлый ангел смотрит на него сверху.
– Я верну тебе твое множество пожеланий доброго утра, Люси, не допускаю, что ты существуешь ночью; и, клянусь Небесами, ты пришла из блаженных земель неугасимого дня!
– Фу, Пьер! Почему вы, юноши, всегда клянетесь, когда любите!
– Потому что в нас любовь светская с тех пор, как она смертельно стремится обрести в вас райское блаженство!
– Здесь ты пролетел снова, Пьер, твои хитрые уловки всегда к этому и ведут. Скажи мне, почему вы, юноши, вечно с таким милым мастерством обращаете все наши шутки себе на пользу?
– Я не знаю, как это происходит, но такова уж испокон веку наша манера. И, встряхнув кустарник у окна, он сорвал цветок и демонстративно прикрепил его за пазухой. – Я должен идти, Люси. Только взгляни, вот знамя, с которым я буду маршировать!
– Брависсимо! О, мой любимый рекрут!
II
Пьер был единственным сыном богатой и высокомерной вдовы; леди, которая являла собой прекрасный пример влияния консервативного и светского круга общения, а также здоровья и обеспеченности, в сочетании со здравым, в меру ограниченным умом, который не был омрачен безутешным горем и который никогда не изнуряли низкие заботы. В зрелые годы румянец по-прежнему цвел на ее щеках, гибкость еще не покинула талию, брови были ровными, а глаза сияли. В блеске и мерцании свечей очередного бала миссис Глендиннинг по-прежнему затмевала юных красавиц, и, если бы она пожелала, за ней по пятам ходила бы огромная свита поглупевших от любви поклонников, немногим старше ее родного сына Пьера.
Но казалось, что поклонения почтительного и любящего сына вполне достаточно этой цветущей вдове; и, кроме того, Пьер, который бесконечно раздражался и порой даже ревновал из-за чересчур пылкого обожания красивых юношей, которые время от времени, пойманные в нечаянную западню, казалось, тешили себя некими напрасными надеждами о женитьбе на этой недоступной смертной, не один раз, с веселой злобой, при всех клялся, что мужчина – седобородый или без бороды, – который дерзнет попросить руки его матери, этот мужчина по мановению некой смертоносной тайной силы разом исчезнет с лица земли.
Эта романтическая сыновняя любовь Пьера, казалось, находилась в полном согласии с триумфальной материнской гордостью вдовы, которая в ясных чертах и благородном духе сына видела свою собственную красоту, удивительно воплотившуюся в противоположном поле. Личное сходство между ними было поразительным; и если цветение его матери было столь продолжительным, невзирая на летящие годы, то Пьер словно перехватил ее на полпути и при великолепном раннем развитии форм и черт почти достиг во времени той точки зрелости, где его прекрасная мать находилась так долго. В шутливости своей безоблачной любви и пользуясь той необыкновенной привилегией, которая долго взращивалась на совершенном доверии и взаимопонимании по всем вопросам, они имели обыкновение называть друг друга братом и сестрой. На публике и дома это была их привычка; не исполняемая при незнакомцах, эта маленькая пьеса всегда давала обильную почву для игривых намеков, ибо свежесть миссис Глендиннинг вполне оправдывала такое молодящее обращение… В этой праздности и легкомыслии один за другим протекали безоблачные дни общей жизни матери и сына. Но так и река спокойно несет свои воды, пока не встретит на пути крупные валуны, которым суждено навсегда разделить ее на два неслиянных потока.
Превосходный английский писатель тех времен, перечисляя главные преимущества своей жизненной участи, в первую очередь упоминает о том, что он родился в деревне. Так было и с Пьером. Наилучшей судьбой для него было появиться на свет и расти в деревне, в окружении картин природы, необычайная прелесть которых была превосходной почвой для утонченного и поэтического ума, в то время как общеизвестные названия пленительных окрестных красот взывали к самым гордым патриотическим и семейным воспоминаниям из истории рода Глендиннингов. На лугах, которые под уклоном спускались от затененного тыла поместного особняка, вдали от извилистой реки, на заре колонизации прогремело сражение с индейцами, и в том сражении прапрадед отца Пьера, смертельно раненный, сброшенный с лошади, сидел на седле в траве и угасающим голосом побуждал своих солдат идти в атаку. С тех пор эти места стали называть Седельными Лугами, то же название получили поместье и селение. Далеко за этими равнинами, – такое расстояние Пьер мог пройти за день, – высились легендарные горы, где во времена Войны за независимость[4] его дед несколько месяцев защищал примитивный, но имеющий очень важное стратегическое значение форт от повторяющихся атак индейцев, тори и регулярной армии. До этого форта добежал, спасая свою жизнь, цивилизованный, но кровожадный метис Брендт, его пустили внутрь и сохранили жизнь, а он стал сотрапезником генерала Глендиннинга в мирные времена, которые последовали за мстительной войной. Все воспоминания о Седельных Лугах наполняли Пьера гордостью. Своими подвигами Глендиннинги не только закрепили за собой надолго свое поместье, но и захватили также знаки власти трех индейских вождей, исконных и единственных властителей этих величественных лесов и равнин. С таким-то высокомерием Пьер в те дни, когда был беспечным молодым человеком, относился к истории своей семьи, мало заботясь о том, чтобы повзрослеть и начать более широко и критично смотреть на жизнь, что навсегда лишило бы эти события прошлого того блеска славы, которым упивалась его душа.
Но воспитание Пьера было бы неблагоразумно ограниченным, если бы всю свою юность он безвыездно провел в деревне. Еще маленьким мальчиком он начал сопровождать своих отца и мать – и после одну только мать – в их ежегодных поездках в город; и там, натурально, вращаясь в большом и блестящем обществе, Пьер постепенно приобрел более изящные манеры, но не изнеженность, которая не подобала бы потомку из прославленного военного рода, растущему на чистом деревенском воздухе.
Не только личность и манеры Пьера были довольно поверхностными, он был также обделен по части лучших и чистых человеческих чувств. Не напрасно провел он долгие летние послеполуденные часы в полном уединении отцовской библиотеки, в которой были тщательно подобраны книги благопристойного содержания, где нимфы Спенсера слишком рано заманили его в путаницу лабиринтов всепокоряющей красоты. Словом, с приятным жаром в конечностях и нежным, но воображаемым жаром в сердце наш Пьер незаметно для себя вступил в пору юности, не ведая о том грядущем периоде жестокой проницательности, когда это слабое пламя покажется ему прохладой и он станет исступленно искать более пылких страстей.
Но те гордость и любовь, которые так много участвовали в воспитании молодого Пьера, не забыли научить его самому главному. Отец Пьера был абсолютно убежден, что все благородство заключается в самомнении, всякое воззвание к которому нелепо и абсурдно, если только оно не исходит от главенствующего благородства и нравственного величия, присущего религии, которая была в таком полном согласии с его цельной натурой, что, называя себя джентльменом, он мог по праву принимать смиренный, но не лишенный величия вид истинного христианина. С шестнадцати лет Пьер помогал матери вершить святые таинства[5].
Было бы излишне и довольно затруднительно, может быть, точно назвать те побуждения высшего порядка, которые дали жизнь его юношеским мечтам. Довольно и того, что Пьер унаследовал иные и многочисленные благородные черты своих предков и оставался наследником их лесов и ферм; так что, по независимому стечению обстоятельств, он, казалось, перенял их безоговорочное смирение перед святой верой, которую первый Глендиннинг привез из-за океана, из прежнего отечества, на которое пала тень английского священнослужителя. Стало быть, Пьер являл собой благородную сталь джентльменского клинка, пристегнутого к шелковому поясу католической веры, и героическая смерть прапрадеда влила в его сердце мечты о том, что в последней суровой схватке роскошный кушак непременно стяжал бы своему обладателю венец Славы, который надобно носить ради божьей благодати всю жизнь и который обовьет его, когда мужчине настанет срок упокоиться в могиле. Но, обладая столь чутким восприятием красоты и поэтичности отцовской веры, Пьер слабо предвидел, что в этом мире есть место для тайны, более сокровенной, чем красота, и что бремя жизни подчас тяжелее смерти.
Столь счастливо для Пьера долгое время текла известная часть его жизни, что он отыскал лишь один изъян в этой велеречиво составленной книге судеб. В почтенном фолианте ни слова не говорилось о сестре. Он сокрушался, что такое приятное чувство, как братская любовь, обошло его стороной. Не мог фиктивный титул, которым он так часто ласкал слух своей матери, заполнить эту пустоту. Его чувства были совершенно уместны, но в их коренных мотивах и причинах даже Пьер не мог в то время толком разобраться. Как правило, прекрасная сестра – второй счастливый дар, который небеса вручают мужчине, и первая серьезная веха в жизни, ибо жена появляется позже. Многие душевные качества, которые потом составляют очарование жены, он сперва находит в сестре.
«О, если бы у моего отца была дочь! – не единожды сетовал Пьер. – Та, кого я мог бы любить, и защищать, и сражаться за нее в случае нужды. Как это было бы славно – биться в смертельной схватке ради очаровательной сестры! Ах, больше всего на свете я бы хотел, о боже, чтобы у меня была сестра!»
В таких выражениях, до того как он увенчал себя розами возлюбленного, Пьер нередко молил Небеса даровать ему сестру, но в то время Пьер еще не ведал, что если и должен человек горячо молиться о чем-то, так это о том, чтобы не сбылись в точности те молитвы, самые благочестивые, которые он возносил к Небесам в юности.
Может быть, эта необъяснимая тоска Пьера по сестре была отчасти вызвана тем, что временами на него накатывало леденящее чувство одиночества – он был не только главой семьи, но и единственным в роду, наследующим имя Глендиннингов. Число ветвей могучего и раскидистого фамильного древа мало-помалу убывало, и так как у родных на свет рождались одни девочки, то не успел Пьер опомниться, как в его окружении появилось много родственников и родственниц, но среди них не было ни одного мужчины, кто носил бы фамилию Глендиннинг и мог составить ему компанию, за исключением его отражения в зеркале. Но когда он находился в своем обычном расположении духа, мысли об этом не слишком его печалили. Более того, порой это и вовсе была волна ликования, которая накрывала его с головой. Стоило ему об этом подумать, как он сначала розовел слабым румянцем, а потом делался красным, как кумач, ибо нежно лелеял в глубине своего юного сердца тщетную и блистательную надежду стать единственным, кто воздвигнет столп славы, который вознесется ввысь по сравнению с монументами, что воздвигли его благородные предки.
При всем этом наш Пьер был ничуть не встревожен тем зловещим и пророческим опытом, каковым взывали к нему не столько пальмирские каменоломни, сколько сами пальмирские руины. Среди тех руин высится одна разрушенная, недостроенная колонна, и на несколько лиг дальше – брошенная в каменоломнях века назад, ветхая и древняя капитель к ней, также неоконченная. Эти гордые развалины захвачены и разрушены временем, эти гордые останки время сокрушило еще в зародыше, и надменную капитель, что должна была взмывать к облакам, время попрало, оставив лежать в грязи. О, как неугасимо пылает эта вражда, которую время ведет с сынами человеческими!
III
Нам уже известно, что красота окружающей природы навевала Пьеру гордые воспоминания. Но не одну простую игру случая нужно было благодарить за то, что этим прекрасным землям выпала честь прогреметь в веках благодаря подвигам его предков, ведь, по мнению Пьера, эти холмы и болотистые низины были, казалось, священными оттого только, что долгие годы находились в безраздельном владении его рода.
Нежная сентиментальность, любя, набрасывает на все окружающее покров мечты, и в ее глазах бесконечно драгоценна малейшая безделушка, что когда-то принадлежала любимому человеку, который давно исчез с лица земли; для Пьера в роли такого талисмана выступали все окрестные земли, ибо он помнил о том, что этими холмами любовались его благородные предки, по этим лесам, по этим лужайкам, у этих ручьев, этими запутанными тропками многие важные дамы в его роду гуляли во времена своего веселого девичества; рисуя в своем воображении такие живые картины, Пьер, любящий потомок, наделял эти места символическим смыслом, так что даже сам горизонт казался ему памятным кольцом.
Монархии остального мира до сих пор верят химерам, что в демократической Америке все еще не воздвигли ни одного долговечного кумира своему святому прошлому и одним только вульгарным страстям навеки суждено все бурлить да кипеть в этом котле неопределенного настоящего. Их заносчивость, по-видимому, очень точно определяет общественное положение наших бар. Когда нет ни привилегированной знати, ни майората, как подобает вести себя членам любой аристократической фамилии в Америке, чтобы навеки торжественно занести свое имя в анналы истории? Конечно, есть известная пословица, которая гласит, что, сколь бы ни была знаменита семья, спустя всего полвека ее может постигнуть забвение; эта максима, вне всяких сомнений, остается в силе, когда речь идет о простых людях. В наших городах семьи растут и лопаются, как пузыри в бочке. В самом деле, дух истинной демократии действует у нас как слабый кислотный реактив, неизменно производя на свет новое, когда разъедает старое; так на юге Франции получают ярь-медянку, простой вид зеленой краски, разъедая перебродившей виноградной выжимкой старые медные пластины, которые туда опускают. Одним словом, нет в природе более красочного разложения, чем процесс коррозии, но, с другой стороны, ничто так живо не внушает мысль о торжестве жизни, как зеленый цвет, ибо зеленый – особый символ вечного изобилия самой природы. В этом, если смотреть на все сквозь призму удачной метафоры, и заключается необъяснимая притягательность Америки; и не стоит удивляться, что в чужих краях сложилось о нас совершенно неверное представление, если мы поразмыслим над тем, в каком удивительном противоречии Америка находится по отношению ко всем мерилам прежнего жизненного уклада и как чудесно все для нее сложилось, когда сама смерть преобразуется в жизнь. Поэтому те политические учреждения, которые в других странах кажутся стоящими выше всякого притворства, в Америке, мнится, обладают божественной добродетелью природного закона, ибо самый могущественный из природных законов тот, согласно которому она из смерти рождает жизнь.
Впрочем, остались еще такие явления в осязаемом мире, над которыми не столь властна самодержавная и вечно переменчивая природа. Трава вырастает заново каждый год, но дубовые ветви не поддаются этому закону годичной метаморфозы в течение долгих лет. И если в Америке не счесть семей, столь же кратковечных, как листья травы, то немного найдется таких, что высятся, подобно столетнему дубу, который, вместо того чтобы гибнуть, каждую весну выпускает новые ветви, так что само время капитулирует перед ним и, не отсчитывая его уходящие минуты, начинает служить умножению его процветания.
В этом важном разборе мы станем – без тени высокомерия и честно – сравнивать наши родословные с английскими, и после того, как минует первое смущение, сколь бы странным это ни показалось, не обойдемся без требования определенного равенства. Смею сказать, что «Книгу Пэров» в таком вопросе можно смело взять за классический образец, с помощью которого мы можем судить о ней же, ведь составители этого труда не могут совсем не знать, на чье именно покровительство они больше всего уповают, и обыкновенный здравый смысл подскажет нашему народу, как следует судить о нас. Но звучные титулы не должны сбивать нас с толку и заставлять по обычаю покорно склонять голову. Ибо как дыхание в наших легких совершает передачу наследия от одного к другому и в эту самую минуту мое живое дыхание имеет более длинную родословную, чем она у тела верховного раввина евреев, и уходит корнями в такую даль, до которой только можно безошибочно проследить ее, так и имена простых людей, подобно воздуху, также выступают звеньями цепи этой нескончаемой родословной. Но если Ричмонд[6], и Сент-Олбанс[7], и Графтон[8], и Портленд[9], и Бакклюф – эти имена почти такие же древние, как сама Англия, то у современных герцогов, носящих эти титулы, подлинная родословная прервалась во времена правления Карла II[10], и не нашла себе ни единого достойного источника; и с тех-то самых пор, как мы полагаем, менее всех под солнцем прославились предки тех самых Бакклюфов, к слову, чьи прапрабабки не смогли увернуться от чести стать матерями, это правда, но каким-то чудом избежали церемоний, предваряющих подобные события. Король в те времена еще был властелином. В те времена жилось несладко, ведь если можно, поморщившись, стерпеть толчок от бедняка, то смертельно обидно, когда тебя задевает джентльмен, и, стало быть, подпасть под случайный удар короля – самая незавидная участь на свете. В Англии пэрство продлевает себе жизнь постоянными реставрациями и всяческими ухищрениями. Благодетель, которого звали Георгом III[11], произвел в пэры пятьсот двадцать два человека. Был один графский титул, что пылился в забвении пять веков, пока нежданно-негаданно его не присвоил себе некий буржуа, который не мог похвастаться правильным происхождением, зато держал свору бойких адвокатов, которые ловко придали делу нужный оборот. Признаем, что ни Темза, с ее извили стым природным руслом, ни Бриджуотерский канал,[12] с его запутанным судоходным движением, не могут сравниться с замысловатыми родословными как потомственных, так и новых аристократов. Недолговечные, как трава, и плодящиеся, как плесень, те семьи, которым сделали прививку дворянства, благоденствуют и уходят в небытие в вечных и знатных землях. В Англии наших дней угасло двадцать пять сотен дворянских родов, но их титулы уцелели. Так это пустое сотрясение воздуха, титул, живет на свете дольше, чем сам человек или даже чем целые дворянские династии; и хоть воздух наполняет легкие человека и дает ему жизнь, но человек не властен заполнить пустоту воздуха или вдохнуть в него жизнь взамен.
Стало быть, вся честь принадлежит титулам, и вся светская учтивость – живым людям; но если Сент-Олбанс станет толковать мне о своей древней и прославленной родословной, я вынужден буду со всей возможной учтивостью отослать его к Нелл Гвинн[13].
После царствования Карла II совсем немного найдется семей – они едва ли стоят упоминания – нынешних титулованных семейств Англии, которые могут гордиться тем, что принято называть прямым и незапятнанным происхождением по крови от норманнских рыцарей-захватчиков. После царствования Карла II все претензии на незапятнанную родословную звучат насмешкой, хотя иные евреи-старьевщики – из тех, что расхаживают с чайницей на голове, – листают первую главу из Св. Матфея в надежде открыть, что ведут свой род от царя Саула, который отошел в мир иной задолго до того, как на историческом небосклоне взошла звезда Юлия Цезаря.
Теперь же, ни слова не говоря больше о том, что в Англии до сих пор есть несчетное множество каменных стен, возведенных монархией, стен, призванных служить той опорой, которая из поколения в поколение поддерживает известные родовитые семейства, но для нас ничего подобного не предусмотрено, и нигде не найдешь ни строчки о сотнях заурядных семейств в Новой Англии, которые, однако, могут без труда перечислить всех своих предков, коренных англичан, начиная со времен Карла Пройдохи[14]; не говоря уже о старых и напоминающих азиатские семьях английских колонистов, живущих в Вирджинии и на Юге – например, Рэндольфы, чей предок во времена правления короля Якова I[15] взял в жены индейскую принцессу Покахонтас, и посему в их жилах вот уже более двухсот лет струится местная королевская кровь, – представьте, каковы древние и величественные герцогские владения этого семейства на Севере, что тянутся на мили, чьи луга занимают необозримые просторы, сравнимые с соседними странами, и которое вершит высокие деяния во имя арендной платы за счет тысячи своих фермеров-арендаторов с тех пор, как трава научилась расти, а вода – течь, и чьи намеки на то, что они, дескать, вносят своими деяниями неоценимый вклад в историю, заставили бы покраснеть бумагу. Иные из этих усадеб стоят уже более двух сотен лет; и их нынешние домоправители или лорды могут показать вам столбы и камни в своих владениях, которые были поставлены там – по крайней мере, камни – еще до рождения ее светлости Нелл Гвинн, герцогини-матери, и родословная которых, словно их родная река Гудзон, несет свои волны в такую же даль и столь же прямо, как течение озера Серпентайн[16] в Гайд-парке.
Эти бескрайние луга, принадлежащие герцогам, покоятся, окутанные легкой дымкой индейского тумана; и восточный патриархат правит в этих сонных лощинах и пастбищах, где фермерский скот будет пастись во веки веков, пока трава не перестанет расти и ручьи не пересохнут. Такие усадьбы словно бросают вызов хищному времени, они по воле случая корнями вросли в здешнюю древнюю землю и будто бы заключили полюбовную арендную сделку с вечностью. Невообразимая дерзость червя, который ползет по земле, воображая, что правит ею, словно император!
В центральных графствах Англии гордятся своими старинными столовыми из дуба, где, случись дождливый полдень, во времена Плантагенетов могли бы упражняться триста мужчин с оружием. Однако наши лорды, владельцы поместий, не интересуются прошлым, а живут одним лишь настоящим. Они станут вам убедительно доказывать, что государственная перепись населения графства не более чем часть списка их арендаторов. Цепи гор, высокие, как Бен-Невис[17] или Сноудон[18], считают они своими крепостными стенами; и целая регулярная армия, вместе со штабными офицерами, однажды форсировала реки, везя с собой с артиллерию, и маршировала по девственным лесам, и шла нескончаемыми скалистыми теснинами, посланная арестовать три тысячи фермеров, арендаторов некого лендлорда, – арестовать всех разом. История, поразмыслив над которой приходишь к двум выводам, и оба лучше обойти молчанием.
Но что бы мы ни думали о тех богатых поместьях в самом сердце республики и сколько бы мы ни гадали, отчего они пережили, словно индейские могильные холмы, наводнение Революции[19], все так же будут они стоять, уцелевшие и невредимые, только отойдут во владение к новым господам, украшенным пустыми титулами, в коих не больше цены, чем в старой отцовской шляпе любого деревенщины или в ветхом венце прадядюшки любого герцога.
Подводя итог, скажу, мы ненамного ошибемся, если выдвинем скромное предположение, что наша Америка – если она решит прославиться в этом ничтожном деле – примет совместно с Англией славное общее решение по этому маленькому, пустяковому вопросу обширных поместий и длинных родословных – я говорю о родословных, где не сыщешь порока.
IV
В общих чертах мы решились сделать набросок великих родословных и окостенелой фамильной гордости известных семейств Америки, поскольку так мы на языке поэзии поведаем о том роскошном и аристократическом положении, кое господин Пьер Глендиннинг занимал в обществе, в характере которого, как мы уже заметили, была некая особая фамильная черта. И продолжение истории не замедлит показать внимательному читателю, сколь важно это обстоятельство, если принять во внимание особенности домашнего воспитания и жизненный путь нашего героя, в высшей степени необычный. Ни один мужчина не допустит и мысли о том, чтобы отдать последнюю главу одной глупой браваде, не держа в уме ясной цели.
Пьер ныне вознесен на пьедестал благородства, и далее мы увидим, сможет ли он удержать свое высокое положение, далее мы увидим, не найдется ли у судьбы по крайней мере одного или двух совсем небольших, но веских возражений на сей счет. Но это вовсе не означает, что род Глендиннингов древнее, чем династии египетских фараонов, или что деяния господ из Седельных Лугов затмевают трех волхвов из Библии. Подвиги их, как мы уже успели рассказать, возвращают нас, тем не менее, во времена трех королей – вождей индейцев, только куда более благородных правителей, несмотря на все.
Но если род Пьера все же не столь древен, сколь старо правление фараонов в Египте, и если фермер-англичанин Гемпден[20] не держал когда-то, в некотором роде, в своих руках судьбу пращуров Глендиннингов, и если некие владельцы неких американских усадеб мнили, что их род возник на несколько лет раньше и что их угодья на несколько миль больше, то все же, спрашиваете вы, разве это возможно, чтобы молодой человек девятнадцати лет от роду задумал – просто забавы ради – расстилать по полу своей родовой аристократической гостиной снопы спелой пшеницы и затем, в той же гостиной, молотить пшеницу цепом, да так, что лихой свист этого цепа было бы слышно по всей усадьбе; разве нет вероятности, что такой молотильщик зерна, рассыпающий пшеничные колосья по полу собственной родовой аристократической гостиной, не ощутит, по крайней мере, один или два укола того чувства, которое можно назвать оскорбленной дворянской гордостью? Конечно нет.
Или, по вашему мнению, могло ли все сложиться иначе для нашего молодого Пьера, если каждое утро, спускаясь к завтраку, он непременно цеплял взглядом то одни, то другие старые изорванные британские боевые знамена, кои свисали с арочных окон в холле, – знамена, что были взяты его дедом, генералом, в честном бою? Или, по вашему мнению, могло ли все сложиться иначе, если каждый раз, слыша, как играет деревенский оркестр военного ансамбля, он ясно различал гулкий голос британских литавр, также захваченных его дедом в честном бою и впоследствии удачно добавленных к духовому оркестру и дарованных артиллерийскому корпусу Седельных Лугов? Или, по вашему мнению, могло ли все сложиться иначе, если порой в кроткое и безмятежное утро Четвертого июля[21] в деревне, гуляя по саду, он проходил через парадный строй тростника с длинным величавым скипетром с серебряным наконечником – жезлом генерал-майора, которым тот когда-то помавал, командуя на военном параде, где склонялись плюмажи и вспыхивали мушкетные выстрелы по распоряжению его родного деда, того самого, о котором мы не раз уже заводили речь? Конечно, соображаясь с тем, что Пьер был еще очень юным и не склонным к длительным серьезным размышлениям, да к тому же, можно сказать, голубых кровей, и тем, что время от времени он перечитывал историю Войны за независимость, и имел мать, которая не упускала случая, чтобы косвенно не помянуть в каком-нибудь светском разговоре о воинском звании генерал-майора, что некогда носил его дед… конечно, что там и говорить, неудивительно, что тот вид, который он считал своим долгом принимать, был очень гордый, победный вид. И если такие наклонности покажутся слишком нежными и глупыми для характера Пьера, и если вы скажете мне, что подобные свойства натуры аттестуют его как отнюдь не безупречного демократа и что истинно благородный человек никогда не станет гордиться ничьими подвигами, кроме своих, тогда я вновь умоляю вас вспомнить о том, что в те времена наш Пьер был еще совсем мальчишкой. И поверьте мне, настанет час, когда вы провозгласите Пьера самым радикальным из всех демократов – возможно, даже слишком радикальным, на ваш взгляд.
В заключение не порицайте меня, если я здесь повторюсь и дословно процитирую свои же собственные слова, сказав, что наилучшей судьбой для Пьера было появиться на свет и расти в деревне. Ибо для молодого человека, американского дворянина, такая судьба и в самом деле – больше, чем в любой другой стране, – поистине редкий и наилучший удел. Как уже не раз было замечено, пока в других странах самые знатные семьи с гордостью называют деревню своим домом, нашим дворянам более привычно гордо называть таковым домом город. Слишком часто тот американец, который сам нажил состояние, обязательно воздвигает большой внушительный особняк на самой большой улице самого большого города. А европеец с тем же достатком непременно поселится в деревне. И потому европеец окажется в несравненно более счастливой среде, чего не станут отрицать ни поэт, ни философ, ни аристократ. Известно, что природа деревни не только настраивает человека на самый поэтический и философический лад, но что также это наиболее пригодные для аристократии декорации на всем белом свете, поскольку они самые древние, и великое множество поэтов бессчетное количество раз венчало ее на царство под сотней пышных титулов. Город всегда был довольно-таки плебейским местом для проживания, чья истинная наружность, помимо прочего, яснее всего отражалась в каком-нибудь грязном немытом лице, бесконечно изможденном тяготами городской жизни; но деревня, как и любая королева, которой прислуживают добросовестные камеристки, всегда наряжена в одеяния по сезону, и у города есть всего одно платье из кирпича, подшитого камнем, но у деревни найдется прекрасный убор для каждой недели в году, и порой она меняет его двадцать четыре раза в двадцать четыре часа, и деревня днем радует своим солнцем, сияющим, словно бриллиант на челе королевы, и ночные звезды у ней – как ожерелье из золотых бус, тогда как городское солнце – дымный страз, а отнюдь не бриллиант, и городские звезды – фальшивая бижутерия, а отнюдь не золото.
Итак, природа взрастила нашего Пьера в деревне, ибо природа сулила Пьеру необычайные и головокружительные горизонты. Не имеет значения, что так она выставила себя перед ним в двусмысленном свете под самый конец, как бы то ни было, в начале-то она поступила прекрасно. Она трубила в пастуший рог с голубых холмов, и Пьер выкрикивал вслух поэтические строфы, которые звучали как трубный глас – так боевой конь бьет копытом в восторженном упоении. Она вздыхала в рощах среди густой листвы по вечерам, и вкрадчивый шепот о человеколюбии и нежный шепот о любви вплетался в мысли Пьера, приятно журчал, как говор ручья, бегущего по камням. Она надевала по ночам блестящий шлем, густо усеянной звездами, и вслед за появлением на небе их божественной Царицы и Владычицы десять тысяч воинственных мыслей о героизме бряцали оружием в душе Пьера, и он смотрел кругом в поисках попранного благого дела, чтобы встать на его защиту.
Одним словом, деревня была сущим благословением для молодого Пьера; и далее мы увидим, покинет ли его это благословение, как оно покинуло древних иудеев; далее мы увидим, вновь говорю я, не найдется ли у Судьбы по крайней мере одного или двух совсем небольших, но веских возражений на сей счет; далее мы увидим, не будет ли здесь уместно одно небольшое скромное латинское изречение – Nemo contra Deum nisi Deus ipse[22].
V
– Сестрица Мэри, – сказал Пьер, когда вернулся со своей утренней прогулки, и легонько постучался в дверь спальни матери, – знаете ли вы, сестрица Мэри, что деревья, которые бодрствовали всю ночь, сейчас вновь выстроились этим погожим утром перед вашим окном?.. Чувствуете ли вы запах кофе, сестра моя?
Легкие шаги послышались внутри спальни и проследовали к двери, которая отворилась, открывая миссис Глендиннинг в атласном утреннем халате, с широкой яркой лентой в руке.
– Доброе утро, мадам, – вымолвил Пьер с поклоном, в коем сквозило одно искреннее и неподдельное почтение, что занятным образом не вязалось с его прежним игривым к ней обращением, – вот каким любящим и обходительным было проявление его чувств, источником коих было глубочайшее сыновнее уважение.
– Добрый день, Пьер, так как, думаю, уже настал день. Но входи, ты поможешь завершить мой туалет… входи, брат. – Мэри Глендиннинг протянула ему ленту. – Теперь смелее за дело, – велела она и, усевшись против зеркал, ожидала, что Пьер заботливо поможет ей нарядиться.
– Первая камеристка к услугам вдовствующей герцогини Глендиннинг, – ответил Пьер, смеясь, и с той же грацией, с коей кланялся матери, он обернул ленту вокруг ее шеи, соединив концы впереди.
– Так, но чем ты скрепишь их вместе, Пьер?
– Я собираюсь закрепить их поцелуем, сестричка, вот сюда!.. О, право, жалко, что такие фермуары не всегда удержат!.. Где та камея с оленятами, что я вам подарил вчера вечером?.. А! на туалетном столике – вы собираетесь ее надеть нынче?.. Благодарю вас, вы самая внимательная и тактичная сестра… вот так!.. Но постойте, здесь локон, он выбился… так, теперь, дорогая сестра, вознаградите мои старания вашим ассирийским кивком.
Надменная мать не спеша поднялась со своего места, скрывая счастливый блеск в глазах, и, пока она стояла перед зеркалами, критическим оком взирая на плоды его трудов, Пьер, заметив распустившиеся ленты банта на ее туфельке, преклонил колени и завязал его.
– Теперь идемте пить кофе! – воскликнул он. – Мадам!
С веселой учтивостью Пьер предложил руку матери, и пара спустилась к завтраку.
Миссис Глендиннинг неизменно следовала одному из тех правил, которые усваиваются посредством интуиции, коей женщины порой повинуются, не раздумывая: никогда не выходить к сыну в дезабилье, которое можно было бы счесть хоть в чем-то неподобающим. Она сама немало наблюдала жизнь, и опыт открыл ей море обычных уловок, которые, правда, на поверку оказывались совершенно бессильными, если на них никак не реагировали. Ей было превосходно известно, сколь велика такая власть, когда даже и в самых тесных сердечных отношениях простейшей видимости дано компенсировать нехватку ума. И так как та пылкая любовь и старосветская обходительность, которые выказывал матери Пьер, доставляли ей величайшую радость в жизни, то она не пренебрегала ни единой мелочью, что могла бы, возможно более упрочить столь приятную и лестную для нее привязанность.
В придачу ко всему миссис Глендиннинг была в первую очередь женщиной, и притом женщиной, одаренной куда большим женским тщеславием, чем его отпущено особам заурядным – если только ее чутье можно назвать тщеславием, – почти пятьдесят весен пронеслось над ее головой, а это чутье и единожды не допустило ее до такого ложного шага, что привел бы к широкой огласке, или дало ей повод хотя бы раз испытать острую сердечную боль. Более того, она никогда не заботилась о том, чтобы вызвать восхищение окружающих, поскольку таково было неотъемлемое ее право, беспроигрышное преимущество неизменной красоты, коей она всегда обладала, ради чего она не пошевелила и пальцем, так как повсюду ее неизменно окружали поклонники. Тщеславие, которое у стольких женщин становится духовной червоточиной, а чрез то – осязаемым злом, в ее частном случае – хотя она и обладала тщеславием в превосходной степени – было все же приметой величайшего ее благополучия, и, поскольку она никогда не знала, каково это, томиться мечтой о счастье, то ей и в голову не приходило, что она им обладает. Многие женщины шествуют по жизни, неся этот свет души своей, как яркую печать, пламенеющую на лбу, но Мэри Глендиннинг, сама того не ведая, таила его внутри. При помощи бездны женских уловок, хитросплетенных, как ажурные кружева, она излучала ровный свет, как сосуд, в коем всегда мерцает спокойный огонь, не дающий наружу ни малейшей вспышки, и кажется, что сияет он только благодаря чистоте самого благородного мрамора. Но тот дурман восторженных похвал, расточаемых всеми наперебой, коим довольствуются иные светские женщины, не был предметом желаний матери Пьера. Не поклонение всех мужчин без разбору, но служение избранных, благороднейших мужчин – вот что, она чувствовала, ей истинно подобало. И поскольку ее слепая материнская любовь была склонна преувеличивать и приукрашивать редкие и исключительные достоинства Пьера, она избрала бескорыстную преданную любовь его пылкой души нести счастливую службу лучшего кавалера, коего предпочли всем прочим благородным поклонникам, добивавшимся той же чести. Так, хотя по жилам ее бежал ток первоклассного тщеславия, она с той скромностью, что паче гордыни, довольствовалась служением ей одного лишь Пьера.
Но, будучи женщиной разумной и сильной духом, служение даже самого благородного и самого одаренного мужчины она почитала за ничто, если только не была уверена, что может оказывать на него косвенное влияние и что ее чары прочно опутали его душу; и хотя Пьер был умнее своей матери во сто крат, он, однако же, по неизбежной слабости неопытного и недалекого молодого человека на диво послушно следовал материнским советам почти в каждом деле, что сколько-нибудь интересовало или волновало его, потому-то пылкое служение Пьера было для Мэри Глендиннинг неиссякаемым источником всех радостей, какие только может испытывать удовлетворенная гордость, и пищей для ее самодовольства, которое было бы более к лицу юной дебютантке – покорительнице сердец. Более того, сей неведомый и бесконечно тонкий аромат несказанной нежности и заботы, кои в каждой безупречной и благородной привязанности шествуют рука об руку с ухаживанием и предваряют торжественное объявление о предстоящем бракосочетании и саму церемонию, но который, словно букет самого дорогого немецкого вина, мигом улетучивается, если пристраститься его пить и смотреть на все сквозь призму разочарования супружеских дней и ночей; эти отношения, самого светского и пустого толка, если верить опыту всей нашей жизни на этом свете, голубиная чистота этих уз, кои для сына были поистине священными, – все это Мэри Глендиннинг, ныне стоящая на пороге большого климакса, видела чудесным образом расцветшим в светски обходительном, как у кавалера прежних дней, ухаживании Пьера.
Вместе с тем ее уменье пленять сердца, коим она обязана была тому счастливому, но совершенно необъяснимому стечению самых благоприятных и необыкновенных обстоятельств, посредством коих ей довелось появиться на свет с серебряной ложкой во рту, и потому еще, что время не теснило ее больше по милости наступившего климакса, который может стать смертельным ядом для заурядной страсти, власти этих слабеющих чар, которые пока радостно кружили мать и сына на одной орбите, казалось, приходило на смену то славное время, когда даже самая сильная привязанность, коя довлеет над нами в пору расцвета любви, способна без конца распадаться на мириады не столь глубоких чувств нашей довольно пестрой жизни. Если взглянуть на все открытым и беспристрастным взором, то может показаться, будто на нашей грешной земле и впрямь претворились в жизнь заветные мечты тех религиозных фанатиков, кои горазды рассказывать нам о Рае, что-вот настанет, и тогда самая благочестивая любовь человеческая, коя стала уже едва заметной под спудом разнородного мусора и шлака, воссияет, соединяя всех родных и близких узами непорочной и нескончаемой радости.
VI
Имелась одна незначительная прозаическая черта, которая в глазах иных могла повредить романтическому облику благородного Пьера Глендиннинга. Ему всегда был свойствен превосходный аппетит, который сильнее всего давал о себе знать за завтраком. Но когда мы узнаем про то, что руки Пьера хоть и были маленькими, а манжеты – белоснежными, но эти руки никак нельзя было назвать изнеженными, и про то, что лицо его покрывал легкий загар, и про то, что чаще всего вставал он с восходом солнца, и про то, что не мог уснуть, если не совершил днем своей обычной пешей прогулки в двенадцать миль или конной – все двадцать, или не повалил с топором в руках какой-то неохватной тсуги в своих лесах, или не побоксировал, или не поупражнялся в фехтовании, или не поработал веслом, занимаясь греблей, или не проделал какой-нибудь новый гимнастический трюк; когда мы узнаем об этих, привычных Пьеру занятиях спортом; когда мы увидим ту гору мышц и мускулов, какой было его тело, каждая мышца и мускул коего по три раза на дню заявляли о себе громким урчанием в животе, мы тотчас же признаем, что в его большом аппетите не только нет ничего вульгарного, но что такой аппетит воистину благодать божья и делает Пьеру честь, доказывает, что он мужчина и джентльмен, ибо истинно благородный джентльмен всегда силен и здоров, а сила и здоровье всегда славились своим обжорством.
Так, когда Пьер и его мать спустились к завтраку, Пьер добросовестно проследил за тем, чтоб для нее были созданы все удобства, какие только можно было измыслить, и дважды или трижды приказывал почтенному старому Дэйтсу, слуге, закрыть то на тот, то на этот манер оконные створки, чтобы ни один злонамеренный сквозняк не позволил себе неподобающих вольностей, касаясь шеи его матери, после чего он сам все осмотрел, но уже спокойно и незаметно, и затем приказал невозмутимому Дэйтсу повернуть под определенным углом, ближе к свету, картину недурного вкуса, жизнерадостную, писанную в добропорядочном фламандском стиле (коя крепилась к стене таким образом, что вполне годилась на подобные перемещения), и в довершение всего обратил несколько раз вдохновенный взор с того места, где он сидел, на заливные луга к голубым горам вдалеке. Пьер подал масонского рода, таинственный знак превосходному Дэйтсу, который, повинуясь с механической покорностью, перенес со старого резного сервировочного столика холодный пирог, очень пышный с виду, что, будучи аккуратно разрезан ножом, обнажил аппетитную начинку из нескольких нежнейших голубей, подстреленных лично Пьером.
– Сестрица Мэри, – сказал он, поддевая серебряными сервировочными щипцами лучшую порцию вкуснейшего голубиного мяса. – Сестрица Мэри, – повторил он, – стреляя этих голубей, я был очень осторожен, целясь таким образом, чтобы не попортить им грудку. Старался угодить вам – только и всего. Ну, сержант Дэйтс, помоги-ка мне наполнить тарелку твоей госпожи. Нет?.. Ничего, кроме маленьких французских булочек и глотка кофе… разве это завтрак для дочери вон того храброго генерала? – Он указал на портрет своего деда в золотых галунах на противоположной стене. – Ну что ж, плохи, стало быть, мои дела, раз я завтракаю за нас обоих. Дэйтс!
– Сэр.
– Придвинь ко мне то блюдо с тостами, Дэйтс, и это блюдо с языками, перенеси булочки ближе и откати столик подальше, добрый Дэйтс.
Большая часть всех яств перекочевала на стол к Пьеру, и тот начал работать вилкой, порой отвлекаясь от еды, чтобы отпустить какое-нибудь остроумное замечание.
– Сдается мне, этим утром ты оживлен не в меру, брат мой Пьер, – молвила его мать.
– Да, я в духе сегодня; по крайней мере, не могу сказать, что я чем-то удручен, сестрица Мэри… Дэйтс, мой славный малый, принеси три бутылки молока…
– Вы имели в виду, сэр, одну бутылку, – отозвался Дэйтс мрачно и невозмутимо.
Как только слуга покинул комнату, миссис Глендиннинг заговорила:
– Мой дорогой Пьер, как часто я умоляла тебя: не позволяй никогда жизнерадостности увлечь себя настолько, чтоб перейти известную грань приличия в общении со слугами. Взгляд Дэйтса только что был тебе почтительным укором. Ты не должен называть Дэйтса мой славный малый. Он действительно славный, очень славный малый, но нет никакой нужды сообщать ему об этом за моим столом. Совсем несложно проявлять исключительную доброту и благонравие, обращаясь к слугам, не допуская при этом ни малейшего намека на легчайшую тень мимолетной фамильярности.
– Что ж, сестра, вне сомнения, ты совершенно права; тогда я опущу слово славный и буду звать Дэйтса просто малый: «Малый, пойди сюда!» Как тебе это нравится?
– Вовсе нет, Пьер, но ты ведь Ромео, и поэтому на сегодня я прощаю тебе этот вздор.
– Ромео! О, нет! Я далек от того, чтобы быть Ромео… – вздохнул Пьер. – Я смеюсь, а он плакал, бедный Ромео! Увы, Ромео! О горе, Ромео! Он кончил весьма скверно, сестрица Мэри.
– Но это была его собственная вина.
– Бедный Ромео!
– Он ослушался своих родителей.
– Увы, Ромео!
– Он женился наперекор их мудрому выбору.
– Горе тебе, Ромео!
– Но ты, Пьер, ты возьмешь в жены, я надеюсь, не Капулетти, но одну из наших Монтекки, и потому горький жребий Ромео минует тебя. Ты будешь счастлив.
– О, несчастный Ромео!
– Не будь глупым, Пьер, брат; стало быть, ты намерен взять Люси в долгую прогулку по холмам этим утром? Она миленькая девушка, прелестней всех.
– Да, и это больше мое мнение, Мэри, сестра… Клянусь Небесами, матушка, в пяти графствах не найдется такой другой! Она… да… хотя признаюсь… Дэйтс!.. Он чертовски долго несет это молоко!..
– И пусть… Не будь тряпкой, Пьер!..
– Ха! Моя сестра немного сатирична этим утром. Понимаю…
– Никогда не болтай чепухи, Пьер, и никогда не пустословь. Никогда я не слышала от твоего отца ни того, ни другого, то же писали и о Сократе, а они оба были очень мудрыми людьми. Твой отец был сильно влюблен – я знаю это совершенно точно, – но я никогда не слышала, чтоб он напыщенно разглагольствовал об этом. Он всегда вел себя так, как подобает джентльмену, а джентльмен никогда не несет вздора. Тряпки и простаки болтают вздор, а джентльмены – никогда.
– Благодарю вас, сестра… Поставьте это сюда, Дэйтс; лошади готовы?
– Их уже водят по кругу, сэр.
– Боже, Пьер, – сказала его мать, выглядывая из окна, – неужели ты собрался ехать в Санта-Фе-Де-Боготу в этом огромном старом фаэтоне; почему ты выбрал эту Джаггернаутову колесницу?[23]
– Причуда, сестра, причуда, мне она нравится своей старомодностью и покойными, как диван, сиденьями, да и потому, наконец, что юная леди по имени Люси Тартан возлагает на нее большие надежды. Она дала обет выйти замуж в ней.
– Что ж, Пьер, все, что я могу сказать, – проверь, чтобы Кристофер положил кузнечный молот и гвозди и много веревок и шурупов в ящик. И лучше позволь ему сопровождать тебя в одной из фермерских повозок с запасными осями и несколькими досками.
– Без паники, сестра, без паники… Я буду возможно больше беречь старый фаэтон. Замысловатые древние гербы на дверцах всегда напоминают мне о том, кто первым в нем ездил.
– Я рада, что ты об этом помнишь, Пьер, брат мой.
– И о том, кто был тем следующим, что ездил в нем.
– Да будь ты благословен!.. Благослови тебя Бог, дорогой мой сын!.. Всегда о нем думай, и ты никогда не поступишь дурно; да еще всегда помни о своем дорогом превосходном отце, Пьер.
– Хорошо, тогда поцелуй меня, дорогая сестра, потому что я должен идти.
– Ну, а теперь ты меня целуй – вот моя щека, а это щечка Люси; правда, теперь, когда я смотрю на обе, ее мне кажется самой цветущей – сладчайшая роса ее освежала, сдается мне.
Пьер рассмеялся и выбежал из комнаты, поскольку старый Кристофер начал терять терпение. Его мать стала у окна, провожая сына взглядом.
– Благородный мальчик и послушный, – пробормотала она. – У него есть вся резвость юности, но малая толика ее обычной взбалмошности. И он не растет тщеславным, коснея в невежестве, среди недорослей. Хвала Небесам, я не отослала его в университет. Благородный мальчик и послушный. Милый, гордый, любящий, послушный, сильный мальчик. Молю Бога, чтоб он никогда не переменился ко мне. Будущая женушка не заставит его отдалиться от меня, ведь и сама она столь послушна – красивая, почтительная и весьма послушная. Очень редко доводилось мне видеть, чтоб особы с такими голубыми глазками, как у нее, не были послушны и не ходили по пятам за смелыми черными глазами, как две кроткие овечки с голубыми ленточками, что следуют за своим воинственным вожаком. Как рада я, что Пьер полюбил именно ее, а не какую-то темноглазую гордячку, с которой я никогда не смогла бы жить в мире, разве бы допустила я когда-нибудь, чтоб она, по своему статусу молодой жены, смела главенствовать надо мной, старшей и вдовой, и вытеснила меня из сердца моего дорогого мальчика – милого, гордого, любящего, послушного, сильного мальчика!.. Моего великодушного, чудесного, благородного мальчика, который повинуется мне с такой любовью! Взгляните на его волосы! Он и впрямь живой пример прекрасных слов своего отца, что жеребенка благороднейших кровей узнают по трем статьям: густой гриве, выпуклой груди и доброму послушанию – это подойдет и для прелестной женщины, и для благородного юноши. Что ж, до свиданья, Пьер, и доброго утра тебе!
С этими словами Мэри Глендиннинг пересекла комнату, и тут ее счастливый, гордый взор наткнулся на старый генеральский жезл, забытый в углу, что днем раньше Пьер для одной из своих проказ стащил с его законного места в украшенном картинами и знаменами холле. Она подняла жезл и мечтательно взмахнула ним из стороны в сторону, затем, помедлив, задумалась, сжимая его в руке. Ее величественная красота всегда была несколько воинственной, и теперь она казалась дочерью боевого генерала, каковой и была, ибо в жилах Пьера текла вдвойне мятежная кровь. По обеим линиям он происходил от героев.
– Вот его наследие – сей символ власти! И я его вздымаю, находясь во власти своих дум. Только что я тешила себя мыслью, что Пьер столь на диво послушен! Но тут кроется, несомненно, самое странное несовпадение! Разве кроткое послушание отличает генерала? И сей жезл тогда не более чем ручная прялка?.. Тут что-то явно не так. Теперь я почти желаю, чтобы он не был со мной мягким и послушным, ибо вижу, что мужчине тяжело жить жизнью бесстрашного героя и командовать людьми и при этом хоть иногда забывать свою роль дома. Молю Небеса, чтоб он геройствовал на какой-нибудь ровной дороге благосклонной судьбы и не накликал на себя участие в некоем мрачном, смертельном подвиге – некоем мрачном, смертельном подвиге, жестокость коего учит мужчину быть беспощадным. Даруй ему, о Господи, слабые штормы! Даруй ему долгое благополучие! Пусть он всегда и во всем меня слушается и при этом останется гордым героем для остального мира!
Глава II ЛЮБОВЬ, РАДОСТЬ И СМЯТЕНИЕ
I
Прошлым вечером Пьер и Люси вместе составили извилистый маршрут долгой прогулки среди холмов, которые тянулись к югу вплоть до широких равнин Седельных Лугов.
Несмотря на то что почтенному экипажу шел шестой десяток, его везли молодые шестилетние жеребцы. В упряжке старого фаэтона на его веку сменилось несколько поколений лошадей.
Пьер резко свернул у деревенских вязов и вскоре остановил фаэтон перед белой дверью коттеджа. Бросив поводья наземь, он вошел в дом. Два молодых скакуна были его давними и близкими друзьями, кои появились на свет в том же графстве и были вскормлены той же кукурузой, индейские лепешки из коей Пьер и сам нередко едал на завтрак. Один и тот же родник, вода коего шла по трубе к их стойлам, струясь по другой, наполнял кувшин Пьера. Они были, пожалуй, словно Пьеровы кузены, живущие с ним по соседству, эти молодые скакуны, и притом холеные юные кузены, заправские щеголи, кои красовались своими пышными гривами и широкой поступью, но без примеси тщеславия или высокомерия. Они признавали Пьера бесспорным главой дома Глендиннингов. Они хорошо знали, что они младшие и двоюродные отпрыски Глендиннингов, связанные узами бесконечной вассальной преданности признанному наследнику родового имени. Вот почему юные кузены никогда не позволяли себе дичиться Пьера; если они и были нетерпеливы в своей поступи, то отличались безграничным терпением при остановках. При этом они были также очень резвы и добры, как котята.
– Боже мой, как ты позволяешь им стоять вот так самим, Пьер, – всплеснула руками Люси, когда они с Пьером вышли из коттеджа и Пьер нес шали, зонтики, сумочки и маленькую корзинку со снедью для пикника.
– Постой-ка, – звонко крикнул Пьер, уронив наземь всю свою поклажу, – я покажу тебе, каковы мои скакуны.
Сказавши это, он обратился к лошадям тихим голосом, запряг их и погладил каждого. Жеребцы заржали; ближайший из них ржал немного ревниво, словно Пьер гладил не всех одинаково. Затем с низким, долгим, почти неслышным свистом Пьер пробрался между жеребцами, внутрь упряжки. Тут Люси замерла и стала тихонько плакать, но Пьер велел ей немедленно прекратить, так как опасности не было ни малейшей. И Люси вмиг притихла, ибо, хоть она и пугалась всегда, когда Пьер играл с огнем, но в глубине души уповала на то, что Пьер неуязвим и что ни одна опасность на свете ему не грозит, пока она с ним рядом, или, иными словами, что ни единый волос не падет с его головы, покуда она находится поблизости, пусть даже на расстоянии в тысячу лиг.
Пьер, стоя между лошадьми, наступил на дышло фаэтона, затем сошел вниз – и вдруг исчез… или скорее стал неясно различим в живой колоннаде из восьми стройных и гладких лошадиных ног. Он вошел в эту колоннаду с одной стороны, немного попетлял в ней, затем вышел наружу с другой; и все время, пока длилось сие конное представление, оба жеребца весело ржали и дружелюбно кивали и порой посматривали на Люси сбоку, словно говоря: «Мы понимаем юного мастера, мы понимаем его, мисс, отбросьте ваши страхи, прекрасная дама, ну, ей-богу, успокойте ваше милое сердечко, мы совсем чуть-чуть поиграем с Пьером, вы и глазом моргнуть не успеете».
– Будешь ты теперь бояться, что они убегут, Люси? – спросил Пьер, поворачиваясь к ней.
– Только немножко, Пьер. Прекрасные ребята! Боже, Пьер, они сделали тебя офицером – взгляни! – И Люси указала на два клочка пены, кои лежали на его плечах, словно эполеты. – Я вновь говорю: брависсимо! Я назвала тебя своим солдатом, когда мы расстались этим утром у моего окна, и вот тебя повысили.
– Очень лестная ремарка, Люси. Но смотри, ты не похвалила их мундиры. Они носят не что иное, как лучший генуэзский бархат, Люси. Взгляни! Ты видела когда-нибудь еще таких же холеных лошадей?
– Никогда!
– Тогда что ты скажешь, если они будут моими шаферами, Люси? Славные шаферы из них выйдут, ручаюсь. Им вплетут сто ярдов белых лент в гривы и хвосты; и когда они повезут нас в церковь, то станут весь путь рассыпать изо рта клочки белого кружева, как они это проделали сейчас, со мной. Я сделаю их шаферами, ей-богу, Люси. Легкокрылые орлы! Игривые псы! Герои, Люси. Откажемся от свадебных колокольчиков – пусть они заливаются ржанием для нас, Люси; нам следует обвенчаться под тот свадебный марш, который исполнят нам эти кроткие, как Иов, взмыленные кони, Люси. Послушай-ка! Они заливаются ржанием, стоит только завести об этом речь.
– Отвечают ржанием на твои поэтические бредни, Пьер. Скорее, давай уже выедем наконец. Итак, шаль, зонтик от солнца, корзина: почему ты от них глаз не можешь отвести?
– Я размышлял, Люси, о том плачевном состоянии, в коем сейчас пребываю. И шести месяцев не прошло с тех пор, как я видел одного несчастного помолвленного малого, своего старого приятеля, у которого были долгие прогулки со своей Люси Тартан, он нес узлы и корзины в каждой руке, и я говорил себе: «Только полюбуйтесь на этого вьючного осла – бедолага, он влюблен». И взгляни на меня сейчас! Ну что ж, говорят, жизнь есть бремя – так почему бы не нести его с бодростью? Но смотри, Люси, я собираюсь сделать заявление по всей форме и всерьез протестовать, прежде чем наши дела зайдут дальше. Когда мы обвенчаемся, я не возьмусь нести ни один узел, пока не возникнет в том крайняя нужда, и более того, когда какая-то юная леди из наших знакомых появится на горизонте, я не желаю напрасно задерживаться и заново навьючивать на себя все узлы им в назидание.
– Теперь я по-настоящему на тебя сержусь, Пьер, – впервые слышу из твоих уст такие злобные двусмысленные выпады. Где ты видишь вокруг хоть одну мою знакомую юную леди, ну, отвечай?
– Шестеро из них – прямо там, – сказал Пьер. – Но они скрываются за занавесками. Никогда не доверял пустынности ваших деревенских улиц, Люси. Меткие стрелки притаились за каждым забором, Люси.
– Молю тебя, дорогой Пьер, давай уже поедем!
II
Между тем, пока Пьер и Люси проезжают под сенью вязов, позвольте поведать вам о том, кто же была Люси Тартан. Нет нужды говорить, что она красавица, поскольку темнокудрый и румяный юноша, такой как Пьер Глендиннинг, редко влюбляется не в красавицу. Во всех грядущих эпохах им суждено быть – так же как в наши дни, так же как и в седую древность – красивыми мужчинами и обворожительными женщинами; и может ли иначе быть, если еще исстари повелось, что красавцы женятся на красавицах!
Но хотя благодаря известным стараниям матери-природы на земле всегда есть красивые женщины, свет еще не видел другой Люси Тартан. Ее щечки были нежнейшие, тона крови с молоком, молочного было больше. Ее глаза казались небесными звездами, принесенными на землю неведомым богом; ее волосы – кудрями Данаи, сияющими после золотого дождя Юпитера; ее зубки – жемчугами с берегов Персидского залива.
Обратим пристальный взор на тех, кто устало плетется, сбив себе ноги на тернистом жизненном пути и на ком тяжкий труд и бедность оставили свою уродливую печать; если такому бедняку случится увидеть когда-нибудь прекрасную и милосердную дочь богов, коя, спустившись с заоблачных высот красоты и богатства, пройдет мимо него легким шагом, сияя от счастья и гордая благополучием, как он будет поражен, что в мире, преисполненном зла и стольких страданий, есть еще место этой сияющей грезе из рая. Ибо любая красивая женщина чувствует себя гостьей из дальних краев. Другие особы женского пола всегда рады назвать ее чужестранкой. Женский рой неотступно наблюдает за дивной красавицей, стоит ей переступить порог, словно за птицей фениксом, что влетела к ним в окно. Что ни говорите, их зависть, как и любая, не что иное, как послед неприкрытого восхищения. Разве мужчины завидуют богам? И разве женщины завидуют богиням? Красавица рождается королевой, царящей равно над мужчинами и женщинами, как Мэри Стюарт была королевой для любого шотландца, будь то мужчина или женщина. Все человечество – ее шотландцы; верные ей кланы исчисляются нациями. Истинный джентльмен из Кентукки охотно отдаст жизнь за красавицу из Индостана, даже если он никогда ее не видел. Да, его сердце изойдет кровью ради нее, и он отправится к Плутону, чтобы она смогла подняться на Небеса. Он скорее примет ислам, чем отречется от своей верности, коя присуща всем джентльменам с той поры, как их Великий Мастер, Адам, склонил колено перед Евой.
Невзрачная королева Испании не пожинает и половины тех лавров, что выпадают на долю хорошенькой модистки. Ее солдаты могут разбивать чьи-то головы, но Ее Величество не может разбить ничье сердце, а хорошенькая модистка может носить мириады покоренных сердец, как ожерелье из драгоценных каменьев. Несомненно, благодаря красоте взошла на трон первая королева. Если когда-нибудь вновь встанет вопрос о престолонаследии Германской империи и один жалкий горе-адвокат будет защищать интересы любой несравненной красавицы, что первой попадется ему на глаза, она будет единогласно избрана императрицей Священной Римской империи германской нации, то есть в том случае, если все немцы обратились бы в правдивых, чистосердечных и благородных джентльменов, способных принять для себя столь великую честь.
Это вздор – говорить о Франции как о родине всеобщей галантности. Разве нет у этих язычников-франков их Салического закона?[24] Трем самым обворожительным созданиям – бессмертным цветам дома Валуа – было отказано во французском троне из-за этого бесславного обычая. Франция! Где миллионы католиков все еще чтут Деву Марию, Царицу Небесную и на протяжении десяти поколений отказываются снять шляпу и склониться перед множеством ангелоподобных Марий, законных владычиц Франции. Вот где кроется причина мировой войны. Только взгляните, с какой подлостью народы – точно так же, как иные мужи, – прибирают к рукам и носят самое лучшее звание, не вызывая ни у кого возражений, пусть даже получили его вовсе без всяких заслуг. Американцы, а не французы – вот кто образец галантности для всего мира. Наш Салический закон предписывает воздавать должное всем без исключения красавицам. Малейшая их прихоть весомее всех человеческих законов, писаных и неписаных. Если вы купили лучшее место в карете после того, как потолковали с доктором о жизни и смерти, то вы с готовностью откажетесь от этого самого места и захромаете прочь пешком, стоит путешествующей красавице шевельнуть пальчиком у дверей на постоялом дворе.
Ну, коли уж мы начали с разговора о некой молодой леди, которая отправилась на прогулку в фаэтоне в обществе некоего молодого человека, и опомнились уже тогда, как изрядно провели самих себя за нос и стали как вкопанные у окна на постоялом дворе, – все это может показаться весьма беспорядочным стилем письма. Но куда же еще должна привести нас Люси Тартан, как не к могущественным королевам и прочим августейшим особам, и, наконец, заставить нас пуститься в странствия, чтоб посмотреть, есть ли кто на белом свете, достойный взять в жены такую чудную красавицу. Следуя давней традиции, разве не должен я славить свою Люси Тартан? Кто станет меня останавливать? Разве не обручена она с моим героем? Что тут возразить? Где под покровом ночи почивает еще одна такая же?
И потом, как Люси Тартан смутилась бы от всего этого шума и гама! Ею гордятся, но она не гордячка. До сих пор она так же спокойно скользила по течению жизни, как пух отцветшего чертополоха плывет, подгоняемый ветерком, над луговыми травами. Бывало, не вымолвит ни словечка, если Пьера рядом нет; и даже с ним она не единожды внезапно умолкала. О, эти минуты молчания у влюбленных, когда они оба знают, сколь грозно то, что ждет их впереди, ибо такие паузы пророчат катастрофу и все прочие ужасные волнения! Но пока горизонт их ясен, и легкомыслен их разговор, и весела каждая шутка.
Никогда я не опущусь до подлости формального перечисления событий! Как, вооружась только бумагой да карандашом, выйду я в звездную ночь, чтобы сосчитать все алмазные прорехи на небесном полотне? Кто пересчитает все светила небесные, словно чайные ложки? Кто передаст словами на бумаге всю прелесть Люси Тартан?
И напоследок: ее происхождение, какое приданое за ней дадут, сколько платьев вмещает в себя ее гардероб и много ли колец у нее на пальцах – я с готовностью предоставляю составителям генеалогий, сборщикам налогов и обойщикам о том заботиться. Мне, собственно, надлежит поведать вам об ангельских качествах Люси. Но, как и в других краях, у нас тоже господствует нечто вроде предубеждения против тех ангелов, что только ангелы и ничего более, поэтому я обреку себя на муку, раскрыв для подобных джентльменов и леди подробности истории Люси Тартан.
Она была дочь человека, который приходился Пьерову отцу самым близким и сердечным другом. Но тот отец давно отошел в мир иной, и она, его единственная дочь, проживала вместе с матерью в городе в очень приличном доме. Но хотя ее дом и был отныне в городе, ее сердце дважды в год неизменно оставалось в деревне. Она вовсе не любила город и пустой, бездушный, светский образ жизни. Сколь бы то ни было странным, но ангельские черты ее характера красноречиво и убедительно говорили о том, что, появившись на свет среди кирпича и известки морского порта, она тем не менее тосковала по плодоносящей земле и густым травам. Так милая коноплянка, коя хоть и родилась за прутьями клетки в спальне у леди на океанском берегу и ничего ровным счетом не знает о другой жизни, но все же, когда приходит весна, трепещет в смутном предвкушении, не может ни есть, ни пить из-за этих необузданных желаний. И хотя она никогда не жила на воле, опьяненная весной коноплянка свято знает, что подоспело время весенней миграции. Так и в Люси пробуждалась весенняя тоска по первой зелени. Каждую весну эти бурные желания завладевали нею; каждую весну эта прелестная девушка, как коноплянка, перелетала в деревню. О, дай боже, чтоб те другие и тайные желания, кои долгое время после гнездились в самых глубинах ее души, когда жизнь стала для нее тяжким бременем, – дай боже, чтоб те жгучие желания, что снедали ее, встретили понимание в раю, когда ее душа в последний раз простится с этой грешной землей и упорхнет на небеса.
Большой удачей для Люси было то, что ее тетушка Лэниллин – меланхоличная, бездетная вдова, носящая белый тюрбан, – жила в уютном коттедже в деревеньке Седельные Луга; и еще большей удачей – то, что эта славная пожилая тетушка всегда дарила ей свое расположение и чувствовала тихую радость, когда делила кров со своею племянницей. Поэтому коттедж тетушки Лэниллин был, в известном смысле, и Люси. Так уж повелось, что она каждый год по нескольку месяцев живала в Седельных Лугах; и в дни скромных и невинных сельских развлечений Пьер впервые заприметил Люси, и та нежная страсть, что вспыхнула в нем тогда, ныне захватила его целиком.
У Люси было двое братьев, один старше нее тремя годами, другой – двумя. Но эти молодые люди служили офицерами во флоте, и потому Люси и ее мать не часто видели их подле себя.
Миссис Тартан владела приличным состоянием. Более того, она прекрасно сознавала сей факт и порой была несколько склонна приукрасить положение своих дел в разговоре с теми, кто не входил в подробности. Иными словами, миссис Тартан, вместо того чтобы превозносить свою дочь, на что она имела все основания, была несколько склонна превозносить толщину своего кошелька, на что оснований у нее не было вовсе, памятуя о том, что Великий Могол, по всей видимости, обладал куда большим состоянием, чем она, не говоря уже о персидском шахе и бароне Ротшильде, да и о тысяче других миллионеров, но при этом Великий Турок и другие монархи Европы, Азии и босоногой Африки, вместе взятые, не могли бы сыскать во всех своих владениях такой прелестной девушки, как Люси. И все же миссис Тартан была бесподобною леди, как это водится в свете. Она жертвовала деньги на благотворительность, и во всех пяти церквах за нею числилось по скамье, а также немало заботилась о том, чтоб превратить землю в райский сад, устраивая браки всех знакомых привлекательных молодых людей. Попросту говоря, она была свахой – но не сводней и не чертом, – хотя, правду молвить, могла пособить тому, чтоб матримониальный огонь запылал в груди иных несговорчивых джентльменов, кои женились при ее полном содействии и послушавшись ее совета. Такая шла молва – но, как мы знаем, молва обычно лжет, – что было некое тайное общество раздосадованных молодых мужей, кои выбивались из сил, тайком рассылая всем неженатым молодым незнакомцам записки, в коих предостерегали их о хитроумных подходах миссис Тартан, и – из опасения быть узнанными – прописывали свои имена шифром. Но сие не могло быть правдой, ибо миссис Тартан, опьяненная успехом тысячи союзов, устроенных ею – и гори оно синим или ясным пламенем, ей все нипочем, – победно бороздила моря высшего света, заставляя все прочие корабли, кои были меньше ее собственного, тоже ставить свои паруса по ветру, и вела на буксире целые флотилии молодых леди, для коих ей суждено было отыскать лучшие супружеские гавани в мире.
Но разве устройство браков не должно начинаться с семьи, ведь, по пословице, своя рубашка ближе к телу? Отчего Люси, ее родная дочь, до сих пор не замужем? Однако не торопитесь с выводами – миссис Тартан много лет тому назад посетила счастливая мысль соединить судьбы Пьера и Люси, но в этом случае ее планы только повторяли – до некоторой степени – прямой божий замысел, по воле коего и сложилось так, что Пьер Глендиннинг рад был избрать Люси Тартан среди всех прочих. Вдобавок то была страсть, коя проявляла себя столь явно, что миссис Тартан большей частью с оглядкой и осторожностью плела те любовные сети, в кои завлекала Пьера и Люси. В довершение сия страсть в укреплении не нуждалась вовсе. Два Платоновых тела[25], блуждая в поисках друг друга со времен Сатурна и Опс[26] до наших дней, сошлись на глазах у миссис Тартан – и что еще могла сделать миссис Тартан, чтобы соединить их вечными и нерасторжимыми узами? Однажды, и только однажды мелькнуло у Пьера смутное подозрение, что миссис Тартан выступала настоящей лисой, да и то втихомолку свернулось горошиной.
В те дни, как они были еще мало знакомы, в городе он обычно завтракал в обществе Люси и ее матери и первую чашку кофе получал из рук миссис Тартан, затем она им говорила, что чует запах жженых спичек[27] где-то в доме, и должна лично проследить, чтоб их все погасили. Так, строго наказав остальным не следовать за нею, она поднималась со своего места и шла искать жженые спички, оставляя пару наедине обмениваться любезностями за кофе, и наконец присылала им записку с верхних этажей, что жженые спички или что другое вызвали у ней головную боль, и умоляла Люси распорядиться послать ей наверх тостов и чаю, чтоб она могла позавтракать у себя этим утром.
После того Пьер начинал переводить взгляд с Люси на свои ботинки, и когда снова поднимал глаза, то видел Анакреона[28] на софе с одной стороны от себя, а «Мелодии» Мура[29] – с другой стороны, и баночку меда на столе, и кусочек белого сатина на полу, и что-то похожее на подвенечную вуаль, повисшее на канделябре.
Впрочем, неважно, думал Пьер, неотрывно глядя на одну Люси, я и сам стремлюсь угодить в силок, когда он расставлен в раю и когда приманивают таким ангелом. Он вновь смотрел на Люси и видел, как она подавляет несказанную досаду и невольно бледнеет. В тот миг он с охотой поцеловал бы милый соблазн, который так кротко ропщет на свою участь приманки в силке. Затем он вновь обводил взглядом комнату и видел, какие ноты миссис Тартан – под предлогом наведения порядка – оставила на пианино; видел, что эти ноты были поставлены и раскрыты так, чтоб название «Любовь когда-то началась с малого»[30] можно было прочесть издалека; и при мысли о том, сколь удачно в данном случае сие совпадение, Пьер не мог без того, чтоб не улыбнуться украдкой, сдерживая смех, о чем тотчас же сожалел, тем более что Люси, видя эту улыбку и понимая ее по-своему, немедленно вспархивала со своего места и чудным, негодующим, ангельским, восхитительным и неподдельно-искренним голоском спрашивала: «Мистер Глендиннинг?», сразу же рассеивая у него легчайшую тень подозрения, что Люси помогала своей матушке мастерить все любовные капканы, кои, верно, казались той верхом хитрости.
И правда, миссис Тартан могла творить все, что душа пожелает, – ни намеки, ни хитрые уловки не могли ничего переменить в любви Пьера к Люси, и непрошеные подсказки только стесняли их и походили на святотатство. Нужны ли намеки миссис Тартан лилиям, когда те и так в полном цвету? Нужны ли хитрые уловки миссис Тартан железу, когда оно само тянется к магниту? Глупенькая миссис Тартан! Но глуп весь наш мир, глупы люди, что его населяют, и первая среди них – миссис Тартан, сваха нации.
Все хитрости миссис Тартан были еще потому смешными, что она не могла не знать о том, как миссис Глендиннинг желает этого брака. И разве не была Люси богата? – несомненно; после смерти матери она должна унаследовать большое состояние (мысль, навевающая миссис Тартан грусть), – и разве семья ее мужа не была одной из лучших фамилий, и разве не был отец Люси близким другом отца Пьера? И если для Люси можно было бы найти другую подходящую партию, то какая женщина могла бы сравниться с ней? Ох и глупа же миссис Тартан! Но когда такой леди, как миссис Тартан, выпадает на долю сидеть, чинно сложа ручки, то она начинает творить именно те глупости, какие вышли из всех затей миссис Тартан.
Что ж, время шло своим чередом, и Пьер любил Люси, а Люси – Пьера, пока наконец два молодых моряка, братья Люси, не вошли однажды в гостиную миссис Тартан, воротясь домой, после трехлетнего отсутствия, из своего первого плавания по Средиземному морю. Они уставились на Пьера, увидев, что тот сидит на софе совсем близко от Люси.
– Пожалуйста, присаживайтесь, джентльмены, – сказал Пьер. – Места много.
– Мои дорогие братья! – крикнула Люси и бросилась обнимать их.
– Мои дорогие братья и сестра! – воскликнул Пьер и обнял всех троих.
– Прошу вас убрать руки, сэр, – сказал старший из братьев, который служил корабельным гардемарином[31] последние две недели.
Младший брат немного отодвинулся и, похлопав рукой по ножу на поясе, сказав:
– Сэр, мы прибыли из Средиземноморья. Сэр, позвольте мне сказать, что это решительно неуместно! Кто вы такой, сэр?
– Я не могу объяснить – язык отнялся от радости, – объявил Пьер, весело обнимая всех снова.
– Это переходит все границы! – воскликнул старший брат, выпрастывая наружу свой воротничок, смятый объятием, и яростно его поправляя.
– Назовите себя! – бесстрашно выкрикнул младший брат.
– Тише, глупенькие, – вступила Люси, – это наш давний товарищ по детским играм, Пьер Глендиннинг.
– Пьер? Как? Пьер? – воскликнули молодые люди. – Обними-ка нас всех снова! Ты вытянулся в сажень!.. Кто бы тебя узнал? Но тогда… Люси? Люси?.. Какую роль ты играешь в этом… э-э родственном объятии?
– О, Люси ничего такого не имела в виду, – отмахнулся Пьер, – давайте-ка обнимемся еще.
Так они обнялись вновь, и в тот вечер стало официально известно, что Пьер женится на Люси.
Вслед за тем молодые моряки взяли на себя труд призадуматься как следует, хотя они вовсе не собирались заявлять это вслух, но их возмущение двусмысленным и непохвальным поведением сестры и молодого человека значительно улеглось, едва им дали понять, что влюбленные только что обручились.
III
В ту старую, добрую, ясную эпоху, когда дед Пьера жил на свете, американский джентльмен, обладающий крепким здоровьем и состоянием, вел несколько иной образ жизни, чем хлипкие джентльмены наших дней. Дед Пьера росту имел шесть футов четыре дюйма; и когда в его старом родовом особняке вспыхнул пожар, то он одним ударом ноги вышиб дубовую дверь, открыв доступ к ведрам своим черным рабам; а Пьер, частенько примеряя его военный камзол, который хранился в Седельных Лугах как семейная реликвия, видел, что карманы свисают ниже его колен и в застегнутом поясе еще достанет места свободно войти доброму бочонку виски. Как-то раз в одной ночной стычке на пустоши, еще до Войны за независимость, старый джентльмен убил двух жестоких индейцев – схватил их и бил головами друг о друга. И все это сделано джентльменом, у коего было самое мягкое сердце и самые голубые глаза на всем белом свете, который, воздавая должное патриархальным обычаям тех дней, со всею кротостью и почтением относился к домашним ларам, будучи сам седовласым; он был самый нежный супруг и самый нежный отец, самый добрый хозяин для своих рабов, он отличался редкой невозмутимостью, любил после обеда выкурить трубочку, с видом полнейшей безмятежности; он легко прощал другим их оплошности, будучи добрым христианином и благотворителем, – словом, то был безгрешный, бодрый, прямодушный, голубоглазый, святой старец, в кроткой и величавой душе коего мирно уживались лев и ягненок – по образу и подобию его Бога.
Пьер никогда не мог спокойно любоваться его прекрасным военным портретом без того, чтоб не начала его мучить печальная неутолимая жажда застать деда в живых и посмотреть на него воочию. Величественный образ кротости, что смотрел на него с того портрета, производил на чувствительного и благородного душою молодого наблюдателя впечатление, поистине неизгладимое. Ибо в его глазах тот портрет обладал божественной силою ангельских проповедей; ни дать ни взять чудотворное Евангелие, вставленное в рамку и повешенное на стену, откуда оно возвещало всем, как с Горы[32], что сей муж с портрета благороден, боговиден, преисполнен всех мыслимых совершенств, являет собою подлинный образец силы и красоты.
Так сей великий старый Пьер Глендиннинг славился великой любовью к лошадям, но не в новомодном духе, ибо никогда не был жокеем, и из всего мужского рода больше водил дружбу со своим крупным, гордым, серым жеребцом удивительно спокойного нрава, который неизменно ходил у него под седлом; он позаботился о том, чтоб ясли для его лошадей были тщательно ошкурены, словно старые разделочные доски, и сработаны из крепких кленовых бревен, а ключ от амбара с зерном висел у него в библиотеке, и никто, кроме него, не задавал корму его коням; когда же он отлучался из дому, то на плечи Мойяра, неподкупного и самого исполнительного старого негра, возлагалась сия почетная обязанность. Он говаривал, что только тот любит своих лошадей, кто задает им корму своими руками. Каждое Рождество он задавал им полную меру зерна. «Я праздную Рождество вместе с моими лошадьми», – прибавлял великий старый Пьер. Сей великий старый Пьер вставал на заре, умывался и совершал короткую прогулку на свежем воздухе, а после, воротясь в свой кабинет и будучи наконец полностью одетым, торжественно навещал конюшни, чтобы пожелать своим достопочтенным друзьям прекрасного и радостного утра. Горе Кранцу, Киту, Даву или любому другому негру-конюху, если великий старый Пьер видел хоть одну лошадь, не укрытую попоной, или хоть одну сорную травинку среди сена в яслях. Он никогда не наказывал Кранца, Кита, Дава или любого другого раба поркой – вещь неслыханная для той поры и того патриархального края, – вместо этого он не приветствовал их ласковым словом, что было большим несчастьем для них, ибо Кранц, Кит, Дав и все прочие рабы любили великого старого Пьера, как пастухи любили старого Авраама.
Чей это чинный, холеный скакун с серой гривой? Кто тот старый халдей[33], что скачет на нем по окрестностям? Это великий старый Пьер, который каждое утро, до своего завтрака, выезжает в поля на своем любимом жеребце – и не садится в седло, если сперва не испросит у того позволения. Но время летело, и к великому старому Пьеру пришла старость: он потерял свою знаменитую стать, располнел; и совесть не позволяла больше садиться в седло любимого скакуна такой могучей и грузной тушей. Вдобавок благородный жеребец тоже состарился, и трогательная задумчивость поселилась в его больших внимательных глазах. Никогда больше сыну человеческому, повторял свою клятву великий старый Пьер, не ездить на моем скакуне, никакая упряжь больше не коснется его! Каждую весну засевалось клевером отдельное поле для сего жеребца, и в середине лета траву косили и сушили, чтобы кормить его зимой самым лучшим сеном, и была назначена ему также особая мера зерна, что молотили цепом, чья рукоять однажды послужила древком для знамени в веселой стычке, когда сей старый конь подымался на дыбы перед великим старым Пьером – один махал гривой, а другой – шпагой!
Вот уже одна необходимость велит великому старому Пьеру выезжать на утреннюю прогулку, для того не седлает он более старого серого жеребца. Ему смастерили фаэтон, под стать дородному генералу, в поясе коего спряталось бы трое обычных мужчин. Удвоены, утроены крепкие кожаные S-образные хомуты для рессор экипажа; колеса огромные, как жернова, что стащили с какой-то мельницы; крытое сиденье покойное, как пуховая перина. Каждое утро из старых арочных ворот выезжает старый Пьер, да только теперь в экипаже, и везут его не одна лошадь, а две, как пузатого китайского джоша[34], что раз в год выносят из храма и влекут по улицам.
Но время все летело, и настало утро, когда в воротах не показалось фаэтона, но на всех лужайках и во дворах толпился люд, солдаты выстроились в два ряда по обе стороны подъездной аллеи; шпаги оставляли отметины на крыльце, мушкеты стреляли в звездное небо, и траурный военный марш слышен был во всех залах особняка. Великий старый Пьер отошел в мир иной, и, как подобало герою прежних битв, он умер, когда занималась заря новой войны; но прежде чем отправиться в пекло стрелять врага, его взвод разрядил мушкеты в воздух над могилой своего старого командира – в 1812 году от Рождества Христова умер великий старый Пьер. А медные барабаны, что отбивали ритм его похоронного марша, были те самые британские литавры, что когда-то напрасно выстукивали парадный марш для тридцати тысяч будущих военных узников, коих вел на верный плен известный хвастун Бейгорн[35].
На другой день старый серый жеребец отвернулся от зерна – отвернулся и гордо заржал в своем стойле. Даже доброму Мойяру он не дает себя гладить, всем своим видом выражая беспокойство; старый серый жеребец, казалось, вот-вот молвит: «Я не чую любимой руки – где великий старый Пьер? Не кормите меня и не хольте меня – где великий старый Пьер?»
Ныне он спит вечным сном подле своего хозяина: в один из дней он пал на поле, мягко свалившись с ног; и с тех самых пор великий старый Пьер и серый жеребец несутся по этому полю к вечной славе.
Но его фаэтон – подобно катафалку, увенчанному черными перьями, – оказался более долговечным, чем тот благородный груз, что он возил когда-то. И гнедые жеребцы, что возили великого старого Пьера, когда тот был жив, и, согласно его последней воле, повезли его мертвого, следуя за гордой поступью старого серого жеребца, который шел впереди них, – эти гнедые жеребцы по-прежнему жили; и пусть не они сами или их отпрыски, но в двух своих потомках от жеребцов той же породы. Ибо на землях поместья Седельные Луга и человек, и конь имели каждый свое наследие, и этим ясным утром Пьер Глендиннинг, внук великого старого Пьера, ехал вместе с Люси Тартан, сидя в фаэтоне, где его предок восседал когда-то, и правя упряжкой жеребцов, чьими прапрапрапраотцами некогда правил великий старый Пьер.
Какая гордость разрасталась в груди Пьера: силою мечты он одевал плотью лошадей-призраков, что, запряженные цугом, влекли за собой его фаэтон. «Эти кони только дышловые! – воскликнул молодой Пьер, – Выносные лошади – их потомки».
IV
Но любовь больше метила в его возможное и вероятное потомство, чем в его некогда живых, но ныне фантастических предков из прошлого. Так, румянец Пьера, вызванный фамильной гордостью, быстро приобрел более глубокий оттенок, когда нежное пламя любви к Люси больше не окрашивало его щек.
То утро было драгоценнейшей жемчужиной, что время прежде таило в своем ларце. Несказанную негу мирных наслаждений навевала красота полей и холмов. Опасное то было утро для всех влюбленных, что еще не дали своих обручальных клятв. «Откройтесь друг другу», – призывало оно. «Узрите нашу легкокрылую любовь», – щебетали птицы на деревьях; в синей дали моря моряки не пытались больше вязать свои булини[36], их руки потеряли былую сноровку; хочешь не хочешь, а любовь вьет свои любовные узлы на каждом блестящем рангоутном дереве.
О, будем же славить красоту этой земли, ее красоту и цветение и все ее радости! Первые сотворенные миры были землями вечной зимы; вторые, что появились на свет, были весенние земли; третьим и последним, и самым совершенным из всех, стал наш летний мир. В нижних сферах, скованных холодом и льдом, священники проповедуют о нашей земле, как мы – о Раю на небесах. О друзья мои, говорят они своим прихожанам, там, на земле, есть время года, что на их языке величают летом. В те поры их поля зеленеют необозримым покровом, снег и лед на время оставляют их землю; в те поры миллион чудных, ярких, благоуханных цветочных головок пудрят бессчетные травы своею пыльцой и высокие величественные древа, немые и неохватные, вздымаются ввысь, простирая свои длани и поддерживая зеленые своды над беззаботными ангелами – мужчинами и женщинами, – кои под их сенью предаются любви и дают брачные обеты, и почивают сном, и летают в мечтах, а на них благосклонно взирает с небес бессмертная чета их богов, радостное солнце и печальная луна!
О, будем же славить красоту этой земли, ее красоту и цветение, и все ее радости. Мы жили прежде и будем жить вновь, питая надежду, что на смену нашей эпохе грядут более справедливые времена, так как мы пережили не самые лучшие. Каждое новое поколение теснит демона Догму все дальше и дальше, ибо он не что иное, как проклятые путы хаоса, а мы с каждым своим следующим запретом изо всех сил тянем его назад. Пою осанну этой земле, сколь прекрасна она, будучи при том лишь передней для лучшего мира. Покинув некий Древний Египет, мы перебрались в этот новый Ханаан[37], и из этого нового Ханаана мы проложили себе путь в некую Черкесию[38]. И пусть наши мучители Нужда и Горе последовали за нами из Египта и теперь попрошайничают на улицах Ханаана, ворота Черкесии не пропустят их, и посему придется им, вместе со своим сеньором, демоном Догмой, убраться восвояси в хаос, из коего они вышли.
Любовь была первой дщерью, коя появилась на свет в Эдеме от радости и покоя, когда мир был еще молод. Тот, кто угнетен заботами, не может любить; тот, кто душою погряз в унынии, не обретет Бога. И поскольку молодость, по большей части, не ведает забот и не знает уныния, то посему с начала времен молодость принадлежит любви. Любовь может кончиться горем, и старостью, и муками, и нуждой, и всеми мыслимыми человеческими страданиями, но начинается она всегда с радости. Первый любовный вздох никогда не прозвучит раньше игривого смеха. Любовь сперва смеется, и затем только принимается вздыхать. Руки Любви подобны звенящим кимвалам[39], уста любви подобны звонкому охотничьему рогу, из коего несется живое и радостное пение при малейшем ее вздохе!
В то утро два гнедых жеребца везли смеющихся влюбленных по дороге из Седельных Лугов, что вела к холмам. Они звучали под стать друг другу – молодой мужественный тенор Пьера Глендиннинга и девический дискант Люси Тартан.
Дивная красавица, голубоглазая и златовласая, яркая блондинка, Люси создана была из тех цветов, что прежде составляли привилегию одних лишь небес. Светло-голубой, Люси, твой неизменный цвет, светло-голубой идет тебе больше всего – таковое беззаботное наставление она то и дело слышала от своей матери. С обеих сторон каждая живая изгородь Седельных Лугов окутывала Пьера запахом цветущего клевера, а от ротика и щек Люси исходило свежее благоухание, как от юной фиалки.
– Благоухание ли то цветов или твое? – кричал Пьер.
– Глаза предо мной или озера? – кричала Люси в свой черед; взгляд ее тонул в его глазах, как свет двух звезд, что достигает самого дна чистых вод карового озера[40].
Ни один рудокоп Корнуолла[41] не спускался еще столь же далеко в свои бесконечные шахты, как любовь, которая проникает взором в глубину смущенных глаз. Любовь видит на десять миллионов морских саженей вглубь, вплоть до слепящего блеска жемчугов на дне. Наши глаза служат любви магическими зеркалами, в которых все, что не от мира сего, предстает в истинном свете. В пучинах морских не наберется столько рыбы, сколько можно насчитать образов любимого человека, что запоминают глаза влюбленного. Там, в тех дивных водах, ходит сказочная летучая рыба-глаз, которая порой парит над волнами, переполняемая радостью, и тогда ее влажные плавники дарят влагу щекам влюбленных. Глаза любви – сама святость, где сокрыты все тайны на свете; когда же любящие встречаются взглядами, то постигают секреты мироздания, и каждый, чувствуя непередаваемый трепет, понимает, что любовь есть Бог всего сущего. Те мужчины и женщины, что не любили никогда, что никогда не смотрели в глаза своим любимым, тем не дано постичь самую прекрасную и великую религию на свете. Любовь – вот Евангелие, что завещано человечеству Творцом его и Спасителем; книга на розовых лепестках, чей переплет сплетен из фиалок, и оттиски букв сделаны клювами щебечущих птиц, а чернилами стал золотистый сок лепестков лилий.
Нескончаемы повести, что толкуют нам о любви. Нет ни времени, ни места, чтобы пересказать историю любви. Всё то, что доставляет наслаждение взгляду, вкусу, чувству или слуху, – все произвела на свет любовь; и нет ничего, что было бы ею не создано. Не любовь нагромоздила арктические льды, но любовь всегда их побеждала. Скажите, разве эту землю каждый день, каждый час не покидают дикие звери? Где теперь волки, что некогда обитали в Британии? Где теперь в Вирджинии пантеры и леопарды? О, любовь повсюду занята делом. Любовь везде найдет своих моравских братьев[42]. Нет ни единого пропагандиста, что желал бы кого-то полюбить. Южный ветер шепчет мотивы брачных песен варварскому северу, а на далеком побережье на другом конце света спокойный западный ветер напевает любовные песни строгому востоку.
Вся наша Земля – нареченная любви; и демон Догма напрасно воет, силясь помешать заключению сего брачного союза. Для чего еще наш мир на экваторе одевается такой пышной зеленью, как не для того, чтоб в этих богатых одеяниях отправиться к венцу? И для чего в деревнях велит он цвести апельсиновым деревьям и лилиям, как не для того, чтоб все юноши и девушки влюблялись и заключали браки? Ибо на каждой свадьбе, где венчают настоящих влюбленных, гремит праздничный марш всемирной любви. Всех тех невест нарекут подружками любви на ее грядущем грандиозном венчании с нашим миром. Так любовь соблазняет нас на все лады; где найдется такой юноша, что устоит, когда его глазам откроются прелести обворожительной земной красавицы? Куда бы ни направилась красавица, там тотчас же развернется Азия со всем шумом и роскошью ее восточных базаров. Небеса не даровали Италии ни той красоты, что отличает девушку-янки, ни своего благословения на ее любовные союзы на земле. Лотарио[43] от ангелов не спускались разве на землю, чтобы вкусить любви смертных женщин и узреть их красоту? И это в то время, пока их глупцы братья сокрушались о том самом Эдеме, что те добровольно покинули? Да, те завистливые ангелы и впрямь покинули небо навеки и переселились на землю, а к чему эмигрировать, если не ради того, чтоб достичь еще больших высот?
Любовь – величайший в мире спаситель и чародей, а все красавицы служат ей верой и правдой милыми эмиссарами, коим любовь дарует столь пленительную убедительность, что ни один юноша не в силах их отвергнуть. Каждому молодому человеку выбор его же сердца кажется непостижимым, как ведьма, коя, сосредоточенно сплетая воедино десять тысяч заклинаний и циклических чар, все кружит да кружит вокруг него, куда ни поверни: бормочет слова, полные загадочного смысла, и заставляет всех подземных духов и гномов предстать перед ним, и истребляет всех наяд в море, качаясь на волнах близ него, и посему, благодаря этой любви, тайны множатся с каждым новым вздохом – чему же тогда удивляться, что любовь стала гласом всего таинственного?
V
И в то самое утро Пьер вел себя очень таинственно – правда, не постоянно – и то и дело прерывал молчание крайне таинственных пауз бурными всплесками неудержимой веселости. Он казался разом и бойким фокусником и едва ли не пройдохой. Халдейские[44] импровизации он изливал в торопливых Золотых Стихах[45], где приправой служили насмешливая острота и красное словцо. А восхищенные взгляды Люси и вовсе его окрыляли. Не заботясь о том, куда несут их лошади, он прижимал к себе Люси двумя руками и, словно сицилийский ныряльщик за жемчугом, погружался на дно Адриатики[46] ее глаз, вынося на берег королевские кубки, до краев полные радости. Все волны, что плясали в глазах Люси, казались ему волнами безграничного ликования. И как если б на самом деле, подобно настоящим морям, они и впрямь уловили отраженное сияние чистого, безоблачного утра; в глазах Люси, казалось, сверкало все лазурное великолепие того утра, что вставало над миром, и вся притягательная непостижимость небес. И несомненно, голубые глаза женщины, как и море, немало подвержены влиянию климата. Только на вольном воздухе в самый дивный летний день увидите вы их ультрамарин – текучий лазурит. Вот когда Пьер разразился каким-то торжествующим, радостным криком; и полосатые тигры его карих глаз хлестали себя по бокам хвостами и метались в своих клетках, обуреваемые свирепой радостью. Люси отпрянула от него в избытке любви, ибо высочайшая вершина любви – страх и любопытство.
Вскоре быстрые лошади примчали сих прекрасных бога и богиню в лесистые холмы, что казались голубыми издали и теперь обернулись разноцветной тенистой сенью леса, который стал пред ними, словно древние стены Вавилона, заросшие зеленью, где здесь и там, рассеянные через равные промежутки, вершины холмов казались стенными башнями, а сосновые купы на тех вершинах были словно высокие лучники и могучие бдительные часовые прославленного Вавилона, Города Дневного Солнца[47]. Глотнув чистого воздуха с холмов, лошади, что неслись галопом, заржали в ликовании; комья земли так и летели из-под их копыт. Чуяли они, как их подгоняют радость и упоительный восторг самого дня, ибо день был пьян неисчерпаемой радостью, а из небесной дали до вас доносилось ржание скакунов, что везли колесницу солнца и роняли вниз клочки пены, что ложилась на холмы кудрявым туманом.
В низменностях туманы таяли медленно, с неохотой оставляя столь прекрасные луга. На тех зеленых склонах Пьер брался за поводья и направлял своих жеребцов, и вскоре юная чета уже сидела на уступе, обводя взором голубые дали, все рощи да озера, волнистые поля кукурузы на горных равнинах, и зеленые моря полевицы в низинах, и узкие топи, что выделялись ярчайшей зеленью, указывая, где самые цветущие воды нашей земли проложили свои извилистые протоки; так испокон веков благодать божия чаще всего стучалась в скромные хижины у подножия холмов, и учила сердца простых смертных цвести и радоваться, и обходила стороной замки богачей на взгорье, оставляя тех во власти скуки и одиночества.
Но горе, а не радость – наш великий учитель; и малая толика житейского благоразумия отозвала Пьера прочь с того уступа. Сжимая руку Люси в своей и ощущая – ощущая с нежностью – ее слабый жар, он имел вид человека, коему доверили быть звеном в цепи сообщений, коими обмениваются меж собою летние молнии; его то и дело охватывала сладостная дрожь, и он уж заранее предвкушал те наслаждения, что ближе всего к божественным из всех земных.
И вот он валится в траву, смотря немигающим взглядом в глаза Люси:
– Ты – мой свод небесный, Люси, и я лежу здесь, твой король-пастух, наблюдая, как новые звезды загораются в твоих глазах. Ха! Я вижу восход Венеры. А тут вижу новую планету и, наконец, бескрайнюю туманность, усеянную звездами, как если б тебя затмил некий сверкающий таинственный образ.
Почему Люси не внемлет тем бредням, которыми говорит его поэтическая любовь? Почему она смотрит в землю и так дрожит, почему ее опущенные долу глаза полны слез и струятся теплым дождем? Вся радость исчезла из глаз Люси, и видно, как ее губы дрожат.
– Ах! ты слишком горяч и нетерпелив, Пьер!
– Нет, это ты – апрель, что чересчур дождлив и переменчив![48] Разве не знаешь ты, что вслед за дождливым и переменчивым апрелем приходит веселая, не терпящая возражений и бесслезная радость июня? И этот, Люси, этот день должен стать твоим июнем, даже земным?
– Ах, Пьер! То для меня еще не июнь. Но скажи, разве все цветы июня не распустились благодаря теплым апрельским дождям?
– Да, любовь моя! Но наш дождь льет сильней – все сильней и сильней, – такие дожди длятся дольше, чем положено апрельским, и никак не вяжутся с июнем.
– Июнь! Июнь!.. Невестин месяц лета… ты на земле сменяешь весну с ее любезными забавами… мой июнь, мой июнь уже скоро настанет!
– О! еще как настанет, но только по всем правилам; тот будет хорош, как настанет, и лучше.
– Тогда не проси цветения от закрытого бутона, пока его еще питают апрельские дожди, ведь, если он раскроется до времени, разве его лепестки не опадут прежде, чем июнь их коснется? Ты сможешь дать клятву, Пьер?
– Я чую в себе стойкость бессмертных ангелов, что берегут нашу священнейшую любовь, и клянусь в том всеми вечными и неисчерпаемыми радостями, что посещают мечты женщин в этой земной обители грез. Господь даровал тебе вечное блаженство, а мне – бесспорное обладание тобою и им, ибо таково мое неотъемлемое право… Разве я говорю вздор? Взгляни на меня, Люси, запомни мои слова, любимая.
– Ты юн, и хорош собою, и силен, и наделен пылким мужеством, Пьер, и твое храброе сердце никогда не знало страха… но…
– Но что?
– Ах, мой ненаглядный Пьер!
– Поцелуями я выпью этот секрет из твоих уст!.. Но так что же?
– Давай скорее вернемся домой, Пьер. Какая-то необъяснимая тоска, странная слабость давит мне на грудь. Меня мучит предчувствие, что впереди нас ждет вечный мрак. Поведай мне вновь про ту двойницу[49], Пьер, про то таинственное призрачное лицо, что, как ты мне сказал когда-то, трижды являлось тебе, а ты пытался бежать, и все безуспешно. Как голубеют небеса, о, как сладок воздух, Пьер… но поведай мне историю двойницы – у нее темные блестящие глаза, мрачное молящее лицо, по которому всегда разлита загадочная бледность и которое всякий раз от тебя отворачивается. Ах, Пьер, порой я думаю – не выйти мне никогда за моего ненаглядного Пьера, пока не разведаю тайну этой двойницы. Скажи мне, скажи мне, Пьер, кто сей упорный василиск с неподвижными глазами, пылающими мрачностью, кто эта двойница, что сейчас предстала предо мною.
– Приворожила! Тебя приворожила! Будь проклят час, когда я поступал, повинуясь мысли, что в любви нет никаких тайн! Мне не следовало вовсе заводить речь о той двойнице, Люси. Я и так довольно открылся тебе. О, всего и любовь никогда не должна знать!
– Кто не говорит всего, в том любви ни на волос, Пьер. Не стоит никогда больше тебе произносить подобных слов… и, Пьер, прошу, выслушай меня. Теперь… теперь… когда одолевает меня эта непонятная тревога, я умоляю тебя и впредь поступать со мной так, как ты поступил, чтобы я могла всегда знать обо всем, что тебя волнует, пусть даже это будет самая пустая и краткая мысль, что когда-либо слетала к тебе из бескрайнего эфира, где пребывают все идеи, что смущают род людской. Да разве я сомневалась в тебе… могла ли я когда-то помыслить, что в твоем сердце еще остался один край или уголок, коих я не смогла заполнить, – губительным разочарованием для меня, мой Пьер, стал бы тот день. Я скажу тебе вот что, Пьер, – и это сама Любовь говорит сейчас моими устами, – только когда есть прямое доверие и делятся меж собою всеми малейшими тайнами, у любви появляется возможность выжить. Любовь есть тайна и потому живет за счет тайн, Пьер. Если я буду знать о тебе лишь то, что и весь остальной мир знает, кем же тогда ты, Пьер, будешь для меня?.. Ты должен открыть мне всю тайну целиком, ведь любовь – это тщеславие и гордость; и когда я буду идти по улице и встречу твоих друзей, то должна буду утешаться и льстить себе мыслью: «Они совсем его не знают… только я знаю моего Пьера…», что никто больше не вертится на орбите вокруг тебя, греясь в лучах твоего солнца. Так дай мне клятву, дорогой Пьер, что никогда не станешь таить от меня секретов – нет, никогда, никогда! – дай в том клятву!
– Странное чувство овладело мною. Твои необъяснимые слезы, падая и падая мне на сердце, ныне обратили его в камень. Я ощущаю один ледяной холод и твердость; не стану я приносить клятв!
– Пьер! Пьер!
– Да поможет Господь тебе, и да поможет Он мне, Люси. Я не в силах думать, что в этом спокойнейшем и благодатном воздухе невидимые силы строят козни против нашей любви. О! если вы и ныне подле нас, вы, силы, коим я не нахожу названия, то именем, что имеет над вами власть – святым именем Христовым, – я гоню вас прочь от нее и меня. Не смейте ее трогать, вы, бесплотные дьяволы, убирайтесь в свой проклятый ад! Что вы рыскаете по этим райским землям? И почему оковы всемогущей любви не держат вас, дьяволов, на почтительном расстоянии?
– И это Пьер? Его глаза смотрят с испугом; и я мало-помалу все глубже погружаюсь в его душу; он кружит на месте и грозит воздуху и обращается к нему, как если бы тот бросил ему вызов. Горе мне, что чудная любовь вызвала эти губительные чары!.. Пьер?..
– Только что я был бесконечно далеко от тебя, о моя Люси, сбитый с толку, я блуждал во мраке душной ночи, но твой голос может вернуть меня, даже если я окажусь в Северном краю[50], Люси. Вот я уже присел рядом с тобою, твое душевное спокойствие передается и мне.
– Мой родной, родной Пьер! Пьер, на десять триллионов кусочков готова я дать себя разорвать ради тебя; на моей груди можешь ты отогреться и найти приют, хотя ныне я пребываю среди арктических льдов, замерзшая до смерти. Мой родной, бесценный, благословенный Пьер! Если б я могла вонзить в себя стилет за то, что мои глупые химеры возымели над тобою власть, настолько взволновали и настолько тебя ранили. Прости меня, Пьер, твое лицо, искаженное страданием, вытеснило из моих мыслей то, другое; страх за тебя победил все прочие страхи. Они перестали меня так тревожить. Крепче сожми мою руку, смотри на меня долгим взором, мой любимый, чтобы вся грусть исчезла без следа. Ну вот, я уже почти здорова; ну вот все и прошло. Воспрянь, мой Пьер; расправим крылья и улетим прочь с этих холмов, где, сдается мне, нашим глазам открываются чересчур широкие горизонты. Помчимся же на равнину. Взгляни, твои скакуны кличут тебя своим ржанием – они зовут тебя, – взгляни, туман струится вниз, на равнину, – и вот, эти холмы у меня на глазах вновь обретают вид пустыни и говорят прощай всякой растительности. Благодарю тебя, Пьер… Взгляни-ка, с сухими глазами я покидаю холмы и оставляю позади все свои слезы, чтоб ту влагу впитала в себя эта вечная зелень, подходящая эмблема для неизменной любви, и вместе с тем крепнет во мне тихая грусть. Как жестоко распорядилась судьба, что свои лучшие всходы лавры любви дают лишь на слезах!
Они лихо катили по спускам, держась в стороне от высоких холмов, и вскоре примчались на равнину. Ни единое облачко ныне не омрачало чела Люси; ни единая грозовая раздвоенная молния не проскакивала больше меж бровей у ее возлюбленного. На равнине они вновь обрели мир, и любовь, и радость.
– Это был всего лишь пустой текучий туман, Люси!
– Пустое эхо, Пьер, всегда откликается печальным звуком на давно ушедшее. Будь же здоров, мой Пьер!
– Милосердный Бог да хранит тебя всегда под своим покровом, Люси. Ну, вот мы и дома.
VI
После того как Пьер проводил Люси в самую светлую комнату коттеджа ее тетушки и усадил вблизи жимолости, что почти пробралась в окно, около которого Люси обычно сиживала, делая свои карандашные наброски за мольбертом, ножки коего она искусно оплела живыми виноградными побегами, что тянулись из горшочков с землей, куда поместили две из трех ножек сего мольберта, он подсел к ней сам, заведя легкую приятную беседу, чтоб развеять без следа ее последнюю грусть; и едва сия цель была полностью достигнута, как Пьер поднялся позвать к ней ее добрую тетушку и удалиться до вечера, но Люси окликнула его, прося принести ей прежде голубую папку из ее комнаты, так как ей хотелось прогнать непрошеную гнетущую меланхолию – если только у ней еще остался малейший ее проблеск – и занять свои мысли работой над небольшим карандашным наброском, что разительно отличался от видов Седельных Лугов с их холмами.
Тогда Пьер отправился на второй этаж, но замер на пороге, открыв дверь. Он никогда не входил в эту комнату иначе как с безмолвным благоговением. Ковер на полу казался ему святой землей. На каждом стуле, казалось, лежал отпечаток благодати некоего почившего святого, что восседал на них много лет назад. Книга его любви лежала перед ним как на ладони, говоря: преклони колени, Пьер, преклони колени. Но сию крайнюю склонность к любовному благочестию, кою подобные впечатления пробуждали в самом потайном храме его сердца, вовремя ослаблял такой шум крови в его ушах, что в мечтах он сжимал в объятиях всю дольнюю красоту мира, растворяясь вместе с тем в подлинно искренней любви к Люси.
В очарованном молчании он пересек пустую комнату, и тут его взгляд поймал отражение белоснежной постели в зеркале туалетного столика. Он прирос к месту. На одно краткое мгновение ему почудилось, что пред ним две отдельные постели – настоящая и зеркальная, – и вслед за тем смутное предчувствие самого мучительного свойства проникло в его душу. Но это видение растаяло почти мгновенно. Он двинулся далее, и его взгляд с умиленной и сладкой радостью упал на ту постель, где не было ни единого пятнышка, и остановился на белоснежном сверточке, что лежал рядом с подушкой. Он вздрогнул – ему показалось, Люси пришла за ним, но нет, то был всего лишь кончик ее маленькой ночной туфельки, что выглядывал в узкую щелку меж нижних покрывал постели. Тогда он вновь посмотрел на небольшой белоснежный кружевной сверток и стал как зачарованный. Никогда драгоценные греческие манускрипты не составили бы и половины той цены, что он дал бы за сей сверточек. Никогда ни один ученый не жаждал с таким трепетом развернуть таинственный свиток, как Пьер жаждал раскрыть священные тайны сих белоснежных кружев. Но его рука не коснулась ни единого предмета в комнате, кроме того, за чем он был послан.
– Держи свою голубую папку, Люси. Смотри, ключи так и остались в серебряном замке… боялась ли ты, что я открою?.. Надо сознаться, мелькала у меня заманчивая мысль.
– Открой ее! – сказала Люси. – Ну да, Пьер, да, какую же тайну я скрывала от тебя? Прочти меня от начала и до конца. Я вся твоя. Смотри!.. – И она распахнула папку тем движением, с которым опадают лепестки розы, источая нежнейшее благоухание неких незримых духов.
– Ах! Ты светлый ангел, Люси!
– Боже, Пьер, ты изменился в лице, ты смотришь так, будто… Отчего, Пьер?
– Смотрю, как тот, кто тайком заглянул в рай, Люси, и…
– Снова ты говоришь вздор, Пьер, ни словечка больше – ступай, оставь меня. На душе у меня легко. Живее зови мою тетушку и оставь меня. Постой, сегодня вечером мы будем смотреть альбом с гравюрами, что нам прислали из города, помнишь? Приходи пораньше… ступай же, Пьер.
– Что ж, до свиданья, до вечера, ты, венец всех радостей.
VII
Когда Пьер проезжал через молчаливую деревню под прямыми полуденными тенями вязов, простодушное очарование, что завладело им в комнате Люси, выветрилось, и таинственная двойница вновь ему вспомнилась, да так и застряла в мыслях. Наконец он приехал домой; мать его отсутствовала, потому, пройдя напрямую через широкий главный холл особняка, он сошел на веранду к заднему крыльцу и, будучи во власти своих дум, побрел к берегу реки.
Там росла могучая древняя сосна, которую, к счастью, миновали топоры безжалостных лесорубов, кои много лет назад расчистили те луга. Как-то раз, направляясь к сей благородной сосне из чащи тсуги, что стояла дальше на другом берегу реки, Пьеру впервые пришло в голову важное соображение, что хотя тсуга и сосна схожи по кроне и стати и носят столь схожий наряд, что те, кто не знает лес, иногда не могут их отличить друг от друга, и хотя обе вошли в пословицу как дерево печали, но у темной тсуги нет музыкальности в шуме задумчивых ветвей, тогда как кроткая сосна сладкозвучно роняет слезы скорби.
Пьер опустился на землю у полуобнаженных корней печального древа и заметил корень, что превосходил все прочие своими размерами и змеился в сторону реки, дальше всех вытянув длинное щупальце, которое дожди и бури давным-давно сделали похожим на пожелтевшую кость.
«Как широко, как вольно раскинулись эти корни! Несомненно, сосна эта крепко вросла в нашу плодоносную землю! Ты, яркий цветок, не пустил свои корни так глубоко. Это дерево видело сто поколений тех пестрых цветов и увидит еще сотню новых. Вот что печалит меня больше всего. Чу, я слышу безутешные и бесконечные жалобные стоны этой Эоловой сосны[51]… ветер стонет в ее ветвях… ветер… то дыхание Господа!.. Неужто Он так печален? О дерево! Столь могучее, столь высокое и при этом столь мрачное! Вот что самое странное! Чу! Стоит мне поднять глаза, чтоб всмотреться в гущу твоих ветвей, о дерево, как двойница, двойница там появляется и смотрит в ответ!.. Да кто же ты Пьеру? Спустись ко мне, о ты, неведомая дева, что за безотрадное сравненье с той, другой, с прекрасною Люси, которая также покоряет и покорила мое сердце первой! Так печаль всегда шествует вместе с радостью? Так печаль, как своевольный гость, всегда ворвется без всякого стука? Но я еще не знал тебя, печаль, ты только притча для меня. Я знаком с иными проявленьями благородного бешенства; я часто предавался мечтам о том, откуда приходит размышление, откуда приходит грусть, откуда все прелестные поэтические предчувствия… но ты, печаль! Ты остаешься для меня сказкой о привидениях. Я не знаю тебя вовсе и едва ли не готов счесть тебя пустою выдумкой. Не то чтобы мне ни разу не доводилось грустить, временами на меня находит грусть, и такими минутами я совсем не дорожу, но сохрани меня Боже от тебя, ты, в ком таится куда более густой мрак! При мысли о тебе меня бросает в дрожь! Двойница!.. двойница! Вновь она выглянула из чащи твоих ветвей, о дерево! Двойница прокралась в мое сердце. Таинственное создание! Кто же ты? По какому праву ловишь ты мои заветнейшие мысли? Убери свои тонкие пальчики от меня – я помолвлен, да не с тобой. Оставь меня!.. Какие у тебя права на меня? Ты не влюблена в меня, надеюсь? То было бы худшим несчастьем и для тебя, и для меня, и для Люси. Этого быть не может. Кто, кто же ты? О! Проклятая неопределенность – слишком хорошо мне знакомая и все ж необъяснимая, – неизвестность, полная неизвестность! Сдается мне, я погряз в замешательстве. Видно, знаешь ты обо мне то, чего я сам о себе не знаю, – что же именно? Если в глубине твоих глаз таится некая мрачная тайна, поведай ее, Пьер этого требует; что скрываешь ты под своим покрывалом, коим ты окутала себя столь небрежно, что, мнится мне, я различаю его движения, но не формы? Вижу, как трепещут его складки позади защитного экрана. Никогда прежде на душу Пьера не сходило подобное безмолвие! Если на деле там ничего нет и ты воплощение высших сил, что требуют от меня безоговорочного подчинения, то я молю тебя поднять покрывало, ибо я должен узреть это сам. Последую ли я опасной тропой к обрыву, предостереги меня; зависну ли над краем пропасти, удержи от падения; но только избавь от неведомой муки, что разом овладела моей душой и тиранит ее нестерпимо, не казни меня долее, иначе та кроткая вера, которою Пьер верит в тебя – чистая, незапятнанная вера, – может растаять, как легкий дым, оставив меня на милость недалекого атеизма! А, двойница сразу исчезла. Молю Небо, только бы она не показалась снова и не нырнула обратно в чащу твоих высоких ветвей, о дерево! Но двойница исчезла… исчезла… исчезла совсем; и я возношу Господу хвалу, и радость вернулась ко мне – радость, что принадлежит мне по праву; если бы я лишился радости, то мне пришлось бы вступить в смертельную вражду с невидимыми силами. Ха! Отныне меня облекает и защищает стальная броня; и мне доводилось слышать, что жестокость грядущих зим предсказывали по толщине кожуры на початке маиса – так рассказывают наши старые фермеры. Но это сравнение мрачное. Брось-ка ты свои аллегории – медоточивые в устах оратора, но горькие для желудка философа. Стало быть, да здравствует мое счастливое освобождение, и моя радость прогонит прочь все призраки – вот они и пропали; и Пьер вновь видит пред собою радость и жизнь. Ты, величавая сосна!.. Я не стану больше внимать твоим вероломнейшим небылицам. Не столь уж часто ты зовешь под свою душистую сень, чтобы поразмыслить над теми мрачными корнями, что крепко держат тебя в земле. Так я тебя покидаю, и да пребудет мир с тобою, сосна! Та благословенная ясность мысли, что всегда таится на дне любой грусти – обычной грусти – и приходит, когда все прочее миновало, – ныне во мне та счастливая ясность, и досталась она мне по сходной цене. Я не жалею, что предавался грусти, ведь теперь я так счастлив. Люси, любимая!.. так, так, так… мы с тобою славно скоротаем этот вечерок; и альбом гравюр, сделанных с картин фламандских художников, будет первым, что мы станем смотреть, а потом примемся за второй, за Гомера Флаксмана[52] – эти ясные линии, которые притом полны безыскусного варварского благородства. Затем Флаксманов Данте… Данте! Он воспевает ночь и ад. Нет, мы не откроем Данте. Мне пришло на ум, что двойница… двойница… немного напоминает прелестную задумчивую Франческу… или скорее дочь Франчески – милый призрак, навеянный печальным ночным ветром проницательному Вергилию и изгнаннику-флорентийцу[53]. Нет, мы не откроем Данте Флаксмана. Печальная Франческа для меня само совершенство. Флаксман может вдохнуть в нее жизнь – сделать ее мучения осязаемыми, изобразив их с дивным искусством… с обворожительной силой. Нет! Не открою я Данте Флаксмана! Будь проклят час, когда я прочел Данте! Более проклят, чем тот, когда Паоло и Франческа занимались чтением рокового «Ланселота»!
Глава III ДУРНОЕ ПРЕДЧУВСТВИЕ, КОТОРОЕ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ
I
Двойница, о которой Пьер и Люси столь таинственно и испуганно толковали меж собою, была не одним только чудным призраком; и Пьер угадывал в ней смертные черты, в коих сквозила бесконечная печаль. Она не являлась ему ни в уединении, ни на какой-нибудь тайной тропе, ни в бледном свете месяца, но всегда при ярком огне свечей в оживленной гостиной, где весело звенело четыре десятка женских голосов. В самый разгар веселья эта тень неизбежно настигала его. Стоя в венце из света, она тихо манила его к себе, и в ее улыбке грезилось что-то знаменательное и пророческое, намек на прошлое, на некий несмываемый грех; и мнилось, она протянула дрожащий перст к будущему, указуя на некое неотвратимое зло. Такие призраки возникают порой пред взором человека, и, не промолвя ни единого слова, показывают ему быстрые видения некоего ужасного грядущего. Видом подобные человеку, но окруженные облаком неземного света, явные чувствам, но непостижимые для души, оставляя в нас впечатление несказанного совершенства, всегда парят они между танталовыми муками и блаженством рая; в их облике столь причудливо соединилось дьявольское и божественное, что они с легкостью опрокидывают все наши прежние убеждения, и мы вновь становимся удивленными детьми в этом большом мире.
Двойница преследовала Пьера несколько недель до его поездки с Люси на холмы за пределы Седельных Лугов и перед ее приездом на лето в деревню; больше того, двойница являлась ему в самой обычной и непритязательной обстановке, что лишь разжигало его любопытство.
Он отправился по делам к дальним фермерам-арендаторам, пробыл там почти весь день; и в небе уж плыла луна, когда прелестным ранним вечером он вернулся домой, а Дэйтс подал ему записку матери, в коей та просила его зайти за ней этим вечером в полвосьмого в коттедж мисс Лэниллин, чтобы проводить ее оттуда к двум мисс Пенни. Увидев фамилию этих дам, Пьер сразу понял, что его ожидает. Эти пожилые и искренне благочестивые старые девы были одарены самыми великодушными сердцами на свете, и когда в средние лета лишились слуха по воле завистливого рока, то, казалось, приняли решение посвятить себя делам благотворительности, мысля, что, коль скоро Богу угодно было отнять у них радость внимать Христову богослужению, так они будут делать все что только возможно, чтоб следовать заповедям. Посему они воздерживались от посещения церкви, так как мессы не могли интересовать их более; и пока паства преподобного мистера Фолсгрейва, сжимая молитвенники в руках, усердно славила своего Господа, как велит святой завет, две мисс Пенни, вооружась иглой да нитками, не подымали головы от шитья, не менее усердно служа им: они шили рубашки и платья для бедняков своего прихода. Пьер слышал, что недавно они хлопотали, организуя в богоугодных целях кружок шитья, зовя в него жен и дочерей соседских фермеров, дабы сходиться дважды в месяц в их собственном коттедже (коттедже, принадлежащем двум мисс Пенни) и шить сообща для нужд многочисленных селений обнищавших эмигрантов, которые впоследствии густо застроили своими хижинами дальний берег реки. Но хотя это начинание воплотилось в жизнь лишь после того, как о нем сообщили миссис Глендиннинг, ибо ее сердечно любили и почитали обе благочестивые старые девицы, да после того, как их стараниями все узнали о полной поддержке со стороны этой милостивой леди-помещицы, все же Пьер не слыхал, чтоб мать его открыто просили стать председательницею или вовсе посещать собрания кружка, проводимые каждые полмесяца, хотя он подозревал, что, будучи очень далека от каких-либо колебаний в таком деле, она бы весьма охотно ими верховодила, чтобы оказать тем самым посильную помощь добрым поселянам.
– Ну, брат Пьер, – сказала миссис Глендиннинг, поднимаясь из огромного уютного кресла мисс Лэниллин, – подай мне шаль да пожелай доброго вечера тетушке Люси. Пойдем, а то опоздаем.
Когда они шли под руку по сельской тропке, она промолвила:
– Что ж, Пьер, я знаю, ты бываешь чуточку нетерпелив, приходя на собрания швейного кружка, но мужайся, я только на минутку туда загляну, так, напомнить им кое о чем, за что надо приняться безотлагательно, и тогда прольется на них дождь обещанных мною милостей. И потом, Пьер, я могла бы просить Дэйтса сопровождать меня, но предпочла тебя, ибо желаю, чтоб ты знал тех, с кем мы живем бок о бок, – и сколько у нас истинных красавиц, сколько замужних дам и девушек, наделенных благородством от природы, для коих ты в один прекрасный день станешь лордом. Нас ждет милый рой сельских дев, среди которых иные будут кровь с молоком.
Вскоре Пьер, разгоряченный такими приятными обещаниями, уже входил, ведя мать под руку, в комнату, полную народа. Стоило им показаться в дверях, как старуха, что сидела с шитьем у порога, так как ей не хватило места в общей комнате, пронзительно запищала:
– Ах, дамы, дамы, мадам Глендиннинг! Мастер Пьер Глендиннинг!
Почти тотчас же раздался высокий, резкий, длинный девичий крик в дальнем углу большой двойной комнаты. Никогда еще человеческий голос так не волновал Пьера. Пусть он прежде не встречал той особы, что кричала, и пусть этот голос был ничуть ему не знаком, но тот нечаянный крик поразил его прямо в сердце, оставив рану, что пульсировала болью. Он замер в смущении, но быстро очнулся от окрика матери, руку которой все еще держал в своей:
– Почему ты так стиснул мне руку, Пьер? Ты делаешь больно. Фи! Кто-то лишился чувств, только и всего.
Пьер сразу опомнился и, смеясь про себя над прежним волнением, поспешил в комнату, чтобы предложить помощь, если таковая требовалась. Но жены фермеров и девушки уж были тут как тут, и пламя свечей плясало от свежего ветра из распахнутых окон там, где случился обморок. Вся суматоха скоро улеглась, и, когда затворили окна, она стихла почти совсем. Старая мисс Пенни, та, что была старшей, протиснувшись вперед, подошла к миссис Глендиннинг и поведала ей вполголоса, что в дальнем конце комнаты, где девушки-работницы сели уж слишком тесно друг к дружке, с одной приключился внезапный, но непродолжительный припадок – вероятно, в связи с какою-нибудь нервной болезнью. С ней снова все в порядке. И потому все фермерские жены и дочери, не сговариваясь, видимо поступая так в силу своего прирожденного чувства такта, которое каждому из нас свойственно в какой-то мере, явили собою пример хорошего тона и великодушия, не касаясь более этой темы, и не стали донимать девушку расспросами, перемолвились обо всем едва парой словечек; и все иголки вновь замелькали с прежней скоростью.
Оставив мать беседовать с тем, с кем ей вздумается, и самой улаживать те дела, что привели ее сюда, Пьер потерялся на этом оживленном собрании, и тотчас же забыл о маленькой неприятной заминке, что произошла минуту назад, как только обратился с краткой учтивой речью к двум мисс Пенни – они ловили его слова при помощи длинных витых слуховых рожков, которые, пока в них не возникнет нужда, сестры носили, как носят охотничий рог у пояса, – а также после того, как он выказал глубочайший интерес и понимание предмета, наблюдая таинственный процесс создания большого шерстяного носка, который довязывала пожилая дама в пенсне, его добрая знакомая; после того, как он наконец покончил со всем этим, а мы, в свою очередь, пропустим здесь несколько похожих обменов любезностями, которые могут показаться чересчур нудными, если остановиться на них подробнее, но которые, однако, заняли у него еще полчаса, Пьер, слегка покраснев и оборвав беседу под благовидным предлогом, направился к сонму девушек, что теснилась в дальнем углу, где в свете уймы свечей, что уже порядком оплыли, приглушенно жужжал этот рой молодых девиц, щечки которых пылали румянцем так, словно то было густое поле садовых тюльпанов. Там были стыдливые и миловидные Марии, Марты, Сюзанны, Бетти, Дженни, Нелли и еще четыре десятка прекрасных нимф, что снимали сливки и сбивали масло на зажиточных фермах Седельных Лугов.
Мы набираемся отваги в присутствии отважных. Когда же берет верх смущение, то оно сковывает всех без разбору. Нужно ли удивляться, что при виде такой густой толпы быстроглазых девушек в венках из полевых цветов, которые чурались его и краснели, оставаясь при том бойкими даже в самом смущении, Пьера тоже бросило в легкую краску, и слова не шли у него с языка? Горячечный жар впервые испытанной страсти жег ему сердце, и учтивые фразы и самые ласковые слова готовились слететь с его уст, но он стал как вкопанный, вдруг оробев под взглядами многих пар глаз, что разили его, словно лучники в засаде.
Однако его смущение чересчур затянулось, а румянец в лице сменился внезапной бледностью; что за диво видит пред собою Пьер Глендиннинг? Позади первого сонма молодых девушек, кои сидели к нему ближе всех, было еще несколько конторок или круглых столиков, за которыми девушки ютились группками по двое, по трое и шили, так сказать, в некоем относительном уединении. Казалось, они не стремились выделиться между сельскими красавицами или же по какой-то причине добровольно пошли на эту маленькую ссылку. И вот на той, что сидела с шитьем за самым дальним и самым скромным столиком у окна, Пьер остановил свой помутневший взор.
Девушка спокойно шьет; и ни она, ни ее товарки не говорят друг с другом. Она почти не поднимает головы от шитья, но самому внимательному наблюдателю открылось бы, что порой она обращает к Пьеру тайные и робкие взоры и затем, еще больше таясь и робея, смотрит на его царственную мать, а после – вдаль. Временами ее необычайное хладнокровие изменяет ей, и тогда кажется, что это всего лишь маска, за которой она пытается скрыть сильнейшую бурю, что бушует в груди. Ее стан облекает скромное черное платье, на коем нет ни ленточки, ни оборки; оно наглухо застегнуто до самой шеи и у самого горла сколото простою бархатной брошью. Чтоб не затруднять дыханья, эта брошь закреплена свободно, но она то сжимается, то растягивается с такой силой, словно ее душит жестокое волнение, коим переполнилось ее сердце. Однако на ее смуглых, оливковых щеках нет ни румянца, ни тени малейшего беспокойства. Стоит этой девушке принять свой обычный вид, и море несказанного спокойствия смыкает волны над ее головой. Но вот она искоса бросает тайный, робкий взор. Тотчас же, словно поддаваясь неодолимому порыву неведомого чувства, каким бы оно ни было, поднимает она свое чудное лицо к сиянию свечей, и на один краткий миг этот лик самой таинственности открыто меняется взглядом с Пьером. Поразительная красота и еще более поразительное одиночество вкупе с невыразимой мольбой обращалось к нему в том облике, коего ему никогда не забыть. Казалось, он видел там также святую землю, где страдание боролось с красотой, и никому не досталась победа, обе остались бездыханными лежать на поле брани.
Преодолев наконец свои побуждения, которые были уж слишком ясны, Пьер развернулся и отошел прочь, чтобы окончательно овладеть собою. Дикое, конфузящее, необъяснимое любопытство снедало его – желание разведать о той девушке хоть что-то. И этому любопытству он сразу же сдался безоговорочно, будучи тогда не в силах ни дать ему бой, ни усмирить его ни в коей мере. Едва к нему вернулось его всегдашнее спокойствие, он почел за лучшее начать нескончаемые речи, став позади сонма ярких глаз и алых щечек, чтобы путем той или иной хитрости добиться, если повезет, внятного словечка от той, чья скромность и молчание взволновали его до глубины души. Но когда он уже готов был вновь пройти через всю комнату, чтобы исполнить свое намерение, то услыхал голос матери, весело зовущей его к себе, и, повернувшись, увидал, что она уже закуталась в шаль и надела шляпку. Желая остаться, он, тем не менее, не успел выдумать благовидного предлога, а потому, укротив свое возбуждение, он отвесил всем торопливый прощальный поклон и вышел вон под руку с матерью.
Несколько минут они шли домой в полном молчании, затем его мать заговорила:
– Ну, Пьер, что же это может быть!
– Боже, матушка, значит, и вы ее увидели!
– Сын мой! – воскликнула миссис Глендиннинг, вдруг остановившись в ужасе и вырвав свою руку от Пьера. – Что… что, ради всего святого, нашло на тебя? Вот что самое странное! Я всего лишь в шутку спросила, о чем ты так напряженно думаешь, и вот ты делаешь мне этот непонятнейший вопрос, да еще таким голосом, словно он идет из могилы твоего прапрадеда! Что, во имя неба, это значит, Пьер? Почему ты столько молчал и почему теперь говоришь невпопад? Отвечай мне… объясни все это… она… она… о какой еще ней можешь ты думать, как не о Люси Тартан?.. Пьер, берегись, берегись! Я-то думала, ты тверже хранишь верность своей возлюбленной, и никак не ждала того непостижимого поступка, на который ты как будто намекаешь. Отвечай мне, Пьер, что это может значить? Не медли, я ненавижу тайны; говори, сын мой.
По счастью, такая длинная многословная тирада, в кою вылилось удивление его матери, позволила Пьеру оправиться после двух приступов паники, что накатили на него один за другим: сначала он подозревал, что мать также поразилась красоте таинственной девушки, а после, когда эту мысль яростно отвергли, он смутился от ее неприкрытой и понятной тревоги, что она поймала его на неких переживаниях, которые уж никак не могла с ним разделить.
– Это все пустое… пустое, сестра Мэри, самый ничтожный пустяк на свете. Думаю, я просто грезил… спал с открытыми глазами или что-то в этом роде. До чего ж миловидны те девушки, которых мы видели сегодня вечером, не правда ли, сестра? Идем, продолжим путь, сестра моя.
– Пьер, Пьер!.. Ну, я вновь приму твою руку… неужто тебе больше нечего сказать мне? Неужто ты, Пьер, только летал в мечтах?
– Я клянусь тебе, дражайшая матушка, что никогда прежде во свою жизнь не было у меня такой глубокой задумчивости, как ту самую минуту. Но теперь все прошло. – Затем Пьер сменил тон на менее серьезный и добавил игриво: – А еще, сестра моя, если ты хоть немного знакома с медицинскими и поучительными трудами иных авторов, тебе должно быть известно, что только одно лечение возможно в том случае, когда речь идет о безобидном мимолетном заблуждении, кое подходит любому, – игнорировать сей предмет. Поэтому ни слова больше об этих глупостях. Продолжение нашей беседы только сделает из меня непроходимого глупца и не даст ни малейшей уверенности, что мною вновь не завладеют прежние мечты.
– Ну, тогда, вне сомнений, мой дорогой мальчик, нечего об этом и говорить. И все-таки странно… очень, очень странно. Что же твоя утренняя прогулка, какова была? Расскажи мне обо всем.
II
Так Пьеру, который отдался с готовностью этому благоприятному течению разговора, удалось проводить мать домой, не дав ей дальнейших поводов к удивлению или беспокойству. Но не так-то легко ему было унять собственные беспокойство и удивление. Слишком близкими к истинной правде, какою бы расплывчатой она в то время ни казалась, были его глубокомысленные слова, которыми он отвечал своей матери, что никогда еще во всю свою жизнь не ведал он столь глубокой задумчивости. Двойница преследовала его, как образ некой молящей и прекрасной, пламенной и совершенной Мадонны, что преследует художника, который и страстно того жаждет, и увлечен, но вечно пребывает в недоумении. И каждый раз, когда таинственная двойница приходила ему на ум, новое впечатление волновало его; высокий, резкий, длинный девичий крик снова и снова звенел у него в ушах, ибо ныне ему было ведомо, что это кричала двойница – только таким криком Дельфийского оракула и могло кричать подобное существо. И к чему сей крик? – думал Пьер. Сулит ли он зло двойнице, или мне, или обоим? Или я зверь лесной, что один мой вид сеет всюду такой страх? Но он больше грезил о самой двойнице – о девушке, образ коей неотразимо влек его к себе. А крик казался лишь эхом, что и пристало-то к ней случайно.
Те чувства, что ныне волновали его, видимо, пустили глубочайшие корни и раскинули сеть тончайших волоконец во всем его существе. И чем больше они разрастались в нем, тем больше он тяготился их странной непостижимостью. Что ему одна незнакомая грустноглазая девушка да ее крик? Должно быть, на свете еще немало грустноглазых девушек, и это лишь одна из многих. И что ему эта прекраснейшая грустноглазая девушка? Как печаль могла пленить его настолько, ничуть не меньше, чем жизнерадостность, – тут он и вовсе терялся, силясь разрешить это противоречие. «Хватит с меня этой страсти», – хотелось ему возопить, но тогда, в тихом сиянии своей божественной красоты, двойница с молящим, страдающим взором сама собою возникала пред ним.
Прежде я не принимал всерьез, мыслил Пьер, все те россказни о загадочных потусторонних гранях человеческой природы; весь мой жизненный опыт учил верить лишь тем милым призракам, у коих таинственные покровы скрывают живые пленительные формы и трепещут от горячего дыхания, и верил я только в плоть и кровь. А теперь!.. теперь!.. и он вновь принимался за самые изощренные и мистические рассуждения, что заглушали ропот разума, призывающего разобраться же наконец в своих чувствах. Но потемками для него обернулась собственная душа. Он ощущал, как незыблемые земли его подлинной яви ныне неуклонно окружают знаменоносные армии, где в строю маршируют мрачные фантомы в опущенных капюшонах, которые разом высыпали на берег его души, словно из некой призрачной флотилии.
Власы двойницы не были змеями Горгоны, и поразила она его вовсе не каким-то отталкивающим безобразием, а своей несказанной красотой да терпеливым, безнадежным страданием.
Но он сознался себе, что это впечатление, вполне понятное, выбило, однако же, почву у него из-под ног, ибо двойница будила в нем самые затаенные и запретные мечты и своим властным молчаливым призывом расшатывала саму основу его духовной жизни, мешая ему вывести на подмостки правду, любовь, сострадание, совесть. «Воистину чудо из чудес! – думал Пьер. – Дивное диво, из-за которого спокойный сон стал у меня редким гостем». Нигде ему не было спасения. Он пытался бормотать себе под нос, облачаясь в пижаму, – это не сработало. Он пытался бежать прочь от двойницы по залитым солнцем лугам – все было напрасно.
Самым непостижимым из всего оставалось для Пьера смутное подозрение, что такие черты лица он уже видел где-то прежде. Но он не смог бы сказать где именно; и не имелось у него о том ни малейшего предположения. Знавал он случаи – да и сам не единожды это испытал, – что порою мужчина, видя, как мимо него по улице проходит некая соблазнительная особа, на краткий миг вспыхивает к ней властным и необоримым влечением, вовсе и не зная, кто она, а только повинуясь неясному воспоминанию о неких туманных чертах той, кого он видел прежде в своих мечтах, в то время когда такие встречи для него в жизни и составляли весь ее смысл. Но совсем не то ныне занимало Пьера. Двойница не была милым видением, что пленяет нас несколько кратких минут, а потом ускользает с тем, чтоб никогда не возвратиться. Она всегда витала рядом с ним, и отогнать он ее мог – и то не всегда, – только собрав в кулак всю свою решимость и силу воли. И потом, воспоминание о ее несказанной красоте, что таилось до времени среди прочих ярких впечатлений, ныне, казалось, сгустилось и обрело форму острого копья, пронзающего ему сердце нестерпимой болью всякий раз, как его охватывало известное душевное волнение – назовем это так, – туманило ему голову мечтами о тысяче славных деяний давно минувших лет, приправляя все это старыми семейными сказками о его предках, из коих многие уже давно покоились в могиле.
Ни словом не обмолвясь о своих необузданных мечтах ни матери, ни другим домашним, Пьер двое суток пытался отогнать от себя надоедливый призрак; и наконец он столь счастливо очистил душу от всякой скверны и столь счастливо обрел свое прежнее хладнокровие, что некоторое время жизнь его текла по-старому, словно то странное волнение и не мучило его никогда. Вслед за тем пленительные и сладостные мысли о Люси незаметно заполнили его сердце, вытеснив оттуда все мрачные тени. Вслед за тем он стал вновь скакать верхом и заниматься джигитовкой, гулять пешком и переплывать стремнины и с новым пылом вернулся к своим достойным занятиям всеми теми мужскими искусствами, которые так страстно любил. При взгляде на него начало уж казаться, что он, прежде чем дать брачный обет всегда защищать, равно как и любить свою Люси, решил сперва набраться как можно больше сил и стать благородным обладателем таких внушительных мускулов, чтобы при случае отвоевать Люси у всего обитаемого мира.
Однако же даже до того, как двойница снова возникла перед ним, Пьер, несмотря на все упорное рвение, проявляемое им в гимнастике и прочих занятиях, был ли он дома или на свежем воздухе, держался ли правил или нарушал их, все же не мог подавить в душе тайного раздражения и некоторого смятения оттого, что вынужден, впервые на своем веку, не только скрыть от матери свой единственный проступок (который, мнилось ему, был не более чем простительной оплошностью; да к тому же, как мы увидим далее, он вполне мог бы отыскать подлинный пример для подражания, если бы начал копаться в прошлом), но также, сверх того, уклониться, нет, отклонить все расспросы, а по сути в его ответе прозвучало нечто, тревожно похожее на выдумку, и это на прямой-то вопрос, заданный матерью; вот что припомнилось ему теперь, при строгом разборе, из разговора, что он вел с матерью в тот богатый событиями вечер. Он сделал еще тот вывод, что его уклончивый ответ не вырвался у него невольно, под влиянием минутной слабости. Нет, его мать повела бесконечные речи, а он между тем – он хорошо это помнил, – дрожа, в спешке, ломал голову над тем, как бы этак свернуть разговор в сторону от неприятной и опасной темы. Отчего все так вышло? Неужели этого он и хотел? Кем было то таинственное создание, что покорило его с такой внезапностью и сделало из него лжеца – да, лжеца, ни больше ни меньше, – да еще перед матерью, которую он уважал и горячо любил? Вот где притаился корень всех его зол, вот в чем была причина его величайших нравственных терзаний. Но, как бы то ни было, по дальнейшем размышлении он пришел к мысли, что согласился бы на иной исход дела с большой неохотой; с большой неохотой разоблачился бы он теперь перед матерью. Опять же, отчего так вышло? Неужели этого он и хотел? Вот где, опять же, была пища для размышлений о мистике. Вот когда в его душе стали тихонько тренькать предостережения, сомнения, предположения, и Пьер понемногу начал понимать ту истину, кою все зрелые мужи, наделенные мудростью, постигают рано или поздно, кто в большей, а кто в меньшей степени, – что далеко не всегда человек сам кует свое счастье. Но сие соображение рисовалось Пьеру в тусклых красках, а известно, что неясность всегда тяготит нас и вызывает подозрение, и потому Пьер с отвращением отпрянул от зияющей преисподней, что разверзлась в его мыслях, где на самом дне томилась сия нарождающаяся склонность, которая звала его к себе. Только одну мысль он лелеял, не делясь ею ни с кем; только в одном он был твердо убежден: в том, что в мире загробном он бы уж точно не избрал мать себе в наперсницы, дабы поведать, что временами на него находит некий мистический дух.
Но то необъяснимое колдовское очарование, с коим двойница в эти два дня впервые и прочно опутала его душу, ужели это очарование удержало растерянного Пьера от самого простого и легкого пути узнать правду, что мешало ему смело отправиться на поиски и возвратиться в знакомый дом, узнать ее по внешности или голосу и расспросить обо всем ее саму, ту таинственную девушку? Нет, мы не можем сказать, что Пьер совсем уж ничего не предпринимал. Но он запылал безграничным любопытством и участием ко всему этому, как ни странно, не ради самой мрачной красавицы смуглянки, а скорее под воздействием флюидов таинственности, что струились от нее, возбуждая в его мыслях некую сумятицу. Вот где таилась неразрешимая загадка, вот от чего Пьер бросался без памяти прочь. Возникнув извне, ни одно дивное чувство не властно затронуть в нас душу, пока где-то в глубинах нашего существа не шевельнется к нему любопытство. Только если звездный свод прольет на нас золотой дождь неслыханных чудес, наше сердце наполнится ими с избытком, ибо мы и сами – величайшее чудо и загадка более блистательная, чем все звезды во Вселенной. Чудеса сливаются воедино, а в нас родится смущение. У нас-то ведь не больше оснований для самомнения, чем у лошадей, псов или кур, что всегда стоят много ниже нас с нашим бременем небесного величия. Но своды наших душ не очень-то годятся для такого гнета, и верхняя арка еще не пала нам на головы лишь потому, что ее кое-как поддерживает шаткая концепция непостижимости. «Поведайте мне ту глубочайшую тайну, что во мне сокрыта, – взывал к небесам скитавшийся по полям халдейский царь, возлегая на росистых лугах и бия себя в грудь, – и тогда я отдам все свои богатства вам, о вы, горние звезды»[54]. Так же до некоторой степени рассуждал и Пьер. «Поведай мне, откуда взялось то странное чувство, что пребывает со мной неизменно, – думал он, обращаясь к пленительной двойнице, – и тогда я отрекусь от любого другого дива, чтобы смотреть с восхищением на одну тебя. Но ты пробудила во мне силы, куда более могучие, чем те, что вызвали тебя, двойница, к жизни! Ты для меня всегда пребудешь лишенным покрывала бессмертным ликом тайны, молящим, но безгласным, который покоится в основе всего обозримого времени и пространства».
Но в эти первые два дня его безграничной покорности своим истинным чувствам Пьер не был свободен и от других желаний, куда менее таинственных. Два или три весьма простых и прозаических соображения о подходящих маневрах в случае, если дело дойдет до неких возможных объяснений домашним всего этого вздора, как он про себя вскользь бранил свои мысли, – сии соображения, порхая в его мозгу, подчас знаменовали для него передышку в том состоянии полусумасшествия, коим понемногу проникалась его душа. Случилось ему однажды схватить шляпу, позабыв привычные перчатки и трость, вихрем вылететь из особняка и опомниться уже на улице, пройдя очень быстрым шагом половину пути к коттеджу двух мисс Пенни. Но теперь-то куда? – вопросил он себя, окончательно отрезвившись. Куда ты пойдешь? Миллион к одному, эти глухие старые девы ничего не скажут тебе о том, что ты жаждешь услышать. Глухим старым девам никогда не поверяют такие мистические секреты. Но все же, быть может, им известно ее имя, где она живет, а также, какими бы обрывочными и неблестящими ни были их сведения, что-то о том, кто она и откуда. Да, но все же, как только за тобою захлопнется дверь, уж через десять минут во всех домах Седельных Лугов будут жужжать сплетни о Пьере Глендиннинге, который хоть и обручился с Люси Тартан, а смотрите-ка, еще рыскает по графству, занятый двусмысленными поисками таинственных молодых женщин. Это никуда не годится. Неужто ты не помнишь, что часто видел двух мисс Пенни, как они, простоволосые и без шалей, спешили по деревне, словно два почтальона, полные решимости поделиться какими-нибудь сочными подробностями пикантных сплетен? Что за лакомое блюдо для них будешь ты, Пьер, нанеси ты им нынче визит. Правду молвить, тот витой рог, что был у обеих пристегнут к поясу, служил разом и слуховым рожком, и трубою глашатая. Пусть две мисс Пенни были почти совсем глухи, но немыми они отнюдь не были. О каждой новинке они трубили на весь белый свет.
«Смотри же, скажи непременно, что это были мисс Пенни, кто передал известья… скажи непременно… мы… мисс Пенни… запомни… скажи миссис Глендиннинг, что это были мы». Вот какое устное послание память не без иронии подсказала Пьеру, послание, что некогда одним вечером доверили ему почтенные сестры, старые девицы, придя в особняк с порцией самых свежих и отборнейших новостей, которые приберегали для того, чтоб составить изысканную, avec la recherche, светскую беседу с его матерью, но не застали дома царственную леди и потому пересказали все ее сыну, спеша дальше, в каждый дом округи, дабы везде появиться с вестями самыми первыми.
«Желал бы я, чтоб все произошло в любом другом доме, но не у двух мисс Пенни, в любом другом доме, но только не у них, ибо я всей душой верю, что мне нужно прийти. Но не к ним… нет, этого я сделать не могу. Вне сомнений, сплетня очень быстро достигнет ушей моей матери, и тогда она сложит два и два… немного встревожится… решительно рассердится… и навсегда распрощается со своим горделивым убеждением в моей голубиной чистоте. Терпение, Пьер, в нашей округе не так уж много жителей. Не в густых толпах Ниневии затерялась она, где меж людей стирается всякое различие. Терпение, ты с ней еще повидаешься, поймаешь ее, когда она будет идти мимо тебя какой-нибудь зеленой тропкой, совсем как в твоих ночных мечтах. Та, что хранит сию тайну, не может жить в дальних краях. Терпение, Пьер. Такие тайны, в конечном счете, наилучшим и скорейшим образом всегда сами же себя и выводят на чистую воду. Или, если тебе угодно, ступай назад и возьми перчатки, да не забудь также и трость, а тогда отправляйся инкогнито в сей вояж в поисках разгадки. Возьми свою трость, слышишь, ибо, скорее всего, тебе предстоит очень долгая и утомительная прогулка. И вправду, я лишь теперь смекнул, та, что хранит сию тайну, не может жить в дальних краях, но притом ее близкое соседство вовсе не будет бросаться в глаза. Стало быть, поворачивай-ка ты обратно да снимай шляпу и оставь трость стоять на месте, мой добрый Пьер. Не искушай неведомое, запутывая все еще больше…»
Так Пьер и бросался от одного к другому в эти печальные два дня, что стали для него днями величайших душевных мук: он то пытался себя усовестить, то сам с собою спорил; и так как поведение его было чрезвычайно благоразумно, он укротил все свои невольные всплески чувств. Безусловно, мудро и правильно было то, как он держался, безусловно, но в мире, как наш, где бесчисленные двусмысленности подстерегают нас на каждом шагу, никто не может с уверенностью ручаться, что поступки другого, какими бы осторожными и взвешенными они ни были с точки зрения добродетели, непременно приведут к возможному наилучшему исходу.
Но когда эти два дня миновали и Пьер понемногу стал узнавать себя прежнего, словно вернулся из какой-нибудь таинственной ссылки, в ту пору его замыслы заняться собственнолично и открыто разгадкой тайны, сузить ли ему круг поисков, заявившись с визитом к двум старым девам, или же, напротив, расширить его, обойдя пешком целое графство да осмотрев зорким глазом все, не пропуская ни единой былинки, словно инквизитор, который с коварством гадюки скрывает до последнего причину своих расспросов, – эти мысли и все им подобные, наконец, оставили Пьера в покое.
Он стал трудиться без устали, призвав на помощь всю силу своего разума, дабы прогнать призрак навеки прочь. Казалось, он осознал, что всякий раз при виде двойницы в его груди просыпалась неясная тоска, которая, как ни крути, была ему вовсе не свойственна и непривычна его обычному расположению духа. Ее окутывал ореол страдания, и он боялся даже представить, какие, с позволения сказать, бедствия таит оно в себе, ибо в своем тогдашнем неведении он не мог найти для них лучшего слова; казалось, двойница сеет за собою семена лихих невзгод, которые, если не поспешить истребить их на корню, способны отравить и наполнить горечью всю его жизнь – ту счастливую жизнь, которую он выбирал, давая Люси святую и искреннюю клятву верности, что было для него одновременно и жертвой, и наслаждением.
И эти его усилия не прошли совсем бесследно. Прежде всего, он чувствовал, что приобрел власть над появлениями и исчезновениями двойницы, вот только повиновалась она ему не всегда. Случалось, былая, прежняя мистическая сила все еще пробовала над ним свою тираническую власть: длинные локоны черных волос мрачным водопадом низвергались на него, и вместе с ними чудная меланхолия вкрадывалась в его душу, глубокие неподвижные глаза, прелестные и полные скорби, струили свое дивное сияние, пока он не начинал чувствовать, что их лучи воспламеняют, но ему не дано было выразить словами, что за мистический огонь стремились они зажечь в его сердце.
В один прекрасный день это чувство всецело им овладело, и Пьер повис над пропастью. Ибо, несмотря на то что оно было непостижимым для его ума, оно взывало к самым высоким устремлениям его души, была в этом ощущении своя отрадная печаль, и ею он упивался. Незримая фея парила над ним в небесной дали, осыпая его прекраснейшими перлами меланхолии. Вот когда – один-единственный раз – пожелал он, чтоб о его секрете узнала хоть одна живая душа на белом свете. Одна живая душа, никто больше, ибо ему стало невмоготу хранить долее в себе эту странную тайну. Необходимо было открыться кому-нибудь. И в такой час ему довелось повстречать Люси (ту, кого из всех прочих он откровенно боготворил), а потому она-то и услышала историю двойницы; вовсе не спала она в ту ночь, долго и тщетно пыталась уйти в подушку от диких, бетховенских звуков вальса, которые ветер заносил издалека, словно переменчивые духи танцевали на вересковой пустоши.
III
Наша история то мчится вперед, то возвращается назад по воле случая. Придется вам схватывать все на лету и проявлять большую сноровку, чтобы поспеть за мной. Возвратимся же к Пьеру, что спешит домой, очнувшись от тех грез, что посетили его под кроной величавой сосны.
Он воспылал гневом на великого итальянца Данте за то, что в прежние времена тот стал первым поэтом, кто открыл его трепещущему взору бесчисленные скалы и бездны человеческих тайн и страданий; хотя, в некотором смысле, то было скорее эмпирическое восприятие, чем сенсуальное предчувствие или познание (ибо в те дни его взору не дано было проникнуть в земные глубины и воспарить к небесам, подобно взору Данте, а потому он оказался совершенно не готов сойтись с суровым поэтом честь честью, вознесясь в области мысли, где тот находил для себя полное раздолье), эта буря невежественного гнева юнца была всплеском той неприязни, что несла в себе примесь презрения и антипатию эгоиста, с которой все хилые по природе своей или дремучие умы относятся к мрачной поэзии величайших творцов, что всегда вступает в противоречие с их собственными, легкомысленными, пустыми мечтами беззаботной или же благоразумной молодости; таковая опрометчивая, простодушная вспышка юношеского раздражения Пьера словно унесла с собою прочь все другие личины его меланхолии – если то и впрямь была меланхолия – и вернула ему безмятежность, и он вновь был наготове в ожидании всевозможных мирных радостей, что могли еще быть отпущены ему по милости богов. Ибо нрав его был воистину сама молодость, вместе с ее грустью, кою она меняет на радость с превеликой охотою да после подолгу медлит, стремясь задержаться в том радостном состоянии, если уж оно завладело ею вполне.
Когда он вошел в обеденный зал, то увидел Дэйтса, который удалялся в другую дверь со своим подносом. Одинокая и погруженная в свои думы, сидя у стола с той стороны, где взору открывалась голая столешница, его мать скучала за десертом; перед нею стояли фруктовые пирожные-корзиночки и графин. На другой половине стола скатерть все еще лежала отогнутой, чистая тарелка и прибор помещались там же.
– Присядь, Пьер; вообрази мое удивленье, когда я, придя домой, услыхала, что фаэтон воротился обратно столь рано, и все сидела здесь, ожидая тебя к обеду, пока не устала ждать. Ступай-ка ты живо в зеленую буфетную да возьми то, что Дэйтс там припас для тебя. Э-эх! Тут и толковать нечего, я предвижу наперед – не станет более в Седельных Лугах урочных часов ни для обеда, ни для чая, ни для ужина, пока молодой владелец поместья не сочетается браком. И это мне кое-что напоминает, Пьер, но о том ни слова, пока ты не отправишь в рот первый кусок. Да будет тебе известно, Пьер, если будешь продолжать в том же духе, станешь трапезничать, когда душа пожелает, и лишишь меня почти полностью своего общества, мне грозит пугающая участь обратиться в безнадежную винопийцу… да, неужели тебя не пробирает холодная дрожь, когда ты видишь, как я сижу здесь, совсем одна, с этим графином, словно какая-нибудь старуха кормилица, Пьер, какая-нибудь одинокая, всеми забытая кормилица, Пьер, которую покинул ее последний друг… и посему она с горя обнимается с бутылкой?
– Нет, на сердце у меня не лежит никакой великой тревоги, сестра, – молвил Пьер с улыбкой, – ибо, смею заметить, ваш графин пока полон до самой пробки.
– Так, быть может, это всего-навсего еще один графин, Пьер, – вслед за тем его мать вдруг произнесла изменившимся голосом. – Попомните мои слова, мистер Пьер Глендиннинг!
– Слушаюсь, миссис Мэри Глендиннинг!
– Знаете ли вы, сэр, что в весьма скором времени женитесь, что день уже почти назначен?
– Как?! – закричал Пьер с неподдельною радостью, не веря своим ушам, как из-за самих новостей, так и из-за того серьезного тона, в коем их преподнесли. – Дорогая, дорогая маменька, значит, вы чудесным образом переменились во мнении, моя дорогая маменька.
– Так тоже бывает, дорогой брат… месяца не пройдет с нынешнего дня, и, надеюсь, я обрету милую сестренку Тартан.
– Вы ведете неслыханные речи, маменька, – тотчас же отвечал Пьер. – Тогда, полагаю, более мне нечего прибавить!
– Нечего прибавить, Пьер! И впрямь ты-то сам какое можешь молвить разумное слово? В чем же влияние твое на ход событий, что всего лишь следуют своим чередом, хотелось бы знать. Ты все еще не очнулся от грез, глупый ты мальчик, и воображаешь, что все мы женимся по своей воле? Близкое соседство женит людей. На всем белом свете есть только одна сваха, Пьер, и имя ей миссис Близкое Соседство, леди самой скверной репутации!
– Вот так беседа, очень подходящая, пробуждающая от грезы, да по такому поводу, сестра Мэри. – Он отложил вилку в сторону. – Миссис Близкое Соседство, каково! И, по-вашему, маменька, наша безграничная, прекрасная любовь друг к другу только этому и обязана?
– Только этому, Пьер, но запомни как следует: по моему искреннему убеждению, хотя здесь мои представления сокрыты туманной дымкой, миссис Близкое Соседство двигает свои пешки, только когда поддалась очередной своей прихоти.
– А! Значит, я могу перевести дух, – отозвался Пьер, снова берясь за вилку. – Я чуть было не лишился аппетита. Но можно ли услышать подробнее о вашем намерении в скором времени устроить мой брак? – добавил он, прилагая напрасные усилия, чтобы его слова прозвучали скептически и равнодушно. – Вы, верно, говорили в шутку; мне кажется, сестра, вы и я несколько разошлись во взглядах на сей предмет. Неужели вы наконец и вправду дадите нам свое благословение? И неужели вы вправду побороли все ваши благоразумные сомнения без какой-либо посторонней помощи, и это после того, как я столь долго и без толку молил вас о том же? Ну, мою душу переполняет миллион восторгов; не томите меня, скажите!
– Так я и поступлю, Пьер. Ты знаешь не хуже меня, что с того первого часа, как ты объявил мне все – или скорее начиная со времени, что ему предшествовало, – с той самой минуты, как я материнским чутьем стала подозревать о твоей любви к Люси, я сразу же это одобрила. Люси – прелестная девушка, она благородного происхождения, богата, благовоспитанна, и, думаю, она образец всех тех совершенств, какие только могут сделать девушку любезной сердцу и привлекательной в ее семнадцать лет.
– Так, так, так, – закричал Пьер, торопясь и в горячке, – нам это было известно и прежде.
– Так, так, так, Пьер, – возразила его мать с издевкой.
– Нет, не «так, так, так», а дурно, дурно, дурно так пытать меня, маменька; ну, продолжайте же!
– Но несмотря на то, что мое восхищенное одобрение всегда было с твоим выбором, Пьер, все же, как ты знаешь, я долго сопротивлялась твоим настойчивым мольбам даровать свое благословение на скорый брак, поскольку пребывала в убеждении, что не годится девушке, коей едва есть семнадцать, и молодому человеку, коему едва есть двадцать, связывать себя брачными узами в такой спешке… у вас впереди еще много времени, думала я, которое вы оба могли бы употребить с большей пользой.
– Тут я позволю себе прервать вас, маменька. Что бы вы там ни подметили во мне, она – я говорю про Люси – ни разу, ни единым словом не намекнула мне, что торопится к венцу, вот все. Но вы, без сомнения, скажете, что это просто lapsus-lingua[55].
– Разумеется, lapsus. Но выслушай меня. В последнее время я, соблюдая осторожность, глаз не спускала с тебя и Люси, и это заставило меня поразмыслить о вашем будущем. Ну, Пьер, будь у тебя хоть какое-то ремесло или собственное дело… нет, будь я фермерской женою, а ты, мое дитя, принужден бы был трудиться на моих полях; что ж, тогда вам с Люси пришлось бы ждать немного долее. Но так как ты ничем не связан, то проводишь все свои дни, думая об одной Люси, а по ночам мечтаешь о ней же, да и она, судя по всему, ведет в точности такую жизнь, отвечая на твои чувства; и вот уж последствия всего этого начинают сказываться в известной, явственной и совсем не опасной, скажем так, впалости ваших щек, да еще в примечательном и весьма опасном, лихорадочном блеске ваших глаз; и посему из двух зол я выбираю меньшее, я дарую тебе свое согласие на ваш брак, и подготовка к нему будет идти со всей поспешностью, какая подобает в таких обстоятельствах. Полагаю, что предложение обвенчаться до наступления Рождества вы не станете встречать возражениями, ведь нынешний месяц – самое начало лета.
Пьер, не промолвя ни слова, вскочил на ноги, схватил мать в объятия и многократно поцеловал.
– Самый приятный и красноречивый ответ, Пьер, однако вернись на свое место. Нам еще нужно обсудить кое-что – есть вопросы, не слишком занимательные, но требующие внимания, чтобы все устроилось должным образом. Как ты знаешь, по завещанию твоего отца, эти земли и…
– Мисс Люси, моя леди, – провозгласил Дэйтс, открывая дверь.
Пьер живо вскочил, но, словно сразу же почуяв спиною взгляд матери, постарался унять свое волнение, хоть и приблизился, тем не менее, к дверям.
Вошла Люси, неся корзиночку, полную клубники.
– О, как поживаешь, моя дорогая? – сказала миссис Глендиннинг с нежностью. – Вот нежданная радость.
– Вы правы, и, сдается мне, Пьер тоже слегка озадачен – это же он был зван ко мне на вечер, и видит, что солнце еще не село, а я сама пришла к вам. Но мне вдруг вздумалось прогуляться в полном одиночестве: погода после полудня стояла такая чудесная; и когда я случайно – поверьте, то была чистая случайность – проходила Тропою Саранчи, что ведет сюда, то наткнулась на престранного маленького мальчика с этой самой корзиной в руках. «Да, мисс, вот вы ее и купите», – сказал он. «С чего ты взял, что куплю? – возразила я ему. – Не стану я ее покупать». – «Да, мисс, вы купите; она стоит двадцать шесть центов, но вам я отдам за тринадцать, и ничего не возьму себе за труды. Знаете, я все мечтал, чтоб у меня завелись мелкие монетки по полцента. Скорей, я не могу тянуть, и так уж долго вас прождал».
– Какой сметливый маленький бесенок, – рассмеялась миссис Глендиннинг.
– Дерзкий маленький негодник, – воскликнул Пьер.
– Ну, и я-то сама разве не глупей всех глупышек, если рассказываю свои приключения вот так просто? – улыбнулась Люси.
– Нет, то сама божественная чистота, – закричал Пьер в порыве неумеренного восторга. – Цветок так же простодушно раскрывает свои лепестки, ибо скрывать ему нечего.
– А теперь, моя милая маленькая Люси, – сказала миссис Глендиннинг, – позволь Пьеру взять твою шаль да оставайся у нас, выпей чаю. Стало быть, Пьер отложит свой ужин, так как время вечернего чая вот-вот наступит.
– Сердечно благодарю, но на сей раз я не могу остаться. Подумать только, я едва не упустила из виду, зачем вас посетила; я принесла эту клубнику вам, миссис Глендиннинг, и Пьеру, ведь Пьер всегда кушает ее с таким удовольствием.
– У меня хватило дерзости предположить именно это, – воскликнул Пьер, – для вас и меня, вы слышите, маменька, для вас и меня, надеюсь, вы понимаете.
– Прекрасно понимаю, дорогой брат.
Люси покраснела:
– Как это тепло звучит, миссис Глендиннинг.
– Очень тепло, Люси. Так ты не желаешь остаться на чай?
– Нет, мне уже пора возвращаться, это была совсем коротенькая прогулка, до свидания! Нет, не провожай меня, Пьер. Миссис Глендиннинг, не удержите ли вы Пьера подле себя? Знаю, вы хотите, чтоб он остался: вы же прервали беседу о каком-то домашнем деле, когда я вошла; вы оба смотрели подлинными заговорщиками.
– И ты недалека от истины, Люси, – промолвила миссис Глендиннинг, ни тоном, ни жестом не обнаружив желания задержать ее.
– Да, дело величайшей важности, – сказал Пьер, останавливая на Люси многозначительный взгляд.
В то самое мгновение, когда Люси должна была вот-вот уйти, она помедлила у дверей; и лучи закатного солнца, что лились из окна, облекли ее фигурку прелестным золотым сиянием, а на ее чудесные живые черты, ясные и чистые, как у всех выходцев с Уэльса, легла нежная краска, словно алое зарево на снежный покров. Ее белое, украшенное голубыми лентами платье ниспадало свободными складками и прекрасно облегало ее фигуру. Пьеру едва не показалось, что лишь одним путем может она покинуть особняк – упорхнуть в открытое окошко, а не просто выйти в двери. Весь ее облик в ту минуту говорил ему о ее несказанной радости, о том, что она полна сил, что беззащитна и таинственно эфемерна.
В юности мы не склонны предаваться зрелым философским размышлениям. Голову молодого Пьера не посещали мысли о том, что если расцветшая роза остается прекрасной всего только день, то и пора весеннего цветения девушки, ее стройность, ее свежесть промелькнут и исчезнут почти столь же скоро, словно бережливые силы природы с завистью поглощают их, дабы после воссоздать и пробудить к жизни новую девичью весну, питая те цветочные бутоны, что развертывают лепестки первыми. У молодого Пьера в ту пору не рождались мысли, что навевают величайшую печаль; он не размышлял о неизменной бренности всякой земной красоты, о том, что самые пленительные живые создания идут в пищу всепоглощающей и ненасытной меланхолии. Мысли Пьера не были таковы, но все же приходились несколько сродни этим.
И она станет моею женою? Я, кто на днях взвесился и узнал, что во мне сто пятьдесят фунтов живого веса[56], я возьму за себя ее, легкую, как небесный пух? Сдается мне, и одного супружеского объятия хватило б, чтобы сломать ее хрупкое тело, и она исчезнет, словно дым, поднявшись вверх, к небесам, с которых сюда явилась, приняв человеческую форму, доступную взору смертных. Не бывать этому; я принадлежу тяжелой земле, а она – небесному эфиру. Небом клянусь, наше супружество – дело нечестивое!
Меж тем как эти мысли язвили его душу, миссис Глендиннинг занимали только ее собственные размышленья.
– Что за прелестная tableau[57], – воскликнула она наконец, слегка обернувшись, грациозно и с игривостью, – прелестная, право же; по-моему, все это было затеяно с умыслом меня развлечь. Орфей, находящий Эвридику, или Плутон, похищающий Прозерпину. Превосходно! Сюжет вполне годится и для того и для другого.
– Нет, – сказал Пьер мрачно, – это последнее из двух. Теперь, впервые в жизни вижу тут смысл.
«Да, – добавил он про себя, – я Плутон, похищающий Прозерпину, как и любой влюбленный, которому ответили взаимностью».
– И было бы очень глупо с твоей стороны, брат Пьер, упустить из виду еще кой-что, – промолвила его мать, все еще следуя своему ходу мыслей, что не совпадал с его. – А все дело вот в чем: Люси мне велела принудить тебя остаться, но сама только о том и мечтает, как бы ты ее проводил. Что ж, ты можешь проводить ее до крыльца, но затем должен вернуться, так как мы еще не пришли к согласию в отношении нашего домашнего дела, которое тебе хорошо известно. Прощайте, маленькая леди!
Нотки ласковой снисходительности всякий раз проскальзывали в голосе блистательной, цветущей миссис Глендиннинг, когда она обращалась к нежной и девически стыдливой юной Люси. По большей части она обходилась с нею так, как держалась бы в присутствии любого ребенка, что необыкновенно красив и развит не по годам, да Люси такой в точности и была. Отвлекаясь от настоящих событий и заглядывая в будущее, миссис Глендиннинг не могла не видеть, что Люси, даже достигшая женской зрелости, будет против нее все равно что ребенок, ибо она с ликованием в сердце чуяла, что при ее-то неизменной интеллектуальной мощи, скажем так, она составляла полную противоположность Люси, которая была доброжелательной на словах и на деле, да в придачу еще отличалась нравом неслыханной кротости. Но вот тут-то миссис Глендиннинг была и права, и не права разом. Пока ее размышления занимали различия между нею и Люси Тартан, она шла по верному пути; но стоило ей возомнить – и тогда она свернула со своей тропинки в чащу, – что обладает перед Люси природным превосходством, занимая в обществе самую верхнюю ступеньку, тут-то как раз она очень глубоко и безмерно ошибалась. Ибо то, что можно выразить изящной фразою: «Ангельская кротость», есть не что иное, как высочайшая душевная стойкость, какая только свойственна разумному существу, а кротость ангела не несет в себе никакой грубой силы. И то чувство, которое нередко так и подталкивает нас применить какую угодно силу – возникло ли оно у мужчины, у женщины, все едино, это, по сути своей, прямо-таки непомерная гордость, – черта сия присуща одним смертным, а отнюдь не ангелам. И это ложь, что всякий ангел может найти свою гибель через гордость. Ангел никогда не погибнет, гордости же он не ощущает вовсе. Вот почему сердце ваше так благоволит да расточает свою благосклонность с неподдельной искренностью, о миссис Глендиннинг, и длит расположение ваше к легкой, как пушинка, Люси; но все же вы, леди, ошибаетесь, и притом весьма жестоко, когда большие полушария вашей гордой груди под златым корсажем распирает тайное торжество, а вы меж тем обращаетесь к той, кого с такой нежностью, приправленной, правда, изрядной долей снисходительности, величаете: «Моя маленькая Люси».
Но так как ни единый проблеск озарения не открыл ей вдруг всего, что неизбежно произойдет в дальнейшем, то сия превосходнейшая леди пребывала в полной безмятежности, ожидая, когда же Пьер вернется, войдя в дверь портика, да предалась пока задумчивости, как подобало почтенной матроне, а взор ее тем временем отдыхал на стоящем перед нею графине, что был до краев полон янтарным вином. Так или иначе, видела ли, нет ли миссис Глендиннинг неявное иносказание, аллегорию, когда всматривалась в сей узкий и изящный маленький графин, в коем была ровно пинта[58] светлого, золотистого вина, мы с уверенностью не скажем. Но право же, странная, и незабвенная, и предсказуемо самодовольная улыбка, что разом придала ее просиявшему лицу благосклонное выраженье, казалось, говорила сама за себя о каких-то тщеславных думах, очень похожих на следующие: «…да, она очень хорошенькая девочка-графинчик, очень хорошенькая девочка-графинчик, что наполнена бледным шерри, а я… я как графин на кварту[59]… кварту… портвейна… крепкого портвейна! Ну, шерри для юношей, а портвейн для мужчин – я слышала много раз, как сами мужчины толковали об этом; и Пьер теперь еще мальчик; но когда его отец обвенчался со мною… что ж, в тот день его отец возмужал, и ему вмиг стало тридцать пять лет».
Немного позже до слуха миссис Глендиннинг долетел голос Пьера: «Да, во всяком случае, не позднее восьми часов, Люси… будь уверена», затем парадная дверь громко хлопнула, и Пьер вернулся к ней.
Но миссис Глендиннинг скоро убедилась, что этот нежданный визит Люси свел к нулю всякую возможность серьезной беседы с ее переменчивым сыном; без сомнений, его опять утянуло на глубину в море размышлений столь приятного свойства, что не найдется слов достойно их описать.
– Великий боже! Как-нибудь в другой раз, сестра Мэри.
– Не в этот раз, тут уж никакого сомнения, Пьер. Ей-богу, надо бы мне похитить Люси да увезти ее до поры из наших мест, а тебя меж тем приковать наручниками здесь, у этого стола, не то нам с тобою никогда не прийти к предварительному согласию до того, как мы обратимся к адвокатам. Ну, я-то уж непременно позабочусь о том, чтоб голова твоя немного остыла. Прощай, Пьер, вижу, тебе теперь не до меня. Думаю, мы не увидимся раньше завтрашнего утра. По счастью, есть очень интересная книга, которую я хотела прочесть. Прощай!
Но Пьер еще не покидал своего места за столом; он любовался закатом, что тихо догорал по-над лугами и вызолотил далекие холмы. Чудесная, самой неспешностью чудесная и прекраснейшая вечерняя заря, казалось, обращалась напрямую ко всему человечеству, говоря: я угасаю в полном блеске лишь для того, чтобы поутру вновь воскреснуть, на радость всем; Любовь безраздельно царствует во всех мирах, где алеют зори, а истории о призраках – одна глупость, и страдания невозможны вовсе. Станет ли любовь, что всесильна, терпеть в своих владениях страдание? Станет ли бог солнечного света желать, чтобы все застлалось мраком? Это чистый, непорочный, кристальный мир, прекрасный во всех отношениях, – радость ныне и радость во веки веков!
И тогда двойница, что до сего мгновения, казалось, печально и с укоризной взирала на него из самого сердца лучезарного заката, двойница ускользнула от него прочь и растаяла, оставив его в покое и с радостью на душе, с мыслями о том, что уже сегодня вечером он произнесет заветные слова «Будь моей женой» перед своею Люси; и на всем белом свете не было счастливее юноши, чем Пьер Глендиннинг, который все сидел за столом, глядя, как медленно меркнет солнце уходящего дня.
IV
После этого утра, что дышало весельем, этого полудня, отданного трагедии, а теперь вечера, что принес с собою столько радужных мыслей, в душе Пьера поселились радостное спокойствие и уверенность; и он вовсе не чувствовал того безудержного восторга, который в умах, что отличаются большей темнотой, слишком часто вытесняет сладкоречивую птицу Любви из ее гнездышка.
Сгустились теплые, ранние, но притом темные сумерки, ибо еще не взошла луна, а когда Пьер вступил под колеблющуюся сень длинных ветвей плачущих деревенских вязов, то его окружила почти непроглядная тьма, но не было ей доступа в чертоги его сердца, кои озарял нежный свет. Не прошел он и нескольких шагов, как впереди замаячил небольшой огонек, что плыл по противоположной стороне дороги и медленно приближался. Так как у некоторых пожилых и, возможно, боязливых жителей деревни давно уж вошло в обычай брать фонарь, выходя за порог свой в такую кромешную ночь, то сей предмет не возбудил никакого впечатления новизны в Пьере; однако же, видя, как огонек безмолвно подплывает к нему все ближе да ближе – единственное пятно света, что он различал пред собою, – то у него возникло неясное предчувствие, что огонек этот должен разыскивать именно его. Он уж почти достиг двери коттеджа, когда некто с фонарем пересек улицу, направляясь к нему, да своею ловкой рукой коснулся было затвора маленькой калитки, что, как он думал, ныне распахнется, открывая ему путь к несказанному счастью, но тут на плечо его легла тяжелая рука, и фонарь в тот же миг оказался у самого его лица, поднятый вверх безликим субъектом в опущенном капюшоне, который старался отвернуться от него и чьи черты он едва ли видел. Открытое же лицо Пьера тот, казалось, узнал в одну минуту.
– У меня письмо для Пьера Глендиннинга, – сказал незнакомец. – И думаю, это вы.
Одновременно с этими словами явилось письмо, и словно само всунулось в руку нашего героя.
– Для меня! – слабо закричал Пьер, вздрогнув от неожиданности, удивленный такой встречею. – Мне кажется, это неподходящее время и место, чтобы доставить ваше послание… Вы кто?.. Стойте!
Но, не дожидаясь ответа, посыльный поворотился к Пьеру спиной и уже переходил на другую сторону улицы. Поддавшись на миг первому побуждению, Пьер хотел было его догнать и едва не бросился за ним вслед, но, в душе подтрунивая над своею напрасной тревогой и любопытством, так и не тронулся с места и осторожно повертел в руке письмо. «Что ж это за таинственный корреспондент такой, – думал меж тем он, круговыми движениями гладя большим пальцем печать письма, – мне пишут лишь те, кто живет за пределами графства, и свои послания отправляют по почте, а что до Люси… э-э, нет!.. Когда она сама гостит тут, живет по соседству, станет ли она посылать записки, что доставят к ее же крыльцу. Что за странность! Но я войду к ней да там это и прочту… нет, не так… я затем появлюсь у нее, чтоб вновь читать в ее любящем сердце – в этом драгоценном послании, что передали мне небеса, – а сие глупое письмо только сбило бы меня с толку. И открывать не стану, пока домой не вернусь».
Пьер миновал калитку и уже прикоснулся было к дверному молотку. Резкий холод металла слабо обжег его пальцы, и в любое другое время это показалось бы ему несказанно приятным. Но при нынешнем – для него непривычном – расположении духа дверной молоток будто вещал: «Не смей входить!.. Удались да прочти сперва присланную тебе записку».
Внявши сему гласу, слегка встревоженный и слегка подшучивая над самим собою, над этими таинственными предостережениями, Пьер в полузабытьи отступил от двери коттеджа, вышел через калитку и вскоре возвращался прежним путем по тропинке, что вела к его дому.
Ни одной новою двусмысленностью он не дразнил себя более – густой мрак, разлитый в воздухе, ныне вторгся в его сердце и поглотил весь свет без остатка; и тогда, впервые за всю его жизнь, Пьер воочию в том увидал необоримое предостереженье и перст судьбы.
Он вошел в холл незамеченным, поднялся к себе в комнату и торопливо запер дверь в темноте, зажег лампу. Когда вспыхнувшее пламя озарило комнату, Пьер стоял в ее центре, у круглого столика, где была лампа, пальцы его все еще сжимали медное кольцо, что регулировало фитиль, а сам он с дрожью рассматривал субъекта в зеркале напротив. Тот имел несомненное сходство с Пьером, но к сему образу ныне чудно примешивались черты, его искажавшие и прежде ему несвойственные: лихорадочное напряжение, страх и неясные признаки надвигающейся болезни! Он упал в кресло и какое-то время еще вел тщетную борьбу с той непостижимой силой, что поработила его. Наконец с видом отрешенности он вытянул письмо из-за пазухи, шепнув себе: «Постыдись[60], Пьер! Какой овцою будешь ты в собственных глазах, когда сие важнейшее послание окажется приглашением на ужин этим вечером; и быстрее, глупец, пиши тогда обычный ответ: „Мистер Пьер Глендиннинг будет весьма рад ответить согласием на любезное приглашение мисс такой-то“…»
И все же он помедлил мгновение, избегая смотреть на письмо. Посланец заговорил с ним в такой спешке, и столь явно торопился он исполнить долг свой, что вовсе не оставил Пьеру возможности разведать, от кого же послание. И тут в уме его блеснула сумасбродная мысль о том, будут ли какие последствия, если сейчас вот с умыслом взять да и порвать в клочки письмо, не потрудившись взглянуть, чьею рукой был написан адрес. Не успело еще сие несколько опрометчивое соображение укорениться как следует в его душе, как он опомнился и увидал, что руки его встретились на середине уже разорванного письма! Он выпрыгнул из кресла… «Ну, ей-богу!» – пробормотал он, необычайно скандализированный, дивясь напору того душевного волнения, которое только что нечаянно побудило его в первый раз во всю его жизнь совершить поступок, коего он втайне стыдился. Со всем тем волнение, что вдруг нашло на него, не было его собственным сознательным движением души; однако ж он без промедления ощутил явственно, что, пожалуй, сам немного потворствовал этому, пребывая в той известной и чудной любовной лихорадке, которою ум человеческий, сколь бы крепок он ни был, порой стремится наугад истолковать любое переживание, когда оно одновременно и новое, и таинственное. В такие мгновения мы безо всякой охоты стараемся превозмочь любовные чары – и в том важности нет, что мы можем быть очень сильно напуганы, – ибо те чары, казалось, на некоторое время допустили нас, пораженных несказанным трепетом, в облачную переднюю горних миров.
Ныне Пьер, казалось, явственно различал две непримиримые силы внутри себя, и одна из них во что бы то ни стало желала утвердить власть свою над его душой, а обе воевали за первенство; и, оказавшись меж этих двух неумолимых жерновов, он мыслил, что постиг, хоть и весьма смутно, что лишь ему одному суждено стать им судьей. Одна повелевала тотчас же завершить эгоистическое уничтожение письма, ибо по прочтении оного будущность его каким-то печальным образом усложнится безвозвратно. Другая повелевала ему отринуть все дурные предчувствия, но не потому вовсе, что не было для них достаточно оснований, а потому, что отбросить их прочь больше подобало мужчине, и нечего терзаться думами о том, что ждет впереди. Сей ангел доброты, казалось, с кротостью провещал: читай, Пьер, пусть чтением этим ты и усложнишь себе жизнь, но таковым образом зато ты сможешь помочь другим, облегчив их участь. Прочти и изведай то высшее блаженство, какое приходит только вкупе с чувством, что ты выполнил долг свой, и которое обращает заурядное счастье в ничто. Ангел тьмы вкрадчиво зашептал: не вздумай это читать, дражайший Пьер, скорее разорви да живи себе счастливо. Тогда в благородном сердце Пьера вспыхнуло негодование, и посланец ада сгинул в небытие; а глас божьего ангела звучал все ясней и ясней, сам же он становился все ближе и ближе, улыбаясь Пьеру печальной, но благосклонной улыбкою; а из бесконечной дали меж тем неслись дивные созвучия и потоком лились в его сердце, что полнилось ими до тех пор, пока наконец каждая жилка в нем не задрожала от некой божественной радости.
V
«Имя, что стоит в конце этого письма, ты совсем не знаешь. Прежде ты и не догадывался о том, что я живу на свете. Это послание рассердит тебя и нанесет тебе рану.
С превеликой охотою я пощадила бы тебя, да то не в моей власти. Сердце мое призываю в свидетели, когда б я допускала мысль, что страдания, кои тебе доставит чтение этих строк, будут сравнимы, будут хоть в малейшей степени сравнимы с теми, что довелось пережить мне, мои уста навеки сохранили бы печать молчания.
Пьер Глендиннинг, ты не был единственным ребенком своего отца; и лучи солнца, освещающие мою руку, которая выводит эти слова, освещают руку твоей сестры; да, Пьер, Изабелл зовет тебя братом… своим братом! О слово, что мне всего любезней, как же я часто твердила тебя в мыслях и полагала сие почти святотатством, чтобы такая пария, как я, смела тебя произносить или даже о тебе мыслить. Дражайший Пьер, брат мой, дитя моего отца! ты ль не ангел, в силах ли ты подняться надо всеми бессердечными условностями и порядками ограниченного света, что наречет тебя глупцом, глупцом, глупцом и тебя проклянет, коли поддашься сему внушению свыше, которое одно способно побудить тебя ответить моей тоске, что так долго подавлялась в глубинах моего сердца и теперь хлынула оттуда неиссякаемой рекой? О брат мой!
Но, Пьер Глендиннинг, моя гордость ничуть не уступит твоей. Не дай же моему злосчастному положению сломить во мне тот благородный дух, что я унаследовала наравне с тобой. Не пойми превратно мои слезы и муки, чтоб не быть втянутым в историю, о коей после, в час хладных размышлений, ты начнешь горько сожалеть. Дальше не читай. Если все это тебе не по нутру, сожги мое письмо; так тебе станет меньше труда доказать самому себе неправоту моих сведений, которые, ежели они теперь встретили в тебе лишь безучастность и эгоизм, могут в дальнейшем, когда ты будешь уже в летах да полон угрызений совести, отозваться мучительными упреками. Нет, не должна я, не стану я упрашивать тебя… О, брат мой, дорогой, дорогой мой Пьер, спаси меня, лети ко мне, смотри, я гибну без тебя… сжалься, сжалься… я гибну от холода в большом, большом мире… ни отца, ни матери, ни сестры, ни брата, ни единой живой души в светлом человеческом облике, кому я была бы дорога. Не могу, о, не могу я больше, дорогой Пьер, влачить жизнь отверженной в мире, за который дорогой Спаситель пошел на смерть. Спеши ко мне, Пьер… нет, лучше бы мне изорвать то, что я пишу… как я порвала уж столько других посланий, что предназначались тебе все до одного, но так и не дошли до тебя, ибо в моем смятении я вовсе не знала ни как писать к тебе, ни что сказать тебе; и вот снова вижу, что пишу бессвязный вздор.
Ничего больше… ни слова больше не прибавлю я… молчание станет всему могилою… тоска грызет меня, Пьер, брат мой.
Не хватает духу перечесть все, что тебе написала. Но добавлю последние, роковые строки, а уж решение остается за тобой, Пьер, брат мой… Та, что зовется Изабелл Бэнфорд, живет в маленьком красном фермерском коттедже в трех милях от деревни, на обрыве у озера.
Завтра в полночь… не раньше… не при свете дня, не при свете дня, Пьер.
ТВОЯ СЕСТРА ИЗАБЕЛЛ».VI
Это письмо, написанное дрожащим женским почерком, в нескольких местах почти неразборчивое, ясно говорящее о состоянии, в коем оно было писано, запачканное там и сям да закапанное слезами, из-за коих расплылись чернила, обретя странный красноватый оттенок – словно то кровь, а не слезы, капала на бумагу, – а теперь еще и порванное самим Пьером надвое, оно казалось, право же, таким посланием, какое впору лишь разорвать, как две половинки кровоточащего сердца; после сего любопытнейшего послания Пьера на какое-то время покинули все ясные[61] и связные мысли, все чувства. Полумертвый, он поник в кресле; рука его, в которой было зажато письмо, крепко прижималась к сердцу, словно некий ассасин поразил его и скрылся, а Пьер пытался удержать клинок в ране, чтоб остановить хлынувшую кровь.
А-а, Пьер, тебя воистину поразили прямо в сердце, и никогда не затянется твоя рана, уврачевать которую властны лишь на Небесах, ибо для тебя мир навеки утратил всю свою нравственную красоту, кою ты прежде полагал несомненной, ибо для тебя отец твой, коему ты поклонялся, больше уже не святой, перед твоим взором навеки померкла вся блистательная слава, что почивала на окрестных холмах, и покой, которым дышали окрестные поля, навеки унесло ветром; и ныне, ныне в первый раз, Пьер, почерневший морской вал правды обрушился на твою душу! Ах ты, несчастный, кому первый прилив правды не принес ничего, кроме гибели!
Очертания знакомых предметов, обломки мыслей, токи жизни понемногу возвращались к Пьеру. И, как моряк, переживший кораблекрушение и вынесенный волною на берег, который, как очнется, первым делом отползает подальше от прилива, чтоб море не утащило его обратно, так Пьер еще долго боролся и боролся с собою, стремясь уйти от той волны душевной боли, что вышибла дух из его тела и отбросила на берега обморока.
Но мужчина не для того создан, чтоб уступать воле злого рока. Молодость, сколь она ни живет на свете, всегда ввяжется в безнадежный бой. Пьер, шатаясь, кое-как утвердился на ногах; глаза его были широко распахнуты, взгляд застыл, а все тело сотрясала крупная дрожь.
«По крайней мере, у меня остался я сам, – медленно прошептал он, почти задыхаясь. – Я и в одиночку встречусь с тобою лицом к лицу! Прочь от меня все страхи и сгиньте все чары! С этого дня я не желаю знать ничего, кроме правды; радостной правды или же правды печальной; я буду знать ее, и поступать так, как провещает мне ангельский глас из дальних глубин моего существа… Письмо!.. Изабелл… сестра… брат… я, я… мой отец, кого я боготворил!.. Это какой-то безобразный сон!.. да нет же, бумажку эту явно подделали… клянусь, это подлый и злокозненный обман… Недаром ты от меня отворачивался, ты, гнусный посыльный с фонарем, что обратился ко мне в канун радости, чтобы вручить этот лживый вексель от горя! Неужели правда ходит под покровом тьмы, и подходит к нам тайком, и вот так крадет от нас, и после бросается наутек, глухая ко всем мольбам, что летят ей вслед? Если сия ночь, что заволокла мне душу, столь же честна, как и та, что ныне объемлет полмира, тогда, рок, я бросаю тебе перчатку по всем правилам благородной дуэли. Ты мошенник и плут; ты увлек меня через сады наслаждения к погибельной пучине. О! Ложь была мне проводником в дни моей радости, неужели только теперь честность ведет меня в сей ночи моей скорби? Я дойду до безумия, и остановить меня никто не дерзнет! В бешенстве я грожу кулаками небу, но что, как не гром небесный, поразило меня? Мое дыхание отравляет воздух, но разве грудь моя – это не чаша желчи? Ты, черный рыцарь, что опустил свое забрало, ты, который вышел против меня и насмехаешься надо мною, слушай! Я пробью насквозь твой шлем да посмотрю на твое лицо, будь ты даже сам Гордон![62] Дайте мне волю вы, нежные привязанности; ты же, благочестие, убирайся прочь из моего сердца… отныне греховность станет моим уделом, ибо благочестие сыграло со мной злую шутку и учило почитать там, где я должен был относиться с презрением. Ныне я срываю со всех кумиров их священные покровы; я увижу то, что было скрыто от глаз человеческих, и честно разделю кров с моей тайною жизнью, о которой раньше не имел ни малейшего представления!.. Ныне я постиг, что одна лишь правда могла так перевернуть мне душу. Это письмо не подделано. О! Изабелл, ты воистину мне сестра; и я буду любить тебя и защищать тебя, да и признавать родство с тобою, что бы ни случилось. А вы, Небеса, забудьте все те бессвязные ругательства, что я изрыгал в неведении, и примите эту мою клятву… Сегодня я даю Изабелл клятву в верности. О! моя ты бедная, отверженная девочка, что так долго принуждена была жить, дыша воздухом одиночества и страданий, когда на мою долю оставалось вкушать воздух сплошных наслаждений; ты, кто даже теперь, должно быть, все плачет и плачет, брошенная в том океане неизвестности, каковым кажется мне судьба твоя, которую Небеса отдали в мои руки; милая Изабелл! Я ли более мелок, чем медные деньги, более холоден и тверд, чем глыба льда, чтобы пренебречь такими священными правами, как твои? Ты простираешь ко мне руки, а на горизонте видна радуга, сотканная из дождя твоих слез! Я слышу, как горько ты плачешь, и Господь велит мне стать твоим заступником; а осушит слезы твои, и будет всегда подле тебя, и станет бороться за тебя твой вдруг обретенный брат, кого твой отец при его рождении нарек Пьером!»
Ему невмоготу было долее оставаться в своей комнате: казалось, особняк сжимается, как скорлупа ореха, стены, потолок, сдвигаясь, давили на голову; и, позабыв шляпу, он бросился прочь из дому и только на вольном просторе нашел силы сделать следующий шаг по той тернистой дороге самостоятельности, что тянется пред нами, будучи длиною в жизнь.
Глава IV РЕТРОСПЕКТИВА[63]
I
Определить, где находятся самые корни и тонкие причинные обусловленности у сильнейших и свирепейших эмоций в нашей жизни, сие непреодолимая трудность и для наблюдателя, наделенного аналитическим умом. Мы замечаем грозовое облако, и в нас бьет молния; а метеорология только и может, что написать бесполезное и неодобрительное эссе-исследование о том, как сформировалось это облако да отчего это удар молнии – столь болезненный шок. Метафизические авторы проповедуют, что любое самое величественное, непредвиденное и крайне важное событие, пусть даже длилось оно всего мгновение, есть не что иное, как итог бесконечной последовательности бесконечно сложных и неопределимых причин, что предшествовали этому. Так же силятся объяснить и каждое движение наших сердец. Почему от благородного воодушевления наши щеки пылают румянцем, почему от презрения наши губы сжимаются в прямую линию – это все обстоятельства, которые нельзя вполне отнести на счет настоящих и явных событий, что сами лишь отдельные звенья некой цепи, но можно причислить к длинному ряду взаимосвязанных событий, начало коего теряется где-то в разреженных слоях атмосферы.
Поэтому напрасными были бы все попытки любым хитроумным образом заглянуть в сердце, и память, и глубочайшую внутреннюю жизнь, и натуру Пьера, дабы поведать, отчего ум его был устроен так же, как и у многих приятных джентльменов, и старых, и молодых, – ум, известный тем, что ко всему новому он сперва подходит с кратковременным чувством удивления, затем с некоторым любопытством, ибо не прочь узнать побольше, а напоследок – с полным равнодушием; напрасными были бы попытки описать, как раскаленная лава текла в душе Пьера и оставляла за собою след опустошения столь глубокого, что все его дальнейшие усилия пропали втуне: он так никогда и не смог поднять из грязи да возвести заново свои величественные храмы, и сады его души так никогда и не зазеленели вновь после того, как было сожжено их первое цветение.
Но нескольких подробностей из его жизни, поданных в произвольном порядке, нам хватит, чтобы рассеять немного таинственность происходящего, чтобы рассказать, откуда взялось то состояние неистовства, в которое повергло его такое коротенькое письмецо.
Долго высилась одна святая гробница в зеленевших молодой листвой садах сердца Пьера, приближаясь к которой он продвигался вверх маленькими, но уверенными шажками воспоминаний и которую он каждый год убирал кругом свежими венками нежной и святой привязанности. Последней там появилась увитая зеленью беседка, кою он постепенно собрал из тех жертвоприношений, совершать которые он сам себе давал клятву; гробница сия казалась да, собственно, и была то место, что более подходило для празднования благонравной радости, чем для отправления меланхолических ритуалов. Но хотя множество цветов укрывало и обвивало ее спутанными гирляндами, то была мраморная гробница – стоящая в нише колонна, что казалась незыблемой и массивной, а от ее капители исходили бесчисленные скульптурные ветви и ответвления, что поддерживали весь одноколонный храм его нравственной жизни; так и в какой-нибудь прелестной готической часовне одна центральная колонна, словно ствол, поддерживает крышу. В этой-то гробнице, в этой-то нише, у этой-то колонны, и стояла совершенная мраморная статуя его покойного отца, без пятнышка, без тени изъяна, белоснежная и сияющая чистотой; и в глазах любящего Пьера то было воплощение безупречной человеческой нравственности и добродетели. Перед сей гробницею Пьер, взяв почтительный тон, высказывал всю полноту чувств и мыслей своей молодой жизни. Вот к кому Пьер неизменно обращался в молитвах, а к Богу – лишь когда поднимался на холм к той гробнице, и посему она становилась передней для его абстрактного культа.
Его славословили и возвеличивали за гробом превыше царя Мавзола[64], этого смертного отца, который, пройдя почтенный, добродетельный жизненный путь, почил в бозе и был погребен с величайшим почетом, словно у райского источника[65], в сыновней памяти сердца его ребенка, одаренного добрым сердцем и чуткой душою. В те поры Соломонова мудрость еще не проливала свои мутные потоки в девственные воды молодого источника его жизни. Редкая добродетель, призванная оберегать нас от всякого зла, обладает родником, где текут такие же благословенные воды. Все приятные воспоминания, окунаясь в сей источник, обращаются в мрамор; все те воспоминания, что мало-помалу стираются из памяти, приобретают там прочность и бессмертие. Так и чудные воды некоего источника в Дербишире[66] превращают в камень птичьи гнезда. Но если судьбе угодно, чтоб отец подольше задержался на этом свете, слишком часто все оборачивается так, что дети устраивают ему не столь пышные похороны, а его идеализация в их сердцах проходит далеко не с той торжественностью. Подросший мальчуган с широко распахнутыми глазами примечает, или же ему смутно чудится, что он примечает все слабые места и пороки в характере своего родителя, перед которым он, бывало, испытывал такой священный трепет.
Когда Пьеру было двенадцать, отец его скончался, оставив после себя, по мнению решительно всех, добрую славу джентльмена и хорошего католика, в сердце своей жены – неувядаемые воспоминания о длинной веренице ясных дней безоблачного и счастливого супружества, а на дне души Пьера – память о живом воплощении редкой мужской красоты и добросердечия, с коим соперничать мог разве что некий божественный образ, который и влил в его сердце такую любовь к добродетели. Грустными зимними вечерами у жарко натопленного камина или же в летних сумерках на открытой южной веранде, когда таинственная тишина сельской ночи разлита всюду, Пьеру и его матери приходил на ум бесконечный рой мыслей о давно минувшем, а впереди этой призрачной процессии всегда шествовал величественный и свято чтимый образ покойного мужа и отца. Затем начинала течь их беседа, посвященная воспоминаниям, глубокомысленная, но не лишенная приятности; и снова и снова все глубже и глубже душа Пьера проникалась затаенным тщеславным убеждением, что его боготворимый отец, который при жизни был столь хорош собою, ныне беспрепятственно принят в сонм непорочных ангелов Господних. Посему выросший в блаженном неведении и, до некоторой степени, затворничестве Пьер, несмотря на то что уж отпраздновал девятнадцатое рожденье, впервые столь явно соприкоснулся с той темною, хоть и более реалистичной стороною жизни, что, коли постоянно обитать в городе с самых юных лет, почти неизбежно наложит свой отпечаток на душу любого, наделенного зоркой наблюдательностью и склонностью к размышлениям молодого человека одних с Пьером лет. Одним словом, до сего дня память его сердца сохранила в целости дорогие воспоминания о минувшем; и отцовский гроб виделся Пьеру столь же незапятнанным, сколь и свежим, как мрамор самой Аримафеевой гробницы[67].
Судите ныне, какая же волна полного разрушения и гибельная буря поднялись той ночью в душе Пьера, что разметали, обнажив ту священнейшую гробницу, весь живой цветочный ее покров да сожгли дотла статую кроткого святого, пока рушились обломки главной святыни его души.
II
Как виноградные лозы сперва цветут, а после гроздья их наливаются пурпуром на тех побегах, что густо оплетают стены и самые зевы пушек возрожденной крепости Эренбрейтштейн[68], так и сладчайшие радости жизни вызревают в хищной пасти горя, что неизменно их стережет.
Но неужели жизнь и впрямь души не чает во всякого рода безбожном легкомыслии, а нас, ее заблудших подданных, ничего не стоит одурачить да так заморочить нам голову, что мы уж поверим, что наша прочнейшая башня счастья в единый миг рухнет, случись малейшее происшествие – падет ли какой листок с дерева, услышим ли мы некий голос или же получим расписку на клочке бумаги, где острым пером нацарапана небольшая повесть о нескольких скромных особах? Неужели же настолько переменчивы мы в суждениях наших, что та сокровищница, куда поместили мы все наши самые святые и любезные сердцу радости и которую сами замкнули на замок работы непревзойденно искусной; неужели же сокровищницу эту может вскрыть да разграбить малейшее прикосновение к ней незнакомца, когда мы знаем, что лишь нам одним принадлежит от оной единственный и верный ключ?
Пьер! ты показал себя набитым глупцом, подыми же из праха… нет, не то, ибо гробница отца твоего все стоит на том же месте, Пьер, стоит незыблемо; неужели ты не чувствуешь благоухание, что источают живые цветы, которые по-прежнему ее обвивают? Да сие послание, что ты держишь в руках, не стоит большого труда подделать, Пьер, а самозванцы не вчера появились на свет в этом мире кудесников; или, еще лучше, какой-нибудь бойкий романист, Пьер, напишет тебе пятьдесят подобных писем, и притом всякий раз исторгнет слезы у своего читателя, а твое письмо, неизвестно почему, не растрогало тебя так, чтобы твои мужские глаза пролили над ним единую слезинку, – взор твой остекленел, и ты не пролил ни слезинки, Пьер, глупый Пьер!
О! не язвите насмешками сердце, в кое вонзился стилет. Страдая от раны, мужчина понимает, что спознался со сталью; не нужно нести вздор, убеждая его, что было то всего-навсего скользящее прикосновение щекочущего пера. Иль не чувствует он, сколь глубоко ранен? Откуда кровь сия на моих одеяниях? и откуда боль сия в душе моей?
И вот вновь, не без причины, можем мы воззвать к тем трем дивным божествам[69], чья воля приводит в движенье прядильные машины Жизни. Мы можем вновь вопросить их: «Какие же нити, о вы, дивные богини, пряли в те, давно ушедшие годы, что ныне для Пьера они стали непогрешимыми указателями в его грозовых предчувствиях о том, что его горе и впрямь горе, что отец его в его глазах более не святой и что Изабелл воистину сестра его?»
Ах, отцы и матери! где бы ни жили вы на белом свете, будьте начеку – берегитесь! Пусть дитя ваше еще недостаточно смышленое, чтоб понимать значение тех слов и тех знаков, коими обмениваетесь вы в невинном его присутствии, мысля тем самым скрыть от него неблаговидные поступки ваши, на кои лишь намекаете. Пусть не дано ему сразу постичь их, пусть всего малая толика да общие детали происходящего схватывает он осознанно; но если после вашей кончины рок передаст ключ от алхимической тайнописи прямо в его руки, то тогда как же скоро и споро посетит его разумение всех самых туманных и совсем было забытых сцен, что вдруг всплывут в его памяти; да, и вот он рыскает по всем закоулкам своего разума в поисках еще не открытых шифров, с тем чтоб и их непременно прочесть. О, мрачнейшие уроки жизни преподносит такое чтение, жестоко убивает оно всю веру в добродетель, и после него молодость отдается беспощадному презрению.
Но, впрочем, события, что произошли с Пьером, были вовсе не таковы; разве что самую малость, в общих чертах походили на эти, а посему приведенное выше справедливое предупреждение упоминается здесь не совсем уж не к месту.
Отец его скончался в лихорадке; и поскольку сие довольно часто случается с подобными больными, он то и дело проваливался в беспамятство и тогда нес полную околесицу. В ту пору – посредством незаметных, но хитрых уловок – верные слуги семьи удалили его жену от одра его. Но не маленького Пьера, чья нежная сыновняя любовь раз за разом приводила его к той постели; они не приметили, что наивный маленький Пьер находился тут же, пока отец его метался в горячке; и потому как-то вечером, когда густые тени сливались в одно с тяжелыми шторами и в покоях больного ненадолго все смолкло, и Пьер лишь смутно видел отцовское лицо, и пламя камина легло поверженным храмом причудливых угольков, тогда странный, горестный, бесконечно жалобный, тихий голос донесся с кровати под балдахином; и Пьер услыхал:
– Доченька! Моя доченька!
– У него опять бред, – сказала мамушка.
– Дорогой, дорогой папенька, – всхлипывал мальчик. – У тебя нет дочери, но здесь, рядом с тобою, сын твой, маленький Пьер.
Но вновь, не обращая внимания на его слова, долетел с постели тот же голос; и теперь то был резкий, долгий, звенящий вопль:
– Моя дочка!.. Боже! Боже!.. моя доченька!
Ребенок схватил умирающего за руку, тот слабо сжал его пальцы, но с другой стороны кровати вторая его рука также поднялась, ладонь раскрылась и вслепую ловила пустой воздух, словно в поисках еще одной детской ручки. Затем обе руки обессиленно упали на одеяло, и в тусклом свете умирающей зари маленький Пьер, казалось, видел, что одна рука отца, та, кою он держал в своей, была вялой, лихорадочно горела, а вторая, пустая, была мертвенно-белой, как у прокаженного.
– Ну, вот и миновало, – прошептала мамушка. – Он уж больше не будет бредить, пока полночь не придет – такая у него привычка.
И тогда в сердцах она спросила, ни к кому не обращаясь, как это можно, чтоб такой превосходный джентльмен, да еще такой добряк, вел столь двусмысленные бредовые речи да весь трясся, мучаясь мыслью в душе своей о некоем таинственном происшествии, о коем, казалось, не ведало человеческое правосудие, кроме суда его же невинной души, что видит кошмарные сны да бормочет неподобающие мысли; вот так в детскую душу Пьера, проникнутую благоговейным страхом, впервые вошла гордость за родного человека, хоть и весьма неопределенная. Но все это попадало в сферу непонятного и было неуловимо, как эфир; и посему маленький мальчик стал отдавать предпочтение другим и куда более приятным воспоминаниям, а сие оказалось сокрыто под ними, пока в конце концов оно совсем не померкло и смешалось со всеми прочими размытыми воспоминаниями да грезами об ушедшем, а посему в нем уж не содержалось для Пьера ни искры живого смысла. Но хотя прошло много долгих лет, а листья черной белены[70] так и не распустились в его душе; все же семена ее очутились там и дождались своего часа, и при первом беглом прочтении письма Изабелл они бурно разрослись, словно под воздействием чар. Тогда, как встарь, зазвучал тот горестный и бесконечно жалобный голос, что он так долго старался заглушить в памяти: «Доченька! Моя доченька!», – и вслед за тем крик человека, мучимого угрызениями совести: «Боже! Боже!» И перед мысленным взором Пьера вновь подымалась рука с раскрытою пустой ладонью и вновь падала эта мертвенно-белая рука.
III
В неприветливых дворцах правосудия медлительный судья монотонным голосом требует от нас присяги да клятвы на Священном Писании, но в радушных покоях наших сердец хватит с лихвой и одной-единственной искры пробудившейся памяти, чтоб возжечь такой пожар доказательств, что все углы осуждения вдруг озарятся светом, как целый город в полночь – от горящего дома, с каждой стороны которого пляшут в пламени каленого цвета головешки.
В уединенном кабинете, где дверь всегда стояла на запоре, а в каждой стене было отдельное окно, кабинете, что сообщался с комнатой Пьера и куда тот удалялся в те прелестные своею мрачностью ночные часы, когда дух взывает к духу: «Ступай со мною в глухие дебри, брат-близнец, удалимся: секрет таю я; позволь же мне шепнуть его тебе в стороне от всех»; в этом-то кабинете, отведенном под своего рода священные тайники Тадмора[71] да тихое прибежище, где отдыхал Пьер, который по временам чувствовал себя одиноко, здесь-то и висел на длинных веревках, что крепились к карнизу, маленький портрет маслом, перед коим Пьер не раз стаивал в забытьи. Будь сия картина представлена на ежегодной общественной выставке и будь ее описание помещено в печать небрежными, сомнительными критиками, оно бы звучало вот как, и то была бы правда: «Импровизированный портрет пригожего, веселого сердцем, молодого джентльмена. Он легко, так сказать, воздушно, легкими мазками запечатлен, или, вернее, легко восседает в старинном малаккском кресле.[72] Одна его рука держит шляпу, меж тем как трость его праздно прислонена к спинке кресла, а пальцы другой руки играют с золотой печатью на цепочке и ключом. Голова с открытыми висками повернута в сторону с особенно ясным и беспечным утренним выраженьем лица. Он выглядит так, точно только что навестил кого-то из своих знакомых. В целом картина весьма талантливо и живо написана; в приятной импровизированной манере. Вне всяких сомнений, то портрет, а не прихоть воображения; и, рискуем смутно предположить, написанный любителем».
Сияющий такою радостью, а потому пробуждающий к себе столько приязни; столь верный в деталях да где молодость схвачена была с такою живостью; столь чудно благообразный да в коем было столько изящества; какие же то были невидимые струны души, кои он так сильно тревожил, что жена того, кто послужил натурою для сего портрета, полагала последний несказанно неприятным и никуда не годным? Мать Пьера всегда заявляла во всеуслышание, что питает отвращение к этой картине, ибо на ней запечатлелась поразительно гадкая ложь о ее супруге. Ее теплые воспоминания о покойном категорически отвергали даже самые скромные и маленькие цветочные венки, коими их пытались увенчать другие. «Это не он», – многозначительно и почти с негодованьем возглашала она всякий раз, когда донимали ее настойчивыми просьбами открыть причину столь малорассудительного расхождения во взглядах едва ль не со всеми прочими родными и друзьями усопшего. А портрет, что признавала она удачною копией всех совершенств своего мужа, ибо там его образ был явлен в малейшей подробности и, главное, в нем нашли правдивое отражение его настоящие, прекраснейшие и благороднейшие черты, – тот портрет был большего размера и внизу, в парадной гостиной, занимал самое выигрышное и почетное место на стене.
Даже и Пьеру эти две картины всегда казались на удивление несхожими. И так как второй портрет был сделан через много лет после первого, а потому куда более соответствовал его воспоминаниям об отце, какие сохранились в его памяти со времен детства, то посему он не мог не признать большой портрет, безусловно, самым правдивым, где отец его вышел, как живой. Посему и явное предпочтенье его матери, сколь угодно решительное, вовсе не вызывало у него удивления и лучше согласовывалось с его личным мнением. Но все ж таки даже и не за это она неизбежно отвергала другой портрет без малейшего колебания. Поскольку, прежде всего, полотна разделяла череда лет, да разница в платье, которую тоже стоило принять во внимание, да глубокое различие в манере живописи обоих досточтимых художников, да огромная разница меж этими двумя – несколько условными – идеальными лицами, кои тонкий художник, даже и в присутствии самого натурщика, охотнее изберет для своей картины, нежели мясистое лицо последнего, сколь бы приятно и представительно оно ни было. И потом, тогда как большой портрет представлял женатого мужчину средних лет, черты которого, казалось, имели все те невыразимые признаки и некоторую дородность, какая свойственна людям в тех условиях, кои величают семейным счастьем, а на маленьком портрете был бодрый, еще не скованный брачными узами молодой холостяк, для которого жизнь была веселыми странствиями по свету, беспечный и, возможно, самую малость безнравственный и переполняемый тем избытком молодых сил и свежестью, что бывают лишь на заре жизни. Вот что, несомненно, следовало в большей степени брать в расчет, высказывая любое сдержанное, непредвзятое суждение об этих двух портретах. Сей довод казался Пьеру почти неоспоримым, когда он ставил рядышком два портрета себя самого; один, взятый в его раннем детстве, на котором он был мальчиком четырех лет от роду, в детском платьице[73] с пояском, и другой портрет, где он уже представал выросшим молодым шестнадцатилетним человеком. Кроме неизменных черт, кои сохраняются во всю жизнь, чего-то такого в глазах да у висков, Пьер едва ли мог узнать громко хохочущего мальчика в этом высоком юноше с задумчивой улыбкою. «Если всего несколько быстротечных лет принесли с собою столь большие перемены в моем облике, то как же должен был измениться отец?» – мыслил Пьер.
Помимо всего этого, Пьер помнил некую историю или, скажем так, семейное предание о маленькой картине. На его пятнадцатое рожденье сей портрет был ему подарен его тетушкой, старою девой, коя проживала в городе и лелеяла память об отце Пьера со всей той удивительною, неувядаемою, как цветки амаранта, преданностью, кою старшая незамужняя сестра всегда питает к памяти любимого младшего брата, ныне покойного и безвременно отошедшего в мир иной. Единственное дитя сего брата, Пьер был объект нежнейшей и совершенно неумеренной привязанности со стороны этой одинокой тетушки, коя, казалось, воочию видела вновь воскресшую юность, живое сходство и самую душу брата в чистых чертах Пьера, что он унаследовал от своего отца. Несмотря на то что портрет, о коем мы ведем речь, превозносила она свыше всякой меры, все ж таки суровый канон ее романтической и мнимой любви провозгласил наконец, что портрет должен принадлежать Пьеру, ибо Пьер не только единственный ребенок своего отца, но и назван в его честь, и посему портрет надлежало передать Пьеру, как только он вполне возмужает, чтобы по достоинству оценить такую святую и бесценную драгоценность. Вот она и выслала ему сей портрет, положив оный в тройной короб да сверху обернув его водонепроницаемою тканью; и доставил его в Седельные Луга быстрый частный посланец, пожилой джентльмен на отдыхе, который когда-то был несчастным, ибо отвергнутым, поклонником тетушки, ныне же обратился в ее довольного и говорливого соседа. И посему теперь только перед миниатюрою из слоновой кости в золотой рамке да с золотою дверцею – братниным подарком – тетушка Доротея творила свои утренние и вечерние молитвы в память о благороднейшем и красивейшем из всех братьев на свете. Но все же ее ежегодное паломничество в дальний кабинет Пьера – посещение, что ныне утратило всякий смысл, ибо портрет отдан-то был много лет назад и уж порядком состарился, – было всякий раз проявлением силы ее чувства долга, того мучительного самоотречения, кое заставило ее по доброй воле расстаться с драгоценною реликвией.
IV
– Расскажите мне, тетушка, – когда-то давным-давно просил ее маленький Пьер, задолго до того, как портрет достался ему, – расскажите про сей портрет, что вы зовете портретом в кресле, как его написали… кто написал его?.. Это было папино кресло? Где же оно у вас?.. Я не вижу его в вашей комнате… Что папа так странно смотрит? Хотел бы я знать, что папа думал тогда. Ну же, дорогая тетушка, расскажите мне все об этой картине, чтобы, когда она станет моей, как вы обещали, я знал о ней больше всех.
– Тогда присядь и слушай очень тихо и внимательно, мое дорогое дитя, – проговорила тетушка Доротея; и, немного склонив голову, она, дрожа, неуверенно рылась в своем кармане до тех пор, пока маленький Пьер не возопил:
– Ну, тетушка, история портрета ведь не в какой-то маленькой книжечке, правда, что вы хотите вытащить да прочесть мне?
– Я ищу носовой платок, дитя мое.
– Ну, тетушка, да вот же он, у вашего локтя, тут, на столе… вот, тетушка… берите его скорей; ох, ничего не говорите мне о портрете, не буду слушать.
– Успокойся, мой дорогой Пьер, – сказала тетушка, принимая носовой платок. – Опусти немного штору, бесценный мой: свет бьет мне прямо в глаза. Теперь пойди в гардеробную да принеси мне оттуда мою темную шаль… наберись терпения… Это она, благодарю, Пьер; теперь присядь снова, и я начну… Портрет был написан много лет назад, дитя мое, в то время тебя еще не было на свете.
– Не было? – закричал маленький Пьер.
– Не было, – подтвердила тетушка.
– Ладно, продолжайте, тетушка, да только не рассказывайте заново, как в давние-давние времена не было на свете маленького Пьера, а мой папа был еще жив. Продолжайте, тетушка, скорей, скорей!
– Ох, каким же ты становишься нервным, дитя мое, наберись терпения. Я очень стара, Пьер, а старые люди не любят, чтоб их торопили.
– Моя милая, дорогая тетушка, пожалуйста, простите меня на сей раз и доскажите свою историю.
– Когда твой бедный отец был еще молодым человеком, дитя мое, да приехал, по своему обыкновению, с долгим осенним визитом к друзьям в наш город, он в те дни вполне сдружился со своим кузеном Ральфом Винвудом, который был примерно одного с ним возраста и тоже приятным молодым человеком, Пьер.
– Я его в жизни не видел, тетушка, умоляю, скажите: где он теперь? – прервал Пьер. – Он ныне живет в своем имении, как я и мама?
– Да, дитя мое, но в далеком и прекрасном имении, надеюсь, ибо я уверена, он живет на Небесах.
– Умер, – вздохнул Пьер. – Продолжайте, тетушка.
– Кузен Ральф имел большую любовь к живописи, дитя мое, он проводил долгие часы в своей гостиной, сплошь увешанной картинами да портретами, и там же стоял его мольберт да лежали кисти; и он очень любил рисовать своих друзей и украшать их портретами свои стены; и посему, даже когда он пребывал в полном одиночестве, его окружала большая компания, где лица всегда имели свое лучшее выражение и где никто не ссорился с ним оттого, что на кого-то нашло дурное настроение или же кто-то имел скверный характер, малыш Пьер. Часто он донимал твоего отца тщетными просьбами ему позировать, говоря, что его безмолвный круг друзей никогда не будет полным, пока твой отец к ним не присоединится. Но в те дни, дитя мое, твой отец был вечно в движении. Мне нелегко было упросить его постоять спокойно, пока я завяжу его галстук, ибо он всегда приходил ко мне только ради этого. Словом, он все откладывал и откладывал позирование у кузена Ральфа. «Как-нибудь в другой раз, кузен, не сегодня… завтра, возможно… или на следующей неделе» – и так далее, пока в конце концов кузен Ральф не начал терять надежду. «Но я все ж таки возьму его врасплох», – твердил хитрый кузен. С этих пор он не заговаривал более с твоим отцом о позировании для портрета, но каждым ясным и безоблачным утром держал мольберт и кисти и все остальное в готовности, мысля быть во всеоружии, когда твой отец заглянет к нему после своих долгих прогулок, ибо время от времени твой отец делал беглые краткие визиты к кузену Ральфу в его мастерскую… Но, дитя мое, ты можешь теперь поднять штору – сдается мне, у нас стало слишком темно.
– Мне так и казалось с самого начала, тетушка, – сказал Пьер, подчиняясь. – Но ведь вы сказали, что свет бьет вам в глаза.
– Но не теперь, малыш Пьер.
– Ладно, ладно, продолжайте, продолжайте, тетушка, вы и представить не можете, как мне интересно, – сказал маленький Пьер, придвигая свой стул ближе к стеганым краям атласного платья доброй тетушки Доротеи.
– Я продолжу, дитя мое. Но сперва позволь сказать, что тем временем в наш порт прибыло полным-полно французских эмигрантов, бедных людей, Пьер, коих вынудили покинуть родную землю, ибо там настали жестокие, кровопролитные времена. Но ты же обо всем об этом прочел в той краткой истории, что я когда-то давно дала тебе.
– Я все про это знаю – то была Французская революция[74], – сказал маленький Пьер.
– Ты такой славный маленький эрудит, мое дорогое дитя, – вздохнула тетушка Доротея, слабо улыбаясь. – Среди тех бедных, но благородных эмигрантов была прекрасная молодая девушка, чья печальная судьба позже наделала столько шуму в городе и заставила многих ее оплакивать, ибо о ней не было больше ни слуху ни духу.
– Как? Как? Тетушка… я не понимаю… выходит, она исчезла, тетушка?
– Я немного забежала вперед, дитя мое. Да, она пропала, и о ней больше ничего не было известно, но это было потом, немного позже, мое дитя. Я вполне уверена, что так оно и было; я бы могла в том поклясться, Пьер.
– Ну, дорогая тетушка, – сказал маленький Пьер, – до чего ж серьезным стал тон вашего рассказа – отчего? – да голос ваш так чудно изменился; перестаньте, не говорите таким голосом, вы пугаете меня, тетушка.
– Должно быть, то сильная простуда, которую я сегодня подхватила; боюсь, она делает мой голос немного грубее, Пьер. Но я соберу мои силы и не стану больше говорить столь хрипло. Ну, так вот, дитя мое, некоторое время до того, как эта красивая молодая француженка исчезла, собственно, вскоре после того, как бедные эмигранты здесь обосновались, твой отец познакомился с нею, да вместе с ним и многие другие джентльмены города, в чьих сердцах было сострадание, и они сообща обеспечивали нужды пришельцев, поскольку те и впрямь очень бедствовали да нуждались буквально во всем, да сберегли им их жалкие горстки драгоценностей, коих не могло надолго хватить. Наконец, друзья твоего отца попытались отговорить его от столь частых посещений этих людей; так как они опасались, что юная леди, столь красивая да немножко склонная плести интриги – так говорили иные, – опутает отца твоего да за него и выйдет, что для него отнюдь не стало бы мудрым поступком, ведь, несмотря на то что молодая француженка могла быть и очень красивой, и добросердечной, ни одна живая душа по эту сторону океана не знала ее родословной; ее называли чужестранкой и не находили, что она такая же достойная да прекрасная пара твоему отцу, как после твоя дорогая мать, мое дитя. Но я-то сама, я – та, которая всегда столь хорошо осведомлена была обо всех намерениях твоего отца, да к тому же он бывал со мною весьма откровенен, – я, со своей стороны, никогда не верила, что он способен на такой неразумный поступок, как женитьба на странной молодой девушке. Что бы ни было, но он в конце концов перестал навещать эмигрантов, и вот после этого молодая француженка пропала. Одни говорили, что она по доброй воле, но тайком вернулась на родину, а другие утверждали, что ее похитили тайные французские эмиссары, ибо после ее исчезновения поползли слухи, что она благороднейшего происхождения да в некотором родстве с королевскою семьей; и вот тогда нашлись те, кто мрачно качал головой да шептал про утопления да про иные темные ужасы, кои всегда обсуждают, когда исчезает человек и никому не под силу отыскать его следа. Но хотя отец твой и многие другие джентльмены перевернули небо и землю в поисках малейшей зацепки, все же, как я уж сказала, дитя мое, она никогда не появилась вновь.
– Несчастная француженка! – вздохнул маленький Пьер. – Тетушка, я боюсь, ее убили.
– Несчастная леди, тут уж ничего не скажешь, – отвечала тетушка. – Но слушай дальше, ибо я опять возвращаюсь к портрету. В те поры, как твой отец очень часто хаживал к эмигрантам, дитя мое, кузен Ральф был в числе тех немногих, кто таки поддерживал твоего отца в ухаживании за ней; но кузен Ральф был тихий молодой человек и ученый, который имел туманные представления о том, что мудро и что глупо в большом мире; и кузена Ральфа совсем не покоробила бы подлинная женитьба твоего отца на юной эмигрантке. Ошибочно думая, как я уже говорила тебе, что твой отец ухаживает за ней с серьезными намерениями, он вообразил, будто это превосходная идея – представить его на портрете ее поклонником, иными словами, написать его едва вернувшимся после своего ежедневного визита к эмигрантам. Итак, он выжидал удобного случая, держал все краски да кисти под рукою в своей мастерской, как я уже говорила тебе; и как-то утром, можешь в том не сомневаться, он подкараулил отца твоего, когда тот вернулся с прогулки. Но прежде, чем он вошел в мастерскую, кузен Ральф выследил его из окна; и когда твой отец вошел, кузен подвинул кресло для позирования так, чтоб оно стало пред его мольбертом, да притворился увлеченным своей живописью. Он сказал твоему отцу: «Рад тебя видеть, кузен Пьер, я тут немного занят; присядь-ка сюда да расскажи мне новости; и я буду писать, слушая тебя. А расскажи-ка нам что-нибудь об эмигрантах, кузен Пьер», – лукаво добавил он, желая, как ты понимаешь, направить мысли отца твоего в любовное русло, чтоб уловить то самое выражение лица, кое ты видишь, малыш Пьер.
– Не уверен, что я вполне вас понимаю, тетушка, но продолжайте, мне так интересно, продолжайте, дорогая тетушка.
– Ну вот, при помощи разных хитрых уловок да маневров кузен Ральф держал твоего отца все сидящим и сидящим в кресле, грохочущим и грохочущим без умолку в таком самозабвении, что твой отец так и не заметил, как все это время его хитрый кузен все писал и писал столь быстро, насколько мог, и, можешь мне верить, посмеивался над неведением твоего отца – короче говоря, кузен Ральф выманил у него сей портрет, дитя мое.
– Но не украл, надеюсь, – сказал Пьер. – Это было бы очень дурно.
– Хорошо, не будем называть это обманом, хотя я уверена, что кузен Ральф держал твоего отца в неведении на протяжении всего позирования, а посему пусть и не опустошил его карман, но, по сути, при помощи хитрости, скажем так, списал портрет с него тайком. А если и впрямь обман здесь имел место или что-то в этом роде, все ж таки, видя, какое утешение этот портрет дарит мне, Пьер, и сколько утешения он еще подарит тебе, надеюсь, мне кажется, мы должны от всего сердца простить кузена Ральфа за содеянное.
– Да, думаю, мы и впрямь должны его простить, – согласился маленький Пьер, вопросительно пожирая глазами тот самый портрет, что он видел выше шали тетушки.
– Что же, поймав твоего отца еще два или три раза таким манером, кузен Ральф наконец закончил картину; а когда она была вставлена в раму и полностью готова, он бы удивил твоего отца, храбро вывесив ее в своей гостиной среди прочих портретов, если б твой отец как-то утром не зашел к нему вдруг – и в ту минуту, когда, собственно, сам портрет лежал холстом вниз на столе, а кузен Ральф крепил к нему шнур, – твой отец пришел к нему и испугал кузена Ральфа, тихо сказав, что он тут поразмыслил немного и ему показалось, что кузен Ральф водит его за нос, но он все же надеется, что это не так. «О чем ты говоришь?» – спросил кузен Ральф немного суетливо. «Ты же не вывесишь мой портрет здесь, не правда ли, кузен Ральф? – сказал твой отец, изучая взглядом стены. – Я рад, что не вижу его. Такова моя прихоть, кузен – и, возможно, очень глупая, – но, если ты так-таки напишешь мой портрет, я хочу, чтоб ты его уничтожил; в любом случае, не показывай его никому, держи в стороне от чужих взоров. Что это у тебя в руках, кузен?» Кузен Ральф все больше и больше волновался, не зная, что думать – как, собственно, я и сама не знаю по сей день – о странной просьбе твоего отца. Но он собрался с духом и ответил: «Это, кузен Пьер, тайный портрет; тебе, должно быть, известно, что мы, портретисты, иногда призваны писать такие. Потому я не могу ни показать тебе его, ни сказать о нем хоть слово». – «Так написал ты или нет портрет с меня, кузен?» – вдруг закричал твой отец, и очень резко. «Я не написал никого, кто был бы похож на тебя нынче», – увернулся от ответа кузен Ральф, наблюдая на лице отца твоего свирепое выражение, какого никогда не видал прежде. И больше ничего твой отец не смог от него добиться.
– И что потом? – спросил маленький Пьер.
– Ну, досказать осталось не так уж много, дитя мое; только твой отец никогда не имел и беглого знакомства с картиной; правда, никогда доподлинно и не знал, есть ли на свете такой портрет. Кузен Ральф тайком передал его мне, зная, как нежно я любила твоего отца, и взял с меня торжественное слово никогда не выставлять его там, где твой отец мог бы его увидеть или даже услышать о том. Свое обещание я честно держала, и только после смерти твоего дорогого отца я повесила портрет в своей комнате. Ну вот, Пьер, теперь ты знаешь историю портрета в кресле.
– И она очень странная, – сказал Пьер. – И настолько интересная, что я никогда не забуду ее, тетушка.
– Я надеюсь, что никогда не забудешь, дитя мое. Теперь дерни за сонетку, и нам принесут небольшой фруктовый пирог, а я выпью бокал вина, Пьер… ты слышишь меня, дитя мое?.. сонетка… дерни за сонетку. Что такое, что ты стал как вкопанный, Пьер?
– Почему папа не хотел, чтобы кузен Ральф написал его портрет, тетушка?
– Как же эти детские умы неугомонны, – закричала старая тетушка Доротея, разглядывая маленького Пьера в изумлении. – Это выходит из границ того, о чем я могу тебе сказать, малыш Пьер. Но у кузена Ральфа была своя глупая фантазия на этот счет. Он говаривал мне, что, будучи в комнате твоего отца спустя несколько дней после той сцены, что я описала, он заметил довольно диковинную книгу, кою тот читал, – «Физиогномику», как ее называют, – в коей излагались самые странные и туманнейшие правила, как узнать да вытащить наружу глубочайшие тайны окружающих, изучая выражения их лиц. И потому глупый кузен Ральф всегда обольщался мыслью, что недаром отец твой не желал, чтобы с него писали портрет, а все дело было в том, что он вступил в тайную любовную связь с тою француженкой и был против того, чтоб его тайна выставлялась в портрете на всеобщее обозрение, ибо в те поры замечательная работа по физиогномике сделала ему, так сказать, косвенное предупреждение, что возможен этакий риск. Но кузен Ральф, будучи столь склонным к тишине и уединению молодым джентльменом, всегда имел свои причудливые суждения. Что до меня, то я не верю, чтоб твой отец мог когда-либо возыметь этакие вздорные намерения касательно той особы. Будь уверен, пусть я и не могу растолковать тебе, отчего ж он так возражал, чтобы с него писали портрет, но, когда доживешь до моих лет, малыш Пьер, ты поймешь, что все люди, даже лучшие из нас, могут иногда совершать очень странные и необъяснимые поступки; порою мы что-то делаем, да не можем и себе самим вполне объяснить причину сего, малыш Пьер. Но со временем ты все узнаешь о сиих странностях человеческих.
– Надеюсь, что так, тетушка, – сказал маленький Пьер. – Но, дорогая тетушка, я думал, Мартин принесет нам фруктовый пирог?
– Дерни за сонетку, чтобы позвать его, дитя мое.
– О! Я и забыл, – сказал маленький Пьер, исполняя ее просьбу.
Итак, пока тетушка маленькими глоточками цедила свое вино, а мальчик ел пирог, оба вопросительно созерцали портрет; и наконец маленький Пьер, толкнув свой стул ближе к картине, закричал:
– Скажите, тетушка, неужели папа действительно был таким? Вы когда-нибудь видели его в этом темно-желтом жилете и галстуке с крупным рисунком? Я помню печать и ключ очень хорошо; и всего неделю назад я видел, как мама достала их из маленького выдвижного, запертого на ключ ящика гардероба, но я не помню ни странных усов, ни темно-желтого жилета, ни большого галстука с белым рисунком; вы когда-нибудь видели его в этом галстуке, тетушка?
– Дитя мое, это я выбирала материю для его галстука, да я же и скроила его для него и вышила монограмму «П. Г.» в уголке, но ее не видно на картине. Здесь блестящее сходство – и галстук и все остальное; так он выглядел в то время. Знаешь, малыш Пьер, иногда я сижу тут в полном одиночестве, смотрю, смотрю и смотрю на его лицо до тех пор, пока мне не начинает казаться, что и твой отец смотрит на меня, улыбается мне, кивает мне и зовет: «Доротея! Доротея!»
– Как странно, – сказал маленький Пьер. – Думаю, он смотрит на меня сейчас, тетушка. Чу! Тетушка, такая тишина царит во всей этой старинной гостиной, что мнится, я слышу тихое позвякивание от картины, как если бы печать на цепочке звякала, ударяясь о ключ, – дзинь! А вы слышите, тетушка?
– Бог с тобою, не говори так странно, дитя мое.
– Я когда-то услышал, мама сказала – но не мне, – что ежели спрашивать ее мнения, то ей не нравится картина тетушки Доротеи, на ней нет полного сходства, так она сказала. Почему мама не любит картину, тетушка?
– Мое дитя, ты задаешь весьма странные вопросы. Если твоей маме не нравится сия картина, то причина довольно проста. У нее-то дома портрет что куда больших размеров да лучшего качества, что сработан был по ее заказу; да и заплатила она тогда не знаю и сколько сотен долларов, и тот портрет также имеет чрезвычайное сходство, вот это может и быть причиной, малыш Пьер.
И такие беседы продолжали меж собою пожилая тетушка да малое дитя; и оба втихомолку считали друг друга чудаками; и каждый из них думал, что портрет странный и того более; а лицо с портрета все смотрело на них открыто и весело, как если б в нем и не было никакой сокрытой тайны, да потом вновь смотрело немного двусмысленно и с издевкой, словно лукаво подмигивало некоей другой картине, отмечая, насколько же глупа старая сестра и так же глуп маленький сын, споря с такою немыслимой серьезностью и любопытством о большом галстуке с белым рисунком, о темно-желтом жилете да о том самом, воистину подобающем джентльмену привлекательном выражении его лица.
А затем, после этого крупного объяснения, как тому и следует быть, один за другим пронеслись вереницею годы, пока маленький Пьер не вырос и не стал рослым молодым хозяином Пьером, и он мог уже звать картину своей; и ныне в тиши своего небольшого личного кабинета мог стоять пред нею, выпрямившись или же на что-то опираясь, а то мог и просидеть там весь день, если того пожелает, да все думать, и думать, и думать, и думать, до тех пор пока наконец все мысли станут расплывчатыми; а потом никаких мыслей и не останется.
Прежде чем он получил картину на свое пятнадцатое рождение, Пьер только через недосмотр матери или скорее через то, что однажды случайно вбежал в гостиную, как-то проведал о том, что его мать не одобряет сего портрета. Так как Пьер тогда был еще мал и портрет этот был портрет его отца да заветное сокровище его превосходной и нежно им любимой и любящей тетушки, то посему его мать с интуитивною деликатностью успела воздержаться от намеренного высказывания вслух своего личного мнения, кое шло вразрез с мнением всех прочих, в присутствии маленького Пьера. И эта благоразумная, хотя несколько бессознательная, деликатность матери, возможно, отчасти находила отклик в ответной милой чуткости, кою проявлял ребенок, ибо детям, утонченным от природы да благородного воспитания, порою свойственна чудесная и даже невиданная тактичность в соблюдении правил приличия, заботливость и терпение в таких делах, кои признают капельку сложными даже их старшие да те, кто сами возомнили себя таковыми. Маленький Пьер ни разу не признался матери, что через другую особу узнал ее мысли о портрете, принадлежащем тетушке Доротее; казалось, что он словно интуитивно пришел к такому умозаключению, какое можно было сделать, поразмыслив над разницей в обращении его отца с ними обеими да припомнив и прочие, менее значительные обстоятельства, – умозаключению, что в некоторых случаях ему куда приличнее было показать больше любопытства в разговоре с тетушкой, нежели с матерью, особенно если речь заходила о портрете в кресле. И посему теми доводами, что приводила тетушка Доротея, объясняя причины неприязни его матери, он довольствовался еще долгое время или, по крайней мере, считал их вполне весомыми.
Когда же портрет прибыл в Луга, так сложилось, что мать его находилась в отлучке; и потому Пьер просто молча повесил его в своем маленьком кабинете; а когда спустя день-два его мать возвратилась, он не сказал ей ни слова о получении портрета, все еще на диво глубоко чувствуя ту некую тусклую тайну, что окутывала картину, да опасаясь не без причины, что ему вовсе откажут в праве преклоняться пред ней, ежели он начнет с матерью какие угодно препирательства о подарке тетушки Доротеи или же осмелится выказать несносное любопытство, делая матери вопросы о причинах ее личного и упорного предубеждения против сей картины. Но как только проведал он – и случилось это спустя совсем немного дней после прибытия портрета в имение, – что мать посетила его маленький кабинет, то, увидевшись с нею на другой день, он приготовлялся услышать, что-то она сама скажет о том последнем украшении, что там прибавилось; но поскольку она пренебрегла всяким упоминанием о чем-либо в этом духе, он незаметно впился в нее глазами, силясь подметить малейшее новое чувство, что затуманило бы ее чело, как он мог того ожидать. Однако он не нашел в ней никакой перемены. А поскольку всякая истинная учтивость от природы имеет накопительный эффект, то сие внушающее трепет, взаимно принятое, хоть и лишь подразумеваемое табу в разговорах, что вели меж собою мать и сын, так никогда и не было нарушено. И то была еще одна, дорогая им обоим, и свято ими чтимая, и благая связь меж ними. Ибо, что бы там порою ни говорили иные влюбленные, любовь не всегда бежит секретов, как и природа, по преданию, боится пустоты[75]. Любовь родилась из тайн, как прелестная Венера – из ажурной и вечной пены морской. Секреты любви, будучи таинственными действами, всегда подлежат трансцендентному да вечности; и потому они подобны хрупким мосткам, что повисли над бездной, через которую наши будущие тени отлетят в те края, где царят золотые туманы да вдохновение, где берут начало все поэтические, прекрасные мысли, что станут проникать в нас по крупицам, как, должно быть, жемчуга капают вниз с радуги.
Со временем, сие безгрешное и чистейшей воды невинное умолчание с обеих сторон привело лишь к тому, что портрет представлялся даже в более выгодном свете, поскольку тем самым на него набрасывали еще несколько прелестных покровов тайны да приправляли, так сказать, свежим фенхелем[76] и розмарином благоговейную память об отце. Несмотря на то что Пьер, как мы уже сказывали, оставшись в одиночестве, любил, само собою, помечтать о какой-то невероятной разгадке предпоследней тайны портрета, да такой, чтобы в нее входило и объяснение странной неприязни его матери, однако даже искусный разбор всех фактов, что он всякий раз производил в уме, когда отдавался таким мечтам, никогда не побуждал его преступить заветную черту с тем, чтобы вывести личную неприязнь его матери на чистую воду, поставив ее вдруг над всеми двусмысленными рассуждениями о неизвестных сторонах характера да холостяцких годах жизни того, с кого писали сей портрет. Не то чтобы он категорически запрещал своей фантазии прогуливаться в полях цветистых предположений, но всем таким размышлениям должно было лишь прославлять тот чистый, святой образ, что в его душе покоился на общепризнанных и общеизвестных фактах жизни его отца.
V
Если ум без цели странствует в бесконечно раздвигаемых пределах недолговечного вымысла и всякую ясную мысль или яркий образ он возьмется объяснять тысячей мелких подробностей, кои сам же и создает, черпая их из вечного источника, где распадаются на фрагменты все его прежние думы, то под силу ли нам тогда пытаться поймать на лету да обрисовать наименее размытую из тех догадок, что во времена его ранней юности, кои мы ныне описываем, довольно часто вертелась на уме у Пьера, когда б он ни начал строить предположения, объясняющие заметную неприязнь его матери к портрету. Мы рискнем все же и сделаем всего один набросок.
«Да, – смутно думалось иной раз Пьеру, – как знать, вдруг кузен Ральф, может статься, был недалек от истины, высказывая догадку, что мой отец и впрямь питал в свое время некие мимолетные чувства к прелестной молодой француженке? А сей портрет был сделан именно в то время и, право же, и преследовал-то лишь одну цель – запечатлеть какое-то неопределенное, но подлинное доказательство той любви, кое притаилось в очерке этих румяных губ, вот почему сие выражение его лица вовсе не кажется ни близким, ни узнаваемым, ни приятным моей матери, ибо отец мой не улыбался ей так никогда (с самого первого дня их знакомства); да прибавить сюда еще то известное чувство, что свойственно одним лишь женщинам, то чувство, кое я бы мог, возможно, назвать, если б оно относилось к любой другой леди, своеобразною ревностью влюбленной женщины, ее непомерно требовательною гордостью, что шепчет ей о том, что сей взгляд, каким отец смотрит с портрета, по некой неясной причине предназначен вовсе не ей, а какой-то другой и неизвестной красавице; и потому она даже слышать о нем не может, и потому она решительно его отвергла, ибо она, само собой, и будет столь нетерпима, когда другие делятся воспоминаниями о моем отце, где тот, как она помнит, еще не был ни словом, ни чувством связан с нею.
Поскольку тот парадный портрет, который отличается куда более внушительными размерами и висит в нашей большой гостиной, был сделан, когда мой отец находился во цвете лет, в те поры, когда шли лучшие дни его супружеского союза, а жизнь представлялась им обоим в розовых тонах, написанный по личной настойчивой просьбе моей матери, кисти знаменитого художника, которого она сама выбирала, да не забыть и одеяния моего отца, в коих он позировал, что также отвечали ее вкусу, и те, кто знал отца, твердят со всех сторон, что здесь необыкновенно счастливое сходство, таким-де он и был в те года, а их уверенность духовно укрепляет мои смутные детские воспоминания, – и это все причины, почему сей портрет из большой гостиной обладает в ее глазах бесчисленными очарованиями, ибо в нем она любуется своим супругом, видя его именно тем, кем он ей казался; на этом-то портрете ей нет нужды отрешенно взирать на чуждый призрак, что во всех прочих будит стародавние, а по ее мнению, едва ль не сочиненные воспоминания о холостяцких годах жизни моего отца. Ну, а на том, другом портрете ее любящему взору предстает одно перепевание более поздних повестей и преданий о его верной любви к ней в годы их брака. Да, нынче мне думается, я вижу все ясно, и это не могло быть иначе. Но меж тем рой ранее неведомых, чудных мыслей поднимается во мне всякий раз, как устремлю свой взор на загадочный портрет отца в кресле – портрет, где отец хоть и видится мне еще большим незнакомцем, чем то могло бы казаться моей матери, все ж таки, мнится, порой мне говорит: „Пьер, не верь картине из большой гостиной; это не твой отец; или, по крайней мере, она говорит не все о твоем отце. Пораскинь умом, Пьер, не можем ли мы, два портрета, составлять вместе один общий. Добродетельные жены всегда питают безграничную привязанность к тем образам своих мужей, что сами себе и выдумали; а добродетельные вдовы всегда чересчур благоговеют перед мнимыми призраками тех самых выдуманных мужей, Пьер. Взгляни снова, я твой отец, каким он был на самом деле. Во взрослой жизни, Пьер, под влиянием света мы лишаемся простора в наших желаниях да приобретаем глянец; тысяча правил приличия, светских условностей и масок нас теснит, Пьер, и тогда мы так или иначе предаем самих себя да нарекаем вымысел нашим именем, Пьер; в юности мы живем, Пьер, а в зрелые года кажемся. Взгляни же на меня снова. Я твой истинный отец, гораздо более верное его отражение, хоть ты и думаешь, что не знаешь меня, Пьер. Ни один отец не поверяет сокровенных мыслей малолетним детям, Пьер. Порой у нас за душою с лихвой наберется на тысячу и на один случайных, темных грешков, а мы считаем, что нам отнюдь не стоит раскрываться пред ними, Пьер. Взгляни-ка на эту чудную, двусмысленную улыбку, Пьер, да присмотрись повнимательней к этим губам. Смотри, иль ты не видишь, какой неутолимо страстный и, я бы даже сказал, скабрезный блеск в этих глазах? Я твой отец, мальчик. Когда-то я знался с некою, о, более чем прелестной юною француженкой, Пьер. В юности голова горяча, а соблазн силен, Пьер; и в минуту увлечения мы ведем себя самым решительным образом, а сделанного не воротишь, Пьер; и поток времени мчится вдаль и не всегда несет в своих водах иные предметы, но возьмет да и выбросит их волною на берег да оставит позади, далеко позади, в молодых, зеленеющих землях, Пьер. Взгляни-ка на меня вновь. Иль задаром твоя мать так на меня ополчилась? Подумай. Все ее невольные, проникнутые любовью суждения о своем супруге ужель не были постоянными попытками возвысить его, превознести до небес да сотворить себе кумира из воспоминаний, Пьер? Потому-то она и дышит на меня огнем да никогда не говорит обо мне с тобою; и сам ты почему ни словечка о том не проронишь при ней, Пьер? Подумай. И тебе во всем этом не чудится ни малейшей загадки? Подумай немного, Пьер. Не смущайся же, не смущайся. Это ни к чему, ибо твой отец здесь, с тобою. Взгляни, иль я не улыбаюсь?.. и притом неизменной улыбкою; и таковой я улыбался в течение долгих минувших лет, Пьер. О, это улыбка, что никогда не меняется! Я улыбался так же кузену Ральфу и ровно так же в гостиной твоей дорогой старой тетушки Доротеи, Пьер; да ровно так же я ныне улыбаюсь тебе и даже в последние годы жизни твоего отца, даже когда его тело, должно быть, оплакивали, я – скрытый от посторонних глаз в секретере тетушки Доротеи – все улыбался так же, как и прежде; и ровно так же улыбался бы, повисни я на каком-то крюке в глубочайшей темнице испанской инквизиции, Пьер; и, оставленный в полной темноте, я бы по-прежнему улыбался этой улыбкою, несмотря на то что вокруг не было бы ни души. Подумай, ибо улыбка есть не что иное, как первейшее орудие всех двусмысленностей, Пьер. Мы улыбаемся, когда хотим обмануть и когда втайне готовим какую-нибудь милую маленькую проделку, Пьер, и все лишь для того, чтобы хоть немного унять жар своих прелестных страстишек, Пьер, только взгляни, как мы тогда расплываемся в нечаянных улыбочках. Давным-давно я знавал прелестную юную француженку, Пьер. Ты когда-нибудь серьезно спрашивал себя, задавая вопросы с позиций анализа, и психологии, и метафизики, каковы были ее пожитки, да ее окружение, да все ее мелкие расходы, Пьер? О, сомнительного сорта была история, что твоя дорогая старая тетушка Доротея когда-то давно поведала тебе, Пьер. Много лет назад я и сам знал эту доверчивую старую душу, Пьер. Подумай, подумай немного… видишь… кажется, в ее рассказе есть один маленький пробел, Пьер… камень преткновения, камень преткновения. Всегда что-то можно разузнать, если долго и настойчиво опрашивать всех в округе; а мы неспроста столь упорно проявляем к чему-то интерес, Пьер; мы неспроста интригуем столько, становимся коварными дипломатами да мысленно оправдываемся после пред самими собою, Пьер; и боимся следовать индейской тропою, ведущей из широких просторов равнин во тьму лесов, Пьер; но довольно, слова – для мудрых“».
Вот так порой то было в мистической глухой тишине длинных деревенских ночей, когда большой особняк затихал, отделенный от мира густой пеленою декабрьских снегопадов, или же утопал в молочном безмятежном свете августовской луны; в торжественном, населенном призраками безмолвии огромного этажа, который занимал он один, он охранял свой же маленький кабинет, и, можно сказать, стоял на часах в том таинственном покое, где пребывала картина, да все выискивал в ней некие, странным образом скрытые просветы толкований, что столь мистически перемещались с места на место, не выходя из границ полотна; вот так порою стаивал Пьер перед портретом отца и, сам того не ведая, открывался навстречу всем тем несказанным намекам и двусмысленностям да неясным почти предположениям, кои иной раз столь же плотно теснятся на просторе души человеческой, как в пору мглистой, неторопливой метели бесчисленные снежинки роятся в воздухе. Но до сего дня Пьер, начавши, по обыкновению, с этих грез и глубокой задумчивости, всякий раз собирал воедино все уцелевшие фрагменты мыслей, что боролись друг с другом да текли сами по себе; и тогда метель стихала в единый миг, ни одна снежинка более не кружилась в воздухе, а Пьер, ругая себя за потакающее его желаниям страстное увлечение, в сердцах давал обещание никогда больше не предаваться полуночным мечтаниям перед отцовским портретом в кресле. Однако воды этих мечтаний, казалось, не засоряли его души заметным осадком; столь светлоструйными и столь быстротечными они были, что уносили с собою весь ил и, казалось, оставляли русла Пьеровых мыслей столь же чистыми и сухими, словно там никогда не проносился ни один мутный поток.
И до сей поры его добрые, дорогие сердцу поэтические воспоминания об отце ничто не оскверняло; а все загадки портрета лишь окутывали его прелестью и легендарным флером романтической истории, сутью которой как раз и была та самая тайна, что порой неким неуловимым образом обретала дьявольскую значимость.
Но теперь, теперь!.. письмо от Изабелл прочитано: с тою же быстротой, с какой первые лучи зари летят от восходящего на небосклон солнца, Пьер увидел, что все прежние двусмысленности, все тайные покровы разметаны на клочья, словно острым мечом, и на него наступают сонмы призраков из вечного мрака. Ныне все отдаленнейшие детские воспоминания: предсмертные слова его отца, лежащего в горячке, его мертвеннобледная рука, напрасно ищущая чью-то руку, странная история тетушки Доротеи, таинственные полуночные намеки самого портрета и, сверх того, интуитивная неприязнь его матери к портрету – все, все представилось ему единым доказательством.
А теперь его осенило неизбежное интуитивное прозрение, и все, что было для него необъяснимою загадкой портрета, да все те необъяснимо знакомые черты в облике двойницы, все самым чудесным образом совпало меж собою; и веселость одного не пребывала в разладе с печалью другой, но из-за некоей непостижимой взаимосвязи в них было обоюдное сходство и, можно сказать, их образы совмещались один с другим, и сие глубоко проникающее единство имело вдвойне сверхъестественные очертания.
Повсюду, куда он ни обращал свой взор, физические объекты материального мира трепетали по краям, расплывались и уступали место зыбкому миру видений; и тогда он, вскочив на ноги, сжал кулаки, уставясь неподвижным взглядом в одну точку, черты его исказились и у него вырвались те дивные строки из Данте, где тот повествует о двух слившихся тенях в Аду: «Увы, Аньель, да что с тобой такое? Смотри, уже ты ни один, ни двое!»[77].
Глава V ДУРНЫЕ ПРЕДЧУВСТВИЯ И ПОДГОТОВКА ДУШЕВНЫХ СИЛ
I
Было далеко за полночь, когда Пьер вернулся в особняк. Он выбежал из дома, будучи в том полном оглушении всех мыслей и чувств, какое у столь пылких натур всегда вызывает первое известие о каком-то нежданном и ужасном несчастье; а теперь он возвращался, обретя некое подобие спокойствия, ибо мирное безмолвие ночи, да взошедшая луна, да россыпи звезд, что показались на небе с запозданьем, – все наконец для него слилось в одну мелодию, чудную и успокаивающую, коя, хоть поначалу и угнетала его, и будто бы насмехалась над ним, тем не менее мало-помалу да окольными путями проникла в его сердце и таким манером влила в него свое умиротворение. Теперь же, с высоты этого спокойствия, он с твердостью взирал на выжженный внутренний ландшафт своей души; словно канадский лесник, которому пришлось бежать из родных лесов от большого пожара, и вот он вернулся, когда угасли последние языки пламени, да уставился не мигая на бесконечные поля тлеющих углей, что кроваво мерцали то там, то сям сквозь широкую завесу дыма.
Как мы уже сказали, когда бы Пьер ни искал одиночества в некоем надежном пристанище да укрытия в его стенах, маленький кабинет, что сообщался со спальней, был любимое его логово. И потому он, возвратясь к себе в комнату, добавил масла в светильник, что едва горел, и, поддавшись порыву, вошел в свое убежище да опустился, сложа руки и поникнув головой, в привычное старое кресло на драконьих лапах. Чувствуя, что в ногах его собралась свинцовая тяжесть и в сердце на смену леденящему холоду пришло странного рода безразличие и что чудное оцепенение понемногу завладевает им, он какое-то время сидел в неподвижности, пока, словно путник, что остановился на отдых в снегах, он не начал решительную борьбу с этой приятной сонливостью, что есть самый коварный и смертельный из всех симптомов. Он поднял глаза и лишь тогда обнаружил, что находится перед утратившим часть своей загадочности, но по-прежнему двусмысленно улыбающимся портретом отца. В тот же миг все его прежние мучительные размышления и страдания возобновились, но еще не с той силою, чтоб он мог стряхнуть с себя завладевшее ним страшное оцепенение. Но у него не стало мочи долее терпеть улыбку портрета; и вот, поддавшись неодолимому неведомому порыву, он поднялся из кресла да и сорвал картину со стены, не потрудившись даже открепить веревки, на коих та держалась.
Обнажилась задняя сторона картины, пыльная, с клочками сморщенной бумаги по краям холста, что уцелела еще с давних времен. «О символ, что в душе моей обратился в свою же противоположность, – простонал Пьер, – не можешь ты более тут висеть. Лучше я вовсе вышвырну тебя вон, чем стану длить твое явное оскорбленье. У меня больше не будет отца». Он оборвал веревки, что соединяли картину с карнизом, и вынес ее из кабинета, и схоронил на дне глубокого сундука, покрытого голубоватым чинцем[78], и запер ее там. Но стена все же сохранила оставленный портретом неясный след – на слегка потускнелых обоях выделялся пустой и печальный квадрат. Он стремился теперь отовсюду вытравить малейшее напоминание о своем низложенном отце, будто опасаясь, что все дальнейшие о нем размышления не только совсем бесполезны, но могут неизбежно его довести до помраченья рассудка и разрушений, которых душа его громко требовала уже сейчас, призывая не только переносить сие небывалое горе в стойкости, но и немедленно предпринять что-нибудь. Необдуманное и жестокосердное деяние – вот как юность всегда судит о том, но заблуждается, ибо жизненному опыту прекрасно известно, что поступок, который, мнится, лишь обострит горе, на деле есть его болеутоляющее, хотя, чтобы унять боль навсегда, нам придется сперва претерпеть какие-то новые страдания.
Но еще не теперь, хоть Пьера до костей и пробирало при мысли, что вся его прежняя нравственная жизнь опрокинута с ног на голову и что ему предстоит заново воссоздавать для себя справедливое устройство мира, от того самого краеугольного камня, что зиждется в основе мироздания; еще не теперь принялся Пьер изводить себя мыслью о том последнем пределе опустошения да о том, как бы заставить то помертвелое поле снова расцвесть. Казалось, он чувствовал, что в самых глубинах его существа притаилась неясная, но неистребимая вера, способная взять над ним власть в сию пору брожения во всех дедовских заветах и непрочных его убеждениях; нет, не окончательно, чуял он, его душа погрузилась во мрак анархии. Неведомый регент принял царский жезл по праву; и Пьер не весь еще отдался тому явному грабежу и разорению, что под влиянием горя творились в его душе.
Если б сердце Пьера не было столь пылким, то наипервейший вопрос в отношении Изабелл, который пришел бы ему на ум, был: «Что я должен сделать?» Но вопросы такого рода никогда не занимали Пьера, ибо безграничное добросердечие его натуры не давало ни единой тени двусмысленности заслонить от него ту ясную цель, к которой он ныне стремился. Но если цель свою он видел предельно ясно, не так обстояло дело с поиском пути к ней. «Как я должен сделать это?» – было загадкой, что поначалу, казалось, не имела ни малейшего разрешения. Однако, сам того не ведая, Пьер был из тех, кто не вдается в скрупулезные и своекорыстные разборы незначительных «за» и «против», а вместо этого, слепо и без раздумий повинуясь самому ходу событий, предопределенному свыше, обретает наконец наилучшее средство уладить все трудности и великолепнейшую привилегию раздавать распоряжения. И так как на вопрос: «Что я должен сделать?» – уже готов был ответ, подсказанный самою сложностью сложившейся ситуации, то посему он пока что, скажем так, оставил за бортом своего сознания все мучительные размышления о том, «Как следует сделать это?», пребывая в уверенности, что грядущее объяснение с Изабелл непременно подтолкнет его к дальнейшему. А между тем его интуиция, что руководила им все это время, вовсе не молчала и, не таясь, перечисляла ему многочисленные рифы горчайших истин, кои Пьер различал впереди, в бескрайнем море несчастий, куда забросило его утлый челн.
Если все произошло по воле высших сил и те, полагая это самым мудрым исходом, готовили ему бесценную награду за тяжкие страдания, коими они ныне очищали его душу от веселых заблуждений и наполняли ее взамен печальной правдою, то сколь же мало преуспела сия святая инквизиция, орудуя с помощью завуалированно индуктивных рассуждений, коим отправною точкой послужило постигшее его небывалое несчастие, будто сверхъестественная сила проникла вовнутрь, взяла да озарила самые потайные закоулки души человеческой, неся некий, доселе неведомый и непонятный светоч, что, словно электрический свет, вспыхнул вдруг в сладостной темноте, разослав во все стороны снопы ярчайших лучей, которые в единый миг разогнали атмосферу ленивой дремы и обратили окружающее в царство слепящего света, так что предметы, очертания коих прежде неясно проступали во тьме, казались призрачными и романтичными, ныне предстают в своем подлинном обличье, так что во вспышке разоблачений этого удивительного огня, рожденного горем, мы видим вещи такими, какие они есть; и хотя когда электрический свет гаснет, все вокруг вновь скрадывает тьма, а предметы вновь обретают свои обманчивые формы, однако нет у них больше власти нас морочить, так как теперь даже если мы видим пред собою их ложные черты, то по-прежнему помним о том, каков их истинный, настоящий облик, несмотря на то что сейчас он снова скрыт от нашего взора.
Так было и с Пьером. В счастливую пору юности, когда его еще не постигло великое несчастье, он замечал в окружающих предметах лишь иллюзорные черты, подлинная же их явь от него ускользала. Но ныне метаморфозу претерпел не один только образ любимого отца, что на его глазах обратился из шумящего зеленой листвой древа в трухлявое бревно, изменились вместе с ним все прочие образы в его сознании, ни один из них не ушел от вездесущих лучей этого электрического света, что просочился в каждый уголок его души. И даже его прекрасная мать, которую не в чем было упрекнуть, не осталась на своем высоком пьедестале, ее образ также преобразился под влиянием испытанного ним потрясения. На новые черты ее облика, когда те впервые ему открылись, Пьер взирал в немом ужасе; и теперь, когда миновала буря электрического огня, этот образ, столь неожиданно развенчанный, он оплакивал в своем сердце в безграничной печали. Та, пред кем он меньше благоговел, но кто была ему милее и ближе душевно, кто всегда казалась Пьеру не только прелестною святой, лику которой он творил свои ежедневные молитвы, но также доброю советчицей и исповедником, а ее опочивальня почиталась им как тихая гавань да обитая атласом исповедальня, – его мать более не была для него божьим созданием, что всех на свете прекрасней; никогда больше, чувствовал он с предельною ясностью, не прийти ему к матери, как к той, чьи чувства находятся в полной гармонии с его собственными, как к той, с кем он может почти без утайки излить свою душу, как к той, кто одна в силах ему указать верный путь, по которому надо идти. Можно лишь дивиться тому, сколь безошибочным было прозрение подлинного характера его матери, что пришло к нему свыше вместе с этим электрическим светом, дарованным судьбой. Его мать могла хорошо справляться с обыкновенными трудностями; но когда Пьер принимался вертеть в уме пробный камешек от той колоссальной скалы нужды, с вершины которой он думал воззвать к ее сердцу, то чуял в себе глубочайшую уверенность в том, что она рухнет замертво под этой немыслимой тяжестью.
То была благородная душа, но в своей жизни она, по большей части, привыкла видеть лишь позолоту и благополучие, и до сих пор ей, по сути, немногое было известно о настоящих тяготах, а во всех обстоятельствах своего воспитания и развития она находилась под исключительным влиянием семейных традиций и светских правил приличия. Не станет его рафинированная, изысканная, любящая, безмятежная мать, Пьер это понимал, безропотно, как святая мученица, принимать эти известия, донельзя шокирующие, и рукоплескать, да так, чтоб эхом отозвалось в его собственном сердце, услыхав о его прекраснодушном решении, исполнение коего повлечет за собою неприятное удивление и насмешки всего света.
Мама!.. Милая мама!.. Бог даровал мне сестру, а тебе – дочь, но загрязнил ее величайшим бесчестием и заклеймил презрением всех, и потому мне и тебе… тебе, мама, предстоит с почетом признать ее, и защитить своим добрым именем, и… «Нет, нет, – стонал Пьер, – никогда, никогда… ни единой секунды не стерпит она таких слов». И тогда, грозная, и высокая, и неприступная, вознеслась ввысь перед мысленным взором Пьера доселе невообразимая, дивная твердыня заоблачной гордости его матери – фамильная гордость, гордость богатства, гордость незапятнанной репутации, а также гордость той утонченной жизни, что ведут все богатые и знатные, и вся гордость женщины, стоящей столь же высоко, сколь стояла Семирамида. В тот же миг он мысленно отшатнулся от сего видения, обративши взор в глубину своего сердца, и лишь в самом себе он обрел и силы, и поддержку. И вслед за тем Пьер окончательно понял, что ему была всегда втайне присуща отчужденность некоего страстотерпца, коему на этом свете не видать признания ни от родных, ни от своей отчизны. Притом то было чувство острого одиночества и обездоленности. Он тогда всей душою желал хоть на миг вернуть вспять тысячу сладостных иллюзий жизни, пусть и приобрел на них право знать жизненную правду, – только бы на одно мгновение не быть больше юным Измаилом, изгнанным в пустыню без любящей матери Агари, что утешала бы его и делила с ним его участь.
Тем не менее то были переживания, кои не пошли во вред его любви к матери, равно как и не отравили ни малейшей горечью его уважение к ней; и менее всего он мог возмущаться ее высокомерной добродетельностью. К тому же он понимал прекрасно, что характер его матери сложился не одними ее усилиями, что беспредельная гордость была первой, кто пестовал ее, а после высший свет, где она вращалась, занялся дальнейшим ее воспитанием, и, наконец, гордые выражения католического Требника довершили дело.
Можно лишь дивиться тому, повторяем, сколь безошибочным было прозрение подлинного характера его матери, пришедшее к нему свыше вместе с электрическим светом, дарованным судьбой, ибо даже ярким воспоминаниям о ее пылкой материнской любви было не дано затмить собой это нежданное откровение. Любить-то она меня любит, мыслил Пьер, но как? Любит ли она меня беззаветно? тою любовью, что ради любимого существа хладнокровно выдержит натиск ненависти всего света? чей победоноснейший гимн лишь зазвучит громче в гуле враждебных насмешек и язвительных замечаний?.. Нежная мать, вот моя любимая, но ославленная на весь белый свет родная сестра, которая нуждается в том, чтоб ее признали; и если ты любишь меня, мама, то твоя любовь перейдет и на нее тоже, и потому в нашей великолепной гостиной ты подашь ей руку с тем большей гордостью… И Пьер вот так, мысленно, приводит Изабелл знакомиться с его матерью и уводит ее прочь… и затем чувствует, что его язык примерз к небу, а сам он съеживается под колючим материнским взглядом, полным недоверчивого брезгливого ужаса; и тогда живущая в сердце Пьера надежда стремительно гаснет, гаснет и пропадает совсем, а к нему впервые приходит столь мучительное осознание всей тоскливой внутренней пустоты светской жизни. О бездушный, надменный, раззолоченный, скованный вечным льдом условностей высший свет, как же я тебя ненавижу, мыслил он, ненавижу за то, что ты насмерть вцепился в нас своею алчной тиранической хваткой, и потому теперь, в моей горчайшей нужде, твои законы вот так грабят меня, лишая меня даже матери; твои законы делают меня круглым сиротой, не пуская и к ее свежей могиле, кою я оросил бы моими слезами. Отныне моим слезам – если бы я мог их пролить – я должен давать волю только в уединении, ибо с этих пор я словно брошен и отцом, и матерью, что отправились в долгие странствия и, возвращаясь, погибли в безымянных морях.
Она-то меня любит, согласен… но – почему? А будь мой дух заточен в теле жалкого калеки, что тогда? Мне вспоминается теперь, что и при самых нежных проявлениях ее любви нет-нет да сверкнут на солнце златые чешуйчатые кольца гордости. Меня она любит любовью гордячки; во мне она, как ей кажется, взирает на свою собственную кудрявую и высокомерную красоту; передо мной она стоит как пред зеркалом – истая жрица гордыни, – и своему же отражению в моих чертах, а отнюдь не мне расточает она жаркие поцелуи. О, как я гневаюсь на тебя, благосклонная богиня, коя облекала мое тело в пышные мужские покровы и скрывала за ними всю правду о том, каким мужчине надлежит быть. Я теперь понимаю, что мужчина, заботясь о своей красоте, попадает в западню и становится совершенно слепым, как гусеница, что вьет себе шелковый кокон. Что ж, ныне я открыто приветствую и невзрачность, и нищету, и бесчестье, и всех остальных из вас, хитроумных слуг правды, которые под капюшонами и лохмотьями бедняков таят, тем не менее, королевские пояса и короны. И пусть канет во тьму вся прелесть, коей обладает человеческая плоть; и пусть канут во тьму все богатства, и все радости жизни, и все, что на свете цветет каждую весну, ибо цветение это лишь покрывает позолотой железо наших цепей да осыпает бриллиантами позорные скрепы и оковы, что налагает ложь. О, сдается мне, теперь я начинаю понемногу понимать, отчего те, кто служит правде, с давних пор шествуют босые, подпоясанные веревками и в вечной скорби, словно отгороженные от всех ее мрачной завесою. Ныне я дошел до сути сих важнейших слов мудрости, с коими наш Спаситель Христос обратился к людям в начале своей главной речи: «Блаженны нищие духом, и блаженны плачущие»[79]. О, до сих пор я только сохранял на сердце добрые советы, занимался покупкой книг и приобретением какого-то скромного жизненного опыта да собирал себе библиотеку; теперь же я устроился в кресле и принялся за чтение. О, ныне я постиг тайны ночи, и испытал на себе силу колдовских чар лунного света, и заразился всеми мрачными убеждениями, что появляются у человека в штормах да бурях. О, может ли радость предугадать, что правда выйдет наружу и что печаль станет отныне ее спутником. Вот отчего понурил я голову – слишком тяжкий груз тяготит плечи; вот отчего мое сердце так сильно стучит о ребра – то узник, в раздражении сотрясающий стальные прутья своей темницы. О, все люди на свете – тюремные надзиратели, тюремщики для самих же себя; и общественное мнение, само того не ведая, удерживает благороднейшие чувства в плену у самых низменных, словно переодетого короля Карла, при попытке бегства схваченного простыми крестьянами[80]. Сердце! Сердце! Это помазанник божий; позвольте же мне следовать велениям моего сердца!
II
Но если дурное предчувствие твердило Пьеру о гордости его матери, что неминуемо ополчится на него со слепой враждебностью, решись он на тот благородный поступок, который теперь вынашивал в мыслях, и если предчувствие это леденило его, то еще мучительнее была ему мысль о другой и более горькой вражде, что проросла бы корнями до самых глубин ее сердца. Ибо гордость не велела бы ей вооружиться столь уничтожающим презрением, если б все воспоминания о браке с его отцом не перечеркивало то ужасное, скандальнейшее обвинение в его адрес, кое заключалось в самом факте появления Изабелл на свет. И как вообразить себе лабиринты всевозможных домыслов, кишащие ужасными призрачными гадами и скорпионами, куда бы он вверг ее, если б надумал сделать ей такое признание? Сколько бы Пьер ни ломал над этим голову, а намерение обнажить хоть краешек правды перед матерью не только отвращало его бесплодностью попытки, как слабая атака на цитадель ее гордыни, но и рисовалось ему жестокосердным до крайности, ибо превращало в пытку ее нежнейшие воспоминания и пятнало идеальную чистоту алтаря в ее святая святых.
Несмотря на то что решение никогда не открывать секрета матери он прежде принял сгоряча и, как говорится, по наитию, он занялся теперь едва ли не самым подробным изучением всего, что имело касательство к делу, не желая, чтоб ускользнула от него и малейшая деталь. Ибо он уже начал понемногу догадываться, что сохранение или же разоблачение этой тайны пред лицом его матери окажет сильнейшее влияние на все его дальнейшее поведение, на все его счастье в жизни, его и Изабелл. И чем дольше он над сим размышлял, тем тверже и тверже делалось его первоначальное решение. Он живо представил, что в случае разоблачения тайны все в округе будут судачить о том, как мать ответила ему высокомерным отказом, даже не дослушав до конца его просьбы честно принять Изабелл под благородную сень дома Глендиннингов. В таком случае выходит, мысленно говорил себе Пьер, сам того не сознавая, по моей милости мама примет смертельный яд горькой правды, что никому не принесет добра, а повредить может решительно всем. Вот тогда-то ум Пьера и соблазнился гибельными мыслями о том, что правду не всегда следует принимать открыто и с почетом, что есть ложь во спасение и правда, обрекающая на вечные муки. Да будь я и впрямь проклят на веки вечные, мыслил Пьер, если в присутствии матери с уст моих сорвется хоть слово отвратительной правды, кое уничтожит ее священную память о моем отце и вонзит острейший кинжал скорби ей в сердце. Не бывать этому!
Но поскольку вместе с этим решением пред его внутренним взором распахнулись чересчур мрачные и пугающие горизонты, он попытался отделаться от размышлений о нем, отложив их до предстоящего разговора с Изабелл, что должен был каким-то образом придать более ясные очертания его замыслам. Ибо стоит человеку внезапно пережить большое потрясение, вызванное его же небывалыми и неопровержимыми разоблачениями тайн, кои, как он чувствует, в корне изменят всю его жизнь, как он сразу же стремится намеренно избегать всякой определенности в своих мыслях и планах, словно пребывая в уверенности, что линии судьбы, кои в грядущем поведают об истинном смысле его нынешних страданий и посему откроют перед ним будущую дорогу в жизни, сии линии может определить лишь точный удар заостренным рожном прямо ему в сердце.
III
Самым печальным из всех часов земных можно назвать тот долгий сумрачный час, что для сторожа, который топчется неподалеку от фонаря, становится бескрайней равниной, коя пролегает между ночью и днем, когда и свечение фонаря, и сторож изнемогают от усталости, становятся болезненно-бледными в слабом свете утренней зари и сторож не находит ничего приятного в солнечном восходе, от которого перед глазами плавают ослепительно-яркие химеры, и едва ли не осыпает ругательствами светлый день, которому радуется все живое, за то, что он посягает на его одинокую долготерпеливую ночь.
В маленьком окошке его кабинета можно было рассмотреть и луг, и другую сторону реки, а там уже виднелись далекие холмы, овеянные славой великих деяний Глендиннингов. Бессчетное количество раз Пьер спешил к этому окну, чтобы поймать кроваво-красную кратковечную утреннюю зарю, что рдела над теми пурпурными холмами, будто знамя. Но нынешний рассвет выдался туманным и дождливым, и мелкий дождь, казалось, моросил и в самой его душе. Тем не менее занялся день, и он вновь увидал привычные очертания предметов своей комнаты в том кротком дневном свете, что прежде, до этого мгновения, никогда не приносил ему ничего, кроме радости; теперь же и день, а не одна ночь, стал свидетелем его горя; теперь и ужасная явь впервые предстала пред ним в своей отвратительной наготе. На него разом навалились убийственное чувство одиночества, слабость, бессилие и бесконечное, беспредельное отчаяние. Не только его душа, но и тело было измучено. Ноги не держали его; а когда он попытался сесть, его руки бессильно упали, словно он пытался поднять непосильную тяжесть. Как каторжник, что всюду волочет за собою цепь с ядром, он кое-как добрался до своей постели и повалился на нее, ибо если больна наша душа, то лишь милосердное забытье может даровать нашему телу немного покоя, и посему первым прибежищем Горя часто становится постель. Пьером овладело какое-то оцепенение, словно от дозы опиума, и он провалился в глубочайший сон.
Пробуждение последовало через час, а вместе с ним ему сразу же пришли на память все события прошлой ночи; и теперь, после сна, он почуял в себе небольшой прилив сил и продолжал лежать очень тихо и неподвижно, почти в полуобморочном состоянии, в то время как душа его была объята безмолвной тревогою; он боялся, что спугнет чары оцепенения, стоит ему двинуть хоть одним членом или хотя бы шевельнуть головой. На лик своего горя Пьер взирал с твердостью и ронял долгие взоры во глубину его глаз; и тогда к нему пришло и ясное, и хладнокровное, и окончательное его понимание – по крайней мере, он так думал, – понимание того, что именно оно от него требует, и на что ему придется решиться в спешке, когда на его голову тут же падут все громы и молнии, и какой линии поведения ему должно держаться за завтраком в близкой неизбежной беседе с матерью, и как ему теперь быть с видами, что он имел на Люси. Времени на раздумья у него оставалось немного. Поднявшись с постели, он утвердился на ногах и расправил плечи и затем направился к своему письменному столу да набросал несколько поначалу нерешительных, а под конец торопливых фраз следующей записки:
«Я должен просить твоего прощения, Люси, за то, что столь странным образом отсутствовал вчера вечером.
Но ты знаешь меня прекрасно и не станешь сомневаться, что я не обошелся бы с тобой так, если б не было какой-то важной причины. Я шел по улице и уже приближался к твоему дому, когда мне передали письмо, настойчиво прося вернуться. Сей предмет займет все мое время и внимание на два или, быть может, три дня. Я затем тебе это говорю, чтоб ты могла заранее запастись терпением. И я знаю, что ради меня ты все же перенесешь это, сколь нежеланной для тебя ни была бы наша разлука; но верь и верь мне, Люси, дорогая, я и помыслить не мог о том, чтоб оставаться вдали от тебя так долго, если б меня к тому не вынуждали необоримые обстоятельства. Не приходи в особняк, пока я сам не навещу тебя, и не выказывай ни тени любопытства или же своего беспокойства обо мне, если в эти дни где-нибудь встретишь мою мать. Старайся казаться такой же веселой, словно я был с тобой все это время. Выполни все это, молю тебя, и прощай!»
Он сложил записку и уже собрался было ее отослать, как вдруг замер на мгновение да снова ее раскрыл и стал читать про себя. Однако он не смог прочесть как следует свое же послание, ибо некий туман вдруг застлал его взор. Но вот зрение его прояснилось; и тогда, торопливо схватив перо, он приписал такой постскриптум:
«Люси, возможно, смысл этого письма будет для тебя темен; и ежели окажется так, то знай, что нарочно я к этому не стремился и тем более не ведал, как я мог бы этого избежать. Но единственная причина такова, Люси: в своем письме я говорю намеками о предмете такого рода, который, по существу, оставляет меня пока стесненным клятвою не открывать тайну никому, кроме тех, кто напрямую с ней связан. А когда не имеешь права открыть сам секрет, что толку ходить вокруг да около и писать загадками. Просто будь уверена в том, что у нас с тобою все остается по-прежнему и я всегда тебе верен, и посему не предпринимай ничего до тех пор, пока мы не свидимся».
Затем, запечатав конверт и дернув шнур колокольчика, Пьер вручил записку вошедшему слуге, строго-настрого приказал доставить ее как можно скорее да велел не ждать ответа. Но когда слуга двинулся к выходу из его покоев, он кликнул его назад, отобрал запечатанную записку и, сломав свою печать, снова открыл ее да нацарапал карандашом внутри конверта такие слова: «Не пиши мне, не спрашивай обо мне»; после чего еще раз ее запечатал и отдал посланцу, который вышел, оставив Пьера стоять в глубочайшей задумчивости посреди комнаты.
Наконец Пьер очнулся от своих мыслей и покинул особняк и побрел через луг ко глубокой и темной заводи у свежего студеного ручья и выкупался там, и затем, возвратясь в покои приободренным, переменил на себе все платье, стараясь маленькими пустяковыми заботами о собственном туалете отогнать прочь все думы о том тяжком грузе, что давил ему на сердце. Никогда еще он не наряжался с таким волнением о впечатлении, кое должен произвести. Таков был один из капризов нежно любящей его матери, ей нравилось сбрызгивать парфюмом вещицы тонкого полотна в его гардеробе; и то была одна из его собственных слабостей, женских черт в характере – таких черт, кои порою забавно бывает наблюдать у мужчин очень крепких, широкоплечих да отмеченных к тому же особым величием души, у таких, как пророк Мухаммед[81], например, склонность ко всякого рода ароматическим эссенциям. И посему, когда он еще раз оставил особняк, с тем, чтоб нагулять на щеках румянец, прежде чем встретить проницательный взор своей матери, которая о причине его возможной бледности должна была не узнать никогда, Пьер выходил из дому весь пропитанный благоуханьем; но, увы! тело его служило лишь душистым погребальным покровом тому мертвецу, что похоронен был в его груди.
IV
Пьер пробыл на прогулке дольше, чем собирался; и когда он по возвращении поднялся вверх по Липовой тропе, что вела к столовой, да взошел по ступеням веранды и там заглянул в большое окно, то увидал, что его мать уже восседает неподалеку от стола; вот она повернула к нему голову; и до него долетел ее веселый голос: заливаясь искренне беззаботным и радостным смехом, она шутливо возвещала, что сегодня он, а не она, стал утренним лентяем. Дэйтс, держа в руках то ложки, то салфетки, хлопотал около сервировочного столика.
Призвав на помощь всю возможную бодрость, Пьер шагнул в столовую. Памятуя о своих трудах при купании да при выборе наряда и зная о том, что в это, как нарочно, волглое, прохладное, неприветливое и туманное утро не одно дуновение ветра не подрумянило его щек, Пьер, тем не менее, убеждал себя, что долгая бессонная ночь на страже вовсе не оставила на нем следа.
– Доброе утро, сестра… Ну, и славная же была у меня прогулка! Я побывал даже…
– Где? Святые небеса! где? гулял, и пришел весь больной!.. боже, Пьер, Пьер?.. Что с тобой стряслось? Дэйтс, я позвоню, когда вы потребуетесь.
Но добросовестный слуга помедлил еще мгновение, охорашивая салфетки, словно ему не под силу было сразу расстаться со своими привычными обязанностями, и лишь затем направился к выходу, ворча себе под нос что-то неразборчивое, как это свойственно всем верным и испытанным старым домашним слугам, когда они недовольны тем, что их решительно не допускают до обсуждения, кое представляло семейный интерес; а миссис Глендиннинг тем временем не спускала встревоженных глаз с Пьера, который, не ведая, что завтрак еще не готов, уселся за стол и принялся – довольно нервно – за сливки и сахар. В ту же минуту, как за Дэйтсом закрылась дверь, мать вскочила на ноги, обняла сына и прижала к груди; но при этом объятии Пьер с ужасом почувствовал, что их сердца больше не бьются в унисон, как прежде.
– Что тебя так измучило, сын мой? Скажи, это просто непостижимо! Люси? – Ба! Не она? Никакой любовной ссоры? Говори, говори, мой дорогой мальчик!
– Моя дорогая сестра… – начал Пьер.
– Не называй меня сестрою, Пьер, перед тобою сейчас стоит твоя мать.
– Ну, хорошо, дорогая матушка, однако ваше поведение нынче для меня столь же непостижимо, сколь мое – для вас…
– Говори же скорее, Пьер, твоя невозмутимость леденит меня. Откройся мне, ибо, клянусь моею душой, с тобой произошло нечто поистине небывалое. Ты мне сын, и должен подчиняться. Это не связано с Люси, тут что-то другое. Поведай мне все без утайки.
– Моя дорогая матушка, – сказал Пьер, невольным рывком отодвигая свой стул от обеденного стола, – если б вы могли просто принять на веру такие слова: мне и впрямь не о чем вам рассказывать. Вы же знаете, что порою, когда находит на меня до глупости серьезное усердие да философический стих, я засиживаюсь допоздна в своей комнате и после, невзирая на неурочный час, мчусь во весь дух на свежий воздух, чтобы до рассвета бродить по полям. На такую прогулку я и вышел вчера поздним вечером, а когда вернулся, то очень мало спал, и сон тот мало пошел мне в пользу. Но другой раз я уж не стану так чудесить; поэтому, дражайшая маменька, полно вам смотреть на меня, и давайте завтракать… Дэйтс! Дерните за сонетку[82], сестра.
– Постой, Пьер!.. Твоим словам не хватает обычной беззаботности. Я чую, я знаю, ты морочишь меня; возможно, то было с моей стороны ошибкой, что я силою пыталась вырвать у тебя твою тайну, но, поверь мне, сын мой, я и в мыслях не держала, что у тебя когда-нибудь появятся от меня секреты, не считая твоей первой любви к Люси, и тут вся моя женская деликатность говорила за то, что сие в высшей степени и простительно и правильно. Но теперь-то чему тут быть? Пьер, Пьер! Подумай, как следует, прежде чем лишать меня своего доверия. Я тебе мать. Ты можешь плохо кончить. В чем благо и добродетель твоего поступка, Пьер, коль ты бежишь родной матери? Не будем же из-за этого ссориться, Пьер, ибо знай, если ты более не доверяешь мне, то и мое доверие ускользает от тебя. Ну что, мне дернуть за сонетку?
Пьер, который все это время напрасно старался унять волнение, вертя в руках чашку с ложкою, при сих словах замер и невольно устремил на мать немой печальный взор. В нем вновь ожили предубеждения против тех сторон характера его матери, что открылись ему совсем недавно. Он вперед знал, что ранит ее гордость и что гнев ее будет ужасен, что вслед за тем все ее нежное с ним обращение сойдет на нет; он знал также, что она неумолима и что безмерно верует в безоговорочное подчинение своего сына. Он трепетал при мысли, что вот уж для него и впрямь настало время совершить свой первый важный шаг к тягостному испытанию. Но, несмотря на то что он понимал всю важность слов, только что сказанных его матерью, которая продолжала стоять перед ним, глядя на него во все глаза и положа руку на сонетку; и хотя он чувствовал, что в ту же самую дверь, коя, открываясь, пропустит Дэйтса, тотчас же выйдет, и притом навсегда, всякое доверие, что до этого было меж ним и его матерью, и хотя он знал, что и его мать сейчас также гложут такие же тайные мысли, несмотря на все это, он выбрал последовать своему тщательно обдуманному и взвешенному решению.
– Пьер, Пьер! Так мне дернуть за сонетку?
– Матушка, стойте!.. Да, прошу вас, сестра.
Прозвенел комнатный звонок, и Дэйтс явился на зов и, посмотрев на миссис Глендиннинг со значением, промолвил:
– Его преподобие пришел, моя леди, и теперь ожидает в западной гостиной.
– Поскорее пригласи сюда мистера Фолсгрейва, да принеси кофе; или я не говорила тебе, что жду его этим утром к завтраку?
– Да, моя леди, но я подумал, что… что… как вам угодно… – пробормотал старый слуга в растерянности, переводя взгляд с матери на сына.
– О, мой добрый Дэйтс, ничего же не случилось, – вскричала миссис Глендиннинг беспечно, и, посмотрев на сына, улыбнулась с горечью. – Приведи сюда мистера Фолсгрейва. Пьер, вчера вечером мы не увиделись, и посему я не имела случая тебе сказать, но мистер Фолсгрейв позавтракает с нами, так как получил мое приглашение. Вчера я побывала с визитом в его пасторском доме и переговорила с ним о той гнусной интрижке с участием Дэлли, и окончательное решение по этому делу мы должны принять сегодня же утром. Но что до меня, то я уж решила, как мне поступить с Недом: ноги этого прелюбодея больше не будет в моих владениях, равно как и бесчестной Дэлли.
По счастью, тут ее внимание развлек священник, что показался в дверях, и то, что при сих словах Пьер вдруг побледнел, осталось никем не замеченным, а у него было несколько мгновений, чтобы совладать с собою.
– Доброе утро, мадам, доброе утро, сэр, – произнес мистер Фолсгрейв удивительно кротким, певучим голосом, приблизившись к миссис Глендиннинг и ее сыну; и леди ответила ему с обычной любезностью, но Пьер, смущенный донельзя, был едва вежлив.
Мистер Фолсгрейв немного помедлил, стоя перед ними с самым учтивым видом, прежде чем опуститься на стул, отодвинутый для него Дэйтсом.
Несомненно, почти каждому человеку в жизни выпадают минуты, кои после остаются навеки запечатленными в памяти драгоценнейшими воспоминаниями, минуты, когда великое множество всех прежних жизненных условий совпадает для того, чтоб человек на время позабыл все свои мыслимые тяготы и невзгоды, и тогда его обхождение становится самым любезным, а на щеках расцветает радостный румянец – в те поры, когда общество да окружающая обстановка приятны ему более всего; и если в такой момент ему нечаянно подвернется счастливый случай предстать перед всеми в наивыгодном свете, то тогда, каким бы преходящим ни было его положение, вы успеете заметить благородную стать его великодушных чувств[83], успеете поймать взглядом сей мгновенный проблеск благодатного огня, той искры божьей, что дремлет в душе каждого из нас. С мистером Фолсгрейвом происходило сейчас ровно то же самое. На пятьдесят миль окрест не нашлось бы другого дома, который он посещал бы с большей охотою, чем особняк поместья Седельные Луга; и хотя то дело, что привело его сюда нынче утром, не могло доставить ему ни капли удовольствия, оно, тем не менее, вовсе не было предметом его теперешних мыслей. Перед ним стояла та, кто была одновременно и самая благородная, и самая прекрасная леди во всем графстве, а рядом с нею – самый славный, благоразумный и приятный юноша из всех, кого он знал. Перед ним также стояла та, кто была великодушной основательницей и всегдашней покровительницей красивой маленькой церкви из мрамора, кою его преосвященство, епископ, освятил не далее как четыре года тому назад. Перед ним также стояла его благодетельница – хоть все это и было обставлено благопристойно, чтобы не слишком бросалось в глаза, – та самая, из кошелька которой, как он догадывался, шла львиная доля его жалованья, что условно поступало от сборов церковной десятины. Он был зван на завтрак, отведать те кушанья, кои для богатой семьи, живущей в деревне, составляют главную отраду жизни; в легчайшем паре, что исходил из серебряного кофейника, он чуял ноздрями все ароматы ямайских пряностей и отлично знал, что кофе, который ему вскоре предложат, будет превосходен на вкус. Прибавьте же к этому, да еще тысяче других тому подобных обстоятельств такой факт: ему было отлично известно, что миссис Глендиннинг принимает его с особенною благосклонностью (пусть и недостаточною для того, чтобы взять его в мужья, как он уже раз десять убеждался на своем горьком опыте) и что Пьер, как он знал, тоже не отказывает ему в искреннем уважении.
А его преподобие и впрямь был достоин всяческого уважения. Мать-природа с истинно королевскою щедростью осыпала его своими дарами. В такие минуты, как теперь, когда он был счастлив, лицо его лучилось сладкою и кроткою добротой; он отличался отменным здоровьем и благообразием; а его на диво маленькие ступни, да свойственная ему почти девичья мягкость, да заметная белизна и ухоженность рук явно не соответствовали его тонкой талии и его росту. Поскольку в таких странах, как Америка, нет особой касты породистых джентльменов, нет сословия, которому длят жизнь при помощи искусственного отбора, что равно подходит для выведения скаковых лошадей и благородных лордов далеких королевств; и особенно легко заметить это в наших земледельческих округах, где на сто рук, что опускают свой бюллетень в избирательную урну, выбирая президента, девяносто девять рук окажется потемневшими от солнца и огрубевшими от черной работы; в тех краях эдакие холеные пальчики – да в сочетании с бравым видом мужчины – вызовут немалое удивление, неведомое ни одному европейскому народу.
Этому приятнейшему пастору ничуть не вредила мягкость его манер, что были светскими и ненавязчивыми, а главным образом – вкрадчивыми, притом без малейшей тени лукавства или претенциозности. Сами Небеса избрали его элегантную, сребролюбивую особу своею флейтой, чрез которую в наш мир струятся божественные мелодии; а звучание у его преподобия было почти совершенным. Его грациозные жесты подчинялись той же гармонии, что и птичьи трели. Казалось, вы не просто видите его, но слушаете, точно музыку. Столь поразительным было его сходство с каким-нибудь потомственным джентльменом, что миссис Глендиннинг неоднократно указывала на него Пьеру как на блестящий образец благодатного влияния христианской веры, что облагораживает ум да придает манерам светского лоска; объявляя во всеуслышание, что пусть, дескать, это могут счесть экстравагантным, а она всегда держалась того же убеждения, что и ее отец, убеждения, что ни один мужчина не может считаться настоящим джентльменом и гордо возглавлять свой стол, если он не ходит к мессе. И в случае с мистером Фолсгрейвом сии утверждения не были полным абсурдом. Будучи сыном захудалого северного фермера, который взял в жены хорошенькую швею, его преподобие не исчислял родословную чередою знатных предков, на коих он мог бы сослаться как на основание и объяснение своей красивой внешности и манер джентльмена; тогда как последние были обязаны, во-первых, его прирожденному сознательному стремлению их шлифовать и, во-вторых, тому, что он, исполняя обязанности священника, любил вращаться в обществе самых изысканных дам, каким бы маленьким ни было то общество, на кое он смотрел всегда как на лучшее в жизни развлечение. И если поведение его было столь под стать его особе, то его ум и вовсе подходил к ним обоим, так как в нем одном заключалась лучшая разгадка и того и другого. Помимо того, что он, вещая с кафедры, произносил проповеди с убедительным красноречием, его многочисленные журнальные статьи на темы природы, искусства и литературы говорили не только о его благородном влечении к прекрасному, зримые ли то были красоты или незримые, все едино, но также давали представление о том, что их автор, воспевая такие предметы, обладает большим дарованием, кое менее праздному и более честолюбивому человеку давно бы уж принесло славу сносного стихотворца. В ожидании, что это произойдет как-то само собою, мистер Фолсгрейв провел свои лучшие молодые годы – те самые годы, что для человека, как он, и есть плодотворнейшие, а в глазах женщины зрелых лет они самые что ни на есть привлекательные в жизни мужчины. Красота, грация и сила молодости еще не покинули его окончательно, да и года не принесли ему ни одной немощи, хотя прекраснейший первый цвет жизни – ее отзывчивость и ее мудрость – давным-давно обогнали его, словно благонравные камергеры, что шествуют впереди портшеза какого-нибудь колченогого короля.
Вот каков был сей мистер Фолсгрейв, что теперь завтракал за столом у миссис Глендиннинг, заложив уголком за свой белоснежный воротничок одну из принадлежащих нашей щедрой леди салфеток, коя укрывала его чуть ли не до пят, спадая вниз на ту же длину, что и концы скатерти; и его преподобие казался в ней святым пастырем, не иначе, который завтракает прямо в стихаре[84].
– Прошу, мистер Фолсгрейв, – сказала миссис Глендиннинг, – отрежьте мне кусочек этой булочки.
Опыт ли служения пастором удивительным образом облагородил и придал столь простой задаче, как отрезать хлеба, символический смысл, и или то была чистая ловкость рук, ясно одно: в этом пустяковом деле мистер Фолсгрейв обнаружил манеры, кои немного напомнили те, что издавна были подмечены Леонардо[85], хотя мы со своей стороны вовсе не делаем этому мастеру ни единого недостойного намека на его божественную живопись. Когда Пьер стал всматриваться в лицо пастора, который, вкушая пищу, имел вид смиренного агнца, словно сама белолицая невинность, с незапачканными руками и повязанная обеденной салфеткой, приняла сей облик; и когда он ощутил, будто легкое дуновение, кроткие лучи человеколюбия, что исходили от его мужественной и благолепной персоны; и когда он вспомнил все то хорошее, что знал об этом человеке, да все хорошее, что о нем слышал, а в его характере не обнаружил ни одной порочной черты; и когда он, утопая в своем горе и отчаянии, мыслил, что найдет в мистере Фолсгрейве воплощенное добросердечие и велелепное, лучезарное великодушие, тогда-то его и осенила мысль, что если есть на свете живая душа, коя в силах подать ему, в его несчастье, должный совет, и если к кому и может прибегнуть за помощью добрый христианин, когда надежды у него почти не осталось, так это к той особе, что ныне восседает напротив него.
– Мистер Глендиннинг, – весело сказал мистер Фолсгрейв, в то время как Пьер все еще молча соображал, какую бы ему предложить тему для беседы, – не позволяйте мне вести себя с вами нескромно – примите мои извинения, но, по мне, вы этим утром – лишь самую малость вы. Прескверный каламбур, я знаю, но, – тут он повернулся к миссис Глендиннинг, – если кому-то доставили великую радость, его почему-то так и тянет говорить одни глупости. Счастье да глупость – ах, совпадение, право же, подозрительное.
– Мистер Фолсгрейв, – промолвила хозяйка дома, – ваша чашка опустела. Дэйтс!.. Вчера мы с вами, мистер Фолсгрейв, толковали о деле, что касается этого гнусного типа, Неда.
– Да, мадам, – немного смущенно отозвался джентльмен.
– Отныне чтоб и духу его не было в моих землях; я настроена решительно, сэр. Мерзавец!.. Или нет у него жены, что столь же добродетельна и прекрасна, как и в тот день, когда я дала им свое согласие, а вы скрепили их брачный союз пред алтарем?.. Это же чудовищное и непостижимое беспутство.
Его преподобие ответил мрачным и одобрительным склонением головы.
– Люди, как он, – продолжала леди, покраснев от самого праведного негодования, – в моих глазах гораздо хуже всяких убийц.
– Ну, вы уж к ним чересчур жестоки, моя дорогая мадам, – произнес мистер Фолсгрейв мягко.
– Ты же согласен со мною, не так ли, Пьер, – промолвила леди серьезным тоном, обернувшись к сыну, – что человек, который предавался такому греху, как Нед, куда хуже убийцы? Он пожертвовал честью одной женщины… и навлек позор на другую… на них обеих… каждую из них запятнал… Если его сын, рожденный в законном браке, возненавидит его теперь, я не стану его осуждать.
– Моя дорогая мадам, – вымолвил его преподобие и по примеру миссис Глендиннинг взглянул ее сыну в лицо и, заметив на нем непонятное волнение, так и впился в него глазами, стараясь угадать, какую такую эмоцию Пьеру не удалось вполне скрыть. – Моя дорогая мадам, – сказал он, немного подавшись вперед всем своим станом, достойным иного епископа, – возможно, защищая добродетель, вы в пылу чувств хватили через край, очень уж вы разгорячились, но мистер Глендиннинг, смотрите-ка, будто вовсе охладел. Мистер Глендиннинг, не откажите в любезности да поделитесь с нами вашими взглядами.
– Я не склонен сейчас говорить о том человеке, – произнес Пьер медленно и не глядя на обоих своих слушателей, – давайте сразу перейдем к Дэлли и ее ребенку… у нее же был или есть от него ребенок, как я где-то слышал… их участь и впрямь жалкая.
– Мать этого заслуживает, – сказала леди жестким тоном. – А что до ребенка… ваше преподобие, сэр, ну-ка, напомните, что в таких случаях говорит нам Библия?
– Карающий детей за вину отцов до третьего колена[86], – сказал патер с легким неудовольствием в голосе. – Но, мадам, это же вовсе не значит, что обществу позволено забирать правосудие над детьми в свои охочие руки, да еще с мыслью, что оно есть правомочный вершитель неисповедимой воли Божией. Ибо если сказано, что плоды гнусных грехов отцов падут на детей и будут преследовать их из рода в род, то из этого никак не следует, что наша субъективная и деятельная ненависть к греху должна от злокозненного грешника переметнуться на его невинное дитя.
– Я понимаю вас вполне, сэр, – сказала миссис Глендиннинг, слегка порозовев, – вы думаете, я чересчур строга. Но если мы закроем глаза на то, кем были родители этого ребенка, и будем всячески заботиться о нем, как заботились бы о любом другом, и благоволить к нему во всем, да и не станем указывать на его позорное клеймо, как же тогда соблюсти библейскую заповедь? Да не препятствуем ли тогда мы сами ее соблюдению и вправе ли мы лишать плод греха нашего порицания?
Тут уже патер залился легкой краской, и его верхняя губа слегка задрожала.
– Прошу меня извинить, – произнесла миссис Глендиннинг, и далее повела свою речь в более учтивом тоне, – но если за его преподобием мистером Фолсгрейвом и водится какой грешок, так это его добросердечие, которое изрядно подточило в нем святую строгость в следовании догматам нашей Церкви. Что же до меня, то я питаю отвращение к прелюбодею и его блуднице и никогда не пожелаю удостоить взглядом их ребенка.
В беседе вышла пауза, и, к счастию для Пьера, как это всегда бывает в таких обстоятельствах, как нынешние, все трое, находясь под властью чар светского обычая, изучали взглядами скатерть; все трое ненадолго отдались течению своих нерадостных мыслей о предмете споров, а мистер Фолсгрейв не без раздражения думал, что обсуждение последнего становится немного затруднительным.
Пьер был тот, кто заговорил первый; как и прежде, он избегал смотреть на своих собеседников; и хотя он не обращался к матери напрямую, но какие-то нотки в его голосе подсказывали, что слова его в большей мере относились именно к ней.
– Поскольку мы, кажется, на диво увлеклись разбором нравственной стороны этого печального дела, – сказал он, – так давайте же пойдем дальше; и позвольте спросить вас вот о чем: как тогда поступить детям законным и незаконным – детям одного отца, – когда они вырастут?
При сих словах патер тут же вскинул глаза на Пьера, и во взгляде его читалось столько удивления и непонимания, сколько дозволялось приличиями.
– Ну, ей-богу, – молвила миссис Глендиннинг, дивясь не меньше и ничуть этого не скрывая, – что за небывалые вопросы ты задаешь; сдается мне, ты выказываешь более интереса к предмету, чем я предполагала. Но что ты имеешь в виду, Пьер? Я тебя совсем не понимаю.
– Следует ли законному ребенку гнушаться незаконного, если они дети одного отца? – отвечал Пьер, ниже склоняя голову над своей тарелкой.
Патер вновь потупил взгляд и промолчал; однако сам едва заметно повернулся в сторону хозяйки, словно ожидая, каким-то будет ее ответ Пьеру.
– Спроси людей, Пьер, – сказала с горячностью миссис Глендиннинг, – да спроси свое сердце.
– Мое сердце? Непременно, мадам, – отозвался Пьер, твердо встречая ее взгляд. – Но каково ваше мнение, мистер Фолсгрейв? – продолжал он, снова опуская глаза. – Неужто первому следует бежать общества второго; неужто первому следует отказать второму в своем благороднейшем сострадании и чистой любви, особливо если у второго больше не осталось никого в целом свете? Что, думаете вы, ответил бы в этом случае наш благословенный Спаситель? И что он с такою добротой сказал блуднице?
Кровь бросилась патеру в лицо, залила даже его широкий лоб; он слегка заерзал на стуле, переводя неуверенный взгляд с Пьера на его мать. Он был подобен ловкому, добродушно настроенному человеку, который нежданно-негаданно очутился меж двух огней – двух противоположных мнений – и собственное мнение которого полностью раздвоилось, но он все еще остерегается высказать это вслух, ибо в нем слишком сильна нелюбовь ко всяческим громким заявлениям о своем явном несогласии с честными убеждениями любой особы из тех, кого он особенно чтил и по их положению в обществе, и по их нравственным качествам.
– Ну, так что же вы ответите моему сыну? – сказала, наконец, миссис Глендиннинг.
– Мадам и сэр, – произнес патер, вновь обретя все свое самообладание, – это одна из обид, кою терпим от общества мы, слуги церкви, ибо все свято верят, что о моральных обязательствах рода человеческого нам ведомо гораздо больше, чем остальным людям. Паче того, и мирянам сие чинит немалый вред, если в частном разговоре мы случайно обмолвимся о своем личном отношении к сложнейшим вопросам морали, кое они всегда готовы принять за предписание, будто бы косвенно исходящее от самой церкви. Нет ничего вредоноснее этаких суждений; и потому ничто не может смутить меня сильнее и лишить всякой ясности мысли, коя столь необходима, если собираешься выразить взвешенное мнение о какой-то моральной проблеме, как неожиданные вопросы на ту же тему, что ни с того ни с сего мне порой задают в обществе. Прошу простить за это долгое вступление, но мне нечего больше добавить. Не на каждый вопрос, мистер Глендиннинг, каким бы простым он ни казался, можно ответить по совести лишь «да» или «нет». Все вопросы морали формируются мириадами случайностей; так что хотя наша совесть вольна заявлять нам о своих правах в любом деле чрезвычайной важности, но все-таки, согласно тому универсальному принципу, что объемлет все прочие случайности, возникающие на почве морали, то, что вы предлагаете, не только невозможно, но даже пытаться осуществить сие, по моему мнению, будет весьма глупо.
В тот же миг у патера сползла вниз его похожая на стихарь обеденная салфетка и открыла всем взорам приколотую к его воротничку миниатюрную, но превосходно сделанную брошь с камеей, где резец запечатлел символический союз голубка со змеей. То был подарок любезного друга, и его преподобие прикалывал эту брошь лишь в тех случаях, как нынешний, когда надо было выйти в свет.
– Соглашаюсь с вашим мнением, сэр, – сказал Пьер, поклонившись. – Я полностью с вами согласен. И теперь, мадам, давайте поговорим о чем-нибудь другом.
– Нынче утром вы называете меня «мадам» с завидной неутомимостью, мистер Глендиннинг, – сказала его мать, улыбаясь с легкой горечью и почти не тая, что немного уязвлена и еще больше того потрясена холодностью Пьера в обращении с нею.
– Почитай отца твоего и мать твою[87], – отвечал Пьер, – обоих: и отца, и мать, – невольно прибавил он. – И так как дело это меня очень тронуло, мистер Фолсгрейв, и поскольку нынче утром мы с вами столь удивительным образом разошлись во взглядах, так позвольте заметить, что, если про заповеди справедливо сказано, что лишь они одни оставлены нам Богом, тогда, выходит, никакие непредвиденные обстоятельства не должны мешать нам их соблюдать. Тогда получается – не так ли, сэр? – что самый лживый и лицемерный изо всех отцов должен почитаться своим сыном так, будто он святой.
– Несомненно, так и получается, коли следовать строгой букве Декалога[88], несомненно.
– И убеждены ли вы, сэр, в том, что заповедь эта должна пониматься буквально и так и соблюдаться в нашей жизни? Ради примера – почитать ли мне отца своего после того, как я узнаю, что он был совратителем?
– Пьер! Пьер! – закричала его мать, сильно покраснев и привстав со своего места. – Нет никакой нужды в таких допущениях. Нынче утром ты совершенно забылся.
– Все это только в интересах общей полемики, мадам, – отвечал Пьер холодным тоном. – Прошу меня извинить. Если прежнее ваше возражение, мистер Фолсгрейв, здесь неприменимо, не окажете ли вы мне честь, ответив на такой вопрос?
– Ну вот, вы сами снова, мистер Глендиннинг, – отозвался его преподобие, благодарный Пьеру за его подсказку, – делаете мне вопрос о моральной проблеме, на который просто немыслимо однозначно ответить, да еще так, чтоб тот универсальный ответ устроил бы всех. – И его салфетка-стихарь вновь соскользнула вниз.
– В таком случае я вновь ограничусь молчаливым порицанием, сэр, – произнес Пьер медленно, – но готов признать, что, быть может, вы снова остались правы. А теперь, мадам, поскольку вам с мистером Фолсгрейвом нужно уладить одно небольшое дело, ради которого мое дальнейшее присутствие не только необязательно, но даже может оказаться вовсе излишним, то позвольте откланяться. Я отправляюсь на длительную прогулку, а посему вам не стоит ждать меня к обеду. Доброго утра, мистер Фолсгрейв, доброго утра, мадам.
Едва за ним закрылась дверь, мистер Фолсгрейв заговорил:
– Мистер Глендиннинг показался мне сегодня немного бледным… уж не заболел ли он?
– Насколько мне известно, нет, – отозвалась миссис Глендиннинг равнодушно, – но разве вы когда-нибудь встречали другого такого царственного джентльмена, как он! Чудо как хорош! – И она добавила вполголоса: – Что бы это могло значить… все «мадам» да «мадам»?.. Но ваша чашка вновь опустела, сэр. – Она сделала легкий жест.
– Нет-нет, благодарю, мадам, – отвечал патер.
– Мадам? Прошу, не зовите меня больше «мадам», мистер Фолсгрейв, ибо с некоторых пор я испытываю к сему обращению невольную ненависть.
– Позволите ли тогда величать вас Ваше Величество? – спросил патер галантно. – Титул Королевы Мая не годится, так пусть же будет Королева Октября.
Тут леди рассмеялась.
– Идемте, – сказала она, – давайте пройдем с вами в другую комнату да уладим дело с этим распутным Недом и несчастной Дэлли.
V
Девятый вал душевной бури, что вместе с первым потрясением обрушился на Пьера всей своею тяжестью, не только наполнил его душу буйством совершенно новых образов и эмоций, но на какое-то время почти полностью вытеснил оттуда все прежние. Все, что каким-либо образом имело прямое отношение к многозначительному факту существования Изабелл, все это беспокойными и живыми видениями вставало пред его мысленным взором; однако все то, что относилось более к нему самому да к его собственному положению, кое отныне было неразрывно связано с положением в обществе его сестры, вот это-то как раз и представлялось ему гораздо менее четко. Гипотетическое прошлое Изабелл имело некую тайную связь с его отцом, и посему воспоминанье об отце тиранически довлело над его воображением, а возможное будущее Изабелл было столь заметно, хоть и косвенно, скомпрометировано заранее, какой бы линии поведения его мать, по своему неведению, ни придерживалась в отношении него самого, ибо с этого дня, через посредство Изабелл, он навеки порвал с нею, – вот к каким размышлениям его привели горячечные выступления миссис Глендиннинг в его присутствии.
В конце концов, небеса проявляют чуть-чуть милосердия к человеку, пораженному несчастьем, и не совсем нетерпимы к человеческой натуре ужаснейшие ураганы судьбы. Когда со всех сторон, куда ни глянь, бушуют гибельные шквалы, коим и конца и края не видать в том шторме, что породил их, человеческая душа избирает одно из двух: или бессознательно убеждается, что ей не под силу в одиночку одолеть эдакое множество, или же, к счастью для себя, попросту слепнет под широкими сводами круговерти бед, кои, наступая отовсюду, берут ее в грозное кольцо, – что бы ни было правдой, но человеческая душа, пребывая в такой облаве, не может и никогда не сможет разом противостоять всему сонму своих несчастий. Это горькое питье сама жизнь делит для человека на несколько порций: сегодня он делает первые глотки из чаши горя, назавтра пьет снова; и так до тех пор, пока сосуд не опустеет.
Несмотря на то что Пьеру хватало иных причин для горестных раздумий, нельзя сказать, что его не посещала мысль о Люси и ее неизбывных страданиях, источником коих он вскоре мог стать по причине зловещей неопределенности его собственного будущего, кое отныне и в значительной степени он, не считаясь ни с чем, посвятил Изабелл; нет, нельзя сказать, что думы о Люси были ему совсем уж чуждыми. Холодная как лед и скользкая как змея, мысль о ней слишком часто вкрадывалась в другие его знобящие размышления; но эти же самые другие размышления неизменно заслоняли ее собой и поглощали, и потому она, в конце концов, скоро пропадала с горизонта его сознания. На мысли, что властвовали над его сердцем и были связаны с Изабелл, Пьер взирал теперь подготовленным и открытым взором; но когда случайная мысль о Люси, когда эта мысль невзначай приходила ему на ум, он только и мог, что прятать смятение глаз в своих дрожащих ладонях. То была не трусость глупца, а необычайная чувствительность его сердца. Он мог выносить гнетущие мысли об Изабелл, ибо сразу же принял решение помочь ей и смягчить горе божьего создания; но с тех пор малейшая мысль о Люси была ему нестерпима, поскольку тот самый замысел, что сулил утешение для Изабелл, каким-то неясным образом нес угрозу постоянному душевному миру Люси, и потому, что было хуже всего, сей замысел требовал чего-то большего, чем простое человеческое счастье.
Везение Пьера заключалось в том, что эти дурные предчувствия касательно будущего Люси были в его сознании словно выведены угольным карандашом, и оттого те мучительные образы стирались из его мыслей так же легко и скоро, как и появлялись там. А он сам в некотором замешательстве стоял на горной вершине своей судьбы, и всю ту часть широкой панорамы жизни, что имела отношенье к Люси, окутывали облака, непроницаемые для его взора; но вот эти плотные облака вдруг расползались в стороны или, вернее сказать, в них ненадолго возникали просветы, и тогда видно было, как далеко внизу, наполовину утонувши в тумане, клубящемся понизу, расстилается мирный извилистый дол да бежит ключевой ручей прежней счастливой жизни Люси; и в том летящем облачном просвете Пьер ловил мимолетное видение ее ангельского личика, что, поджидая его, выглядывало из окна коттеджа, у коего росла цветущая жимолость; но в следующее мгновение гряды грозовых облаков смыкались вновь, и, как и прежде, все затягивалось белесою мглою; и, как и прежде, все терялось в крутящемся вихре облаков да испарений земли. В невольном порыве одного лишь вдохновения, снизошедшего из областей, недоступных человеческому взору, Пьер собрался с духом, чтоб написать то первое, полное неясностей, объяснительное послание к Люси, в коем и сдержанность, и кротость, и безмятежность были не чем иным, как естественными, хоть и коварными предвестниками громовых ударов, что будут следовать один за другим.
Но хотя все это по большей части и было отделено от его сознания и проницательности туманной пеленою, тем не менее думы о душевном состоянии его Люси, которая, должно быть, сейчас искренне огорчена, все яснее и яснее проступали и проглядывали из близкого тумана и даже из-под верхних туч. Ибо когда непостижимый трепет вдруг пробегает по струнам человеческой души, наши нежные чувства не всегда отзываются на это неким обдуманным шагом, но, как и все прочие незримые силы, они дают о себе знать лишь в наших самых важных решениях и поступках. Невиданно бурная, пугающе стройная и слаженная душевная работа ныне совершалась в сердце Пьера, где, как он сам знал, царил полный разлад. Его сознательные стремления были повинны в том, что печальная Изабелл вырвалась из своего плена вселенского одиночества, в то время как на далеких глубинах да в тайных покоях его ни о чем не подозревающей души томилась Люси, некогда улыбчивая, а теперь помертвелая и ставшая белее снега, водворенная туда ради выкупа за спасение Изабелл. Око за око, и зуб за зуб. Такова всегда безжалостная и равнодушная судьба, что выступает воистину бессердечным дельцом, когда торгует радостями и страданиями человеческими.
Нельзя сказать, что это было обыкновенное и непроизвольное утаивание от себя самого всех важнейших интересов его любви, кое было бы неизбежно связано с Изабелл и его решимостью относиться к ней с уважением, как нельзя сказать и того, что побуждение это получило поддержку да подсказку от его же здравого смысла, в то время как надо всем властвующий сам господин случай так распорядился, чтоб этому здравому смыслу позволено было на сей раз выкинуть какую-то небывалую штуку. Пьер просто не мог не знать, что все его раздумья о Люси были теперь бесполезны и даже хуже того. Как было ему ныне строить планы да по навигационным картам жизни чертить путь для его с Люси свадебного парусника, если все его настоящее скрылось в непроглядно-белом тумане и бушующих волнах! Более того, если он поступал по божьему наущению, кое, как он думал, снизошло на него; если то божий глас провещал ему поддерживать Изабелл и защищать ее от всех мыслимых превратностей времени и судьбы, как ему было уберечь себя от вероломных порывов эгоизма да сохранить незапятнанными все свои великодушные побуждения, если хоть раз проявить слабость и позволить мучительным мыслям о Люси затеять с Изабелл борьбу за право безраздельно царить в его душе?
И если он был почти готов – хоть прежде он и сам об этом не подозревал, – подобно некоему страстотерпцу, принести в жертву то, что было ему всего дороже и отринуть последние надежды на обыкновенное счастье, коль они станут противоречить его благородному прекраснодушному решению, если таким он и был всегда, то как же тогда могли эти невесомые, словно осенние паутинки, и более тонкие и неосязаемые, чем легчайшие нити кисейного полотна, как могли эти обычные традиционные узы его удержать – его сыновний долг перед матерью, торжественные обряды и заповеди его религии да уважение к руке и клятве его нареченной?
Все эти предположения не то чтобы сразу и непременно в таком свете возникли у Пьера, однако они уже начали у него зарождаться. Семена высокого откровения упали в плодородную почву его разума, и под легким ветерком волновалось ныне целое поле зеленых всходов, вызывая столь мучительный, неясный отклик волнения в его душе; но когда эти всходы заколосились и приспело время собирать урожай больших дел, они отвергли любую близкую связь с Пьером, а все самые дорогие чаяния его сердца они загубили на корню.
Вот так в энтузиасте долга и родился богочеловек Христос; и не было у него смертного отца, и презрел и разорвал он все свои земные связи.
VI
Одна ночь, один день и небольшая часть грядущего вечера даны были Пьеру на то, чтоб он мог подготовиться к важному разговору с Изабелл.
Ну, слава богу, думал Пьер, ночь миновала, ночь хаоса и гибели, и теперь только день да подол вечера мне и остались. Пусть небеса заново отладят струны моей души да укрепят меня в том Христовом чувстве, что я впервые почуял в себе. Пусть я, имея даже самые запутанные мысли в голове, буду, как и прежде, следовать неизменному правилу священного права. Я не позволю ни единому подлому, недостойному искушению стать мне сегодня поперек дороги; я не позволю ни единому предательскому камню преградить мне путь. Ныне я покидаю списки живущих и иду в дубравы слушать голоса величественных лесных великанов, которые, как мне теперь кажется, имеют более благородное происхождение, нежели сыны человеческие. Под высокими лиственными сводами сих дерев в душу мою сойдет благочестие, а когда нога моя ступит на их могучие корни, то сила бессмертных заструится по моим жилам. Направьте же меня, просветите меня, защитите меня ныне, о вы, верховные божества леса! Наложите на меня вериги, кои не по силам мне будет разорвать, велите всем мрачным соблазнам удалиться от меня; сей день навеки меня избавил от ненавистных и фальшивых суждений подходящей лжи да вынужденных отговорок всей подпорченной и подмоченной морали, какая ни есть на этом свете. Сотворите меня огнем палящим, что пройдет по ним[89]; пусть жизнь моя станет пушечным зевом, который вы зарядите до отказа порохом вашей решимости. Пусть в сей день ни одна сирена в мире не дерзнет рассыпать при мне сладкозвучные трели и сманивать на сторону мою стойкость. Да будет ныне и навеки брошен мой жребий, о вы, могучие[90]. Я столь глубоко верю вам, о вы, незримые лесные божества, что ставлю на кон целых три счастья, целых три жизни в один этот день. О, если вы теперь меня покинете, прощай, вера, прощай, правда, прощай, Бог; коль скоро и Бог, и человек отказывают мне в своем одобрении, я объявлю себя силою, равной им обоим; я буду волен воевать с ночью и днем, да и со всеми мыслями и созданиями разума и материи, коих объемлют верхние и нижние небесные своды!
VII
Но хотя Пьер весь пылал небесным гневом, сам он оставался смертным, сотворенным из праха земного. Ах, эти мушкеты, коим боги предназначали разить праведным огнем, но коим они же сделали дула из обыкновенной глины!
Не дай мне бог держаться в границах одной только правды, что делал я до сих пор. Каким бы путем мне проникнуть еще глубже в сердце Пьера да показать вам, как сие небесное пламя вспыхнуло в нем по воле простых случайностей и тайн, коим он не находил разгадки. А я последую за извивами нескончаемого потока – стремительной реки, что течет в пещерах человеческого разума; последую, не мысля о том, куда несут меня ее воды, не заботясь о том, где будет гавань моя.
Иль красота двойницы – пусть и хранила она печальное молчание – не была пленительной, колдовской? О, эти дивные бездонные очи, что струили чудесное сияние! В сии завораживающие глубины скорбь и красота вошли и погрузились вместе. Таким прекрасным, таким таинственным, таким неизъяснимо чудным было ее лицо; оно безмолвно возвещало о печали, неизмеримо более дорогой сердцу и более желанной ему, чем любая радость; то был облик милого мучения, то было трогательное и прелестное лицо, то было лицо родной сестры Пьера, то было лицо Изабелл – это она двойницею являлась Пьеру, и от ее очей, струящих дивный свет, не мог отвести взора наш Пьер. И посему, заранее и загодя до условленной встречи, он уже свято уверовал в то, что не женское уродство, но женская красота призывала его стать на ее защиту. В этой книге, воистину правдивой, я ни о чем не умолчу. Иль Пьер преклонил бы слух, ежели в каком-нибудь подозрительном переулке кинулась бы к нему хромая и горбатая уродина, хватая его за край одежды да вопя: «Спаси меня, Пьер, люби меня, признай меня, брат, я твоя сестра!..»? Ах, если в сотворении человека участвовали одни лишь небеса, отчего же мы тогда столь падки на адские соблазны? Отчего и в благороднейшем мраморе самой чистой на свете колонны, что высится под сенью бескрайних небес, всегда умеем мы отыскать мрачные прожилки? В нас велико портретное сходство с Богом, и, хотя течение наше могло сильно помутнеть в тех землях, чрез которые бежала наша река, все же у истоков ее, там, откуда пошло человечество, наш поток и поныне знаменует себя чистым фонтаном.
И посему пусть никто не вымолвит ни единого резкого слова, ни единого упрека, обращенного к Пьеру, смертному мужу. Я бы мог без малейшего труда скрыть от вас все это и всегда предлагать его вашему суду как пример совершенства и незапятнанности, изобразить его равнодушным к искушениям жизни и непохожим на большинство обычных мужчин. Мой Пьер делает вам больше искренних признаний, чем на то способны лучшие мужчины, когда они остаются наедине со своей совестью. Мой Пьер – сама неосторожность и великодушие; поэтому и только поэтому вы увидите его слабости. Умолчаниями создаются образы величавых героев, а не путем исповеди. Тот, кто решился быть честным до конца, пусть он благороднее даже самого Итана Аллена[91], тому не избежать насмешек со стороны зауряднейших смертных.
Глава VI ИЗАБЕЛЛ И ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ИСТОРИИ ИЗАБЕЛЛ
I
Некая часть души Пьера желала, чтобы назначенный час поскорее настал; другая же часть души дрожала при мысли, что условленное время с каждой минутой все ближе и ближе; не пролив ни слезинки, но промокнув насквозь под дождем в этот хмурый день, Пьер, когда на землю пал вечерний мрак, покончил с долгими блужданиями в первобытных лесах Седельных Лугов и вышел к опушке, да замер на миг, стоя под зеленой лесною сенью.
Там, где он стоял, брала свое начало нехоженая тропа, ведущая в глубь леса, по которой ездили лишь зимнею порой да на санях, где растущие на опушке деревья сплелись ветвями, образуя узкую арку и мнимые ворота, что вели на далекие пастбища, кои вольно раскинулись на спуске к озеру. В тот дождливый и туманный вечер одинокие озябшие вязы на выгоне, казалось, терпеливо переносили свое пребывание в этом негостеприимном краю, словно их пригвоздило к месту чувство необъяснимого долга. А вдалеке, за пастбищами, виднелась водная ширь озера, и немая и черная его гладь не волновалась ни ветерком, ни дуновением, безмолвно покоилось озеро в своих границах, и ни единый куст, ни единая травинка не росла на пустынных его берегах, не отражалась в водах. Тем не менее в том озере можно было видеть повторение неподвижного неба над головой. Только в солнечные дни водная гладь озера ловила отражения пестрой, яркой зелени, и тогда они вытесняли собою отражаемое в этих водах молчание безликих небес.
С обеих сторон – в далекой дали, да на том берегу тихого озера и за тридевять земель от него – вздымалась длинная цепь таинственных горных массивов; густо поросли они лесом из сосен и тсуг, эти таинственные вершины, кои окутывали неведомые дивные туманы, и на фоне тусклого неба они выделялись черными громадами мрака и ужаса. У подножия тех гор раскинулись самые дремучие зачарованные леса, и из их чащи, где в глубинах пещер гнездились совы да прели прошлогодние листья и где даром пропадали никому не ведомые избытки разлагающейся древесины – а между тем в иных краях, не имея из того богатства даже крохотной щепки, гибло столько бедняков, – из первобытных дебрей тех непроходимых лесов неслись стонущие, бормочущие, грохочущие, прерывистые, изменчивые звуки: то был и стук дождевых капель по трухлявому дереву, и сход оползня, и треск да окончательное отпадение прогнивших сучьев, и дьявольская молвь лесных духов.
Но на более близком расстоянии, на этом берегу неподвижного озера, что разлилось в том месте полукругом и подмывало пологий склон, где уходили вдаль кукурузные поля, там стоял маленький и низенький красный фермерский дом; его древняя крыша была ложем ярчайшего мха, и его северный фасад (где от постоянного дыхания норда лишайники разрастались еще пуще) также оброс мхом, словно кора на северной стороне какого-нибудь гигантского широкоствольного клена в роще. С одной стороны к дому примыкал навес под двускатною крышей, коя покоилась на решетке, столь густо заросшей зеленой растительностью, что она и сама искала опоры, да поплатилась за это богатым вознаграждением от свободно разросшейся зелени, один из могучих побегов которой обвился вокруг кирпичной дымовой трубы и возвышался над нею, колеблемый ветром, словно оплетенный плющом громоотвод. С другой стороны дома вы видели невысокую пристройку, то была молочная кладовая, ее стены скрывались под густою сетью лоз винограда мадера; и, будь вы достаточно близко да проникни взором в сию зеленую темницу из сплетения виноградных лоз да через легкие деревянные ламели старых жалюзи, что закрывали маленький оконный проем, вы бы увидели тихих и кротких пленных: молочные бидоны, и снежно-белые немецкие сыры в ряд, и заплесневевшие золотистые бруски масла, и кувшины белых сливок. Три строевые исполинские липы стояли на страже у этого дома, что утопал в зелени. Стволы тех лип оставались гладкими и почти без листвы вплоть до конька крыши, но затем все три разом переходили в густую крону, напоминающую перевернутый вверх тормашками конус с округлым основанием, словно гигантский воздушный шар.
Стоило Пьеру разглядеть сей дом, как он уж не мог отвести от него глаз и весь затрясся. Его взяла дрожь не только при мысли о том, что он вот-вот встретится с Изабелл, которая здесь обрела тихую гавань, но при мысли о двух очень странных и схожих между собою совпадениях, что принес ему нынешний день. Когда этим утром он спускался к завтраку под руку с матерью, его сердце переполняли дурные предчувствия, каково-то будет ее высокомерное мнение о таком бедном создании, как Изабелл, коя нуждалась в ее материнской любви, – и вот, подумать только! к ним пожаловал его преподобие, мистер Фолсгрейв, и все они стали судить Неда и Дэлли, и столь похожей оказалась их история на ту, кою Пьер собрался было поведать матери, что он отчаялся и не знал, как описать ей те события во всех их нравственных аспектах, ибо уже знал прекрасно ее взгляды на сей предмет, и, таким образом, он укрепился в своих прежних предположениях, ибо в его присутствии все дело обсудили от начала и до конца, и посему, благодаря этому странному совпадению, он в совершенстве знал теперь точку зрения матери и получил предостережение, словно наущение свыше, что ни под каким видом нельзя ей признаваться ни в чем. Вот что произошло в то утро, а теперь, когда в наступивших сумерках он бросил беглый взгляд на дом, где Изабелл нашла себе пристанище, то сразу же признал в нем фермерский дом их старого арендатора, Уолтера Ульвера, отца той самой Дэлли, которую Нед навеки обесчестил своим бессердечным обманом.
И тогда чувства самого необычайного, почти мистического толка вкрались в душу Пьера. Подобные совпадения, сколь бы они часто ни повторялись, не имеют в себе достаточно силы, чтобы заронить благоговейный трепет в сердца менее податливых, менее поэтических и склонных к размышлению сынов человеческих, однако они всегда наполняют натуры с более тонкой душевной организацией множеством переживаний, кои выходят за рамки всех словесных выражений. Тонкие натуры способны постичь сложнейшую загадку жизни. С быстротой молнии ответ сам собою возникает у них в уме – на то воля случая иль воля Бога? Притом если на душу нашу возьмутся повлиять таким образом, чтоб мы и впредь то и дело становились бы жертвою любой привычной печали, тогда та самая неразрешимая загадка начнет на наших глазах расти и расти, пока вконец не разрастется вширь настолько, чтобы объять необъятный круговорот понятий целой Вселенной. Ибо это известно с давних пор, что, страдая, честные душой люди более всех размышляют о конечных причинах[92]. Когда у таких людей сердце растревожено до самых глубин, то оно встречает полное понимание рассудка, который тоже пребывает в глубоком волнении. Пред лицом сокрушенного печалью человека, буде он мыслитель, бредет в цепях процессия всех минувших веков, и гремят их оковы мириадами звеньев, храня некую мрачную тайну.
Прохаживаясь взад и вперед на опушке, на самой границе длинных теней величественного лесного царства, Пьер пытался, не вдаваясь в подробности, вообразить себе то объяснение, коему суждено было вот-вот состояться. Но совершенно бессильно оказалось здесь его воображение, ибо явь ныне стала для него слишком уж явственною, и двойница, только двойница то и дело возникала у него в мыслях, а за последнее время так привык он, что сия сотканная из воздуха красавица нередко смущает его покой, что едва ль не трепетал мысли вскоре встретиться с нею лицом к лицу.
Но вот уже совсем сгустились вечерние тени, и все вокруг потонуло во мраке, и только три неясных силуэта высоких лип указывали ему путь, когда он начал спускаться с холма, словно плывя по направлению к дому в наступившей тьме. Пьер сам того не ведал, однако ход его мыслей был извивистым, и течение его размышлений будто бы змеилось: словно огибало оно валуны дурных предчувствий, как последние препятствия, воздвигнутые прозаическим благомыслием на пути к исполнению того великодушного решения, что принял он. Его шаги сделались торопливее, когда приблизился он к фермерскому дому и увидал бледный огонь единственного светильника, что теплился в двустворчатом окне. Он прекрасно сознавал, что сам же уходит навсегда прочь сияющего бриллиантовыми огнями канделябров особняка Седельных Лугов, чтобы при тусклом свете жалкой лучины влачить жизнь в нищете и горе. Но тихий глас божий в его душе сладкоречиво провещал ему о лучезарном торжестве божественной правды и добродетели; и пусть всегда скрыты они от наших глаз густыми туманами, что поднимаются от земли, все равно воссияют они в ясных небесах, бросая радужные блики на сапфировый престол Господа.
II
Он подходит к двери, а меж тем в доме царит молчание; он стучит; свет в окне мерцает и исчезает; он слышит, как в глубине дома дверь скрипит на своих петлях; и затем его сердце начинает неистово биться, когда поднимается наружный дверной засов; и вот, держа светильник над своею дивною главой, пред ним предстает Изабелл. Это она. Ни единого слова не слетает с ее уст; ни единой живой души нет с нею рядом. Они заходят в комнату с двустворчатым окном; и тут Пьер опускается на скамью, разом побежденный и физическою слабостью, и душевным смятением. Он поднимает глаза и встречает пристальный взор Изабелл, взор неизъяснимой прелести и одиночества; и вслед за тем звучит ее низкий, приятный, немного прерывистый от рыданий, на диво мелодичный голос:
– Так, значит, ты брат мой… можно ль мне звать тебя Пьером?
Всматриваясь со всей зоркостью, в первый и последний раз изучая внешность таинственной девушки взглядом брата, Пьер не спускает с нее глаз долгое мгновение; и в ее лице, обращенном к нему с мольбой, не только видит он в тот миг чувствительную безымянную швею, но также узнает он нежные черты сходства с портретом своего отца в пору его молодости, и эти черты его отца удивительным образом передались и слились в гармонии с другими, породнились с некими чертами прежде ему неведомой, иноземной красавицы. И тотчас же и память, и предчувствие, и интуиция сказали ему: «Пьер, отбрось осторожность, здесь нет ни малейшего сомнения – это сестра твоя; ты видишь пред собою родную плоть и кровь».
– Так, значит, ты брат мой!.. можно ль мне звать тебя Пьером?
Пьер вскочил на ноги и поймал Изабелл в уверенные объятия:
– Ты! Ты!
Пьер чувствовал слабую дрожь Изабеллы в его объятиях, она склонилась головою к нему на грудь; его всего закрыли, будто струи водопада, темные блестящие потоки ее длинных и ничем не сколотых волос. Отбросив волну ее локонов в сторону, он не мог наглядеться на гибельную красоту ее лица, и им овладела беспредельная печаль. Изабелл лежала на руках его, будто помертвелая; будто бездыханная, ибо смерть оставляет совершенно нетронутыми и затаенное спокойствие, и прелестные черты человеческого лица.
Пьер уж сбирался громко звать на помощь, но тут Изабелл медленно открыла глаза; и он почувствовал, что оцепенение понемногу покидает ее тело и что она мало-помалу приходит в себя, и вновь ощущает он, как ее сотрясает легкая дрожь в его объятиях, словно ее чуть-чуть смущает и настораживает то, что смертный муж позволяет себе так ее обнимать. Пьер молча клянет свой не в меру пылкий нрав да опрометчивость и одновременно преисполняется бесконечным уважением к Изабелл. Он заботливо ведет ее к скамье у двустворчатого окна, и садится с нею рядом, и ждет в молчании до тех пор, пока минует это первое потрясение от их встречи и она станет более спокойной и готовой к тому, чтобы вновь завести с ним беседу.
– Как ты теперь себя чувствуешь, сестра моя?
– Благодарю тебя! Благодарю тебя!
Сладостная, неодолимая сила вновь звучит в музыкальном ее голосе, а также мягкие, чудные нотки иностранного акцента – все вместе кажется Пьеру фантастическим, а меж тем тот голос все более и более завладевает его душою. Он наклоняется и целует ее в лоб, а после чувствует, как ее ручка ищет его руки, и сжимает ее в своей без лишних слов.
Ныне Пьер перенес все свое внимание на то ощущение, кое в нем пробудило сплетение их рук. Он чувствует пожатие этой очень маленькой и загрубевшей, но на диво сильной ручки. И тогда, по одной только натруженности ее рук, он понимает, что дочь его отца все это время должна была тяжким трудом зарабатывать себе на хлеб в том же мире, где он, ее единокровный брат, вел столь праздное существование. Он вновь почтительно целует ее в лоб и, касаясь его теплыми губами, бормочет молитву к небесам.
– Я потеряла дар речи при виде тебя, Пьер, брат мой. Отныне я вся, со всеми моими мыслями и желаниями, навеки останусь пред тобою в неоплатном долгу; где ж мне отыскать слова, чтоб заговорить с тобой? Будь на то воля Божья, Пьер, величайшим благом для меня было бы теперь лечь наземь и умереть. Тогда я обрела бы покой. Будь же снисходителен ко мне, Пьер.
– Всегда я буду снисходителен к тебе, моя возлюбленная Изабелл! Не заговаривай со мною покамест, если это для тебя сейчас наилучшее, если только в силах ты сохранять молчание. Вот это пожатие твоей руки, сестра моя, это и есть самое красноречивое из обращений.
– Я и не знаю, когда же мне заводить с тобою речь, Пьер, а сердце мое по-прежнему переполнено.
– До сокровенных глубин моего сердца я люблю и уважаю тебя, и сочувствие мое к тебе, никогда не угасая, переживет саму вечность!
– О, Пьер, неужто не властен ты меня исцелить от этих грез наяву, спасти от этой неразберихи, что со мною творится? Моя бедная голова все кружится и кружится; и в этом кружении не предвидится никакой передышки. Сама жизнь моя после этого не продлится долго, ибо все чувства стеснились во мне, не находя выхода. Поворожи, чтобы я пролила слезы, Пьер, иначе мое сердце разорвется от мучительного томления – более губительного, чем все мои прежние страдания!
– О вы, властные утолить нашу жажду вечерние небеса, о вы, обильные росою туманы с холмов, пролейтесь над нами дождем! Удар грома прогрохотал, так отчего вслед за ним не идет ливень?.. Пусть она заплачет!
Тогда головка Изабелл склонилась к брату, ища поддержки, и крупные слезы закапали на его плечо; а вскоре Изабелл мягко отстранилась и выпрямилась рядом с Пьером, немного успокоившись.
– Если ты чувствуешь, как мысль твоя замирает на необъятном просторе, ибо она устремилась ко мне, сестра моя, то и я чувствую то же по отношению к тебе. Я и сам едва ли знаю, как мне должно говорить с тобой. Но когда ты смотришь на меня, моя сестра, ты видишь того, кто в душе своей уже дал незыблемые обеты быть для тебя во всех отношениях, до последней крайности, и во всех превратностях судьбы твоим защитником и всеми признанным братом!
– Ныне ты расслышал не один пустой шум общих фраз, но самую заветную песнь, что звучит во глубине моего сердца. Ты обращаешься к человеческому существу, а некое божество должно ответствовать тебе; божественные звуки некой флейты, что играет незримо, должны отвечать тебе, ибо нет сомнений, что твои совершенно невозможные слова, Пьер, нет сомнений, что они не остались неуслышанными на небесах. Блаженство, что далеко превосходит все земные блага, – вот что ждет тебя за это.
– Благословениям, как твои, не остается ничего другого, кроме как вернуться обратно да принести блаженство сердцу той, что вымолвила их. Я бессилен так благословить тебя, моя сестра, как ты благословляешь самое себя, славословя меня, недостойного. Но, Изабелл, если мы станем и далее говорить о первом потрясении при нашей встрече, то наши сердца вскоре покинет последнее мужество. Позволь же мне поведать тебе, кто таков Пьер, и какою жизнью он жил до сих пор, и как будет жить в дальнейшем; и тогда ты будешь во всеоружии.
– Нет, Пьер, это уж мой долг; за тобою право первым узнать мою историю, а после, если пожелаешь, ты разрешишь меня от своего великодушного дара. Выслушай меня теперь же. Волею незримых духов ко мне вернулись силы, но не восстановились вполне, Пьер, с ними не сотворить чудес. Слушай же, теперь я вполне овладела собою, чтобы начать свой рассказ.
Когда в их беседе возникали короткие, периодические молчаливые паузы, Пьер все время слышал мягкие, медленные, печальные, задумчивые шаги взад и вперед по комнате этажом выше; и в эти частые паузы во время необыкновенного рассказа, о коем речь пойдет в следующей главе, все те же мягкие, медленные, печальные шаги взад и вперед, задумчивые и самые меланхолические шаги то и дело слышались в безмолвии комнаты.
III
– Я никогда не знала смертной матери. Мои самые ранние воспоминания не оживляют в памяти ни единой черты ее лица. Если когда-нибудь моя мать и жила на свете, то уже давно отошла в мир иной, и ее тень не посещает земли, где некогда ступала ее нога. Пьер, мои уста, что ныне говорят с тобой, никогда не касались материнской груди, словно я не была рождена женщиной. Мои первые туманные размышления о жизни роятся вокруг старого, полуразрушенного дома, что стоял в некоем краю, для которого ныне мне не сыскать карт, чтобы указать его. Если такое место и впрямь существовало когда-то, то теперь его руины тоже, должно быть, исчезли с лица земли. То был заброшенный, мрачный, вросший в землю дом, стоящий посредине круглой расчищенной площадки на крутом склоне, на прогалине, прорубленной в дремучей чаще чахлого соснового леса. Я всегда сжималась от страха по вечерам, боясь ненароком посмотреть в окно и увидеть, что призрачные сосны крадутся ко мне, тянут свои зловещие руки, чтобы схватить меня и унести в свою ужасную тьму. В летнюю пору в лесу стоял неумолчный гул голосов неведомых птиц и зверей. Зимней порой его глубокие снега, словно бумажную карту, расчерчивали пунктирные линии ночных тропок неких четвероногих созданий, коих нельзя было заметить даже при солнечном свете и коих еще никогда не встречал ни один сын человеческий. На круглой, открытой всем ветрам площадке стоял тот мрачный дом, и ни одно зеленеющее деревцо, ни единый побег не осенял его; так он и стоял, не суля ни приюта, ни тени, в самой чаще, где были и тень, и кров. Иные окна дома грубо заколотили досками вверху и внизу; и те комнаты были всегда пустынны, и туда никогда не заходили, хоть они и зияли дверными проемами. Но много раз я заглядывала в них, стоя в гулком коридоре и обмирая со страху, ибо тамошние огромные камины совсем развалились; внизу камни топки, сожженные дотла, превратились в сплошное белое крошево, а упавшие сверху черные камни, засыпав сами очаги, валялись грудами и тут и там, все еще храня следы копоти от сильного огня. В том доме каждый очаг имел огромную вертикальную трещину, во всех комнатах прогибались полы, а снаружи его основание, что покоилось на низком цоколе, сложенном из позеленевшего камня, загромождали печальные горы желтых гниющих досок. Ни одного обозначения чего бы то ни было, ни единой разрисованной или исписанной вещицы, ни одной книги не было в доме, ни единой памятной записки, что могла бы поведать о прежних его обитателях. Тот дом хранил молчание, словно смерть. Вблизи него не было ни кургана, ни могильного камня, ни даже небольшого холмика, что невольно выдал бы погребение в прошлом взрослого или ребенка. И таким-то вот образом дом сей, который и после не разоблачил предо мною ни одной из своих прежних тайн, таким-то путем он ныне потерян для меня безвозвратно и канул в небытие, ибо мне уже никогда не воссоздать в памяти ни то место, ни тот край, где стоял он. Ни один дом из тех, что я видела в своей жизни после, не походил на этот. Один только раз мне на глаза попались гравюры французских шато, кои с новою силой пробудили в памяти туманные воспоминания о нем, в особенности же о его маленьких окошках в два ряда, выступающих из вогнутой мансардной крыши. Но тот дом был деревянным, а эти из камня. Тем не менее временами мне представляется, что он находился в нездешних краях, где-нибудь в Европе, во Франции, быть может, однако это кажется мне полною бессмыслицей, а посему тебе не должно меня опасаться лишь оттого, что я несу вздор, ибо что же еще мне говорить, коли речь зашла о столь вздорном предмете.
В том доме никогда не видала я ни одной живой души человеческой, лишь старика да старуху. От бремени прожитых лет лицо старика стало почти черным и походило на изношенную мошну, всю в складках, а его древняя борода, всегда нечесанная, была полным-полна хлопьев пыли и комков земли. Мне думается, летней порой он немного ковырялся в саду или на каком-то приусадебном участке, что примыкал к дому с одной стороны. Все мои воспоминания далее становятся сплошь неточными и запутанными. Но старик и старуха, казалось, запечатлелись в моей памяти неизгладимо. Должно быть, эти создания были единственными человеческими существами, что были рядом со мною в то время, вот чем объясняется то влияние, что они оказали на меня. Они редко заговаривали со мною; но иногда, в темные ненастные ночи, они могли сиживать у огня и таращиться на меня, а после принимались бормотать друг другу что-то, и затем они таращились на меня снова. Они со мной обходились не так уж и плохо, но, повторяю, почти никогда или очень редко бывало так, чтобы кто-то из них молвил мне слово. Что были то за слова, коими они обменивались, или на каком языке говорили они меж собою, этого мне уж не оживить в памяти. Много раз я того желала, ибо тогда получила бы дополнительные сведения о том, в этих ли краях стоял сей дом или же он был где-то за океаном. И тут следует сказать, что иногда мне приходят на ум, только вот не знаю, откуда берутся эти туманные воспоминания, – вскоре после той поры, о которой я сейчас рассказываю, – мой лепет на двух разных языках моего детства; один из коих ныне потускнел в моей памяти, в то время как другой и более поздний развился. Но далее я расскажу обо всем подробнее. Пищу мне приносил не кто иной, как старуха, ибо я никогда не ела с ними. Как-то раз они сидели вдвоем у очага, а подле них были каравай хлеба и бутыль слабого красного вина; а я поднялась к ним, и попросила разрешения пообедать вместе с ними и прикоснулась к хлебу. Но в тот же миг старик замахнулся на меня, как если б хотел ударить, и все же этого не сделал, а старуха, вытаращив глаза, схватила хлеб да бросила его в огонь. Я в испуге бросилась вон из комнаты и стала искать кошку, с которою я при помощи ласки частенько старалась завязать дружеские отношения, но – по некой неведомой причине – без всякого успеха. Однако мой страх одиночества был так силен тогда, что я снова кинулась на ее поиски – и нашла ее наверху, где она тихо рыла когтями что-то невидимое глазу среди мусора заброшенных очагов. Я позвала ее, так как не решалась вступить в обиталище призраков; однако она лишь взглянула на меня, искоса и глупо, и вернулась к своему тихому рытью. Я кликнула ее снова, и тогда она обернулась и зашипела на меня; и я что было духу понеслась вниз по лестнице, уязвленная и по-прежнему горячо желая, чтобы кто-то забрал меня отсюда и увез куда угодно. Я и поныне не знаю, куда мне направить стопы, чтоб освободиться от пут моего одиночества. Наконец я выбежала из дому да присела на какую-то каменную глыбу, однако вскоре я промерзла до костей да и поднялась с нее и вскочила на ноги. Но голова моя сильно кружилась, ноги не держали; я упала и не помню, что было после. Однако на следующее утро я очнулась в моей унылой комнате, в своей постели, а подле меня лежал ломоть черного хлеба да стояла кружка воды.
По воле одного лишь случая поведала я тебе именно этот частный эпизод из ранних годов моего детства, что я провела в том доме. Много еще историй в том же духе могла бы я порассказать, но и этого довольно, чтобы передать, какое существование влачила я в те времена. Моя тогдашняя жизнь привела к тому, что во мне день ото дня разрасталось убеждение, что окружающие предметы да звуки, что до меня доносились, становятся все непонятнее и непонятнее и все страшнее и страшнее. В моем мнении старик со старухою вели себя в точности как та кошка; все они не откликались на мои призывы; все они обладали непостижимым для меня нравом. И старик, и старуха, и кошка были для меня то же, что позеленелые камни в основании дома; мне было неведомо ни то, откуда они взялись, ни то, какая причина их здесь удерживает. Вновь повторяю, что в том доме я никогда не видела ни одной живой души человеческой, лишь старика да старуху; и только время от времени старик отлучался из дому, вставал на заре, тащился прочь по дороге, ведущей в лес, и не возвращался, бывало, пока совсем не стемнеет; он приносил с собою откуда-то черный хлеб и слабое красное вино. Несмотря на то что граница леса начиналась совсем неподалеку от наших дверей, старик со своей небольшою поклажей брел к ним столь медленным и нетвердым шагом, что мне казалось, час за часом утомительно тянулось время меж тем мигом, когда я впервые замечала его среди деревьев, и тою минутою, когда он перешагивал развалившийся порог.
Легкая туманная дымка, что окутывала обширные и пустующие области моего сознания, кои возникли у меня в ранние годы жизни, ныне стала плотною мглою. Все течет своим чередом, но ничто ныне не оставляет следа в моей памяти. Может быть, это началось приблизительно в то время, когда меня вдруг свалила неведомая горячка, в течение коей я очень долго пролежала в беспамятстве. Или, быть может, правду говорят, что сперва у нас формируются самые наипервейшие воспоминания, затем их место занимает полная бессознательность, коей на смену вновь приходят первые смутные проблески последующих впечатлений, кои более или менее охватывают все наше прошедшее вплоть до того момента, как в нем возникла первая прореха.
Как бы там ни было, но ничего более мне не вспоминается ни о доме, что стоял на просторе в диком краю, ни о том, как же мне, в конце концов, удалось его покинуть, ведь и в то время я была еще очень мала. Только запало мне в душу какое-то неясное, качающееся воспоминание о моем пребывании на некой круглой, открытой площадке, но она неизмеримо больше прежней, да нет лесного пояса, что окружал бы ее. Однако мне часто казалось, что на той площадке росло три высоких, стройных дерева, и порою я находилась где-то неподалеку от них; а они угрожающе качались и стонали, словно старые деревья в горах во время грозы. А полы там, казалось, порой раскачивались еще больше и еще опаснее, чем в старом доме; кроме того, их качка была переменчивой, и потому мне иногда чудилось, что они прогибаются даже подо мною.
И вот тогда-то, как это мне порою кажется, я в первый и последний раз щебетала сразу на двух языках моего детства, что в те поры выучила совсем недавно. Казалось, теперь я постоянно находилась на людях, одни толковали меж собою на первом языке, и другие говорили на втором, а я понимала оба, но на втором общалась еще не очень свободно и словно с непривычки, однако именно второй был тем языком, что день за днем все более вытеснял первый. Там были те, кто… это так чудится мне временами, иногда как во сне… часто карабкались вверх по трем странным столбам, что походили на деревья, а говорили они… тут мне необходимо как следует поразмыслить… если и впрямь у меня сохранилось хоть одно живое воспоминание об этих бесплотных существах, коими они мне казались… они перекликались друг с другом на языке, который в ту пору, как я уже говорила, я начала забывать. То был язык прелестный – о, мне кажется, он так и искрился весельем и беспечностью, – самый подходящий язык для дитяти в моих летах, если бы дитя это не было таким печальным все время. То был чистой воды детский язык, Пьер, такой птичий говор… такое щебетанье.
Теперь ты и сам уже мог прийти к мысли, что многие из моих неясных впечатлений смутно напоминают путешествие на корабле по морю. Но все это для меня один туман и загадка. Едва ль то ведомо мне самой, когда я рассказываю тебе настоящую быль, а когда говорю наизабавнейшие небылицы. Вечно у меня так: в моем сознании самые доподлинные факты растворяются в мечтах, мечты же обретают твердость реальных фактов. Никогда не оправиться мне от последствий той диковинной жизни, что в ранние лета выпала мне на долю. И таковы они были, что даже сейчас – в этот миг – в моих глазах твою плоть, брат мой, облекает мистическая мгла, так что и второе лицо, и третье лицо, и четвертое твое лицо – все выглядывают из твоего собственного да глазеют на меня украдкой. Вот уж поблекло и все больше тает, истончается во мне воспоминание о том, как мы с тобою наконец-то встретились. Я бреду наугад в сонме многообразных призраков, и они же при этом остаются частью меня, а потому мнится, что я продвигаюсь вперед сквозь их строй; и еще этим призракам даны глаза, что таращатся на меня. Я оборачиваюсь, а они таращатся на меня; я делаю шаг, а они таращатся на меня… Дозволь мне теперь помолчать немного, не заговаривай со мною.
IV
Строя великое множество невероятных догадок о том, кем может быть это чудное создание, Пьер пребывал в молчании, напряженно всматриваясь в ту, кто сидела к нему вполоборота. Бесконечные извивы ее мягких волос, что были чернее черного, рассыпались у ней по плечам, словно то приспустили занавесь пред ликом некоего святого, вставленного в раку. В глазах Пьера она была чуточку не от мира сего, но этот неземной облик ей создавала окружавшая ее таинственность, что не казалась ему ни отталкивающей, ни угрожающей. А низкие ноты, отголоски ее слов, произнесенных грудным голосом, все витали по комнате, отзываясь в каждом уголке сладостным эхом; и все это сопровождалось и скреплялось звуками, что возникают, когда ногами давят виноград, – то были чьи-то медленные шаги в комнате этажом выше.
Изабелл вдруг немного встрепенулась; и после того, как она несколько раз прошлась из угла в угол странною походкой, она более связно повела свой рассказ:
– Следующее воспоминание, которому, думается, я могу до известной степени доверять, было вновь о доме, опять же, возведенном вдали от человеческого жилья, в самом сердце края, где никогда не воцарялась полная тишина. В том краю да у дома несла свои воды, причудливо извиваясь, мутная и ленивая река. Должно быть, тот дом стоял в какой-нибудь низине; поскольку мое первое жилище, о котором я тебе уж рассказывала, находилось, как мне чудится, где-то в горах или неподалеку от гор… шум далеких водопадов… мнится, я слышу их и сейчас; эти неподвижные облака на закатном небе, позади дома… мнится, я вижу их и сейчас. Но это другое жилище, это второе или уж третье, я не знаю толком, повторяю вновь, оно находилось в какой-то низине. Близ него не росло сосен, лишь редкие купы различных деревьев; а за домом земля не кончалась таким крутым обрывом, как это было рядом с первым. Подле второго моего дома тянулись возделанные поля, и в отдалении виднелись фермы, были тут и хозяйственные постройки, и крупный рогатый скот, и домашняя птица, и прочее. Это второе жилище, я в том уверена, было в нашей стране, по эту сторону океана. То был очень просторный дом, и в нем было полным-полно народу; но они большей частью жили раздельно. Там были старики, и молодые мужчины, и молодые женщины – некоторые отличались красотой, – и там были также и дети. Казалось, для кого-то из них то было счастливое пристанище: многие из тех, кто там находился, все время смеялись, – но то место не было счастливым пристанищем для меня.
Однако тут я могу заблуждаться, ибо по собственному моему разумению до сих пор не могу решить для себя – я говорю о той памяти, что сохранилась у меня от всей моей прежней жизни, – повторяю, я все никак не могу решить, что же это за штука такая, кою называют счастьем, что это за зверь, приметой которому служит то смех, то улыбка, а то молчаливобезмятежное чело. Как знать, может, я и была счастлива, но сама того не ведала, а теперь не могу вспомнить. Нет во мне страстного стремления к счастью, хоть его у меня никогда и не было; душа моя алчет пищи, на него непохожей, ибо, мне кажется, я догадываюсь о том, что это такое на самом-то деле. Я перенесла много невзгод, но никогда не страдала оттого, что нет мне счастья, и не молилась о нем. Я молюсь о покое… о неподвижности… о том, чтобы чувствовать себя неким растением, что проживает жизнь, не доискиваясь ее причин, молюсь о жизни, где не будет места моему самосознанию. Что-то мне подсказывает, что нельзя обрести полный покой, покуда не отречешься от своей личности. Потому я надеюсь, что в один прекрасный день сольюсь воедино с тем вездесущим духом, который вдохнул жизнь в окружающую природу. На этой земле я чувствую себя изгнанницей. Я все блуждаю в потемках… Да, я знаю, что так и просится тебе на язык; знаю, чему ты улыбаешься… Но позволь мне вновь умолкнуть. Не отвечай мне. Когда я продолжу, я не стану больше блуждать в мыслях, но перескажу все вкратце…
Пьер принял решение из уважения к Изабелл не чинить ей ни малейшей помехи, ни косвенного препятствия, предоставив ей и далее развертывать пред ним свое необыкновенное повествование, а сам меж тем сидел без движения и не мешал колдовскому очарованию мало-помалу овладевать его душою, какими бы долгими ни были паузы; что же касается более приземленных соображений, то он был убежден, что только так ему удастся понять наименее туманные и запутанные подробности истории Изабелл; и Пьер сидел в прежней позе, ожидая от нее продолжения, и любовался ее на диво прелестным ушком, которому случалось проглядывать сквозь густую тьму ее локонов, и казалось, то просвечивает сквозь темную толщу воды жемчужная раковина.
Но вот она немного встрепенулась; и после того, как несколько раз вновь прошлась из угла в угол странною походкой, она продолжала свой рассказ более связно, в то время как звуки шагов наверху, казалось, смолкли.
– Я поведала тебе о втором или, вернее, о третьем месте из моих воспоминаний прошлого… и рассказала о них в том порядке, как они запомнились мне самой, то есть я хотела сказать, что говорила о людях, что жили в том доме, как это следует из моих самых первых впечатлений о них, что я еще могу воскресить в памяти. И в том доме я осталась на несколько лет – на пять, на шесть, быть может, на семь лет, – и за то время, что я там провела, я стала смотреть на все другими глазами, ибо расширились мои знания об окружающем мире, хоть они всегда были неясными. Одни жильцы исчезали, другие переходили от улыбок к слезам, какие-то те были безучастны ко всему по целым дням, поведение некоторых становилось диким и возмутительным, и молчаливые мужчины препровождали их на нижние этажи, о которых я ничего не знала, но тягостные звуки неслись из-под пола, то были стоны да бряцание железа, словно оно падало на пол, едва прикрытый соломой. Время от времени мне доводилось видеть гробы, которые в молчании вносили в дом около полудня, и спустя пять минут они появлялись снова, казалось, потяжелевшие, но я не видела тех, кого в них увозили. Однажды я видела огромный гроб, что не проходил в двери, и в конце концов его втащили вовнутрь через нижнее окно те трое мужчин, которые никогда не размыкали губ; и, наблюдая за ними, я видела, как они потом вытолкнули его обратно и увезли с собой. Но число тех незримых постояльцев, кои покидали дом этим путем, постоянно пополнялось за счет других недоступных моему взору особ, которых привозили сюда в закрытых экипажах. Некоторые шли все в лохмотьях и пешком… или, вернее, их тащили, принуждая идти. Как-то раз я слышала ужасные вопли и, бросив беглый взгляд в окно, увидела сильного, но грязного мужчину с перекошенным лицом, по виду крестьянина, связанного веревками, с четырьмя длинными свободными концами, которого держали за них сзади множество невозмутимых мужчин, тащивших этого дикого, грязного человека по направлению к дому. Затем я услышала, как в ответ на этот вой раздались рукоплескания, пронзительные крики, завывания, смехи, благословения, молитвы, клятвы, гимны и все прочие бессмысленные звуки, что неслись со всех комнат моего дома.
Бывало, что в тот дом иногда приходили – хоть и очень ненадолго, менее чем на час, – люди, чья наружность в те поры казалось мне примечательной. Они имели спокойный вид, они не смеялись, они не стонали, они не рыдали, они не делали странных гримас; их взгляды не выражали бесконечную усталость; их одежда не была ни нелепой, ни фантастической, – иными словами, они совсем не походили на всех тех, кого я видела прежде, исключая очень немногих в доме, которые, казалось, всем управляли. Про этих людей приятного вида я думала, что они какие-то странные слабоумные… из тех, кто с виду спокоен, но чей разум блуждает, что они спокойны душою и что блуждает у них только тело и что они какие-то странные слабоумные.
Мало-помалу дом снова изменился у меня на глазах, или то было мое восприятие, что повлияло на первые воспоминания и переменило их? Я жила в маленькой комнатке наверху; в ней почти не было мебели; иногда я желала выйти оттуда, но дверь всегда была на запоре. Порой ко мне приходили люди, выводили меня из комнаты и приводили в очень большое и длинное помещение, и там я видела всех прочих обитателей этого дома, которых тоже приводили сюда из отдаленных одиночных комнат. По этому длинному помещению они могли свободно скитаться и болтать друг с другом сколько душе угодно. Одни стояли в центре комнаты, спокойно глядя в пол по целым часам, и они никогда не шевелились, но лишь дышали и ели глазами пол. Другие жались в углу и сидели там скрючившись, только дышали и жались по углам. Иные крепко прижимали руки к сердцу и медленно прогуливались туда-сюда, все жалуясь и жалуясь самим себе. Один говорил другому: «Пощупай-ка вот здесь, засунь-ка свои пальцы в эту трещину». Другой бормотал: «Сломано, сломано, сломано» – и больше не произносил ничего, без устали твердил одно слово. Но большинство из них молчали – они не могли говорить, или же не хотели говорить, или забыли, как надо говорить. Почти все из них были бледными людьми. У иных были волосы белее снега, и все же то были еще молодые люди. Одни знай себе толковали про ад, вечность и Бога; другие говорили обо всем так, будто бы оно точно предопределено; и находились те, кто непременно выступал со своими возражениями, и тогда они начинали спорить, но истинная убежденность в своей правоте отсутствовала с обеих сторон. И как-то раз почти все присутствующие – даже те, кто беззвучно стонал, даже те вялые особы, что жались по углам, – почти все они как-то раз засмеялись, когда после целого дня громкого бормотания двое из этих вечных оппонентов одновременно сказали друг другу: «Ты убедил меня, друг, и мы квиты, ибо и я убедил тебя тоже, но другим путем; и теперь давай спорить сначала, ибо все же, раз мы с тобой поменялись убеждениями, мы по-прежнему не согласны друг с другом». Одни обращались с пылкою речью к стене, другие болтали с пустотой, кто-то шипел в пустоту, кто-то показывал пустоте язык, другие били в пустоту, иные делали движения, будто боролись с кем-то невидимым, и падали от его ударов.
Ну, а теперь, как и в прошлый раз, ты давным-давно, гораздо раньше моих теперешних слов, уж сам догадался, что это был за второй или третий дом, в котором я проживала в ту пору. Но не произноси при мне это слово. Никогда не слетает оно с моих уст; и даже теперь, стоит мне только услышать его, как я затыкаю уши; когда я вижу его в книге, то отбрасываю ее от себя. Это слово для меня просто невыносимо. Кто доставил меня в тот дом, как я туда попала, не знаю. Я там прожила очень долго, только это я знаю; и я говорю, что я знаю, но в душе я до сих пор еще в том не уверена, все еще, Пьер, все еще не… о, все эти грезы, вся эта неразбериха – никогда они не оставят меня в покое. Позволь мне вновь умолкнуть.
Изабелла отодвинулась от Пьера, приложила маленькую сильную ручку к своему лбу, затем очень медленно провела ладонью по лицу сверху вниз, но едва коснулась рукою глаз, как прикрыла их, да так и осталась сидеть в этой позе, не делая более никаких движений и в мертвом безмолвии.
Затем она очнулась и продолжила свой туманный рассказ, полный ужасов:
– Мне следует быть краткой; я вовсе не хотела чуть что сворачивать то там, то сям на боковые тропинки моей истории, но грезы, о коих я уж не раз говорила тебе, порой руководят мною; и в такие минуты я словно лишена своей воли и подчиняюсь голосу грез. Будь снисходителен со мною, а я постараюсь быть более краткой.
Наконец пошли слухи, что обо мне в доме шел спор, некое разногласие, о коем я знала лишь понаслышке, а не из первых рук. Прибыли какие-то незнакомцы, или же их спешно прислали в дом. На другой день меня нарядили в новое и красивое, но все же простое платье и свели вниз по лестнице, вывели из того дома и усадили в экипаж рядом с женщиной приятной наружности, но совершенною незнакомкой; и меня увезли далекодалеко, мы ехали около двух дней, останавливаясь где-то на ночь; и вечером второго дня мы подъехали к другому дому, вошли в него и остановились в нем.
Новый дом был меньше в несколько раз, и мне казалось, что в нем царит восхитительная тишина, если сравнивать его с тем, прежним. В этом доме жил красивый ребенок; и это прелестное дитя всегда смешливо и невинно улыбалось мне, и всякий раз то для меня было в диковинку, что меня манят, чтобы поиграть со мной, и всегда-то он мне радовался, и всегда-то он был беспечен, приветлив и счастлив, стоило ему меня увидеть; этот прелестный малыш первым пробудил во мне самосознание, первым открыл мне, что я была существо, которое отличалось от камней, деревьев, кошек, первым разуверил меня в том, что все люди ведут себя как камни, деревья, кошки, первым даровал мне сладостные представления о том, что есть человечность, первым мне открыл, что такое бесконечное сострадание, нежность и красота человеколюбия, – и это прелестное дитя было первым, кто косвенно внушил мне туманную мысль о красоте и с нею вместе и в то же самое время – чувство печали, мысль о бессмертии и вездесущности печали. А теперь мне кажется, что я вот-вот запнусь на сем воспоминании… останови же меня сейчас, не дай мне идти по этой тропе. Я всем обязана прекрасному младенцу. О, как я завидовала ему, когда он со счастливым видом лежал у материнской груди и с ее молоком впитывал и жизнь, и радость, и всю свою бесконечную улыбчивость из ее белой и радостной груди. То дитя спасло меня, но вместе с тем даровало мне смутные желания. С той поры я стала мыслить самостоятельно, делала попытки вспомнить свое прошлое; но сколько бы я ни старалась – я могла вспомнить так мало, на ум приходила сплошная неразбериха… а за нею вслед и кутерьма, и сумятица, и темнота, и туман… и бушевал грозный вихрь всевозможных нелепостей. Позволь же мне вновь умолкнуть.
А шаги по комнате этажом выше между тем возобновились – они снова стали слышны.
V
– Должно быть, мне было девять, десять или одиннадцать лет, когда приятная женщина увезла меня прочь из большого дома. Она была женой фермера, и отныне моим домом стала ферма. Меня научили шить, работать с шерстью, прясть ее; и теперь я почти все время была занята. Эта занятость в том числе придала мне сил называть себя человеческим существом. С той поры я ощутила в себе удивительные перемены. Когда я видела змею, ползущую в траве и показывающую раздвоенный язык, я говорила себе: это не человеческое существо, а я – человек. Когда сверкала молния и поражала какое-нибудь красивое дерево, сжигая его дотла, я говорила: эта молния не человеческое создание, но я – человек. И так со всеми прочими предметами. Мне сложно выразить это словами, но неким таинственным образом я начала постигать, что все доброжелательные, пребывающие в добром здравии мужчины и женщины были человеческие существа, у них были свои различные цели и они жили в мире, где есть и змеи, и молнии, в мире, который полон ужасного и необъяснимого равнодушия. У меня никогда не было учителей. Все мысли росли во мне сами собой; и мне неведомо, были они связаны с той неразберихой, что царила в моей голове прежде, или нет, но они такие, какие есть, и не в моей власти переменить их, ибо не мне они обязаны своим появлением на свет, и я не трогала ни единой мысли в моей голове, и не было так, чтоб я испортила хоть одну из них, добавив к ней что-то от себя; но когда я говорю, язык не поспевает за мыслью, и я часто говорю что-то прежде, чем это обдумаю, потому порою бывало, что моя же речь учила меня чему-то новому.
Как и прежде, я никогда не спрашивала ни женщину, ни ее мужа, ни маленьких девочек, их дочек, о том, почему меня привезли в этот дом и как долго я в нем проживу. Такова я была, таковой себя помню с той минуты, как впервые открыла глаза, ибо вопрос, ради чего я появилась на свет, казался мне не менее странным, чем вопрос, зачем меня привезли в этот дом. Я не знала ровным счетом ничего ни о себе, ни о том, что имело ко мне малейшее отношение; я знала лишь то, как бьется мой пульс, мои мысли; но во всем другом я была невежественна, не считая размытых представлений об отличии своей человеческой природы от нечеловеческой. Но я становилась старше, и мой ум развивался. Я начала постигать значение окружающей меня обстановки, подмечать в ней все удивительные и мгновенные перемены. Я звала женщину матерью, по примеру двух девочек, и все же она целовала их часто, а меня очень редко. За столом она всегда подавала им еду в первую очередь. Фермер почти никогда не заговаривал со мной. Но пролетели месяцы, годы, и вот дочери фермера начали на меня таращиться. И тогда во мне проснулось прежнее, давно позабытое смущение, которым я страдала, когда на меня глазели одинокие старик со старухой, что сиживали у разрушенного очага в покинутом старом доме, стоявшем на круглом пустыре, что был открыт всем ветрам; смущение от тех былых настойчивых взглядов опять возвратилось ко мне, и зеленые глаза, и змеиное шипение злой кошки снова мне вспомнились, и темные волны беспросветного отчаяния сомкнулись над моей головой. Но женщина была ко мне очень добра, она учила девочек относиться ко мне с добротой, она звала меня к себе и оживленно беседовала со мной, и я благодарила – не Бога, ибо никто не рассказал мне о том, что есть Бог, – я благодарила красное лето и радостное солнце в небесах, кои рисовались моему воображению в человеческих образах, я благословляла человекоподобное лето и солнце за то, что они даровали мне эту женщину, и порой я ускользала из дому, и валилась в душистую траву, и славословила лето и солнце за их доброту, и после я частенько повторяла про себя эти два слова, что так ласкают слух: лето и солнце.
Пронеслись чередою недели и годы, и вот мои волосы стали длинными и лежали роскошной копной; и теперь я часто слышала слово «красиво», когда говорили о моих волосах, и «красавица», когда говорили обо мне. Никто не называл меня так в глаза, но мне нередко случалось подслушать, как это произносили шепотом. Слово «красавица» радовало меня, так как я чувствовала в нем человеческое тепло. Напрасно люди так не звали меня в открытую, ведь моя радость от этого лишь возросла бы и укрепилась, если б они честно стали звать меня в глаза красавицей; и я знаю, что это бы наполнило мое сердце бесконечной добротой к каждому. В то время я слышала слово «красавица», что время от времени говорили шепотом вот уже на протяжении нескольких месяцев, когда в дом пришел новый человек – джентльмен, так его называли. Его лицо показалось мне просто чудесным. Я была уверена, что уже видела раньше того, кто был на диво с ним схож и одновременно несхож, и, если б у меня спросили, где я его встречала, я не смогла бы ответить. Но как-то раз, когда я смотрелась в спокойную гладь маленького пруда позади дома, я увидела то самое сходство – то удивительное сходство и в то же время несходство черт. Это и вовсе сбило меня с толку. Новый человек, джентльмен, был ко мне очень добр; он казался потрясенным, смущенным при виде меня; он глазел сначала на меня, затем на крохотный круглый портрет – таким он казался, – который он достал из кармана брюк и тут же спрятал от моего взора. Затем он меня поцеловал и посмотрел на меня с нежностью и грустью, и я почувствовала, как на мое плечо закапали его слезы. Потом он кое-что шепнул мне на ухо. «Отец» – вот что было за слово, которое он прошептал; так две молодые девушки обращались к фермеру. Я знала, что это было слово доброты и поцелуев. Я поцеловала джентльмена.
Затем он покинул дом, и я плакала, чтобы он пришел опять. И он и впрямь снова пришел к нам. И вновь назвал себя моим отцом. Он приходил повидаться со мной раз в один или два месяца до тех пор, пока наконец однажды он не пришел вовсе; и когда я стала плакать и расспрашивать о нем, я услыхала в ответ лишь одно слово – мертв. И тогда мне вспомнилось, как я недоумевала, когда видела, что сперва привозят, а после увозят гробы из большого и многолюдного дома; и мною опять овладело прежнее недоумение. Что означало быть мертвым? И что значило быть живым? В чем заключается разница между словами «жизнь» и «смерть»? Была ли я когда-нибудь мертва? Жила ли я? Позволь мне снова замолчать. Не заговаривай со мной…
А меж тем шаги по комнате этажом выше; они стали вновь слышны.
– Проходили месяцы; и вдруг я откуда-то узнала, что мой отец постоянно посылал женщине деньги на мое содержание у ней в доме и что не было прислано ничего с тех пор, как он умер, а последний пенни из прежних денег был уже истрачен. Жена фермера стала смотреть на меня с тревогой и болью, а фермер – с недовольством и раздражением. Я понимала: что-то было ужасно не так; я сказала себе: я им в тягость, я должна покинуть гостеприимный дом. И тогда в моей душе поднялся вихрь неразберихи, в коем на два голоса завывали одиночество и отчаяние всей моей одинокой и беспросветной жизни; этот хаос и его свинцовые волны вдруг накатились на меня и поднялись выше моей головы; и я села наземь, бездомная, но не могла плакать.
Однако в ту пору я уже была сильной и рослой девушкой. Я сказала женщине: держите меня в черном теле, пусть я буду работать все время, только оставьте меня жить вместе с вами. Но двух девушек было вполне достаточно, чтобы выполнять всю требуемую работу; они не хотели меня. Услыхав мою просьбу, фермер лишь выпучил на меня глаза, и то, как он бесцеремонно таращился, сказало мне без лишних слов: мы не хотим тебя, ступай от нас, ты здесь лишняя, нет, ты тяжкая обуза. Тогда я сказала женщине: наймите меня к кому-нибудь, пошлите меня работать к кому-нибудь… Но я снова вдалась в ненужные подробности моей маленькой истории. Я должна кончить.
Женщина выслушала меня, и благодаря ее заботам я перешла жить в другой дом и стала там зарабатывать себе на жизнь. Моей обязанностью было доить коров, и сбивать масло, и прясть шерсть, и ткать ковры из тонких полос ткани. Однажды в дом зашел странствующий торговец. В его повозке была гитара, старая гитара, все еще очень красивая, но с порванными струнами. В былые времена он хитростью выманил ее, обменяв на что-то у слуг большого имения где-то в других землях. Несмотря на порванные струны, этот инструмент показался мне изящным и красивым; и я знала, что в инструменте спрятаны мелодии, хоть я никогда прежде не видела гитары и слыхом не слыхивала о ней, но у меня было странное гудение в сердце, кое предрекало звучание струн гитары. Чутье мне подсказывало, что струны выглядят не так, как должно. Я сказала торговцу: я куплю у тебя вещь, которую ты называешь гитарой. Но ты должен натянуть на нее новые струны. Тогда он отправился искать струны, и принес их, и исправил гитару, и настроил ее для меня. Истратив часть своих сбережений, я купила гитару. Я немедленно унесла ее в свою маленькую комнатку на чердаке и бережно положила на кровать. Затем я шептала, пела и шептала ей – очень тихо, очень нежно, так, что я едва слышала свой голос. И я изменяла высоту и тембр своего голоса, когда напевала и бормотала, и все пела и бормотала, низким голосом, мягко, снова и снова; и тогда я услышала внезапный звук, сладостным и несказанным был сладостный и несказанный звук. Я захлопала в ладоши: гитара говорила со мной, любимая гитара пела мне, бормотала и пела для меня, гитара. Тогда я запела и прошептала ей, переходя от одного тембра к другому; и вновь она ответила мне другой струной, вновь она шептала мне и отвечала мне звучанием струн. Гитара имела душу, гитара научила меня своим секретам, гитара научила меня, как играть на ней. Никогда не было у меня другого учителя музыки, кроме гитары. Я стала ее любящим другом, сердечным другом. Она пела для меня так же, как и я для нее. Наша любовь была взаимной. Все чудеса, которые невообразимы и несказанны, – все эти чудеса передавались в таинственных песнях гитары. Она знала всю историю моей жизни. Временами она показывала мне мистические видения загадочного большого дома, который я никогда не видела. Временами она дарила мне птичье щебетание, временами она пробуждала во мне поэтические восторги сказочных наслаждений, которые я никогда не испытывала, которые мне неведомы. Принеси мне гитару.
VI
Околдованный, потерянный, как тот, кто блуждает вслепую среди блеска, потрясенный видом неисчислимых танцующих огней, Пьер оцепенело внимал этой пышноволосой и большеглазой девушке, которая была сплошной загадкой.
– Принеси мне гитару!
Немного стряхнув с себя колдовские чары, Пьер окинул взглядом комнату и заметил инструмент, прислоненный к стене в углу. Молча принес он гитару девушке и так же молча уселся снова.
– Теперь слушай гитару, и гитара доскажет тебе продолжение моей истории; ибо ее нельзя рассказать на словах. Ну, так послушай гитару.
И вдруг комнатка стала полниться мелодичными аккордами, в коих звучали и печаль, и магия; и ее наводнили непонятные, но упоительные беглые звуки гитарных струн. Казалось, звуки кружили по комнате; звуки повисали в каждом углу, как блестящие сосульки, и роем снежинок они осыпались на Пьера, звеня, как серебро, и воспаряли к потолку, и замирали вновь, и вновь осыпали его роем снежинок, звенящих серебром. Крылья светлячков трепетали в этих звуках; летние молнии живо, но нежно сверкали в них.
А прелестная дикарка все продолжала играть на гитаре; и ее длинные темные волосы струились вокруг нее водопадом и окутывали ее всю; и оттуда, из-под завесы ее кудрей, неслись сладкозвучные, и очень непонятные, но бесконечно красноречивые гитарные переливы.
– Дева, чье имя – сама непостижимая загадка! – закричал Пьер. – Молви мне хоть слово… сестра, если ты и впрямь девушка из плоти и крови, – молви мне только слово, если ты Изабелл!
– Тайна! Тайна! Тайна Изабелл! Тайна! Тайна! Изабелл и тайна!
В потоке аккордов, которые то кружились, то замирали, то неслись роем, Пьер ныне стал различать высокие ноты, искусно скользящие и реющие среди мириад змеевидных извивов других нот, – искусно скользящие и реющие как добропорядочные звуки классического инструмента, но удивительно и неудержимо свободные и смелые, которые то сокращались до нескольких нот, то разливались вширь, словно многократно отражаясь от стен; а меж тем сама Изабелл, скрытая, как плащом, своими локонами, плавно раскачивалась из стороны в сторону с каждой ноткой, что выпархивала из-под ее пальцев, словно живое воплощение и одиночества, и печали, и страсти, – казалось, нет в мире песни, что могла бы поспорить с этой; казалось, не с уст человеческих слетела она, но возникла меж струн сама собою, выйдя из водопада темных волос, что скрывали гитару.
Ныне лицо Пьера пылало загадочным жгучим румянцем; он взялся рукою за лоб. Вдруг тональность мелодии изменилась, затем она замерла и вновь изменилась; переливаясь и переливаясь, музыка все менялась, и постепенно стала стихать, меняясь, и, наконец, смолкла совсем.
Пьер первым нарушил молчание:
– Изабелл, ты наполнила меня таким трепетом изумления, в таком смятении я нахожусь, что те уж заранее заготовленные слова, кои я собирался сказать тебе, идя сюда, те слова я теперь не могу вспомнить, чтобы их тебе выразить, – сдается мне, есть в твоей истории еще подробности, кои остались нерассказанными, кои ты откроешь мне в другой раз. Но нынче я не могу долее оставаться подле тебя. Думай всегда обо мне как о своем любящем, мечтательном и самом восторженном брате, который никогда не покинет тебя, Изабелл. Теперь позволь мне поцеловать тебя и проститься до завтрашней ночи; тогда я поведаю все свои мысли и планы относительно тебя и меня. Позволь мне поцеловать тебя и прощай!
Полная невопрошающей и решительной веры в него, девушка сидела неподвижно и слушала его. Затем молча встала и с безграничной доверчивостью подняла к нему лицо. Пьер поцеловал ее трижды и, не прибавив больше ни слова, покинул ее дом.
Глава VII ИНТЕРМЕДИЯ[93] МЕЖДУ ДВУМЯ БЕСЕДАМИ ПЬЕРА С ИЗАБЕЛЛ В ФЕРМЕРСКОМ ДОМЕ
I
Ни в тот же миг, ни длительное время после не дано было Пьеру ни полностью, ни в каких-либо общих чертах постичь смысл того объяснения, кое только что состоялось у него с Изабелл. Но теперь его очам открылась туманная истина о реальном мире, в котором ему прежде многое виделось чересчур простым и прозаическим, чересчур понятным, а ныне он смутно сознавал, что весь окружающий мир и все его обманчиво простые и прозаические приметы на миллион морских саженей ушли в безнадежную глубь непостижимой для его понимания таинственности. Прежде всего, то был загадочный рассказ девушки и его глубочайшая искренность, коя, тем не менее, всегда будет идти рука об руку с неопределенностью, темнотой и сверхъестественностью; так вот, сей необыкновенный рассказ девушки первым делом вытеснил из его души всю обыденность и прозаичность, а затем им на смену пришло несказанное очарование гитарных переливов да мистичность тех нескольких слов, что Изабелл пропела напоследок, – все это пленило и околдовало его, пока он сидел без движения, подавшись всем телом вперед, словно превращенный в дерево и опутанный чарами визитер, что был пойман и скован в мгновение ока в неведомом саду некроманта.
Но теперь, когда он, преодолев усилием воли колдовские чары, шел быстрым шагом по пустой дороге, он боролся со своим мистическим чувством, надеясь рассеять его на время или, по крайней мере, ненадолго приглушить, до тех пор, пока он сам не воспрянет и телом, и духом после своего однодневного поста и долгой бесцельной ходьбы по лесу, а также после неслыханного объяснения, что состоялось прошлою ночью. Он стремился гнать прочь все мысли, что не вели к удовлетворенью его насущных нужд.
Когда Пьер проходил молчаливой деревней, то услышал, как башенные часы бьют полночь. В спешке он вошел в особняк через черный вход, ключ от которого висел снаружи в потайном месте. Не раздеваясь, он рухнул в постель. Но почти сразу же, превозмогая усталость, поднялся и завел будильник с тем, чтоб он настойчиво зазвенел ровно в пять утра. Затем, вновь повалившись в постель да то и дело отваживая все навязчивые мысли, отдавши самому себе строгий приказ поскорее заснуть, он мало-помалу задремал, и сон, сперва неохотно, но под конец радушно и доброжелательно, принял его в свои объятия. В пять он поднялся и увидел на востоке первые проблески зари.
В его намерения входило подняться в столь ранний час и таким путем избежать всех привычных бесед с домочадцами в особняке да провести и второй день в блужданиях по лесам, ибо он видел в этом единственную возможную прелюдию к общению с такой пленительною дикаркой, какой была его новообретенная сестра Изабелл. Но знакомая обстановка его комнаты странным образом на него подействовала. На единый миг он уж готов был молить Изабелл вернуться обратно в чащу заповедных лесов, из коих она вышла к нему с такой украдкой. На единый миг кроткие, всепонимающие голубые глаза Люси восторжествовали над нежными, но мрачными и непостижимо темными очами Изабелл. Он разрывался между ними, не имея силы избрать лишь одну из двоих, ведь казалось, что они обе равно принадлежат ему, но ныне во взор Люси вкралась, не затемнив его, почти та же печаль, что прежде гнездилась во глубине глаз одной Изабелл.
Снова слабость и усталость, словно он прожил бесконечные годы, навалились на Пьера. Он вышел из дому и подставил непокрытую голову освежающему ветру. Воротясь в особняк, он завел будильник на семь и затем растянулся на кровати. Но теперь Пьер не мог глаз сомкнуть. В семь он переменил одежду и в полвосьмого спустился вниз, чтобы увидеться с матерью за завтраком, незадолго до этого подслушав ее шаги на верхнем этаже.
II
Он поприветствовал ее, но она лишь метнула в него взор, сперва мрачный, а затем встревоженный, и, наконец, уставилась на него в нечаянной, плохо скрытой панике. Тогда он понял, что, должно быть, удивительно изменился. Однако мать не подарила его ни одним ласковым словечком, только ответила ему его же фразами о добром утре. Он видел, что по множеству поводов она затаила на него глубокую обиду, кроме того, по непонятной причине она за него боялась, и последнее, что, несмотря на все это, ее жгучая гордость возобладала над ее тревогой; и он достаточно знал свою мать, чтоб ни на миг не усомниться в том, что, разверни он сейчас перед ней даже магический свиток, она не покажет ни малейшего интереса и не задаст ни одного вопроса. Тем не менее он все же не мог вот так просто отказаться от попыток разрушить стену ее отчужденности.
– Я довольно-таки долго отсутствовал, сестра Мэри, – сказал он с натянутой любезностью.
– Да, Пьер. Нравится ли тебе сегодняшний кофе? Это какой-то новый сорт.
– Очень вкусный, у него богатый и душистый аромат, сестра Мэри.
– Рада, что ты так находишь, Пьер.
– Почему вы не называете меня брат Пьер?
– Разве я не назвала тебя так? Ну, хорошо, брат Пьер, так звучит лучше?
– Почему вы меряете меня таким равнодушным и ледяным взглядом, сестра Мэри?
– Разве я смотрю равнодушно и холодно? Тогда я постараюсь смотреть иначе. Передай мне вон тот тост, Пьер.
– Вы очень сильно обижены на меня, дорогая матушка.
– Ни в малейшей степени, Пьер. Видел ли ты Люси на днях?
– Нет, матушка.
– А! Передай мне кусочек семги, Пьер.
– Вы слишком горды, чтобы открыть мне то, что чувствуете сейчас, матушка.
Миссис Глендиннинг медленно поднялась со своего места и предстала перед Пьером в полный рост во всем своем величии женской красоты и царственности.
– Не заговаривай мне зубы, Пьер. Я не выведываю никаких твоих секретов; будем свободно общаться, как всегда, до тех пор, пока не станет слишком поздно или между нами не останется никаких чувств. Берегись меня, Пьер. Нет никого в мире, кого ты имел бы больше причин опасаться, так продолжай же поступать со мной по-прежнему.
Она села на свое место и больше не проронила ни слова. Пьер также хранил молчание; прожевав кусок чего-то – он даже не помнил чего, в молчании покинул и стол, и комнату, и особняк.
III
Как только дверь столовой захлопнулась за Пьером, миссис Глендиннинг поднялась, бессознательно сжимая вилку в руке. Некоторое время спустя, когда она в глубокой задумчивости мерила комнату быстрыми шагами, она ощутила, как сжимает что-то в руке, и, не посмотрев, что это, не определив, что это, она порывисто отшвырнула это что-то. Послышался звук броска и затем легкий металлический лязг. Она обернулась и увидела, что ее собственный улыбающийся портрет, повешенный рядом с портретом Пьера, пронзен насквозь, и серебряная вилка, глубоко воткнувшись в дерево, мелко дрожит.
Миссис Глендиннинг быстро подошла к полотну и без всякой боязни стала перед ним.
– Да, ты пронзена насквозь! Но удар нанесен тебе не той рукой, это надлежало сделать твоим серебряным прибором, – сказала она, повернувшись к лицу Пьера на портрете. – Пьер, Пьер, ты поразил меня ядовитой стрелой. Я чувствую, как кровь во мне мешается с ядом. Я, мать единственного Глендиннинга, я чую сердцем, что произвела на свет последнего из рода, обреченного угаснуть. Ибо быстро угаснет род, в коем единственный наследник стоит на грани бесчестного поступка. А ныне в твоей душе таится какой-то позорный поступок или же что-то совершенно темное и неясное, иль мне чудится, что некий разоблачающий призрак, с туманным, устыженным ликом, уселся вот на этом месте прямо сейчас! Что это может быть? Пьер, поведай. Не улыбайся так беспечно, когда у меня тяжкое горе. Ответь, что это, мальчик? Может ли это быть? Может ли это быть? Нет… да… точно… может ли? Этого не может быть! Однако он не был у Люси вчера, и она не была здесь, и она не вышла ко мне, когда я их навестила. Что это может предвещать? Нет, не просто несостоявшийся брак… не размолвку, когда любящие порой бранятся, чтоб после сразу же помириться со слезами радости… не просто несостоявшийся брак мог так ранить мое гордое сердце. Может быть, это и правда, но только отчасти, а не целиком. Но нет, нет, нет, этого не может, не может быть. Пьер не сможет, он не отважится на такой безумный, такой бесчестный шаг. Нынче в его лице я заметила самую разительную перемену, хотя я ни словом, ни намеком не дала ему знать, что вижу это. Но нет, нет, нет, этого не может быть. Несравненная юная красавица не станет так бояться открытой встречи со мною, если она из благородной семьи. Лилии не расцветают на стебле сорняка, хотя, опороченные соседством, они временами могут расти среди них. Несомненно, она и нищая, и безродная – этакая причудливая помесь, чудная никчемная выдра, обреченная унаследовать обе стороны своей подлой доли – низость и красоту. Нет, я не стану думать о нем так. Но что тогда? Порой я боялась, что моя гордость причинит мне какое-то неисцелимое горе, кое замкнет мне уста и покроет меня лаком внешней невозмутимости, тогда как в своем сердце я, быть может, буду проливать слезы и воссылать беззвучные мольбы. Но кому дано достать из груди собственное сердце, чтобы уврачевать его? Когда один исцеляет другого, это понятно, это порою возможно, но когда кто-то становится в одном лице и лекарем, и пациентом, его же ребра затрещат. Ну, тогда я по-прежнему буду следовать своему нраву. Я сохраню мою гордость. Я и бровью не поведу. Будь что будет, я не стану встречать это на полдороге, чтобы преградить ему путь. Неужто матери следует унижать свое достоинство перед сыном-юнцом? Если он не откроет мне всего добром, пусть пропадает пропадом!
IV
Пьер решительным шагом шел в сердце лесной чащи, и он не остановился, пока не прошел несколько миль, – не остановился до тех пор, пока не пришел к примечательному камню или скорее скальному массиву, огромному, как амбар, вершина которого совершенно терялась в листве, в мощных кронах буков и каштанов.
Эта скала напоминала очертаниями исполинское удлиненное яйцо, но несколько приплюснутое, а также имеющее острые выступы, однако его верхушка была не заостренной, а скорее неправильной клинообразной формы. Вторая скала примыкала к нему где-то внизу, и незаметное основание этого бокового камня покоилось на третьем камне удлиненной формы, немного выступающем из земли. Кроме одной этой неприметной и бесконечно малой точки соприкосновения, вся огромная и тяжеловеснейшая масса камня не имела под собой никакого иного фундамента. От этого вида перехватывало дыхание. Одним своим внешним широким краем скала нависала над землей всего в дюйме; казалось, она вот-вот коснется ее – и все же не касалась. С другого края скалы, во многих футах от первого – пониже, на противоположной ее стороне, там, где она была вся в трещинах и наполовину раскрошилась, – свободного пространства имелось значительно больше, так что оно представляло не только возможность, но даже удобство для предполагаемого скалолаза, однако еще не был известен ни один смертный с бесстрашным сердцем, который покорил бы эту скалу.
Она могла бы стать местной достопримечательностью. Но, как ни странно, хотя в округе насчитывались сотни семейных очагов, где долгими зимними вечерами старики курили свои трубки, а молодые мужчины лущили зерна, сгрудившись все вместе поближе к огню, тем не менее юный Пьер стал единственным известным первооткрывателем этой скалы, кою он затем причудливо окрестил Скалой Мемнона[94]. Возможно, причина, почему остальной мир так долго пребывал в неведении, не подозревая о существовании этой скалы, заключалась не только в том, что ее нельзя было приметить в лесной чаще – впрочем, она стояла посреди леса и утопала вершиною в густом буйстве зеленых ветвей заповедных лесов, и высилась она там, словно остов корабля капитана Кидда[95], что давным-давно затонул в теснине реки у Нагорья Гудзон[96], ибо верх этой скалы находился на все восемь саженей ниже, чем высокие лиственные кроны, и потому был скрыт от взоров даже весеннею порой, когда мириады молодых листов раскрылись еще не полностью; а кроме того, местным жителям было недосуг совершать длительные прогулки в лесные дебри, чтобы просто взглянуть на такую скалу: они с давних пор валили лес да рубили дрова в другой, проходимой части леса – словом, даже если кому-то из простонародья и случилось ее узреть, то никто из них, в силу своей неосведомленности, не угадал в ней настоящее природное чудо, а посему ни у кого не возникло мысли поделиться рассказом о своей находке, не то что писать о ней истории и публиковать за пределами графства. Так что скалу и впрямь могли увидеть, но вскоре позабыть столь незначительный эпизод. Иными словами, сия удивительная Скала Мемнона вовсе не была в их глазах Скалою Мемнона, а то был попросту массивный камень преткновения, о существовании коего глубоко сожалели, так как видели в нем досадную помеху, преграждающую удобный путь, что вел к маленькому распутью и короткой тропке через эту заброшенную часть имения.
Как-то в один из дней, когда он отдыхал, вытянувшись на траве у скалы, прислонясь к ней спиной, пристально ее разглядывая да размышляя о том, как странно это, что в таком графстве, где столько семей живет с незапамятных времен, он стал первым, кто увидел и по достоинству оценил такое великое природное диво, Пьер случайно смахнул рукой несколько сухих плетей серого цепкого мха и под ним, к своему немалому изумлению, обнаружил грубо выбитые в камне полустертые инициалы «С. У.»[97]. Отныне он знал: пусть простой народ в округе и слыхом не слыхивал об этой скале, но все ж он не был тем первым, кто открыл для себя этот изумительный вид опасно нависшей скалы, – нет, в давние, давние времена, в другую эпоху некто уже побывал у этого камня, и его чудесные особенности он оценил весьма высоко, о чем говорили тщательно выбитые в камне инициалы, выбитые тем, кто давно перешел в мир иной, кто, будь он жив и теперь, мог быть так же стар, как самый почтенный вековой дуб. Но кто – кто, во имя Мафусаилова древа[98], – кто мог быть этот «С.У.»? Пьер долго ломал голову, но у него так и не возникло никакой догадки, ибо инициалы по своей древности, похоже, относились к доколумбовой эпохе. Наконец ему представился случай поведать о таинственных инициалах седовласому пожилому джентльмену, своему родственнику из города, который в конце своего долгого и богатого на события, но несчастливого жизненного пути обрел великое утешение в Ветхом Завете и продолжал его изучать с восторгом, что лишь возрастал; и этот седовласый пожилой родственник, когда исследовал все особенности скалы – ее массу, высоту, точный угол ее опасного наклона, и прочее, – тогда, после длительных размышлений, после нескольких протяжных глубоких вздохов, многозначительных взглядов убеленного сединами старца да чтения некоторых стихов из Экклезиаста, после всех утомительных приготовлений, этот седовласый пожилой джентльмен, который никогда не спешил, положил свою дрожащую длань на сильное плечо молодого Пьера и медленно прошептал: «Мальчик, то был Соломон Умудренный». Пьер не мог сдержать веселого хохота, услышав такие слова; будучи необыкновенно позабавлен тем, что в его глазах было крайне чудаковатой и прихотливою игрой воображения, кою он отнес на счет известной всему свету слепой любви, что питал к своему коньку почтенный родич, про которого судачили, что он однажды защищал такое мнение: ветхозаветный Офир, дескать, находился где-то на нашем северном побережье, – поэтому не стоило удивляться, что пожилой джентльмен вообразил, будто царь Соломон мог предпринять путешествие через океаны – словно какой-нибудь суперкарго[99], моряк-любитель, – на золоченом корабле из Тира или Сидона и обнаружил Скалу Мемнона, когда бродил по лесу, вооруженный луком и колчаном стрел для охоты на куропаток.
Но веселье никак нельзя было назвать обычным душевным состоянием Пьера, когда он в своих мыслях вдруг натыкался на эту скалу, и еще менее веселился он, когда сиживал в лесной глуши да внимал полному многозначительности, глубокому молчанию, что царило вокруг, да созерцал невиданный грозный, нависающий над ним скальный массив. У него часто проскальзывала тщеславная мысль, что наилучшим надгробием, какое он только мог себе пожелать, стала бы эта внушительная громада, которая в иную пору, когда нежный ветерок гулял в кронах окрестных дерев, казалось, издавала печальные и горестные стоны, будто оплакивала какого-то прекрасного юношу, что безвременно погиб в незапамятные времена.
Не одно только восхищение всей округи вызвала бы та скала, но с тем же успехом она могла бы вселить ужас в каждое сердце. Временами, когда Пьер проникался мистическим чувством, рассматривая сей непостижимо загадочный скальный массив, он называл его Скалою Ужаса. Мало бы нашлось храбрецов, что даже ради солидного вознаграждения рискнули взобраться на эту головокружительную высоту да потом спуститься вниз с полуразрушенной твердыни. Казалось, вырони на нее из клюва пролетающая птица крохотное семечко, и скала тут же рухнет всей массой, повалив при этом несколько лесных великанов, что росли вблизи нее.
Пьеру очень полюбилась эта скала; он частенько взбирался на нее, вставляя длинные шесты в расселины, и таким образом полз вверх и добирался туда, где были маленькие выемки, куда можно поставить ногу, или же взбирался по ветвям соседних деревьев и затем спускался вниз на выпуклую, как лоб, вершину с помощью гибких ветвей. Но никогда не был он столь бесстрашен – или, вернее, столь безрассудно глуп, быть может, – чтобы начать подъем на скалу с земли по обманчиво удобному высокому краю, ибо тогда возникла бы реальная угроза, что Скала Ужаса рухнет навеки.
V
В тот день Пьер подошел к скале медленным шагом, словно по воле какого-то своего фаталистического порыва, и, устремив на сей исполинский камень решительный взгляд, он бросился на прошлогодние палые листья и прополз на то опасное место, над коим скала нависала всем своим весом. Он не промолвил ни слова – его обуревали чувства, невыразимые словами. Но мало-помалу они стали уступать место все более ясным мыслям, пока наконец до угрожающей и зловещей Скалы Ужаса не донеслись отчетливо слова Пьера:
– Если несказанные страдания когда-нибудь вышибут меня из седла, словно зеленого юнца; если они, когда я дам нерушимое обещание следовать добродетели и правде, сделают меня дрожащим, недоверчивым рабом; если жизнь возложит на меня бремя, которое я буду не в силах нести, не выказывая постыдного раздражения; если все наши поступки и впрямь предопределены свыше, а мы сами – русские крепостные под властью рока; если незримые дьяволы хихикают над нами в то время, когда мы ведем благородную борьбу; если жизнь на самом-то деле не более чем обманчивый сон, а добродетель и все благословения столь же бессмысленны и конечны, как полночное пьяное веселье; если родная мать пожертвует мной во имя долга; и если сам долг не более чем иллюзия, а любые человеческие поступки допустимы и безнаказанны, – тогда ты, о Молчаливая Скала, раздави меня! Годы ты ждала; и если мир таков, не жди более, ибо что можно сокрушить вернее всего, как не того, кто лежит здесь, обращаясь к тебе с мольбой?
Легкокрылая птица, разливаясь песней, слетела вниз на неподвижную и стоящую с вековой несокрушимостью Скалу Ужаса и жизнерадостно чирикнула, словно обращаясь к Пьеру. Ветви деревьев склонились, затрепетали под порывами внезапного налетевшего теплого ветра; и Пьер медленно выбрался ползком из-под каменной громады, и поднялся на ноги, и принял высокомерный вид, словно никому ничего не должен, да и пустился снова в свой безотрадный путь.
VI
В дни ранней юности, будучи во власти воспламеняющего мечты, раздумчивого настроения, Пьер нарек удивительную скалу древним, некогда гремевшим именем Мемнона, поступивши так потому, что вспомнил о некоем диве с египетских берегов, про которое толковали наперебой все, кто странствовал по Востоку. И когда в те невозвратные времена посетила его мимолетная мысль пожелать, чтоб на его могилу водрузили эту самую скалу, как гробовой камень, когда настанет ему срок отойти в мир иной, в те поры он просто уступил одному из бесчисленных прихотливых решений, что обладают привкусом мечтательной, безвредной меланхолии и столь часто приходят на ум всем поэтическим юношам. Но гораздо позднее, оказавшись в жизненных обстоятельствах, бесконечно далеких от тех, в коих он находился, живя в Седельных Лугах, Пьер вспомнил и о скале, и о своих молодых о ней размышлениях и вслед за тем – о том акте отчаяния, когда он умолял скалу раздавить его; и лишь теперь он осознал огромную важность произошедшего, а былое невольное движение его сердца, молодого в ту пору, ныне показалось ему пророческим и аллегорически подтвержденным грядущими событиями.
Но не станем больше доискиваться других и вовсе не уловимых смыслов, что пресмыкались у подножия этой колоссальной массивной скалы, скрытой от взоров простых поселян, однако обнаруженной Пьером, который разглядел Скалу Мемнона в ее чертах. Мемнон же был полубог, любимый сын Эос и царя Египта, который, взойдя на царский престол, с романтическим безрассудством бросился на защиту одной из сторон праведного дела, а там встретился в битве с сильнейшим противником и принял от него мальчишескую и в высшей степени печальную смерть под стенами Трои. Его убитые горем соратники возвели монумент в Египте, чтобы почтить память о его ранней кончине[100]. И с той поры на каждом рассвете, чуть только согреет безутешная Аврора своими лучами статую, как она начинает издавать печальные, надорванные стоны, словно то струны арфы, что порвались от чрезмерного натяжения.
Безбрежное море скорби открывается взору в этой истории. Ибо сей печальный миф повествует нам о воплощенном гамлетизме античного мира, о гамлетизме, что произнес три тысячи лет назад: «Цветы добродетели пали под серпом редчайшего несчастия». И английская трагедия есть не что иное, как египетский миф о Мемноне, что преобразился под пером Монтеня и приобрел современный характер, ибо, будучи простым смертным, Шекспир также имел предшественников.
Подобно Колоссу Мемнона, что сохранился до наших времен, и по сей день найдутся в иных царских семьях (поскольку и Мемнон, и Гамлет были сыновьями королей) молодые люди, у коих в душе идет борьба благородных страстей, но кои всегда терпят кораблекрушение надежд, и сей меланхолический тип воплощен в данной статуе. Но сладкозвучные горестные стоны колосса Мемнона давно смолкли; ныне он онемел. Самая достойная эмблема для утвержденья, что поэзия с давних пор и освящала, и хоронила все печальные обычаи человеческой жизни, а в эпоху, что высмеивает все на свете, в эпоху бессодержательную, прозаическую и бессердечную, сладкоголосые песни Авроры задушили наши пески, что поглотили сам монумент и заставили навеки умолкнуть его погребальную песнь.
VII
Когда в тот день Пьер блуждал по лесам, все мысли оставили его, кроме тех, что относились к Изабелл. Он пытался уплотнить мистический туман в ее рассказе до некоего четкого и понятного сюжета. Он сделал естественный вывод, что путаница, на кою она неоднократно намекала во время их беседы, то и дело увлекала ее на отступления от главного повествования; и она же в конце концов понудила Изабелл оборвать свой рассказ, оставив его в неожиданной и полной загадок неизвестности. Но вместе с тем он был уверен, что так вышло без всякого умысла с ее стороны и теперь, без сомнения, она сама об этом сожалеет, а потому он верил, что в предстоящей второй беседе разъяснится большинство мистических подробностей, полагая, что их разлука на день вполне ее успокоила, а также лишила ее уже некой доли таинственности в его глазах; он поэтому не так уж обвинял себя в беспечности, что проявилась, когда он назвал точное время, на которое должно было прерваться их общение. И впрямь, стоило ему подумать о том, какова продолжительность светового дня начиная с зари, и день сразу показался ему бессмертным и бескрайним. Он не мог вынести вида человеческого лица или жилища; и возделанное поле, и чья-то пашня, и некогда срубленная сосна, что стала гниющим бревном, и всякий след от прикосновения руки человеческой был ему равно и чужд, и противен. Более того, все воспоминания и образы, кои его сознание относило к человечеству в размытом и общем смысле, даже они самым непостижимым образом стали ему временно ненавистны. И при этом, когда непроходимое отвращение застлало ему взор сразу на два мира – на тот, что мы видим снаружи, и на тот, что мы созерцаем внутри, – тем не менее, бороздя бурные воды в самых отдаленных и таинственных областях своего разума, Пьер не мог там отыскать ни единой зеленой ветви мысли, на кою вспорхнула бы его измученная душа.
Люди в большинстве своем редко страдают такой полной нищетой духа. Если только Бог не даровал им неизлечимого легкомыслия, люди в большинстве своем втихомолку взращивают кое-какое самомнение или же добродетельную удовлетворенность; люди в большинстве своем всегда совершают какие-нибудь маленькие самоотверженные поступки в пользу ближних; а потому, когда они переживают отчаянную усталость, коя порой растягивается на целые часы и которая непременно, через разные и всевозможные временные промежутки, настигает почти каждое цивилизованное человеческое существо, то тогда эти особы сразу же вспоминают, что за ними числится один, или два, или три мелких самоотверженных поступка, и в них они черпают для себя и облегчение, и утешение, и удовольствие, кое вознаграждает их за труд. Но совсем по-другому обстоят дела с теми людьми, чей дух язвит презрением самое себя, в чьих избранных душах звучит глас самих небес и царствует древнейшее убеждение, кое, в обход всех идеологий, провозглашает, что самое правдивое христианское учение велит полностью забывать совершенные добрые дела; и поэтому случайно пришедшее на ум воспоминание об их великодушных деяниях никогда не доставит им ни капли утешения, а когда же в их памяти оживают ошибки и злодеяния прошлого, то и это (следуя предписаниям коррелятивного библейского учения) не приносит им ни малейших укоров совести, ни тени ее упреков.
Несмотря на то что неразрешимая таинственность повествования Изабелл временно привела его в это особое душевное состояние, от которого выражение лица нашего Пьера порядком подурнело, все же что-то должно занимать душу человеческую; и Изабелл была самой близкой ему сейчас, и Изабелл была той, кому он посвятил все свои мысли, поначалу с великой болью и неловкостью, но вскоре (ибо небеса в конце концов вознаграждают решительного и исполненного сознания своего долга мыслителя) его антипатия пошла на убыль, и наконец он стал думать о ней с большой благожелательностью и теплотой. Пьер вспоминал первые впечатления, что произвели на него те или иные подробности ее необыкновенного рассказа; он вспоминал все – пусть и мимолетные, но мистические – подтверждения ее истории, кои находили отклик в его памяти и сознании, заливали новым мерцающим светом ее историю и, несмотря на то что лишь увеличивали загадочность последней, служили также замечательным доказательством ее правдивости.
В самом раннем своем воспоминании она видела себя живущей в старом, заброшенном доме, напоминающем шато, что стоял посреди некой неведомой, похожей на Францию страны, коя, по ее туманным представлениям, находилась где-то за океаном. Не совпадает ли это самым удивительным образом с теми естественными выводами, какие он сделал, выслушав рассказ тетушки Доротеи о том, как исчезла юная француженка? Да, пропажа юной французской леди, произошедшая по эту сторону океана, давала основания предполагать, что она могла оказаться на другом его берегу; и Пьера бросило в дрожь, когда он представил мрачную картину ее возможной дальнейшей жизни, и ее разлуку с младенцем, и его заточение в диких и пустынных горах.
Но у Изабелл было также неясное воспоминание о том, как она пересекла океан – во второй раз пересекла, многозначительно подумал Пьер, поразмыслив над нечаянным предположением, что она, скорее всего, бессознательно и тайно совершила свое первое путешествие через моря, сокрытая под скорбным материнским сердцем. Но в попытках объединить все то, что он слышал от разных людей, найти такие детали головоломки, что идеально срослись бы друг с другом, или отыскать объяснение, как и почему Изабелл совершила второе плавание через океан в столь нежном возрасте, – в этих попытках Пьер провалился, чувствуя, что недостает знаний ни у него, ни у Изабелл, чтобы отдернуть завесу глубочайшей таинственности, что скрывала ранние годы ее жизни. Уверенность в том, что эта загадка останется навеки неразгаданной, восторжествовала, и он поспешил изгнать из своей головы все размышления на эту тему, заклеймив их безнадежно бессмысленными. Также он постарался большей частью забыть о том воспоминании Изабелл, где она рассказывала о большом доме, чье название нестерпимо резало ей слух и откуда ее в конце концов увезла красивая женщина, приехавшая в карете. Прежде всего этот эпизод ее жизни породил у него догадки самого ужасного свойства, подозрения, что его отец мог принять участие в сокрытии такого деяния, при мысли о котором благочестивая душа Пьера падала замертво от изумления и отвращения. И тогда его бессилие пролить больше света на сию картину, и неумолимая невозможность при помощи только логики да усилий мысли обелить своего отца и снять с него всю ответственность за произошедшее, и тьма-тьмущая других, самых мрачных предположений – все это вместе с такою адской силою и настойчивостью одолевало Пьера, что сия беспредельная злоба могла исходить не от кого иного, кроме как от самого дьявола. Но если эти химеры коварно и своевольно проникли в его душу, то и Пьер своевольно отринул их; и его душа, возмущенная до последней степени, с шумом и яростью опрокинула их обратно в глубочайшие бездны Тартара, из которых они перед нею восстали.
Чем дальше и дальше Пьер размышлял над историей Изабелл, тем больше и больше поправок добавлял он к своему первоначальному убеждению, что вторая беседа многое прояснит. Ныне он понимал, или ему казалось, что понимает: это не столько Изабелл виновата, что рассказывала с такими хаотичными и своеобразными недомолвками да тем самым затуманила смысл своей истории, а сама сущность и неизбежная мистика ее повествования облекли для него Изабелл в такие пышные одежды таинственности.
VIII
Венцом всех этих раздумий стало убеждение, что все, чего ему стоит ожидать от второй беседы с Изабелл, все, что войдет в ее дальнейшую исповедь, это малое количество каких-нибудь второстепенных подробностей, кои она изложит вкратце вплоть до сегодняшнего дня, да заодно дополнит новыми штрихами то, что уже успела ему поведать. Очень сомнительно, убеждал он себя самого, что у нее остались еще тузы в рукаве. Изабелл не вела себя с ним так, будто отвлекалась от темы или утаивала что-то на душе, как он прежде думал. И впрямь, о чем ином может быть нынче ее повествование, если не о том, какими диковинными путями она вынужденно шла, чтобы наконец разыскать своего брата, и о том будет также ее печальный рассказ, как она неустанно боролась за каждый пенни со своею лютой нуждою, да о том, как она, в поисках пропитания и не гнушаясь тяжелою работой, кочевала от деревни к деревне, пока он не застал ее скромною прислугой на ферме Ульверов? Возможно ль это, мыслил Пьер, что в нашем привычном мире серых будней живет себе неприметно молодая особа, вся история жизни которой займет немногим больше чем четыре десятка слов, а между тем ее хрупкое тело служит храмом неиссякаемому источнику вечно юной тайны? Возможно ли, в конце-то концов, чтоб в этом мире кирпично-красных да выбритых до синевы лиц, чтоб в мире, где мы живем, было полным-полно записных чудес, а я да и весь род человеческий скрывали под нашими одеяниями, сотканными из сплошных банальностей, такие загадки, кои сами звезды да, пожалуй, и шестикрылые серафимы не властны разрешить?
Неизъяснимо прочной, невзирая на то что весьма шаткий факт говорил в пользу его кровного родства с Изабелл, была та незримая связь, что, как он чувствовал, ныне вела его галереей доселе невиданных и нескончаемых чудес. Казалось, сама его кровь бежит по жилам с непривычной нежностью, когда он думал, что эта же самая кровь струится в таинственных жилах Изабелл. Все муки неизвестности, какие он подчас испытывал, неизменно касались одной основной и капитальной проблемы – в самом ли деле Изабелл приходилась ему сводною сестрой? – и то был дополнительный требушет, бомбардировавший его снарядами, что звались неизбежность и неразрешимость.
Она мне сестра – родная дочь моего отца. Ну, так что же, почему я должен этому верить? Всего пару дней назад я не слыхал ни единой сплетни о ее существовании; так что же такое произошло с тех пор, чтобы мое мнение кардинально изменилось? Получил ли я какие-то новые и неопровержимые доказательства? Вовсе нет. Но я же видел ее. Ладно, допустим; я мог бы увидать тысячу других девушек, коих никогда не видел прежде, но все же не выбрать среди них ни одной, чтобы наречь сестрою. А как же тогда портрет, портрет отца в кресле, Пьер? Подумай об этом. Но его написали до того, как Изабелл появилась на свет; какое отношение он может иметь к Изабелл? На портрете на этом не Изабелл, а мой отец, да притом еще мать клянется, что там изображен не он.
И вот, когда теперь Пьер остро чувствовал, сколь сильны спорные пункты даже в самых мелких из ему известных фактов, имеющих какое-либо отношение к делу, да притом питая сильную, как смерть, уверенность, что, невзирая на все, Изабелл и впрямь ему сестра, мог ли он, будучи поэтической натурою от природы и потому проницательным, мог ли он испытывать недостаток в подтверждениях присутствия во всех событиях той всемогущей и вездесущей дивной силы, кою большинство, когда ее распознает с трудом и близоруко щурясь, многозначительно нарекает перстом Божиим? Но здесь виден не один указующий перст, здесь распростерлась вся длань Божия, ибо разве Священное Писание не намекает нам о том, что Он держит всех нас в Своей длани?.. Воистину так, держит в Своей длани!
Пьер все еще блуждал по лесу, следя взглядом за вечно изменчивой игрой теней, вдалеке от окрестных селений и дорог того необыкновенно своевольного народа, который, сосредоточив низкие интересы на глине и грязи, всегда стремился опошлить свои же высокие душевные порывы; и таковы были мысли, что дали всходы в уме Пьера, мысли и мечты, кои никогда не расцветают в городских пределах, но рождаются лишь в тиши первобытных лесов, кои, наравне с бескрайним океаном, остались единственными природными пейзажами, что сохранили первоначальный облик до наших дней, тот облик, каким он был на заре времен, когда впервые предстал глазам Адама. И выходит так, что земные явления, кои казались самыми огнеопасными или же испаряемыми, такие как лес и вода, на поверку оказываются наиболее долговечными из всех.
Все его размышления, сколь бы пространными они ни были, ныне вращались вокруг Изабелл, их центра, и возвращались к ней на каждом новом вираже, вновь давая жизнь каким-нибудь новым удивительным мыслям.
Вопрос о времени возник в уме Пьера. Сколько лет было Изабелл? Если верить логическим выводам, кои появились, когда он узнал предполагаемые подробности ее жизни, то получалось, что она ненамного его старше, хотя оставалось неясным, каков ее возраст, притом что в манерах ее проскальзывало много детского; и потому, как бы там ни было, он не только ощущал над нею свое, скажем так, мужское превосходство, кое в единый миг пробудило в нем искреннее желание сделаться ее старшим защитником и не только вложило в его голову мысли о превосходстве его знаний о мире и его общего культурного багажа, но кое также внушило ему уверенность, нарекавшую его старшим в отношении времени, а Изабелл называвшую вечным ребенком. Сие, достойное удивления и вместе с тем сильное самообольщение проистекало из его мистического убеждения, кое, вне всяких сомнений, имело неустановленный и неведомый источник в глубинах его разума, источник, что питали подводные ключи мыслей, порожденных его добросердечными размышлениями о безыскусно кротком детском выражении лица Изабелл, кое почти всегда отражало глубокую печаль и, однако же, не теряло, несмотря на это, ни на йоту своего детского очарования; так на личиках иных детей в их первые годы жизни нередко останавливается выражение глубокой и безграничной грусти. Но ни грусть, ни особенное выражение ее лица, кое, правду молвить, и впрямь казалось детским, не служили причиною того неизгладимого впечатления, что произвела на него Изабелл, поразившая его своею истинной и бессмертной юностью. То было что-то другое – что-то такое, что никак не давалось в руки.
Вознесенные цветистою хвалою, кою с превеликой готовностью расточает им весь род людской, в сферы высокие и чистые, куда всем остальным вход заказан, красавицы – по крайней мере, те из них, кто столь же прекрасен душою, сколь и телом, – в течение долгого времени сохраняют, вопреки неумолимому закону о бренности всего земного, мистическую привилегию быть неподвластными магической формуле старения, поскольку в то время, когда их телесная красота начинает мало-помалу увядать, ей на смену исподволь приходит красота душевная, что заменяет собою младое цветение, и чары ее, происходя не от земных начал, обладают неотразимой притягательностью звезд. Можно ли найти другое объяснение, почему иные шестидесятилетние женщины держат в прочнейших узах любви и верности мужчин, кои столь молоды, что могли бы зваться их внуками? И тогда отчего соблазнительная Нинон[101] невольно разбивала дюжины сердец в свои семьдесят? Причина кроется в непреходящей силе женской привлекательности.
В детском, хотя и неизменно печальном выражении лица Изабелл Пьер видел ту ангельскую невинность, которую Спаситель называл единственным обличьем праведных душ, ибо для таких душ – пусть даже немного детских – открыто Царствие Небесное.
Бесконечный, как те дивные реки, что некогда омывали ноги первых поколений людей и которые и поныне катят свои быст рые воды у могил их наследников да плещутся у подножия ложа нынешнего человечества, так и сей бесконечный поток мыслей, словно эти бессмертные реки, бежал в душе Пьера, становясь все чище и чище, уносясь все дальше и дальше, – то были мысли об Изабелл. Но чем дальше бежала река его мыслей, тем шире в его душе разливалось половодье таинственности и тем крепче становилось его убеждение, что эту таинственность ничем не развеять. В ее жизни была неразгаданная тайна; и предчувствие подсказывало ему, что такой она и пребудет на веки вечные. Ни малейшей надежды, ни малейшей иллюзии не питал Пьер, что когда-нибудь в будущем те тьма и печаль, что окутали ее душу, пропадут без следа, уступив место свету и радости. Как все молодые люди, Пьер узнавал жизнь из романов: он прочел больше романов, чем все его приятели, вместе взятые; но их ложные попытки шиворот-навыворот систематизировать те события, что будут неизменно уклоняться от любой систематизации, их дерзновенные, настойчивые, но вместе с тем бесплодные усилия распутать, распределить и упорядочить те нити, что тоньше паутинок, те нити, что составляют сложное хитросплетение жизни, – все это больше не оказывало никакого влияния на Пьера. Он проник мыслью прямо сквозь все их напрасные и мучительные нагромождения слов; и одна-единственная, интуитивно им осознанная правда поражала, словно тараканов, все умозрительные обманы романных истин. Он понимал, что жизнь человеку и впрямь дарует сила, кою люди согласно чтут под именем Бога, и что сила эта входит в непостижимую тайну Господа. Безошибочный инстинкт говорил ему, что радостное начало жизни далеко не всегда сулит счастье на ее закате, что не всегда раздается свадебный перезвон колоколов в последней сцене пятого акта жизни, что бессчетное множество романов трудолюбиво создает покров тайны лишь для того, чтобы в самом финале угодливо сорвать с нее этот покров, и что во всех бесчисленных обыкновенных драмах повторяется то же самое, и что глубочайшие творения человеческой мысли, призванные передать все, что было известно человеку о его земной жизни, эти творения никогда не поясняют затруднительные места в своем повествовании и не имеют никакого надлежащего завершения, но на своих несовершенных, непредвиденных да сулящих разочарования событиях они вразвалку спешат (словно на обезображенных культях) исчезнуть в бессмертных волнах времени и судьбы.
И потому Пьер оставил всякую мысль о том, что темный светильник Изабелл когда-нибудь озарится для него светом. Ее свет сиял за дверью, что была надежно заперта. Но он больше не чувствовал боли, думая об этом. Он мог бы письменно обратиться и к одним, и к другим, собирать воспоминания о своей семье и, прибегнув к хитрости, выманить кое-какие сведения у оставшихся в живых родичей по отцовской линии, и, возможно, ему попались бы малые крупицы сомнительных и никуда не годных фактов, кои, поверь он в них всей душой, только еще сильней и безнадежней ранили бы его, мешая принятию его нынешних решений. Он дал себе твердое слово не слишком вникать в подробности этой святой задачи. Для него тайна Изабелл обладала всеми очарованиями загадочного ночного небосвода, сама тьма которого пробуждает колдовство.
Поток мыслей все еще неторопливо струился в его сознании, и ныне показалась на поверхности новая мысль.
Несмотря на то, письмо Изабелл переполняли всевозможные святые желания сестры заключить в объятия брата, и в самых страстных красках оно живописало ее бесконечные мучения от разлуки с ним; и хотя оно оканчивалось клятвою в правдивости – клятвой, что без его постоянной любви и сострадания вся ее дальнейшая жизнь будет годна лишь на то, чтобы броситься в какой-то бездонный омут или бурную реку, – но во время условленной заранее первой встречи брата с сестрою ни одно из этих страстных выражений не прозвучало. Она больше трех раз поблагодарила Бога и с большей серьезностью поздравила себя с тем, что он отныне будет делить с ней ее одиночество; но не было в ней ни малейшего следа обычной и привычной сестринской привязанности. И то, разве не вырывалась она из его объятий? Ни разу не поцеловала его; и он ее не поцеловал, если не считать того раза, когда он на прощание коснулся губами ее чела.
Ныне Пьер начал прозревать тайны, что пронизывали другие тайны, и загадки, что ускользали прочь от других загадок, и начал, казалось, видеть простую иллюзорность так называемых незыблемых принципов человеческого общества. Судьба сделала их таковыми. Судьба держала в разлуке брата и сестру, пока они не стали друг другу чужими. Сестры не уклоняются от братских поцелуев. И Пьер понял, что никогда, никогда не сможет он обнять Изабелл простым братским объятием; но когда он думал о тех ласках, кои приняты в семье, мысли об иных объятиях вовсе не смущали покой его чистой души, ибо они никогда не появлялись там осознанно.
Вот каким образом та, кто по воле жестокого рока была лишена всякого умения вести себя так, как подобало сестре, и оттого, вероятно, она дважды и навсегда отдалила малейшую возможность, что ее любовь позволит Пьеру воссоединиться со своей Люси, коя по-прежнему оставалась предметом его самых глубоких и пылких чувств; вот каким образом Изабелл для него стала превыше царств земных и вознеслась живою на седьмые небеса вечной любви.
Глава VIII ВТОРАЯ БЕСЕДА В ФЕРМЕРСКОМ ДОМЕ И ВТОРАЯ ЧАСТЬ ИСТОРИИ ИЗАБЕЛЛ. КАК ЭТА ИСТОРИЯ ПРЯМО И НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОВЛИЯЛА НА ПЬЕРА
I
Вторая его беседа с Изабелл была более вразумительной, но не менее волнующей и таинственной, чем первая, и он ничуть не удивился, что в начале ее появилось куда больше чудес и загадок.
Как и прежде, одна Изабелл встретила его на пороге фермерского дома и не проронила ни слова, пока они не уселись на скамью в комнате с двустворчатым окном и он не обратился к ней первым. Если Пьер и строил какие-то планы, как держать себя в этот момент, то они касались некоего внешнего проявления чувств, где он излил бы свою предельную любовь к сестре; но ее упорное молчание да мистическая атмосфера, что царила вокруг, заморозили его на месте, его руки не желали раскрываться для объятий, его губы не желали размыкаться для родственного поцелуя, а между тем его сердце переполняла глубочайшая любовь, и он хорошо знал, что девушка безмерно счастлива его присутствием. Никогда прежде столь тесно не переплетались меж собой любовь и уважение, и не сливались в одно; никогда прежде сострадание не следовало по пятам за любопытством и не налагало магические путы на все его телодвижения, не сковывало его волю.
После горстки слов, что с запинкой вымолвил Пьер, да ее краткого ответа в комнате повисла пауза, и стали отчетливо слышны не только мягкие медленные шаги с остановками, что доносились с верхнего этажа, как и прошлой ночью, но и какие-то слабые звуки домашних хлопот, что долетали до них из соседней комнаты; и, заметив бессознательно-вопросительное выражение лица Пьера, Изабелл сказала ему:
– Ну, брат мой, чую сердцем, ты теперь и сам видишь странности и тайны, присущие моей жизни да мне самой, и потому я наконец могу немного оправдать свое поведение, которое ты, быть может, истолковал неверно. Только в тех случаях, когда человек отказывается признать за другими их незаурядность да принять во внимание, сколь необычна была обстановка, в коей они находились, тогда у него составляется ложное впечатление об этих других, и такой самообман рано или поздно ранит его чувства. Мой брат, если я порой кажусь тебе замкнутой и неласковой, все же верь по-прежнему сердцу Изабелл и не позволяй ни единому сомнению смутить себя. Брат мой, звуки шагов, что долетают с верхнего этажа, вызвали у тебя важные вопросы ко мне. Не говори – я прекрасно все понимаю. Я расскажу, почему живу здесь, ибо, как ты мог уже догадаться, комната эта не моя. И заодно сие мне напомнило, что осталось несколько пустяков, о коих должно тебе поведать, принимая во внимание события, что в конце концов даровали мне брата с душою такого ангела.
– Я не могу удержать за собой этот титул, – сказал Пьер серьез ным и низким голосом, придвигаясь к ней немного ближе, – по справедливости, звание ангела принадлежит тебе одной.
– Брат мой, я продолжу и поведаю обо всем, что, сдается мне, ты хочешь знать, в дополнение к тому, что я столь бессвязно рассказала тебе прошлой ночью. Около трех месяцев назад семья, что нанимала отдаленный фермерский дом, вдруг отказалась от его аренды и уехала на Запад. Мне не удалось сразу же подыскать себе новое место, но пожилые соседи радушно приютили меня у своего очага и были так великодушны, что предложили пожить у них до тех пор, пока я не найду что-то подходящее. Однако я не сидела сложа руки в ожидании счастливого случая, что выручил бы меня; и поиски работы привели к тому, что я узнала печальную историю Дэлли Ульвер и то, что этот удар судьбы не только погрузил ее стариков родителей в самую глубокую скорбь, но и лишил их всякой помощи по хозяйству от единственной дочери, и крайнее неудобство такого положения могут легко вообразить те, кто привык жить в окружении слуг. Несмотря на то что мой обычный настрой – если дозволено так называть стремление к лучшей доле, – и впрямь стал очень угнетенный оттого, что несчастье Дэлли служило источником моей выгоды, – этот настрой никоим образом не повлиял на принятое мною решение: даже самые сокровенные и правдивые мои мысли редко на меня влияют; и вот я пришла сюда, и мозоли на моих руках могут свидетельствовать, что я трудилась здесь не напрасно. Брат мой, с тех пор, как ты меня вчера покинул, я не дивлюсь, отчего ты не пытался у меня выведать, как и когда я узнала, что имя Глендиннингов столь тесно связано с моим собственным, и как я узнала, что Седельные Луга – наше родовое гнездо, и почему я, наконец, адресовала свое послание именно тебе и никому другому, и как можно объяснить то памятное событие, что случилась на собрании кружка шитья у двух мисс Пенни.
– Я и сам диву даюсь, как это сии вопросы ни разу не пришли мне в голову, – отвечал Пьер. – Но, Изабелл, твои роскошные волосы и впрямь опутали меня некими чарами, от коих улетучились все мои прежние раздумья, а мне только и оставалось, что любоваться нубийскою силою, коя струилась из твоих глаз. Но продолжай и расскажи мне все и вся. Я жажду знать все, Изабелл, исключая лишь то, что ты не желаешь открыть мне сама. Что-то подсказывает мне, что я уже знаю сердцевину всего и ты вплотную приблизилась к пределу всякой откровенности, а потому, что бы ни осталось тебе досказать мне, это лишь дополнит да подтвердит то, что прозвучало прежде. Словом, продолжай свой рассказ, моя любимая… да, моя единственная сестра.
Изабелл подняла свои чудные глаза и подарила Пьеру долгий страстный взгляд, а затем вскочила на ноги и быстро приблизилась к нему, но вдруг резко замерла и, не проронив ни слова, вернулась на свое место, помолчала какое-то время, отворотясь от него, и, подперев щеку ладошкой, через распахнутые оконные створки в молчании любовалась на слабые зарницы, что порою вспыхивали на горизонте.
Вскоре она заговорила.
II
– Брат мой, ты, верно, помнишь ту часть истории, когда, обратясь к воспоминаниям детства, что прошло вдали отсюда, я рассказала, как меня представили тому джентльмену… моему… да, нашему отцу, Пьер. Я не в силах описать тебе все, ибо я и сама не могу понять толком, как это было, поскольку, невзирая на то что я иногда называла его своим отцом, да и фермеры, приютившие меня, звали его так же, если говорили о нем со мною, несмотря на это – и я думаю, что тому виной необыкновенное уединение моей прежней жизни, – так вот, я не могла свыкнуться с мыслью об отце, освоиться с теми чувствами, что появляются у детей, когда они общаются со своими родными, как все. Слово «отец» имело для меня лишь общий смысл любви и нежности, не более того; и в моем сознании оно, казалось, не совпадало ни с какими претензиями любого сорта. Я никогда не спрашивала, как зовут моего отца, ведь не было случая, когда бы к нему при мне обратились по имени, а это не преминули бы сделать, как-то выделить среди прочих человека, который был со мной особенно добр; и мы уж давным-давно определились, как нам величать его, и меж собою именовали его джентльмен, да я говорила о нем изредка мой отец. И поскольку у меня не было причины надеяться, что мои домочадцы, начни я рано или поздно делать им вопросы о том, каково в миру имя моего отца, сжалятся и в конце концов откроют мне его, ибо с давних пор я, имея на то особые веские основания, питала уверенность, что фермер и его семья дали клятву обходить сей предмет молчанием; и я не знаю, удалось бы мне когда-нибудь выудить из них, как же все-таки звучит имя моего отца, а это значит, что я могла никогда не увидеть ни тени, ни краешка указания к тому, что на свете есть ты, Пьер, или кто-то из твоих родичей, – все так и было бы, если б не простейшая игра случая да ничтожный инцидент, что открыл мне правду довольно рано, хоть я в ту пору и не знала цены сему знанию. В последний раз, когда мой отец посетил наш дом, ему случилось обронить свой носовой платок. Жена фермера была та, кто первая это обнаружила. Она подняла платок с полу и, мгновение повертев его в руках да быстро изучив у него уголки, протянула мне со словами: «Вот, Изабелл, возьми носовой платок доброго джентльмена; сохрани его у себя до тех пор, пока он вновь не придет навестить маленькую Белл». Я радостно поймала платок и спрятала его на груди. Он был из белой ткани; и, рассматривая его вблизи, я нашла маленькую строчку желтых букв посередине. В то время я не умела ни писать, ни читать – одним словом, не знала грамоты; однако какой-то тайный инстинкт шепнул мне, что женщина ни за что не дала бы мне платка с такою легкостью, знай она, что на нем вышиты некие инициалы. Я не стала расспрашивать ее о платке; я ждала, пока вернется мой отец, чтобы тайком вызнать у него все. Носовой платок был в пятнах пыли, побывав на голом полу. Я взяла его с собой и постирала в ручье, а затем высушила, разложив на лугу, куда никто никогда не захаживал, и после прогладила его своим маленьким утюгом, чтобы он выглядел как можно привлекательнее. Но мой отец не пришел к нам больше; и я горевала о нем, а его платок с каждым днем становился мне все дороже и дороже; он впитал немало слез, что я пролила тайком, тоскуя о своем дорогом исчезнувшем друге, коего, в своем детском неведении, я равно называла и мой отец, и джентльмен. Но когда мне пришлось смириться с его смертью, я вновь постирала, высушила и выгладила бесценный его платок и спрятала его там, где никто, кроме меня, не мог его найти, и решила никогда не пачкать его моими слезами; я сложила его таким образом, что имя отца скрывалось в самом центре, и платок был словно книга, в которой нужно было перевернуть много пустых страниц прежде, чем доберешься до таинственных строк, кои, я знала, что прочту когда-нибудь, не прибегая ни к чьей помощи. Я решила прочесть их – и научиться читать для того, чтобы лично раскрыть тайну этих выцветших букв. В своем стремлении выучиться читать я не имела никакой другой цели, кроме этой. Я легко убедила женщину давать мне небольшие уроки грамоты, и, будучи необычайно понятливой и при том желая научиться больше всего на свете, я быстро выучила алфавит и продвинулась в правописании и шаг за шагом – в чтении, и наконец я полностью расшифровала таинственное слово – Глендиннинг. Я была очень невежественна. Глендиннинг, думала я, что это? Оно по звучанию похоже на слово джентльмен; Глендиннинг – так же много букв, как и в джентльмене; и оно начинается на ту же букву[102]; да, должно быть, это и есть имя моего отца. Отныне я только так и буду величать его в своих мыслях, брошу думать о нем как о джентльмене и начну называть его просто Глендиннинг. Когда, наконец, я переехала из того дома в другой и потом в третий и пока я взрослела и со мною вместе росло мое самосознание, слово это всегда жужжало в моей голове, я видела, что оно лишь ключ к несравненно большему. Но я подавляла все порывы своего неумеренного любопытства, если таковое когда-либо распирало мне грудь. Я никого не расспрашивала о том, кто такой Глендиннинг, где он живет, есть ли у него какая-то другая девочка или мальчик, кои зовут его отцом, как я. Я решила держаться с полнейшим спокойствием, словно пребывала в некоей загадочной уверенности, что настанет такой день, когда судьба сама отдернет предо мной свою тайную завесу и изберет для этого момент, который будет для меня наиболее удачным. Но теперь, брат мой, я должна немного отдохнуть… принеси мне гитару.
Неожиданная новизна, и милая наивность, и ясность, что прозвучали в нынешнем повествовании Изабелл, удивили и обрадовали Пьера, ибо он мысленно сравнивал их с туманными и чудесными признаньями, что она поведала ему прошлой ночью, и потому он более всего желал, чтоб Изабелл и дальше повела свой рассказ в тех же простых выражениях, но, памятуя о том, в сколь возбужденное и мистическое состояние ввергла его Изабеллова игра на гитаре, Пьер, протягивая ей инструмент, на сей раз не смог удержаться от взгляда, в коем смутно угадывалось не до конца скрытое сожаление, да от сдержанно-насмешливой, но добродушной улыбки. Сие не ускользнуло от внимания его сестры, коя, приняв гитару, взглянула ему в лицо с выражением, кое можно было б счесть почти лукавым и игривым, если б только ее роскошная копна волос не бросала неизменной тени на ее бархатные глаза да не струилась бы из них тьма с удвоенною силою.
– Не тревожься, брат мой, и не смейся надо мной – я не собираюсь тебе петь «Тайну Изабелл» этой ночью. Придвинь же ее ко мне ближе. Принеси светильник сюда.
Так сказав, Изабелла отвинтила несколько винтов из слоновой кости сбоку гитары, чтобы открыть для взора продольную щель, которая позволяла заглянуть внутрь.
– Ну-ка возьми ее вот так, брат, вот, и увидишь то, что должен увидеть, но подожди минутку, пока я не поднесу светильник еще ближе. – Произнеся эти слова, Изабелл, в то время как Пьер держал гитару прямо перед собой, повернула лампу так, чтобы свет падал прямо в круглое отверстие в сердце гитары: – Вот, Пьер, вот, смотри.
Пьер уступил просьбе и жадно заглянул вовнутрь гитары, но ощутил некое разочарование, хоть и подивился тому, что увидел. Он прочел имя Изабелл, вполне разборчивое, но все же немного расплывчатое, что украшало ту часть внутренностей гитары, где они образовывали выступающую дугу.
– Прелюбопытное место ты выбрала, Изабелл, когда, получив гитару, решила сделать эту гравировку. Как это вообще можно было сделать, хотел бы я знать.
Девушка бросила на него беглый удивленный взгляд, затем забрала у него инструмент и заглянула туда сама. Она отложила его, и продолжила свой рассказ:
– Вижу, брат, ты не понял. Когда знаешь все о какой-то своей вещи, то тебе легко предположить, что малейшего намека будет достаточно, чтобы объяснить все другому человеку. Я не делала там никакой гравировки, брат.
– Как? – закричал Пьер.
– Имя было уже выбито там, когда я впервые взяла гитару в руки, хотя я этого тогда не знала. Должно быть, гитара делалась для той, которая носила имя Изабелл, потому что выгравировать там буквы можно было только до того момента, как части гитары собрали в единое целое.
– Продолжай… поспеши, – сказал Пьер.
– Да, в один прекрасный день, когда гитара уже давно находилась у меня, странная причуда овладела мною. Видишь ли, нет никакого дива в том, что дети порой разламывают свои самые любимые игрушки, дабы насытить почти неудержимое желание увидеть, какое сердце скрыто у игрушки внутри. Так иногда ведут себя дети. И я, Пьер, я чувствую, что всегда была и навеки останусь ребенком, проживи я даже все семьдесят лет. Подчиняясь мимолетной причуде, я раскрыла ту часть гитары, которую тебе показывала, заглянула внутрь и увидела «Изабелл». И вот еще что я чуть было не запамятовала сказать тебе: с самого раннего детства, сколько себя помню, почти всегда меня называли Белл. А в ту пору, о которой я веду речь, мои общие знания об окружающем мире настолько расширились, что я сразу смекнула: «Белл» – частое сокращение от имени «Изабеллла» или «Изабелл». Поэтому не было ничего удивительного в том, что, памятуя о своем возрасте и других, связанных с ним обстоятельствах, я, найдя надпись внутри гитары, инстинктивно связала имя «Изабелл» с моим полным именем и после этого принялась мечтать на все лады. Эти мечты вспомнились мне вновь. Не говори ни слова.
Изабелл отшатнулась от Пьера в точности так же, как и прошлой ночью, и, приникнув к окну, которое то и дело освещалось вспышками молний, несколько мгновений, казалось, боролась с неким загадочным замешательством. Но вот она живо обернулась и прямо взглянула на Пьера, и его вновь поразила удивительная красота ее чудного лица.
– Меня величают женщиной, и ты зовешься мужчиною, Пьер, но в сем предмете между мужчиной и женщиной нет никакого различия. Почему бы мне не признаться тебе во всем? В нашей голубиной чистоте мы и не думаем разделять друг друга на сильный и слабый пол. Пьер, даже в это мгновение тайное имя, легким ветерком пробегая по струнам гитары, все звенит и звенит в моей голове. Пьер, подумай! Подумай! О, разве ты не понимаешь? Разве не видишь?.. разве не видишь, что я имею в виду, Пьер? Тайна имени в гитаре волнует, волнует меня, так и вертится, так и вертится у меня в голове; это тайное имя, надежно скрытое от глаз и все же навеки оставшееся в недрах гитары, невидимое, неведомое, всегда волнуемое скрытыми в сердце струнами – струнами разбитого сердца; о, моя мама, мама, мама!
Когда страстные сетования Изабелл проникли в самое сердце Пьера, они принесли с собою первую догадку о ее невероятной мечте, коя до сих пор туманно и несмело проскальзывала в непостижимых ее словах.
Изабелл подняла на брата сухие глаза, пылающие, как головни:
– Пьер, у меня нет ни малейшего доказательства, но то была ее гитара, я знаю, я чувствую, что была. Скажи, разве прошлой ночью я не говорила тебе, как она в первый раз пела мне, когда лежала на моей кровати, и отвечала мне, хотя я к ней еще не прикасалась? И как она всегда поет мне, и отвечает мне, и искренне любит меня… слушай же, ты услышишь пение духа моей матери.
Изабелл бережно проверила струны и любовно их настроила, затем положила гитару на подоконник и опустилась на колени рядом; и полилась низкая, приятная и переливчатая мелодия, столь тихая, что Пьер наклонился вперед, чтоб уловить ее; мелодия тихонько напевала мама, мама, мама! Некоторое время царило глубокое молчание; затем, отозвавшись самой низкой нотой, что была почти за гранью слышимости, колдовская гитара, струн которой не касалась ничья рука, вдруг разразилась быстрым каскадом гармоничных звуков, течение коих постепенно замедлялось, и они, затихая, долго трепетали в воздухе и наполняли приятным гулом всю комнату; а он меж тем вдруг обнаружил, к своему вящему удивлению, что по трепещущим металлическим струнам гитары без конца пробегают яркие искры, оттого, вероятно, что инструмент лежал совсем близко у распахнутого окна, кое то и дело освещали своим блеском молнии.
Девушка оставалась коленопреклоненной, но весь ее облик вмиг окутала разительная перемена. Она метнула на Пьера быстрый взор и затем одним взмахом руки распустила волосы так, что они окутали ее тело полностью и продолжали струиться по полу. Никогда еще либийская сайя[103] на тихой мессе в монастыре Санто-Доминго[104] не скрывала столь надежно девичью фигурку. Тот широкий дубовый подоконник, перед коим Изабелл стояла на коленях, казался Пьеру близким входом в некую ужасную гробницу, что отверзла свой таинственный зев прямо в распахнутом темном окне, кое поминутно освещалось то слабыми вспышками далеких молний, то огнями светлячков, что появлялись в траве да ткали свой дивный огненный узор в сей мистической атмосфере эбеново-темной, теплой, совершенно безмолвной летней ночи.
Некое мятежное слово так и просилось на язык Пьера, но нежный голосок, что вдруг долетел из-под вуали волос, заставил его удержаться от высказываний:
– Мама… мама… мама!
И вновь, после непродолжительной паузы, прозвучал колдовской ответ гитары, вновь пробежали искры по трепещущим струнам, и вновь Пьер ощутил близкое присутствие некоего духа.
– Должна ли я, мама?.. Готова ли ты? Ты скажешь мне?.. Сейчас? Сейчас?
Эти слова Изабелл бормотала низким и приятным голосом, в той же манере, в какой на все лады произносила слово мама, до тех пор, пока на последнем сейчас магическая гитара не зазвучала снова; и тогда девушка отодвинула темную завесу своих волос. От сего движения ее длинные локоны упали на гитару, и мистические искры, кои все еще скользили по гитарным струнам, перетекли на эти дивные кудри; и вся оконница вдруг разом озарилась светом, который почти сразу угас; и затем, в наступившей тьме, замерцал каждый струящийся вниз волнистый локон, каждая прядь волос Изабелл, кои она откинула себе за спину, все они засветились то тут, то там, словно мириады фосфоресцирующего планктона в полночном море; и в тот же миг на волю вырвались все четыре мировых ветра, которые принялись что есть мочи дуть в свои рога, играя первобытные мелодии; и вновь, как и прошлой ночью, только еще более неуловимым и непостижимым образом, Пьер почувствовал, как его берут в кольцо десятки тысяч духов да гномов, а его душа колеблется на ветру, и вот безвестная сила бросает ее в бушующие волны сверхъестественного, и вновь услыхал он чудные, повторяющиеся слова песнопения:
– Тайна! Тайна! Тайна Изабелл! Тайна! Тайна! Изабелл и тайна! Тайна!
III
Пьер, лишенный почти всякой способности мыслить, оплетенный неведомыми чарами дивной девушки, глазел в сторону от нее, сам того не сознавая, словно в трансе; и когда тишина, в конце концов, снова воцарилась в комнате – умолкли все звуки, если не считать звука шагов наверху, – когда он понемногу пришел в себя да огляделся по сторонам, желая понять, где находится, он удивился, увидав, что Изабелл спокойно, хоть и вполоборота к нему, восседает на скамье, что ее длинные и пышные волосы более не мерцают и убраны за спину и что безмолвная гитара спокойно стоит в своем углу.
Он чуть было не задал ей какой-то необдуманный вопрос, но она тут же пресекла это, перебив его на полуслове да велев ему тихим, но, как ни крути, почти непререкаемым тоном, чтоб он никогда более не поминал о той сцене, которую только что пережил.
Он замолк, сильно призадумался и тогда пришел к убеждению, что вся сцена, начиная с первой музыкальной фразы, сыгранной гитарою, должно быть, произошла случайно, невольно, от взрыва чувств самой девушки, и в сие особое состояние повергла ее их новая беседа, а в таких обстоятельствах искусство игры на гитаре неизбежно явилось кстати.
Но ему никак не удавалось выбросить из головы все мысли о том, что некая доля сверхъестественного явно была во всем произошедшем… эта, скажем так, вольная и почти разумная отзывчивость гитары… ее струны, по которым то и дело пробегали чудесные искры… власы Изабелл, вдруг охваченные мистическим сиянием, – все это вместе отнюдь не производило впечатления, что оно было вызвано обычными или естественными причинами. Обостренным чувствам Пьера Изабелл представлялась плывущей в электрическом облаке; а ее ясное чело казалось ему неким магнитом. Впервые за эту ночь Пьер осознал, что суеверие, неотделимое от его пылкого восторга, не помешает ему проникнуться верою в необычайный физический магнетизм Изабелл. И тут – такой вывод напрашивался сам собою при наблюдении за той дивной силою, коей она якобы обладала, – ныне он впервые начал смутно догадываться, что над ним да над его самыми сокровенными мыслями и движеньями души эта девушка имеет еще более таинственную власть, власть, коя столь явно выходила за границы неосязаемого, что он был скорее склонен отнести ее к осязаемому миру, власть, коя по-видимому, не только пробудила в нем неизбежное влечение к Изабелл, но и отторгла его от привычной сферы – отторгла, скажем так, произвольно да как бы невзначай и без всякого умысла, кроме того, отторгла, нисколько не заботясь о том, что же с ними будет дальше, и, опять же, лишь оттого, что он ощутил влечение к ней. А над всем над этим величаво плыл и порою мешался с тем искрящимся электричеством, в волнах которого она, казалось, плыла, вечно вязкий да густой туман двусмысленностей. В их последующей совместной жизни он не единожды воскрешал в памяти эту первую магнетическую ночь, и ему чудилось, он видит, как Изабелл связывает его с собою посредством некоего уникального погодного заклятья – кое разом воздействовало и на его тело, и на душу, – заклятья, разорвать которое для него с той поры стало совершенно невозможным, а всей его мощи он не изведал до тех пор, пока не свыкся с его влиянием на себя. Сие заклинание, мнилось, и было той самой пантеистической[105] первичной магией, что во все времена окружала весь без изъятия субъективный мир таинственностью да молчанием, а что до зримой способности Изабелл порождать электричество, то, казалось, она черпала силы от молний в небесах да от бесчисленных огней светлячков в траве, и чрез то ее власть впервые обнаружила себя перед Пьером. Она вся была словно соткана из огня и эфира, а вдохнул в нее жизнь, мнилось, некий вольтов столп[106], что воздвигся выше августовских грозовых туч на закатном небе.
Редкая в своей прелести простота, невинность и скромность ее истории, и то, как она нередко принимала безмятежный вид человека, у которого душа нараспашку, и ее затаенная, по большей части тихая, ненавязчивая печаль, и то, сколь трогательны были ее ненаигранный тон да манеры, – все это лишь подчеркивало и выделяло необъяснимые, неуловимые и загадочные свойства ее души. Пьер осознал сие с особенной ясностью, когда она как-то раз, после непродолжительного молчания, продолжала свое повествование в столь нежно-доверительной манере, столь свободная от какой-либо хитрости, с такой, едва ль не крестьянскою простотой, да привела подробности, в коих было столь мало возвышенного, что, казалось, почти немыслимо вообразить эту скромную девушку в роли той мрачной, царственной ведьмы, коя совсем недавно приказала Пьеру замолчать таким повелительным тоном, вокруг которой парили в воздухе дивные храмы чудесных электрических искр. Но недолго ее рассказ длился в таком невинном духе, и порою от нее вновь начинали исходить слабые электрические искры, но это почти сразу же заслонялось такими нежными, добросердечными да истинно женственными повадками, что легкие слезы восхищения наворачивались на глаза Пьера, смотревшего на Изабелл с сочувствием, однако ж до сих пор не пролившего над ней ни слезинки.
IV
– Ты помнишь, брат, что я рассказывала тебе прошлой ночью, как эта… эта… ты знаешь, что я имею в виду… та, там… – она, не оборачиваясь, кивнула на гитару, – ты помнишь, как она у меня появилась. Но, возможно, я не упомянула, что торговец сказал мне: он выменял ее у слуг в большом имении, которое находилось далеко от тех мест, где я тогда жила…
Пьер вздохнул, соглашаясь, и Изабелл продолжала:
– Потом, спустя долгое время, тот торговец опять показался у наших дверей, ездя по торговым делам в маленькие города и деревушки. Когда я нашла надпись в гитаре, я стала следить за ним, поскольку, хоть я и питала убеждение, что судьба открывает свои тайны лишь тогда, когда сочтет нужным, я верила, что в иных случаях она бросает нам кончик нити, позволяя распутать весь клубок и самим добраться до центра лабиринта, где спрятаны великие тайны. Словом, я продолжала его караулить, и, когда в следующий раз он появился у нас на ферме, я постаралась, не открывая ему своих побуждений, выведать, что это был за важный дом такой, где он выменял гитару. И тогда, брат мой, он назвал поместье Седельные Луга…
Пьер вздрогнул, а девушка продолжала:
– Да, брат, Седельные Луга. «Поместье старого генерала Глендиннинга, – сказал он, – но седовласый герой уж давно почивает в могиле, и, к еще большему сожалению, молодой генерал, его сын, тоже отошел в мир иной, но там живет юный внук генерала, а эта семья всегда передает имя и титул из поколения в поколение, да, даже имя – Пьер. Пьером Глендиннингом звали убеленного сединами старого генерала, который воевал в прежние времена с французами и индейцами; и Пьером Глендиннингом также зовут его юного внука». Немудрено, что ты смотришь на меня с таким удивлением, брат, да, он имел в виду тебя, тебя, брат.
– Но гитара… гитара! – закричал Пьер. – Как гитара открыто появилась в Седельных Лугах и как покинула поместье, отданная слугами? Открой мне это, Изабелл!
– Не задавай мне вопросов так пылко, Пьер, ты же можешь вспомнить прежнюю нашу беседу – быть может, на мне лежит какое-то дьявольское заклятие. Я не могу тебе ответить точно и с пониманием дела. Я могу лишь догадываться; но чего стоят догадки? О, Пьер, в миллион раз лучше и куда более прекрасны тайны, чем догадки, ведь тайна хоть и непостижима, но все-таки в ее непостижимости есть свое единство, тогда как догадка – не что иное, как легковесная и бессмысленная пустота.
– Но это же самое непонятное во всей истории с гитарой. Ну же, Изабелл, расскажи; уверен, обо всем этом ты точно что-то знаешь.
– Много, Пьер, очень много, но только о самой ее тайне, и ничего больше. Не могу теперь сказать с уверенностью, знала ли я о том, как гитара оказалась в Седельных Лугах и была потом отдана слугами торговцу. Достаточно того, что она отыскала меня, и пришла ко мне, и говорила со мной, и пела мне, и была со мной искренна, и стала для меня всем.
Изабелл помедлила мгновение, в то время как Пьер тайком обдумывал про себя ее странное откровение, поворачивая ее слова в уме то так, то эдак, но, когда Изабелл опять продолжила свою речь, он был весь внимание.
– Тогда в моей руке оказался весь клубок заветных нитей, брат. Но я не сразу за ним последовала. Для меня, в моем одиночестве, достаточно было знать, что отныне мне ведомо, где следует искать семью моего отца. И все же в те времена у меня еще не возникло никакого желания объявить им о своем существовании. Слишком сильным было мое убежденье, что ни одна живая душа из его родных не узрит во мне ни тени фамильного сходства, и даже если бы кто-то из них увидал меня, то никогда не признал бы, кто я есть на самом-то деле, и потому я думала с полным спокойствием о случайной встрече с кем-либо из родни. Но мои вынужденные переезды да скитания в поисках работы от фермы к ферме поселили меня, наконец, всего в двенадцати милях от Седельных Лугов. Я стала тосковать по родным все больше и больше, но вместе с тем во мне пробудилась новоявленная гордость, что вступила в противоборство с моею тоской, – да, гордость, Пьер. Иль не сверкают мои глаза? Они меня предали, если нет. Однако то была необычная гордость, Пьер, ибо чем таким обладала Изабелл на этом свете, чтоб она могла гордиться? Это была гордость, э… э… гордость чересчур горячего, любящего сердца, Пьер, гордость долгих страданий и скорби, брат мой! Да, я победила свою сильную тоску по родным еще более сильной гордостью, Пьер; и я не была бы сейчас здесь, в этой комнате, и ты никогда не получил бы от меня ни строчки, и никогда у тебя бы не было ни малейшей возможности узнать о той, что зовется Изабелл Бэнфорд, если бы не узнала я, что на ферме Уолтера Ульвера, всего в трех милях от поместья Седельные Луга, бедная Белл найдет людей, кои будут столь добры, что дадут ей работу. Даю в том слово, вот моя рука, брат.
– Моя дорогая, моя божественная, моя благородная Изабелл! – закричал Пьер, в невольном порыве схватив предложенную ею руку. – Это просто уму непостижимое несоответствие, что столь дивная сила сочетается с такою маленькой женскою ручкой. Но сколь сильна и груба эта маленькая ручка, столь же мягко и великодушно твое сердце, кое заставило тяжело трудиться твои руки в ангельском подчинении твоим в высшей степени незаслуженным и долгим страданиям. Пусть, Изабелл, вот эти мои поцелуи коснутся не только твоей руки, но и самого твоего сердца и посеют там семена вечной радости и умиротворения.
Он вскочил на ноги и стал перед сестрой, всем своим видом выражая такую горячую, божественную силу любви и нежности, что девушка устремила на него долгий взгляд, словно он был единственной доброй звездой в ее вечной ночи.
– Изабелл, – кричал Пьер, – я выдержу сладкое покаяние вместо моего отца, а ты – вместо своей матери. Творя праведные дела на земле, мы обретем вечное блаженство за гробом; мы будем любить друг друга чистой и безупречной любовью двух ангелов. Если я когда-нибудь предам тебя, дорогая Изабелл, пусть Пьер предаст себя самого и навсегда канет в вечную пустоту и мрак!
– Брат мой, брат мой, не говори мне таких слов; мое сердце переполнено, до последнего часа оно не испытывало на себе влияния ничьей любви, и теперь твоя любовь, столь святая и безмерная, для него как гром среди ясного неба! Такая любовь столь же невыносима, как ненависть. Успокойся, давай помолчим…
Оба смолкли на время; затем Изабелл продолжала:
– Да, брат мой, в ту пору судьба поместила меня всего в трех милях от тебя, и… но могу ли я быть откровенной и сказать тебе все, Пьер? Все? Все подробности? Есть ли в тебе такая святость, чтобы я могла говорить с бесстрашной прямотой, раскрыть все свои мысли, не обращая внимания на то, куда они могут завести или какие события они воскресят в моей памяти?
– Говори прямо и отбрось всякий страх, – сказал Пьер.
– Мне как-то раз довелось увидеть твою мать, Пьер, и в таких обстоятельствах, что я узнала в ней твою мать, и… но смею ли я продолжать?
– Продолжай, моя Изабелл, ты увидела мою мать – ну, и?..
– …и когда я ее увидела, несмотря на то что ни я, ни она не молвили друг другу ни словечка, я почуяла сердцем в тот же миг, что она ни за что меня не полюбит.
– Твое сердце сказало совершенную правду, – прошептал Пьер про себя, – продолжай.
– Я вновь дала себе клятву никогда не открываться твоей матери.
– Правильная клятва, – вновь еле слышно пробормотал он, – продолжай.
– Но я увидела тебя, Пьер, и те чувства, кои моя мать некогда испытывала к твоему отцу, да с той силой, коя прежде была мне неведома, поднялись во мне. Я сразу же поняла, что если когда-нибудь и признаюсь тебе во всем, то твое великодушное сердце откроется мне навстречу и наградит своей любовью.
– И вновь твое сердце сказало правду, – едва слышно прошептал Пьер, – продолжай… и ты вновь поклялась..?
– Нет, Пьер, то есть да, я поклялась. Я поклялась, что ты мой брат; я и теперь с любовью и гордостью присягаю в том, что юный и благородный Пьер Глендиннинг – это мой брат!
– И только?
– И больше ничего, Пьер, даже тебе я никогда не думала открываться.
– Как же так? Мне-то ты рассказала о себе.
– Да, но один Бог Всемогущий сделал это, Пьер, не бедная Белл. Слушай. Я здесь совсем загрустила; причиною тому бедная дорогая Дэлли – ты, наверно, слышал ее историю, – это самый несчастный дом во всей округе, Пьер. Чу! Это ее постоянные, почти никогда не смолкающие шаги с верхнего этажа ты слышишь. Вот так она все ходит, ходит, ходит; от постоянных шагов все ковры истончились до дыр, Пьер, ковры в ее комнате. Ее отец не смотрит на нее, а ее мать, та выкрикнула свое проклятие ей в лицо. За пределами вон той комнаты, Пьер, Дэлли не сомкнула глаз вот уже в течение четырех недель и больше, она даже не прилегла ни разу на свою постель, в последний раз она спала в ней пять недель назад, но все ходит, ходит, ходит, всю ночь, до тех пор, пока не перевалит за полночь, и тогда только она сама усаживается в свое кресло. Часто приходила я к ней, чтобы хоть немного успокоить, но она твердит мне: «Нет, нет, нет» – через дверь, говорит: «Нет, нет, нет» – и одно лишь «нет» отвечает мне через запертую дверь, запертую на засов три недели назад, когда я хитростью сумела похитить у ней тело ее мертвого ребенка и этими самыми пальцами, одна, ночью, вырыла яму и, подчиняясь милосердному удару самих небес, забравших жизнь младенца, похоронила ее любимый маленький символ ее несмываемого позора там, где не ступала жестокая нога человека… да, засов на двери задвинулся три недели назад, и с тех пор ни разу не отодвигался, а ее пищу я вынуждена выбрасывать через маленькое окно в ее уборной. Пьер, она съела едва ли две горсточки за последнюю неделю.
– Пусть мои проклятия падут на голову этого негодяя, Неда, и язвят его, как рой злобных ос, до конца его дней! – закричал Пьер, пораженный этой историей, которая была достойна самого глубокого сострадания. – Что можно сделать для нее, милая Изабелл? Может ли Пьер сделать хоть что-нибудь?
– Если ты или я что-нибудь не сделаем, то тогда ее вскоре приютит гостеприимная могила, Пьер. Оба – и отец, и мать – для нее теперь словно умершие, навсегда потерянные люди. Они бы могли ее успокоить, мне кажется, ну а что такое для нее мои бедные непрерывные мольбы, произносимые для ее же блага!
На лице Пьера хмурая забота вдруг сменилась сверкнувшим выражением великодушной догадки.
– Изабелл, мысль о том, как именно можно помочь Дэлли, только что пришла мне на ум, но я все еще обдумываю, как бы это получше обставить. Что бы ни было, я твердо решил поддержать ее. Задержи ее здесь ненадолго своими живительными речами, пока мои дальнейшие планы не обретут окончательную форму. Теперь продолжи свой рассказ и тем самым отвлеки меня от шороха шагов – каждый из них оставляет отпечаток в моей душе.
– У тебя большое, благородное сердце, Пьер; вижу, что не одна только бедная Изабелл будет поминать тебя в благодарственной молитве, брат мой. Ты, Пьер – живое подтверждение тому, что живут на земле ангелы, скрытые от глаз людских, веру в коих мы порой теряем в самые мрачные часы нашей жизни. В твоем житии описания благих деяний займут много страниц, брат. Будь все мужчины подобны тебе, тогда не осталось бы больше мужчин – все они переродились бы в серафимов!
– Восхваления – для низких душ, сестра, хитростью они сманивают нас со стези прекрасной добродетели, поскольку на вред, что приносит нам похвала, мы внимания не обращаем, но рады приписать ей то хорошее, чего в ней нет. Так не затягивай же на моей шее петлю похвалы, милая Изабелл. Не восхваляй меня. Продолжай свою историю.
– Я уж говорила тебе, брат мой, каким унылым показался мне сей дом, и таким он был для меня с самого начала. Будь вся моя жизнь одной непрерывной печалью – если подобное вообще возможно, – и то в этом жилище воцарилось столь острое горе, такая безнадежность и отчаяние, кое не встречало ни малейшего утешения, что даже бедная Белл не смогла б его вынести, если бы время от времени не покидала его. Словом, я бежала прочь туда, где царило веселье, чтобы только можно было вернуться назад с новыми силами для служения в том несчастном доме. Продолжительное и постоянное пребывание здесь неизбежно погружает тебя в печальное оцепенение, мертвит. Поэтому я стала порой покидать дом, ходить в гости к соседям, живущим неподалеку, туда, где были дети с их болтовней и где за весело шумящим столом не пустовало ни одно место. И вот, наконец, мне довелось услышать о кружке шитья у двух мисс Пенни и о том, как они стараются, с великодушной добротой, собрать под свое крыло всех девиц округи. Во многих коттеджах я получила приглашения присоединиться к этому кружку; наконец, они уговорили меня, но вовсе не потому, что я питала естественное отвращение к самой задумке и нуждалась в таких уговорах; нет, с самого начала я чувствовала великий страх, что, если я как-нибудь нос к носу столкнусь там с кем-то из Глендиннингов, и мысль об этом была несказанно неприятна. Но хитростью, стороной, я разведала, что леди из особняка не посетит это собрание – ошибочный слух, как позже выяснилось, – и я пошла, а остальное тебе известно.
– Да, прекрасная Изабелл, но ты должна пересказать мне все снова и описать все свои тогдашние чувства.
V
– Хотя прошел всего день с тех пор, брат мой, как мы с тобою встретились впервые в жизни, а при этом ты для меня уже стал небесным магнитом, что притягивает к себе все, что ни есть в моей душе. Я продолжаю… Проведя какое-то время в ожидании соседской повозки, я присоединилась к кружку для шитья с опозданием. Когда я вошла, обе комнаты, кои сообщались меж собой, были полны до отказа. С дочерьми одного фермера, нашего соседа, я пробралась в дальний угол, где ты меня и видел; и когда я уселась, несколько голов повернулось в мою сторону, и я услышала перешептывания: «Она новая служанка у бедного Уолтера Ульвера… странную девушку они наняли… она мнит себя сказочной красавицей как пить дать… но ее никто не знает… о, какая скромная!.. но не чересчур, сдается мне… я с ней не сяду, только не я… может, она сама такая же погибшая, как Дэлли, прочь от нее… потаскуха!» Впервые бедная Белл попала в такую большую компанию; а так как я знала совсем мало или почти ничего о подобных сборищах, я-то думала, что на собрании, организованном во имя благотворительности, жестокосердие не найдет не единого уголка для укрытия; но, без сомнения, в них говорило простое недомыслие, а не злоба. Все же от их слов в моем сердце родилось печальное эхо, ибо отныне со всех сторон на меня ощетинились острия ужасных подозрений, в какие обычно вырождается в глазах общества странное и одинокое горе, как будто и самого горя было мало, и никакая невинность не послужит нам защитой, но обязательно стоит ждать появления и презрения, и леденящего душу позорного клейма! Я словно пережила мучительный возврат в прошлое – даже там, в толпе румяных юных девушек и цветущих женщин, – мучительный возврат в былое я пережила, когда вновь столкнулась с проявлением этого чувства, этой бесчеловечности, причины которой мне никак не удавалось понять, бесчеловечности, о которой я поведала тебе, рассказывая о своем раннем детстве. Но Пьер, милый Пьер, не смотри на меня с такой печалью и горечью. Какой бы одинокой и потерянной среди людей я себя ни чувствовала, я люблю их и сострадаю им с терпеньем и пониманием – тем, кто так жестоко и неразумно облил меня презрением. И ты, ты, милый брат, озарил добрым светом множество мрачных закоулков в моей душе и навсегда убедил меня в том, что люди способны на поступки, кои украсили бы и ангелов. Так не смотри же на меня, дорогой Пьер, до тех пор, пока твои глаза не перестанут метать молнии.
– В таком случае, они – живые толкователи моих чувств, милая Изабелл. Каков теперь мой взгляд, я не могу сказать, но мое сердце во мраке, и я еле сдерживаюсь, чтобы не обратить хулу к небесам, которые равнодушно взирали на то, как твоя невинность претерпевала такие муки. Продолжай же свою историю, которая берет за душу.
– Я тихонько сидела там и шила, не находя в себе храбрости, чтобы оглядеться по сторонам, и благословляла свою счастливую звезду, что привела меня в столь укромный уголок, позади всех остальных; я тихонько сидела и шила фланелевую рубашку и с каждым стежком молила Господа об одном: какое бы сердце она ни закрыла, пусть она по-настоящему его согреет, и чтоб весь холод большого мира, который я ныне испытывала, оставался снаружи, тот, который ни одна фланелевая ткань, или самые пушистые меха, или самое жаркое пламя не смогли бы теперь изгнать из моего сердца; я тихонько сидела за шитьем, когда услышала громкие слова – о, как глубоко и неизгладимо они врезались мне в память!.. «Ах, дамы, дамы, мадам Глендиннинг, мистер Пьер Глендиннинг». В тот же миг моя острая игла вонзилась мне в бок и уколола сердце; фланелевая ткань выскользнула из моих рук; ты слышал мой крик. Но добрые люди на руках поднесли меня к окну и распахнули его настежь, и дыхание самого Господа повеяло на меня; и я очнулась, и сказала, что это был простейший мимолетный пустяк, сейчас все совсем прошло, это больше не повторится, примите мою искреннюю сердечную благодарность, но если только меня теперь все оставят посидеть в сторонке, то будет для меня наилучшее – я хочу продолжить свое шитье. И тревога вокруг меня рассеялась так же быстро, как возникла; и вновь я сидела и шила из фланели, надеясь, что или нежданные гости вскоре покинут кружок, или, вместо того, что некий дух унесет меня прочь отсюда; я все сидела и шила до тех пор, пока – Пьер! Пьер! – я ведь сидела, не поднимая глаз, я же почти ни разу не решилась на это за весь вечер, только один раз, я не глядела по сторонам, не обращала внимания ни на что, кроме фланелевой рубашки на коленях да иглы, коя оставалась у меня в сердце, и я почувствовала – Пьер, почувствовала – взгляд на себе, который был полон для меня притягательной значительности. Долго я украдкой, боковым зрением, стремилась его уловить, но у меня не получалось до тех пор, пока некий добрый дух не вселил в меня достаточно смелости, и тогда я взглянула тебе в лицо, вложив в этот взгляд всю душу. Этого было достаточно. То мгновение было судьбоносным. Все одиночество моей жизни, все желания моей души, прежде заглушенные, вылились в этом взгляде. Я не могла от них отрешиться. Я тогда впервые поняла, сколь плачевно мое положение: в то время, как ты, брат мой, имеешь мать, и армии тетушек и кузенов, и друзей в изобилии в городе и графстве, я, я, Изабелл, дочь твоего родного отца, выброшена прочь из всех сердец и трясусь от январской стужи. Но это был пустяк. Бедная Белл не может передать тебе все чувства бедняжки Белл или то, какое именно чувство ее охватило первым. Это все был один вихрь старых и новых неясностей, перемешанных между собой, кои возглавляло безумие. Но то выражение на твоем лице, самое прекрасное на свете, пытливое, выражение доброго участия, лицо, столь удивительно похожее на лицо твоего отца – единственного человека, коего я полюбила первым, – вот что подняло в моей душе такую сумасшедшую бурю, вот что переполнило меня безумным желанием, чтобы кто-то из моих родных узнал меня и признал, пусть даже на мгновение, для того, чтобы потом уйти. О, мой дорогой брат – Пьер! Пьер! – если бы ты мог вынуть мое сердце из груди и посмотреть на него, держа на своей ладони, тогда ты увидал бы, что все это на нем записано и вдоль, и поперек, и поверх написанного, и снова, – длинные строки желаний, бесконечной тоски по тебе. Обратиться к нему! Обратиться к нему! Он придет! – так мне кричало мое сердце, так мне кричали деревья и звезды, когда я той ночью возвращалась домой. Но тут пробудилась моя гордость – гордость, присущая и самим моим желаниям, – а потому, несмотря на то что одна часть моей души тянулась к тебе, другая ее удерживала. Словом, я осталась спокойной и не обратилась к тебе. Но что суждено, того не миновать. Когда душа моя единожды встретила твой доброжелательный взор, что был сосредоточен на мне одной, когда душа моя единожды узрела всю ангельскую кротость твоей натуры, я была побеждена тобою бесповоротно, а гордость мою подкосило под корень, и все ее бутоны увяли, ибо она владела мною ровно до тех пор, пока я не поняла, что просто зачахну и умру с горя, если гордость не выпустит меня из своих когтей, и тогда я решила: воспользуюсь-ка гусиным пером, как маленьким охотничьим рогом, сыграю на нем самые пронзительные да высокие ноты моего сердца и позову дорогого Пьера к себе. Сердце мое переполняли разнородные чувства, и, пока на бумаге появлялись все новые и новые умоляющие строки, написанные чернилами, мои слезы часто капали на письмо и добавляли странности моему посланию. Какое блаженство было думать, что мои горькие слезы, сия примесь к чернилам – вся глубина моих страданий! – никогда не предстанет твоим глазам, ведь слезы-то на бумаге высохнут и страницы опять станут чистыми прежде, чем твой взор коснется столь ничтожного посланья.
– Ах, тут ты глубоко заблуждаешься, бедная Изабелл, – вскричал Пьер с горячностью, – твои слезы не растворились бесследно, но оставили красные пятна, похожие на кровь; и ничто так не тронуло меня до глубины души, как их трагический вид.
– Как? Как? Пьер, брат мой? Высохнув, оставили красные пятна? О, ужасно! Чудесно! Невообразимо!
– Нет, чернила… чернила! Что-то в их химическом составе поменялось, смешавшись со слезами, и они стали похожи на кровь, и только, сестра.
– О Пьер! Это удивительно… думается мне… даже наши собственные сердца не всегда сознают всю остроту своих страданий; временами у нас струится кровь, а мы думаем, что это всего лишь слезы. Порой нашим страданиям, как и талантам, другие люди – лучшие судьи. Но останови меня! Заставь меня вернуться к моему рассказу! Мне кажется, что ты уже знаешь все… нет, не совсем все. Ты еще не знаешь, что за душевный порыв побудил меня написать тебе; но бедная Белл тоже этого не знает – бедная Белл находилась тогда в такой сильной горячке, что не была способна на хладнокровно обдуманный мотив. Сам Господь позвал тебя, Пьер, а вовсе не бедная Белл. Даже теперь, когда я провела с тобой ночь и вслушивалась во все твои излияния настоящей любви и великодушия, – даже теперь я стою как зачарованная и не ведаю, что может произойти со мной или что теперь обрушится на меня из-за того, что я так поспешно назвала тебя своим. Пьер, сейчас, сейчас, в это самое мгновение, неясная боль мучает меня. Скажи мне, если любишь меня, если признаешь меня – перед всем миром или тайно, – скажи мне: принесет тебе это какой-то гибельный вред? Говори, не таясь, говори честно, как я отвечала тебе! Говори же, Пьер, и открой мне все!
– Разве любовь – это вред? Может ли правда ввергнуть нас в скорбь? Прекрасная Изабелл, как может боль прийти по Божьей тропе? Теперь, когда я знаю о тебе все, как я могу забыть тебя, ошибаться в понимании тебя и любви к тебе в огромной пустыне всего бескрайнего мира, – да разве я могу ошибаться; тогда ты можешь со всем благоразумием обратиться ко мне вот с каким вопросом и молвить: «Скажи, Пьер, отвергнув душою святые требования бедной Белл, не обрек ли ты себя на вечные муки?» А моя справедливая душа отзовется эхом: «Вечные муки!» Нет, нет, нет. Ты – моя сестра, и я – твой брат; и та часть мира, которая знает меня, должна узнать о тебе, или, клянусь Небесами, я сокрушу этот высокомерный мир и поставлю его пред тобой на колени, моя милая Изабелл!
– Угроза в твоем взгляде дарит мне неописуемое наслаждение; я выпрямляюсь рядом с твоей величественной фигурой; и в тебе, брат мой, я вижу Божьего посланца, пышущего гневом, говорящего мне: встань, встань, Изабелл, и не принимай диктата обычного мира, но сама диктуй этому миру условия и яростно отстаивай в нем свои права! Твое покоряющее благородство лишило меня всей моей женственности, брат мой; и теперь я знаю, что в моменты самого высокого душевного подъема женщина чувствует в груди не нежность вовсе, а учащенное сердцебиение под крепостью стальной кольчуги!
Она была воплощением смелой красоты; ее длинные роскошные волосы струились свободно, как растрепанное знамя; в ее чудных, широко распахнутых глазах, казалось, вспыхнули искры; все это представлялось Пьеру творением незримого чародея. Преображенная, она стояла перед ним; и Пьер, склонившись перед ней в глубоком поклоне, увидал в ней то неизменногрозное величие человеческой натуры, коя бывает величественной и суровой как у мужчин, так и у женщин.
Но нежность, свойственная всем женщинам, в конце концов вернулась к Изабелл; и она молча села к окну, любуясь, как резвятся в траве кроткие огни светлячков той магнетической летней ночью.
VI
Грустно улыбаясь, Пьер прервал молчание:
– Сестра моя, будешь ли ты так щедра, чтобы подать мне милостыню; я очень голоден – я не ел с самого завтрака; и теперь принеси мне только кусок хлеба да стакан воды, Изабелл, ничего другого я не прошу. Прошлой ночью я рыскал в кладовой особняка, словно взломщик в булочной, но этим вечером мы должны вместе поужинать, Изабелл; поскольку мы впредь будем жить вместе, так давай начнем это совместной трапезой.
Изабелл взглянула на него, тая во взгляде некое непостижимое и глубокое чувство, затем, всем своим видом выказывая согласие, с милой улыбкою молча покинула комнату.
Когда она вернулась, Пьер, метнув взор на потолок, сказал:
– Она успокоилась, шаги совсем прекратились.
– Но не прервались ее муки; если шаги ее смолкли, то беспокойное сердце – нет. Брат мой, она вовсе не успокоилась, покой для нее потерян, так что благонравная тишина этой ночи для нее по-прежнему наполнена безумным гвалтом.
– Принеси мне карандаш или перо и лист бумаги, Изабелл.
Она отодвинула в сторону каравай хлеба, тарелку и нож и принесла ему перо, чернила и бумагу.
Пьер осмотрел перо:
– У тебя есть только такое, дорогая Изабелл?
– Это – единственное, брат мой, другого не найдется в этой бедной лачуге.
Пьер долго глазел на перо. Затем, повернувшись к столу, твердо написал следующие строки:
«Дэлли Ульвер: с глубоким и искренним уважением и сочувствием от Пьера Глендиннинга.
Твою грустную историю, кою я знал прежде только понаслышке, нынче рассказала мне полностью одна особа, которая искренне переживает за тебя, и ее тревога передалась мне. Ты желаешь покинуть эти края и поселиться там, где сможешь жить спокойно да найти какую-то тихую работу, подходящую для твоего пола и возраста. Эти хлопоты я охотно беру на себя и все для тебя устрою, насколько мне позволят мои возможности. Поэтому – если ты в своем тяжком горе не вовсе отвергаешь всякое утешение, что, увы, чересчур часто бывает с людьми, хотя отталкивать руку дающего есть великое заблуждение, в которое нас повергает горе, – поэтому рядом с тобою находятся два твоих верных друга, кои заклинают тебя проявить к себе хоть каплю снисхождения и подумать о себе, о том, что на этом вся твоя жизнь еще отнюдь не кончается, что время все лечит. Наберись же немного терпения, пока твой будущий жребий не решится благодаря нашей помощи, и знай, что я и Изабелл – твои преданные друзья, искренне любящие тебя».
Он дал письмо в руки Изабелл. Та прочла его в молчании, затем положила листок на стол, протянула ему обе руки и возвела очи горе, где находились и Дэлли, и Бог.
– Как ты думаешь, она не испытает боли, получив это послание, Изабелл? Ты знаешь ее лучше меня. Я думаю, что твоя помощь просто вытащила ее с того света и какое-то обещание, исходящее от тебя, может ее немного успокоить. На вот, держи – и скажи, что ты думаешь, как нужно лучше поступить.
– Значит, я немедленно передам его ей, брат мой, – бросила Изабелл на ходу, покидая комнату.
Молчание, что упрочило свои позиции, соединилось с ночью длинною скрепою да, не теряя времени, тут же пригвоздило ее намертво к этой половине мира. И Пьер, который вновь остался в одиночестве в такой час, не мог не прислушиваться. Сперва он услышал, как Изабелл поднимается по лестнице, ведущей на второй этаж; потом ее шаги приблизились к нему наверху; затем до него донесся тихий стук в дверь, и ему показалось, он услышал шорох бумаги, кою просовывают в щель между порогом и дверью. И тогда новые, дрожащие шаги приблизились к тому месту, где стояла Изабелл; затем слышно было, что обе девушки разошлись в разные стороны, и вскоре Изабелл вернулась к нему.
– Ты и впрямь постучала и подсунула письмо под дверь?
– Да, и она его сейчас читает. Чу! Рыдания! Благодарение Господу, долго сдерживаемое горе наконец-то нашло выход в слезах. Соболезнование, сострадание сделали это… Пьер, за этот твой благороднейший поступок тебя должны причислить к лику святых сразу же после кончины.
– Разве святые могут проголодаться, Изабелл? – спросил Пьер, стремясь отвлечь ее от этой темы. – Подай-ка мне каравай, но нет, ты должна помочь мне, сестра… Благодарю, это вдвойне сладкий хлеб… Ты сама испекла его, Изабелл?
– Сама, брат мой.
– Подай мне стакан воды и наполни его своей рукой. Так… Изабелл, мои сердце и душа полны глубочайшего уважения, а меж тем я рискну назвать сей ужин настоящей тайной вечерей… Раздели со мной трапезу.
Они поужинали, не обменявшись ни единым словом; и вслед за тем Пьер, не проронив ни единого слова, поднялся из-за стола, поцеловал сестру в чистый безупречный лоб и, не вымолвив ни слова, покинул дом.
VII
Мы не знаем, каковы были мысли в душе Пьера Глендиннинга, когда он дошел до деревни и ступил под сень исполинских вязов, и не видел ни единого света в окне, и не слышал нигде ни звука голоса человеческого, когда путь ему освещали лишь кроткие огни светлячков, кои, словно огненные змейки, резвились в листьях травы, да в просветы меж деревьев на него падал слабый свет далеких звезд, да ему слышался доносящийся издалека привычный немолчный гул дыхания объятой сном земли.
Пьер остановился перед красивым домом, который стоял немного поодаль, в зарослях кустарника. Он поднялся на крыльцо и громко постучался в дверь как раз тогда, когда башенные часы в деревне пробили час ночи. Он постучался, но никакого ответа не последовало. Он вновь постучался, и вскоре услышал, как распахнулось окно на втором этаже и удивленный голос спросил:
– Кто там?
– Пьер Глендиннинг, и он желает немедленно переговорить с преподобным мистером Фолсгрейвом.
– Правильно ли я расслышал?.. Святые Небеса, что за причина, юный джентльмен?
– Все тому причиной, целый мир есть причина. Вы впустите меня, сэр?
– Конечно… но я молю вас… нет, постойте, я вас впущу.
Быстрее, чем этого можно было ожидать, дверь перед Пьером распахнул сам мистер Фолсгрейв, держа подсвечник и закутанный, словно студент в свой плащ, в шотландский плед.
– Во имя Неба, какая причина, мистер Глендиннинг?
– Небо и земля есть причина, сэр! Можем мы подняться к вам?
– Разумеется, но… но…
– Отлично, тогда пройдемте с вами внутрь.
Они поднялись на второй этаж и вскоре оказались в кабинете священника и уселись; изумленный хозяин все еще сжимал в руке подсвечник и сверлил Пьера настойчивым испытывающим взглядом.
– Вы – представитель Господа на земле, сэр, мне хочется верить.
– Я? Я? Я? Клянусь честью, мистер Глендиннинг!
– Да, сэр, люди называют вас представителем Бога на земле. И что же вы, Его представитель, решили вместе с моей матерью относительно Дэлли Ульвер?
– Дэлли Ульвер! Что, что… что все это безумие может значить?
– Я спрашиваю, сэр, что вы и моя мать намерены делать с Дэлли Ульвер?
– Она?.. Дэлли Ульвер? Ее выселят с ваших земель – и что, ведь ее собственные родители от нее отказались.
– Как ее выселят? Кто приютит ее? Вы дадите ей кров? Куда она пойдет? Кто подаст ей хлеб? Что спасет ее от грязи греха, коему женщина в ее положении вынуждена каждый день уступать из-за отвратительной жестокости и бессердечности мира?
– Мистер Глендиннинг, – сказал священник, теперь уже спокойно отставив в сторону подсвечник и с достоинством кутаясь в плед, – Мистер Глендиннинг, я не буду вовсе упоминать о моем естественном удивлении этим в высшей степени неожиданным визитом и в самое неподходящее время. Вы ведь уже знаете ответы на эти вопросы, и я дал их вам, насколько мне позволили мои знания предмета. Все ваши последующие дополнительные вопросы я предпочитаю обойти молчанием. Я буду счастлив увидеть вас в любое другое время, кроме этого, а теперь прошу меня извинить. Доброй ночи, сэр.
Но Пьер не шелохнулся, и священнику не осталось ничего другого, как остаться сидеть на своем месте.
– Я все прекрасно понимаю, сэр. Дэлли Ульвер, значит, будет выброшена на улицу голодать или торговать собой, и все это при молчаливом согласии слуги Господа. Мистер Фолсгрейв, дело Дэлли, столь сильно заботящее меня, это лишь вступление к другому вопросу, который занимает и тревожит меня гораздо больше, и я питал слабую надежду, что вы будете способны, как добрый христианин, дать мне искренний и честный совет. Но знамение свыше укрепляет меня в мысли, что вы не можете быть для меня искренним советчиком, который не зависит от общественного мнения. Я должен искать поддержки у самого Господа, который, насколько мне известно, никогда не прибегает к чужим услугам, чтобы донести Свою волю. Но я не осуждаю вас; мне кажется, я начинаю видеть, в каких тесных мирских путах находится ваша профессия и что вы не можете служить Божьим истинам в том мире, где правит выгода. Я больше сочувствую, чем негодую. Простите мне этот визит в самый неурочный час и не считайте меня своим врагом. Доброй ночи, сэр.
Глава IX РАЗГОРАЕТСЯ ЗАРЯ, И МРАЧНА ТА ЗАРЯ. СГУЩАЕТСЯ МРАК, И ЛУЧЕЗАРЕН ТОТ МРАК
I
В тех гиперборейских[107] землях, где восторженная правда, и искренность, и независимость неизменно будут вести за собой умы, самой природой созданные для глубоких и бесстрашных мыслей, все предметы видятся в сомнительном, неясном и измененном свете. Когда в той разреженной атмосфере начинаешь наблюдать самые незыблемые и общепризнанные людские правила, они сперва становятся скользкими и неустойчивыми, а потом в конце концов видишь, как они действуют шиворот-навыворот, и даже небеса в твоих глазах теряют свою чистоту с тех пор, когда понимаешь, что они терпят возникновение подобного тревожного эффекта, ведь главным образом на небесах-то и происходят все удивительные чудеса.
Но устрашающим примером служит нам то, сколько блестящих умов безвременно пало на сих землях вероломства, словно исследовательские экспедиции, кои навеки исчезли во льдах Арктики, и сие вынуждает нас держаться от тех земель на почтительном расстоянии, ибо постигли мы, что не дано сынам человеческим проследовать тропою правды до последней черты, поскольку стоит нам ступить на нее – и с той минуты наш душевный компас утрачивает всякое понятие о верном направлении, а по прибытии на магнитный Полюс, стрелка компаса, указуя на собственную бесполезность, поднимается вертикально, признавая севером любую сторону горизонта.
Однако и не столь далекие области мысли таят в себе неожиданные перевалы. Если уж случится такое диво, что у некоего доброго человека невеликого ума да у коего не в обычае много трудиться головою, вдруг заведется какая-то самостоятельная мысль, так не обойдется без того, чтоб не начали ей в конце концов восторженно рукоплескать как умственному прогрессу, когда она всего-навсего говорит о том, что Правда вторгается в земли Заблуждения, и всегда найдутся особы, кои сочтут сие капитальнейшей вещью, достойной самых серьезных похвал, как величайшее из возможных благословений, что католицизм несет миру; а меж тем почти каждый мыслящий человек рано или поздно приходит к убеждению, что в фундамент нашего общества, верно, заложена какая-то огромная ошибка, если люди никогда всем миром не движутся к правде, а достигают ее лишь отдельные личности, кои то там, то сям неизменно вырываются вперед; и, вырвавшись вперед, они бросают всех прочих далеко позади и тем самым навеки отсекают себя от спасительного каната их сочувствия, и плывут дальше по воле волн и сами обрекают себя на то, что отныне все прочие будут всегда относиться к ним с недоверием, неприязнью и даже – хотя чаще всего все постараются это скрыть – с явными страхом и ненавистью. Стоит ли удивляться тогда, что сим прогрессивным умам человечества хоть и удалось оставить всех прочих далеко позади, но порою они-то сами могут остаться поистине неуправляемыми и время от времени будут подвергаться искушению поворотить назад и напасть с безрассудною яростью на те чувства и взгляды, кои они навеки оставили в своем арьергарде. Вне всяких сомнений, когда они находятся на ранних стадиях своего развития, в особенности те, кто еще молод, кто еще не охладил свой ум длительным знакомством с нашим миром, как это всегда и неминуемо случается с каждым, тогда эти горячие головы почти неизбежно выплескивают свою ярость на публике, а после столь же неизбежно и горько сожалеют о содеянном.
Переживши сильное потрясение оттого, что узнал всю правду без прикрас, ум молодого Пьера не просто опередил других в своем развитии, а по воле магических сил вознесся выше всех обыденных интуитивных догадок; и нельзя сказать, что он вовсе избежал прискорбных приступов той безрассудной ярости на свое прошедшее, портрет которой мы постарались набросать выше. И он, покорствуя этому своему непозволительному душевному настрою, среди ночи вломился в дом к преподобному мистеру Фолсгрейву да самым неучтивейшим образом вызвал на бой сию особу духовного звания, правду молвить, искренне дружелюбную и достойную всяческого уважения. Но создавалось впечатление, что, по странному стеченью обстоятельств, эволюция его проницательности шла вперед семимильными шагами, и столь же стремительно развивались у него и мудрость в своем роде, и милосердие; и те последние слова, что он сказал на прощание мистеру Фолсгрейву, доказывали довольно ясно, что Пьер, до того как изменить своим манерам джентльмена, уж принялся раскаиваться в том, что даже единожды отважился на подобный шаг.
И теперь, когда он возвращался домой, погруженный в глубокие раздумья, навеянные полночным часом, а в голове его, не переставая, кружились мысли обо всем, что произошло, кружились, перелетая с места на место, подогреваемые настойчивым, неизменно созидательным пламенем, рожденным от вдохновенного гласа его совести, вот тогда-то его со всех сторон и окружили умиротворяющие соображения, кои, приди они ему на ум раньше, непременно удержали бы его от вторжения к почтенному священнику.
Но лишь тот смертный муж, кто прошел сквозь бурю земных страстей, лишь тот, кого не раз обвиняли в глупости, чаще всего получает в награду способность что-то постичь. Такие взгляды могли бы навеки избавить нас от довлеющего над нами проклятья поспешных и неизменных возвратов к периодам глупости, ибо если глупость и выступает нашим учителем, то постижение есть тот урок, коему она нас учит, и если глупость совсем покинет нас, то грядущее постижение упорхнет вместе с ней, а мы так и останемся стоять на полпути к мудрости. И в этом-то и проявляет себя неслыханное тщеславие рода человеческого, кое с начала времен вкрадчиво нашептывает ему, что пришла пора вкусить отдых, и даже самый что ни на есть даровитый ум рано иль поздно проходит свой искус суетными мыслями, когда он вполне искренне заявляет самому себе: «Я достиг вершины человеческого теоретического знания, и посему я останусь на этой ступени и буду ждать». Неожиданные набеги новой правды одолеют и опрокинут его, как некогда татарские полчища – государства Китая[108], ибо ни одна Великая Китайская стена из тех, что человек возводит в душе своей, не убережет его надолго от вторжений тех варварских орд, кои правда всегда вскармливает в лоне своего снежного, но меж тем перенаселенного Севера, а посему империя человеческого знания никогда не погибнет, если вдруг угаснет какая-то династия, ибо правда, как и прежде, венчает новых императоров на царство земное.
Однако те мысли, кои мы вывели здесь, как принадлежащие Пьеру, нужно с бережением отделить от наших собственных суждений о нем. В те времена он и слыхом не слыхал о взаимосвязи и партнерстве глупости и постижения и не знал, как они способствуют развитию интеллекта и духовному росту; и посему Пьер пылко ругал себя за безрассудство и начал колебаться в душе; не доверял он коренному перевороту во всех своих чувствах, что привел его к вопиющему нарушению приличий да глупым поступкам, а недоверие к себе самому – худшее из возможных. Но сие последнее шло у него не от сердца, ибо сами небеса, как он чувствовал, одобряли его и слали ему свои благословения; а недоверие то испытывал его разум, который, не умея поддержать мужественное и благородное начинание его сердца, казалось, обрушился с упреками на самое начинание.
Но, несмотря на то что у пылкого сердца всегда найдется подходящий бальзам, чтобы уврачевать даже саму плачевную ошибку, совершенную разумом, все ж таки, пока сердце будет его изыскивать, это послужит страдальцу весьма скромным утешением, и он успеет впасть в несказанную меланхолию. И тогда ему представляется, что самые благие и праведные дела, кои мы замыслили в сердце своем исполнить, годны лишь для прекраснодушных умственных восторгов, но никогда они не выльются в обычную подготовку для претворения их в действительные деяния; и оттого мы мыслим так, что уже пытались воплотить свои начинания в жизнь, однако проявили себя отъявленными бракоделами и чрез то покрылись несмываемым позором. И вот тогда-то объявляются всегда недобитые предводители заурядности, да условностей, да общепризнанного здравого смысла и возобновляют свои атаки; наваливаются всем скопом, стоит душе открыться для сомнения; бессердечно улюлюкая, выставляют они на посмешище любое великодушие, провозглашая его не чем иным, как обыкновенным чудачеством, от которого в дальнейшем нас излечивают мудрость и жизненный опыт. Человека будто вяжут по рукам и ногам да влекут беспамятного в том направлении, в каком пожелают, а всему виной его же нерешительность и сомнения. Тьма, торжествуя, вздымает стяг свой над сей жестокой бранью, а человек никнет и падает замертво под ее натиском.
Таким же в точности было и душевное состоянье Пьера, когда он в два часа пополуночи, повесив голову, переходил границу поместья Седельные Луга.
II
В самом центре молчаливого сердца особняка, где полным-полно слуг и служанок давно спали крепким сном, Пьер бодрствовал в своей комнате, сидя за привычным круглым столом да возясь с книгами и бумагами, кои он три дня назад вдруг забросил ради неожиданного и куда более увлекательного предмета. Сверху, самые заметные среди прочих, лежали «Ад» Данте и «Гамлет» Шекспира.
Блуждал рассеянный его разум, блуждали рассеянные его руки.
Вскоре он увидал, что держит в руке раскрытый «Ад», и глаза его прочли следующие строки, кои путем аллегорий, в изгибах терцин[109] отверзали недра жизни человеческой:
Я увожу к отверженным селеньям, Я увожу сквозь вековечный стон, Я увожу к погибшим поколеньям. ‹…› Входящие, оставьте упованья[110].Он выронил обрекающий том из рук; он склонил обреченную голову на грудь.
Блуждал рассеянный его разум, блуждали рассеянные его руки. Прошло несколько мгновений, и он увидал, что держит в руке раскрытого «Гамлета», и глаза его прочли следующие строки:
Век расшатался – и скверней всего, Что я рожден восстановить его![111]Он выронил из рук том, в коем было слишком много правды, а окаменевшее сердце упало в нем с глухим стуком, словно то полетел вниз булыжник в пересохший колодец замка Карис брук[112].
III
Смертный муж Данте Алигьери вынес неслыханные обиды и унижения, коим подвергал его мир, и Данте-поэт завещал миру свое бессмертное проклятие, воплощенное в величественном проклятии «Ада».
Когда ярый язык да политические остроты привели к тому, что никто не сострадал ему больше на этом свете, поэт обрел лихую союзницу в своей огненной музе, и та сдерживает натиск огромной массы человеческих душ, навеки отказав им во всяком сострадании на том свете. К счастью и несказанному удовлетворению дилетанта в литературе, ужасающие аллегорические смыслы «Ада» недоступны беглому взгляду, но, к несчастью для молодых серьезных искателей правды и яви, стоит только этим страшным истинам впервые открыться их взору, как они начинают незаметно пропитывать ядом те участки их кожи, кои предварительно не защитили главным противоядием – неослабным чувством безопасности, кое свойственно лишь первейшим в своем развитии душам да глубочайшим мыслителям.
Судите ж тогда, о вы, вы, благоразумные заседатели, душевное состояние Пьера, сколь глубоко проникли в него слова Данте.
Если бы тот дух всепроникающего сомнения да глубинные смыслы «Гамлета», этой многозначной трагедии, смыслы, кои благоразумно скрыты от всех, кроме величайших знатоков, свести к одной-единственной морали, годной для повседневной жизни человеческой, она гласила бы следующее: что все размышления ничего не стоят до тех пор, пока не начнут подкрепляться делами, что не по-мужски это – стоять в нерешительности, когда тебя раздирают на части противоречивые эмоции; и в тот же миг, как убедился он, что некто содеял непоправимое зло, разгневанный мужчина должен разить его, и, если возможно, с точностью и силой удара молнии.
Пьер всегда оставался восторженным читателем «Гамлета», однако до сих пор ни его лета, ни его опыт осмысления не дали ему той подготовки, чтоб он, подобно посвященным, мог уловить проблески света в безнадежной тьме скрытых смыслов сей гениальной трагедии или чтобы из ее общеизвестной фабулы он мог выудить те несерьезные и неглубокие поучения, о коих рад самодовольно разглагольствовать любой радетельный моралист.
Порой даже самое яркое сияние слитых воедино разума да откровения не в силах разгласить повсюду сокровенную правду о человеке так, как возвещает о ней его же глубочайшая тьма. Тогда абсолютная тьма становится его светом, и он, как кошка, ясно видит все предметы в условиях, когда обычным зрением видят одну черноту. Отчего с давних пор тьму и горе славят, как лучших казначеев сокровищницы познания? Отчего сие: тем, кто не изведал тьмы да горя, не дается и постижение тех истин, какие следует знать каждому герою?
Благодаря свету той тьмы, Пьер постиг душу «Гамлета», что держал в руке. В ту пору он не знал – по крайней мере, чутье не подсказывало ему этого, – что Гамлет, хоть и будучи живым персонажем, был в конце-то концов попросту одушевленным созданием, коего вызвали к жизни случайным заклинанием – по мановению творческой руки – и коего впоследствии столь же случайным образом низвергли в бескрайние бездны ночи и ада.
Иль задаром дарована зоркой проницательности ее привилегия, коя позволяет в один и тот же миг не только увидеть бездны, но порою также узреть – хотя, вне всяких сомнений, не слишком отчетливо – некие отзывчивые небеса. Но когда до воронки, на дне которой гнездится истина, осталось еще полпути, то нависающие скалы совсем закрывают от взора небесный свод, и странник думает, что воронка до краев полна одной лишь тьмой.
Судите ж тогда, о вы, вы, благоразумные заседатели, душевное состояние Пьера, сколь глубоко проникли в него строки «Гамлета».
IV
Порванные на сотню клочков, валялись у его ног печатные страницы «Ада» и «Гамлета», которые он топтал, в то время как их опустелые обложки насмехались над ним своими праздными названиями. Данте привел его в ярость, и Гамлет дал ему понять, что нападать здесь не на кого. Данте наставил его, разъяснив ту горькую причину, по которой ему следовало возжечь брань; Гамлет зло упрекал его за нерешительность в битве. Он вновь стал проклинать судьбу свою, ибо теперь ясно видел, что в конце концов капитально обманывает здесь лишь самого себя, и вымаливает временную оттяжку у самого себя, и тратит попусту время на раздумчивые переживания вместо прямых действий.
Прошло сорок восемь и более часов. Изабелл признали? Находилась ли уже под его открытой защитой? Кто еще знал про Изабелл, кроме Пьера? Как последний трус, он шатался по лесу днем, и, как последний трус, он навещал ее ночью! Точно вор, он сидел, и заикался, и бледнел перед своей матерью, и, когда беседа коснулась праведного дела, позволил женщине возвыситься и грозить ему! Ах! Отрадно для человека мыслить о героических деяниях, однако ему тяжело дается их совершение. Все порывы мнимой отваги легко возникают в сердце, но очень редко порывы эти выливаются в храбрые поступки.
Решился он или нет на то, что задумал? Был ли это его огромный долг или не его? К чему оттяжка? К чему откладывать? Что можно выиграть оттяжками и отсрочками? Решение его уже принято, почему оно до сих пор не выполнено? Разве ему нужно узнать еще что-нибудь? Разве хоть один важный факт, важный для публичного признания Изабелл всеми, ускользнул от его внимания после первого взгляда, брошенного на ее первое послание? Разве это сомнения в их родстве останавливали его сейчас?.. Вовсе нет. На стене из густой тьмы, окружающей тайну Изабелл, начертанные неким огненным перстом, горели слова, подтверждающие, что Изабелл – его сестра. Почему тогда? Что тогда? Откуда тогда это его внешнее бездействие? Что – или он дрожал при мысли, что стоит ему вымолвить матери пару слов об Изабелл и о своем храбром решении признать ее да подарить ей свою любовь, как его гордая мать презрительно рассмеется, услыхав о сходстве девушки с его отцом, да с одинаковым презрением отвергнет и Пьера и Изабелл, и осудит их вместе, и возненавидит обоих одинаково, как чудовищных злоумышленников, бросающих тень на доброе имя самого безупречного мужа и отца? Отнюдь нет. Такая мысль не приходила ему на ум. Разве он не решил уже, что его мать ничего не должна знать про Изабелл?.. Но как же тогда? Что тогда? Как Изабелл признают в свете, если его мать ничего не будет знать про это признание? Жалкий близорукий плут и мошенник, ты ведешь самую тщетную и глупую игру против самого себя! Глупец и трус! Трус и глупец! Раскрой свою душу да прочти в ней мудреную историю твоего слепого ребячества! Два великих твоих решения – устроить все так, чтоб Изабелл была признана в свете всеми, да по доброте душевной молчать о ней перед матерью – два несовместимых меж собой деяния… Так же несовместимы они, как твое великодушное решение защитить добрую память о своем отце от всеобщего осуждения вместе с другим твоим намерением: открыто признать, что Изабелл приходится тебе родной сестрой, – это тоже два разнонаправленных действия. И теперь, когда ты порознь принял четыре таких решения, кои, взятые вместе, сразу же отменяют друг друга, эта, эта несказанная глупость, Пьер, клеймит чело твое непостижимым безумием!
Ты можешь сколько угодно сомневаться в себе, и казнить себя, и рвать в клочки своего «Гамлета» и свой «Ад»! О! глупец, слепой глупец, и миллион раз осел! Прочь, прочь, ты, ничтожество и слабак! Высокие деяния не для таких слепых червей, как ты! Бросай Изабелл и ступай к Люси! Вымоли себе небольшое прощение у матери, а после будь для нее еще более послушным и хорошим мальчиком, Пьер – Пьер, Пьер! – безумец!
Невозможно описать все то замешательство и хаос в душе Пьера, когда вся эта неразбериха мыслей впервые дала себя знать, когда разом возникла в его голове. Он бы с радостью отрекся от самой памяти и сознания, кои, вопреки его обычному здравомыслию, затеяли в его душе такой грандиозный скандал. Теперь же все огненные водопады «Ада» и клубящаяся тьма «Гамлета» и впрямь задушили его разом своим огнем и дымом. Душевные силы оставили его, в слепой ярости и в порыве безумия он бросился на стену и пал в корчах рвоты перед ненавистной твердыней.
Глава X НЕБЫВАЛОЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПЬЕРА
I
Восславим светлую память первого, кто изрек: «Самая темная ночь – перед рассветом». Нас не заботит, сколь правдиво сия пословица рисует отдаленнейшие границы нашего мира; довольно и того, что в иных случаях она верна и сгодится, покуда мы пребываем в границах нашего земного бытия.
Наутро Пьер поднялся с пола в своей комнате, весь разбитый и обессилевший телом от невыразимых мук, что выпали ему на долю в минувшую ночь, однако стоически невозмутимый и ясный душою, предвкушая то, что он считал своим спланированным и совершенным будущим. Ныне ему думалось, он знает, что та нежданная буря, коя прошла по его душе, как ужасный тайфун, все-таки рушила все вокруг для его же блага, ибо там, где на небосклоне его души тайно зарождалась гроза да клубились хмурые тучи, ныне, казалось, блистают чистые небеса, и он мнил, что отныне ему подвластна вся его душа, вплоть до дальнего горизонта.
Принятое им решение было странным и неслыханным; но оно было вызвано столь же странной и неслыханной необходимостью. Однако в том намерении была странной и неслыханной не только сама новизна его формы, поражало также в нем то, сколь неравноценным было самоотречение Пьера.
Еще в самом начале он решил любой ценой сохранить добрую славу своего отца, уберечь ее от всех деяний, кои он собрался совершить, защищая Изабелл да взяв ее под свое крыло предельной братской преданности и любви, и также он решил не нарушать мирное течение жизни своей матери, да обойтись без напрасных разоблачений неприглядной правды, а еще во глубине души своей он дал клятву отыскать некий способ добиться, чтоб свет признал его с Изабелл, да одарить ее постоянным утешением и дружбою; и тогда, не найдя ни единого подходящего средства связать все это в одно целое, да так, чтобы хоть раз избежать лжи во спасение, коя, как он мыслил, будет оправдана на небесах, ибо сам он выступит в роли великого страстотерпца, – вот каким в двух словах было его обдуманное и незыблемое решение, а именно: огласить миру, что, согласно тайному святому обряду, Пьер Глендиннинг стал супругом Изабелл Бэнфорд, – сей обман полностью оправдает их постоянное совместное проживание да введет ее повсюду, где станут принимать Пьера; а вместе с тем он решился не допустить никаких зловещих расследований, кои потревожили бы память его покойного отца или же каким-то образом нарушили мирный ход жизни его матери, ведь одно было неразрывно связано с другим. Нельзя отрицать, он предвидел изначально, что принятое им необыкновенное решение пусть и не сразу, но тем иль иным образом нанесет жесточайший удар прямо в сердце его матери; однако он полагал сие частью той неизбежно высокой платы, кою ему придется внести за свой самоотверженный поступок; и посему он более склонялся к тому, чтоб тайно ранить свою живую мать, рану которой можно было уврачевать, чем стать глашатаем вселенского и безнадежного позора – только в таком свете он и видел все дело, – который пал бы на его покойного отца.
Должно быть, никому, кроме Изабелл, было б не под силу произвести на Пьера столь сильное впечатление, что толкнуло бы его на принятие последнего неслыханного решения, о коем речь шла выше. Но чарующая музыкальность ее печали заставила зазвучать тайный монохорд[113] в его груди, который, словно по явному волшебному мановению, во всем походил на тот, что говорил струнным языком ее гитары, отвечающей голосу сердечных струн в ее меланхоличных рыданиях. Дивный глас Изабелл звал его с бескрайних просторов неба и эфира, и там, на небесах, казалось, не было ни одного земного запрета, что отклонял бы ее невинную мольбу.
За те три дня, что Пьер провел подле Изабелл и позволил ей связать их обоих магнетическими узами, неизгладимое впечатление произвели на него и другие средства убеждения да силы, кроме бесспорного могущества ее чудесных глаз и необыкновенной истории, и вот они-то, быть может, незаметно для него главным образом и повлияли на принятие его решения. Изабелл пленила его, словно прекрасная дочь Гордости и Горя, и в ее облике сияли божественные черты обоих ее родителей. Гордость ей даровала ее несказанное благородство, горе смягчило это благородство ангельской добротой, и, опять же, сию доброту пропитало самое доброжелательное смирение, кое было основой ее высочайшего совершенства.
Не нашлось бы ни слова, ни клочка написанной бумаги, что уличал бы Изабелл хоть в искре тех приземленных чувств и желаний, кои не без основания приписывают человеку в его жизненных обстоятельствах. Несмотря на свою почти полную нищету, девушка не просила у Пьера денежных подарков; и пусть она хранила молчание по этому поводу, но Пьер был странно тронут этой неведомой черточкой в ее характере, коя добровольно отвергала всякую зависимость от вспоможений, даже если б они исходили от брата. Несмотря на то что она различными косвенными путями дала понять, что сознает свое пребывание среди недружелюбных и посредственных людей, однако она все ж таки одного рождения с ними, хоть сама-то и заслуживает самого изысканного общества на всем белом свете; между тем она вовсе не требовала от Пьера, чтобы он нарядил ее в парчу и ввел в гостиные благороднейших и богатых леди графства. Но в то время как сие яснее ясного обнажало ее интуитивное, прирожденное умение быть леди да твердило о ее благородстве, коль скоро она абсолютно свободна от всяких корыстных побуждений; все ее чувства, кроме того, не поглотила некая болезненно-сентиментальная родственная привязанность ко вдруг обретенному брату; а будь на ее месте девушка, не одаренная такой красивой внешностью, ее призыв отнюдь не показался бы Пьеру таким заманчивым. Нет. То было сильное, страстное и несказанное стремление к нему одному, которое ее письмо, благодаря своей милой непосредственности, передало наилучшим образом, да притом не имея под собою никакого подлого, пустого иль обыденного мотива; то был неудержимый и несомненный вопль божества, который прошел чрез ее сердце да велел Пьеру лететь к ней и исполнить свой высочайший и прекраснейший долг в жизни.
Однако теперь, как это туманно рисовалось Пьеру, долг этот вовсе не состоял в том, чтобы лететь прямо в мраморный лик прошлого да пытаться дать обратный ход постановлению, провозглашавшему, что Изабелл никогда не сможет унаследовать все привилегии законного ребенка своего отца. И ныне он понимал вполне, что даже если в теперешней ситуации такая попытка не противоречила бы здравому смыслу да не была бы жестока по отношению равно и к живым, и к мертвым, сего не желала бы и сама Изабелл, коя хоть и уступила однажды порыву яростного воодушевления, тем не менее, пребывая в своем обычном печальном и добродушном настроении, ясно давала понять, что у нее отсутствуют какие-либо незаконные притязания. Ныне Пьер понимал вполне, что Изабелл согласна жить, держа в тайне свое происхождение, и столь долго, сколько нужно, чтоб утолять свою глубинную жажду постоянной любви, и взаимопонимания, и близкого общения в домашней среде с кровным родственником. Так что Пьер не имел ни малейшего опасения, что, узнав о его планах, она сочтет их неподобающими ее естественным ожиданиям; а что же касается странности этих планов, коя выходила далеко за пределы привычного, – странности, коя, возможно, стала бы непреодолимой преградою для болезненно-слабых, обыкновенных женщин, – тут Пьер не ждал никаких возражений от Изабелл, ибо все ее прошедшее было странным, и странность, казалось, лучше всего подходила для ее будущего.
Но если бы Пьер ныне прочел заново первый абзац ее письма, то весьма скоро он проникся бы вполне объяснимым сильнейшим предубеждением против своей сестры, и лишь его же полнейшее бескорыстие спасло его от этого, ибо на некоторые моменты он просто закрыл глаза. Несмотря на то что у Пьера были все основания верить – учитывая, сколь уединенную и скромную жизнь вела его сестра, – что Изабелл даже не подозревает о его помолвке с Люси Тартан, и сие неведение Изабелл, кое поначалу было бессознательным и косвенным в своих проявлениях, Пьер приветствовал всем сердцем; и хотя конечно же сам-то он, являя пример и мудрости, и великодушия, вовсе не собирался просвещать ее по этому вопросу, все ж таки возможно ли, чтобы какая-то чистая сердцем, благородная девушка, такая как Изабелл, стала бы, преследуя свою выгоду, охотной сообщницею в деле, кое несомненно и навсегда разбивало благословленный любовью союз, что вскоре должен был увенчаться браком столь милого и великодушного юноши, каким был Пьер, возможно ли, чтобы честная девушка стала стараться навеки связать его узами лживого союза, кои хоть и будут поначалу тончайшими паутинками, однако позже обратятся в крепость со стальными стенами, ибо те же могучие побуждения, кои склонили его заключить подобный союз, с той поры принудят его избегать даже слабых намеков на его фиктивность, что, в свою очередь, вело к публичному разрыву со всеми прежними сердечными привязанностями, а посему никакой иной брачный союз Пьера не был возможен до тех пор, пока жива Изабелл.
Однако это в зависимости от того, с какой точки зрения вы на это посмотрите: надо ли считать сие даром или же проклятием великих богов человеку, что он, стоя на пороге некой совершенно новой и важной инициативы в сердечных делах, обречен на тысячу тайных сложностей и опасностей, кои неизменно подстерегают его, стоит ему сделать первый шаг, и поначалу все они бегут его взгляда, и вот глядишь, а по бескрайним, навеки девственным просторам инициативы по-прежнему скачет рыцарь удачи, равно равнодушный и к ее дворцам, и к волчьим капканам в самом ее центре. Поразительно и просто неслыханно, к каким небывалым просчетам да противоречиям приводят пламенные мечты о геройских или крайне рискованных деяниях, когда мыслят о них молодые да чересчур пылкие души. То понимание всеобщего единства, та тихая величавость, с коими спокойный философский разум отправляется на поиски истины да возвращается обратно к предметам своих размышлений, пребывая в той же целости и сохранности, – все это отнюдь не свойственно юному энтузиасту. Излишнее рвение повинно в том, что все объекты его размышлений обманчиво уменьшаются, излишняя торопливость повинна в том, что все детали общей картины видятся ему по отдельности, поэтому в общем и в частности его картина мира залита ложным светом. И вот мы уж поведали, что хаос в мысли Пьера без умысла внесла та самая причина, кою мы постарались обрисовать выше, и она же убедила его какое-то время держать в уме четыре взаимоисключающих намерения. А ныне мы видим, как сей несчастный юноша страстно жаждет впутаться в такой сложный узел судьбы, что даже самим трем проворным девам[114] едва ль будет под силу освободить его, стоит ему только связать себя сложными петлями с Изабелл.
Ах ты, безрассудный мальчишка! Да неужели нет никаких крылатых вестников, чтобы предостеречь тебя от этих опасностей и указать на сей критский Лабиринт, ко входу в который завела тебя твоя жизненная нить? Где же небесные заступники? Куда улетели все добрые ангелы, кои призваны защищать человека?
Нельзя сказать, что пылкий Пьер вовсе не сознавал всех тех грозных последствий, кои ждали его в будущем, решись он сейчас приступить к исполнению своего поистине невероятного замысла; однако эти последствия, изрядно приуменьшенные его пламенным воображением, пока не обретали в его глазах своих настоящих размеров, нет, право же, но таковы были нынче его вывернутые наизнанку помыслы, что даже если последствия эти вдруг предстали бы пред ним в своем подлинном обличье, то он и тогда не отрекся бы от благородного самопожертвования; и поэтому он до некоторой степени предвидел и понял, вне всяких сомнений, какие его ждали последствия. Казалось, он, по крайней мере, превосходно предвидел и понимал, что должен оставить все нынешние надежды на Люси Тартан; что сие причинит ей невыносимую боль, естественным откликом на которую удвоится его собственная; что для остального мира все значение его подвига останется в равной степени необъяснимым и безрассудным, и потому мир обвинит его в позорном предательстве своей невесты, в том, что он презрел самые крепкие из человеческих уз, – тайный ухажер и супруг никому не известной таинственной девушки, отвергнувший с презреньем все мудрейшие советы любящей матери, паршивая овца, навлекающая вечный позор на благородное имя своей семьи, потерявший голову от любви добровольный беглец из богатого поместья да от большого состояния; и, наконец, он не мог не понимать, что отныне вся его жизнь будет, в глазах широкой общественности, покрыта плотною мглой неизбывной мрачности, коя, возможно, не рассеется даже в его смертный час.
Таков ты, о сын человеческий! Бесчисленны муки и страдания, коим ты подвергаешь себя, стоит лишь тебе, пусть даже при совершении доброго поступка, немного отступить от негласных правил поведения, кои преподает тебе наш мир, и, сколь бы он ни был подл и низок, однако заботится о твоем же земном благе.
Порой сие достойно всяческого удивления, когда, проследив за возникновением самых необыкновенных да глубочайших явлений, после обнаруживаешь их явный источник в чем-то простом и совершенно обыденном. Сколь все же удивительна да сложна душа человеческая; и сколь многое в ней развивается сложным путем из самое себя, и столь огромно да разнообразно все то новое, что привносится в нее извне, и всегда такую необычайную сложность представляет проведение границы меж одним и другим, что и мудрейший человек бывает опрометчив, когда берется четко определить явное и исходное начало своих окончательных мыслей и поступков. Так далеко, насколько мы, слепые кроты, можем заглянуть вперед, жизнь человеческая видится нам деяниями, кои мы творим по неким таинственным намекам, ибо нам всегда тем или иным способом дают знать, что надобно, мол, сделать то или это. Ибо сие не подлежит ни малейшему сомнению, что ни один смертный муж из тех, кто когда-либо пытался разобраться в себе самом, не станет утверждать, что даже самая малая его мысль или действие берут свое начало исключительно в его собственной индивидуальности. Это вступление перестанет казаться вам совершенно излишним, когда вы узнаете, что предтечей нынешнего странного замысла нашего героя стало, возможно, тайное зерно двусмысленности, кое несло в себе задуманное Пьером необыкновенное средство исполнить затеянное им небывалое дело, а именно формальное превращение сестры в жену, и сие зерно было посеяно, когда произошло первое преображение и его мать обратилась в сестру, ибо с тех самых пор он приучил свой голос и манеры к некоей формальности в одной из теснейших родственных связей в домашнем кругу; а стоит только человеческой морали стать достаточно пористой, как все события, что будут скапливаться на ее поверхности, начнут мало-помалу просачиваться внутрь – вот откуда пошла Пьерова привычка к некоей словесной игре в общении со своими домашними, коя, так сказать, засела в его голове, только пока еще она была невинной и радостной. И если, пусть даже с некоторыми изменениями, все и впрямь обстояло именно так, то, значит, для Пьера те времена веселой словесной игры были столь же познавательны, сколь часы учения; и вот, играючи, он постиг язык горя.
II
Если первым намерением Пьера было всегда поддерживать Изабелл в качестве ее брата, то следующим его решением, принятым сразу же вслед за тем, решением, кое делало Пьера непоколебимо отважным и питало его волю ко праведному и неукоснительному исполнению самой святой из клятв, было его пламенное и, вне всяких сомнений, совсем излишнее намерение оставить в неприкосновенности доброе имя своего отца да не открывать имени отца Изабелл ни одному живому существу на всем белом свете. Навеки исчезнувший из мира живых и давно опочивший – и беззащитный с тех пор до скончания времен, – его мертвый отец, казалось, взывал к чувству сыновнего долга и милосердия Пьера, взывал в более трогательных выражениях, чем те, что когда-то слетали с его живых уст. Но что, если всему виною не греховность Пьера, а греховность его отца, и ныне добрая слава отца зависела от милосердия сына, а его имя могло остаться незапятнанным, только если сын добровольно пожертвует всем своим счастьем на этой земле; если это и впрямь было так, что тогда? Тогда сие только задевало еще более высокую струну в груди сына да наполняло его безграничным великодушием. Благородный Пьер никогда не поддавался жестокому заблуждению, что даже на этом свете грех неизменно становится самым удобным козлом отпущения, коего самодовольная добродетель вытягивает на жесточайшей дыбе, а меж тем эта же самодовольная добродетель поддерживает в себе малодушие, любуясь смертною бледностью агонизирующего греха. Ибо совершенная добродетель не станет громко требовать нашей похвалы, равно как и кающийся великий грех – взывать к нашей ангельской доброте и глубочайшему участию. А посему, чем выше добродетель, тем больше мы должны ее одобрять, и, чем тяжелее грех, тем более мы должны о нем сожалеть. Грех ведь тоже в своем роде обладает неким божественным ореолом, и не меньшим, чем святость. И великий грех требует к себе больше великодушия, чем маленькая добродетель. Иль тот, кто и впрямь может зваться человеком, не испытывает разве более живых и великодушных эмоций к великому богу греха – Сатане, – чем к какому-нибудь мелкому торговцу, который был всего-навсего обыкновенным грешником на своем скромном и, без сомнения, уважаемом торговом поприще?
Несмотря на то что Пьера повергала в крупную дрожь та непостижимая и при этом мрачно-значительная тень, кою невероятная история Изабелл отныне отбрасывала на молодые годы жизни его отца, однако же, стоило ему только вспомнить немую муку той пепельно-серой руки, кою отец его – со своего смертного ложа – страдальчески протягивал к пустоте, и Пьер острее всего сознавал, что пускай никто не ведал о тайном грехе его отца, но в свой последний час тот горько раскаивался; и раскаяние это глодало его еще пуще оттого, что мучительный секрет он уносил с собой в могилу, и сие несчастие было непоправимо. Мало заботясь о том, на кого он оставляет свою семью, разве его отец не умер безумцем? Откуда взялся тот смертный бред, если он прожил столь счастливую жизнь? Откуда, если не от жесточайших угрызений совести?
Соприкоснувшись со всем этим да соединив свои силы и нервы в стремлении сохранить честь отца незапятнанной, Пьер обратил враждебный и бесстрашный лик к Люси Тартан, про себя он клялся, что даже она никогда не узнает всего, нет, не узнает даже малейшей подробности.
В высоком героизме неизбежно присутствует крайняя жестокость. Героизм – это не только когда мы остаемся стойкими в час больших испытаний; но героизм означает также, что мы не просто храним невозмутимость, что бы ни случилось, а не теряем наше мужество, когда видим, как страдают вместе с нами наши любимые; да видим, что этой общей муке мы могли бы разом положить конец, откажись мы от сей великой цели, во имя коей пролили свою кровь и кровь наших близких. Если он не желает раструбить об отцовском грехе всему свету, чье благосклонное о себе мнение Пьер отныне презирал, то как же он решится во всем признаться девушке, которую обожает? Перед нею, единственною из всех, распахнуть двери отцовского склепа да предложить посмотреть, сколь низким и подлым был тот, кто даровал ему жизнь? Одним словом, Пьер повернулся к ней спиной и привязал Люси к тому же столбу для сожжения, что и себя, ибо слишком ясно он видел, что иначе и быть не может, что оба их сердца обречены сожжению.
Да, его решение, касавшееся защиты чести его отца, было сопряжено с необходимостью обманывать своим фиктивным браком с Изабелл даже Люси. Этого он не мог объяснить и себе самому, не то что ей. Сие объяснение лишь обострило бы и без того нестерпимую боль их разлуки, ибо вело к рождению в уме Люси пусть и совсем беспочвенного да накликанного самовнушением, однако самого мучительного подозрения, что отравило бы все ее представления о нем. И посему в этом вопросе он все еще лелеял надежду, мысля так: коль скоро на самом-то деле он не заключает брак со своею ближайшею родственницею, то за ним сохраняется право когда-нибудь подать о себе весточку и так предупредить появление у Люси тех мрачных мыслей, какие могли вполне у нее возникнуть; и если уж он поступает с ней не совсем хорошо, то тем самым хотя бы убережет ее от каких-то ужасных заблуждений.
Что же касалось его матери, тут Пьер был более подготовлен. Он мыслил, что сие непостижимое веление, неизбежное, как ни старайся от него увильнуть, иль приглушить его глас, иль сделать вид, что его нет, чрез то веление, что настойчиво теснило его, поднимаясь из самых глубин его души; семье Глендиннингов властно провещали принести свою богам скорби, по крайней мере, одну великую жертву; и этой большой жертвой должна стать или его мать, или он сам. Если он раскроет секрет всему миру, то его мать станет жертвой; если, невзирая на все опасности, он оставит тайну тайной, то жертвою будет он сам. Более того, он преобразится в жертвенного овна, который будет почитать мать свою, ибо, принимая во внимание щекотливые обстоятельства дела, сохранение необходимой тайны будет держаться на ее полном и неверном о нем представлении, прямом следствии его позора. Но перед этой необходимостью он покорно склонял голову.
Вот еще что, и об этом здесь упоминается в последнюю очередь, ибо сие меньше всего занимало сознательные мысли Пьера; оставалось еще некое обстоятельство, кое грозило ему верной погибелью. Имелась одна юридическая тонкость, коя хоть и оставалась еще необдуманной и неясной, но в тот миг, когда Пьер поймет ее до конца, должна была мощнейшим образом на него повлиять да подготовить его к самому худшему.
Последняя и смертельная болезнь скрутила его отца совершенно неожиданно. Оттого, что за ним подозревали скрытое помрачение рассудка, некую навязчивую идею, что снедала его в молодые года и однажды вспомнилась ему в недобрый час, да оттого также, что в последние свои дни он постоянно впадал в беспамятство, – оба эти обстоятельства, в совокупности с иными причинами, и не дали его отцу возможность оформить новое завещание вместо первого, кое составили вскоре после его женитьбы и до рождения Пьера. Первое завещание, которое еще никогда не оспаривалось в судах и о коем миссис Глендиннинг, воображая себя в полной безопасности да уповая, что ее сын навеки останется таким же любезным с ней и любящим, попыталась всего раз, и то безуспешно, поговорить со своим отпрыском, имея взгляд на лучший и более подобающий образ действий в обстоятельствах, кои не существовали на момент подписания сего завещания, кое гласило, что вся собственность Глендиннингов отходила матери Пьера.
Остро чувствительный к этим намекам, мелькающим в его уме, кои уж заранее нарисовали ему в красках высокомерный гнев его оскорбленной матери, всю ее злобу и презрение к сыну, когда-то предмету ее высочайшей гордой радости, но ныне запятнавшему себя глубочайшим бесчестием, не только восставшим против ее воли, но тем, кто в глазах всего света обрек честь семьи на самый гнусный позор, Пьер ясно предвидел, что она никогда не позволит Изабелл Бэнфорд в ее истинном звании переступить порог своего дома, даже если она будет знать ее только как безвестную и коварную девушку, коя с помощью неких низких уловок увлекла ее единственного сына с дороги чести на путь бесславия. Но не принимать Изабелл значило отныне не принимать Пьера, и ему оставалось лишь мечтать о том, что, по крайней мере, на небесах его мать не откажется от него.
Те же самые мысли, что поведали ему о будущей реакции матери на его замыслы, о коих уже было сказано выше, также нарисовали ему картину, как ее наинадменнейшее сердце неумолимо ожесточится против него, как она не только захлопнет дверь перед ним да его мнимою женою, но по своей доброй воле не вышлет им ни медяка в поддержку их предполагаемого брачного союза, который вызвал у ней столь сильный гнев. И хотя Пьер плохо знал юридическую науку, чтобы быть уверенным в том, что, если на суде он укажет на спорность условий отцовского завещания, признают законными возможные притязания сына разделить поровну с матерью все имущество отца; а сам же он заранее чувствовал непреодолимое отвращение при мысли, что пришлось бы нести в суд бумаги с подписью покойного отца, да клеймить сию подпись открытым судом, да сражаться там из самых низких корыстных побуждений против собственной матери. Его безошибочный инстинкт в таких ярких красках рисовал ему, какова будет реакция его матери, если открыть ей все, каковы будут ее поступки, узнай она правду во всех жестоких подробностях, каковы будут поступки, от совершения коих ее удерживали ранее лишь игра случая да удачное стечение обстоятельств, что Пьер был совершенно уверен: ее озлобление против него будет длиться даже дольше, чем возможное открытое судебное разбирательство касательно раздела имущества Глендиннингов. И недаром чуяло его сердце, что для борьбы за наследство у его матери и впрямь осталось еще много нерастраченных сил и мужества, коих он имел все основания опасаться. Кроме того, если предоставить событиям идти своим чередом, Пьер на целых два года останется младшим в семье, ребенком в глазах закона, не имеющим права лично выразить суду какое-либо законное требование; и хотя он мог бы судиться чрез своего ближайшего друга, но кто же по своей воле останется в числе его близких друзей, если исполнение его великого замысла требовало от него устранить всех друзей?
Вот какие мысли, да еще множество других, казалось, сжали плотным кольцом душу этого влюбленного юного энтузиаста.
III
В иных человеческих сердцах всегда таится до времени некая темная, безумная прихоть, коя при тирании господствующего на сердце настроения приводит таких особ к тому, что они с безрассудною готовностью разрывают свои самые крепкие сердечные узы, сочтя их помехою к достижению той высшей цели, кою сие, господствующее на сердце настроение им насаждает, словно заправский тиран. Тогда кажется, что узы любви только понапрасну сковывают нас и что перед тем, как подняться на величественные высоты, мы прекрасно обойдемся без прощания с близкими; любое проявленье к нам нежности мы надменно отвергаем, нам кажется, что поцелуи домашних оставят на нас волдыри; и вот, оставя позади живые любящие сердца, мы тщетно ловим в объятия пустой и бестелесный воздух. Мы мним, что перестали быть смертными людьми, что уподобились бессмертным холостякам да богам, но повторяю вновь, мы, так же как и сами греческие боги, склонны спускаться обратно на землю; склонны вновь с радостью подчиняться любви; склонны вновь радостно преклонять свои боговидные головы на грудь, созданную из столь пленительной глины.
Устав от устойчивой земли, неутомимый мореход вырывается из всех любовных объятий и пускается в море, когда свирепствует штормовой ветер, дующий прочь от берега. Но во время долгих ночных вахт на другом конце света, когда океанская пучина тяжело поворачивается за палубой, моряку думается о том, что в этот самый миг над покинутым им деревенским домом родное солнце взошло высоко и много ясноглазых девушек – в зените своей красоты, как и солнце. Он проклинает судьбу, себя он проклинает, свое бездумное безумие, коему имя он сам. Ибо те, кто вкусил сладость знакомства с ними, затем стремится их оставить; в разлуке же они приходят ему в его мстительных снах.
Пьер был теперь тем самым богом, в ком незащищенным остается сердце, тем самым моряком, который ругал себя на чем свет стоит; тем самым мечтателем, погруженным во мстительные сны. Несмотря на то что в некоторых важных вопросах он не занимался самообманом и отважился назвать вещи своими именами, однако же, как только вставал вопрос о Люси, он принимался хитрить с самим собою. Но надо сказать, что Люси была связана с его необыкновенным замыслом сложнейшим морским узлом, ибо ему казалось немыслимым принять такое судьбоносное решение, не имея в поле зрения и этой пламенной любви. И вот, не зная, какова она, сия неведомая величина, или же боясь найти ее невзначай, Пьер, обдумывая свои планы, словно алгебраист, заменил настоящую Люси на условный символ – на некое неизвестное х, – и посему в его окончательном решении все еще стояло это неизвестное х, но отнюдь не живой образ Люси.
Теперь же, когда он воспрял от самоуничижения, поднявшись с пола в своей комнате, да воспрянул духом от довольно-таки глубокого душевного изнеможения, Пьер мнил, что подчинил себе свою мрачную судьбу вплоть до самого горизонта, что все его решения предельно ясны да приняты раз навсегда; и вот, наконец, в довершение всего в самые глубины его сердца вдруг проник живой и дышащий образ Люси. Пьер задохнулся; он пожирал ее глазами, ибо прекрасный воображаемый призрак, который столь долго был заживо погребен в его душе, казалось, наступал на него из своей могилы, и ее светлые волосы саваном окутывали ее до пят.
Тогда на какое-то время все второстепенное, что поглощало его внимание прежде – его мать, Изабелл, весь белый свет, – все поблекло, и лишь один выбор встал пред ним, один вопрос, который заключал в себе все: Люси или Бог?
Но тут мы откладываем перо в сторону. Иные безымянные битвы души не подлежат описанию, и не всякое горе должно обсуждать. Предоставим же двусмысленной череде событий мало-помалу поведать нам о своих двусмысленностях.
Глава XI ОН ПЕРЕХОДИТ РУБИКОН
I
Оказавшись внутри Мальстрема[115], человек непременно закружится как волчок. Если вы ударите концом кия в наидлиннейшем возможном ряду бильярдных шаров тот шар, что к вам всего ближе, то самый дальний шар покатится в лузу, в то время как другие останутся, и при этом вы не прикасались к тому дальнему шару. Так и судьба, рассчитывая чрез целую вереницу поколений живых существ или же мыслей, обрушивает удар свой на ныне живущего. И тогда тщетно отрицает он порыв ветра, так как не чувствует на себе его дыхания, а до него и впрямь не долетало ни малейшего дуновения. Пьер же более не противился непреложной судьбе да свободной воле; это непреложная судьба и свобода воли вступали с ним в спор, и победу в дискуссии одержала непреложная судьба.
Те незримые силы, кои оказывали на него влияние всю ночь да в это раннее утро после его второй беседы с Изабелл, убеждали Пьера принять окончательное решение, а теперь они же с неотразимым упорством подталкивали его действовать побыстрее, невзирая на то что прежде он уже оказывался в числе опоздавших.
Пьер, не отдавая себе отчета в том, что путь уже указан, да страстно желая пресечь на корню все возражения со стороны Изабелл по поводу их грядущего брачного союза, очень торопился совершить некий поступок, который будет обладать действенною силою исполненного намерения, но при этом к нему не должно примешиваться никакого корыстного мотива. И так как еще первоначальное его решение несло в себе наиприскорбнейшую связь с Люси, то с той поры ее образ стал рельефным в его сознании, и посему он жаждал прекратить ее муки неизвестности и с жестокостью, в коей была доля своеобразного милосердия, разом объявить ей, какая участь ждала ее; вот почему в то утро средь первых решающих его намерений присутствовала мысль направиться прямиком к Люси. А что до такого, вне всяких сомнений, довольно незначительного обстоятельства, как географическая близость, ведь Люси жила к нему ближе, чем Изабелл, то и оно оказало на него какое-то дополнительное, пусть и неосознанное, влияние при его нынешнем роковом душевном настрое.
В былые дни нерешительности Пьер очень заботился о том, чтобы получше скрыть свои переживания от матери, и соблюдал некую аккуратность и изысканность в одежде. Но с тех пор, как сама его душа была вынуждена надеть маску, никакие ничтожные шелка и другие обманчивые покровы не скрывали его тела. Он подошел к коттеджу Люси растрепанный и в одежде, и в чувствах.
II
Она еще не проснулась. И потому какое-то странное властное нетерпение подтолкнуло его подняться наверх к ее комнате да тихим голосом, но твердо потребовать немедленной встречи по делу неотложной важности.
И без того она была заинтересована и встревожена за своего возлюбленного, который вот уже восемьдесят четыре часа отсутствовал по некоему таинственному и неизвестному делу, а это удивительное требование и вовсе поразило Люси внезапным ужасом; вот почему, забыв все обычные приличия, она ответила на него немедленным согласием.
Открыв дверь, он медленно и осторожно приблизился к ней; и, когда Люси увидала его бледное решительное лицо, она закричала в истинной муке, не зная еще, в чем причина ее страданий, и поднялась, дрожа, в постели, но не промолвила ни единого слова.
Пьер присел на край кровати, и его твердый взгляд встретил ее, невинный и перепуганный.
– Тебя, наряженную в белоснежные одежды да такую бледную, и впрямь впору повести к алтарю, но не к тому, о коем столько мечтало твое нежное сердце – о жертва, как ты прекрасна!
– Пьер!
– Это последняя жестокость тиранов – заставлять своих врагов биться насмерть друг с другом.
– Любимый мой! Любимый мой!
– Нет… Люси, я женат.
Девушка более не была бледной, но побелела, как прокаженная; ее одежды затрепетали, выдавая крупную дрожь всего тела; одно мгновение она сидела, безучастно глядя в пустые глаза Пьера, а затем упала пред ним в обмороке.
Непродолжительное безумие затмило разум Пьера; все произошедшее показалось ему сном, а настоящее – бессмысленным кошмаром. Он поднял Люси, и бережно уложил в постель ее бездыханное тело и замолотил в дверь, зовя на помощь. Служанка Марта вбежала в комнату и, увидав непонятную сцену, дико закричала и заметалась в ужасе. Но повторный окрик Пьера заставил Марту очнуться, и, вылетев из комнаты, она вернулась с остро пахнущим нашатырем, который наконец вернул Люси к жизни.
– Марта! Марта! – позвала Люси еле слышным шепотом и, трясясь в дрожащих руках служанки, забормотала: – Скорее, скорее… беги ко мне… прогони мой сон прочь! Разбуди меня! Разбуди меня!
– Нет, моли Бога, чтобы заснуть опять, – закричала Марта, наклонившись к ней и обнимая ее, и повернулась к Пьеру вполоборота с видом отвращения и негодования: – Христом Богом спрашиваю вас, сэр, что это может быть! Как ты вошел сюда, проклятый?
– Проклятый? Звучит славно. Она пришла в себя, Марта?
– Ты чем-то убил ее; как она теперь придет в себя? Моя милая госпожа! О, моя маленькая девочка! Скажи мне! Скажи мне! – И она опять наклонилась к ней.
Пьер приблизился к постели, давая знак служанке, чтобы она оставила их наедине; но как только Люси увидела его изможденное лицо, она шепотом запричитала снова:
– Марта! Марта! Прогони этот призрак!.. Там… там! Его… его! – И глаза Люси вдруг закатились, и она всплеснула руками в отвращении, защищаясь.
– Монстр! Непостижимый дьявол! – снова закричала служанка, сраженная ужасом. – Убирайся! Смотри! Она умирает от одного взгляда на тебя, убирайся! Ты хочешь совсем ее добить! Вон!
Застыв, словно вмороженный в пол своими же чувствами, Пьер молча развернулся и покинул комнату; он тяжело спустился вниз по лестнице, грузно ступая – как человек, что несет на себе великий груз, – прошел чрез длинный узкий коридор, ведущий в заднее крыло коттеджа, и, постучав в двери мисс Лэниллин, отослал ее к Люси, которая, сказал он лаконично, упала в обморок. Затем, не дожидаясь какого-либо ответа, он вышел в дверь и направился прямо к особняку.
III
– Моя мать уже встала? – спросил он у Дэйтса, коего встретил в холле.
– Нет еще, сэр… Святые Небеса, сэр! Вы занемогли?
– До смерти занемог! Дай мне пройти.
Поднимаясь к материнской комнате, он услышал приближающиеся шаги и встретил миссис Глендиннинг на широкой лестничной площадке между этажами, где в просторной нише стояла мраморная скульптурная группа – жрец-отступник Лаокоон и двое его невинных детей; опутанные плотными змеиными кольцами, они корчились в вечных муках.
– Мама, вернемтесь со мной в вашу комнату.
Миссис Глендиннинг, взирая на его внезапное появление с неясным, но скрытым дурным предчувствием, выпрямилась надменно и враждебно и, поджав губы, сказала:
– Пьер, ты сам отказал мне в своем доверии, и ты не заставишь меня вернуть все назад так легко. Говори! Что произошло между тобой и мной?
– Я женился, мама.
– Великий Боже! На ком?
– Не на Люси Тартан, мама.
– Ты просто сказал, что это не Люси, не прибавив, кто она на самом деле, – это лучшее свидетельство того, что она подлого рода. Люси знает о твоей женитьбе?
– Я только что от Люси.
Тут твердость миссис Глендиннинг стала понемногу таять. Она стиснула перила лестницы и на мгновение склонилась на них, дрожа. Затем воспрянула вновь во всей своей надменности и стала перед Пьером воплощением равнодушного, неутолимого горя и презрения.
– Мрачная душа моя неясно пророчила мне о каких-то бедствиях. Ну, если ты еще не приискал себе другого жилья да стола, кроме тех, что предоставляли тебе в этом доме, так ищи их сейчас. Под моей крышей и за моим столом тот, кто когда-то звался Пьером Глендиннингом, больше не появится.
Миссис Глендиннинг отвернулась от него, нетвердыми шагами пошла наверх и исчезла с его глаз; но по перилам, в кои вцепился Пьер, казалось, что ему передалась та внезапная дрожь, коя еще оставалась в них от конвульсивной хватки, какою держалась за них его мать.
Он огляделся по сторонам как слабоумный; шатаясь, спустился на нижний этаж, молча вышел из дому; но когда он переступал порог, его нога споткнулась о высокий выступ; он вылетел на каменное крыльцо и упал. Казалось, его насмешливо вышвырнули из-под крова его предков.
IV
Выходя из широкой задней двери внутреннего двора, Пьер закрыл ее за собой и затем повернулся и прикипел к ней взглядом, устремленным также на большой центральный дымоход особняка, легкий голубоватый дымок из коего тихо поднимался к утренним облакам.
– Сердце говорит: никогда тебе больше не видать очага, у которого ты родился и рос. О Боже, как зовешь Ты то чувство, кое обрекло Пьера на участь бездомного бродяги?
Пьер медленно пошел прочь, и, проходя мимо окон Люси, он взглянул вверх и увидел, что белые занавески плотно закрыты, белый коттедж погружен в глубокое молчание и белая оседланная лошадь привязана у ворот.
– Я мог бы войти, но опять видеть, как она дрожит от отвращения, пытаясь защититься; да и что могу я еще сказать или сделать ей? Я не могу объясниться. Ей известно все, что я собирался ей открыть. Да, но ты сжег ее на жестоком огне своими словами; это твоя торопливость, твоя торопливость погубила ее, Пьер!.. Нет, нет, нет!.. Кто перенесет спокойно такую беспощадную весть? Если надобно кого зарезать и сие неизбежно, так нож убийцы должен разить быстро! Эти занавески скрывают ее от меня; так пусть и ее прекрасный образ будет скрыт ими в моей душе. Спи, спи, спи, спи, ты, ангел!.. не просыпайся ни для Пьера, ни для себя самой, моя Люси!
Шагая быстро и не разбирая дороги, Пьер столкнулся с каким-то путником, который шел в другую сторону. Тот замер в изумлении; и, подняв глаза, Пьер узнал слугу из своего имения. Та торопливость, коя толкала его под руку во всех нынешних поступках, вновь воспрянула в его душе и завладела им. Не обращая внимания на испуганный вид слуги из-за этого столкновения с молодым хозяином, Пьер приказал ему следовать за собой. Направившись прямо к «Черному лебедю», маленькому деревенскому постоялому двору, он вошел в первую же свободную комнату и, предложив слуге присесть, позвал хозяина постоялого двора и спросил у него перо и бумагу.
Если в час небывалого страдания им выпадает такая подходящая возможность, то люди определенного склада ума находят своеобразное истерическое облегчение в сумасшедшем разгуле черного юмора, который пленяет их именно тем, что никоим образом не подобает их ситуации, невзирая на то что они очень редко направляют свои остроты по адресу тех особ, кои как раз таки непосредственно связаны с причиною или же следствием их мучений. Любой философ скажет вам с невозмутимою строгостью, что поведение это есть не что иное, как кратковременный приступ безумия; и, возможно, все так и есть с тех самых пор, как в неумолимых и нечеловеческих глазах единственной первопричины всякая скорбь без изъятия – не важно, на нашей ли она совести иль на совести других, – выглядит абсолютнейшим безумием и безрассудством.
В записке, кою теперь писал Пьер, было следующее:
«Милому славному старому Дэйтсу.
Дэйтс, мой старый приятель, пошевелись-ка теперь.
Ступай в мою комнату, Дэйтс, и принеси мне оттуда сундук красного дерева и картину, завернутую в голубой ситец, не раскрывая ее; увяжи все вместе очень тщательно, мой дорогой Дэйтс, все довольно тяжелое, и поставь все у задней двери. Затем вернись в мою комнату, принеси мой письменный стол и поставь его там же. Затем поднимись ко мне еще раз, принеси мою походную кровать (увидишь там ее разобранной на детали) и как следует перевяжи веревкой эту коробку. Затем загляни в левый угол выдвижного ящика в моем платяном шкафу, и ты найдешь мои визитные карточки. Приколи одну к сундуку, другую – к коробке и третью – к коробке с кроватью. Затем собери всю мою одежду, упакуй ее в дорожные сундуки (не забудь два старых военных плаща, приятель) и приколи к ним карты тоже, мой добрый Дэйтс. Затем, после трех этих утомительных рейсов туда-обратно, мой дорогой Дэйтс, остановись ненадолго и вытри пот со лба.
И затем – дай-ка подумать – затем, мой добрый Дэйтс, что нужно сделать еще? А, вот что. Собери все мои бумаги любого рода, какие только могут валяться в моей комнате, и сожги. И тогда запряги старого мерина Белое Копыто в самую легкую деревенскую повозку, уложи туда все вещи и пришли сундук, и коробку, и походную кровать, и все дорожные сундуки в «Черный лебедь», где я заберу их, когда буду готов, и не раньше, милый Дэйтс. Да благословит тебя Бог, мой славный старый невозмутимый Дэйтс, и прощай!
Твой старый молодой хозяин,ПЬЕРNota bene. Запомни хорошенько, Дэйтс. Если моя мать вдруг обратится к тебе с вопросом, ответь ей, что это мои распоряжения, да упомяни, что я послал тебе записку, но ни под каким видом не показывай ее своей госпоже – ты слышишь?
Снова,
ПЬЕР».Сложив сие послание нелепым образом, Пьер приказал слуге доставить это Дэйтсу. Но слуга, совсем сбитый с толку, нерешительно вертел письмо в руках, пока Пьер не прикрикнул на него да не велел ему жестким тоном убираться; но как только слуга, запаниковав, дернулся, чтобы поскорее удалиться, Пьер позвал его назад и извинился за свою грубость; но как только слуга вновь замешкался, возможно думая про себя, как бы извлечь выгоду из покаянного настроения Пьера, обратившись к нему со словами сочувствия или протеста, Пьер с новой жестокостью приказал ему выполнять поручение и чуть ли не вытолкал его в двери.
Известив старого хозяина постоялого двора, который был озадачен не меньше слуги, что этим утром должно сделать определенные приготовления для него (Пьера) на постоялом дворе, да потребовав также приготовить комнату для него и его жены на эту ночь – какую-нибудь комнату с просторным смежным помещением, кое можно использовать как гардеробную, – и также еще одну комнату для слуги, Пьер покинул постоялый двор, оставив старика хозяина таращиться ему вслед да молча гадать, что за кошмарное событие повредило ум его доброго молодого господина и старого приятеля по охоте, мастера Пьера.
В скором времени приземистый старик хозяин вышел с непокрытой головой на низенькое крыльцо постоялого двора, сошел наземь да стал посреди дороги, так и глазея Пьеру вслед. И как только Пьер превратился в неясный силуэт, его изумление и волнение выплеснулись наружу словами:
– Я учил его… да, я, старый Сакс… лучший стрелок во всем графстве, мастер Пьер… молю Бога, чтоб он не спятил… Женат? Женат? И прибудет сюда? Чудные творятся дела!
Глава XII ИЗАБЕЛЛ, МИССИС ГЛЕНДИННИНГ, ПОРТРЕТ И ЛЮСИ
I
Когда прошлой ночью Пьер покинул фермерский дом, где Изабелл нашла себе пристанище, мы помним, что меж ними не было условлено ни о каком часе дня или ночи да не было назначено никакого определенного времени для их следующей встречи. Это Изабелл была той, кто по какой-то своей причине, бесспорно обоснованной, выбрала для их первого свидания час ранних сумерек.
Теперь же, когда яркое солнце сияло высоко в небе, Пьер, подойдя к фермерскому дому Ульверов, увидел Изабелл, коя, привстав на цыпочки, расставляла в вертикальном положении множество сияющих, словно щиты, молочных бидонов на длинной полке, где они высохнут на солнце. Она стояла к нему спиной. Когда Пьер прошел в открытую калитку и пересек маленький газон, заросший мягкой травой, он бессознательно приглушил свои шаги и, приблизившись к сестре вплотную, коснулся ее плеча да замер на месте.
Она встрепенулась, вздрогнула, быстро повернулась к нему, издала низкий странный крик и затем сосредоточила на нем внимательный, умоляющий взор.
– Я выгляжу довольно странно, не правда ли, прекрасная Изабелл? – вымолвил Пьер наконец, улыбаясь кривой измученною улыбкой.
– Брат, благословенный мой брат!.. Говори… скажи мне… что стряслось… что ты наделал? О! О! Я ведь умоляла тебя не делать ничего, Пьер, Пьер; это все моя вина… моя, моя!
– В чем твоя вина, прекрасная Изабелл?
– Ты разоблачил Изабелл перед своей матерью, Пьер.
– Вовсе нет, Изабелл. Миссис Глендиннинг ничего не знает о твоей тайне.
– Миссис Глендиннинг?.. Это же… это твоя родная мать, Пьер! Во имя Неба, брат мой, объяснись. Не знает моей тайны, и все же ты здесь, так неожиданно и с таким обреченным видом? Пойдем, пойдем со мной в дом. Быстрее, Пьер, что ты медлишь? О Боже! Сама временами впадающая в безумие, я довела до помешательства и его, того, кто любит меня больше всех и кто, как я опасаюсь, каким-то образом разрушил свою жизнь ради меня; – и ежели это так, не жить мне больше на этой земле, но провалиться сквозь нее да сгинуть навеки! Скажи мне! – Изабелл в ярости схватила Пьера за обе руки. – Скажи мне, мой взгляд несет проклятие и гибель? Мое лицо – это лик Горгоны?
– Нет, прекрасная Изабелл, но твои глаза обладают большей властью покорять, чем те, что обращали в камень, твои способны превратить белый мрамор в материнское молоко.
– Ступай за мной, иди живо.
Они вошли в маслобойню и уселись на скамейке у окна, в кое заглядывала цветущая жимолость.
– Пьер, будь навеки проклят тот несчастный день, когда мое исстрадавшееся сердце позвало тебя, если нынче, в самую весну нашей родственной любви, ты задумал вести со мной ложную игру, да при этом воображаешь, что все это ради моего блага. Говори же, говори со мной, брат мой!
– Твои намеки идут лишь на пользу обманщику. А теперь допусти, прекрасная Изабелл, что нет вопроса, в коем я точно стал бы тебя обманывать, сколько б их ни было на белом свете, ни в одном я не буду обманывать тебя; скажешь ли ты тогда, что готова вместе со мной из благочестия дурачить других и для их, и для нашего блага?.. Ты ничего не отвечаешь. Теперь моя очередь, прекрасная Изабелл, молить тебя поговорить со мной; о, заговори же со мной!
– Это неведомое дело, сближающее нас, видится мне вечным злом, брат мой, злом, кое будет иметь тайных вестников, что растрезвонят о нем повсюду. О, Пьер, дорогой, дорогой Пьер; будь очень осторожен со мной! Эта странная, загадочная, беспримерная любовь меж нами заставляет меня гнуться, подобно лозе, в твоих руках. Будь очень осторожен со мной. Я мало знаю саму себя. Весь мир кажется мне одной неизвестной Индией. Взгляни, взгляни на меня, Пьер, скажи, что ты будешь очень осторожен, пообещай это, пообещай мне, Пьер!
– Как самая изысканная и хрупкая генуэзская филигрань, кою бережно берет в руки мастер, ее создавший, как божественная мать-природа бережно обнимает и согревает и путем непостижимой заботы взращивает и лелеет детей своих, так и я, Изабелл, буду очень осторожно и очень нежно беречь тебя, нежнейшая душа, и твою судьбу! Богом великим клянусь, Изабелл, нет никого на свете, кто был бы более осторожен с тобой, дарил бы большим вниманием и был более тактичен с тобой.
– Я верю тебе всем сердцем, Пьер. Однако ты можешь оказаться деликатным в тех вопросах, где деликатность совсем не требуется, а в какой-нибудь раздражительный час в порыве гнева пренебречь всей своей заботой тогда, когда она нужнее всего. Нет, нет, брат мой; выбели эти локоны до снежной белизны, ты, солнце! Выбели их, если у меня осталась хоть одна мысль о том, чтоб упрекнуть тебя, Пьер, иль предать тебя недоверием. Но серьезность может подчас казаться подозрительной, будучи при этом ничем. Пьер, Пьер, весь твой вид красноречиво говорит о каком-то уже выполненном решении, рожденном горькой минутою. С тех пор как я в последний раз видела тебя, Пьер, некое деяние было бесповоротно совершено тобою. Мой дух тверд, и я готова узнать правду; так скажи мне, что произошло?
– Ты, я и Дэлли Ульвер завтра утром покидаем эти края и отправляемся в отдаленный город. Это всё.
– И ничего больше?
– Разве этого недостаточно?
– Есть какая-то недосказанность, Пьер.
– Ты все еще не ответила на вопрос, который я только что тебе задал. Подумай, Изабелл. Мы с тобой будем обманывать окружающих – и эта тайна будет принадлежать лишь нам двоим, – обманывать ради их и нашей общей пользы. Ты станешь?
– Я сделаю ради тебя что угодно, если только это не будет значить поживиться последними остатками твоих богатств, Пьер. Что именно ты хочешь, чтобы мы делали вместе? Я жду… я жду!
– Давай зайдем в комнату с двустворчатым окном, сестра моя, – сказал Пьер, поднимаясь.
– Нет, говори здесь; если это не может быть сказано здесь, тогда я не смогу этого выполнить никак, брат мой, ибо это может принести тебе вред.
– Девчонка! – зарычал Пьер. – Если я ради тебя пожертвовал… – Но тут он осекся.
– Пожертвовал? Из-за меня? Теперь самые черные тучи сгустились надо мной. Пьер! Пьер!
– Я был глуп и просто хотел напугать тебя, сестра моя. Это было весьма глупо. Возвращайся же к своим невинным занятиям здесь, а я приду опять через несколько часов. Позволь мне удалиться.
Он отвернулся от нее, и тогда Изабелл прыгнула к нему, схватила его, обвила руками и прижалась к нему в таком резком порыве, что ее волосы заструились вокруг него и наполовину его скрыли.
– Пьер, если душа моя и впрямь отбросила на тебя такую же черную тень, как мои волосы, что ныне окутывают тебя, если ты погиб ради меня, тогда навеки Изабелл погибла для Изабелл, и Изабелл не переживет эту ночь. Если я в самом деле проклята, я не стану играть данную мне роль, но обману небо и умру. Смотри, я позволяю тебе уйти, чтобы некий яд, от коего я не знаю лекарства, не отравил тебя.
Она медленно поникла головой и, дрожа, отодвинулась от него.
– Глупышка, глупышка! Смотри, стоило тебе только разомкнуть свои объятия и выпустить меня, как ты начинаешь дрожать и падаешь – неопровержимое доказательство серьезной остановки сердца, – я здесь ради тебя, моя прекрасная, прекрасная Изабелл! Не болтай же попусту о расставании.
– Что ты потерял из-за меня? Ну, скажи!
– Выгодная потеря, сестра моя!
– Это одна риторика! Что ты потерял?
– Ничего такого, что в и самых сокровенных глубинах своего сердца мог бы нынче вспомнить. Я приобрел духовную любовь и славу ценой, кою, большая она или малая, я не хочу, чтобы мне вернули, поскольку тогда я должен буду вернуть и то, что получил.
– Так, значит, любовь теперь лед, а слава мертвенно-бела? Твои щеки бледны, как снег, Пьер.
– Так и должно быть, ибо я верю Господу, что я чист, и оставим мир гадать, как это могло произойти.
– Что ты потерял?
– Ни тебя, ни гордость и славу всегда любить тебя да быть всегда твоим братом, моя любимая сестра. Ну, что же ты отворачиваешься от меня?
– Красивыми словами он обольщает меня и убеждает, обходя молчанием все недосказанности. Уходи, уходи, Пьер, возвращайся ко мне, когда захочешь. Я готова к худшему и к неожиданному. Снова я говорю тебе, я сделаю все, что угодно, да, все, что только Пьер мне прикажет, ибо, несмотря на то что злая буря собирается над нами, все же в глубине души ты ведь будешь осторожен, очень осторожен со мной, Пьер?
– Ты создана из той же дивной совершенной материи, из коей Господь сотворил своих серафимов. И твоя божественная преданность мне встречает во мне равную преданность. Ты можешь полностью положиться на меня, Изабелл; и какой бы странной ни была моя просьба, твое доверие, – разве оно этого не выдержит? Уверен, ты не станешь колебаться перед прыжком, если я прыгну первым; а я именно это и сделал! Теперь и ты не можешь оставаться на берегу. Выслушай, выслушай меня… Я не ищу твоего безоглядного согласия на поступок, который еще не совершен, однако я все-таки прошу тебя сейчас, Изабелл, из уважения к серьезности задуманного деяния освятить его позже своим согласием. Не смотри на меня так холодно. Слушай. Я скажу тебе все. Изабелл, несмотря на то что ты боишься принести вред хоть одному живому существу и меньше всего хотела бы нанести его своему брату, все же твое правдивое сердце не знало наперед о мириадах договоренностей и взаимосвязей в человеческих отношеньях, о нескончаемой путанице всех общественных условностей, кои запрещают даже единственной нитке выбиться из общей канвы в новый узор долга без того, чтобы сия нить не порвалась да не порвала остальные. Слушай. Все, что случилось до сего мгновения, и все, что может еще случиться, подсказал мне сделать порыв какого-то внезапного вдохновения, неизбежно возникшего в первый же миг, когда я встретил тебя. Все не могло и не может быть иначе. Вот почему я чувствую, что во мне есть настоящее упорство. Слушай. Какие бы материальные блага ни сулило мне будущее прежде, пусть даже они казались когда-то самыми блестящими богатствами, однако жить с этих пор, не заботясь о тебе и не любя тебя, Изабелл, жить по-семейному вдали от тебя и только путем хитростей под молчаливым покровом ночи приходить к тебе в качестве твоего родного брата… сложно выразить словами, насколько все это было и есть невыносимо. Меня никогда не перестала бы жалить в грудь тайная гадюка самобичевания и угрызений совести. Слушай. Но без добровольного позора для семейной чести, коя – правильно это иль нет – всегда останется для меня священной и неизменной, я не могу открыто признать тебя своей сестрой, Изабелл. Однако ты и не стремишься к признанию в обществе, ибо ты жаждешь не пустой формальности, а живых проявлений любви и тепла, вот чего ты хочешь – не моего братского внимания на людях по особым случаям, но продолжительной семейной жизни. Иль я не говорю сейчас о тайных мечтах твоего сердца? Скажи, Изабелл! Ладно, тогда просто слушай меня. Только одним путем этого можно достичь; способ – самый странный из всех, Изабелл, а с точки зрения окружающего мира, который никогда не проявлял к тебе любви, это самый лживый путь; но такая ложь никому не причинит зла, и столь безобидна по своей природе сия ложь, Изабелл, что, думается мне, сами небеса шепнули Пьеру, как все нужно делать, и небеса не сказали ему: «Нет». Все же, слушай меня, внимательно слушай. Ты знаешь, что без меня ты никнешь и умираешь, а я умираю вдали от тебя. Мы в этом похожи; запомни это тоже, Изабелл. Ни тебе, ни мне не нужно снисходить до другого, мы оба достигли сияющего идеала! Теперь, как нам наилучшим образом достичь продолжительности, секретности и истинно настоящей семейственности нашей любви, не подвергая риску навеки священную для меня честь семьи, на кою я намекаю. Один способ… один… только один! Странный способ, но самый невинный. Слушай. Соберись с духом, вот, дай мне обнять тебя и затем прошептать тебе, что это за способ, Изабелл. Давай, я поддержу тебя и не дам упасть.
Пьер обнял сестру, дрожа; она прижалась к нему; он прошептал ей несколько слов на ушко влажным шепотом.
Девушка не шевельнулась, перестала дрожать, только обняла его крепче, с невыразимой странностью пылкой любви, новой и непостижимой. По лицу Пьера прошла быстрая ужасная гримаса, открывавшая его истинные чувства; он осыпал ее жгучими поцелуями, крепче стиснул руку, не позволяя пройти ее сладкой и пугающей покорности.
Затем они немного повернулись, оставаясь на том же месте, и еще крепче обвились друг вокруг друга да так и замерли в очарованном молчании.
II
Миссис Глендиннинг вошла в свою комнату; пояс ее платья ослаб.
– И этакую проклятую подлость я произвела на свет! Теперь злые языки всего графства замолотят: «Поглядите-ка на подлеца, сына Мэри Глендиннинг!» Подлец! Виноват дальше некуда, а я-то думала, что он полон простодушия и нежнейшего послушания мне. Этого не может быть! День померк! Если это в самом деле случилось, значит, я сошла с ума, и мне лучше замолчать да не разгуливать здесь, где из-за каждой двери меня могут слышать… Мой единственный сын женился на неизвестной… девчонке! Мой единственный сын пренебрег самым святым обетом о помолвке, принесенным публично, – и все графство знает это! Он носит мое имя – Глендиннинг. Я отрекаюсь от этого имени; будь оно как это платье, я бы сорвала его с себя, разорвала в клочья и сожгла, чтоб оно обратилось в золу!.. Пьер! Пьер! Вернись, вернись и дай мне слово, что ничего этого не было! Этого не может быть! Постойте-ка, я позову слуг и узнаю, так ли это.
Она в неистовстве задергала сонетку и вскоре услыхала в ответ деликатный стук в дверь.
– Войди!.. Нет, постой… – Она набросила на себя шаль. – Войди. Стань здесь и подтверди мне, ты, смельчак, что мой сын заходил сегодня в сей дом этим утром и встретил меня на лестнице. Смеешь ты подтвердить это?
Дэйтс стоял в смущении – весь ее вид умолял его подтвердить обратное.
– Скажи мне! Найди свой язык! А не то я найду мой да ужалю тебя сама! Скажи это!
– Моя дорогая госпожа!
– Я сейчас не твоя госпожа! Ты сейчас мой владыка – если ты скажешь, что все верно, ты прикажешь мне броситься в объятия безумия… О, подлый мальчишка!.. Ты же прочь с глаз моих!
Миссис Глендиннинг захлопнула за ним дверь и стала быстрыми и растерянными шагами мерить комнату. Она остановилась только, чтобы резко задернуть шторы и погасить лучи солнца, кои лились в два окна.
Новый – непрошеный – стук в дверь. Она открыла.
– Моя госпожа, его преподобие ждет внизу. Я бы не побеспокоил вас, но он настаивает.
– Проводи его ко мне.
– Сюда? Сейчас?
– Ты слышал меня? Позволь мистеру Фолсгрейву подняться ко мне.
Как будто предварительно получив от Дэйтса отеческое предупреждение, что миссис Глендиннинг пребывает в необузданной ярости, священник переступил порог ее комнаты с самой неодобрительной, но честной миной и в тревоге, причины коей он еще не ведал.
– Садитесь, сэр; постойте, закройте дверь и замкните на замок.
– Мадам!
– Ладно, я сделаю это. Садитесь. Видели вы его?
– Кого, мадам?.. Господина Пьера?
– Его!.. Ну, живо!
– Вот о нем я как раз и пришел поговорить, мадам. Он нанес мне самый неожиданный визит прошлой ночью – в полночь!
– И ты обвенчал его?.. Будь ты проклят!
– Нет, нет, нет, мадам, об этом я ничего не знаю… я пришел рассказать вам новости, но ваши ошеломляющие известия предупредили меня.
– Я не прошу прощения за свои слова, но выражаю вам свое сожаление. Мистер Фолсгрейв, мой сын, будучи, что общеизвестно, помолвлен с Люси Тартан, тайно женился на какой-то другой девушке – на какой-то шлюхе!
– Невозможно!
– Истинная правда, как то, что вы сидите передо мной. Неужели вы ничего об этом не знаете?
– Ничего, ничего не знал – ни единой крупицы – до последней минуты. И на ком же он женился?
– Да на шлюхе, говорю же вам!.. Я не леди сейчас, бери глубже – женщина! Возмущенная женщина со смертельно раненной гордостью!
Миссис Глендиннинг быстро отвернулась от Фолсгрейва и снова стала мерить шагами комнату в прежнем неистовстве, полностью равнодушная к любому присутствию посторонних. Подождав какое-то время паузы, но тщетно, мистер Фолсгрейв осторожно приблизился к ней и с глубочайшим уважением, почти раболепием, сказал:
– Это час вашего горя, и, признаюсь, мое присутствие как священника сейчас не даст вам никакого утешения. Позвольте мне теперь удалиться, я возношу за вас самые горячие молитвы, чтобы вы обрели хоть немного покоя до того, как солнце, кое сейчас стоит высоко в небе, ушло с небосклона. Присылайте за мной в любое время, когда у вас во мне возникнет нужда… Могу я сейчас удалиться?
– Убирайся! И позволь мне отдохнуть от твоего вкрадчивого жеманного голоса, который позорит мужчину! Убирайся, ты, беспомощный и бесполезный! – Миссис Глендиннинг мерила комнату быстрыми шагами и быстро бормотала про себя: – Так, так, так, так, теперь я вижу это яснее, яснее – ясно, как день! Мои первые смутные подозрения не солгали мне!.. слишком верные подозрения! Да, шитье! Это было на кружке шитья! Тот крик! Я помню, как он бесстыдно глазел на ту девчонку! Он не пожелал говорить о ней со мной, когда мы возвращались домой. Я попрекнула его молчанием; он отделался от меня ложью, ложью, ложью! А, он женился на ней, на ней, на ней! – возможно, да. И все же… и все же… как это может быть?.. Люси, Люси… я видела, как он после всего этого смотрел на нее так, будто готов умереть ради нее и спуститься ради нее в ад, где ему самое место!.. О! О! О! Из-за одного большого порыва сладострастия так безжалостно оборвалась прекрасная череда потомков столь высокого рода! Смешать благороднейшее вино с грязной водой из плебейской лужи и превратить все это в неудобоваримую бурду!.. О змея! Знай я наперед, кого ношу в своем чреве, я бы совершила самоубийство и убийство одним махом!
Третий стук в дверь. Она открыла.
– Моя госпожа, я думаю, вы должны об этом знать, это вот просто накладные расходы, но я еще не выполнял никаких указаний.
– Кончай свое бормотание!.. Что это?
– Простите, моя госпожа, я отчего-то думал, что вам об этом известно, но вы не знаете.
– Что это там за каракули ты держишь в руке? Дай мне.
– Я пообещал своему молодому господину не отдавать вам это послание, моя госпожа.
– Тогда я вырву его у тебя, и ты будешь невиновен… Что? Что? Что?.. Он точно спятил!.. «Милый старый приятель Дэйтс…» Что? Что?.. Спятил – и веселится!..сундук?…одежда?…повозка?…он хочет их? Вышвырни ему их из окна его спальни! И даже если он стоит внизу, вышвырни вниз! Уничтожь всю комнату. Порви на куски ковер. Клянусь, он не оставит ни малейшего следа в этом доме… Вот здесь! На этом самом месте – здесь, здесь, где я стою, – он мог стоять; да, он завязывал мне ленты туфелек здесь; здесь слизь! Дэйтс!
– Моя госпожа.
– Выполни его указания. Своим позором он ославил меня на весь свет, и я его тоже ославлю. Слушай и не льсти себя мыслью, что я вне себя. Ступай наверх в ту комнату, – миссис Глендиннинг указала на потолок, – да упакуй все вещи, какие там есть, и туда, где он приказал тебе доставить сундуки и повозку, туда перенеси все вещи из его комнаты.
– И все это перед домом – этим домом!
– Да, и если б оно уже там было, я бы не приказывала тебе отнести все барахло туда. Болван! Я хочу, чтобы весь мир узнал, что я отрекаюсь от него и презираю! Выполняй мои приказания!.. Стой. Оставь комнату, как есть, но дай ему все, что он просит.
– Слушаюсь, моя госпожа.
Стоило Дэйтсу покинуть комнату, миссис Глендиннинг опять начала мерить ее быстрыми шагами и быстро бормотать:
– Теперь, будь я менее сильной и надменной женщиной, вспышка гнева уже прошла бы. Но подземные вулканы долго кипят, прежде чем выплеснут из себя лаву… Ох, будь мир сделан из такого податливого материала, чтобы мы могли безрассудно исполнять в нем самые яростные желания нашего сердца и не колебаться! Будь прокляты эти три слога, которые образуют низкое слово «собственность». Это цепь, веревка, за которую тянут язык неповоротливого колокола… тянут? Что за звук? Что-то тянется… его повозка… дорожная… тянется прочь из ворот. Ох, если бы я могла вытянуть свое сердце, как рыбаки вытягивают утопленников, если бы я могла также вытянуть мое погибшее счастье! Мальчишка! Мальчишка! Он не просто сгинул для меня – утонул в ледяном бесчестье! Ох! Ох! Ох!
Миссис Глендиннинг рухнула на кровать, спрятала лицо в ладонях и осталась лежать неподвижно. Но потом вдруг поднялась снова и торопливо дернула за сонетку.
– Открой тот стол и подай мне доску для писания. Теперь подожди и отнеси эту записку мисс Люси.
Она быстро набросала пером несколько строк:
«Мое сердце истекает кровью за тебя, милая Люси. Я не могу говорить – я знаю все. Навести меня в первый же час, как я приду в себя».
Она снова упала на постель и осталась неподвижной.
III
Тем же вечером Пьер стоял в лучах закатного солнца в одной из комнат, о которых мы говорили выше, на постоялом дворе «Черный лебедь», а сундук, покрытый голубым ситцем, и письменный стол стояли перед ним. Он лихорадочно рылся в своих карманах.
– Ключ! Ключ! Нет, видно, придется мне силой открывать. Он еще и весит три тонны. Все же это к счастью, что иные банкиры могут взломать свои сейфы, когда другие средства подошли к концу. Но так бывает не всегда. Ну-ка, заглянем сюда – ага, есть клещи. Теперь узрим чудесное сияние золота и серебра. Никогда я не любил его до этого дня. Как долго оно копилось – маленькими горстками монет, подаренных тетушками, дядями, несчетным числом кузенов, и от… но я не должен упоминать их, с этого времени они умерли для меня! Уверен, здесь найдется много такого старинного золота. Здесь лежали и какие-то монеты, которые дарили еще моему… я не должен называть его… более чем полвека назад. Так, так, я никогда не думал, что верну их обратно в низменный денежный оборот, которого они столь долго избегали. Но они должны быть потрачены, пришло время, это неотвратимая необходимость и праведное дело. Что за дурацкий неудобный лом! Э-эх! Так! Ага, вот и открылся – вот ведь змеиное гнездо!
Пьер вдруг отшатнулся, когда откинутая крышка сундука открыла его глазам маленький портрет его отца, который лежал сверху на всех богатствах, где он спрятал его несколько дней назад. Лежа картиной вверх, портрет встретил его спокойной, навеки несказанной и двусмысленной, неизменной улыбкой. К первоначальной антипатии Пьера ныне добавилось некое совершенно новое чувство. Те определенные черты лица на портрете, кои странным образом передались да смешались с другими, прекрасными, и благородными, кои прослеживались в облике Изабелл, – эти черты лица на портрете отныне казались ему отвратительными, нет, невыносимо противными, навеки ненавистными стали они для Пьера. Он не копался в себе, чтобы доискаться, почему это так; он просто чувствовал это, и самым живым образом.
Мы же, со своей стороны, не пойдем по таинственным излучинам в глубь этой скользкой темы, ибо, возможно, здесь будет достаточно и намека на то, каков, скорее всего, был источник сей новой ненависти нашего героя к маленькому портрету его отца, ненависти, коя главным и бессознательным образом исходила от одной из тех глубокомысленных идей, кои, так сказать, передаются воздушным путем да входят украдкой даже в самые заурядные умы. А удивительное сродство, сходство и согласие всех черт, отраженных на портрете его давным-давно умершего отца, с живыми чертами прелестного лица его дочери казались Пьеру в его размышлениях зримыми и лишенными всяких противоречий символами, проявленьями тирании времени и судьбы. Сей портрет, написанный раньше, чем дочь его отца была зачата иль появилась на свет, словно немой провидец, все еще протягивал свой пророческий перст, указуя в пустое пространство, из коего в конце концов и вышла Изабелл. Казалось, в этой картине таятся некий мистический интеллект да живая воля; и так как Пьер не мог воскресить в памяти такие отцовские черты, кои могла бы унаследовать Изабелл, а лишь весьма туманно различал на портрете их признаки, то мнилось, что не сам почивший родитель Пьера, вновь одетый плотью в некоем его воспоминании, но писанный маслом портрет собственной персоною был истинным отцом Изабелл, ибо все чувства говорили о том, что лишь одна-единственная родственная черта, коя не прослеживалась у портрета, перешла к ней по наследству от их общего отца.
И вот, с тою же быстротой, с какой его разум стремился стереть всю память об отце, ибо слишком болезненно отзывалось любое о нем напоминание, столь же стремительно становилась для него Изабелл предметом пугающе-сильной и пламенной любви, а посему маленький портрет стал ему отныне ненавистен, ведь сей улыбчивый и двусмысленный образ их отца, мнил он, был столь гибельным искажением, изменением да перелицовкой ее прекрасных печальных черт.
Затем, когда прошли первое потрясение и замешательство Пьера, он обеими руками поднял портрет из сундука да развернул его тыльной стороной к себе:
– Он не должен жить. До этого дня я хранил памятные вещи да гробовые камни прошлого, почитал все семейные реликвии, нежно берег письма, локоны волос, ленточки, засохшие цветы да вместе с ними тысячу и одну мелочь, о коих думают, что их освятили память да любовь, но отныне с этим покончено! Отныне и впредь, если моему сердцу станет любезно какое-то воспоминание, я не буду больше облекать его в погребальные покровы, делая из него мумифицированный экспонат, на коем оседает пыль от каждого мимо проходящего бедолаги. Музей любовных реликвий – столь же напрасная и глупая затея, как и музей некогда похороненных в египетских Катакомбах мумифицированных обезьян с навеки застывшими ухмылками да подлых рептилий, словно те и впрямь обладали хоть какой-то мнимою привлекательностью. Все это говорит только о разложении и смерти – и ни о чем больше, – о разложении и смерти непрерывной цепи бесчисленных поколений, все представители коих были скроены на один лад. Как может стать то, в чем нет ни искры жизни, подходящим мемориалом в ее честь?.. И так происходит даже с самыми прекрасными воспоминаниями. А что до остального… теперь-то мне известно, что в наиобыкновеннейших памятных вещах иль монументах в честь тех, кто перешел в мир иной, темный факт смерти мало-помалу начинает показывать все их двусмысленности; и факт сей тайком рассыпает намеки да внушает низкие подозренья, от коих после не удастся избавиться во веки веков. Так определено Всемогущим Господом: смерть всегда становится последней сценой последнего акта в пьесе человеческой жизни – пьесе, коя, будь то фарс или комедия, всегда имеет трагический конец: занавес неизбежно падает на бездыханный труп. С этого времени впредь никогда я больше не стану играть подлого пигмея, который, возводя маленькие посмертные памятники, пытается отклонить решение смерти, делая слабые попытки сохранить оригинал в его копиях. Пусть же погибнет все и смешается с прахом! А что до сего портрета… этого!.. К чему мне дольше хранить его? К чему хранить то, на что смотреть невыносимо? Если уж ты решил сохранить доброе имя отца незапятнанным, уничтожь этот портрет, ибо он – огромное, обрекающее и неподкупное доказательство, чья таинственность сводит меня с ума. Во времена древних греков, до того, как человеческий разум попал в рабство, поблек и обессилел в бэконианских[116] сукновальных машинах[117] и все его члены утратили свою варварскую смуглость и красоту; в те времена, когда наш мир все еще был свежим, и румяным, и благоуханным, как свежесорванное яблоко – ныне иссохшее! – в те дерзновенные времена никто не закапывал своих благородных мертвецов в глубокие могилы, на турецкий манер, да никто не замуровывал их в подземных усыпальницах разнаряженными, чтоб их плотью до отказа набил себе брюхо проклятый Циклоп, словно каннибал; и жизнь, питая к смерти благородную зависть, обманула прожорливых червей и со славой сожгла свой труп; и огонь запылал так ярко, что дух ее вылетел вон да победно взвился под небеса!
– Так я нынче поступлю и с тобой. Несмотря на то что могучая плоть, пред которой ты – всего лишь слабая копия, давно покоится на невзрачном церковном кладбище и хотя – видит Бог! – и одного твоего клочка достаточно, чтобы удовлетворить любое расследование, вот уж во второй раз я вижу, что гибель твоя неизбежна, а я, как тебя сожгу, помещу прах твой в ту великую погребальную урну, что зовется бескрайним небесным эфиром! Да будет так!
Маленький язычок огня лизал дрова в камине, разожженном, чтобы очистить воздух в комнате, которая долго стояла запертой; он уж превратился в еле заметную горстку пылающей золы. Разломав и расколов потускневшую золоченую картинную раму, Пьер положил четыре куска рамки на угли; и, когда сухое дерево разгорелось, он скатал холст в свиток, связал его узлом да швырнул в жаркое, весело потрескивающее пламя. Пьер стойко наблюдал за тем, как послышался первый треск сжигаемого полотна и побежали по нему первые черные пятна, как начал разматываться – под влиянием жара – узел, коим он завязал картину, как на одно неуловимое мгновение различимый сквозь дым и пламя, извивающийся портрет мученически взглянул на него в немом ужасе, умоляя о спасении, и затем, подхваченный широким языком яркого пламени, исчез навсегда.
Подчиняясь внезапному невольному порыву, Пьер быстро окунул руку в пламя, спасая молящее лицо, но так же быстро отдернул ее обожженной, в тщетном усилии схватившей пустоту. Его обожженная рука почернела, но он оставил сие без внимания.
Он бросился к сундуку и, схватив в охапку многочисленные пакеты семейных писем да множество памятных бумажных свертков всех сортов, зашвырнул все это, одно за другим, в огонь камина:
– Это, и это, и это! Тебе, огонь, я бросаю свежие трофеи; уничтожь все мои воспоминания одним дуновением!.. Так, так, так… пламя опускается все ниже, ниже, ниже; вот все и кончено и стало золой! С этих пор изгнанник Пьер не имеет ни родителей, ни прошлого, и с этого времени его будущее – одна неизвестность, с этой поры дважды лишенный наследия Пьер непоколебимо и навеки стоит на своих ногах… свободный творить свою волю да идти своим путем до конца, каким бы он ни был!
IV
В лучах того же заката Люси неподвижно лежала у себя в комнате. Раздался стук в дверь, и открывшая Марта увидела решительное лицо миссис Глендиннинг, которая вновь обрела свое самообладание.
– Как себя чувствует твоя молодая госпожа, Марта? Могу я войти?
Но она не собиралась дожидаться ответа и, едва выдохнув последние слова, отстранила служанку и решительно вошла в комнату.
Она присела у постели и увидела открытые глаза, но сжатые и помертвевшие губы Люси. Внимательно и пытливо она всматривалась в девушку одно долгое мгновение, затем бросила быстрый, пораженный ужасом, взгляд на Марту, словно ища основание для некой мысли, от коей бросало в дрожь.
– Мисс Люси, – сказала Марта, – вот ваша… к вам пришла миссис Глендиннинг. Поговорите с ней, мисс Люси.
Словно будучи брошена в беспомощной позе некоего последнего пароксизма горя, что вдруг ее отпустил, Люси лежала на постели не в обычной позе, а как-то вкось, утопая в горе белых подушек, кои подпирали ее безжизненное тело, да укрытая столь тонким покрывалом, словно ее отягощал неподъемный сердечный груз и ее белое тело не смогло бы выдержать веса даже еще одного перышка. Подобно тем статуям из белоснежного мрамора, коих драпируют различными тканями, подобно тому, как волны морские обволакивают затонувшую статую, так и тонкое покрывало окутывало Люси.
– К вам пришла миссис Глендиннинг. Вы поговорите с ней, мисс Люси?
Бескровные губы шевельнулись и дрогнули на мгновение, а затем вновь сомкнулись, и девушка побледнела еще больше.
Марта принесла успокоительные средства и, когда закончила хлопотать возле своей госпожи, отозвала леди в сторону и прошептала:
– Она ни с кем не говорит; она не говорит и со мной. Доктор только что ушел – он был у нас уже пять раз этим утром – и прописал ей полнейший покой. – Затем, указывая на прикроватную полку, добавила: – Видите, что он оставил – простые успокоительные. Покой – вот лучшее лекарство для нее сейчас, сказал он. Покой, покой, покой! Ох, благодатный покой, разве он когда-нибудь посетит нас?
– Миссис Тартан уже написали? – прошептала леди.
Марта кивнула.
Миссис Глендиннинг направилась к выходу, сказав, что каждые два часа будет присылать слуг, чтобы справляться о состоянии Люси.
– Но где же, где ее тетушка, Марта? – она воскликнула громко, остановившись у двери, в изумлении быстро обводя глазами комнату. – Конечно, конечно, миссис Лэниллин…
– Бедная, бедная старая леди, – плачущим шепотом ответила Марта, – она сражена горем Люси; она вбежала к ней, кинула один взгляд на ее постель да так и повалилась на пол замертво. У доктора сегодня было две пациентки, леди… – Служанка посмотрела на постель, и нежно проверила пульс Люси, пытаясь определить, бьется ли он еще. – Увы! Увы! Ох, змея! Змея! И как мог ужалить такое прекрасное сердце! Адское пламя будет для него чересчур холодным, проклятый!
– Типун тебе на язык! – закричала миссис Глендиннинг полузадушенным шепотом. – Не тебе, прислуге, бранить моего сына, будь он хоть Люцифер, горящий в огне преисподней! Следи за манерами, шлюха!
И она покинула комнату, преисполненная непоколебимой гордости, оставив Марту ужасаться немыслимой злобе столь красивой женщины.
Глава XIII ОНИ ПОКИДАЮТ СЕДЕЛЬНЫЕ ЛУГА
I
Уже смерклось, когда Пьер подъехал к фермерскому дому Ульверов в карете, принадлежащей постоялому двору «Черный лебедь». Он встретил свою сестру на крыльце, в шляпке и закутанную в шаль:
– Ну что, Изабелл, все готово? Где Дэлли? Я вижу два дорожных чемодана, совсем маленьких, крохотных. До чего же мал сундук с добром отверженных! Повозка ждет, Изабелл. Все готово? И ничего не забыли?
– Нет, Пьер, разве что сам отъезд отсюда… но я не буду об этом думать, все решено.
– Дэлли! Где она? Пойдем за ней, – сказал Пьер, хватая Изабелл за руку и быстро оглядываясь.
Он почти силком втащил ее в слабо освещенную прихожую, затем выпустил ее руку и прикоснулся к затвору на внутренней двери; а Изабелл задержала его руку, словно хотела его удержать да сперва предупредить о чем-то, что касалось Дэлли, но вдруг замерла сама; и, в изумленье указывая на его правую руку, казалось, на миг почти отшатнулась от Пьера.
– Это пустяк. Я не пострадал, это всего лишь легкий ожог, просто-напросто случайный ожог, что я получил этим утром. Но это что такое? – добавил Пьер, поднимая свою руку выше. – Копоть! Сажа! Все от того, что мы уезжаем в темноте, будь солнечный свет, и я бы заметил это. Но я не испачкал тебя, Изабелл?
Изабелл подняла свою руку и показала пятна сажи:
– Но это передалось мне от тебя, брат мой, а я готова заразиться от тебя и чумой, только бы разделять ее с тобой. Вымой свою руку, а мою оставь в покое.
– Дэлли! Дэлли! – кричал Пьер. – Почему я не могу войти к ней, чтобы привести ее сюда?
Приложив палец к губам, Изабелл тихо открыла дверь и указала, отвечая на его вопрос, на девушку, закутанную в шаль, коя сидела на стуле, отвернувшись.
– Не обращайся к ней, брат мой, – прошептала Изабелл. – И не старайся пока что увидеть ее лицо. Я верю, что сие вскоре пройдет, наконец. Идем, разве мы не должны ехать? Выведи Дэлли на крыльцо, но не говори с ней. Я со всеми попрощалась, старики – вон в той, задней комнате, я благодарна, что они предпочли не приходить, чтобы увидеть наш отъезд. Идем же поживее, Пьер, я очень не люблю закатный час, пусть же он скорее минует.
Вскоре все трое вышли из повозки на постоялом дворе. Приказав принести огня, Пьер проводил девушек наверх и ввел их в удаленную комнату, в одну из тех трех, что были для них приготовлены.
– Смотрите, – обратился он к немой фигуре Дэлли, коя все еще от него отворачивалась, – видите, это ваша комната, мисс Ульвер. Изабелл все вам расскажет; вы знаете о нашем, до сей поры тайном, браке; она побудет с вами, пока я не вернусь, выполнив на улице одно маленькое дело. Завтра, как вы знаете, мы отправимся в путь. Я не увижу вас до этого времени, так что укрепитесь духом, не унывайте, мисс Ульвер, и доброй ночи. Все будет хорошо.
II
Следующим утром, на рассвете, в четыре утра, четыре быстротечных часа воплотились в четырех нетерпеливых лошадей, кои встряхивали сбруей под окнами постоялого двора. Три фигуры вышли в холодный серый рассвет и заняли свои места в карете.
Пожилой хозяин постоялого двора молча и уныло пожал Пьеру руку; самодовольный кучер в перчатках из оленьей кожи сидел на козлах, приводя в порядок, пропуская меж пальцев четверо поводьев; плотная толпа восхищенных конюхов и других ранних зевак, как это обычно бывает, собралась у крыльца, когда, заботясь о своих спутницах да всем сердцем желая как можно скорее пресечь любую напрасную задержку в такую мучительную минуту, Пьер громко крикнул вознице трогать. На мгновение четыре гладкие молодые лошади рванулись вперед, показывая нерастраченные силы, и четыре добрых колеса описали полный круг; оставляя сзади широкий след с их оттисками, бодрый кучер, словно бравурный герой, взмахнул хлыстом, нарисовав хвастливый росчерк прощальной подписи в пустом воздухе. И так, в предрассветном сумраке да под залихватское щелканье того длинного хлыста, кое отдавалось резким эхом, троица навсегда покинула прекрасные поля Седельных Лугов.
Приземистый старик хозяин постоялого двора поглазел вслед карете, а потом вернулся в харчевню, теребя свою пегую бороду да бормоча про себя:
– Я держу этот постоялый двор вот уже… да, тридцать три года… и повидал на своем веку много свадебных поездов, кои прибывали и уезжали… это всегда ряд карет, а с ними и мелких поломок, легких экипажей, двуколок… жених и хихикающая невеста, кои почивали на груде свежесрезанного, сладко пахнущего клевера. Но такой свадебный поезд, как этим утром, ба! Печально было, как на похоронах. И отважный мастер Пьер Глендиннинг – жених! Так, так, чудные творятся дела. Я-то думал, ничто меня не удивит с тех пор, как мне стукнуло пятьдесят, но я по-прежнему удивляюсь. Ах, я отчего-то себя чувствую так, словно только что схоронил своего старого приятеля и на ладонях остались ссадины от веревок, на коих опускали его в могилу… Еще рано, но я пропущу рюмочку. Дайте-ка взглянем, где у нас… сидр… нальем-ка себе кружечку сидра… он резок и дерет горло, как шпора бойцовского петуха… сидр – вот самый подходящий напиток, когда пребываешь в скорби. Ох, Создатель! Что-то ты, толстяк, совсем расклеился и глубоко переживаешь за других. Чувствительный, но худой человек никогда никому не сопереживает долго, так как у него силенок не хватит для эдаких эмоций. Так, так, так, так, так… из всяких хворей избавь нас бог от меланхолий – незрелые дыни вреднее всего!
Глава XIV ПУТЕШЕСТВИЕ И ТРАКТАТ
I
Все важные события и переживания по их поводу предваряются и сопровождаются молчанием. Какова природа того молчания, которому предшествует ответное «Я согласна» от побледневшей невесты на торжественный вопрос священника: «Согласна ли ты взять в мужья этого человека?»? В молчании руки супругов соединяются. Да, в молчании младенец Христос появился на свет божий. Молчание освящает всю Вселенную. По манию рук святого Понтифика молчание нисходит на мир. Молчание одновременно и самое безобидное, и самое ужасное состояние во всем мире. Оно провещает о скрытых силах судьбы. Молчание – вот глас нашего Создателя.
Однако сие не значит, что августейшее молчание ограничивается только трогательными или великими событиями. Как воздух, молчание проникает повсюду и проявляет свою магическую мощь как в том особом настроении, кое подчиняет себе одинокого странника, что впервые пускается в путешествие, так и в те невообразимые времена, когда, прежде чем мир родился, молчание смотрелось в зеркало темных вод.
Ни единого слова не проронили наши странники, когда карета с нашим юным энтузиастом Пьером и его мрачными спутницами торопливо ехала из тусклого рассвета в непроглядную полночь, коя все еще царила над миром непотревоженная, в самое сердце чащи старых лесов, куда вела дорога почти сразу же по выезде из деревни.
Как только Пьер занял свое место в карете, он стиснул рукой бархатистую обивку своего сиденья, чтобы уберечься от шатаний, если карета поедет по ухабам, и почувствовал в своих пальцах какие-то мятые листки бумаги. Он инстинктивно сжал их в горсти; а то странное напряженное душевное состояние, кое побудило его совершить сие бессознательное действие, вновь восторжествовало над ним, заставив удержать мятую бумагу в руке, чтоб часок или более провести в том прекрасном напряженном молчании, в какое быстрая карета погружает сердце средь всеобщего неподвижного утреннего молчания полей и лесов.
Мысли его были темны и в полном беспорядке, ибо в его душе за свободное пространство сшиблись меж собой и восстание, и ужасающая анархия, и безбожие. Сие преходящее состояние души было совсем таким, как в рассказе, что, по преданию, некогда прозвучал с кафедры от одного почтенного служителя Господа, – о том чувстве, кое однажды овладело сердцем превосходного священника. Стоя на священной кафедре в облачный субботний день, после полудня, тот священник вершил святой обряд причастия, когда Дух Зла вдруг нашептал ему, что, возможно, вся христианская религия – простой вздор. Вот каков был нынче душевный настрой Пьера, ибо Дух Зла молвил ему потихоньку, что, может быть, все его самоотречение – обыкновенный вздор. Дух Зла посмеялся над ними обоими и нарек их глупцами. Но благодаря настойчивой и сердечной молитве – плотно закрыты глаза, руки все еще покоятся на священном хлебе, – благочестивый священник победил многогрешного дьявола. Но не так было с Пьером. Нерушимое здание святой Католической церкви, бессмертные заповеди Святой Библии, нерушимая инстинктивная вера в природную истинность христианства – это все были нерушимые якоря, коими укрепил священник скалу своей веры, когда вдруг налетел шторм, вызванный Духом Зла, да обрушился на него. Но Пьер… где он мог найти Церковь, монумент, Библию, кои недвусмысленно сказали бы ему: «Продолжай, ты на правильном пути, я благословляю тебя пройти по нему до конца; продолжай». Словом, разница между священником и Пьером вот в чем: священник обладал материальным подтверждением истины, верны иль нет его определенные мысли, а Пьера мучил вопрос, правильны или же ошибочны были его определенные жизненные поступки. В этой маленькой подробности и заключается зерно возможного решения некоторых сложных проблем, а вместе с тем решение одной проблемы приведет к открытию новых и еще более глубоких проблем, кои появятся, стоит только разрешить предыдущую. Слишком уж правдива шутливая пословица, глася: иные люди затем не решают проблемы сегодняшнего дня, что опасаются накликать на себя еще больше работы в том же роде.
Пьер задумался о колдовском мрачном письме Изабелл, он воскрешал в памяти свое праведное воодушевление в тот час, когда героические слова жгли его сердце: «Беречь тебя, и быть рядом с тобой, и сражаться за тебя будет твой неожиданно обретенный брат!» Эти воспоминания с гордым торжеством расцвели в его душе, и при виде столь блестящих знамен добродетели дьявол с копытами в смятении бросился наутек. Но вслед за тем Пьеру вспомнился ужасный, смертоносный, прощальный взгляд его матери; снова услышал он бессердечные роковые слова: «Под моим кровом и за моим столом тот, кто когда-то звался Пьером Глендиннингом, никогда больше не появится»; и падающая в обморок в своей белоснежной постели, бездыханная Люси вновь лежала перед ним, и слышалось повторяющееся эхо ее мучительного крика: «Любимый мой! Любимый мой!» Затем его мысли вновь быстро вернулись к Изабелл и к тому несказанному, внушающему благоговейный страх, все еще малоосознанному, нарождающемуся, новому и сложному своему чувству к сей таинственной девушке. «Вот! Я оставляю за собой трупы, куда бы ни направился! – стонал Пьер про себя. – Разве могут мои поступки быть правильными? Вот! Из-за моих поступков мне, кажется, угрожает опасность противоестественного и проклятого греха, и это вполне может оказаться такой грех, про который говорит Евангелие, что ему нет искупления. Я оставил позади себя трупы, а впереди меня ждет тягчайший грех, так как же мои поступки могут быть правильными?»
В сих мыслях ответом ему было молчание, и первые яркие лучи утреннего солнца нашли его все в тех же раздумьях и обогрели. Ночь смятения и бессонницы миновала, и удивительная дремота тихого непоколебимого страдания, и сладкое спокойствие воздуха, и монотонное, точно колыбельное, покачивание кареты, что ехала по хорошей дороге, кою освежил ночной ливень, прибив пыль, – все это оказало желаемое действие на Изабелл и Дэлли: спрятав свои личики, они быстро заснули рядом с Пьером. Скоро заснули они – и твоя интуиция, о прекрасная Изабелл, и ты, о несчастная Дэлли; твой стремительный рок я принимаю, как свой собственный!
И вдруг, когда грустный взгляд Пьера скользил все ниже и ниже, рассматривая эти зачарованные в своей неподвижности фигуры, его взор упал на собственную руку, сжатую в кулак. Какие-то листы бумаги видны были в сомкнутых пальцах. Он не знал, как они туда попали или откуда взялись, хотя сам же держал их в горсти. Пьер поднял руку и медленно разжал себе пальцы один за другим и вытащил из них бумагу, развернул ее и аккуратно расправил, чтобы понять, что же это может быть.
То была тоненькая, изорванная книжечка в мягкой обложке, ссохшаяся, как засохшая рыба, напечатанная расплывшимися чернилами на тонкой скверной бумаге. Казалось, то был обрывок какого-то старого истлевшего трактата – трактата, содержащего в себе главу или больше из какого-то многотомного исследования. Окончание его было потеряно. Должно быть, каким-то нечаянным образом книжку эту здесь забыл предыдущий пассажир, который, возможно, когда вытаскивал из кармана носовой платок, достал заодно и сию бесполезную книжонку.
Почти всем нам свойственна та непостижимая страсть, что овладевает нами, как только нам выпадает свободная минутка, что вклинивается меж двух наших обычных дел да как-то невзначай прерывает их; и тогда стоит нам увидеть себя в полном одиночестве да каком-нибудь тихом или дальнем углу, то мы начинаем относиться с непостижимою нежностью к глупейшему листку порыжелой бумаги, на коем напечатаны слова – к любому обрывку, и не книги даже, а быть может, рекламного буклета, – и читаем его, и изучаем его, и перечитываем его, и сосредоточенно над ним размышляем, и даже, в некоторой степени, мучаемся над сей ничтожной, жалкой книжонкой, какую в другое время да в других обстоятельствах мы едва ль решились бы взять длинными щипцами святого Дунстана[118]. Вот что, в какой-то степени, приключилось и с Пьером. Но, несмотря на то что он, как и многие другие, был подвержен странной страсти – порою в свободное время читать всякий вздор, – о чем мы поведали выше, однако, когда он бросил первый беглый взгляд на название ссохшейся, как сухая рыба, да похожей на старый буклет книжонки, то едва не выбросил ее из окошка кареты. Поскольку, каково бы ни было душевное состояние человека, кто из благомыслящих и заурядных смертных по доброй воле согласится потерять время, взяв на часок-другой в свои мудрые длани некое отпечатанное сочинение (да в коем еще в придачу расплылись чернила, и напечатано оно на очень скверной бумаге), опус, имеющий столь метафизическое и неудобоваримое название, как это: «Хронометры[119] и часы»?
Вне всяких сомнений, то было весьма глубокомысленное творение; но известно с давних пор, если человек пребывает в подлинно глубоком раздумье, то любые сколько-нибудь туманные изречения – не имеет значения, произнесены они были вслух или напечатаны в книге, – вызывают у него несказанное отвращение и кажутся ему детским вздором. Как бы там ни было, но молчание все тянулось; их путь пролегал через земли, которые были почти пустынными и необитаемыми; дремота все еще довлела над ним; дурные мысли становились все нестерпимее – словом, для того только, чтобы отвлечься ненадолго от безрадостного положения вещей, чем по каким-то другим мотивам, Пьер наконец принудил себя углубиться в чтение трактата.
II
Рано иль поздно в этой жизни каждый серьезный или пылкий молодой человек узнает и более или менее понимает сей пугающий солецизм[120] – что в своем высшем состоянии принятия Бога христианство призывает всех людей отказаться от мира; и при этом, как ни странно, та часть света, коя усерднее всех служит Маммоне[121] – Европа и Америка, – сии нации провозглашены не иначе как истинно христианскими, кои гордятся родством и, кажется, имеют на то свои причины.
В один прекрасный день сей солецизм проявляет себя ярко и живо, а за его осознанием по пятам следует серьезное перечитывание Евангелий, вдумчивое перечитывание этого величайшего истинного чуда всех религий – Нагорной проповеди. С той священной скалы ко всем серьезным любящим молодым людям струится нескончаемый, благодатный поток нежности и любящей доброты; и молодые люди в ликовании вскакивают на ноги, думая, что основатель их святой религии произнес слова столь бесконечно прекрасные и умиротворяющие, как те речения, кои воплощают в себе всю любовь прошлого, и всю любовь, какую только можно вообразить в любом возможном будущем. Сии чувства пробуждает та проповедь в пламенном сердце; эти же чувства все молодые сердца отказываются приписать человечеству как его истинные. «То слова Бога!» – кричит сердце, да на сем возгласе и заканчиваются все дальнейшие изыскания. И тогда, храня в душе свежепрочитанную проповедь, молодой человек вновь озирается по сторонам. Тотчас же им завладевает непреодолимое чувство несказанной явственной лживости окружающего мира, и чувство это усиливает влияние прежнего солецизма; и кажется, что мир погряз во лжи и пропитан ею насквозь. Его впечатление от этой лживости нашего мира столь могущественно, что молодой человек сперва отказывается поверить в него даже несмотря на то, что такие же чувства его обуревают, когда он ясно видит движение Солнца по небосклону, кое, как он замечал, вертится вокруг Земли, однако, благодаря авторитетным заявлениям других особ – последователей Коперника, астрономов, коих он никогда не видел, – он верит, что не Солнце вращается вокруг Земли, а все же Земля вокруг Солнца. Так и здесь он также слышит, как добрые и мудрые люди искренне говорят: «Этот мир только кажется пропитанным ложью и погрязшим в ней, но на самом деле он не настолько ею пропитан, не настолько в ней погряз, рядом с любой ложью есть и много правды в мире». Но вот он снова обращается к своей Библии и читает самые недвусмысленные слова о том, что сей мир безнадежно испорчен и проклят, что при любой возможности люди должны удалиться от такого мира. Но зачем же покидать его, если это мир истины, а не лживый мир? Тогда получается, что мир – ложь.
Немедленно вслед за этим в душе пылкого молодого человека сшибаются две армии; и до тех пор, пока он не выкажет либо трусость, либо доверчивость или не найдет тайну бытия, чтобы восстановить спокойствие в своем же внутреннем мире, не будет ему ни покоя, ни малейшей передышки в жизни. Вне всяких сомнений, загадку бытия еще никому не удалось разрешить; и сие свойственно человеческой природе – не тешить себя надеждою, что ее когда-нибудь разгадают. Иные философы располагали временем и порой утверждали, что постигли ее, но если они сами в конце концов не поняли своего заблуждения, то другие люди вскоре догадались об этом, и посему те философы и их пустопорожняя философия незаметно канули в полное забвение. Платон и Спиноза, Гёте и многие другие, кто принадлежал к этой гильдии самообманщиков, вкупе с разношерстным сбродом магглтонианцев – шотландцев[122] и янки, – чей подлый акцент оставляет еще больше пятен на и без того пятнистых греческих и немецких неоплатонических источниках. То глубокое молчание и есть тот единственный голос нашего Бога, о коем я уже упоминал раньше; а эти самозваные философы уверенно изрекают, что от сего святого существа, коему не найдется имени на человеческом языке, они каким-то образом добились ответа, что так же абсурдно, как если б они сказали, что вода течет под лежачий камень, ибо как может человек извлечь голос из Молчания?
Конечно, надо признать, что если в ком сия проблема сбыточного примирения этого мира с нашими собственными душами и возбуждала особый потенциальный интерес, так это был Пьер Глендиннинг в ту пору, о которой мы пишем. Ибо, подчиняясь высочайшему велению своей души, он исполнил свои определенные судьбоносные решения, кои уже лишили его мирского блаженства в этом мире и кои – он сердцем чуял – в конце концов непременно приведут его к некоему новому горю, о коем он еще не успел задуматься.
Вскоре, впрочем, когда он преодолел первую неприязнь к таинственному заглавию, да после того, как он прочел трактат – просто-напросто заставил себя погрузиться в чтение, – Пьер наконец начал видеть проблески в глубоком замысле автора скверного рваного трактата, и он почувствовал, как в нем проснулся большой интерес. Чем больше он читал и перечитывал, тем больше его интерес углублялся, но так же точно возрастало и его непонимание автора. Казалось, он каким-то образом вывел некое общее смутное понятие о трактате, но главная мысль сего сочинения все никак ему не давалась. Основную мысль было здесь нелегко уловить; казалось, что сердце и ум автора, породившие это творение, не так-то легко понять. Как бы там ни было, можно предположить, что сие последнее обстоятельство в большей иль в меньшей степени годилось для неполного объясненья.
Если человек пребывает в каких-то неясных тайных сомнениях о неоспоримой правильности да преимуществах своей главной жизненной теории и выбранного курса, то тогда, если сей человек вдруг нежданно-негаданно наскочит на любого другого или на небольшой трактат или проповедь, коя ненамеренно, скажем так, но все же весьма ощутимо проиллюстрирует ему немаловажную неправильность да дурное качество и его жизненной теории, и жизненного курса, тогда сей человек будет – более или менее бессознательно – всеми силами стараться удержать себя от невольного понимания того, что так его порицает. Ибо в сем случае понять себя значит проклясть себя же, что для человека всегда весьма неудобно и неприятно. Повторю снова. Если человеку рассказали о чем-то совсем для него новом, то – в течение времени, когда ему впервые о сем поведали, – для него просто немыслимо разом осознать это. Ибо, как бы абсурдно это ни звучало, люди только вынуждены понять те вещи, кои уже знали раньше (хотя бы в зародыше, так сказать). Невозможно их заставить понять новые мысли, просто рассказав им о них. Правда, иногда люди делают вид, что понимают, и в своих сердцах действительно верят, что понимают, внешне они выглядят так, будто и впрямь поняли, понятливо виляют своими пушистыми хвостами, но, несмотря на все это, они не понимают. Возможно, когда-нибудь потом они и сами придут к сим мыслям – вдохнут новую идею, витающую в воздухе, да так и дойдут до понимания, но никак иначе. Далее вы увидите, что отнюдь не в свете размышлений, кои даны выше, мы рисуем отношение Пьера ко рваному трактату. Быть может, оба предположения правильны; быть может, не верно ни одно. Однако с уверенностью можно сказать, что порою он в глубине души, казалось, задавался вопросом, откуда столько самоуверенности у таинственного автора во всех его рассуждениях. Тем не менее самоуверенность эта, несомненно, была одною из самых очевидных в мире; с такою же наивностью мог бы написать и ребенок. Но далее шли столь глубокие суждения, что не всякий Джаггулариус[123] мог бы стать тем самым автором; а затем текст вновь становился до такой степени малосодержательным, что самый младший из детей Джаггулариуса постыдился бы его написать.
Мы увидим далее, что сия любопытная истрепанная книжица привела Пьера в сильное замешательство; и, забегая вперед, скажу, что в самом финале Пьер не был вполне свободен от влияния на его поступки рваного трактата, когда в будущем, спустя какое-то время, он пришел к его постижению или, по случайности, достиг понимания того, что он, во-первых, сделал; мы увидим также, что впоследствии автор станет известен ему понаслышке, и хотя Пьер никогда не перемолвился с ним ни словом, однако он на себе почувствовал действие его удивительных колдовских чар благодаря простому отдаленному проблеску моральной поддержки от автора этого творения; все эти причины я считаю достаточными для того, чтоб извинить появление в следующих главах начальной части того трактата, который представляется мне скорее весьма странным и мистическим сочинением, чем философским наставлением, из коего, признаюсь, я сам не подчерпнул ни одного дельного вывода, что постоянно удовлетворял бы те движения моей души, коим, судя по всему, сие наставление и посвящено. Сей трактат кажется мне скорее превосходной иллюстрацией, коя подтверждает наличие проблемы, а не ее решением. Но поскольку такие простые иллюстрации почти всегда берут в качестве решений (и вероятно, это единственные возможные человеческие решения), то сей трактат может на время успокоить какой-нибудь пытливый ум и, таким образом, не быть совсем уж бесполезным. По крайней мере, каждый читатель может это пролистать или же читать и браниться про себя.
III
«И. А.»[124],
АВТОР – ПЛОТИН ПЛИНЛИММОН,
(три сотни и тридцать три лекции)
ЛЕКЦИЯ ПЕРВАЯ
ХРОНОМЕТРЫ И ЧАСЫ
(что есть не столько врата, сколько часть временных подмостков у врат сей новой философии)
Немногие из нас, джентльмены, сомневаются в том, что человеческая жизнь на этой земле – всего лишь испытание; которое помимо всего прочего предполагает, что здесь, на земле, мы, смертные, должны иметь дело лишь с недолговечными вещами. Следовательно, я утверждаю, что вся наша так называемая мудрость есть не что иное, как временное явление.
Вступление завершено, я начинаю.
Мне представляется, с моей точки зрения, что существует определенный редчайший посыл души человеческой, который, в том случае если бережно его сохранять на сердце, будет почти всегда и везде провещать небесную правду, имея при этом только какую-то крохотную погрешность. Ибо, пришедшие от самого Господа, эти душевные источники небесной правды подобны большому холму Гринвича с башней, от коей все меридианы расходятся в бесконечность; души с такими запасами небесной правды подобны лондонским морским хронометрам (греческое название прибора, измеряющего время), кои, когда лондонский корабль плывет прочь от Гринвича вниз по Темзе, аккуратно показывают время в Гринвиче и, если их бережно хранить, будут показывать то же самое время, даже если их привезут на Азорские острова[125]. Правда, что почти всегда во время долгих путешествий в самые дальние страны – например, в Китай – наилучшие хронометры, даже те, кои берегли пуще глаза, начнут мало-помалу отклоняться от времени Гринвича, не имея возможности быть скорректированными прямым сопоставлением с их великим стандартом, но искусные и верные наблюдения за звездами с помощью секстанта помогут устранить такие погрешности. И кроме того, существует такое дело, как оценка хронометра, то есть когда имеются подозрения о градусе его естественного отклонения от гринвичского времени, какой бы незначительной ни была погрешность, то при всех последующих расчетах с участием хронометра на градусы этой погрешности, большей ли, меньшей, можно легко увеличить или уменьшить цифры – скорректировать координаты – в зависимости от ситуации. Итак, повторяю снова, в самых долгих путешествиях время хронометра можно скорректировать посредством сличения его показателей с хронометром какого-нибудь другого корабля в море, который провел в плавании меньше времени.
Ныне, в мире притворства, подобном нашему, душа человека все больше удаляется от Господа и небесной правды, как хронометр, который везут в Китай, отклоняется от Гринвича. И как хронометр, который правильно хранили, будет показывать двенадцать часов пополудни, когда часы в Китае будут показывать полночь, так и хронометрическая душа, если будет хранить в своих глубинах великую правду небесного Гринвича, благодаря так называемой интуиции, подсказывающей нам, что хорошо и что дурно, будет всегда противоречить простым местным стандартам и тем душам, которые подобны местным часам.
Умы последователей Бэкона были умы простые, как часы; но Христос был подобен хронометру, и причем самому совершенно выверенному и точному, менее всего подверженному всем тем земным погрешностям, которые одолевают нас. И причина, по которой его учение показалось глупостью иудеям, было то, что он принес это небесное время в Иерусалим, в то время как иудеи там подчинялись иерусалимскому времени. Разве он не ясно выразился: «Моя мудрость (время) не из этого мира»? Но какой бы ни была настоящая странность в мудрости Христа, она по-прежнему кажется совершенно той же глупостью и сегодня, как и 1850 лет назад. Дело в том, что в течение всего этого времени завещанный им хронометр все так же показывал небесное время, и весь единый Иерусалим этого мира все так же тщательно придерживался своего собственного.
Но хотя хронометр, привезенный из Гринвича в Китай, будет все так же правильно показывать в Китае время по Гринвичу, однако, хотя таким образом он должен непременно противоречить китайскому времени, из этого отнюдь не следует, что – при всем уважении к Китаю – все китайские часы неверны. Как раз наоборот. Ибо сам факт сего разногласия есть допущение, что, говорю со всем уважением к Китаю, китайские часы в полном порядке; и поэтому как китайские часы показывают правильное время в Китае, так и хронометры из Гринвича показывают в Китае неправильное время. Кроме того, на что нужен китайцу гринвичский хронометр, показывающий время по Гринвичу? Живи он по такому времени, он бы бесконечно совершал нелепости – скажем, отправлялся в постель в полдень, когда его соседи садились бы за обед. И таким образом, хотя земная человеческая мудрость кажется глупостью Богу на небесах, то также, наоборот, небесная мудрость Господа кажется глупостью человеку на земле. Говоря буквально, все так и есть. Господь в своем небесном Гринвиче не ожидает от обычных людей, что они будут хранить в своих душах правду небесного Гринвича в таком отдаленном китайском мире, как наш, ведь такое поведение было бы для них там неприбыльным и в самом деле искажением Его, поскольку в этом случае время в Китае будут сравнивать с временем по Гринвичу, что сделает время по Гринвичу неправильным.
Но почему тогда Господь периодически посылает небесный хронометр (словно метеорит) в мир, напрасно, как это может выглядеть, выявляя лживость всех земных часов? По той причине, что Он не желает оставить человека без какого-то периодического доказательства следующего постулата: несмотря на то что человеческие китайские представления о положении вещей могут дать неплохие ответы на животрепещущие вопросы, они, несомненно, повсюду применимы, и божественный Гринвич, в котором Он обитает, живет по несколько другим законам, чем этот мир. И все же из этого не следует, что Божья правда – это одно, а человеческая – другое; но, как мы уже дали понять выше и как будет дальше разъяснено в следующих лекциях, благодаря их тем самым противоречиям они созданы для сопоставления.
Мы приходим к выводу также, что тот, кто открыл в себе хронометрическую душу, ищет способ, как заставить землю следовать этому небесному времени; в такой попытке ему никогда не сопутствует успех – важный и абсолютный успех. И что касается его самого, то если он старается следовать этому небесному времени в своей жизни, он просто настроит против себя всех людей, кои следуют земным часам, и поэтому в ответ получит только горе и смерть. Оба этих состояния нашли свое прямое проявление в характере и судьбе Христа да в прошлом и настоящем того учения, которое Он проповедовал. Но здесь есть одно обстоятельство, кое требует пристального внимания. Несмотря на то что Христос столкнулся с горем как в теории, так и на практике, следуя велению своего душевного хронометра, все же Он вышел из всех испытаний незапятнанным глупостью или грехом. Тогда как все, почти все без исключения, несомненные усилия земных людей жить в этом мире, следуя прямым указаниям небесного хронометра, каким-то образом приводят к тому, что эти люди совершают странные, уникальные глупости и грехи, прежде невообразимые вовсе. Вспомнить хоть ту же историю об Эфесской матроне[126].
Любому серьезному человеку, обладающему проницательностью, честные рассуждения об этих идеях относительно хронометров и часов помогут предварительно истолковать гораздо менее туманно некие немногие, прежде непонятнейшие мысли, кои до сего времени мучили порядочных людей всех возрастов. Разве человек, который бережет свою бессмертную душу, не приходит рано или поздно в муках к убеждению, что до тех пор, пока он не предаст ее, подчинившись житейским требованиям жизни в этом мире, он никогда не обретет надежду наладить свою земную жизнь, подчиняясь голосу души? И все же каким-то безошибочным инстинктом он чует, что ее наставление не может быть ложным само по себе.
И нет ни одного серьезного и справедливого философа, джентльмена, который смотрит и направо, и налево, и вверх, и вниз, и сквозь все минувшие мировые эпохи, не забывая и нынешнюю; нет ни одного такого, кто не был бы тысячу раз атакован некими ложными идеями, что в каких бы других мирах Бог не был Господином, Он не Бог – этого, ибо почему тогда этот мир, кажется, лжет Ему, настолько противоречащими кажутся пути земного мира инстинктивно известным путям Всевышнего. Но это не так, да и не может быть так; и тот, кто правильно поймет эту идею о хронометре, никогда больше не впадет в сие ужасное заблуждение. Ибо он тогда увидит или ему покажется, что видит: это кажущееся противоречие мира Господу полностью происходит из его высшего соответствия Ему.
* * *
Эта идея хронометра несомненно связана с оправданием всех тех поступков, которые могли совершить люди безнравственные. Ибо в своей греховности глубоко порочные люди грешат как против своих собственных земных часов, так и против небесных хронометров. Именно так и их способность к неожиданному добровольному раскаянию служит ясным тому доказательством. Нет, эта идея просто призвана показать, что для людей в их массе высочайшая абстрактная справедливость не только невозможна, но совершенно не к месту и положительно неверна в мире, подобном нашему. Подставить левую щеку, когда ударили по правой, это веление хронометра, но ни один обычный человек так не поступит. Раздать все, что имеешь, бедным – сие также есть хронометрическое деяние, но ни один заурядный смертный не сделает этого. Однако же если иной человек, заботясь о своей душе, щедр с бедняками, не делает другим людям зла, то влияет ли благотворно в общем смысле его добропорядочное поведение на весь род человеческий; если он относится с неустанной любящей заботой к жене и детям, родным и друзьям; если он всегда терпим ко всем мнениям других людей, какими бы они ни были; если он честный делец, честный гражданин и так далее; и особенно, если он верит, что существует Бог для неверных, так же как и для верующих, и поступает согласно этому убеждению, – тогда, несмотря на то что для такого человека бесконечно недостижим стандарт хронометра, все же его поступки полностью соответствуют земным часам… все же уделом такого человека должно быть неиссякаемое уныние, поскольку он повинен в каких-то второстепенных проступках – неосторожных словах, незамедлительном ответе ударом на удар, приступах раздражительности с домашними, глупом наслаждении бокалом вина, в то время как он знает, что многие вокруг него нуждаются в корке хлеба. Говорю, его уделом должно быть постоянное уныние по поводу его бессрочной ответственности за эти обстоятельства, поскольку, не совершая такие и другие схожие поступки, нужно быть ангелом, хронометром, тогда как он – обычный смертный, земные часы.
Несмотря на то что сами земные часы учат, что со всеми такими пороками следует бороться, сколько возможно, все же ясно, что их никогда не удастся окончательно искоренить. Их можно только сдерживать, в таком случае, поскольку, если никто не станет их ограничивать, они в конце концов приведут к полному эгоизму и демонизации человечества, коя, как прежде упоминалось, несомненно, не может быть оправдана земными часами.
Словом, эта идея о хронометрах и часах в целом учит следующему: в житейских (часовых) ситуациях человек не может руководств оваться Божественными (хронометрическими) идеями; простое инстинктивное желание жить в благополучии научит человека совершать определенные незначительные самопожертвования, но человек должен, вне всяких сомнений, принести себя в жертву полностью, без каких-либо отговорок, в пользу любого другого живого существа, или дела, или мысли (ибо разве должно еще что бы то ни было полностью и безоговорочно жертвовать собой ради него? Божье солнце ни в малейшей мере не умерит своего жара в июле, как бы человек ни страдал от зноя. И если солнце все-таки и впрямь умерит свое тепло ради блага человека, то пшеница и рожь не поспеют, и тогда ради незначительной выгоды для одного будут страдать все).
Добродетельная целесообразность тогда кажется самым желанным или достижимым земным благополучием для всех людей и тем единственным земным благополучием, кое их Создатель предназначил для них. Когда они попадают на небеса, все оборачивается по-другому. Там они могут с легкостью подставить левую щеку, потому что там они никогда не дождутся удара. Там они могут с легкостью раздать все бедным, поскольку там не будет никого, кто бы нуждался. Должная оценка сего предмета послужит во благо человеку. Поскольку тот, будучи до сих пор научен своими влиятельными учителями, что он должен, пока живет на этом свете, стремиться к Богу и достигать этого во всех своих поступках, пребывает в муках вечного гнева, ибо по опыту знает, что сие совершенно невозможно; и тогда, дойдя до отчаяния, он чересчур склонен ловко скатиться ко всем видам морального разложения, самообмана и лживости (скрытых, как бы там ни было, главным образом под видом самой респектабельной набожности), или же он открыто побежит, подобно взбесившемуся псу, в атеизм. И потому позволим людям постигнуть сию идею о хронометрах и часах, но при этом сохранить свой здравый смысл во всей полноте да свои стремления ко всем осуществимым и желанным добродетелям, да позволим этим стремлениям в них также окрепнуть, когда они придут к осознанью, что способны достигнуть поставленных целей; и вот тогда-то наступит конец тому беспросветному отчаянию, что охватывает людей при мысли о невозможности стать идеальным, мысли, коя слишком часто оказывала свое тлетворное влияние на многие умы, кои придерживались чистых хронометрических взглядов и до сего времени учили человечество. Но если кто-то скажет, что такие взгляды, как эти, я утверждаю ложно, сие будет непочтительностью с его стороны; и я с готовностью укажу ему на историю христианства за последние тысячу восемьсот лет и спрошу его: разве, вопреки всем заповедям Христа, эта история не полна крови, насилия, зла и несправедливости всех родов, как и предыдущая эпоха мировой истории? Значит, из этого следует, что до тех пор, пока весь мир будет по-прежнему заинтересован в практических результатах, кои оцениваются в свете чистейшей житейской премудрости, – до тех пор единственная великая и правильная моральная доктрина христианства (как то: хронометрическая добровольная плата добром за зло, а не прощение грехов, кое выбирают земные часы, подчерпнув это у языческих философов) будет считаться (по мнению земных часов) ложной, ибо за те тысячу восемьсот лет, что ее насаждали десятки тысяч проповедников, она лишь доказала свою полнейшую непрактичность.
Впрочем, я просто утверждаю, что лучшие нравственные люди каждый день работают над собой и что все по-настоящему дурные люди очень далеки от этого. Я дарю утешение серьезному человеку, который при всей своей человеческой моральной неустойчивости все еще мучительно помышляет о красоте хронометрического благополучия. Я показываю осуществимость добродетели грешникам и не служу помехой Божественной правде, согласно которой – рано или поздно, в любом случае, – совершенное зло станет совершенным горем.
Более того, если…
Но здесь трактат был оборван и оканчивался грязными обрывками.
Глава XV КУЗЕНЫ
I
Хотя он решился смотреть в лицо самому страшному, решился на любой отчаянный риск, Пьер не направлялся в город без кое-каких планов, продиктованных благоразумием, кои разом отвечали и его настоящим обстоятельствам и душевному состоянию.
В городе жил его кузен, Глендиннинг Стэнли, коего в семье генерала звали Гленом Стэнли, а Пьер – кузен Глен. Как и Пьер, он был единственным ребенком в семье, потерял родителей в раннем детстве и в этом году оставил свое затянувшееся проживание в Европе, чтобы в возрасте двадцати одного года беспрепятственно вступить в права владения состоянием, кое, находясь в руках честных опекунов, значительно увеличилось.
В детстве и ранней юности Пьера и Глена связывали узы крепкой дружбы, а не только родства. Когда им было по десять лет, они были живым подтверждением той истины, что гласила: дружба двух славных, великодушных мальчиков, кои росли среди роскоши да изящества, что пробуждают в душе романтизм, и кои порой выходили из границ простого мальчишества, пока веселились в эмпиреях любви, – сия дружба в какой-то степени оказывается выше того сладчайшего чувства, кое вспыхивает между мужчиной и женщиной. В сей дружеской привязанности не было случайных мотивов и пряной остроты, что иногда, под видом мнимого ослабления, только усиливает наслаждения тех взрослых влюбленных, кои поддаются соблазнам Венеры. Но ревность они чувствовали. Если кто-то из них видел другого мальчика, который слишком много общался с дорогим другом, то сие будило в нем чувства, схожие с чувствами Отелло, а мнимое легкое иль незначительное охлаждение в ежедневном проявлении теплых чувств приводило к тому, что один тут же начинал осыпать другого горькими упреками да укоризнами, или же сие сообщало другому такое злобное настроение, для какого уместно лишь полное одиночество.
Ни в одной переписке двух ярых приверженцев Афродиты не теснилось больше взаимных бессвязных клятв да торжественных обетов, чем в сих влюбленно-дружеских письмах двух мальчиков, коими те неукоснительно обменивались, в зависимости от обстоятельств, либо каждые полнедели, либо ежедневно. Среди тех пачек бумаги, кои Пьер в недобрый час столь яростно бросил в огонь в комнате на постоялом дворе, были две большие связки писем, написанных убористым почерком и многократно исписанных крест-накрест[127] красными чернилами поверх черных; такой любовью дышали те письма, что одного пера и одного вида чернил было недостаточно, чтобы выразить ее. В первой связке были письма от Глена к Пьеру, во второй – от Пьера Глену, кои Пьер добыл у него перед отъездом кузена в Европу, чтобы перечитать их в разлуке и тем самым укрепить еще больше свою дружескую привязанность, оживив ее во впечатлениях тех юных, пылких лет, когда она впервые проявилась.
Но подобно тому, как прекрасный цветок сулит богатые плоды, так – во многих случаях – и сильная любовь к другому полу навсегда стирает былую горячую дружбу между юношами. Простая, безыскусная дружба еще может уцелеть в некотором смысле – в большей или в меньшей степени – и остаться, но истинная привязанность в ней неизбежно погибнет.
Если смотреть в глаза неприкрытой правде и действительности, то любой смертный муж и впрямь навсегда отдает свое сердце своей единственной, и с той поры оно вечно служит ей одной, не питая при этом ни малейшей тени сомнения; и в той красавице превосходным образом для него воплощается его прекраснейшая и высочайшая мечта о женской привлекательности, если такая мечта у него и в самом деле есть – и пусть Небеса подтвердят, что так оно и есть, – однако в столице любовь даже самого честного молодого человека почти всегда неизбежно есть не что иное, как последний итог неисчислимых ищущих взглядов, кои он бросал на некую известную ему особу; так как он убежден, что если слишком долго позволять себе свободно плыть по течению, то милые чары и весь арсенал женских уловок в конце концов оставят его без всякой возможности сделать выбор. По крайней мере, в Америке закоренелый холостяк или очень часто оказывается жертвою своего чересчур пылкого преклонения перед бесчисленным множеством хорошеньких женщин, или же законная тирания холодного и пресного характера обрекает его на одинокую жизнь.
И хотя все те невыразимые сердечные желания, свойственные юношам в его летах, нашли наконец горячий отклик в сердце Люси, однако в те времена, что сему предшествовали, Пьер успел испытать все мыслимые страстные порывы. Словом, еще до того, как он во всеуслышание объявил о своей любви к Люси, любовь уже завербовала его в ряды своих всегдашних приверженцев, и так она мало-помалу остудила в нем ту пылкую привязанность, кою он в былые года питал к Глену.
Все вертится и вертится наш мир, лежа, как стрелок в засаде, вертится во все стороны, безжалостно расстреливая прекрасные иллюзии нашей молодости из трескучих винтовок, где патронами служат правдивые факты, кои мы узнаем, взрослея. Если любовь к женщинам благоразумно вытеснила из сердца Пьера его нежное чувство к Глену, то и тысячи невыразимых очарований благоуханного рая Франции и Италии не могли не оказать своего колдовского влияния на многие прежние привязанности Глена. Ибо даже лучшие преимущества в жизни имеют свою плачевную отрицательную сторону, и одно из тех зол затянувшегося заграничного путешествия состоит в том, что оно вытесняет из молодых и неокрепших сердец все наилучшие привязанности к тем людям и той обстановке, что ждет их дома, а дает им взамен придирчивое высокомерие, кое, словно мнимо фанатичный федерализм в былые времена, как гласит политическая легенда, не станет молоть свою ежедневную порцию кофе в кофемолке, если та не выпущена на европейской фабрике, да про сих высокомерных особ недаром язвительно говорят, что те с охотою поставляли бы к нам европейский воздух для домашних нужд. Взаимно уменьшающаяся, редеющая, прерывистая и вконец иссякшая с обеих сторон переписка Пьера и Глена была мрачным обстоятельством, столь же ясным, как и то, что ни один из них не воспринял это близко к сердцу и ни один из них более не обременял другого писанием писем.
На ранних стадиях той удивительной перемены в человеке, когда благородные порывы юности понемногу уступают место расчетливой осмотрительности совершеннолетнего, как правило, происходит короткая остановка для неприятной переоценки ценностей, когда наша душа сознает, что полна сил, и еще колеблется, не решаясь всецело предаться одному эгоизму, больше сомневается, чем раскаивается в своих заблуждениях, но все это столь быстротечно; и вот уже вновь торопится нырнуть в стремительный поток жизни мальчик с пламенной душою, коего после едва ль можно будет узнать во взрослом мужчине, который весьма неповоротлив в своих чувствах, осмотрителен даже в любви да невозмутим и в самом благочестии. Пока длится сей переходный период, молодой человек еще предпринимает энергичные попытки вернуть свою уходящую непосредственность, но все они так портят дело, что лучше б их вовсе не было, ибо с некоторых пор они слишком часто стали казаться пустыми и самообманными репликами или, того хуже, простейшими лицемерными потугами.
По возвращении Глена из Европы самая обыкновенная вежливость, не говоря уже о кровном родстве между ними, побудила Пьера поприветствовать его возвращение письмом, кое, хоть и не было очень пространным да содержало мало восторгов, все же дышало братской привязанностью и нежностью, наполненное и пропитанное тем от природы искренним и располагающим к себе духом самого Пьера. На это менее серьезный и теперь уже ставший европейцем Глен ответил письмом, полным необыкновенной учтивости, в коем посредством безыскусности искусных фраз выражалось сожаление о том, что их дружеские чувства изрядно охладели, да содержалось нежное упование на то, что теперь, несмотря на долгую разлуку, сия дружба воскреснет с новой силою. Но когда он присмотрелся повнимательнее к искреннему приветствию сего деликатного послания, Пьеру показалось, что он ясно увидел, как его кузен не смог полностью замаскировать исправление – что на месте слов «мой родной дорогой Пьер», с коих начиналось письмо, сначала было написано просто «дорогой Пьер», но затем, когда послание было завершено и Глен поставил свою подпись, то пылкое «мой родной» было втиснуто в первоначальную фразу «дорогой Пьер»; случайное предположение, кое, возможно, сколь бы ни было оно необоснованно, сильно охладило всю ответную теплоту послания Пьера, поскольку тот не без причины опасался, как бы жаркий огонь его дружбы в родственном объятии не сжег щегольские перья кузена. Сия мысль еще не вполне в нем укрепилась, когда он получил второе и на сей раз почти деловое письмо (где смешались, в некотором роде, едва ль не все последующие послания) Глена, где увидел, что «мой родной дорогой Пьер» уже сокращен до фразы «мой дорогой Пьер», и в третьем – «дорогой Пьер», а в четвертом стало вымученным и очень смело перешло в слова «дражайший Пьер». Все эти изменения не предвещали ничего хорошего прочности их взаимной привязанности, коя, сколь бы подмоченной она ни была, все еще могла уцелеть и победоносно плыть, украсившись всеми флагами. И он вовсе не обрадовался еще более позднему письму Глена, кое неожиданно и столь явно в нарушение всех приличий, учитывая обстоятельства, начиналось словами о поэзии дружбы без какого-либо обращения вовсе, словно в конце концов, отдавая должное своей бесконечной деликатности, потеряв всякую надежду дать точное определение природе их удивительной любви, Глен предпочел просто оставить сие точное определение на совести чувствительного сердца да воображения Пьера, в то время как сам Глен будет продолжать славить саму родственную связь в разнообразных приторных выражениях своей преданности. То была немного любопытная и весьма язвительная перемена в свычаях высокообразованного Глена писать свои послания, если сравнивать ее с тою ловкою, пусть и не столь успешною да более неясною манерой, когда в его письмах не иссякал поток Любимых Пьеров, кои во всех своих прежних посланиях он не только писал на всех чистых полях, но кои были словно подземные родники, что, проложив себе путь на поверхность, сверкали то здесь, то там в каждой удачной строчке. И память обо всем этом не смогла удержать опрометчивую руку Пьера, когда он швырнул одну за другой все пачки писем, как старые, так и новые, в ту наичестнейшую и наистремительнейшую стихию, коя не питает уважения ни к одной особе и коей безразлично, в каком стиле написаны послания, что она сжигает, но, как и самая истинная правда, красноречивым символом коей она выступает, истребляет все – и лишь истребляет.
Когда помолвка Пьера и Люси стала всем известна, учтивый Глен, кроме обычных поздравлений по сему случаю, не упустил столь подходящую возможность вновь предложить кузену все свои предыдущие дребезжания о дружбе, полные меда и патоки, и сопроводил их вдобавок коробками засахаренных цитронов и слив. Пьер вежливо поблагодарил его; однако, пребывая в лукаво-двусмысленном расположенье духа, он отослал обратно цитроны и сливы, сославшись на свое пресыщение, да сопроводил сие коробкой сластей, коя размерами далеко превосходила полученный подарок, а то, сколь мало значенья он всему этому придавал, было аллегорически выражено в содержании его письма да в том, что оно было отправлено обычною почтой.
Настоящая любовь, как всем нам известно, может выдержать много неприязни, даже открытую грубость. Но была ли то любовь или вежливость Глена, коя с непреодолимою силою проявила себя в сем случае, мы обсуждать не станем. Доподлинно известно, что, нимало не обескураженный, Глен благородным образом вернул присланное и в своем неожиданном ответном письме, написанном очень взбудораженным тоном, угостил Пьера всеми любезностями большого города да подробным описанием удобства пяти великолепных комнат, кои он со своею роскошною мебелью собирался занять в самом лучшем частном отеле весьма процветающего города. Глен не собирался там отдыхать, но, подобно Наполеону, стремился выиграть битву, бросая все свои полки в атаку на одно укрепление и добывая это укрепление со всеми рисками. Узнав из каких-то слухов, кои обсуждались во время семейных обедов у родных, что день бракосочетания Пьера уже назначен, Глен призвал на помощь все свои парижские приемы, чтобы золотым пером с ароматными чернилами сочинить на розовой бумаге самое глянцевое и благоуханное послание, в коем, призвав все благословения Аполлона, Венеры и девяти Муз и кардинальных добродетелей[128] на предстоящее событие, завершал наконец свое письмо чрезвычайно пышными заверениями в своей любви.
Как следовало из этого письма, среди прочей недвижимости в городе Глен унаследовал поистине прелестный, небольшой старый особняк со всей обстановкой во вкусе прошлого столетия в том квартале города, который хоть теперь и не был уже таким блестяще-модным как в былые годы, все же своим спокойствием и отдаленностью представлял большую привлекательность для ласк и воркования в уединении на медовый месяц. Он просил именовать особняк Голубиным Гнездышком, и если после своего свадебного путешествия Пьер со своей супругой соблаговолит остановиться в городе на месяц или два, то Голубиное Гнездышко будет счастливо оказаться полностью в его распоряжении. Его милый кузен не должен питать никаких опасений. Признавая отсутствие какого-либо подходящего кандидата на роль жильца, этот дом давно уже пустует без владельца, и порядок в нем поддерживает пожилой, одинокий, преданный клерк его отца, который платит условную ренту и все, что он сейчас делает для ухода за домом, вешает свою вычищенную от пыли шляпу в прихожей. Этот старый клерк-квартирант быстро снимет свою шляпу при первом же намеке на новых жильцов. Глен возьмет на себя заботу заранее нанять всех необходимых слуг; огонь вновь весело запылает в очагах комнат, кои долго стояли нежилыми; почтенная причудливая старая мебель красного дерева, мрамор, рамы зеркал и литье будут вскоре очищены от пыли и натерты до блеска; роскошная кухня ломится от всей необходимой утвари для готовки; массивную горку[129] из старого серебра, принадлежащую особняку с незапамятных времен, охотно извлекут из подвального хранилища соседнего банка, в то время как продовольственные корзины из старого фарфора, все еще хранящиеся в особняке, нужно лишь взять на себя труд распаковать, так что те серебро и фарфор будут вскоре в полной готовности стоять в их покоях; стоит повернуть кран в подвале – и лучшая городская вода незамедлительно обогатит компоненты приготовленного для них приветственного бокала негуса[130], который им поднесут прежде, чем они отойдут ко сну в первый вечер своего прибытия.
В иных людях их чрезмерная разборчивость да склонность к нездоровой критичности, так же как у других свойственное им нравственное малодушие, равно преграждают им путь к получению сугубо материальных благ от тех особ, чьи мотивы, когда они предлагали свои услуги, не были вполне чисты и безупречны да в отношениях с коими прежде, быть может, была некая прохлада или равнодушие. Но когда для одних принятие сей услуги и впрямь удобно и желанно, а другим это не сулит ни малейшего вреда, тогда не возникнет никаких разумных возражений, кои помешали бы ответить на любезное предложение немедленным согласием. А если тот, кто соглашается на услугу, имеет положение в обществе и состояние, равное состоянию предлагающего, и, возможно, большее состояние, чем у предлагающего, и посему за любую услугу, кою он принимает, он сможет щедро вознаградить самым естественным образом в будущем, то тогда все мотивы поступков предлагающего обусловлены лишь соображениями выгоды. И даже когда он прикидывает в уме тысячу непостижимых, мельчайших «за» и «против» в отношении предполагаемой уместности, да правил приличия, да последовательности своих действий, уж будьте уверены, и в добрую минуту сердечной полноты ни один из этих раздумчивых барышников не оставит без внимания появившийся на горизонте парус наивного человека. Наивный человек принимает все за чистую монету и беспечно подводит себя под огонь своеобразного юмора нашего мира; он никогда не чувствует каких-то терзаний, получая величайшие возможные одолжения от тех, кто и имеет возможность оказать их, и свободен в своем выборе для этого. Он и сам оказывает одолжения при удобном случае, поэтому, по сути, обычно вылезает вперед, питая самые благие побуждения, чтобы навязать свои благие соображения раньше всех прочих возможных предложений, видя, что принятие услуги может только еще больше обогатить его косвенным путем для его же больших благодеяний в будущем.
А что до тех, кто никоим образом не притворяется перед собой, что управляет своим поведением, размышляя о природе истинной щедрости, и в глазах коих такие любезные предложения исходят от тех лицемерных особ, в коих они подозревают своих тайных врагов, то для таких людей, если только их собственная суетная манера поведения вдруг не приведет к невежливому напрасному отказу от таких предложений, или если они втайне злы или равнодушны, или же если они вполне могут удовольствоваться чувством тайного превосходства и главенства (драгоценное качество, коим обладают очень немногие), то тогда насколько же восхитительным для таких людей будет, под видом простой уступки в его собственных добровольных предложениях, использовать своего врага благородным образом. Кому интересно знать, для чего еще нужны враги, как не для того, чтобы использовать их в своих целях? В грубые века мужчины с копьями охотились на тигра, потому что они ненавидели в нем вредоносного дикого зверя, но в наши просвещенные времена, хотя мы любим тигра не больше, чем всегда любили, все же мы охотимся на него главным образом из-за его шкуры. Мудрый человек станет потом носить шкуру этого тигра, каждое утро будет надевать ее, как плащ, чтобы уберечься от холода и покрасоваться. С этой точки зрения враги куда более желанны, чем друзья, ибо кто будет охотиться на честную любящую собаку и убивать ее ради шкуры? И разве собачий мех так же ценен, как тигриный? В иных случаях трезвый расчет подсказывает прямыми уловками сделать некоторых доброжелателей врагами. Это неправда, что, занимаясь политикой, мужчина не должен наживать себе врагов. Иные люди, будучи вашими доброжелателями, могут быть не только бесполезными, но даже настоящей помехой в ваших планах, однако в качестве подчиненных врагов вы можете смело использовать их в вашем общем замысле.
Но в эти неуловимые тонкости хладнокровной тосканской политики[131] Пьер пока еще не был посвящен – до настоящего времени его жизненный опыт не обладал для этого ни разнообразием, ни достаточной зрелостью; кроме того, он также был слишком великодушен сердцем. Однако позже, в более зрелые годы, хотя его доброта все же не позволит ему воплотить в жизнь принципы, подобные тем, о коих мы только что рассказали, тем не менее ему хватит ума ясно понять их практичность, в коей, впрочем, не всегда состоит вся суть. Но как правило, сие подтверждается мировым опытом, что люди отказываются от единственного средоточия всей проницательности, коя не открывается по-настоящему в их обычной будничной жизни. Это весьма распространенная ошибка иных людей, неразборчивых, язычески мыслящих, эгоистичных, беспринципных или откровенных мошенников, – полагать, что верующие, или великодушные, или добрые люди не обладают необходимыми знаниями для того, чтобы стать неразборчиво эгоистичными, не обладают достаточными навыками, чтобы обратиться в беспринципных мошенников. И вот – благодарение миру! – есть множество шпионов на этой земле, кои пребывают в заблуждении насчет странствующих простаков. А эти странствующие простаки кажутся поступающими по принципам, кои в определенных случаях мы не так уж стремимся усвоить, показывая, что мы уже и так знаем очень много, при этом скорее производим неблагоприятное впечатление невежественных. Но здесь мы балансируем на грани мудрости такого сорта, коей очень хорошо обладать, но в коей очень недальновидно признаваться. Все же есть те, кто, по сути, порвал с миром, и все, что связано с этим миром, стало им настолько безразлично, что они мало заботятся о том, в каком простом светском неблагоразумии их можно обвинить.
Если таковыми не были его сознательные рассуждения, подобно искренне-благожелательным или нейтральным размышлениям, кои мы впервые перечислили выше, это точно были какие-то родственные им рассуждения, кои побудили Пьера прямо, по-мужски, полностью принять предложение кузена погостить в его доме; благодарить его снова и снова за проявленную невероятную доброту касательно заранее нанятых слуг и прочего, да и за хлопоты о серебре и фарфоре, но напомнить ему, тем не менее, что он ни разу ничего не упомянул о винах, и просить его запастись несколькими дюжинами самых лучших марок. Он был бы также весьма признателен, если тот лично приобретет у своих лучших знакомых торговцев небольшой мешок настоящего кофе мокко; но только пусть Глен прикажет, чтобы кофе не был ни молотым, ни жареным, поскольку Пьер полагает, что оба эти дела, чрезвычайно важные и определяющие вкус напитка, должны быть выполнены непосредственно перед его приготовлением и подачей к столу. Он не сказал, что заплатит за вина и мокко, рассчитывая на простую невнимательность со стороны своего кузена, и намекал на лучший для этого способ. Он заканчивал свое письмо фразой, что, хотя слухи о назначенном дне и скором бракосочетании были, к сожалению, преувеличены, все же он не оставит щедрое предложение Глена как просто основанное на том предположении и, следовательно, не будет заблуждаться, но, наоборот, рассматривает его как всецело правильное для любого времени, кое будет удобно Пьеру. Вне всяких сомнений, он был обручен и надеялся жениться прежде, чем сойдет в могилу; и меж тем Глен его обяжет, если даст знать старому клерку, чтобы тот съехал.
Несмотря на то что сперва он был немало обескуражен этим письмом – ведь на самом деле его предложение, возможно, могло быть сделано просто из хвастовства, как это нередко бывает, и он вовсе не рассчитывал на такое решительное согласие, – кузен Пьера был слишком развитым светским молодым человеком, чтобы открыто взглянуть на дело не иначе, как взглядом друга, кузена, а также с юмором, но все же с практической стороны, что он ясно и дал понять в ответном послании, гораздо более искреннем и, несомненно, больше делающим честь и его уму, и сердцу, чем любое из тех писем, кои он написал Пьеру еще со времен их детства. И вот, благодаря обману и, в некотором роде, бесстыдству Пьера, этот молодой человек, весьма искушенный в притворстве, был хитростью вовлечен в настоящее доброе дело, будучи вынужден теперь сбросить маску пустого хвастовства и уверенно изобразить в своих чертах истинную сердечность. Так-то просто иные светские люди бывают втянуты случаем в настоящее доброе дело, в то время когда вся застенчивость и невозмутимость, все проклятия и торжественные молитвы терпят крах.
II
Но немного же мы поймем в особенностях отношений Пьера и Глена – отношений, кои в конце приведут к весьма серьезным последствиям, – не будь здесь рассказана полная неясностей предыстория их размолвки, что вытекала из другого и беспредельно двусмысленного обстоятельства, в коем растворяются все второстепенные, и таким образом возникает полная картина пронизанного двусмысленностями, единственного возможного объяснения для всех прочих малопонятных подробностей.
Пьер долгое время предполагал, что, не беря в расчет его собственное особое чувство к Люси, великосветский Глен не остался нечувствительным к ее удивительной красоте. Можно с уверенностью заявить, что его кузен никогда не сделал бы малейшей попытки предать его доверие; а что до Люси, то его же врожденная тактичность, коя никогда не позволила бы ему начать с ней разговор на эту тему, добровольно замыкала и ее уста. Тактичность между Пьером и Люси наложила священную печать на сундук, полный тайн; печать, коя была словно воск душеприказчика на ящиках письменного стола, что хоть и можно расплавить с помощью огня копеечной свечки, но, как бы там ни было, его все же надлежит уважать как запрет, обладающий силою несокрушимых засовов и запоров.
Если Пьер смутно представлял себе, как будет вести себя с ним Глен, в этом отношении он не мог найти никакой подходящий почвы для возникновения подозрений. Не улыбка ли зависти – столь щедро предлагать свой особняк невесте? Однако, с другой стороны, если отбросить мнимую простоту манер Глена да проникнуть под его парчовые облачения, то там Пьер иногда, казалось, видел тщательно скрываемую и все же кровоточащую рану отвергнутой любви, самой мучительной ненависти проигравшего соперника, кою только усиливали их прежняя дружба да чистое кровное родство меж ними. И тогда в свете сей капитальной догадки стали понятны все прочие странности в поведении Глена: его капризность в эпистолярном вопросе – «дорогие Пьеры» и «дражайшие Пьеры»; летучий переход от лихорадочного жара сердечности к равнодушию на точке замерзания, затем – к обратному повышению градуса до горячечного жара; и, сверх того, его экспрессивная избыточность в выражении своей преданности, столь же скороспелой, как и несомненная помолвка Пьера, коя, казалось, находилась на завершающем этапе, – это объясняло все те странности, кои теперь несомненно нашли свое прекрасное объяснение. Ибо чем глубже иных людей одолевает тайное и мучительное чувство, тем более лживый вид они на себя напускают. В таком случае дружеское поведение Глена должно оценивать в прямом соотношении с его скрытой ненавистью; и кульминационный момент этой ненависти проявился в подготовке своего дома для невесты. Но если ненависть была абстрактным мотивом, ненависть сама по себе не может быть непосредственной причиной, которой руководствовался Глен. Разве ненависть столь гостеприимна? Тогда непосредственный мотив Глена – сильное желание скрыть от широкой общественности факт, несказанно унизительный для его надменной, утопающей в золотых кружевах души, – тот факт, что в борьбе за исполнение глубочайшего желания его сердца Пьер одержал над ним столь блистательную победу. Столь хитроумным было поведение Гленовой ненависти, пламя коей Глен мудро приглушил в себе, сие поведение было слишком изворотливым, а посему оно внушило Пьеру первое подозрение, что, следуя этому же методу, его кузен так отчаянно тщился изобразить ему неправдоподобное. И вот мы видим, что отрицательная сторона скрытности любой сильной эмоции в том, что ее очень сложно долго держать в секрете от любого другого сердца любого человеческого существа, и что одно из самых бесполезных дел в мире – пытаться брать на себя великодушные обязательства и предлагать людям нечто, совершенно противоположное тем чувствам, кои обуревают вас. Поэтому истинная мудрость гласит, что, если вы испытываете какое-то чувство, кое вы жаждете скрыть от всех, будьте в таком случае квиетистом[132] и не говорите, не делайте ничего, что раскрыло бы вас. Ибо из всех неудачных способов этот – самый неудачный. Притязания и замены – удел новичков, только постигающих науку мира, науку его же собственной родины, где мой лорд Честерфилд – худший из возможных наставников. Самый ранний инстинкт ребенка и самый зрелый опыт прожитых лет объединяются в утверждении простоты, которая самая правдивое и сильнейшее качество человека. Будучи правилом человеческой жизни, эта простота глобальная и всеобъемлющая, и ей следует и самый ловкий подлец, и чистейший праведник, и мудрейший из людей – все следуют этому правилу и выполняют его тем боком, каким они поворачиваются в социальном отношении к нашему любопытному и беспринципному обществу.
III
В вопросе особняка ныне осталось лишь точное вышеупомянутое ожидаемое затруднение – осталось вплоть до времени великого жизненного переворота в душе Пьера: получения им послания Изабелл. И хотя в действительности Пьер просто не мог естественным образом до сих пор колебаться в отношении принятия выгоды от проживания в тех совершенно иных обстоятельствах, в коих он оказался, и хотя поначалу сильнейшие из возможных, внезапные возражения на почве личной независимости, гордости и общего пренебрежения, все это громко зароптало в его душе при подобном решении, все же наконец тот же бесстыдный инстинкт самосохранения, побуждающий ко всему приспосабливаться, который вынудил его на первоначальное согласие, напомнил ему в конце концов, что оно осталось неотмененным. Это разом избавило его от всех прямых забот о ночлеге и хлебе насущном и таким образом предоставляло ему кров на неопределенный срок, давало ему возможность подыскать что-нибудь получше и поразмыслить, как можно сделать все, что только было в его силах, для дальнейшего постоянного благополучия тех, кого вверила ему судьба.
Это может показаться безотносительным с тем великим большим переворотом, дошедшим до глубин его существа, в результате коего он претерпел необыкновенные испытания, кои все разом навалились на него после; и мысли, вызванные этим душевным перерождением, негодующе нашептывали ему, что в самом деле мир, должно быть, по сути жалок, если допускает, что предложение, напрасно принятое в дни богатства и щедрости, следует теперь отвергнуть – теперь, когда в нем крайняя нужда. И без всяких раздумий о какой-либо странности в благожелательной разумности своего кузена он ни на мгновение не задался вопросом, что, учитывая изменившееся положение дел, Глен будет по меньшей мере притворяться с большей охотой, что рад принимать его в своем доме, теперь, когда сама простая явная любезность стала чем-то сродни настоящей неотложной необходимости. Когда вслед за тем Пьер вспомнил о том, что взволнован не только он один, но также два особенно беспомощных дружественных создания, одна из которых с самого начала была связана с ним самыми священными узами, а другая после вдохновила его на чувство, что превосходило все ему подобные в своем причудливом и мистическом значении во всей мировой истории, – вот какие рассуждения целиком уничтожили в Пьере все остатки велений его неясной гордости и мнимой независимости, если таковые и в самом деле у него когда-то были.
Несмотря на то что за время, прошедшее между тем днем, когда он принял решение уехать в город вместе со своими компаньонками, и днем его отъезда в карете, он не успел получить никакого ответа от кузена, и хотя Пьер больше знал, чем ожидал его, все же он послал ему предуведомляющее письмо и не сомневался, что этот поступок в конце концов докажет свое благоразумие.
В тех, кто обладает природной решительностью, как бы молоды и неопытны в таких вещах они ни были, все большие неожиданные критические ситуации, кои просто ставят в тупик слабых и робких, в них же пробуждают всю их великодушную скрытность и учат их, как с помощью воодушевления выработать исключительные правила поведения, проявления коих в других людях – лишь результат долгой, богатой на разные испытания да трудности жизни. Одно из этих правил гласит, что когда по какой бы то ни было причине мы вдруг переходим из достатка в нужду или от чистой репутации – к запятнанной, то незамедлительно становится необходимостью не противоречить никому – по меньшей мере в зависимости от того, как далеко заходит обвинение, – из тех, кто прежде организовывал на высоком уровне обычную заботу о нас и у коих мы выпрашиваем какие-то весомые, жизненно важные одолжения, ибо они просто высмеют нас, вздумай мы пускаться во все разъяснения или оправдываться, а потому проворство, смелость, показное бесстрашие и вызывающее неповиновение должны отмечать каждый слог, который мы выдыхаем, и звучать в каждой строке, которую мы пишем.
В своем предуведомляющем письме к Глену Пьер сразу переходил к самой сути дела, и, возможно, это было кратчайшее из всех писем, кое он написал ему. Хотя, несомненно, такие оценки – неизменные истолкования главенствующего настроения или нрава человека в целом (поскольку или занемевший палец, или дурное перо, или скверные чернила, или дрянная бумага, или расшатанный стол могут вызвать всякого рода изменения в тексте), однако в нашем случае почерку Пьера просто пришлось подтвердить и подкрепить сам дух его сообщения. На большом листе бумаги слова были написаны размашистыми и торопливыми строчками, не больше шести – восьми строк на странице. И, словно ливрейный лакей высокомерного посетителя – какого-нибудь графа или герцога, – который объявляет о появлении своего господина оглушительным стуком в дверь, в такой манере и Пьер обратился к Глену, своим размашистым, решительным и небрежным почерком давая понять, какого сорта человек стоит у дверей.
В момент сильного переживания удивительная краткость нисходит на язык и перо; и те выражения, кои приходят на ум в это время, – отчетливо опасные и быстрые, как непрерывно стреляющие пушки, кои в какой-то другой, спокойный или невозмутимый, час требуют значительного времени и сил на выражение в словах.
Не здесь, не сейчас узнаем мы точное содержание письма Пьера, чтобы избежать повторения, кое сослужило бы плохую службу уже озвученным идеям. И несмотря на то что угроза повтора – истинная продолжительная пытка для иных серьезных умов, и, несомненно, это их слабость, и хотя ни один мудрец не станет дивиться на честного Вергилия, на смертном одре желающего сжечь свою «Энеиду», словно чудовищную кучу негодного хлама, все-таки немало ужасных тавтологий порою проскальзывает в речи сих завидных болванов, коих предубежденный Господь благословил, из всех прочих, неистощимым внутренним богатством тщеславия, и глупости, и слепого самодовольства.
Некие слухи о разрыве его помолвки с Люси Тартан, о его уже свершившейся женитьбе на бедной и одинокой сироте, о том, что в итоге его мать отказалась от него из-за всех этих событий, – такие слухи, писал Пьер своему кузену, будут, весьма вероятно, в гостиных его городской родни и друзей предшествовать его появлению в городе. Но он не намекнул ни словом о каком-либо возможном комментарии по поводу этих сплетен. Он просто-напросто, продолжая, писал, что теперь, хотя его жизненная фортуна – что была столь же общеизвестно изменчива, как военная, – была такова, что он в настоящий момент целиком зависит от своих собственных средств на жизнь, кои заработает для обоих – и для себя, и для своей жены, – а также для того, чтобы ненадолго поддержать девушку, кою он взял под свою опеку по самой благоприятной причине. Он собирался навсегда обосноваться в городе – не без неких, почти решенных планов о создании себе достаточного заработка, не пытаясь обратиться тайком ни к кому из их богатой и многочисленной семьи. Тот особняк, в коем Глен столь любезно предлагал ему прежде временно поселиться, будет для него теперь вдвойне и втройне желанным пристанищем. Но заранее нанятые слуги, и старинный фарфор, и старинное серебро, и выдержанные вина, и мокко теперь стали совершенно необязательными. Пьер просто займет место – совсем ненадолго – почтенного старого клерка и так надолго, насколько Глен в этом заинтересован, будет просто присматривать за особняком – до тех пор, пока его собственные планы не примут окончательную форму. Его кузен первоначально сделал свое предложение, самое щедрое из всех, приветствуя приезд предполагаемой молодой жены Пьера; и хотя другая леди заняла ее место у алтаря, все же Пьер выражает надежду, что предложение Глена по своей сути не было обращено только к одной определенной особе и сохраняет свою актуальность для любой юной леди, коя ответила согласием на предложение руки и сердца Пьера.
Поскольку единого узаконенного мнения в таком деле не существовало, Глен из расплывчатых пустых слухов не сможет судить, была ли настоящая миссис Глендиннинг столь подходящей партией для Пьера, как то неисчислимое множество других молодых леди, кои, возможно, подходили ему, по его мнению, – как бы там ни было, Глен увидит, что она готова заплатить ему искренней сестринской заботой и вниманием. В заключение Пьер писал, что он его и компаньонки выезжают немедленно и, вероятнее всего, прибудут в город через сорок восемь часов после получения им сего письма. Поэтому он умолял Глена убедиться, что в особняке все необходимое находится в полном порядке к их прибытию, что комнаты проветрены и отоплены, а также предупрежден достойный клерк о том, чего должен вскоре ожидать. Наконец, без каких-либо пестрых продолжений как «твой, искренне и сердечно, мой дорогой кузен Глен», он завершил письмо резкой и одинокой подписью «ПЬЕР».
Глава XVI ПЕРВАЯ НОЧЬ ИХ ПРИБЫТИЯ В ГОРОД
I
Ночь застала их карету в пути.
Сельская дорога, по коей они ехали, вливалась в город, становясь замечательно широкой и извилистой улицей, большой оживленной артерией города для его малоимущих жителей. Безлунную ночь освещало всего несколько звезд. Это был тот час, когда ночь вступает в свои права, когда магазины уже закрываются на ночь и спина почти каждого прохожего, который попадает под неровный свет, льющийся из окон, говорит только о спешке, но не по делам, а домой. Хоть улица и была извилистой, никакой дорожный мусор не представлял из себя большой преграды на всем ее долгом и величавом протяжении; так что когда карета забралась на вершину длинного и очень ровного склона, который спускался по направлению к смутно видневшемуся центру города да открывавшемуся виду двух долгих параллельных цепочек мерцающих фонарей – фонарей, кои, казалось, были призваны не столько рассеять царящую мглу, как указать некую неясную тропу, ведущую через нее в какой-то более густой мрак, который царил за их пределами, – когда карета преодолела этот критический подъем, весь огромный трехгранный город на одно мгновение, казалось, смутно и печально открылся глазу.
И теперь, перед спуском со склона, мало-помалу уходящего под откос, проезжая по его вершине, путешественники в карете, благодаря невыразимо-сильной болезненной тряске да тяжеловесной, трясущейся манере езды, вдруг ощутили некую важную перемену в характере дороги. Казалось, карету подбрасывает на ухабах размером с пушечные ядра всех мастей. Схватив Пьера за руку, Изабелл пылко и мрачно потребовала назвать причину, по которой произошла такая непонятнейшая и неприятнейшая перемена.
– Мостовая, Изабелл, мы въехали в город.
Изабелл хранила молчание.
Но впервые за много недель Дэлли по доброй воле заговорила:
– Ощущения совсем не такие приятные, как от езды по луговым травам, мастер Пьер.
– Нет, мисс Ульвер, – сказал Пьер с нескрываемой горечью, – возможно, это мертвые сердца каких-нибудь похороненных горожан, что нынче выплыли на поверхность.
– Сэр? – переспросила Дэлли.
– Неужели люди здесь столь жестоки? – воскликнула Изабелл.
– Спроси у вот этой мостовой, Изабелл. Молоко, разлитое из бидона молочника в декабре, не замерзает быстрее среди этого камня, чем белоснежная невинность, если она бедна, коя имеет все шансы пасть на этих улицах.
– Тогда пусть Господь сжалится над моей тягостной участью, – всхлипнула Дэлли. – Зачем же вы привезли сюда такую бедную изгнанницу, как я?
– Простите меня, мисс Ульвер, – вскричал Пьер со внезапной теплотой и все же ясно проглядывающим уважением. – Простите мне, никогда прежде не въезжал я в город под покровом ночи, и каким-то образом сие вызвало у меня и горечь, и грусть. Ну же, взбодритесь, мы совсем скоро поселимся в уютном особняке и как следует отдохнем; старый клерк, о коем я вам говорил, теперь, без сомнения, уныло созерцает свою шляпу на каком-то колышке. Давай же приободрись, Изабелл, это было долгое путешествие, но мы наконец-то здесь. Ну же! Осталось совсем немного.
– Я слышу странное шарканье и громыхание, – сказала Дэлли, вздрагивая.
– Кажется, повсюду постепенно гаснут огни, – заметила Изабелл.
– Да, – ответил Пьер, – магазины закрываются ставнями, двери и окна запирают на замки, засовы и задвижки – жители города готовятся ко сну.
– Даруй им Господь спокойный отдых! – вздохнула Дэлли.
– Они запираются на все замки и засовы, но обретают ли они покой, Пьер? – спросила Изабелл.
– Да, а вы обе думаете о том, что сие не сулит вам того радушного приема, который я вам обещал.
– Ты читаешь в моем сердце – я об этом и думала. Но куда ведут эти длинные, узкие, унылые, мрачные провалы, мимо которых мы проезжаем здесь и там? Что они такое? Они кажутся ужасно безжизненными. Я едва ли кого-то в них вижу, а, вот и еще один. Посмотри, какими изнуренными кажутся в них лежащие крест-накрест, далеко разобщенные друг от друга огни ламп. Что это за мрачные провалы, дорогой Пьер, куда они ведут?
– Это узкие переулки, милая Изабелл, большой дороги Ороноко[133], по которой мы сейчас едем; и, как притоки настоящей реки, они текут из далеких-далеких земель, стремятся из-под темных тайников из извести и камня, сквозь густые луга злодеяний и мимо множества искусственно высаженных сучковатых деревьев, на чьих ветвях ветер качает висельников отверженных.
– Я не знаю ни о чем подобном, Пьер. Но мне не нравится город. Как ты думаешь, Пьер, настанет ли когда-нибудь время, когда всю землю вымостят?
– Благодарение Господу, никогда не настанет!
– Эти молчаливые темные провалы ужасны – смотри! Мне кажется, ни за какие сокровища в мире я бы не свернула ни в один из них.
В этот момент левое переднее колесо под днищем кареты резко скрежетнуло.
– Мужайтесь! – закричал Пьер. – Мы на месте! Мы здесь больше не одни, правда: нам навстречу идет путешественник.
– Чу, что это такое? – спросила Дэлли. – Тот резкий звук ножа, скрежещущего по железу? Мы его только что слышали.
– Острый путешественник, – сказал Пьер. – У него стальные пластины на ботинках – какой-нибудь мягкосердечный старший сын, я полагаю.
– Пьер, – сказала Изабелл, – эта тишина неестественна, она пугающая. Леса никогда не бывают столь тихими.
– Видишь ли, камень и известка хранят более глубокие секреты, чем лес или холм, милая Изабелл. Но здесь мы снова поворачиваем; теперь, если я правильно угадываю, еще два поворота, и мы у нужных дверей. Мужайтесь, все будет хорошо; без сомнения, Глен приготовил нам славный ужин. Мужайся, Изабелл. Ну же, будет ли это чай или кофе? Немного хлеба или хрустящие гренки? У нас также будут яйца и, вероятно, холодная курица. – Затем Пьер пробормотал про себя: – Надеюсь, не это все же; к черту все холодные сопоставления! И так слишком много холода в этих мощеных камнях, положенных здесь для утоления голода отощавших нищих. Нет. Я не хочу холодной курицы. – И затем он продолжил вслух: – Но вот мы опять поворачиваем; да, все так, как я думал. Эй, возница! – высовывая голову в окно, – направо! Направо! Он должен быть справа! Первый дом, в котором будут гореть огни, справа!
– Ни одного огонька не видать в окнах, везде светят одни уличные фонари, – отвечал угрюмый голос возницы.
– Тупица! Он проехал его… да, да, умудрился! Но! Но! Стоять; поворачивай назад. Ты проезжал освещенные окна?
– Нигде ни огня, кроме фонарей, – был грубый ответ. – Какой номер дома? Номер? Я не собираюсь колесить по округе всю ночь! Номер дома, спрашиваю вас!
– Я его не знаю, – ответил Пьер. – Но я очень хорошо знаю дом; ты, должно быть, проехал его, повторяю. Ты должен повернуть назад. Ты, конечно, проезжал мимо освещенных окон?
– Тогда, значит, лампы перегорели дотла, нет тут никаких освещенных окон на всей улице; я знаком с городом, старые девы живут туточки, и они все уже давно в постелях; дальше идут одни склады.
– Остановишь ты карету или нет? – закричал Пьер, разгневанный на то, что возница продолжал угрюмо ехать дальше.
– Я подчиняюсь приказам: первый дом, в котором будет гореть свет, и, согласно моим подсчетам, если полагать, что я ничего не знаю о городе, где родился и прожил всю свою жизнь, – нет, но я ж ничего в нем не знаю, – согласно моим подсчетам, первые освещенные окна здесь, на этой улице, будет сторожка караульного… ага, вот и она, прекрасно! Дешевое же пристанище вы себе приискали – и платить за него не надо, и еды там навалом.
Для некоторых характеров, особенно когда их предварительно взволновало какое-то глубокое переживание, пожалуй, нет ничего несноснее, чем грубое, глумливое нахальство привратника, извозчика или наемного кучера – нахальства, кое вскоре торжествует над всяким самообладанием. Проводники и перевозчики худших городских низостей, каковыми большинство из них выступает, в силу своей профессии знакомые со всеми заброшенными убежищами, в самом сердце мучения они занимаются одной из самых торгашеских из всех бесчестных профессий. Лениво дремлющие на козлах своих экипажей и бездельничающие днем, они, словно кошки, становятся зрячими и бессонными в ночной тьме, чувствуют себя как дома на полуночных улицах и пасуют только перед низкими взломщиками, распутниками и развратниками; они часто состоят в лиге активных пособников самых злачных трущоб, так что они равно зорки, и подозревают каждого пассажира, коего они посадили в сумерках, в том, что он распутник или мошенник; это отвратительное племя огров и лодочников Харонов, кои служат взяточничеству и смерти, естественным образом питают кальвинистические взгляды на человечность самого практического свойства и любого человека из низов они держат за подходящую мишень для грубейшего сквернословия и насмешки, и только дорогие пальто да полные карманы денег способны заставить таких шелудивых псов быть любезными. Малейшее нетерпение, любое проявление вспыльчивости, любое острое слово протеста от пассажира в изношенном пальто или любой другой предательский знак нищеты, каким бы мгновенным и косвенным он ни был (ибо в отношении денег они самые проницательные и безошибочные из всех человеческих судей), в таком случае почти наверное соблазнит их на самую несносную насмешку.
Возможно, бессознательные мысли об извозчике, подобные этим, побудили крайне раздраженного Пьера совершить поступок, от которого в добрый час благоразумие удержало бы его.
Он не видел того света, к которому ехал извозчик, и был невнимателен в его внезапном порыве гнева, что кучер ехал вниз, чтобы приблизиться к освещенным окнам. Прежде чем Изабелл успела остановить его, он распахнул дверь и выскочил на тротуар, прыгнул перед лошадьми и жестоко повернул головы двух передних лошадей назад. Извозчик поднял свой длинный извивающийся кнут, при помощи коего он управлял четверкой, и с градом проклятий уже собирался со всей мочи хлестнуть им Пьера, когда его руку поймал полисмен, который вдруг как из-под земли выскочил у остановившегося экипажа да приказал извозчику уняться.
– Говорите! Что за проблемы здесь? Спокойствие, леди, ничего серьезного не произошло. Говорите, вы!
– Пьер! Пьер! – кричала встревоженная Изабелл.
В одно мгновение Пьер оказался рядом с ней у окна и теперь, повернувшись к офицеру полиции, объяснял ему, что возница нарочно проехал тот дом, у которого ему было приказано остановиться.
– В таком случае он честь честью довезет вас туда, сэр, и срок доставки будет также вдвое короче; ты меня слышал? Я вас, мерзавцев, прекрасно знаю. А ну-ка поворачивай ты, достопочтенный, и вези джентльмена, куда он тебе приказывает.
Струсивший извозчик завел длинную песню обвиняющих объяснений, в то время как полисмен, отвернувшись к Пьеру, спокойно приказывал ему развернуть карету; он желал убедиться своими глазами, что они благополучно прибудут к месту назначения, и поэтому, усевшись рядом с кучером на козлах, потребовал у того назвать номер дома, который дал ему джентльмен.
– Не знает он никаких номеров – разве я не сказывал, что он не знает? – вот что меня взбесило!
– Умолкни, – сказал ему полисмен. – Сэр, – он повернулся к Пьеру, – куда вы хотите доехать?
– Я не знаю номера дома, но тут есть дом на этой улице, мы его проезжали, это, сдается мне, четвертый или пятый дом по эту сторону, у последнего перекрестка, где мы поворачивали. В нем обязательно должен гореть свет. Это небольшой старинный особняк с каменными львиными головами над окнами. Но заставьте его развернуться и ехать медленнее, и я вскоре укажу вам на него.
– Не вижу в темноте никаких львов, – прорычал возница. – Львы! Ха! Ха! Уж скорее ослы!
– Слушай, ты, – сказал ему офицер, – я упрячу тебя на эту ночь за решетку, достопочтенный, если ты не попридержишь язык. Сэр, – прибавил он, обращаясь к Пьеру, – я уверен, здесь какая-то ошибка. Я превосходно знаю тот дом, о котором вы говорите. Я проходил мимо полчаса назад; окна такие же темные, как и всегда. Никто там не живет, думаю; я никогда не видел, чтобы они были освещены. Вы уверены, что не заблуждаетесь, а?
Пьер молчал, находясь во власти недоумения и дурного предчувствия. Возможно ли, чтобы Глен намеренно полностью проигнорировал его письмо? Нет, невозможно. Но оно могло просто еще не оказаться в его руках: почта иногда запаздывает. Тогда, опять же, не было несомненным то, что дом не был приготовлен для них, в конце концов, даже если внешне не подавал никаких признаков жизни. Но это было невероятно. Однако извозчик возражал, что его четверка лошадей и громоздкая карета не смогут развернуться назад на этой улице и что если уж ему и надо ехать назад, то сделать это можно, только продолжая ехать вперед и, обогнув квартал, вернуться на нужную улицу; и таким манером извозчик, казалось, нашел отчасти оправдание своей грубости; и так как Пьеру стал совершенно противен этот негодяй, то он, не желая подвергать себя такому риску, принял внезапное решение.
– Я очень вам обязан, дорогой друг, – сказал он офицеру, – за вашу своевременную помощь. Честно говоря, то, что вы рассказали мне, заставило меня не на шутку усомниться в том доме, где я намерен был остановиться. Нет ли здесь неподалеку какой-то гостиницы, где бы я мог оставить этих леди, пока не найду своего друга?
Привычный ко всякого рода обманам и занятый в профессии, коя неизбежно делает человека недоверчивым к простым мыслям, какими бы благовидными, какими бы честными они ни были, добряк офицер принялся изучать взглядом Пьера с явным сомнением и самой неприятной внимательностью, и он опустил в обращении «сэр», и его тон существенно изменился, когда он ответил:
– Здесь поблизости нет ни одной гостиницы – слишком далеко от главных улиц.
– Во! Во! – закричал извозчик, снова обретая всю свою храбрость. – Хоть вы и офицер, но я-то, как-никак, житель города! У вас больше нет никакого права держать меня на холодной улице. Он сам не знает, куда хочет доехать, потому что у него вовсе нет места, куда ехать, так что я просто высажу их здесь, и вы меня не остановите.
– Не будь таким нетерпеливым, – сказал офицер уже не столь уверенно, как раньше.
– Однако и у меня есть мои права, говорю тебе! Отпусти мою руку, к черту проваливай из моей кареты – теперь закон на моей стороне! Сказал же я, мистер, проваливай, вот твое барахло. – И с этими словами извозчик выбросил на тротуар перед Пьером легкий дорожный сундук.
– Не смей сквернословить, ты, – осадил его офицер, – и не действуй в такой великой спешке. – Затем, обращаясь к Пьеру, который снова вылез из кареты, он сказал: – Что ж, это не может так продолжаться; что вы намерены делать?
– Я не собираюсь ехать дальше с этим типом в любом случае, – сказал Пьер. – Остановлюсь прямо здесь для начала.
– Хе! Хе! – захохотал возница. – Хе! Хе! До чего же славно, до чего удобно!.. Мы остановимся прямо здесь, мы останемся здесь… остановимся прямо тут, у сторожки!.. Хе! Хе! Смеху-то сколько!
– Тогда достань оставшийся багаж, извозчик, – распорядился офицер. – Вынь вон тот маленький дорожный сундук и езжай прочь, только не несись как угорелый.
В продолжение всей этой сцены Дэлли сохраняла полное молчание, дрожала в простодушной тревоге, в то время как Изабелл своими случайными криками, обращенными к Пьеру, тщетно молила о каком-то объяснении. Но хотя их полное незнание городской жизни было причиной того, что обе спутницы Пьера наблюдали, как дело зашло так далеко, с чрезмерным трепетом, все же теперь, когда в ночной темноте в самом сердце незнакомого города Пьер подал им руку, помогая выйти из кареты на улицу, в никуда, и они увидели свои вещи выброшенными на землю совсем близко от огней сторожки, то же самое невежество в некоей мере оказало на них свое воздействие, ибо они почти не имели представления о том, с какими тяжелыми и отчаянными обстоятельствами они впервые соприкоснулись на городской мостовой.
Когда карета загромыхала прочь и, свернув за угол, канула в непроглядную тьму, Пьер заговорил с офицером:
– Это скорее странная случайность, признаюсь, друг мой, но порою случаются странные происшествия.
– Даже в самых благородных семьях, – протянул офицер, с долей иронии в голосе.
«Я не должен ссориться с ним», – подумал Пьер про себя, уязвленный тоном, который с ним взял полисмен. Затем сказал:
– Есть ли у вас сейчас какое-нибудь… занятие?
– Никакого, пока что еще недостаточно стемнело.
– Будете ли вы тогда столь добры, чтобы найти для этих леди какое-то пристанище ненадолго, пока я не потороплюсь найти для них что-то более подходящее? Указывайте дорогу, если позволите.
Казалось, офицер поколебался на мгновение, но наконец молча согласился; и вскоре они подошли к светлому дверному проему и вошли в большую, простую комнату самого неприглядного вида, с потертыми деревянными скамьями и койками, кои тянулись вдоль стен, и их ряд заканчивался у письменного стола, что притулился в углу. Постоянный надзиратель караулки спокойно читал газету при свете центральной длинной, похожей на два крыла летучей мыши газовой лампы; и три офицера, кои отдыхали от исполнения своих обязанностей, клевали носом, сидя на деревянной скамье.
– Не самая роскошная обстановка, – сказал полисмен спокойно, – не самая избранная компания, но мы постараемся быть вежливыми. Присаживайтесь, леди. – Он учтиво пододвинул для них небольшую скамейку.
– Привет, друзья мои, – сказал Пьер, подходя к троим дремлющим офицерам и тряся их за плечи. – Привет, говорю! Окажете мне небольшое одолжение? Поможете мне занести внутрь несколько дорожных сундуков с улицы? Я отблагодарю вас за беспокойство и буду вам бесконечно признателен.
Трое дремлющих полисменов, разбуженных разом, вдруг раскрыли глаза да недовольно уставились на него; однако, под влиянием первого офицера, в свете лампы, напоминающей крылья летучей мыши, перенесли в комнату сундуки, что их попросили.
Пьер поспешно присел рядом с Изабелл и в нескольких словах объяснил ей, что она находится в самом защищенном месте, каким бы недружелюбным оно ни выглядело, что офицеры смогут позаботиться о ней, пока он с величайшей поспешностью отыщет дом и непременно разузнает, как с ним обстоят дела. Он надеялся вернуться назад не позже чем через десять минут, и с хорошими известиями. Объяснив свои намерения первому офицеру и упросив его не покидать девушек, пока он не вернется, он тотчас же выбежал на улицу. Он быстро пришел к тому самому дому и сразу же узнал его. Но особняк был полностью тих и погружен во тьму. Он позвонил в дверной колокольчик, но никто не отозвался, и подождал довольно долго, чтобы совершенно убедиться в том, что дом или в самом деле заброшен, или же что старый клерк спал беспробудным сном, а быть может, отсутствовал; однако же, убедившись, что ни малейшего приготовления не было сделано к их приезду, Пьер, жестоко разочарованный, вернулся к Изабелл с этими неприятнейшими сведениями.
Но необходимо было что-то предпринять, и быстро. Повернувшись к одному из офицеров, он стал умолять его пойти поискать наемный экипаж, который отвез бы их в какую-то приличную гостиницу. Но офицер, так же как и его сослуживцы, отказался от этого поручения, поскольку в их районе патрулирования не было ни одной остановки для наемных экипажей, а они не могли покинуть свой пост. Пьер должен был идти сам. Ему совершенно не нравилось то, что ему опять приходится покидать Изабелл и Дэлли, тем более что теперь его отсутствие могло затянуться на неопределенный срок. Но другого выхода не было, и время сильно поджимало. Он объяснил все это Изабелл, и, снова попросив офицера о прежнем одолжении да пообещав, что не оставит его без воздаяния, Пьер вновь вышел на улицу. Он посмотрел по сторонам и прислушался, но ни единого звука приближающегося экипажа не было слышно. Он бросился бежать, и после первого поворота он торопливым шагом направился в сторону самой большой центральной улицы города, в полной уверенности, что только там, если это вообще где-нибудь возможно, он найдет то, что хочет. Пьер уже отошел на некоторое расстояние от спального района и лелеял надежду, что встретит пустой наемный экипаж. Но те несколько, кои ему встретились, отказывались назвать четкую стоимость проезда. Он продолжил свой путь и наконец вышел на главную улицу. Непривычный к таким пейзажам, Пьер на миг замер в удивлении, ведь всего минуту назад, когда он вышел из узкого, темного, погруженного в мертвое молчание переулка, на него вдруг накатил девятый вал неумолчного шума и гама и ослепительный блеск ночной жизни главной улицы большого города, на которой весь день царят теснота и давка, и даже теперь, в этот поздний час, она ярко освещена огнями ночных вывесок и гудит от множества проезжающих экипажей и идущих людей.
II
– Эй, красавчик! Эй! Эй! Юноша! О, прекрасный, кажется, ты в большой спешке, не так ли? Не можешь ли остановиться на минутку, дорогой? Сделай милость, ты такой хорошенький!
Пьер обернулся; и в неверном мрачном скверном свете, падающем из решетчатого окна аптеки, он разглядел удивительно красивую девушку, с ярким румянцем и вызывающе одетую; она обладала чарующей природной грацией, но была неестественно оживленной. Впрочем, ее фигуру освещали ужасные неестественные зеленые и желтые огни аптечной вывески.
– Мой Бог, – содрогнулся Пьер, спеша прочь, – вот так первое приветствие от большого города к молодости!
Он пересекал улицу, направляясь к ряду наемных экипажей, кои стояли на обочине, когда ему в глаза бросилось краткое позолоченное имя, кое скромно по-аристократически поблескивало на табличке большого и очень красивого особняка, второй этаж коего был ярко освещен. Он посмотрел внимательнее и убедился, что это дом Глена. Повинуясь внезапному порыву, он шагнул к двери и дернул шнурок колокольчика, и почти сразу ему отворил очень вежливый слуга-негр.
Когда дверь открылась, он услышал доносящиеся изнутри отдаленные звуки танцевальной музыки и веселящегося общества.
– Мистер Стэнли дома?
– Мистер Стэнли? Да, но он занят.
– Чем?
– Он в одной из гостиных. Моя хозяйка устроила вечеринку для жильцов.
– Вот как? Будь так добр, передай мистеру Стэнли, чтобы он вышел ко мне на минуту, только на одну минуту.
– Я не смею беспокоить его, сэр. Он сказал, что, возможно, кто-нибудь будет спрашивать его этим вечером – почитай, каждый вечер кто-то приходит и спрашивает мистера Стэнли, – но я обязан отказывать всем под предлогом вечеринки.
Мрачное и горькое подозрение возникло у Пьера, и, безрассудно поддаваясь ему и решившись проверить немедля, истинное ли оно или ложное, он сказал черному слуге:
– Мое дело не терпит отлагательств. Я должен увидеть мистера Стэнли.
– Сожалею, сэр, но приказ есть приказ… я его личный слуга в этом доме, я тот, кто чистит его столовое серебро каждые выходные. Я не смею его ослушаться. Могу я закрыть дверь, сэр? Ибо, как видите, я не могу вас пустить.
– Гостиные на втором этаже, не так ли? – сказал Пьер спокойно.
– Да, – ответил черный слуга с некоторой запинкой, удивленный, удерживая дверь открытой.
– А вон в ту сторону идут жилые комнаты, думаю?
– Да, они в той стороне, но вам туда путь заказан. – И бдительный черный слуга уже готов был грубо захлопнуть дверь перед его носом, когда Пьер оттолкнул его в сторону и, взлетев вверх по ступеням на второй этаж, очутился перед открытой дверью, откуда продолжал доноситься рев, состоящий из шума и мелодии, который вдвойне искажался той музыкой, которая играла на улице. Но, сразу же почувствовав смущение и замешательство, он немедленно вступил в комнату и предстал перед удивленным обществом – в своей нелепой шляпе, кою он, входя, так и не снял, да весь в дорожной пыли и помятый, но с видом мрачного упорства.
– Мистер Стэнли! Где мистер Стэнли? – воззвал он, вступив в самую гущу испуганной кадрили, в то время как музыка внезапно смолкла и глаза всех присутствующих следили за ним с неясным страхом.
– Мистер Стэнли! Мистер Стэнли! – отозвалось несколько резких голосов в дальнем конце самой дальней из всех гостиных, в первую из которых дверь была широко распахнута, – К вам тут гость самого необычного сорта, вот дьявол! Кто он такой?
– Думаю, я вижу его, – отвечал удивительно невозмутимый, ясный голос, немного растягивая слова, серебристый и в глубине, возможно, очень решительный. – Я думаю, я вижу; отодвиньтесь в сторону, друзья мои, прошу вас… леди, в сторону, в сторону… дайте мне пройти к вон той шляпе.
Толпа, коей были адресованы эти слова, благовоспитанно разошлась в стороны, открывая взгляду приближающегося Пьера высокую, крепкую фигуру поразительно красивого молодого человека с темной бородой, одетого удивительно просто, даже скромно для такого случая; и сия простота в одежде не бросалась в глаза сразу, поскольку материя была очень хороша и костюм превосходно сшит. Он с беззаботным видом праздно сидел вполоборота на большой софе, и, похоже, его только что прервали в середине очень приятной беседы с миниатюрной, но живой брюнеткой, коя сидела на той же софе с ним рядом. Денди – и при этом мужчина, сила – и изнеженность; мужество и томность образовывали столь странную смесь в этом молодом человеке с чудными глазами, что на первый взгляд, казалось, невозможно было решить, есть ли у него настоящий характер или нет.
Годы протекли с тех пор, как кузены в последний раз виделись, и притом необыкновенно важные годы, в течение коих происходят самые сильные изменения во внешности человека. Однако глаза человека редко меняются. В то мгновение, как их глаза встретились, они сразу же узнали друг друга. Память не подвела ни того, ни другого.
– Глен! – закричал Пьер и остановился в нескольких шагах от него.
Но молодой человек с чудесными глазами только глубже уселся на софе, медленно извлек из кармана пиджака маленький, скромный монокль без цепочки и спокойно приложил его к глазу, но все же сделал это не совсем оскорбительно, невзирая на обстоятельства, да чрез него внимательно изучил взглядом Пьера. Затем, спрятав монокль, он медленно повернулся к джентльменам, кои стояли поодаль, и сказал тем же невозмутимым, неоднозначным и музыкальным голосом, как и прежде:
– Я его не знаю, это полная ошибка; почему бы слугам не вышибить его вон и музыке не заиграть снова?.. Как я и говорил, мисс Клара, скульптуры, которые вы видели в Лувре, не нужно путать со статуями Флоренции и Рима. Видите ли, тот хваленый шедевр, Гладиатор Боргезе[134] в Лувре…
– Какой еще Гладиатор Боргезе! – вне себя крикнул Пьер, прыгнув к нему, как Спартак[135].
Но его дикий порыв сдержали испуганные крики дам и угрожающие движения окружающих. Едва он замер на месте, несколько джентльменов попытались скрутить ему руки, но, расшвыряв их в стороны в бешенстве, Пьер на минуту остался в одиночестве, и, распрямив плечи, упершись взглядом в своего кузена, который продолжал сидеть, откинувшись на софу и не делая ни малейших движений, он выкрикнул:
– Глендиннинг Стэнли, ты отрекаешься от Пьера не с такою ненавистью, с какою Пьер отрекается от тебя. Клянусь Небесами, Глен, будь у меня нож, я бы тебя продырявил да выпустил наружу всю твою глендиннинговскую кровь, а после зашил бы рану в твоих подлых останках. Негодяй, грязное пятно на теле всего человечества!
– Это переходит все границы – вот так смесь обмана и сумасшествия! Но где же слуги? Почему черные не появились? Выведи его вон, мой добрый Док, выведи его прочь. Осторожно, осторожно! Стой, – кузен засунул руку Пьера в карман последнего, – вот так, держи его так и выведи бедного парня куда-нибудь отсюда.
Затаив свою ярость, коя при любом развитии событий не могла найти удовлетворения в таком месте, Пьер развернулся, молнией пронесся вниз и выбежал из дома.
III
– Карету, сэр? Карету, сэр? Карету, сэр?
– Кеб, сэр? Кеб, сэр? Кеб, сэр?
– Сюда, сэр! Сюда, сэр! Сюда, сэр!
– Он пройдоха! Не к нему! Он – пройдоха!
Пьера окружила толпа конкурирующих между собой кебменов, все они сжимали в руках длинные кнуты; другие же в это время оживленно кивали ему с облучков, где они восседали на возвышении, освещенные с двух сторон фонарями кареты, словно потрепанные, отверженные святые. Лес кнутовищ сгустился вокруг бедняги, и звуки нескольких свистящих ударов хлыстами донеслись до его слуха. Для Пьера, только что пережившего такое бешеное столкновение с презрением Глена в его великолепной гостиной, это неожиданное буйство вокруг него кнутов, кои то и дело пускались в ход, было как нападение жаждущих мести варваров на Ореста[136]. И, вырвавшись из толпы, он схватился за первую же металлическую ручку каретной дверцы, какую увидел, и, нырнув в экипаж, прокричал кебмену, не придавая значения тому, каков его возница, чтобы он выехал из давки и довез его по адресу, который ему скажут.
Экипаж проехал немного по главной улице, затем остановился, и извозчик потребовал: куда теперь? Какой адрес?
– Караульная будка на ***** Ярд! – прокричал Пьер.
– Хи! Хи! Едет, чтобы самому отдаться им в лапы, ха! – сказал про себя возница и осклабился. – Что ж, это вроде как по-честному… прочь, вы, псы!.. кыш! долой! Вон!.. проваливайте!
Зрелище и шум, кои открылись Пьеру, когда он вернулся в караульный участок, наполнили его несказанным ужасом и яростью. Приличный прежде, дремлющий дом ныне ощутимо вонял от всяческих проявлений непристойности. Едва ли поддается описанию, какая возможная причина или случай – в сравнительно краткое отсутствие Пьера – собрали такое подлое общество. В неописуемом хаосе безумные, больного вида мужчины и женщины всех цветов кожи и во всевозможных вызывающих, нескромных, гротескных и изорванных одеждах прыгали, визжали и изрыгали ругательства, толпясь вокруг него. Изорванные полосатые хлопчатобумажные покрывала негров и красные халаты азиаток, столь изношенные, что эти лохмотья едва прикрывали их обнаженную грудь, соседствовали с рваными платьями густо нарумяненных белых женщин, а также с выношенными пальто, пестрыми жилетами и рубашками навыпуск у бледных, или носящих бакенбарды, или изможденных, или усатых мужчин всех национальностей, одни из которых, казалось, были арестованы прямо в постели, и другие, по всей видимости, прямо посреди какого-то сумасшедшего, распутного танца. Отовсюду слышались пьяная мужская и женская речь на английском, французском, испанском и португальском, кою время от времени пересыпали словечками на самом грязном из всех человеческих жаргонов, на том диалекте греха и смерти, который известен как воровской жаргон, или арго.
Бегая среди этого общего хаоса людей и криков, несколько полисменов тщетно старались унять шум, в то время как другие были заняты тем, что надевали наручники самым безнадежным; и то здесь, то там растерянные негодяи, как мужчины, так и женщины, затевали настоящую битву с офицерами, а другие, будучи уже в наручниках, все еще пытались драться, хотя их руки сковывало железо. Между тем слова и фразы, которые немыслимо повторять при свете божьего дня и самое существование коих не знали и не могли помыслить десятки тысяч порядочных обитателей города, – непристойности и проклятия неслись ввысь с такими интонациями, кои ясно говорили о том, что это повседневная речь и естественное дыхание тех, кто их произносит. Воровские кварталы и все бордели, венерологические лечебницы для неисцелимых, лазареты и огненные пасти преисподней, казалось, слились в одно и выплеснулись на землю через какой-то гнусный черный ход непристойной трущобы.
Несмотря на то что до сей поры несовершенный и в целом бессистемный опыт городской жизни Пьера слабо подготовил его к пониманию особого смысла этого ужасного спектакля, все же он знал достаточно из слухов об изнанке городской жизни, чтобы представить, кто и откуда были те типы, коих он видел перед собой. Но все его мысли в это время были поглощены лишь одной ужасной мыслью об Изабелл и Дэлли, вынужденных быть свидетельницами сцен, кои едва мог вынести сам Пьер, или, возможно, оглушенных шумом, так как они находились среди всей этой мерзости. Ворвавшись в толпу, не обращая внимания на случайные вскрики и проклятия, с которыми он сталкивался, Пьер дико озирался в поисках Изабелл, и вскоре он увидел ее, рвущуюся из беспорядочно шарящих, скованных наручниками рук какого-то усатого типа. Пьер богатырски размахнулся, ударил негодяя своим бронированным кулаком и отнял у него Изабелл, крича двум ближайшим офицерам, чтобы те расчистили ему путь к двери. Они послушались. Спустя несколько мгновений дрожащая Изабелл была в безопасности на свежем воздухе. Он хотел уж было остаться с ней, но она заклинала его вернуться за Дэлли, коя терпела еще худшие оскорбления, чем она сама. К ним приблизился дополнительный наряд полисменов, и Пьер оставил Изабелл на попечение одного из них и, позвав двух других присоединиться к нему, снова вошел в участок. В другом углу он увидел Дэлли, схваченную за обе руки двумя оборванными метисками, кои, дьявольски усмехаясь, иронически насмехались над ней за ее скромное платье, закрывающее грудь и горло, и уже сорвали с нее шейный платок. Она издала крик, в коем смешались мука и радость при виде его; и Пьер вскоре успешно привел ее к Изабелл.
Пока Пьер отсутствовал в поисках наемного экипажа, а Изабелл и Дэлли спокойно ожидали его возвращения, дверь в участок вдруг резко отлетела в сторону, наряд полисменов завел внутрь и запер там ночных посетителей всех мастей из печально известных борделей, где они буйствовали и доходили в своем веселье до высшей точки отвратительной оргии. Первый взгляд на внутренность полицейского участка и их столь быстрое помещение всех вместе в комнату с четырьмя голыми стенами привели к тому, что толпа внезапно обезумела; поэтому самое очевидное из всех объяснений, что на время все силы полисменов были брошены на подавление беспорядков внутри полицейского участка, и поэтому они временно оставили Изабелл и Дэлли на милость случая.
Пьеру недосуг было высказывать свое возмущение тому первому офицеру – даже если он смог бы теперь его найти, – того, кто предал его доверие относительно дорогих ему особ, которых он доверил его попечению. У него также не было времени на то, чтобы расстраиваться по поводу своих дорожных сундуков, кои все еще оставались в полицейском участке. Бросив все, он запихнул двух оглушенных и полумертвых девушек в ожидающий наемный экипаж, который согласно его приказу тронулся назад в направлении той остановки, где Пьер его нанял.
Когда кучер увез их на приличное расстояние от шума, Пьер остановил экипаж и сказал вознице, что хочет доехать в ближайший приличный отель или пансионат любого сорта, который ему известен. Возница, злобно расхрабрившись вдали от полицейского участка, дал некий двусмысленный ответ с грубой веселостью. Но, помня о своей предыдущей жаркой ссоре с кучером, Пьер оставил его слова без внимания и контролируемым, спокойным, решительным тоном повторил свои приказания.
В конце концов, после того как они покружили по одним и тем же улицам, они оказались в очень благопристойном переулке перед большим респектабельным домом, освещенном двумя высокими белыми светильниками по обеим сторонам от входа. Пьер с радостью услышал доносящийся изнутри сдержанный гул, несмотря на сравнительно поздний час. С непокрытой головой, опрятно одетый мужчина смышленого вида, с платяной щеткой в руке, вышел, поначалу сверля его острым взглядом; но как только Пьер приблизился к свету и его внешний вид стал заметен, лицо мужчины сразу же приняло почтительное, но все же немного недоумевающее выражение, и он пригласил всю компанию в ближайшую комнату, где стоящие в беспорядке стулья да лежащая повсюду пыль ясно показывали, что дневная активность сейчас улеглась в ожидании утренней уборки горничных.
– Ваши вещи, сэр?
– Я оставил свои вещи в другом месте, – сказал Пьер, – я пошлю за ними завтра.
– А! – вымолвил очень сообразительный мужчина в некотором сомнении. – Могу я в таком случае отпустить ваш экипаж?
– Стойте, – сказал Пьер, думая про себя, что будет хорошо, если не позволить служащему отеля узнать, откуда они прибыли, – я отпущу его сам, благодарю вас.
Словом, снова выйдя на тротуар без дальнейших споров, он заплатил вознице столь щедро, что тот, беспокоясь о том, чтобы скрыть свой нелегальный заработок от чужих глаз, быстро взобрался на козлы и унесся галопом прочь.
– Могли бы вы теперь войти, сэр? – спросил служащий, поигрывая своей платяной щеткой. – Войдите сюда, пожалуйста.
Пьер последовал за ним в почти пустую, слабо освещенную комнату, в коей стояла одна конторка. Зайдя за конторку, служащий раскрыл перед ним большую книгу, похожую на гроссбух, страницы коей были густо исписаны именами со всех сторон, и предложил ему перо, которое уже обмакнул в чернила.
Понимая общий смысл намека, хотя втайне раздраженный чем-то в манере служащего, Пьер придвинул к себе книгу и написал твердой рукой внизу в последней колонке имен: «Мистер и миссис Пьер Глендиннинг и мисс Ульвер».
Служащий пытливо всмотрелся в написанное и сказал:
– Следующая колонка, сэр, «откуда».
– Правильно, – сказал Пьер и написал «Седельные Луга».
Весьма сообразительный служащий вновь проверил страницу и затем, неторопливо почесывая свой бритый подбородок, распялив для этого пальцы наподобие пятизубой вилки, промолвил мягко и шепотом:
– Прибыли из места, что находится где-то в этой стране, сэр?
– Да, в этой, – сказал Пьер уклончиво и сдерживая свой гнев. – А теперь покажите мне две комнаты, будьте добры, для меня и жены, и я хочу, чтобы они между собой сообщались с третьей, не имеет значения, насколько третья будет небольшой; но я должен непременно иметь гардеробную.
– Гардеробную, – протянул служащий умышленно ироническим тоном. – Гардеробную… Гм!.. Вы занесете в гардеробную все свои вещи, полагаю… Ох, я забыл, ваши вещи еще не прибыли… ах да, да, да… вещи прибудут утром… ох да, да… конечно… утром… конечно. К слову, сэр, мне не хотелось бы быть невежливым, и я уверен, вы не сочтете меня таковым, но…
– Хорошо, – сказал Пьер, призвав на помощь все свое самообладание, чтобы справиться с закипающей яростью.
– Когда незнакомый джентльмен приезжает к нам без багажа, мы берем на себя смелость просить его оплачивать все счета заранее, сэр, только и всего, сэр.
– Я останусь здесь на ночь и на все утро в любом случае, – ответил Пьер, радуясь, что это единственное затруднение. – Сколько это будет стоить? – И он извлек из кармана бумажник.
Глаза служащего живо прикипели к бумажнику; он перевел взгляд от него на лицо владельца, затем, казалось, помедлил минуту, затем просиял и сказал с проснувшейся обходительностью:
– Не имеет значения, сэр, не имеет значения, сэр; хотя проходимцы порой и выглядят джентльменами, джентльмен, который и в самом деле джентльмен, никогда не приедет в другое графство без верительных грамот. Верительные грамоты – его друзья; и эти единственные друзья – их доллары; я вижу ваш кошелек распирает от дружелюбия… У нас есть комнаты, сэр, которые отлично вам подойдут, думаю. Приведите леди, и я покажу вам ваши комнаты тотчас же.
Сказав это и бросив в сторону платяную щетку, весьма сообразительный служащий зажег лампу, взял две незажженные в другую руку и пошел вниз по темному коридору с освинцованными стенами; Пьер следовал за ним с Изабелл и Дэлли.
Глава XVII МОЛОДАЯ АМЕРИКА В ЛИТЕРАТУРЕ
I
Среди множества несовместимых способов писать историю здесь, мне представляется, имеют место быть два великих практических различия, перед коими все остальные должны послушно склониться. Согласно первому способу, все современные условия, факты и события должны быть упомянуты в одно время; согласно второму, они могут быть изложены, только как общее течение повествования того потребует, ибо события, кои родственны по времени, могут быть неуместными сами по себе. Я не выбираю ни один из этих способов, я легкомысленно отношусь к обоим, оба достаточно хороши сами по себе, и я пишу именно так, как мне вздумается.
В более ранних главах этого тома где-то мимоходом упоминалось, что Пьер не только читал поэтов и других великих писателей, но, подобно им – и одно сильно отличается от другого, – обладал исчерпывающим, аллегорическим пониманием их, чувствовал к ним глубокую эмоциональную симпатию… другими словами, сам Пьер обладал поэтическим даром, нося в себе безусловную, хоть и скрытую и изменчивую, каждую йоту воображаемого богатства, коего он столь желал, когда, посредством больших мучений и всякого рода невознагражденных страданий, описанных на этих печатных страницах, не там пребывал он, где к его еще юной и незрелой душе взывали предивные молчаливые да где сквозь просторные залы безмолвной правды его душу препровождали в людный, тайный, вечно нерушимый Синедрион[137], где чародеи поэзии вели споры в прославленном невнятном бормотании, будучи альфой и омегою вселенной. А среди красивых грез поэтов второго и третьего ряда он свободно и с пониманием дела встраивался в общий ряд.
И еще осталось сказать, что сам Пьер написал много случайных литературных набросков, кои принесли ему не только безграничное доверие и похвалы со стороны его близких знакомых, но и более честные овации от публики, всегда умной и крайне разборчивой. Коротко сказать, Пьер часто занимался тем же, что и многие другие молодые люди, – публиковался. Но публиковал он свои творения не в солидном книжном издании, а в более скромной и приличествующей форме – в виде случайных статей в журналах да других приличных периодических изданиях. Его великолепным и победоносным дебютом стал очаровательный любовный сонет, озаглавленный «Тропическое лето». Не только публика аплодировала его ювелирно точным маленьким очеркам размышления и мечты, поэтическим или прозаическим, но высший и могущественный клан Кэмпбеллов[138], состоящий из редакторов всех мастей, пел ему хвалы в тех великодушных фразах, кои они, кинув один беглый взгляд на его труды, присуждали ему по праву. Они говорили в лестных выражениях об удивительном построении его художественного языка; они осмеливались излить свои восторги по поводу благозвучного строения его фраз; они благоговели перед его общим стилем, который пронизывала симметрия. Но, выходя за рамки даже этого глубокого проникновения в суть глубоких дарований Пьера, они смотрели с неизмеримого расстояния и признавали свою полную неспособность обуздать свое безоговорочное восхищение высокоразумной гладкостью и благородством выраженных в его очерках чувств и грез.
«Сей автор, – говаривал один, будучи в необузданном порыве ярости и невольного восхищения, – может быть охарактеризован наличием безупречного вкуса».
Другой, одобрительно процитировав мудрое сдержанное изречение доктора Голдсмита[139], в коем тот утверждал, что любое новшество ложно, каким бы оно ни было, и, продолжая применять сие высказывание к превосходным очеркам, кои видел перед собой, оканчивал так:
«Он перенес невозмутимого джентльмена из гостиной на филологический прием; он никогда не позволяет себе изумляться; он никогда не соблазнялся ни низкосортным, ни новым, словно убежденный в том, что все удивительное вульгарно и все новое должно быть незрелым. Да, в том и заключается успех этого замечательного молодого автора, что вульгарность и энергия – две черты, неразрывно между собою связанные, – в равной степени ему неприсущи».
Третий, в длинной и красиво написанной рецензии, кончил свои разглагольствования смелым и потрясающим заявлением:
«Этот автор, вне всяких сомнений, весьма достойный молодой человек».
Да и редакторы различных нравственных и религиозных периодических изданий не скупились на более суровые высказывания и более желанные, из-за своей сдержанности, аплодисменты. Знаменитый редактор духовного и языковедческого еженедельного издания такого сорта, чьи удивительные знания в греческом, иврите и арамейском, коим он посвятил большую часть своей жизни, особенно понравился ему провозглашением своего непогрешимого суждения о произведениях, написанных с хорошим вкусом на языке английском, который, не колеблясь, произнес следующее: «Он безупречен в вопросах морали и потому безвреден». Другой редактор решительно рекомендовал его произведения для чтения в кругу семьи. Третий без какой-либо сдержанности заявлял, что главной и конечной целью этот автор ставил перед собой благочестие.
Разум, не столь сильный от природы, как у Пьера, мог бы с успехом поторопиться впасть в немалое самодовольство из-за таких хвалебных речей, как эти, особенно если учитывать, что нет ни малейшего сомнения в том, что примитивный вердикт, провозглашенный редакторами, подлежал отмене лишь в случае разве что такого совершенно невероятного события, как скорое наступление золотого века, который мог бы установить другие понятия о вкусе и, возможно, изгнал бы редакторов. Это верно, что в свете общей практической неясности этих хвалебных речей и при таких обстоятельствах, когда, в сущности, все они каким-то образом оказывались благоразумно-нерешительного сорта, учитывая, что все они были панегириками, и не чем иным, как панегириками, в коих ни слова не было о каком бы то ни было анализе, его старший друг, собрат по перу, осмелился сказать нашему герою:
– Пьер, это очень высокие похвалы, ручаюсь тебе, и ты на удивление молодой автор, который заслужил их; но я до сих пор не вижу никакой критики в твой адрес.
– Критики? – закричал Пьер в крайнем удивлении. – Как же, сэр, это все критика! Я просто идол критиков!
– А, – вздохнул старший собрат, как если бы вдруг открыл, что сие было правдой, в конце-то концов. – А! – И отошел прочь со своей безобидной, уклончивой сигарой.
Как бы там ни было, благодарение редакторам, в конце концов известное воодушевление литературою в интересах Пьера обрело такие масштабы, что два молодых человека, кои недавно оставили низменное портняжное ремесло ради более почетного – печатания и продажи книг (вероятно, в хозяйственных целях, дабы пустить на книги обрезки холстины и хлопка со стола закройщика, после того как ввязались в издательское дело), послали ему письмо на изящнейшей бумаге с волнистым краем, где аккуратнейшим бисерным почерком изложили следующие условия договора; самый дух означенного письма ясно показывал все же, что – благодарение фабриканту – их обрезки холстины и хлопка могут быть замечательным образом переработаны в бумагу, в то время как сами закройщики не будут совсем уж сидеть без дела на преображенной фабрике:
«Благородному Пьеру Глендиннингу.
Уважаемый сэр!
Прекрасный фасон, благоразумное настроение ваших произведений наполнило нас изумлением. Материя превосходна – тончайшее сукно гения. Мы делаем первые шаги в издательском деле. Ваши шаровары – шедевры, мы хотели сказать, – до сих пор еще не были укомплектованы. Они должны быть опубликованы в книжной форме. Портные – мы имели в виду библиотекарей – требуют этого. Ваша слава сейчас пребывает в прекраснейшей дремоте. Теперь, пока не пропал ее блеск, теперь пришло время для книжной формы. На днях мы получили партию замши… то есть кожи из России. Книжная форма станет долговечной формой. Со всем уважением мы предлагаем нарядить ваши удивительные произведения в книжную форму. Если вам будет угодно, мы перешлем вам образчик материи, то есть, мы хотели сказать, образец страницы с рисунком кожи. Мы готовы предоставить вам десять процентов от прибыли (неслыханно много) за привилегию облачить ваши замечательные произведения в книжную форму, вы получите счета от белошвейки, то есть от типографа и переплетчика, в день публикации. Ответ при первейшей благоприятной возможности окажет бесценную услугу…
Сэр, ваши покорнейшие слуги,Вандер и Вэн.P. S. Мы со всем уважением высылаем также вместе с письмом заготовку, то есть бумагу, в подтверждение наших самых серьезных намерений сделать все возможное в ваших интересах, чтобы закрепиться в торговле.
N. B. Если наш образец не охватит всего вашего знаменитого гардероба – произведений, мы хотели сказать, – мы искренне сожалеем. Мы перерыли ради него все костюмы, то есть журналы.
Образец пальто, то есть титульного листа для произведений Глендиннинга:
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ГЛЕНДИННИНГА, АВТОРА
Всемирно известное произведение „Тропическое лето: сонет“.
„Погода: размышление“. „Жизнь: экспромт“. „Памяти покойного
преподобного Марка Грэйсмена: некролог“. „Честь: станс“. „Красота: акростих“. „Эдгар: анаграмма“. „Красотка: статья“.
И т. д., и т. д., и т. д., и т. д.,
и т. д., и т. д., и т. д.,
и т. д., и т. д.,
и т. д.
«.От художника-иллюстратора Пьер получил следующие строк и:
«Сэр, я обращаюсь к вам с непритворным трепетом. Ибо, несмотря на то что вы молоды, вам давно привычны слава и мастерство. Я не могу передать вам все свое пылкое обожание ваших работ, и также я не могу не сожалеть глубоко о произведениях, обладающих такой изобразительной, описательной мощью, не сопровождаемых более скромными наглядными трудами художника-иллюстратора. В этом деле все мои силы целиком в вашем распоряжении. Мне нет нужды говорить о том, насколько я бы гордился оказанной честью, если этот намек с моей стороны, каким бы отважным он ни был, побудил бы вас ответить на условия, в которых я бы нашел надежду прославить себя и свою профессию посредством нескольких набросков для работ прославленного Глендиннинга.
Но беглое упоминание вашего имени здесь пробуждает во мне такие волнующие эмоции, что я не могу сказать ничего более. Как бы там ни было, я бы только добавил, что, поскольку я совсем не связан с торговлей, моя финансовая ситуация неприятнейшим образом толкает меня сшибать немного наличных, занимаясь доставкой каждого рисунка, основы всех моих профессиональных договоренностей. Ваша благородная душа конечно же сочла бы ниже своего достоинства предположить, что эта грязная необходимость, исключительно в интересах дела, могла бы хоть как-то повредить наброскам…
С глубочайшим личным благоговением и обожанием,
коих я – бескорыстное проявление,
великому, доброму Глендиннингу,
Ваш покорнейший слуга,
Питер Пенс».II
Таковое возбуждение царило в письмах. Книжная форма! Иллюстрированное издание! Его сердце было переполнено.
Но, к сожалению, Пьеру пришло на ум, что все его произведения были не только небрежно написаны, но и немногочисленны, и, если сложить их вместе, они образовали бы маленькую книгу форматом в двенадцатую долю листа, поэтому литературная форма представлялась, возможно, несколько преждевременною, вероятно, в некоторой степени бессмысленною. В то время как его произведения состояли главным образом из маленьких сонетов, коротких поэм, посвященных размышлению, и нравственных эссе, работе для художника-иллюстратора угрожала маленькая опасность оказаться попросту скудной. В своей неопытности Пьер не знал, что такова была великая высота вдохновения, на кою возносится искусство художника, что некий джентльмен этой профессии заявился в известный издательский дом вместе со своими набросками для иллюстрированного издания «Кок против Литлтона»[140]. Даже городская адресная книга[141] была прекрасно иллюстрирована изящными гравюрами кирпичей, ножниц и утюгов[142].
Касательно наброска титульного листа, необходимо признать, что, глядя на внушительный перечень произведений, длинный и впечатляющий, как те перечисления титулов некоего немецкого принца, какие были заведены в прежние годы («Наследный лорд поместья Кранц Якоби; бесспорный владелец, благодаря смелому захвату места в кровати покойной вдовы Ван Лорн; очевидный наследник обанкротившейся булочной Флетца и Флитца; наследник конфискованных карманных денег вдовы Дюнкер; и т. д., и т. д., и т. д.»), Пьер не мог целиком подавить чувство восторга, кое ненадолго охватило его. Тем не менее он так же низко склонялся под бременем собственной значительности, как автор столь обширного литературного пласта. Однако сие внушило ему легкие опасения, когда он подсчитал, что в свои восемнадцать лет уже написал столько произведений, что простой перечень его работ далеко превосходит оглавление отцовского фолианта пространных рассуждений Платона. Все же он утешал себя мыслью, что, поскольку нельзя допустить мысли, чтобы он путался с газетчиками, расклейщиками рекламных афиш журнала «Газель», кои каждый месяц покрывали городские стены огромными плакатами, где его имя было напечатано крупным шрифтом среди прочих авторов; и теперь не мог он также, говоря о том немыслимом деле, каким было для него предложение гг. Вандера и Вэна, коим он отказывал, позволить себе иметь дело с отделом расклейки афиш их предприятия, ибо было совершенно ясно, что они воздадут должное перечню его произведений, украсив им в виде большого плаката еще одну, лишенную окон стену, гораздо более открытую всем взорам, чем большинство стен, как только в городе освободится хоть одно выгодное рекламное место, на кое не осмелится посягнуть ни один конкурент. Все же, полный решимости оставить всех этих расклейщиков реклам заботиться о себе, как знают, он был немного чувствителен к застенчивым наклонностям тех скромных приемов иных деликатных и утонченных авторов, кои, презирая вульгарность пышного парада букв, довольствуются тем, что просто помещают одно свое имя на титульном листе, словно пребывая в убеждении, что это станет достаточной гарантией для привлечения внимания истинных джентльменов, обладающих вкусом. Трубить о себе посредством длинных пустозвучных титулов – это для мелких немецких князей. Русский царь довольствуется тем, что пишет одно-единственное слово «НИКОЛАЙ» на своих высочайших постановлениях.
Подобного рода размышления привели наконец к всевозможным соображениям на тему анонимности в деле авторства. Он сожалел, что не начал свою литературную карьеру под этой маской. Теперь же это могло быть слишком поздно – весь мир уже знал его, и напрасно было, с этим запоздалым осознанием, пытаться замаскироваться. Но когда он обдумал все важнейшие достоинства и правильность этой идеи со всех сторон, он не мог не почувствовать самого искреннего сострадания к тем незадачливым собратьям по перу, кои не только питают искреннее отвращение к любой публичности, но и со временем начинают стыдиться своих последующих произведений, написанных исключительно ради денег, в объявлениях, где они, подчиняясь жестокой необходимости, заставляют трубить о рекламных предложениях булочников, мясников и прочих из финансовых соображений – в той мере, в какой рекламное объявление названия произведения может помочь книгоиздателю в продаже.
Но, возможно, главным, хотя и не совсем сознательным мотивом Пьера в его окончательном решении отказаться, что он и сделал, от услуг гг. Вандера и Вэна, ретивых соискателей получить привилегию расширить и укрепить его славу, было то, что так как он несовершеннолетний, то существовали шансы, что его будущие произведения станут, как минимум, равными, если не превосходящими хоть в малой степени те, кои он уже подарил миру. Он решился отложить свою литературную канонизацию до того момента, пока он преодолеет возраст недоросля, по ехидному определению закона, который с неподдельно-притворной, исключительной добротой провозглашал его «ребенком». Его скромность затуманила от него то обстоятельство, что величайшие литературные знаменитости поколения, благодаря божественной силе гения, закончили с отличием университет славы, в то время как остальные, несовершеннолетние с точки зрения закона, были вынуждены выпрашивать у своих мам несколько пенни, чтобы как-то прожить за бесценок.
Спокойствие Пьера, когда он бывал в обществе, было не единожды нарушено мольбами юных леди доставить им удовольствие, написав в их альбомы какую-нибудь милую, коротенькую песню. Мы говорим, что здесь его покой в обществе был нарушен, ибо истинный шарм приятного светского общества состоит в том, что вы теряете свою остроту индивидуальности и с восхищением погружаетесь в этот умеренный общественный пантеизм, ибо он представляет из себя именно это, который размягчает каждого, делая всех похожими друг на друга, и вечно царствует в этих гостиных, кои спокойно и с приятностью представляют в ложном свете само свое имя, как только все их покидают. Отклонять альбомы – это весьма неловко, но подчас бывало гораздо хуже и особенно неприятно для Пьера исполнить просьбу. С равной несомненной справедливостью вы можете назвать это или его слабостью, или отличительной чертой его характера. Он призывал на помощь всю свою учтивость – и отказывал. И отказ Пьера, по словам мисс Анжелики Амабилии из Амблсайда, был приятнее, чем согласие других. Но затем, после того как он отклонил ее предложение написать в альбоме, Пьер в порыве галантности, находясь в роще Амблсайда вместе с нею, в ее присутствии вырезал инициалы мисс Анжелики на коре красивого клена. Но не все юные леди – мисс Анжелики. Получив вежливый отказ в гостиной, они берут желаемое измором. Они отсылали свои альбомы Пьеру запакованными в красивые конверты, не забывая побрызгать розовым эфирным маслом[143] в ладони тех домашних слуг, кои отвозили их послания.
И пока Пьер, прижатый к стене из-за своей галантности, медлил, не в силах решить, что же ему делать, ожидающие его альбомы множились в его комнате и мало-помалу заняли в ней целую полку – одним словом, пока собрание этих переплетов положительно резало ему глаз своим сверканием, их чрезмерное благоухание заставляло его попросту падать в обморок, хотя в действительности он был неравнодушен к парфюму, если тот использовался в умеренных количествах. Таким образом, даже в самые холодные вечера ему приходилось держать распахнутыми верхние створки окон.
Писать в альбом юной леди – самая простая задача в мире. Но cui bono?[144] Неужели есть недостаток в напечатанных сочинениях, что должны вернуться времена монахов-переписчиков и дамские альбомы станут манускриптами? Какие свои строки мог написать Пьер о любви и других предметах, чтобы они превзошли те, что божественный Хафиз[145] написал много столетий назад? Разве нет Анакреонта[146], и Катулла[147], и Овидия[148] – неужели они все не переведены или недоступны? И потом – благослови Господь их души! – разве прекрасные создания забыли Тома Мура?[149] Нет, запись, сделанная вручную, Пьер, – они хотят запись, начертанную твоей рукой. Отлично, думал Пьер, истинные чувства лучше, чем переданный образ, бесспорно. Я подарю им истинное ощущение моего почерка в той мере, в какой им хочется. И губы гораздо лучше, чем рука. Позволим им прислать мне свои милые личики, и я поцелую их литографии[150] на веки вечные. Это была удачная идея. Он кликнул Дэйтса и велел снести вниз в столовую все альбомы, набив ими доверху корзину. Там он их все открыл и разложил на длинном столе; затем, вообразив себя папой Римским, когда его святейшество одним взмахом благословляет долгие ряды ящичков с четками, он послал один благочестивый воздушный поцелуй всем альбомам и приказав трем слугам отправить альбомы по домам с его наилучшими комплиментами, вместе со сладким поцелуем в каждом альбоме, обернутом в бесплотную ткань из воздушных струй.
Со всех уголков графства, как из города, так и из деревни, и особенно в такое промежуточное время года, как осень, Пьер получал множество настойчивых приглашений прочесть лекцию в лекториях, в Ассоциации молодых людей и других литературных и научных сообществах. Письма с этими приглашениями казались поистине впечатляющими и необыкновенно льстили Пьеру в его неопытности. Одно содержало следующее:
«Аркартианский[151]клуб Немедленного расширения границ всякого знания, как человеческого, так и божественного.
ЗАДОКПРАТТСВИЛЛЬ,
11 июня, 18… года.
Автору „Тропического лета“ и проч.,
УВАЖАЕМЫЙ И ДОРОГОЙ СЭР!
Служебный долг и личная склонность в настоящем деле смешались самым приятным образом. То, что было страстным желанием моего сердца, стало теперь, благодаря предложению Комитета лекций, моей профессиональной обязанностью. Как председатель нашего Комитета лекций, я сим молю о привилегии просить, чтобы вы оказали честь этому обществу, прочтя на одном из его собраний лекцию на любую тему, какую вы пожелаете избрать, и в любой день, который сочтете для себя удобным. Тему человеческого Предназначения мы предлагаем вам со всем уважением, не питая ни малейшего намерения воспрепятствовать вашему собственному непредвзятому выбору.
Если вы окажете нам честь, приняв это приглашение, будьте уверены, сэр, что Комитет лекций будет заботиться о вас наилучшим образом в течение вашей поездки и постарается скрасить ваше пребывание в Задокпраттсвилле. Карета будет ожидать вас на почтовой станции, чтобы доставить вас и ваш багаж на постоялый двор, в сопровождении Комитета лекций в полном составе и его председателя во главе в качестве вашего эскорта.
Позвольте мне выразить вам мое личное уважение и добавить его к моему глубочайшему уважению, которое я выражаю вам как официальное лицо, и назвать себя вашим самым почтительным слугой,
ДОНАЛЬД ДАНДОНАЛЬД».III
Но особенно странным было то, что приглашения прочесть лекцию приходили от почтенных, убеленных сединами городских обществ и составлялись почтенными, седовласыми секретарями, кои были весьма далеки от мысли, что их письма наполнят молодого Пьера чувством самого искреннего смирения. «Прочесть лекцию? Лекцию? Я, еще подросток, буду произносить лекцию в аудитории на пятьдесят скамей, где на каждой будет сидеть по десять седовласых мужчин? Целых пять сотен седовласых слушателей! Отважится ли один мой бедный, неискушенный ум сформулировать положения лекции перед пятью сотнями умов, умудренных жизненным опытом?» Казалось слишком абсурдным даже думать об этом. И все же пятьсот человек через своего представителя добровольно подписали это самое пригласительное письмо для него. Тогда разве могло быть иначе, что те самые первые проблески тимонизма[152] возникли у Пьера, когда он в своих рассуждениях пришел ко всевозможным постыдным выводам, кои следовали из такого факта. В его памяти воскресло воспоминание о том, как однажды, во время одного из его визитов в город, был вызван отряд полиции, чтобы подавить большое народное волнение, кое образовалось из-за давки и ссор за места на первой лекции парня девятнадцати лет, знаменитого автора «Недели на Кони-Айленд»[153].
Нет нужды говорить, что Пьер самым честным и уважительным образом отклонил все вежливые приглашения подобного сорта.
Сходные разочарования, кои проистекали из его более трезвых размышлений, таким же образом лишали всей их сладости некоторые другие, столь же поразительные проявления его литературной славы. Просьбы об автографах ливнем лились на него; но временами, в шутливой манере удовлетворяя более срочные просьбы тех же самых людей, Пьер не мог не ощутить мимолетного сожаления, что из-за его крайней молодости и совершенной незрелости характера почерка его подпись не обладает той твердой равномерностью, которой – по причине простого благоразумия, если не больше, – всегда должна быть отмечена подпись знаменитого человека. Его сердце трепетало в муках сочувствия к потомкам, кои, можно не сомневаться, будут безнадежно озадачены таким количеством противоречивых подписей в виде одного и того же прославленного имени. Увы! Потомки, вне всяких сомнений, придут к выводу, что они все поддельные, что ни один авторский рукописный реликт подписи великого поэта Глендиннинга не уцелел до их злополучных времен.
От владельцев журналов, чьи страницы были удостоены чести содержать его словесные излияния, он получил весьма спешные и настойчивые эпистолярные просьбы одолжить его портрет, написанный маслом, для того, чтобы они могли сделать гравюру для первой страницы их периодических изданий. Но здесь вновь всплыли размышления самого меланхолического свойства. Это всегда было одним из самых сокровенных желаний Пьера – отпустить гладкую бороду, кою он считал самым благородным отличительным признаком мужчины, не говоря уже о знаменитом авторе. Но пока что он был безбородым, и ни одно хитроумное снадобье фирмы «Роланд и сын» не могло вызвать рост бороды, коя должна была появиться как знак взросления в свое время, чтобы теперь украсить обложку журнала. Кроме того, его подростковые черты и выражение лица в целом претерпевали ежедневные изменения. Станет ли он принимать участие в этом бессовестном обмане грядущего потомства? Честь запрещала.
Эти эпистолярные петиции, как правило, были выдержаны в тщательно продуманном уважительном тоне; таким образом, они давали понять, с каким глубоким уважением будут обращаться с его портретом, в то время как он неизбежно послужит материалом для неотложного дела – получения с него литографии, о коей они умоляли. Но одна или две персоны, кои порой выражали ему свои настойчивые требования в устной форме в деле получения его литографии, казалось, были обделены тем естественным уважением, кое должно питать к портрету любого человека, не говоря уже о портрете гения, столь прославленного, как Пьер. Они даже не пытались вспомнить, что портрет любого человека обычно получает и действительно имеет право даже на большее уважение, чем его прототип, с тех пор, как кто-то может свободно похлопать своего знаменитого друга по плечу и при этом несомненно провести его за нос касательно портрета. Причина сего может быть такой, что портрет лучше создан для уважения, чем человек, поскольку нельзя вообразить ничего недооцененного относительно портрета, тогда как у человека можно неизбежно найти такие недооцененные черты, к коим он не останется нечувствительным.
Благодаря одной встрече Пьер внезапно завязал одно литературное знакомство – с главным редактором ежемесячного издания «Капитан Кидд», который вдруг выпрыгнул на него из-за угла, и Пьер был напуган его быстрым:
– Доброе утро, доброе утро… как раз вы-то мне и нужны… ступайте-ка за мной, здесь недалеко, и сделаем ваш дагерротип[154]… обратим его затем в гравюру, так как у нас нет времени… он нужен для следующего выпуска.
Сказав так, этот глава «Капитана Кидда» схватил Пьера за руку и самым энергичным образом потащил его прочь, словно полисмен – вора-карманника, когда Пьер учтиво сказал:
– Настоятельно прошу вас, сэр, постойте, пожалуйста, я не намерен делать ничего подобного.
– Вздор, вздор… нам необходимо иметь литографию… это общественное достояние… пойдемте… осталось пройти всего шаг или два.
– Общественное достояние, – закричал Пьер, – которое очень пригодится ежемесячнику «Капитан Кидд»… это очень в духе «Капитана Кидда» – сказать все это. Но вынужден повторить, что я не намерен соглашаться.
– Не намерены? В самом деле? – закричал в свою очередь главный редактор, изумленно глазея на Пьера, который был совершенно спокоен. – Да ведь, помилуй бог вашу душу, мой-то портрет напечатан – давным-давно напечатан!
– Ничем не могу помочь, сэр, – сказал Пьер.
– О! Пойдемте, пойдемте. – И редактор снова схватил его за руку с самой бессовестной фамильярностью.
Несмотря на то что он был самым добросердечным юношей в мире, Пьер, когда его порядком злили, временами обращался в опасного дьявола, который был весьма склонен проснуться благодаря задевающей за живое грубости джентльмена, принадлежащего литературной школе «Капитана Кидда».
– Слушайте вы, мой добрый приятель, – сказал Пьер, подкрепляя свое справедливое заявление тем, что решительно сжал кулаки, – бросьте мою руку сейчас же… или я отброшу вас. Убирайтесь к дьяволу, вы и ваш дагерротип!
В то время сие происшествие в качестве своего продолжения, кое как-никак, заставляло задуматься, оказало на Пьера вовсе неожиданный эффект. Ибо он вдруг с необыкновенной живостью задумался о том, что самый добросовестный портрет кого угодно может быть получен с помощью дагерротипии, в то время как в прежние времена достать самый лучший портрет было во власти лишь власть имущих, этих земных аристократов духа. Сколь естественно было тогда умозаключение, что, вместо того чтобы дарить бессмертие гению, как встарь, ныне портрет, ежедневно запечатлевая болванов, низвел чудо до обыденности. Кроме того, если все, кому не лень, будут публиковать свои портреты, истинное отличие отныне будет крыться в том, чтобы вовсе не публиковать свой. Ибо, если вы напечатаны вместе с Томом, Диком и Гарри и носите пальто той же длины, что и они носят, то в чем же вы отличаетесь от Тома, Дика и Гарри? Словом, даже такой несчастный мотив, как низменное личное тщеславие, помог Пьеру принять решение в этом деле.
Иные записные любители общепринятой литературы эпохи, так же как очевидные поклонники его собственного великого гения, часто просили Пьера в письмах предоставить им материалы, с помощью коих можно было бы составить его биографию. Они заверяли Пьера, что жизнь всех живых существ в высшей степени небезопасна. Он может чувствовать, что у него впереди все еще много лет, время может щадить его, но при любой внезапной и смертельной болезни насколько же его последние часы были бы отравлены мыслью, что он, кажется, уходит навсегда, оставляя мир в неведении относительно сокровенного знания о том, из какой именно материи и какого цвета были те первые штанишки, кои он носил. Подобные образы, вне всяких сомнений, задели в его душе очень нежные струны, кои небезызвестны для наставника. Но когда Пьер подумал, что, благодаря его крайней молодости, его собственные воспоминания о прошлом быстро утонут во всякого рода полувоспоминаниях и обычной неопределенности, он не смог найти в своем сознании таких материалов, кои мог бы предоставить своим нетерпеливым биографам, и в особенности потому, что главный достоверный источник подобных сведений о его успехах в прошлом был недоступен для любых человеческих призывов, ибо навеки покинул этот мир. С тех пор как его превосходная няня Кларисса умерла, минуло около четырех лет или больше. Напрасно молодой литературный друг, известный автор двух предметных указателей и одной эпической поэмы, в разговоре с коим всплыла эта печальная тема, с теплотой поддержал его объяснение причины своего отказа несчастным биографам, сказав, что, как бы это ни было неприятно, кому-то приходится расплачиваться за свою славу и нет ни малейшего смысла отступать; и кончил он тем, что из венца, который украшал его шляпу, он пожертвовал гранками[155] своей собственной биографии, коя, вкупе с самыми глубокомысленными размышлениями для масс, была в кратчайшие сроки опубликована в форме памфлета и продавалась по шиллингу за экземпляр.
Это только еще больше озадачило и ранило Пьера, когда другие, куда менее деликатные кандидаты в биографы все еще продолжали ему регулярно присылать печатные рекламные образцы «Истинной биографии» с его именем, вписанным чернилами, умоляя его оказать им, а также всему миру честь и сделать точный набросок своей жизни, включая критику на его же собственные произведения да напечатанные рекламы, кои неясно возражали, что, несомненно, он знал больше о собственной жизни, чем любой из ныне живущих, и что он один, сложив вместе великие работы Глендиннинга, может обладать правом по-настоящему, как следует проанализировать их и вынести окончательное суждение об их замечательной структуре.
И вот, когда Пьер находился под влиянием унизительных эмоций, порожденных такими событиями, как те, что были описаны выше, был преследуем книгоиздателями, граверами, редакторами, критиками, собирателями автографов, любителями портретов, биографами, а также просителями и протестующими друзьями литературы всех мастей, тогда в живую душу его прокрались дурные предчувствия меланхолического толка о полной неудовлетворительности любой человеческой славы; и с тех пор даже самые соблазнительные предложения и самые самоотверженные порывы, совершаемые в его интересах, – все это он вынужден был с грустью отклонять.
И нетрудно поверить, что после удивительного, жизненно важного, судьбоносного открытия, кое было так неожиданно сделано Пьером в Седельных Лугах – открытия, кое на какое-то время в неких определенных обстоятельствах в известной степени заставило его пережить чувства сродни тем, что обуревали Тимона Афинского[156], – он не преминул схватить с особенным нервным отвращением и презрением тот пухлый пакет, который содержал в себе рекламные образцы «Биографии» и письма других глупых лиц, письма, кои он в час не столь жестокого расположения духа отложил в сторону из любопытства. Это был почти дьявольский оскал, когда он увидел, как та самая груда бумажного хлама гибнет в пламени навсегда, и почувствовал, что словно это он был уничтожен на своих глазах так, что в его душе навеки убито и последнее, мельчайшее, непроявленное, микроскопическое начало того отвратительнейшего тщеславия, к которому все те абсурдные корреспонденты думали обратиться.
Глава XVIII ПЬЕР ВНОВЬ СТАНОВИТСЯ НАЧИНАЮЩИМ АВТОРОМ
I
Ввиду того что Пьеру, при посредстве различных косвенных намеков, ставилось в вину гораздо больше, чем обыкновенный естественный гений, может показаться странным, что до сей поры лишь самые посредственные журналы публиковали исключительные создания его ума. Нет нужды добавлять, что сии журналы в своей наиблагоразумнейшей серьезности не содержали в себе ничего необычного; в самом деле, полностью отбросим в сторону всю иронию, если до сих пор мы не отказывали себе в чем-либо подобном, – подобные беглые высказывания мастера Пьера были в высшей степени обыденными.
Это правда, как я уже давно сказал раньше, что природа в Седельных Лугах очень рано стала восприниматься Пьером как благословение – она играла для него в воздушные трубы с голубых холмов и нашептывала ему тайны гармонии в говоре своих родников и в шуме лесов. Но в то же время, как природа очень рано и очень обильно питает нас, она сильно запаздывает в обучении нас правильной методике, когда мы садимся на нашу диету. Или сменим метафору – скажем, есть бескрайние каменоломни прекрасного мрамора; но как его добыть, как надолбить его долотом, как построить храм? Молодость должна тогда совсем покинуть каменоломни на некоторое время, и не только отправиться в путь, чтобы добыть инструменты для работы на каменоломне, но должна прямиком отправиться изучать архитектуру. Открыватель каменоломни предшествует резчику по камню; и резчик по камню предшествует архитектору; и архитектор предшествует появлению храма, ибо храм венчает мир.
Да, Пьер не только не был архитектором в то время, Пьер и впрямь был тогда очень молод. И нередко замечаешь, что, ломая камень на руднике ради драгоценных металлов, много отходов этой добычи сперва мучительно прорабатывают и отбрасывают прочь; и, таким образом, кто-то, ломая камень в поисках золота гениальности, сперва вытаскивает на свет божий много глупости и банальности. Счастье было бы, если б у человека внутри помещалось некое хранилище для его же хлама подобного сорта, но человек подобен временному арендатору жилища, который не имеет права хранить лишние вещи в подвале, а вынужден выставить их прямо на улицу перед входной дверью, чтобы городские мусорщики забрали их на свалку. Наилучший способ навеки избавиться от своих банальностей – это существенно опустошить самое себя да создать из них книгу, ибо, единожды записав их в свою рукопись, можно потом сжечь книгу в огне, и все будет прекрасно. Однако рукописи не всегда попадают в огонь, и поэтому скверных книг – подавляющее большинство по отношению к тем, в коих есть положительные стороны. Любой, по-настоящему искренний человек, будучи автором, никогда не станет торопиться, точно называя период, когда же он полностью освободится от ненужного хлама да отыщет золото на своем руднике. Правда такова, что, чем больше умудрен жизненным опытом человек, тем больше недоверия он выказывает по определенным вопросам.
Довольно широко известно, что лучшие творения лучших умов человечества обычно расцениваются самими творцами как простые, незрелые работы новичка, как совершенно никчемные, за исключением первых шагов для вступления в великий Божий университет после смерти. Определенно, если какие-то выводы и можно подчерпнуть из наблюдений за обычной жизнью самых популярных авторов, тех, чьи превосходнейшие произведения стали до глупости популярны в мире, то можно заметить, что сии авторы не только очень жалки и ничтожны, но часто оказываются положительно неприятны, у них порой не сыщешь ни одной книги в доме. Для относительно посредственных умов, в отличие от умов высшего разряда, сии предполагаемые соображения могут оказаться столь печальными и неподходящими, что они становятся невнимательными к тому, что пишут; эти люди усаживаются за свои письменные столы с неудовольствием, и их удерживает там – жертв мигрени и боли в спине – только стойкое убеждение в своем подчинении некой общественной необходимости. Одинаково пустяковыми и презренными становятся в их глазах их же произведения, сочиненные таким образом – рожденные нежеланием и счетом от булочника, рахитичные отпрыски своих родителей, кои с небрежением относятся к самой жизни и безразличны к жизненному началу, кое она в себе содержит. Не позволим ограниченному миру и на миг вообразить, что какое-то тщеславие таится в подобных умах, они лишь наняты для того, чтобы появляться на подмостках, и не по доброй воле требуют внимания публики; их крайне живой румянец и блеск не более чем румяна, кои после в уединении омываются горчайшими слезами; их смех звенит только по пустому поводу, и ответный смех совсем не кажется им смехом.
Нет ничего столь же лживо-привлекательного, как печаль; сначала мы становимся печальны, когда у нас нет никакого увлекательного занятия, а после мы продолжаем печалиться, потому что под конец отыскали удобный диван. Пусть даже и так, сие очень может быть, что я, дойдя до сего спокойного ретроспективного маленького эпизода в карьере моего героя – этакого спокойного мелководья широкого водоема Таппан Зее[157] моего во всем остальном глубокого и стремительного Гудзона[158], – я тоже начинаю лениво растекаться и становлюсь безобидно-печальным и сентиментальным.
Словом, то, что до настоящего времени мы поведали о Пьере да о том ненужном хламе, который в некоторых случаях бывает неизбежными первыми плодами гения, никоим образом не противоречило факту, что первые опубликованные работы многих неплохих авторов имели признаки зрелого гения, ибо мы не знаем, как много своих произведений они сперва отправили в огонь или тайком опубликовали в своей собственной голове, да запретили их там столь же быстро. И у очень молодых авторов на низших ступенях их немедленного литературного успеха сие будет заметно почти неизбежно – заметно, что своим быстрым успехом они обязаны главным образом некоему своему богатому и уникальному жизненному опыту, который воплотился в книгу, и оттого, что сия книга содержит в себе подлинную жизнь да отпечаток личности самого автора, ее можно справедливо назвать настоящей; таким образом, множество удивительно оригинальных книг бывает творениями весьма неоригинальных умов. В самом деле, человеку достаточно быть просто немного внимательным, и последний лоскут его тщеславия полетит прочь. Мир всегда будет болтать об оригинальности, но никогда еще не было незаурядного человека, предполагаемого миром в сем смысле, сам первый человек – который, по словам раввинов, был также и первым автором, – не был при этом первоначальным, ибо единственный подлинный автор есть Бог. Постигни Мильтона участь Каспара Хаузера[159], Мильтон был бы столь же пуст и бездеятелен, как тот. Ибо, несмотря на то что обнаженная душа человека определенно содержит некий скрытый элемент умственной продуктивности, все же никогда еще не бывало ребенка, рожденного при участии лишь одного родителя; видимый мир жизненного опыта дает то живоносное семя, кое оплодотворяет муз; двойственные действенные гермафродиты не более чем ложь.
В мире бесконечно звучит много вздора на все эти темы, поэтому не порицайте меня, если и я внесу свою скромную лепту. Человек не может говорить или писать без того, чтобы не выставить свою душу беспомощно распахнутой на всеобщее обозрение, в то время как неуязвимый рыцарь ходит с опущенным забралом. Однако поболтать бывает приятно, приятно скоротать время за беседой, прежде чем мы отправимся в постель; наши речи становятся более захватывающими, когда нам, словно бродячим импровизаторам из Италии, платят за сотрясение воздуха. И мы будем только очень признательны, когда слушатели, зевая, отпустят нас восвояси вместе с несколькими дукатами, кои мы заработали.
II
Может быть, мы уже говорили, что финансовые планы Пьера попробовать независимые способы содержать себя в городе были основаны на его предположительных литературных талантах. Ибо как еще он мог зарабатывать на жизнь? У него не было профессии; он не занимался торговлей. Возможно, он был бы рад, если бы судьба сделала его кузнецом, а не джентльменом, Глендиннингом и гением. Но здесь он повел бы себя непростительно опрометчиво, если бы прежде не осознал на своем личном опыте в полной мере тот факт, что для сотрудника журнала молодой американской литературы получать несколько пенсов в обмен на свои стихи дело вполне возможное. Подобные заработки неизменно выручают в трудной ситуации, и было бы и глупо и неблагодарно не воспользоваться ими.
Но с тех пор, как высокое положение в свете да наследование Пьером родового имения в будущем, казалось, ныне никак не могли ему помочь заработать на свои нужды даже самый мелкий фартинг – не имеет значения, ручным ли трудом или с помощью ума, – может показаться желательным – дать здесь немного более подробные объяснения по мере развития нашего повествования. Мы так и поступим, но начнем, как обычно, с преамбулы.
Порою любой возможный афоризм или мысль кажутся избитыми, но все же несколько старейших высказываний из невосполнимого запаса, который, независимо от той ситуации, в коей находится человек, независимо от того, насколько он счастлив и процветает, будет неизменно раздражать его, он станет неизменно выходить из себя, невзирая на любое свое нынешнее положение. Словом, в то время как многие бедные чернильные рабы на галерах литературы тяжко орудуют тяжелым веслом – читай: пером, – дабы заработать какие-то необходимые деньги на удовлетворение естественных нужд, сам Пьер в это же самое время осыпал себя болезненными упреками, считая свои скромные литературные заработки по меньшей мере неизбежимым для себя позором; а меж тем эти рабы литературных галер жадно ухватились бы за них, не помня себя от счастья, – он, который беспечно относился к тому, что швы на его панталонах прохудились, – в самых отдаленных планах на будущее надеялся унаследовать богатые фермы Седельных Лугов, стать владельцем вполне приличного дохода и навеки защищенным от появления на руках предательских чумных пятен нужды – а именно пятен от чернил, – сам Пьер, несомненный и подлинный владелец тех благ, о коих все другие только жадно и безнадежно мечтают, – в общем, самым любимым делом Пьера, когда он хотел потешить свое суетное тщеславие, была возможность похвастаться, что он написал такие безделицы, за кои издатели заплатили бы что-то, в некоторой степени из чистых коммерческих соображений, поскольку они убеждены, что эта публикация обязательно принесет им доход. Все же, какой бы глупостью и слабостью Пьера это ни выглядело, давайте забежим немного вперед и увидим, так ли это было на самом деле.
Пьер был горд; а гордый человек – мы сейчас поясним, какого рода гордость имеем в виду, – всегда держит при себе, пусть в малом количестве, такое добро, кое, сколь бы полезно оно ни было, он добывает не для себя. Когда такая гордость обретает свою законченную форму, человек не захочет есть хлеб, если семена пшеницы для него не он сам засеял на пашне, и притом не без унизительной мысли, что даже эти семена могли быть выращены каким-то предшествующим плантатором. Гордый человек любит зависеть только от самого себя, а не от других. Он любит жить, будучи не только альфой и омегой для себя, но также недвусмысленно сторонясь всех средних различий, и затем бросается прочь со всех ног в любом направлении и растворяется в безбрежной дали. Какой же триумф пережил тогда Пьер, когда в его ладонях благородного джентльмена впервые зазвенели монеты, заработанные честным трудом! Заводите разговоры о барабанах и дудках – эхо от звона монет, заработанных самостоятельно, вдохновляет больше, чем все трубы Спарты. Как презрительно Пьер теперь взирал на те залы, что должны были отойти ему по наследству – портьеры и портреты, горделивые старинные гербы и знамена прославленных Глендиннингов, – уверенный в том, что, если придет нужда, он не обратится в расхитителя гробниц, который вынужден раскопать могилу своего деда, вождя индейцев, ради родового меча и щита, чтобы бесчестным образом отдать их в заклад ради пропитания! Он сможет сам себя прокормить. О, дважды счастливцем отныне почитал себя Пьер, обнаружив, что владеет дельными способностями.
Мастеровому, поденщику[160] открыт только один способ прожить – он должен трудом своих рук зарабатывать себе на хлеб насущный. Но Пьер мог в некоторой степени делать не только это – он мог иметь и другой заработок; и, позволяя своему телу лениво нежиться дома, отправлять свою душу работать, и его душа будет, возвращаясь назад, честно оплачивать все нужды тела. Так и иные джентльмены аристократического Юга, не владеющие ни одной профессией, коим случилось владеть собственными рабами, дают этим рабам право идти и искать работы и возвращаться каждый вечер со своим заработком, из коего складывается доход сего праздного джентльмена. Такой человек одновременно выступает как двурукий и четверорукий, который в поденно трудящемся теле имеет поденно трудящуюся душу. Все же такому джентльмену не стоит быть чересчур уверенным в себе. Наш Бог – завистливый Бог, Он не желает, чтобы какой-то человек владел хоть малейшей тенью Его собственной самодостаточной природы. Надень на душу ярмо тела и поставь их обоих трудиться на пашню, и либо одна, либо другое неизбежно падут замертво на борозде. Тогда береги свое тело от тяжелого труда, и твоя душа будет трудолюбивым титаном, или же береги душу от трудов, и тогда твое тело будет работящим гигантом. Выбирай! Вдвоем, в одном ярме, они не продержатся долго. Насколько выше самого властного и заоблачного тщеславия плывет облако истины, таким образом, любой снаряд, даже выпущенный вверх из артиллерийского орудия, стреляющего боеприпасами весом в шестьдесят два фунта, упадет в конце концов обратно на землю, ибо, как бы мы ни старались, мы не сможем сдвинуть земную орбиту, чтобы испытать притяжение других планет: земной закон гравитации действует далеко за пределами ее атмосферы.
В нашем мире бытует важное представление, что тот, кто уже полностью обеспечил себя всем необходимым, такой человек должен получить еще больше, в то время как у того, кто прискорбно обделен даже малостью, нужно забрать даже те крохи, кои у него есть. Все же свет божится, что это очень простая, низменно-реальная, однообразная, тяжеловесная человеческая природа мира. Мир управляется только простейшими принципами да высмеивает все двусмысленности, всю трансцендентальность и чудеса всякого рода. Порой тех, кто воображает, что имеет крамольный образ мыслей, на удивление часто упрекают за то, что они сознательно опрокидывают все благоразумные представления, за их нелепую и вытесняющую все трансцендентальность, коя говорит, что три это – четыре и дважды два равно десяти. Но если сам великий Джаггулариус когда-либо защищал в простых словах теорию, хоть на одну тысячную долю столь же глупую и подрывающую всякий здравый смысл, как та концепция, кою наш мир денно и нощно практикует уже целую вечность, давая тому, кто уже и так имеет всего более чем достаточно, еще больше излишних благ и забирая у того, кто имеет крупицы, даже его последнее, тогда самая правдивая книга в мире лжет.
Словом, мы видим, что так называемые трансценденталисты – не единственные, кто имеет дело с трансцендентальностью. Наоборот, нам кажется, что мы видим, как материалисты – самые обычные обитатели нашего мира – намного опережают посредственных трансценденталистов, пользуясь их же собственными малопонятными жизненными сентенциями. И что гораздо важнее, с одной стороны, их трансцендентальность – это одна лишь теория и инертность, и потому она безвредна, тогда как с другой – она в действительности основа образа жизни.
В высшей степени поражающая доктрина и практика нашего мира, кои описаны выше, требуют небольшого разъяснения в том, что касается Пьера. Ему в перспективе принадлежал гонорар от продажи нескольких сотен экземпляров журнала на фермах, разбросанных в беспорядке на просторах двух соседних графств; и владелец журнала, несмотря на то что он, по правде говоря, никогда не читал сонетов, а пересылал их своему редактору-профессионалу и был столь невежественен, что в течение долгого времени до того момента, как начали работу над самым первым номером журнала, он настаивал на том, чтобы в названии «Газель» «з» заменили на «г» (таким образом: «Гагель»), отстаивая свое мнение с помощью аргумента, что в соединении букв названия «Газель» «з» звучит самозванно, а «г», напротив, будет звучать мягко, ибо он был мягким судьей, и, говоря это, он мог опираться на жизненный опыт, так что владелец журнала был, вне всяких сомнений, трансценденталистом, ибо разве он не поступал согласно доктрине трансцендентальности, кою мы уже сформулировали?
Доллары, кои выплачивались ему как гонорар за стихи, Пьер всегда тратил на сигары; поэтому те порывы вдохновения, кои косвенным образом принесли ему доллары, вновь возвращались к нему, но уже ароматным дымом, благоухающим сладким табачным листом Гаваны. Таким образом, этот весьма выдающийся и знаменитый на весь мир Пьер – великий автор, – чей портрет мир никогда не видел (ибо разве он не отказывал многократно миру в этой возможности?), сей прославленный поэт и философ, автор сонета «Тропическое лето», против самой жизни которого несколько отчаянных мошенников плели темные интриги (ибо разве биографы не клялись, что так и есть?), он, эта титаническая знаменитость, он посиживал себе да все курил и курил, спокойный и окутанный клубами дыма сигар, как гора, окутанная туманами. Это была совершенно невольная и удовлетворительная двусмысленность. Его сигары добывались двумя способами – покупались на деньги от продажи сонетов да зажигались с помощью листов журнала с его же напечатанными стихами.
Даже в ранний период своей жизни как автора Пьер, сколь бы много тщеславия он ни испытывал при мысли о своей славе, не слишком гордился своим журналом. Он не только делал спички из своих сонетов, кои были там опубликованы, но также весьма легкомысленно относился к своим рукописям, если те отвергали для печати; их можно было найти валяющимися по всему дому; они причиняли массу хлопот служанкам, когда те подметали, шли на растопку каминов и постоянно выпархивали из окон да с порогов дверей в лицо особам, вступающим в залы поместного особняка. В этом безрассудстве, в этом безразличии Пьер был и сам своего рода издатель. Правда, его давние поклонники нередко всерьез уговаривали его отказаться от сего неуважения к примитивному облачению его бессмертных трудов, говоря, что чего бы ни коснулось могущественное перо, с тех пор становится священным, как уста, кои хоть раз приветствовали великую пятку папы Римского. Но, будучи непреклонным к таким дружеским порицаниям, Пьер никогда не запрещал им горячо одобрять «Слезу», маленький клочок новой рукописи, в коей уместилась точка (слеза) над буквой «i» (глазом)[161], открытие коего расценивалось как значительное событие судьбоносной важности; поклонник творчества умолил Пьера даровать ему особое право – иметь позволение оформить найденный клочок в брошь, заменить камею с профилем Гомера на более драгоценный перл. Поклонник стал безутешен, когда как-то раз был застигнут врасплох дождем, и точка (слеза) растворилась в дождевых каплях над «i» (глазом); таким образом, своеобразие и изумительность сонета стали еще более заметны, и заметны хотя бы в том, что малейший его фрагмент способен вызывать дождь в засуху, в то время как остается совершенно бесслезным во время ливня.
И вот этот равнодушный и надменный литератор-любитель, глухой к обожанию мира, загадочно веселый и прославленный автор «Слезы», гордость журнала «Газель», на чьей кричащей обложке его имя крупным шрифтом открывало список авторов (кои тоже не были незначительными людьми, ибо их имена и фамилии по-братски теснились одна к другой и сливались, и их сходство друг с другом проистекало из совместной работы и, напечатанное на бумаге, могло быть разом куплено в одном магазине), сей Пьер, обладающий большим престижем, чья будущая популярность и плодовитость были столь поразительно заявлены теми произведениями, кои он уже написал, что некие спекулянты устремились в Луга обследовать поместье в поисках гидроэнергии, имея в планах построить бумажную фабрику исключительно для нужд великого автора и таким образом получить монополию на его сделки касательно канцелярии, этот титан, о коем с благоговением говорят все юные соискатели литературной славы, этот, не поддающийся годам Пьер, перед коим пожилой джентльмен шестидесяти пяти лет, бывший библиотекарь библиотеки Конгресса, будучи ему представленным владельцами журнала, благочестиво сорвал с себя шляпу и держал в руках, оставшись стоять, хотя Пьер в присутствии всех невозмутимо сидел в шляпе, этот удивительный, презрительный гений – но только пока еще новичок в жизни – вскоре предстанет в совсем другом свете. Он усвоит урок, и очень горький урок, что, хотя мир поклоняется посредственности и банальности, он огнем и мечом истребляет все современные шедевры, что, хотя мир клянется жестоко карать всякое лицемерие, все же далеко не всегда прислушивается к серьезности.
И хотя в сем положении вещей, объединенных постоянно увеличивающимся потоком новых книг, кажется, что мы неизбежно движемся к грядущим временам, где большая часть человечества придет к той степени маразма, когда авторы станут столь же редкими, как алхимики в наши дни, и печатный станок будут считать незначительным изобретением, однако даже теперь, в предвкушении этого, давайте обнимемся, о, мой Аврелиан! И пусть эра авторов пройдет, а времена серьезности останутся!
Глава XIX ЦЕРКОВЬ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ
I
В нижней старой части города на узенькой улице – ее можно назвать переулком, – когда-то застроенной скромными зданиями, но теперь главным образом огромными надменными магазинами иностранных компаний, и неподалеку от того угла, где переулок пересекала очень важная, но укороченная и оживленная улица для купцов и их клерков, их извозчиков и грузчиков, стояло в то время необыкновенное и древнее строение, реликт примитивных времен. Оно было построено из сероватого камня, грубо обтесанного и сложенного в стены изумляющей толщины и прочности; в двух стенах – в боковых – шел ряд арочных и величественных окон. Просторная, прямоугольная башня, лишенная каких-либо украшений, возвышалась перед зданием церкви, была вдвое его выше; три стороны этой башни были испещрены маленькими и узенькими окошками. До сих пор в своем внешнем виде строение, кое стояло уже более ста лет, вполне отвечало тем целям, для коих оно изначально было воздвигнуто. Внутри это было просторное и высокое строение из грубого камня, кое выходило фасадом на ближайшую улицу, а задним фасадом почти примыкало к заднему фасаду церкви, оставляя маленькое, плиточное, квадратное пространство между ними. По сторонам этого квадрата три яруса простых колоннад представляли собой крытые переходы, кои связывали между собой древнюю церковь и более современную пристройку. Разрушенная, поржавевшая и заброшенная старая ограда из железных прутьев в маленьком внутреннем дворе перед внутренним строением, казалось, намекала, что более позднее строение узурпировало незанятое пространство, прежде священное, как и церковная кладбищенская ограда. Подобное предположение было совершенно правильным. Построенная в те времена, когда эта часть города была отдана на застройку частными домами, а не магазинами и офисами, как теперь, старая церковь Святых Апостолов была чтима и благоденствовала, но поток изменений и прогресса хлынул прямо сквозь ее главные и боковые проходы, и перенес прихожан в место куда большего скопления народа, на две или три мили в глубь города. Некоторые упорные и почтенные пожилые купцы и счетоводы, кои задержались ненадолго на этих пыльных церковных скамьях, слушая увещевания честного старого пастора, который, будучи верным своему посту, несмотря на то что паства его разлетелась, все еще произносил свои полумертвые проповеди с полусгнившей кафедры и время от времени стучал кулаком – хотя уже теперь менее энергично – по изъеденному мышами сукну столешницы кафедры. Но и это миновало, и этот старый добрый священник перешел в мир иной; и когда оставшиеся седовласые и лысые купцы и счетоводы вынесли его гроб из главного прохода, чтобы с честью предать земле, это уже был последний раз, когда старое здание стало свидетелем того, как постоянные прихожане покидают эти стены. Почтенные купцы и счетоводы провели собрание, на котором пришли к окончательному решению, что как бы ни была тяжела и неприятна эта необходимость, но все же теперь нет смысла отрицать тот факт, что здание больше не отвечает тем первоначальным нуждам, ради коих оно было воздвигнуто. Его следует отдать под склады, разделить на офисы и отдать под конторы стаям адвокатов. Сказано – сделано, и были даже устроены офисы на верхотуре башни; и сии намерения увенчались таким успехом, что в конце концов пришлось во дворе бывшей церкви возвести дополнительное здание, точно так же предназначенное для сдачи в аренду арендосъемщикам всех мастей. Но это новое здание очень сильно превосходило старую церковь по высоте. Имеющее семь этажей, оно нависало над древним зданием устрашающей громадой титанического камня, приходясь своей черепичной крышей почти вровень с верхушкой церковной башни.
В этом двусмысленном сооружении владельцы зашли слишком далеко – или, точнее, стали строить уж слишком высоко. Ибо люди, как правило, редко по доброй воле доводят свои ссоры до судебных разбирательств, если поблизости нет адвокатов, которые всегда готовы им в этом помочь; поэтому цель адвокатов – всегда нанимать такие офисы, в кои можно легче и быстрее всего попасть с улицы, на первых этажах, если возможно, чтобы клиентом не приходилось делать и лишнего шага, но, во всяком случае, уж точно не на седьмом этаже какого бы то ни было здания, где их клиенты могут пуститься в размышления: а надо ли их вообще нанимать? – пока будут вынуждены взбираться семь долгих лестничных пролетов, преодолевая их один за другим, – пролеты с очень маленькими лестничными площадками, – просто для того, чтобы заплатить предварительный гонорар за услуги. Словом, спустя некоторое время после того, как их сдали в эксплуатацию, верхние этажи менее старинного здания оказались почти целиком без арендосъемщиков; и благодаря грустному эху этих пустующих помещений как раз над головой преуспевающих бизнесменов-арендосъемщиков с нижних этажей им должны были предложить хотя бы нескольких из них… неприятное сравнение, ссылаясь на нижние этажи, заполненные до отказа, и сравнивая их с меланхолической пустотой верхних, – увы! Полные кошельки и пустые головы! Это печальное состояние дел, как бы там ни было, наконец измени лось к лучшему, благодаря постепенному заполнению пустующих комнат наверху толпами разношерстного люда: авантюристов, сидящих на хлебе и воде, и всяких двусмысленно профессиональных темных людишек в очень приличных, но истрепанных черных одеждах, и неисчислимым количеством парней, по виду – иностранцев, в очках с синими стеклами, кои слетелись из разных частей света, как аисты в Голландию, на карнизы и мезонины высоких старых зданий в самых больших городах, имеющих морской порт. Здесь они усаживаются и тараторят между собой, как сороки, или спускаются на поиски маловероятных обедов, и их можно увидеть стоящими навытяжку на обочине у окон ресторанов, подобно тощим вереницам удрученных пеликанов на морском берегу; их пустые карманы дрябло обвисают вниз, как мешочки под клювами пеликанов, когда рыба не дается им в поимку. Но эти нищие черти, не имеющие за душой ни гроша, все еще старались устроить себе богатое возмещение за свою настоящую нищету, решительно веселясь в области своих блаженных идей.
В большинстве своем они были артистами всех мастей – художниками, или скульпторами, или бедными студентами, или учителями, преподающими языки, или поэтами, или беглыми французскими политиками, или немецкими философами. Их духовные наклонности, какими бы еретическими они ни были, порою все же оказывались весьма возвышенными и одухотворенным на общем фоне с тех пор, как отсутствие денежных средств привело их к отказу от грубого материализма Гоббса и склонило к воздушным восторженным излияниям философии Беркли. Частенько, шаря понапрасну у себя по карманам, они не могли не отдать предпочтение фокусам Декарта, в то время как избыток свободы на их чердаках (как буквальной, так и фигуральной) соединялся с пустотой их желудков и наполнял их в высокой степени единодушным и неослабным вниманием к правильному усвоению возвышенных категорий Канта, особенно поскольку Кант (обделенность каким бы то ни было правом)[162] есть один великий ощутимый факт в их проникновенно незаметной жизни. Вот прославленные нищие, от коих я узнал о глубочайших тайнах жизни, с тех пор как само их существование в центре столь ужасной ненадежности без обычнейших средств поддержки дает жизнь проблеме, над решением коей тщетно билось бы множество умников-теоретиков. Все же позвольте мне здесь представить на ваше рассмотрение три локона моих волос в память о всех таких знаменитых нищих, какие жили и умерли в этом мире. Я искренне и несомненно уважаю их – как правило, благородных людей в глубине души, – и по этой самой причине я осмеливаюсь говорить о них в игривом тоне, ибо там, где всегда есть место основополагающему благородству и непреложной чести, веселость никогда не считается непочтительностью. Глупцы да те, кто притворяется гуманистами, а также самозванцы и бабуины среди богов, лишь они одни обижаются на добродушные шутки; и с тех самых пор, как оба сорта сих людей и богов пребывают в убеждении, что их имена уцелеют для вечности, они редко тревожатся о подстрекательских сплетнях толстых старух или о веселых песнях смешливых мальчишек на улице.
Когда тело умирает, человек становится тенью. Здания, когда-то разделенные ради высоких целей, все еще сохраняют в своем названии свое благородство, даже когда их приспосабливают для самых посредственных нужд. Может показаться, что современные люди, словно по воле неотвратимого рока отказавшись от романтики да высоты, принуждены идти на компромиссы, а мысль о некоей, живущей лишь в их воображении исторической памяти служит им единственной поддержкою. Сия любопытная тенденция чаще всего дает о себе знать в почтенных странах заокеанского Старого Света, где до сих пор над Темзой один мост по-прежнему напоминает о религиозном движении доминиканцев[163], несмотря на то что не одни только доминиканцы, но также многие воры-карманники стаивали на нем в старые добрые времена после правления королевы Бесс[164], где также еще бесчисленное множество других исторических памятников сладостно и грустно напоминают современному человеку об удивительной череде предков, что предшествовали его новому поколению. Однако, поскольку мы относительно недавно обосновались на сих Колумбовых берегах, а посему исключается и большой вклад наш в появление здешних прекрасных объектов исторической памяти, несмотря на это, мы не вполне, не целиком лишены, особенно в наших старейших городах, некого прикосновения истории, что заметно то тут, то там. Так было и с древней церковью Апостолов, насколько известно, даже в ее первые дни, под сокращением «Апостолы», кои, хотя теперь и обратились из первоначального церковного строения в нечто совершенно противоположное, все же продолжали носить свое величественное имя. Стряпчий или артист, нанимающий здесь комнаты, в старом ли здании или в новом, когда его спрашивают, где его можно отыскать, обычно отвечает: «У Апостолов». Но поскольку теперь наконец, благодаря неизбежному переселению примечательных местных жителей различных профессий в процветающий и растущий город, почтенное заведение перестало быть столь заманчивым, как в прежние времена, для джентльменов, занятых бизнесом, и поэтому странный сброд из авантюристов и художников да нищих философов всех сортов фактически заполнил все освободившиеся помещения, таким образом упоминая о метафизической странности сих любопытных обитателей здания, будучи, в некоторой степени, осведомлен о том обстоятельстве, что некоторые из них были хорошо известными телеологическими теоретиками и социальными реформаторами да политическими пропагандистами всяческих еретических доктрин; по этой причине, говорю я, а также отчасти, возможно, из-за некоего легкомысленного озорства публики само древнее известное имя старинной церкви было сообща преобразовано ее тамошними жителями. Словом, протекло некоторое время, и такова стала общая манера в наши дни, что те, кто нанимал комнаты в древней церкви, стал фамильярно называть ее «Апостол».
И вот, поскольку каждый результат становится причиною нового и последующего, то и теперь получилось, что, сообразив, что они живут как своеобразный клан и при этом, к сожалению, не носят никакого названия, жильцы почтенной церкви стали выходить из своих несхожих комнат да собираться вместе для того, чтобы больше общаться; их влекло друг к другу название, ставшее для всех привычным. Мало-помалу от этой отправной точки они пошли дальше и постепенно наконец организовали особое общество, которое, несмотря на то что было совершенно незаметным или едва ли заметным в своих публичных демонстрациях, все же тайно подозревалось в том, что якобы имело некую таинственную, скрытую цель, неясным образом связанную с полным переворотом в Церкви и государстве, да было скорым и ранним предвестником некоего неведомого великого политического и религиозного тысячелетия. Однако, невзирая на то что некоторые ревностные консерваторы и ярые поборники морали несколько раз уведомляли полицию, предупреждая о том, чтобы те хорошенько присматривали за старой церковью, и хотя в самом деле иной полисмен порой посматривал с любопытством на подозрительно узкие оконные проемы высокой башни, все же, сказать по правде, это было место, судя по всему, очень спокойное и приличное, а его жители – компанией безобидных людей, чьи величайшие надежды не простирались дальше дорогих пальто и великолепных модных шляп – всего, что можно в изобилии найти под солнцем.
Несмотря на то что в середине дня множество тележек, нагруженных тюками и коробками, выстраивалось шеренгою у магазинов неподалеку от Апостолов и вдоль по сему критически узкому переулку порою спешили купцы, чтобы выписать свои чеки в банках, пока те не закрылись, все же улица, будучи по большей части отдана для простых складских целей, в общем-то не была сильно оживленной, это всегда было скорее уединенное и тихое местечко. Но час или два до заката и до десяти-одиннадцати утра она была по-настоящему тихой и пустынной, не считая, разве что, самих жителей Апостолов; а каждое воскресенье она представала улицей удивительного и поразительного покоя, где не было ничего, кроме длинной аллеи из шести-семи магазинов с жесткими железными ставнями, кои закрывали их с обоих выходов. Совершенно то же самое происходило и на другой улице, коя, как уже было сказано, пересекалась со складским переулком неподалеку от Апостолов. Ибо, несмотря на то что та улица действительно отличалась от последней, будучи оживленной из-за недорогих столовых для клерков, иностранных ресторанов и других прибежищ, созданных коммерцией, все же одно только жужжание на ней было ограничено деловыми часами; ночью она как вымирала, и там нельзя было встретить ни единой живой души, одни фонари горели; и по воскресеньям, идя по ней, казалось, что шествуешь по авеню из сфинксов.
Вот каким было нынешнее состояние древней церкви Апостолов, где на нижних этажах гудели немногочисленные оставшиеся конторы сомнительных адвокатов и где поэты, художники, бедняки и философы всех званий густо заселили верхние этажи. Таинственный профессор игры на флейте жил на одном из верхних этажей башни; и часто в тихие, лунные ночи высокие, благозвучные мелодии его флейты летели над крышами десяти тысяч складов вокруг башни, словно в былые времена, когда переливы малинового звона с колокольни плыли над фронтонами домов давно ушедшего поколения.
II
На третью ночь после своего прибытия в город Пьер в сумерках сидел у высокого окна в заднем здании Апостолов. Комната была убогой даже по меркам нищеты. Никакого ковра на полу, ни единой картины на стене; ничего, кроме низкой, длинной и весьма любопытного вида односпальной кровати, коя могла, возможно, служить убогим ложем бедному холостяку; широкий, голубой, крытый ситцем сундук; расшатанный, ревматический и древнейший стул красного дерева да широкая доска из крепчайшего виргинского дуба, около шести футов в длину, что лежала сверху на двух пустых, поставленных прямо бочонках из-под муки, придавленная сверху большой склянкой чернил, пучком незаточенных перьев, ножом для очинки перьев; папка да стопка писчей бумаги, все еще непереплетенная, помеченная штампом: «Линованная синяя».
На третью ночь там в полумраке сидел Пьер у высокого окна в нищенской комнате в заднем здании Апостолов. Ныне он пребывал в праздности, несомненно; в его руках ничего не было, но что-то, должно быть, лежало у него на сердце. Порою он пристально глазел на странную, ржавую, старую кровать. Она, казалось, обладала для него могущественной символичностью, да и была в высшей степени символична. Ибо это была старинная, изношенная, складная походная кровать его деда, дерзкого защитника форта, храброго капитана многих успешных кампаний. На этой самой походной кровати здесь, в палатке на поле боя, знаменитый старый генерал, со спокойным взглядом и сердцем воина, спал, но проснулся, чтобы пристегнуть к поясу свой рыцарский клинок, ибо то было благородное рыцарство, павшее от руки великого Пьера; в ином мире призраки его врагов хвастливо рассказывали о том, чья рука оборвала их жизнь.
Но эта жесткая постель войны снизойдет ли до того, чтобы принять как наследника изнеженное тело мирного человека? В мирное время полных амбаров, да когда шум мирных цепов повсюду, да жужжание мирной коммерции громко звучит, разве внук двух боевых генералов должен быть таким же воином, какими были они? О, не напрасно во времена этого мнимого мира предки Пьера были воинами! Ибо Пьер также родился бойцом; жизнь была его кампанией, и яростная коалиция из трех союзников – несчастья, презрения и нужды – была его врагом. Необъятный мир объединился против него, ибо, смотри же, он несет в руках знамя правды и клянется вечностью и истиной! Но ах, Пьер, Пьер, когда ты ляжешь в эту постель, с каким смирением ты будешь думать о том, что даже твоего впечатляющего роста недостаточно, чтобы тебе пришлась впору кровать великого Джона, прародителя-гиганта! Статуя воина ныне разбита – к угасающей славе битвы. Поскольку больше славы в том, чтобы на поле боя жизни победить такого врага, как несчастье, чем в стычках благородной души с трусливым миром ради преследования подлого врага, у коего никогда духу не хватит повернуться к тебе лицом и сражаться.
Там тогда, на третью ночь, в полумраке, у высокого окна нищенской комнаты, сидел Пьер в заднем здании Апостолов. Он вперил пристальный взгляд в окно. Но за исключением донжона старой серой башни, кажется, здесь больше не на что смотреть, кроме множества крыш, крытых черепицей, шифером, кровельных дранок и жести – пустынный вид множества черепицы, шифера, кровельных дранок, жестяных крыш, коими мы, современные вавилоняне, заменили большие висячие сады старой доброй Азии в те времена, когда славный Навуходоносор был царем.
Так Пьер сидел, странный чужеземец, который был перенесен судьбой из прекрасных покоев старинного владетельного особняка, чтобы укорениться на этой скудной почве. Нет больше сладких, благоуханных ветров с окрестных холмов и зеленых полей Седельных Лугов, чтобы овеять его щеки живительной свежестью. Подобно цветку, он чувствует перемену: румянец сошел с его щек, его щеки запали и побледнели.
Из высокого окна этой нищенской комнаты что же это Пьер так внимательно рассматривал? На такой высоте вовсе не видно улицы; словно глубокая черная пропасть, пустынное пространство четырехугольника зияло внизу. Но на той стороне и в дальнем конце крутой крыши древней церкви маячила серая и величественная старая башня, для Пьера – символ непоколебимой стойкости, коя, глубоко укоренившись в недрах земли, бросает вызов всем порывам любых бурь.
В комнате Пьера есть дверь прямо напротив окна; и теперь тихий стук слышен в этом направлении, сопровождающийся ласковыми словами, когда говорящий спрашивал, может ли он войти.
– Да, всегда, прекрасная Изабелл, – отвечал Пьер, поднявшись на ноги и приблизившись к двери. – Сюда! Растянемся на старой походной кровати вместо софы. Входи, присядь сюда, сестра моя, и давай представим, что мы находимся там, где бы тебе хотелось.
– Тогда, брат мой, давай представим, что мы находимся в землях непреходящего полумрака и покоя, где никогда не всходит яркое солнце, поскольку черная ночь – его вечный последователь. Полумрак и покой, брат мой, полумрак и покой!
– Сейчас сумерки, сестра моя, и, безусловно, эта часть города, по крайней мере, кажется тихой.
– Теперь сумерки, но скоро ночь, затем быстрое солнце, а затем другая длинная ночь. Покой сейчас, но сон и пустота – вскоре, и затем тяжелая работа для тебя, брат мой, до тех пор, пока приятные сумерки не наступят снова.
– Давай зажжем свечу, сестра моя, полумрак густеет.
Пьер придвинулся к Изабелл и обвил рукой ее талию; ее милая головка приникла к его груди; оба почувствовали взаимный трепет.
– О, мой дорогой Пьер, почему мы должны всегда жаждать покоя и затем негодовать, когда он наступает? Скажи мне, брат мой! Всего пару часов назад ты желал наступления сумерек, и вот теперь ты торопишься зажечь свечу, чтобы прогнать их прочь.
Но Пьер, казалось, не слышал Изабелл; его рука стиснула ее в объятиях крепче, все его тело сотрясала легкая дрожь. Затем вдруг низким голосом, с удивительной силой, Пьер выдохнул:
– Изабелл! Изабелл!
Она обняла его рукой, как и он ее; дрожь передалась от него к ней; оба сели, чувствуя, что не могут доверять ногам.
Пьер вскочил и стал мерять шагами комнату.
– Что же, Пьер, ты пришел сюда, чтобы привести в порядок свои бумаги, так ты сам сказал. Ну, что ты уже успел сделать? Покажи, мы зажжем свечу.
Свеча была зажжена, и их разговор продолжился.
– Так как насчет бумаг, брат мой? Все ли в порядке? Решил ли ты, что будешь публиковать в первую очередь, в то время как ты будешь писать новое произведение, о чем ты говорил вскользь?
– Взгляни на тот сундук, сестра моя. Разве ты не видишь, что тесемки до сих пор связаны?
– Получается, ты до сих пор ничего не делал?
– Совершенно ничего, Изабелл. В десять дней я прожил десять тысяч лет. Предупреждаю, не прикасайся к хламу в том сундуке, я не могу найти в себе мужества, чтобы открыть его. Дрянь! Отбросы! Грязь!
– Пьер! Пьер! Что это за перемена в тебе? Разве ты не говорил мне, когда мы сюда пришли, что твой сундук содержит в себе не только золото и серебро, но и куда более драгоценные вещи, которые дожидаются того, чтобы обратить их в серебро и золото? Ах, Пьер, ты клялся, что нам нечего бояться!
– Если я когда-либо намеренно обманул тебя, Изабелл, пусть верховные боги явят мне Бенедикта Арнольда[165] и отправят меня к дьяволам, чтобы они перепробовали на мне все адские муки! Но бессознательно обмануть себя и тебя заодно, Изабелл, это совсем другое дело. О, какой же человек на самом деле подлый плут и обманщик! Изабелл, в этом сундуке – произведения, на кои, как я думал в те часы, когда писал их, сами небеса взирают из своих воздушных пределов, изумляясь их красоте и силе. Теперь же, после того как по прошествии нескольких дней я поостыл немного, снова взял написанное и внимательно прочитал, во мне зашевелились некие скрытые подозрения; но теперь, на просторе, я вспомнил свежие, незаписанные образы неумело записанных произведений; и тогда я почувствовал, что снова начинаю радоваться жизни и торжествовать, как если бы сим идеальным воссозданием своих мечтаний я несомненно перенес прекрасные мечты в свои убогие пробы пера, воплотил их там. Это настроение осталось. Вот тогда, на этой радостной волне, я и говорил с тобой о тех прекрасных произведениях, кои написал, а золотые и серебряные копи для тебя и для себя я давным-давно растратил прежде – я, который не должен был приходить туда ни во плоти, ни мыслью. Тем не менее все это время я тайно подозревал себя в глупости, но я не мог признаться в ней, я захлопнул дверь своей души перед ее носом. А теперь десять тысяч всеобъемлющих обличений выжгли у меня на лбу клеймо глупца! Как опротестованные векселя от банкиров, все эти мои писания неровными рывками все прорываются и прорываются вместе с протестующим ропотом правды!.. О, я болен, болен, болен!
– Позволь рукам, кои никогда никого не обнимали, кроме тебя, привлечь тебя к себе снова, Пьер, в тишине полумрака, пусть даже глубочайшего!
Изабелл задула свечу и заставила Пьера сесть с ней вместе; и их руки сплелись.
– Скажи, разве теперь твои мучения не исчезли, брат мой?
– Да, но их место заняли… заняли… заняли… О боже, Изабелл, отпусти меня! – закричал Пьер. – Вы, небеса, что прячете себя под черным клобуком ночи, я взываю к вам! Если избрать путь добродетели в ее чистейшем виде, путь, коим обычные души никогда не следуют, если из-за этого я попаду в ад, чистейшая добродетель в конце концов окажется не чем иным, как предательской сводницей, открывающей дорогу самому чудовищному злу, – тогда сдвиньтесь и раздавите меня вы, каменные стены, и пусть все сгинет в единой пропасти!
– Брат мой! Ты как-то странно, непонятно бредишь, – сказала Изабелл звенящим голосом, бросаясь к нему на шею. – Брат мой, брат мой!
– Прислушайся к потайному, самому глубочайшему голосу своей души. – В порывистых фразах Пьера зазвенела сталь. – Не называй меня больше своим братом! Как ты можешь знать, что я твой брат? Разве твоя мать сказала тебе? Разве мой отец сказал это тебе?.. Я – Пьер, и ты – Изабелл, природные брат и сестра, коих роднит только принадлежность к человеческому роду – и ничего более. Что же до остального, предоставим богам возможность полюбоваться на их собственное взрывоопасное топливо. Если им угодно было создать меня из пороха, пусть же любуются на меня! Пусть любуются! А! Теперь мне рисуются мимолетные видения, и мне кажется, что я почти вижу каким-то образом, что чистейший идеал морального совершенства в человеке – огромнейшее заблуждение. Полубоги раздавлены в прах, и добродетель, и зло – прах! Изабелл, я буду писать такие произведения… я напишу для мира новые Евангелия и открою ему глубочайшие тайны, кои затмят Апокалипсис!.. Я напишу это, я напишу это!
– Пьер, я всего лишь бедная девушка, рожденная в сердце тайны, выросшая в тайне и все еще выживающая в ней. Поскольку я сама являю собой тайну, воздух и земля представляются мне несказанными – нет слов, в которых я могла бы рассказать о них. Но то – тайны окружающего мира; твои же слова, твои мысли открывают для меня иные миры, полные чудес, куда я не дерзаю вступить в одиночестве. Но поверь мне, Пьер. С тобой, с тобой я храбро брошусь плыть в беззвездном море, и я буду поддержкой тебе там, где ты, сильнейший пловец, чувствуешь, что слабеешь. Ты, Пьер, говорил о добродетели и зле… всю свою жизнь Изабелл была невежественной и знает и то и другое по одним лишь слухам. Что же они представляют собой на самом деле, Пьер? Расскажи мне сперва, что есть добродетель; начинай!
– Если от этого вопроса сами боги теряются, должен ли пигмей говорить? Вопрошай воздух!
– Тогда добродетель есть ничто.
– Не так!
– А зло?
– Смотри: это ничто есть сущность, коя отбрасывает одну тень с одной стороны, и другую – с другой; и эти две тени исходят из единого ничто – вот что, как видится мне, есть добро и зло.
– Почему тогда они так мучают тебя, мой дорогой Пьер?
– Есть закон.
– Что?
– Ничто и должно терзать ничто, ибо я есть ничто. Все это сон – мы видим сон, что мы спим и видим сон.
– Пьер, когда ты вот так паришь в небесах, ты начинаешь говорить для меня загадками; но теперь, когда ты рухнул на самое дно человеческой души, теперь, когда ты можешь показаться сумасшедшим для людей мудрых, возможно, только теперь бедная, невежественная Изабелл начинает действительно понимать тебя. Твои чувства долгое время были моими, Пьер. Долгое одиночество и мучения открыли для меня волшебство. Да, это все сон!
В одно движение Пьер поймал Изабелл и сжал в своих объятиях:
– Ничто может породить лишь ничто, Изабелл! Разве человек может согрешить во сне?
– Во-первых, что такое грех, Пьер?
– Одно название для другого названия, Изабелл.
– Для добродетели, Пьер?
– Нет, для зла.
– Давай опять присядем, брат мой.
– Я – Пьер.
– Давай присядем снова, ближе друг к другу; твою руку!
И так, на третью ночь, когда полумрак растаял и ни один светильник не был зажжен, у высокого окна в той бедной комнате сидели притихшие Пьер и Изабелл.
Глава XX ЧАРЛИ МИЛЛТОРП
I
Пьера убедил снять комнаты у Апостола один из тех, кто сам там проживал, его старый приятель, который родился и вырос в Седельных Лугах.
Миллторп был сыном весьма почтенного фермера – теперь уже перешедшего в мир иной, – фермера, который отличался незаурядным умом, чей скромный наряд и согбенные плечи венчала голова, коя подошла бы греческому философу, чьи черты были столь приятными и правильными, что сделали бы истинную честь, будучи украшением процветающего джентльмена. Политическое и социальное уравнивание да смешивание между собой всех и вся в Америке породили множество поразительных человеческих парадоксов, неизвестных в других землях. Пьер прекрасно помнил старого фермера Миллторпа, красивого, меланхоличного, спокойного, бессловесного пожилого человека, в чертах лица которого – изящно-благородных от рождения и все же сильно загорелых и изможденных от бесконечной ежедневной работы на поле – неотесанность и классическое благородство странным образом слились воедино. Его точеный профиль говорил о высочайшей аристократичности; его натруженные и костлявые руки говорили о бедности.
Несмотря на то что на протяжении нескольких поколений Миллторпы жили на землях Глендиннингов, они свободно и скромно прослеживали свою родословную от эмигрировавшего английского рыцаря, который пересек море и ступил на эту землю во времена, когда правил Карл-старший[166]. Но та нужда, которая побудила рыцаря оставить свою цивилизованную страну ради кричащей пустоты, стала единственным наследием, кое он оставил своим, преклонившим колена у его постели потомкам в четвертом и пятом колене. В то время когда у Пьера появились первые воспоминания об этом необыкновенном человеке, тот – годом или двумя ранее – оставил богатую ферму из-за совершенной невозможности выплачивать земельную ренту и стал арендовать очень бедный и небольшой клочок земли, на коем стоял очень маленький, полуразрушенный дом. Там он стал ютиться вместе со своей женой – очень благовоспитанной и застенчивой особой, – тремя маленькими дочерьми и единственным сыном, парнем одних с Пьером лет. Красота, перешедшая по наследству, и цветение юности этого мальчика, добродушие его характера и что-то от прирожденного благородства, кое расходилось с однообразной грубостью и нередкой подлостью его соседей, – все эти качества рано вызвали к нему сочувственную, спонтанную дружелюбность в Пьере. Они очень часто совершали свои мальчишеские прогулки вместе; и даже суровая критичная миссис Глендиннинг, коя всегда относилась с разборчивой осторожностью к приятелям Пьера, никогда не запрещала ему дружить со столь приятным и хорошеньким крестьянином, каким был Чарльз.
Мальчики часто очень скоры и резки в составлении суждения о чьем-либо характере. Ребята недолго дружили, а Пьер уже пришел к заключению, что, сколь бы привлекательным ни было его лицо да сколь бы мягким ни был характер, юный Миллторп отличался небольшой живостью ума и что, кроме того, последнему свойственны определенная заурядность, второсортность и самовлюбленность, кои, тем не менее, не имели для себя иной пищи, кроме отцовской каши и картофеля, и что его нрав, который отличался застенчивостью и отзывчивостью в высокой степени, проявлял себя только как забавная и безобидная, хотя и неисцелимая, необычная черта характера, коя нисколько не вредила доброжелательности и общительности Пьера, ибо даже в свои мальчишеские годы Пьер проявлял безукоризненную отзывчивость, коя могла свободно затмить все его незначительные недостатки и низости, равно судьбы иль ума; охотно и радостно он заключал в объятия все хорошее, как бы оно себя ни проявило или с чем бы ни соединялось. Так и мы, в нашей юности, бессознательно формируем те самые принципы, кои потом, в сознательных да облеченных в словесную форму правилах, методично регулируют нашу взрослую жизнь, – факт, который ярко доказывает, что наша жизнь обладает детерминистической зависимостью и подчиняется вовсе не нам, но судьбе.
Если зрелый человек со вкусом способен заметить картинность природного пейзажа, то он также остро различает то, что совсем не лишне здесь упомянуть ля повретэ[167]в социальном пейзаже. В глазах этакого человека со вкусом ничто не смотрится столь живописно рядом с разметанною соломенной крышею какого-нибудь коттеджа, нарисованного Гейнсборо[168], чем свисающие грязными сосульками власы всегдашнего, отощавшего от голода нищего, вносящего разнообразие а ля повретэ в сии приятные небольшие кабинетные картины[169] светского толка, кои, тщательно покрытые лаком да вставленные в изящные рамки, висят в парадных покоях разума всех этих гуманистов, светских людей с отменным вкусом да любезных философов школы, именуемой «Компенсация» или «Оптимизм». Они убеждены, что нет почти никаких страданий на этом свете, а если какие-то все же и есть, то лишь служат для добавления изящных штрихов а ля повретэ в общую картину мира. Будьте спокойны! Господь озаботился помещением денег в банк для нас, джентльменов; для нас Он щедро устлал мир благословенным ковром летней зелени. Прочь, Гераклит![170] Плач дождя всего-навсего вынудит нас раскрыть свои зонтики!
Но мы не имеем намерения уличать Пьера путем сей двусмысленной отсылки к ля повретэ старого фермера Миллторпа. Однако ни один человек не в силах полностью избавиться от своих слабостей. Не отдавая себе в том отчета, миссис Глендиннинг всегда была одной из тех любопытных приверженцев школы Оптимизма; и в свои мальчишеские годы Пьер не вполне избежал материнского пагубного влияния. Тем не менее, когда в иные ранние зимние вечера он часто забегал за Чарльзом в старый фермерский дом и встречал мучительно смущенную, худенькую, изможденную миссис Миллторп и грустно-любопытные, отчасти завистливые взгляды трех маленьких девочек, когда он стаивал на пороге, Пьер мог услышать низкие стоны пожилого, измученного жизнью человека, кои доносились из ниши, кою нельзя было заметить от двери; тогда у Пьера могли пробудиться какие-то слабые, полудетские подозрения о чем-то большем, чем чистое ля повретэ бедности, – некие подозрения о том, каково это – быть старым, и бедным, и изношенным, и ревматиком с дрожью предчувствия близкой смерти, да еще влачить такую жизнь, состоящую из крепнущей глухоты и холода! Слабые подозрения о том, каково это для того, кто, будучи юным, живо выпрыгивал из кровати, в нетерпении встретить первые лучи утреннего солнца и не потерять ни одной капли сладостной жизни, а теперь ненавидящего те самые солнечные лучи, кои он когда-то так горячо любил, который в своей постели поворачивается к ним спиной, чтобы избежать их, и все откладывающий тот шаг, который вернет его в унылый день, когда солнце видится не золотым, но медным, и небо – не голубым, а серым, и кровь в венах, как рейнское вино, кое смерть слишком долго откладывает, чтобы испить, становится водянистой и кислой.
Пьер не забыл, что растущая бедность Миллторпов была в то время, кое мы ныне рассматриваем в ретроспективе, сильно преувеличена сплетнями завсегдатаев постоялого двора «Черный лебедь» про определенную нравственную запущенность, коя бросала тень на фермера. «Старик слишком часто прикладывался к рюмке», – сказал как-то раз в присутствии Пьера старый малый с тонкой шеей, сопровождая свои слова аналогичным действием с полупустой рюмкой, кою держал в руке. Но хотя здоровье старого Миллторпа было подорвано, его лицо, каким бы печальным и худым оно ни было, не выдавало ни малейшего намека на пьянство, и неважно, в прошлом или в настоящем. Он никогда не был известен в округе как завсегдатай постоялого двора и редко покидал те несколько акров, кои возделывал вместе со своим сыном. И хотя, увы, будучи довольно бедным, он все же был самым пунктуальным и честным, оплачивая свои маленькие долги, исчисляемые шиллингами и пенсами в бакалейной лавке. И хотя, ей-богу, он имел множество шансов получить свои деньги – тот возможный заработок, который у него мог бы быть, – все же, как Пьер помнил, однажды осенью, когда у него была куплена свинья с черного входа особняка, старик ни словом не напоминал о деньгах вплоть до середины следующей зимы, и затем, когда он трясущимися пальцами взял серебро и сильно сжал его в кулаке, он сказал нетвердым голосом:
– Мне оно сейчас ни к чему, выплату можно было бы отложить еще на потом.
Случилось так, что, нечаянно услышав это, миссис Глендиннинг посмотрела на старика добрым и благосклонным взглядом, выражающим интерес к ля повретэ, и пробормотала:
– А! Старый английский рыцарь еще держится на ногах. Браво, старик!
В один из дней, на глазах у Пьера, девять молчаливых фигур вышли из дверей дома старого Миллторпа; гроб поместили в соседскую фермерскую повозку, и процессия, длиной около тридцати футов[171], включая продолговатое дышло и повозку, обогнула Седельные Луга и цепочкой взошла на холм, где наконец старый Миллторп обрел постель, кою утреннее солнце больше никогда его не побеспокоит. О, нежнейшее и тончайшее голландское полотно земли, по-матерински заботливой! Там, под прекраснейшим покровом бесконечного неба, подобно императорам и королям, почивают в роскоши нищие и бедняки земли! Я радуюсь, что смерть показывает себя демократом в этом деле, и, потеряв надежду на все прочие существующие и постоянные демократии, все же тешу себя мыслью, что хотя в жизни иные головы венчают золотые короны и границы их владений защищены колючим кустарником, но придет время – и для всех высекут похожие могильные плиты.
Эта, в чем-то необычная история жизни отца юного Миллторпа в большой степени повлияла на незрелую натуру и характер сына, к коему отныне перешла по наследству обязанность содержать мать и сестер. Но, хоть и будучи сыном фермера, Чарльз был совершенно не склонен к тяжелому труду. Не было ничего невозможного в том, чтобы он мог с помощью упорного, тяжелого труда со временем преуспеть и обеспечить своей семье куда более комфортное положение в жизни, чем они занимали когда-либо на его памяти. Но не так было суждено; благожелательный Штат в своей великой мудрости вынес иное решение.
В деревне Седельные Луга было образовательное учреждение, наполовину начальная школа, наполовину академия[172], но кое главным образом получало поддержку – общие предписания и финансовое обеспечение – от правительства. Здесь не только преподавались основы, каким учат в английской начальной школе, но также немного касались изящной словесности и сочинительства, того великого американского оплота и оружия, кое зовется красноречием. По высококачественной, стандартной программе Академии Седельных Лугов сыновей самых бедных фермеров учили произносить нараспев пламенные революционные речи Патрика Генри[173] или энергично жестикулировать при чтении наизусть плавных созвучий «Грешного эльфа» Дрейка[174]. Стоит ли тогда удивляться, что по субботам, когда не было никакого красноречия и поэзии, эти ребята впадали в меланхолию и относились с пренебрежением к тяжелой, однообразной работе с навозными вилами и мотыгой?
В возрасте пятнадцати лет амбиции Чарльза Миллторпа побуждали его быть либо оратором, либо поэтом, но по меньшей мере большим гением на том или ином поприще. Он воскресил в памяти предков-рыцарей и с надменным возмущением отверг плуг. Заметив в нем первые признаки сего намерения, старый Миллторп затеял большой разговор с сыном, стараясь привести его в чувство, предупредив его о всех невыгодах его изменчивых честолюбивых замыслов. Цели такого полета были или для несомненных гениев, богатых парней, или для тех нищих парней, кои остались совсем одни в этом мире и не должны ни о ком больше, кроме самих себя, заботиться. Чарльз должен как следует обдумать дело; его отец стар и болен, он долго не протянет, он ничего ему не оставит, кроме плуга и мотыги; у его матери слабое здоровье; его сестры слабы и беззащитны; и, наконец, такова жизнь, а зимы в этой части страны на удивление холодные и длинные. Семь месяцев из двенадцати пастбища ничего не приносят, а при этом вся скотина, быки и коровы, должна быть накормлена, оставаясь в своих хлевах. Но Чарльз был еще дитя, и совет нередко выглядит самой бесполезной из всех трат, на какие расходуется дыхание человеческое, никто не принимает мудрость на веру; может быть, это и хорошо, ибо такая мудрость бесполезна, мы должны находить истинные жемчужины мудрости в самих себе, и так мы их все ищем да ищем на протяжении многих-многих дней.
Чарльз Миллторп был все же столь же любящим и послушным мальчиком, сколь и тем, кто постоянно хвастался своим умом и не знал, что он обладает куда более превосходным и божественным даром, а не только великодушным сердцем. Его отец скончался; теперь он был принят своей семьей как второй отец и заботливый кормилец. Однако он решил добывать пропитание не тяжким трудом рук своих, а благодаря более благородным трудам своего ума. Он уже прочел много книг – история, поэзия, романы, эссе и прочее. Книжные полки особняка часто удостаивались его визитов, и Пьер был его добрым библиотекарем. Не удлиняя истории, скажем, что в возрасте семнадцати лет Чарльз продал лошадь, корову, свинью, плуг, мотыгу и почти любое движимое имущество на ферме и, обратив все это в наличные, уехал вместе со своей матерью и сестрами в город, полагаясь главным образом на свои надежды на успех и некие туманные представления о своем родственнике-аптекаре, который там проживал. Как родич-аптекарь, его мать да сестры вывели его на чистую воду, как они жаловались на судьбу и почти голодали какое-то время, как они принялись зарабатывать шитьем, а Чарльз – переписыванием набело, как все их скудные средства уходили только на ежедневные нужды – все это можно легко себе представить. Но некая мистическая скрытная доброжелательность по отношению к нему не только спасла Чарльза от работного дома, но и впрямь даровала ему до некоторой степени успешное продвижение в его делах. В любом случае сия известная безобидная самонадеянность да невинный эготизм, кои раньше царили лишь над частью его души, теперь, вне всякого сомнения, задерживали его на месте, ибо, как это нередко замечено в отношении недалеких людей, они в самую последнюю очередь теряют надежду. Такова вечная слава спасательного круга, что его никак не потопить; таков извечный упрек шкатулке с драгоценностями, что она, упав за борт, камнем идет ко дну.
II
Когда Пьер, прибыв в город и столкнувшись с бессердечным равнодушием Глена, стал наводить справки о том, к кому бы обратиться с просьбой в своих стесненных обстоятельствах, он вспомнил о своем старом приятеле Чарли, и отправился на его поиски, и нашел его наконец; он увидел перед собой высокого и стройного, но скорее худого и бледного и все же замечательно красивого молодого человека, коему исполнился двадцать один год, который, занимая маленький пыльный адвокатский офис на третьем этаже старого здания Апостолов, претендовал на то, что занят очень большим и на глазах растущим бизнесом среди опустелых голубиных гнезд да под непосредственным надзором неоткрытой бутыли чернил; его мать и сестры жили в комнате наверху; а он сам, не только следуя закону земного бытия, но будучи также связан с особым секретом да теологико-политико-общественными схемами масонского порядка, кои вынашивались обладателями изношенных пальто Апостолов, он следовал некой незрелой трансцендентальной философии, как для благотворительных средств на поддержку, так и для своего собственного умственного питания.
Пьер был сначала немного удивлен его необыкновенно искренним и дружелюбным поведением, все прежние аристократические предрассудки у Пьера исчезли начисто и сгинули в небытие, хотя при первом потрясении при их встрече Чарли не мог, скорее всего, знать о том, что Пьер выброшен на улицу.
– Ха, Пьер! Рад видеть тебя, приятель! Послушай-ка, в следующем месяце я собираюсь толкнуть речь перед орденом Омега в Апостолах. Великий мастер, Плинлиммон, будет там. Я услышал от него как-то самый лучший отзыв о себе: «Этот юноша имеет в себе примитивные категории; он создан для того, чтобы поразить мир». Ну, приятель, я получил предложения от издателей «Спинозаиста» вести еженедельную колонку в их газете, и ты знаешь, как мало людей способны понимать, что напечатано в «Спинозаисте»: ничего там не признается, кроме предельного трансцендентализма. Навостри свои уши; я подумываю избавиться от апостольской маскировки и храбро выйти наружу, Пьер! Я думаю о том, чтоб вырвать с корнем государство и нести философию в массы… Когда ты приехал в город?
Несмотря на все свои беды, Пьер не мог подавить улыбку при этом довольно-таки занимательном приеме; но, хорошо зная парня, он не мог не понять из того фонтана восторженного эготизма, что его сердце совсем не испортилось, ибо эготизм – это одно, а себялюбие – другое. Как только Пьер рассказал ему о своем положении, Чарли немедленно обратился в саму серьезность и доброту, исполненную практичности, отрекомендовал Апостолов как наилучшее возможное жилище для него – дешевое, уютное и близкое к центру; он предложил достать карту и вызвался помочь Пьеру перенести его скарб, но, наконец, подумал, что самым лучшим будет подняться наверх и показать ему свободные комнаты. Но когда под конец они обо всем договорились и Чарли, весь – жизнерадостность и рвение, отправился вместе с Пьером в отель, чтобы помочь тому с переездом, он крепко схватил Пьера за руку, едва они миновали большую сводчатую дверь под башней Апостолов, и тотчас же принялся частить занятной скороговоркой эпическую поэму, и он продолжал рассыпаться до тех пор, пока и сами трубы Апостолов не скрылись из поля зрения.
– Боже! Мой труд стряпчим отнимает все время! Я должен отказаться от некоторых клиентов; я должен посвящать время своим занятиям, а эта моя практика, коя ширится на глазах, не позволяет этого. Кроме того, я должен внести кое-какой вклад в грандиозное наследие всего человечества; я должен отложить несколько коротких встреч и отдать это время своим метафизическим трактатам. Я не могу тратить весь свой порох на договоры и закладные… Мне кажется, ты сказал, что женился? – И, не останавливаясь, чтобы выслушать хоть какой-то ответ, Чарли продолжал стрекотать: – Что же, я полагаю, что это мудро, в конце-то концов. Это остепеняет, сосредоточивает и делает мужчину тверже, как мне говорили… Нет, я не женился; это случайная фраза моего изобретения, вот!.. Да, после этого мой приятель ясно увидел мир перед собою; это напрочь сдуло с него всю его болезненную субъективность и обратило все предметы для него в объективные – девять малышей, к примеру, можно рассматривать как явление объективное. Женитьба, э-эх!.. А милое дело, вне сомнений, вне сомнений: семейное, приятное, любезное, все дела. Но я должен послужить человечеству, приятель! Женитьбой я должен посвящать себя увеличению численности населения, но не численности великих умов. Великие умы все были холостяками, знаешь ли. Их семья – это Вселенная, мне следует назвать планету Сатурн их старшим сыном и Платона – их дядюшкой… Так ты женился? – И снова, не слушая ответов, Чарли продолжал стрекотать. – Пьер, вот мысль, приятель, мысль для тебя! Ты не сказал прямо, но намекал на свой тощий кошелек. Я помогу тебе его наполнить… Выкорчевать государство кантианской философией! Получим по доллару каждый, приятель! Прояви усердие да передай другому, и ты получишь это. Я в близких отношениях с сообразительностью и великодушием людей! Пьер, навостри уши: мое мнение таково, что мир прогнил насквозь. Тсс… говорю, одна сплошная ошибка. Общество призывает мессию – Курция, приятель! Того, кто бы, бросившись в огненную бездну и пожертвовав собой, спас бы все человечество! Пьер, я долго отвергал соблазны жизни и моды. Взгляни на мое пальто и убедись, как я презираю их! Пьер! Но постой, имей ты хотя бы шиллинг! Давай-ка здесь чего-нибудь перекусим – это дешевое местечко, я здесь иногда бываю. Давай же идем.
Глава XXI МОЛОДОЙ ПЬЕР ПЫТАЕТСЯ СОЗДАТЬ ЗРЕЛЫЙ РОМАН. ИЗВЕСТИЯ ИЗ СЕДЕЛЬНЫХ ЛУГОВ. ПЛИНЛИММОН
I
Мы оставили Пьера нашедшим постоянное пристанище в трех комнатах, сообщавшихся между собою, на верхнем этаже Апостолов. И, забежав немного вперед во времени и пропустив сто и одну подробность домашней жизни, расскажем о том, как их заветные планы воплотились наконец в жизнь не без успеха; как несчастная Дэлли, оставив позади самые горькие мучения своего горя, стала служанкой и близкой приятельницей Изабелл и нашла в этом единственное деятельное облегчение и спасение от воспоминаний о своем печальном прошлом; как сама Изабелл в других случаях работала с Пьером, проводила часть своего времени, стряпая собственную бессмыслицу из его рукописей с целью, в конечном счете, сотворить корявое подобие напечатанных разборчивым шрифтом беловиков, или спускалась на нижний этаж в комнаты Миллторпов и в скромном и дружелюбном обществе трех юных леди и их превосходной матери находила некоторое небольшое утешение в отсутствие Пьера, или, когда его работа за день была окончена, сидела рядом с ним в сумерках и играла на своей таинственной гитаре, а Пьер чувствовал, что глава за главой выступают перед ним в своей невиданной многозначительности; но, увы! Он всякий раз был неспособен передать их словами, ибо там, где кончаются самые выразительные слова, там начинает звучать музыка, с ее беспредельностью и переливами, да туманными намеками, приводящими в полнейшее замешательство.
Отвергая ныне все свои предыдущие творения и сжегши с презрением даже те живописные плоды беспечной фантазии, написанные в Седельных Лугах в чудное невозвратное время Люси и любви к ней, кои он ревниво оберегал от издателей, считая, что они слишком искренни и хороши для печати; отказавшись от прежнего себя, Пьер теперь был занят написанием компактного, но всеохватывающего произведения, кое подталкивали к скорому завершению сразу два мощных стимула – жгучее желание принести в массы то, что он полагал новым, или, по крайней мере, печальную, позабытую миром правду, да грозная опасность остаться вскоре без единого пенни, если только ему не удастся продать рукопись и получить деньги. Универсальность мысли, порожденная его очень бурной реакцией на те запутанные проблемы, кои недавно обрушились на его голову, а также той беспримерной ситуацией, в коей он очутился ныне, да понимая каким-то чутьем, что самые великие творения лучших умов человечества всегда формируются по кругу, как атоллы (то есть как примитивные островки кораллов, которые, вырастая в пучинах глубочайших морей, тянутся к поверхности ростками, похожими на трубы, и смотрятся на ней кольцами белого камня, который, несмотря на то что снаружи со всех сторон исхлестан океанскими волнами, все же уберегает от всех бурь ту спокойную лагуну, кою заключает в себе), вразумительным образом объединяя целый ряд всех творений, какие только можно узнать или измыслить, Пьер решил дать миру книгу, кою мир непременно примет с изумлением и восторгом. Круг чтения, составленный из книг разных областей знания, о чем едва ли подозревали его друзья; знания, благоприобретенные случайно, его хаотичным, однако же острым умом в ходе различных, неожиданных, библиографических блужданий почти каждого культурного молодого искателя Правды, – сей неудержимый и значительный поток его сознания беспрепятственно впадал в бескрайнюю весну необычных мыслей, кои время и случай заставили в нем вспыхнуть. Ныне он поздравлял себя со всеми поверхностными приобретениями такого сорта, не ведая, что в реальности для разума, обращенного на создание неких творений, наводящих на размышления об абсолютной Правде, все простое чтение легко усваивается, но это скорее помеха на пути, кою трудно преодолеть, а отнюдь не катализатор, который поможет ему вырваться вперед.
Когда Пьер предавался размышлениям о том, что он откроет миру совершенно новые и удивительные черты красоты и силы, он был на самом деле на одной из стадий духовного развития. Сие последнее свойство ума стоит приобрести всего один раз, и потом уже никакие книги более не понадобятся, чтобы поддерживать наши души; наши собственные сильные легкие будут держать нас на плаву, и мы вынырнем из любых бездн, посмеиваясь от безнаказанности. Он не ведал – или если смутно сознавал, то пока еще не мог назвать истинную причину этого, – что уже в начале его работы тяжелый, неподатливый элемент простого книжного знания нельзя естественно спаять с пространной текучестью и воздушной легкостью спонтанной творческой мысли. Он пытался взобраться на Парнас с кипой фолиантов на спине. Он не ведал, что для него совершенно не играло роли то, что было написано другими, что, хотя Платон был в самом деле исключительно великим человеком сам по себе, но все же Платон не должен быть исключительно великим для него (Пьера) до тех пор, пока он (сам Пьер) не совершит также что-то исключительно великое. Он не видел, что не существует никаких стандартов для духа творчества, что ни одну великую книгу никогда не надо рассматривать по разрозненным частям и никогда не позволено ей господствовать со своей собственною уникальностью над творческим умом, но что все существующие великие произведения должно объединить в воображении и там рассмотреть как разнообразное и пантеистическое целое; и тогда – без всякого насилия над собственным умом или какого бы то ни было принуждения, – объединенные таким образом, они бы явственно предстали пред ним ожившие и соблазнительные. Он не ведал, что даже тогда, объединенные таким образом, все они не более чем капля в море, по сравнению с той бесконечностью и неисчерпаемостью, кои таились в нем самом, что все великие книги в мире не что иное, как искаженные воплощения незримых и всегда несказанных образов в душе, – словом, что все они не более чем зеркала, кои криво отражают нам наши же творения; и неважно, каково зеркало, если мы можем видеть какой-либо объект, то мы должны смотреть на сам объект, а не на его отражение.
Но как смелый путешественник в Швейцарии, перед коим Альпы никогда не предстают разом в широкой и всеобъемлющей полноте, никогда не открывают в единый миг свою ужасающую неохватность до конца, свое подавляющее величие, где громоздятся пик за пиком, и отрог вздымается за отрогом, и цепь горных хребтов высится за цепью, и так весь удивительный мощный горный массив, мудрое предопределение небес таково, что, впервые попав в Швейцарию своей души, человек сразу не постигнет их безмерную огромность; но, чтобы неплохо подготовиться к такому зрелищу, его дух должен погрузиться и исчезнуть в снегах у самого подножия. Только на известных уровнях благоразумия, какие судил Бог, может человек, наконец, покорить свой Монблан и уже с высоты попытаться охватить взглядом эти Альпы, и даже тогда не увидит он и десятой части; и дальше, над Атлантическим океаном, который не попадает в поле зрения, Скалистые горы и Анды также остаются незримыми. Душа человеческая потрясает! Лучше быть тем, кого вышвырнуло прочь в земные дали, за пределы самой удаленной орбиты нашего солнца, чем однажды почувствовать, что безнадежно утопаешь в себе самом!
Но не для того, однако, чтобы подумать об этих невидимых просторах, Пьер теперь – пусть и странно и совсем по-новому – взглянул на многие чудеса в этом бескрайнем мире; тем не менее он пока еще не обзавелся той духовной волшебной палочкой, коя, соприкасаясь только с простейшим жизненным опытом в жизни, немедленно привлекает к себе все взгляды, в каждом из коих светится безграничное понимание. Он еще не забрасывал удочку в колодец своего детства, чтобы выяснить, какая там может водиться рыба, ибо кто может помыслить о том, чтобы удить рыбу в колодце? Бегущий поток внешнего мира, где, вне всяких сомнений, резвятся золотые окуни и светлоперые судаки! Десять миллионов открытий были сделаны Пьером. Так древняя мумия лежит погребенной и завернутой в покровы и покровы; и требуется время, чтобы распеленать этого египетского фараона. Вне всяких сомнений, Пьер еще не начинал видеть сквозь поверхностную ложь мира, а наивно думал, что снял последний покров с лица истины. Но как бы глубоко геологи ни спускались под землю, ими было точно установлено только то, что земные слои накладываются один на другой. До своей оси наша Земля есть не что иное, как множество пластов, кои наслоились друг на друга. Великими трудами мы проводим раскопки в пирамиде; ползя на ощупь в полном мраке, добираемся до центральной комнаты и с радостью видим саркофаг; но когда мы поднимаем крышку – и никого не находим! – ужасающий простор, как широкая душа человеческая!
II
Пьер был занят написанием книги уже в течение нескольких недель – решительно следуя своему плану избегать всякого общения с кем-либо в городе – знакомыми или друзьями, – как раз тогда, когда они старательно избегали с ним встречи, ибо в их глазах он покатился по наклонной, он не отправлял почту и даже ни разу не завернул туда, хотя она была почти за углом от его нынешнего места жительства, и с этого времени не получал и сам ни письма, да и не ждал их; и вот так, отгородившись от мира да сосредоточившись на своем литературном предприятии, Пьер прожил несколько недель, когда новости в устной форме дошли до него, новости о трех важнейших событиях.
Первое: его мать умерла.
Второе: поместье Седельные Луга целиком отошло Глену Стэнли.
Третье: на Глена Стэнли возлагались надежды, как на ухажера Люси, коя, оправившись после своей болезни, едва не ставшей смертельной, жила теперь в доме своей матери в городе.
Из упомянутых известий первое причинило Пьеру наиболее острую и мучительную боль. Никакого письма ему не пришло, ни единого кольца или любой памятной вещи не было ему послано, ни малейшего упоминания о нем не осталось в завещании; ему рассказали также, что неутешное горе довело его мать до смертельной болезни, а потом, наконец, ввергло в безумие, кое быстро оборвала смерть; и когда он впервые услышал об этом, она уже покоилась в могиле двадцать пять дней.
Как ясно все это говорило в равной степени и о безмерной гордости, и о горе его матери, некогда прекрасной; и как мучительно это теперь намекало на смертельную рану ее любви к своему единственному и обожаемому Пьеру! Напрасно он убеждал себя, напрасно спорил с собой, напрасно искал спасения, припоминая все свои стоические аргументы, чтобы утишить приступ естественного душевного волнения. Природа победила; и со слезами, кои обжигали и жгли, как кислота, Пьер плакал, он был в исступлении от горькой потери матери, чьи глаза закрыли чужие руки нанятых людей, но чье сердце было разбито, а разум был уничтожен руками ее родного сына.
Какое-то время казалось, что его собственное сердце вот-вот разорвется, что его собственный разум вот-вот пойдет ко дну. Невыносимо горе человека, когда сама смерть наносит удар и затем уносит прочь все средства для утешения. Человеку в могиле уже нельзя оказать никакой помощи, никакая молитва до него не дойдет, никакого прощения от него уже не получишь; так что для кающегося грешника, чья несчастная жертва лежит в могиле, – для этого пропащего грешника его собственная гибель тянется вечно, и пусть даже это будет Рождество во всем христианском мире – для него это будет день адских мук, и совесть будет клевать его печень веки вечные.
С какой удивительной четкостью и ясностью он теперь прокручивал в своем уме все малейшие подробности своей прежней счастливой жизни вместе с матерью в Седельных Лугах. Он начал свои воспоминания с того, как одевался по утрам, затем неторопливо прогуливался по полям, затем радостно возвращался и приходил к будуару матери ее будить, затем следовал веселый завтрак – и так далее, и так далее, весь светлый день до конца, до того момента, как мать и сын целовали друг друга с легким, любящим сердцем и расходились по своим комнатам, чтобы приготовиться к следующему дню праздных наслаждений. Такое воспоминание о невинности и радости в час раскаяния и горя – это как раскаленные добела клещи, способные разорвать нас на части. Но, находясь в этом бредовом состоянии, Пьер не мог понять, где была та грань, коя разделяла естественную скорбь от потери родителя от другой боли, кою породили угрызения совести. Он старался изо всех сил определить это, но не мог. Он пытался обмануть себя убеждением, что все его душевные страдания совершенно естественны, или если и была тут иная, другая боль, то она должна происходить – нет, не от сознания того, что мог быть совершен какой-то дурной поступок, но от боли понимания того, какой ужасной ценой дается самая возвышенная добродетель. Нельзя сказать, что ему совсем не удалась такая попытка. Наконец, Пьер выбросил из головы воспоминания о матери и затолкал их в тот же глубокий погреб, куда до этого сбросил память о том, как упала в беспамятстве его Люси. Но, как порой кладут в гроб людей, находящихся в таком оцепенении, что их принимают за мертвых, таким же образом можно похоронить в своей душе мертвящее горе, ошибочно полагая, что в нем уж не осталось сил, чтобы причинить нам страдание. А только то, что обладает бессмертием, может породить бессмертие. Это может показаться почти что гипотетическим аргументом в пользу бесконечной жизни человеческой души и того, что не представляется возможным убить во времени и пространстве любые угрызения совести, кои вызваны жестоким уроном, причиненным умершему человеческому существу.
Прежде чем Пьер окончательно столкнул мысли о матери в глубочайший колодец своей памяти, он охотно извлек одно слабое утешение из того факта, что, как бы там ни было, если справедливо все взвесить, он, кажется, был способен в равной степени или смягчить, или раздуть свое горе. Завещание его матери, в коем не было ни малейшего упоминания его имени, оставляло некоторые памятные вещи в наследство ее друзьям и заканчивалось передачей всего поместья Седельные Луга и всех доходов с него Глендиннингу Стэнли; на этом завещании стояла дата следующего же дня после того рокового заявления, кое он сделал, поднимаясь по лестнице, – о своей мнимой свадьбе с Изабелл. Все кричало о том, что сами обстоятельства посмертной безжалостности его матери по отношению к нему были против него; и единственным положительным фактом, если так можно выразиться, даже в этой беспросветности было то, что в завещании исключалось всякое упоминание о Пьере; по этой причине, раз завещание носило столь важную дату, самым разумным было прийти к выводу, что оно было продиктовано, когда его мать еще не остыла от первого взрыва возмущения. Но сколь слабым было это утешение, когда Пьер подумал о том безумии, кое в итоге постигло ее, ведь откуда взялось это безумие, как не от неумолимости, вперемешку с ненавистью и горем, когда даже отец его был обречен сойти с ума от горя непоправимого греха? Эта двойная смерть его родителей не могла не вызвать у него дурных предчувствий о своей собственной судьбе – своей собственной наследственной склонности к умопомешательству. Предчувствия, говорю я, – но что есть предчувствие? Как должны вы вразумительно описать предчувствие или как можно разобраться в том, что само по себе – одна прозрачность, если только вы не скажете, что предчувствие есть не более чем суждение в маске? И если суждение скрывается, но все же обладает необычностью предсказания, как тогда вы избежите фатального вывода, что вы беспомощны и вас удерживают шесть рук Бессмертных Сестер?[175] Размышляя в страхе о своей грядущей смерти, мы предсказываем ее. Все же, как знать заранее и ужасаться на одном дыхании, если не вместе с той божественной обманчивой силой предвидения, с которой вы смешиваете реальную хитрую беспомощность защиты?
То, что его кузен, Глен Стэнли, был выбран его матерью, чтобы унаследовать поместье Седельные Луга, не было для Пьера полной неожиданностью. Глен не только всегда ходил в любимцах у его матери, благодаря своей великолепной персоне и их полному согласию во взглядах на мир, но, исключая самого Пьера, он был ближайшим кровным родственником, и, более того, в его крещеном имени звучали заветные звуки – Глендиннинг. Получалось, что если кто-либо, кроме Пьера, и должен был унаследовать Луга, то Глен, с точки зрения этих общих рассуждений, казался самым подходящим наследником.
Но это не свойственно человеку, кто бы он ни был, видеть благородное родовое поместье, принадлежащее ему по праву, кое отходит чужой душе, тому самому чужаку, который был когда-то его соперником в любви и теперь стал его бессердечным, насмешливым врагом, и поэтому Пьер не мог не возражать против Глена, ибо это не свойственно человеку – видеть такое без малейшего чувства дискомфорта или ненависти. Сии чувства также отнюдь не утихли в Пьере при том известии, что Глен возобновил свои ухаживания за Люси. Ибо есть нечто в груди почти каждого мужчины, что заставляет его до глубины души оскорбляться ухаживаниями любого другого мужчины за той женщиной, от надежды на любовь и брак с которой он отказался сам. Мужчина с радостью присвоил бы себе все сердца, кои хоть однажды признались ему в любви. Кроме того, в случае Пьера его возмущение было усилено прежним лицемерным поведением Глена. Теперь же все его подозрения, казалось, полностью подтвердились; и, сопоставив все даты, он вообразил, что Глен уехал путешествовать по Европе только для того, чтобы справиться с той болью, кою ему причинил отказ Люси, отказ, о коем молчаливо свидетельствовало то, что она без возражений приняла матримониальные намерения Пьера.
А теперь под маской глубокой симпатии, со временем перерастающей в любовь, к самой красивой девушке, кою бесцеремонно бросил ее нареченный, Глен мог позволить себе полностью раскрыться в новой роли, вовсе не показывая миру свой старый шрам. Так, по крайней мере, казалось Пьеру. Кроме того, отныне Глен мог приблизиться к Люси, находясь под самым благоприятным покровительством. Он мог приблизиться к ней как глубоко сочувствующий друг, горящий желанием смягчить ее горе, но не делающий никаких намеков, пока что, о каких-то эгоистических матримониальных намерениях; и если он разыграет сию благоразумную и скромную роль, то самый вид такой спокойной, бескорыстной, но нерушимой верности не может не подсказать уму Люси вполне естественное сравнения Глена и Пьера, прискорбно унизительное для последнего. Затем, ни одна женщина, как это порою кажется, – ни одна женщина не останется хоть сколько-то нечувствительной к блеску королевского общественного положения своего поклонника, особенно если он красив и молод. И Глен теперь может прийти к ней как владелец двух несметных состояний и наследник, по добровольному выбору, не меньше, чем по кровному родству, и фамильного, украшенного знаменами холла, и необозримых лугов поместья Глендиннингов. И здесь тоже словно дух родной матери Пьера подталкивал Глена в его выборе. В самом деле, с тем положением в жизни, кое он занимал, Глен словно вобрал в себя все лучшие качества Пьера и не имел на себе клейма позора, запятнавшего Пьера; он мог бы почти сойти за самого Пьера – того Пьера, каким он когда-то был для Люси. И, как человек, который потерял прелестную жену и который долго отвергал малейшее утешение, как этот человек, который под конец находит единственное утешение в дружбе с сестрой его жены, коей случилось иметь в своих чертах особенное семейное сходство с умершей, так он, в конце концов, делает предложение этой сестре, просто под влиянием такого магического свойства; так что не будет совсем безосновательным предположить, что море мужского обаяния Глена, во многом похожего на Пьера из-за близкого родства, может пробудить в сердце Люси милые воспоминания, кои могли бы побудить ее по меньшей мере искать, если она не смогла найти – утешение в потере одного, коего называли мертвым и потерянным для нее навсегда, в преданности другого, который мог бы, несмотря ни на что, почти сойти за того мертвого и вернуть ее к жизни.
Глубже, глубже и еще, еще глубже должны мы спуститься, если хотим узнать до конца сердце человеческое; мы должны спуститься вниз по уходящей вдаль винтовой лестнице в шахте, коя не имеет конца и где сия бесконечность скрадывается только спиральною лестницею да темнотой шахты.
Как только Пьер вызвал в воображении сей призрак Глена, превращенный во мнимое подобие его самого, как только он представил его, как тот ухаживает за Люси, как он берет ее за руку преданным жестом, им овладели бесконечная неугасимая ярость и злость. Множество смешанных эмоций соединились, чтобы вызвать этот шторм. Но главным из всех было что-то странно близкое той неописуемой ненависти, кою человек чувствует к любому жулику, который осмелился покуситься на его собственное имя и принять участие в каком-то двусмысленном или бесчестном деле, – эмоция сильно обостряется, если сей жулик по сути известен как подлый злодей, который также, благодаря капризу природы, выглядит почти точной копией того человека, на чье имя он посягает. Все это и масса других мучительных и возмущенных эмоций волной нахлынули на Пьера. Все его религиозные, восторженные, самые отточенные, стоические и философские доводы ныне были разметаны этим внезапным естественным штормом в его душе. Ибо нет такой веры, и такого стоицизма, и такой философии, кои помогли бы смертному мужу, который проходит последнюю проверку самой бешеной атакой жизни и страсти, нападающих на него. И все светлые образы философии да католической веры, кои он создал из тумана, рассеялись и исчезли, как призраки при крике петуха. Ибо вера и философия есть воздух, а события живучи, как сама жизнь. Среди мутных философствований жизнь застает врасплох человека, словно утро.
Пока это настроение владело им, Пьер проклял себя как бессердечного злодея и жалкого глупца – бессердечного злодея, который убил свою мать, – жалкого глупца, потому что он отшвырнул прочь все свое счастье; потому что он сам, своими руками, уступил свое благородное право первородства лукавому приближенному за миску густой похлебки, от которой ныне у него во рту остался один вкус пепла.
Решив скрыть эти новые и, как сие втайне представлялось ему, недостойные страдания от Изабелл, так же как и их причину, он покинул свою комнату, намереваясь совершить долгую прогулку и петлять по окраинам города, чтобы смягчить остроту горя, прежде чем он возвратится и предстанет перед ней.
III
Стоило Пьеру выбежать из своей комнаты и поспешить пересечь одну из высоких кирпичных колоннад, кои связывали старинное здание с новым, как с той стороны, откуда он пришел, к нему шагнул очень скромный с виду, невозмутимый, крепкий мужчина, бледный лицом, но с довольно чистыми чертами и без морщин. Несмотря на то что его лоб и борода, и та уверенность, с коей он нес свою голову, и размеренность его шага указывали на его зрелый возраст, все еще голубые, яркие, но при этом спокойные глаза составляли весьма удивительный контраст со всем его обликом. Казалось, то были глаза жизнерадостного, вечно юного Аполлона, в то время как сия царственная белая борода подошла бы старому Сатурну, восседающему скрестив ноги. Само выражение лица этого человека, сам дух и манера этого человека говорили о жизнерадостной удовлетворенности. Жизнерадостный – вот подходящее прилагательное, ибо то была противоположность унынию; удовлетворенность – или, возможно, молчаливое согласие – вот подходящее существительное, ибо то не было счастье или наслаждение. Но хотя человек сей обладал столь выигрышными манерами, все-таки в нем было что-то отталкивающее, скрываемое, но все же видное. Этому что-то лучше всего подойдет такое описание, как недоброжелательность. Недоброжелательность кажется наилучшим словом, ибо то не была ни злоба, ни злой умысел, а именно что-то бездеятельное. Венчая все, скажем, что известное переменчивое сияние, казалось, окутывает и сопровождает сего человека. Мнилось, то сияние можно было передать лишь словом «непостижимость». Несмотря на то что одежды, носимые этим человеком, были в полном согласии с общим стилем любого скромного джентльменского костюма, все же казалось, что одежда только маскирует его. Кто-то мог бы почти утверждать, что даже выражение лица и несомненно естественный взгляд самих его глаз маскировали этого человека.
Когда этот субъект умышленно прошел мимо Пьера, то приподнял свою шляпу, учтиво поклонился, улыбнулся кротко и пошел прочь. Но Пьер был сильно сконфужен: он покраснел, посмотрел на того искоса, дернулся было тоже приподнять свою шляпу, чтобы ответить любезностью на любезность, – ясно было, что его сильно встревожил простой вид этих приподниманий шляп, учтивых поклонов, кротких улыбок да он сам, этот поражающий своим исключительным хладнокровием, недоброжелательный человек.
Так кто же он был? Этот человек был Плотин Плинлиммон. Пьер прочел его трактат в почтовой карете, когда ехал в город, и часто слышал, как Миллторп и другие говорят о нем как о Великом мастере некоего мистического общества в Апостолах. Откуда он прибыл, никто не мог сказать. Его прозвище было Валлиец, но он родился в Теннесси. Казалось, у него не было ни семьи, ни кровных уз с кем бы то ни было. Никто никогда не видел, чтобы он работал руками, не видел, чтобы он писал от руки (он не написал даже единого письма), никто никогда не видел его с книгой. В его комнате не было книг. Как бы там ни было, когда-то он должен был прочесть книги, но то время, похоже, безвозвратно прошло; что же касается неопрятных произведений, кои вышли под его именем, они были не чем иным, как его устными проповедями, кои в случайном порядке перенесли на бумагу да неумело обработали его юные последователи.
Увидев, что Плинлиммон не имеет ни книг, ни пера и бумаги, и приписав это чему-то близкому к бедности, иностранный ученый, богатый аристократ, которому случилось как-то раз встретиться с ним, прислал ему прекрасный набор канцелярских принадлежностей и бумаги, вместе с еще более прекрасным набором фолиантов – Кардан[176], Эпиктет[177], Книга Мормона[178], Абрахам Такер[179], Кондорсе[180] и Зенд-Авеста[181]. Но когда этот благородный иностранный ученый заглянул к нему на следующий день – возможно, ожидая услышать какую-то благодарность за свою великую доброту, – он замер в ужасе, увидев свой дар выставленным за дверь Плинлиммоном и, судя по всему, нераспакованным.
– Прислано не по адресу, – сказал Плотин Плинлиммон безмятежно, – если уж на то пошло, я ожидал лучшего кюрасо[182] от такого благородного джентльмена, как вы. Я был бы очень счастлив, мой дорогой граф, получить несколько бутылок лучшего кюрасо.
– Я думал, что общество, в котором вы состоите главою, исключает все излишества этого сорта, – отвечал граф.
– Дорогой граф, естественно, исключает, но у Мухаммеда есть свои определенные привилегии.
– А! Понимаю, – сказал благородный ученый насмешливо.
– Но мне кажется, что вы не понимаете, дорогой граф, – медленно и отчетливо произнес Плинлиммон, и в тот же миг, на глазах у графа, загадочное сияние стало, образуя вихри, струиться и струиться, окутывая этого Плотина Плинлиммона.
Эта случайная, мимолетная встреча в коридоре была первой, когда от глаз Пьера не были скрыты свечением фигура или лицо Плинлиммона. Вскоре после того, как он нанял комнаты в Апостолах, его внимание привлекло спокойное лицо с внимательными голубыми глазами в одном из самых верхних окон старой серой башни, коя, находясь на противоположной стороне квадратного двора, заслоняла свет в его собственной комнате. Только чрез два стекла – в окне его комнаты и комнаты незнакомца – Пьер раньше видел то удивительное лицо, на коем лежала печать покоя – покоя, который не был ни божественным, ни человеческим, не был чем-либо сходным ни с тем, ни с другим, ни по отдельности, ни вместе, но покоем особенным и отстраненным, покоем, который был свойственен самому лицу. Один сознательный взгляд на то лицо сообщал самым внимательным философам-наблюдателям идею о чем-то, что не было прежде ими включено в их схему мироздания.
Что же касается спокойного солнечного света, то стекло вовсе не служит ему препятствием, и солнце передает свет и жизнь сквозь стекло; так, даже через стекло в комнате Пьера проникала странная сила, которую излучало лицо, видное в окне башни.
Становясь все более и более заинтересованным в этом лице, он закидал вопросами Миллторпа.
– Бог с тобой! – отвечал Миллторп. – Это же Плотин Плинлиммон! Наш Великий мастер, Плотин Плинлиммон! Боже правый, ты должен как следует узнать Плотина Плинлиммона, как я это сделал давным-давно. Пойдем-ка со мной сейчас, и позволь мне представить тебя немедленно Плотину Плинлиммону.
Но Пьер отказался; он не мог перестать думать, что, хотя, по всей вероятности, Плотин прекрасно понимал Миллторпа, все же Миллторп вряд ли мог приникнуть в душу Плотина, несмотря на то что, в самом деле, Плотин, который временами был способен на общение в очень непринужденной, доверительной и простой, несерьезной обстановке, мог по причинам, ведомым только ему одному, молча разыграть Миллторпа, что тот (Миллторп) полностью проник в его (Плотина) глубины души.
Если человеку подарить книгу, то стоит дарителю повернуться к нему спиной, как он выбросит ее на первом же углу, он вовсе не беспокоится о том, чтобы скучать над книгой. Но покажите ему автора вживую, и, десять против одного, он вернется обратно к тому углу, подберет книгу, стряхнет пыль с обложки и очень внимательно прочтет то бесценное произведение. В человека не поверишь, пока не увидишь его своими собственными глазами. Если тогда, в силу особых обстоятельств, Пьер, пока ехал в почтовой карете в город, крайне внимательно прочел трактат «Хронометры и Часы», то как же теперь его первоначальный интерес был подогрет, когда перед его глазами промелькнул сам автор. Но при первом чтении, не будучи в силах – так он думал – сформулировать главную идею трактата, поскольку любая малопонятная идея вызывает не только замешательство, но и бросает язвительный упрек уму, Пьер в конце концов перестал перечитывать трактат и не стал больше ломать над ним голову в течение всего путешествия. Но теперь, подумав, что он мог автоматически прихватить его с собою, он обыскал все карманы в своей одежде, но безуспешно. Он умолял Миллторпа сделать все возможное, чтобы добыть ему другой экземпляр, но ясно было, что невозможно такой найти. Сам Плотин не мог бы пересказать его заново.
В числе прочих попыток, Пьер лично обратился к хромому, наполовину оглохшему, старому книготорговцу, чья лавка была неподалеку от Апостолов:
– Есть ли у вас «Хронометры», друг мой? Забыл точное название.
– Очень плохо, очень плохо! – сказал старик, почесывая спину. – Мучаюсь хроническими рюматизмами уже целую вечность – на кой они нужны?
Осознав свою ошибку, Пьер отвечал, что не знает хорошего лекарства.
– Тсс! Дай-ка я тебе кой-что скажу, молодой человек, – прошамкал старый калека, хромая, приблизился к нему и прокричал Пьеру прямо в ухо: – Не вздумай подхватить их!.. Берегись сейчас, покуда молодой, не вздумай подхватить их!
Мало-помалу таинственно-спокойный лик с голубыми глазами в верхнем окне старой серой башни начал влиять на Пьера самым поразительным образом. Когда он был во власти особой депрессии и отчаяния; когда мрачные мысли о его несчастном положении подтачивали его и черные сомнения в прямоте его беспримерного пути в жизни самым злобным образом одолевали его; когда мысль о бесполезности его глубокомысленной книги вкрадывалась в его раздумья, стоило бросить взгляд в окно гардеробной, как таинственно-спокойный лик встречался глазами с Пьером; в силу всех этих обстоятельств, эффект был удивительный, и его нельзя было достойно описать никакими словами.
«Тщетно! Тщетно! Тщетно!» – говорил ему лик. «Глупец! Глупец! Глупец!» – говорил ему лик. «Брось! Брось! Брось!» – говорил ему лик. Но когда он мысленно вопрошал этот лик, почему тот троекратно повторяет ему: «Тщетно! Глупец! Брось!», то не получал никакого ответа. Ибо тот лик не отвечал ни на какие вопросы. Разве я не говорил прежде, что сие лицо было каким-то особенным и отстраненным; само это лицо? А все то, что есть вещь в себе, никогда никому не откликается. Если дать утвердительный ответ, так пришлось бы прервать свое одиночество; а если отрицательный – пришлось бы признать свое одиночество; тогда как всякий ответ есть конец любого одиночества. Несмотря на то что сей лик в башне был столь ясен и спокоен, несмотря на то что его глаза блестели, как у веселого молодого Аполлона, а белая борода – как у старого отца-Сатурна, сидящего скрестив ноги, все же, так или иначе, Пьеру в конце концов стало казаться, что сие лицо имеет своеобразную печать злобной хитрости. Однако последователи Канта сказали бы, что это был субъективного сорта хитрый взгляд самого Пьера. В любом случае, мнилось, что лик хитро на него поглядывает. И нынче он говорил ему: «Осел! Осел! Осел!» Сие выражение было несносным. Пьер раздобыл кусок муслина да повесил его на окно гардеробной; и лик скрылся под занавесью, как любой портрет. Но сие не избавило его от этого хитрого взгляда. Пьер знал, что лик по-прежнему поглядывает на него с хитростью и через муслин. Что было самое ужасное, так это мысль, что тем или иным магическим способом лик проник в его секрет.
– Ах! – вздрагивал Пьер. – Лик знает, что Изабелл не жена мне! И, кажется, в этом причина его хитрого взгляда.
Вслед за этим всевозможные дикие догадки лавиной хлынули в его душу, и отдельные выражения из «Хронометров» живо вспомнились ему – выражения, кои он прежде понимал неточно, но кои теперь проливали странный, гибельный свет на его особое положение дел да настойчиво разоблачали его. Вновь он сделал все, что было в его силах, чтобы добыть трактат и прочесть его уже вместе с комментарием таинственно-спокойного лика; снова он обшарил все свои карманы в поисках затрепанной книги из почтовой кареты, но тщетно.
И когда в тот критический момент, когда он покинул свою комнату в то утро, получив роковые известия, сам лик, сам человек – сам этот загадочный Плотин Плинлиммон, – наяву прошел мимо него в кирпичном коридоре, тогда, как уже прежде было сказано, он покраснел, взглянул искоса и попытался было приподнять свою шляпу в ответ, – тогда снова его прожгло желание во что бы то ни стало добыть себе его трактат.
– Будь проклята судьба, что я утратил его! – закричал он. – Дважды проклята, ведь когда у меня он был и я читал его, я был таким идиотом, что ничего не понял, а теперь уже слишком поздно!
Все же, забегая немного вперед, надо сказать, что, когда годами позже старый еврей-старьевщик тщательно осматривал сюртук Пьера, когда, волею судеб, он попал к нему в руки, его цепкие пальцы нащупали что-то инородное между тканью и тяжелым стеганым бомбазиновым[183] холстом. Он вспорол подкладку и нашел несколько старых страниц трактата, измятых и тонких, как паутина, от старости, но на них все еще можно было разобрать название: «Хронометры и часы». Пьер, должно быть, бездумно сунул трактат в карман в почтовой карете, и тот провалился в дыру в кармане да проскользнул далеко в подкладку и там стал ее частью, помогая ему согреваться. Иными словами, все время, пока он охотился за трактатом, он носил его при себе. Когда Пьер прошел мимо Плинлиммона в кирпичном коридоре и почувствовал снова сильнейшее желание найти трактат, то его правая рука была всего в двух дюймах от трактата.
Возможно, сие любопытное обстоятельство может в каком-то роде пролить некий свет на его воображаемое непонимание трактата, когда он впервые прочел его в той почтовой карете. Мог ли он столько носиться в своем уме с исчерпывающим пониманием книги и при этом не сознавать, что он прекрасно понял ее? Думается мне, если смотреть на вещи в едином свете, последняя ступень карьеры Пьера докажет, что он и впрямь понял трактат. И тут можно случайно в шутку предположить, что люди могут думать, что они не знают или не вполне поняли что-то, но при этом, так сказать, несмотря ни на что, носить это понимание в себе, да притом сохранять его от себя в секрете. Это совсем как с идеей о Смерти.
Глава XXII ЦВЕТАСТАЯ ЗАНАВЕСЬ ПРИПОДНИМАЕТСЯ ДЛЯ АВТОРА «ТРОПИЧЕСКОГО ЛЕТА» ВМЕСТЕ С НЕКОТОРЫМИ ПОЯСНЕНИЯМИ ИЗ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЙ МАССАЖНОЙ ФИЛОСОФИИ
I
Несколько дней прошло после получения роковых новостей из Седельных Лугов, и, наконец, как-то справившись с переживаниями, Пьер снова засел в своей комнате, ибо, как бы он ни был удручен, все же он должен был работать. И вот день сменяет день, и неделя следует за неделей, а Пьер по-прежнему сидит в своей комнате. Длинные ряды холодных кирпичных стен, в коих он находился, едва ли знали перемену, но с прекрасных холмов имения его прапрапрапрадеда прилетело лето, как залетная ласточка; вслед за ней – коварная тварь-осень заглянула в рощицы кленов и под предлогом, что она нарядит их в роскошные терракоту и золото, срывает с них под конец малейший листок и убегает прочь, хохоча; предвестники зимы – сосульки повисли на деревьях, что теснятся вокруг старого особняка, ныне запертого и заброшенного; маленький круглый мраморный столик в летнем домике, увитом виноградными лозами, за коим в июльские утра он сиживал, болтая и попивая негус[184] вместе своей веселой матерью, теперь усеян дрожащим покровом из снежинок; слякоть затвердела на могиле его некогда веселой матери, приготовляясь облачить ее в последний саван – окутывать раз за разом снежной пеленой; дико воют ветры в лесах: это зима. Благоуханное лето прошло, и осень прошла, но книге, как лютой зиме, все еще нет конца.
Сию спелую пшеницу долго жнут, Пьер; все налитые яблоки и виноград собраны; ни колоса, ни травинки, ни плода не осталось на полях; жатва подошла к концу. Ох, горе тому плоду, который припозднился и был настигнут зимой, коему лето не принесло созревания! Он будет погребен под зимними снегами. Подумай, Пьер, разве твое растение не родом из других, тропических широт? Хоть и посаженное на севере, в Мэне, апельсиновое дерево из Флориды выпустит листья только во время прохладного лета и завяжет несколько плодов, но все же в ноябре не сыщешь ни одного золотистого, спелого; и вслед за тем сердитый старый лесоруб, декабрь, потрясет хорошенько все дерево, сбросит плоды наземь, и пойдут они на растопку в какую-то беленую печь. Ах, Пьер, Пьер, поспеши! Поспеши! Поторопи созревание своих плодов, пока зима тебя не заставила.
Взгляни на вот того маленького ребенка, как долго он учится ходить самостоятельно! Сперва он визжит и жалуется, и даже не пытается вовсе стать на ноги до тех пор, пока мать и отец вместе не поддержат его; затем, понемногу обретя храбрость, он должен, по крайней мере, чувствовать руку одного из родителей, когда вновь на него нападет плач и дрожь; много времени должно пройти, прежде чем это дитя постепенно научится ходить безо всякой поддержки. Но мало-помалу, когда он вырастет и станет мужчиной, ему следует покинуть ту самую мать, что вырастила его, и отца, который дал ему жизнь, и пересечь моря, возможно, или обосноваться где-нибудь подальше, в землях Орегона. Ну вот, иль вы не узнаете здесь душу? Когда она в зародыше, ее со всех сторон объемлет мир, как кожура оберегает нежнейший фрукт, затем она пробивает мировую скорлупу, но внешне все еще цепляется за нее – все еще шумно требует поддержки от своей матери, Вселенной, и отца, Бога. Но душа когда-либо научится держаться на ногах самостоятельно, хотя и не без множества обидчивых воплей и множества болезненных падений.
В этот час жизни человек впервые познает, что такое человеческое предательство, и он убеждается, что в его невежестве и нужде люди держат его за собаку, а не за человека: это трудный час, но не труднейший. Есть и другой час, который приходит на смену этому, когда человек познает, что при его бесконечной относительной незначительности и жалком состоянии боги презирают его не меньше людей и не причисляют его к их числу. Божества и человечество тогда в равной степени желают, чтобы он умирал с голоду на улице, ибо никто не хочет ничего для него сделать. Тогда жестокие отец и мать оба отпускают его руки и оставляют молодую человеческую душу, и тогда вы услышите ее вопль и визг… и часто ее падение.
Когда в Седельных Лугах Пьер трясся и трепетал в те первые ужасные часы после получения письма от Изабелл, тогда человечество отпустило руку Пьера, и поэтому он плакал; наконец, привыкнув к этому, Пьер сидел за своей книгой, согласный с тем, что хоть человечество и покинуло его, но при условии, думал он, ощущения им поддержки высших сил, но вскоре он начал также чувствовать внешнюю потерю и этой, другой поддержки; да, даже сами отеческие божества ныне покинули Пьера; ребенок учится ходить в полном одиночестве и не без воплей.
Если человеку суждено бороться, возможно, будет хорошо, если сие произойдет на самой голой равнине из возможных.
Три комнаты, кои Пьер снял в Апостолах, сообщались меж собою. Первая – за исключением укромного уголка, где спала Дэлли, – использовалась в необходимых домашних целях, здесь они также обедали; вторая была комната Изабелл; третья была кабинет Пьера. В первой – в столовой, как они называли ее, – находилась кухонная плита, на которой грели воду для кофе и чая и где Дэлли стряпала легкие закуски. Это был их единственный источник тепла, ибо Пьер, коего предостерегали снова и снова, чтобы он экономил как можно больше, не дерзал использовать что-то еще дополнительно для обогрева. Но тепло даже от небольшой печки, если им разумно распорядиться, может сотворить великое благо. Горизонтальная труба ответвлялась от верха печи в столовой, проходила насквозь разделительную стену и шла через комнату Изабелл, проходила через комнату Пьера в одном углу и затем неожиданно исчезала в стене, где все оставшееся тепло, если таковое было, подымалось через дымоход в воздух, помогая согреваться декабрьскому солнцу. Большое расстояние, кое проходило тепло от своего источника до комнаты Пьера, прискорбно уменьшало и ослабляло его. Труба была еле теплой. Она была почти не в силах заставить хоть немного подняться столбик даже самого чуткого термометра; конечно, это не слишком-то поднимало настроение Пьеру. Кроме того, сия труба теплоснабжения, какой бы маленькой она ни была, не проходила через всю его комнату, а только задевала ее краешком и ныряла направо в стену, словно какие-нибудь кокетливые девицы, кои трогают сердце; более того, труба в его комнате находилась дальше всего от единственного места, где было наилучшее освещение и где две бочки и доска, заменяющие Пьеру письменный стол, могли стоять наилучшим образом. Изабелл часто настаивала на том, что у него должна быть отдельная печка для его комнаты, но Пьер не желал об этом слышать. Тогда Изабелл предложила ему свою собственную комнату, говоря, что она ею совсем не пользуется в течение дня, она вполне могла бы проводить время в столовой; но Пьер не желал об этом слышать, он не лишит ее комфорта продолжительно доступного уединения, кроме того, он теперь уже привык к своей комнате и должен сидеть только у своего окна, и нигде больше. Тогда Изабелл стала настойчиво предлагать, чтобы дверь между их комнатами оставалась открытой в то время, когда Пьер работает за своим столом, чтобы тепло из ее комнаты согревало оба помещения, но Пьер не желал об этом слышать: он должен запираться на замок строжайшим образом, когда пишет, – ни любовь, ни ненависть извне не допускались. Напрасно Изабелл твердила, что она не нарушит тишину ни малейшим шорохом и воткнет в игольницу даже свою рабочую иголку. Все напрасно. Пьер был неумолим.
Да, он решил побороться с холодом в своей отдельной комнате, – хотя странное трансцендентальное тщеславие одного из наиболее чудаковатых и неприспособленных Апостолов, который в это время также трудился над глубоким произведением, находясь этажом выше, и отказывал себе в готовке пищи вдоволь, чтобы сэкономить на прожорливом пламени, – странное тщеславие этого Апостола, повторяю, вдруг сообщилось Пьеру – что во всех королевствах Вселенной отопление было великим всеобщим источником и животворцем и, по здравому разумению, его нельзя изгонять из места, где великие книги рождаются на свет; поэтому он (Апостол), например, решил держать свою голову в теплице согретого печью воздуха и таким образом заставить свой ум пробудиться к жизни и цвести и дать бутон, который в конце концов распустится в венчающий, победоносный цветок, хотя в самом деле это тщеславие скорее вызывало сомнения у Пьера, ибо, честно говоря, тут не было ни малейшей примеси правдоподобной аналогии, и все же одна только мысль о его кошельке сразу же исключала любое нежелательное искушение и укрепляла его в первоначальном намерении.
Какими бы величественными и значительными ни были движения звезд, какие бы небесные мелодии они ни рождали, все же астрономы заверяют нас, что звезды – самые твердые методисты из всех существующих. Ни одна старая домохозяйка не совершает свой ежедневный обход по дому с миллионной долей точности великой планеты Юпитер в его установленных и неизменных вращениях. Он нашел свою орбиту и пребывает на ней; он рассчитал время для себя и придерживается его в своих стадиях. Так, в некоторой степени, было и с Пьером, который ныне совершал беспокойное вращение на орбите у своей книги.
Пьер подымался довольно рано, и чтобы еще лучше приучить себя к постоянному холоду в своей комнате, закалить свою волю и бросить вызов жесточайшему морозу на улице, он, находясь за занавесью, распахивал настежь верхнюю створку в своем окне и на импровизированном коврике из старых крашеных холстов, коими его соседи прежде укрывали какие-нибудь тюки с товарами, в те ранние декабрьские утра приучал свое тело к обильному омовению в воде, покрытой слоем молодого льда. Это его стоическое представление не обходилось совсем без зрителей; не присутствуя, они, тем не менее, сочувствовали ему по-соседски, ибо немного нашлось бы Апостолов из всего множества и множества комнат, кои не принимали бы неуклонно свою ежедневную декабрьскую ванну. Пьеру достаточно было только выглянуть из своего окна да поглазеть кругом на бесчисленные окна зданий, что составляли внутренний двор Апостолов, чтобы увидеть бессчетные быстрые мелькания повсюду вокруг него, множество худых, голых фигур, кои относились к своей наготе с философским спокойствием и бодрили свои измученные кости жесткими полотенцами и ледяной водой. «Пусть пьеса жизни будет короткой, – был их девиз. – Наши суставы – подвижными, а вся наша худоба – энергичной». О, эти мрачные отголоски скрежета массажных щеток, кои больше травмировали, скребя и полируя одни голые ребра! О, эти дрожащие водопады из ведер, кои окатывали горячие головы, не знакомые с продолжительной болью! О, этот ревматический хруст в больных суставах на холодном воздухе в декабре! Ибо в каждом окне, на котором намерз толстый слой льда, была распахнута верхняя створка и каждый воздавал должное зимнему Зефиру!
Среди всех врожденных, подобных гиенам, помех к принятию любой официальной формы какой-либо праведной и чистой, исконной религии нет ничего более могучего в своих скептических началах, чем тот неизбежный вред комичности, коим столь часто отмечены прекраснейшие и благороднейшие стремления тех людей, кои относятся с отвращением к обычному, привычному знахарству и ведут борьбу, вместе со своим расплывчатым приземленным гуманизмом, после того, когда кое-как мутно разглядят некие Божьи замыслы – замыслы, кои мало того что неясно различимы сами по себе, но еще и путь к ним столь мало виден, что никогда двое умников не придут к единому мнению по поводу них.
Едва ли новый Апостол тот, кто, в качестве большого прибавления к его революционному плану для человеческого интеллекта и философии, питает какие-то безумные, еретические заблуждения об устройстве собственного тела. Его душа, причисленная благопристойными богами к небесному воинству, в сущности, отвергает то самое благоразумное правило, согласно коему светские люди, которым довелось заслужить дружбу какой-либо великой личности, всегда устраивают так, чтобы непременно навязать ей скучное знакомство со своим близким другом, который, возможно, изрядный простофиля. «Любишь меня, люби и моего пса» – эта старая поговорка годится лишь для старых селянок, кои с любовью целуют своих коров. Боги любят душу человека, нередко они напрямую обращаются к ней, но ненавидят его тело и полностью игнорируют его и здесь, и после его смерти. Словом, если вы хотите подняться к богам, оставьте свое тело, словно пса, позади себя. И совершенно напрасно вы тратите свои силы, принимая очищающие ледяные ванны да усердно работая массажными щетками, чтобы приготовить свое тело для жертвы на их алтарь. Никакие пифагорейские или шеллианские диеты из яблочных очисток, сухого чернослива и крошек овсяного печенья никогда не насытят ваше тело в угоду небесам. Дай каждому ту пищу, коя для него предназначена, если, конечно, сия пища доступна. Питание для нашей души – это свет и простор; насыть же ее светом и простором. Но пища нашего тела – это шампанское и устрицы, корми же его шампанским и устрицами, и тело ответит нам радостным восстановлением сил, если для этого есть малейшая возможность. Ответь: разве ты не встаешь по утрам, поминутно зевая во весь рот да с больными коленями? Встань поутру, имея сильные мышцы да отрастив себе самое что ни на есть королевское брюхо, и можешь в тот же день смело претендовать на благосклонное внимание. Знай следующее: в то время как многие чахоточные диетологи производят лишь литературный метеоризм в мире, веселые авторы выражают в словах чистейшую правду и рождают ее в наименее грубой и самой изысканной форме. А что до мужчин, кои любят щеголять мускулами и драками, вспомните о той правдивой королевской эпитафии, кою Кир Великий[185] приказал выгравировать на своей гробнице:
«Я мог выпить много вина, и это принесло мне неслыханную пользу»[186]. Ах, глупцы! Думать, что, если заставить свое тело голодать, это обогатит твою душу! Разве полнеет какой-то бык оттого, что какой-то худой лис голодает в зимнем лесу? И не болтайте о том, что презираете свое тело, пока вы все еще растираете его массажной щеткой! Самые красивые дома заботливо убирают внутри, а их внешние стены спокойно оставляют пылиться и коптиться. Питайся мясом – и тогда обретешь разум. Не все мели, что на мельницу привезли, оставь мешок зерна про запас.
Это был продолжительный, обступавший его со всех сторон пример тех несчастных парней – обитателей Апостолов, кои в тот период его попыток совершенствования и личного роста ввели в заблуждение Пьера своей Философией Массажных Щеток и почти что соблазнили его своей Диалектикой Яблочных Очисток. Ибо все длинные внутренние дворы, коридоры и многочисленные комнаты Апостолов были усеяны хвостиками от яблок, косточками от чернослива и скорлупой орехов. Жильцы прохаживались туда-сюда, хрипло бормоча сквозь зубы о категориях Канта, и губы их были сухими и побелевшими, как у любого мельника, от налипших крошек крекера. Переключатель на холодную воду был самым желательным для их общих комнат, в их великом воображаемом Синедрионе под председательством одного из представителей Плотина Плинлиммона, где в огромной бутылке Адамова эля[187] и корзине с бушелем[188] крекеров заключалось все их пиршество. Кусочки сыра нередко выпадали из их карманов, да старые лоснящиеся яблочные очистки, за недосмотром, сыпались градом всякий раз, когда они вытаскивали оттуда свою рукопись, чтобы прочесть вам. Некоторые были искусны в выборе марки воды; и в трех стеклянных графинах, поставленных перед вами, была речная вода из Фэрмонта[189], Кротона[190] и Кочайчуата[191]: они держались мнения, что вода из реки Кротон – самая крепкая, вода из Фэрмонта – слабый тоник, и вода озера Кочайчуат имеет самую слабую крепость и меньше всего опьяняет. Отведайте немного Кротона, уважаемый сэр! Подбодрите себя Фэрмонтом! Почему кончился этот Кочайчуат? И, говоря так, сии философы, сидя за столами, передавали по кругу то, что считали своим портвейном, шерри и кларетом[192].
Некоторые из них пошли дальше и не принимали простую ванну, считая воду слишком грубым элементом; и посему они устраивали себе паровую баню да насыщали паром свои бедные легкие каждое утро. Дым, коим курились их макушки и который коптил страницы их трудов, формировался из тех дымков, кои текли струйками от их дверных порогов и из их окон. Иные не могли присесть утром, пока не примут паровую ванну снаружи и после не прополощут основательно свои внутренности пятью бокалами холодного Кротона. Они были словно пожарные ведра, честно наполняемые водой; и если бы они, стоя в одной цепочке, непрерывно передавали воду, переливая ее из одного в другое, то великий пожар 1835 года[193] был бы куда менее распространенным и страшным.
Ах вы, бедные худые щепки! Вы, несчастные, пропитанные насквозь водой да паром! Разве ваша аскетичная судьба недостаточно еще полоскала да иссушала вас, что вы до сих пор волочите за собой шланг и заливаете холодным кротоном себя и весь мир? А! соедините ваш шлнаг с большой бочкой старой доброй мадеры! Дайте миру какого-нибудь игристого вина! Смотрите, смотрите, уже испокон веку две трети его праздно утекает в землю!
II
Побледнев еще больше и с посиневшими губами, Пьер уселся за свою письменную доску.
Но разве Пьер упаковывал почту для Санкт-Петербурга этим утром? Поверх ботинок он надел мокасины, поверх своего обычного пальто он набросил сюртук и сверху сюртука – пальто Изабелл. Он придвинулся к письменной доске, и при этой его попытке любящая Изабелл осторожно подтолкнула стул ближе к доске, поскольку он был так укутан, что едва ли мог двигаться самостоятельно. Вошла Дэлли с горячими кирпичами из печи, и Изабелл и она с преданной заботой завернули эти импровизированные грелки в складки старого голубого пальто, военный мундир деда Пьера, и заботливо положили оба кирпича ему под ноги и на ноги, но подложив под ноги тот, что погорячее. Затем Дэлли принесла еще один горячий кирпич и положила его под чернильницу, чтобы чернила не смерзались. Затем Изабелл придвинула к нему поближе походную кровать, на коей лежали две или три книги, к коим он, возможно, мог обратиться в этот день, один или два крекера, небольшая емкость с водой, чистая салфетка и миска. Потом Изабелла положила на доску, у локтя Пьера, палку с крюком на конце. Пьер что, обратился в пастуха, епископа или калеку? Нет, но он, в сущности, довел себя до жалкого состояния последнего. С помощью палки с изогнутым концом Пьер, который не мог встать без того, чтобы не разрушить все свои утепляющие укрепления да не напустить ледяного воздуха себе в самое нутро… Пьеру, если он останется в одиночестве, может случиться так, что понадобится то, до чего он не сможет дотянуться рукой, и тогда палка с крюком сможет подцепить это да притянуть к нему ближе.
Пьер медленно осматривается кругом, все выглядит как надо; он смотрит с благодарным, меланхоличным удовлетворением на Изабелл, ее глаза наполняются слезами, но она прячет их, подойдя к нему очень близко, наклоняется и целует его в лоб. Это ее губы оставляют там горячую влагу, а не слезы. Она говорит:
– Думаю, я могу теперь идти, Пьер. Не надо, не надо так же долго работать и сегодня. Я проведаю тебя в полпятого. Ты не должен напрягать свои глаза в сумерках.
– Там будет видно, – говорит Пьер, делая слабую попытку выдать весьма печальный каламбур. – Ступай, ты должна идти. Оставь меня.
И вот он остался один.
Пьер молод; небеса дали ему самые небесные и свежие человеческие черты, даровали ему прекрасное зрение, пламенную кровь и мускулистые руки, а также сообщили радостную, ликующую, бьющую через край, подспудную, повсеместную живость каждой клеточке его тела. Теперь посмотрите на эту комнату, самую скверную из всех, и на дело, коим он занят, самое жалкое из всех, и скажите: для этого ли места и для этого ли занятия сотворил его Бог? Расшатанный стул, два пустых бочонка и доска поверх, бумаги, перья и адски-черные чернила, четыре лепрозорно-белые стены, в комнате нет ковра, чашка воды и один или два сухих крекера. О, я слышу, как бежит техасский команчи[194], который в это самое мгновение продирается с треском, как дикий олень, в молодых зеленых лесах; я слышу его победный клич дикаря и неукротимого здоровья, и затем я перевожу взгляд на Пьера. Если физическая, практическая неразумность делает дикарем, то кто же он? Цивилизация, философия, идеальная добродетель! Вот ваша жертва!
III
Прошло несколько часов. Давайте же заглянем через плечо Пьера и увидим, что это он там пишет, в этом самом меланхоличном из всех кабинетов. Вот, сверху груды бумаг рядом с ним лежит последний листок, который вышел из-под его пера, где яростные чернила еще не совсем высохли. Здесь мы найдем много интересного, отвечающего нашей цели, ибо на сем листке бумаги он, кажется, напрямую обращается к своему собственному жизненному опыту да подчиняет ему настроение своего несомненного альтер эго, Вивии, который произносит следующий монолог:
– В глубине моей души таится невыразимая печаль. Я отбрасываю все радостные и равнодушные маски и все философские притязания. Я обрел земного брата, дитя первобытной тьмы. Безысходность и отчаяние овладевают мной снова и снова. Прочь, вы, болтливые обезьяны, дилетанты Спиноза и Платон, кои однажды сделали все, чтобы убедить меня в том, что ночь есть день и что боль не опаснее щекотки. Дать объяснение этой тьме, изгнать этого дьявола вы не можете. Не говори мне ты, непонятный шутовской колпак Гёте, что мир не может жалеть тебя и твое бессмертие до тех пор, пока ты, словно нанятый официант, не станешь приносить всем «общее благо». Мир уже прекрасно крутится без тебя, и может еще вырастить миллион, а то и больше таких же, во всем похожих на тебя. Акционерное общество не имеет души, и твой пантеизм – что это? Ты достойный, но вычурный и бессердечный человек. Подумать только! Я держал тебя в этой руке, и ты рассыпался в прах, как пустая яичная скорлупа.
С этого места пробел.
– Откуда берутся хвалебные мелодии, что играют впереди марша этих героев? Откуда, как не от звучных медных труб и звенящих тарелок!
И здесь второй.
– Брось же свой взгляд на Вивию, скажи мне, почему он, скованный по рукам и ногам, томится в тюрьме день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем… и сам сидит узником добровольно! Неужели это конец философии? Это самая величественная и духовная жизнь? Это ваши хваленые эмпиреи? Ради этого человек должен набираться ума да отказываться от своих самых прекрасных и оклеветанных заблуждений?
И здесь третий пробел.
– Брось свой взгляд на Вивию – на того, кто в поисках величайшей высоты добродетели и правды нажил себе только мертвенную бледность! Взвесь его сердце в своей руке, ты, блестящий золотым позументом, виртуоз Гёте! И ответь мне, отвечает ли оно твоим стандартам тяжести!
И здесь четвертый.
– О Боже, сей человек обречен гнить и гореть на столбе, и медленно угасать, и увядать там, пока не наступит время жатвы! И, о Боже, те люди, кои называют себя людьми, будут настаивать на смехе! Я ненавижу мир и мог бы растоптать легкие всех людей, как виноградины, и выбить из них дыхание напрочь, думая о горе и лицемерии, думая о правде и лжи! О! благословенно будь двадцать первое декабря и будь проклято двадцать первое июня!
Из-за этих случайных пробелов может показаться, что Пьер вполне сознает многое из своего необыкновенно тяжелого и горького жребия, многое из того, что столь черно и ужасно в его душе. И все же знание своей роковой участи не позволяет ему ни на йоту изменить или улучшить свое положение. Решающее доказательство, что он не властен над своей судьбой. Ибо в экстремальных обстоятельствах души человеческие подобны тонущим людям; они прекрасно сознают, что находятся в опасности; они прекрасно сознают причины этой опасности – тем не менее море есть море, и эти тонущие люди утонут.
IV
С восьми часов утра и до полпятого вечера просиживает Пьер в своей комнате восемь с половиной часов!
На трясущихся дугах и колеблемой упряжи веселых лошадей колокольчики громко звенят, но Пьер сидит в своей комнате; наступает День благодарения с его радостными пожеланиями и жареными индейками с хрустящей корочкой, но Пьер сидит в своей комнате; сквозь снега, мягко ступая в крашеных индейских мокасинах, подкрадывается Рождество Христово, но Пьер сидит в своей комнате; приходит Новый год, и, как великая бутылка, большой город кипит народом на всех тротуарах, набережных и пристанях и переполнен ликованием, но Пьер сидит в своей комнате; ни звенящие колокольчики на трясущихся дугах или колеблемой упряжи, ни радостные пожелания и жареные индейки Дня благодарения, ни крашеные индейские мокасины, в коих Рождество Христово мягко крадется сквозь снега, ни Новый год, с его тротуарами, набережными и пристанями, кипящими народом и переполненными ликованием, ни звенящие колокольчики, ни радостный День благодарения, ни Рождество Христово, ни ликующий Новый год… никакие колокольчики, пожелания, Христос, Новый год – все это было не для Пьера. В центре всех радостных изменений времени Пьер замкнулся в себе в вечной печали. Пьер стал твердой скалой в сердце времени, как островная гора Пику[195], что высится неприступно посреди океанских волн.
Его нельзя было навестить, его нельзя было потревожить. Чуткое ухо Изабелл, находящейся в соседней комнате, порой могло различить периоды полного молчания, и затем за ними следовал долгий одинокий скрип его пера. Словно она услышала сосредоточенную работу полуночного крота под землей. Иногда она слышала его тихий кашель и порой – скрипение его палки с крюком на конце.
Несомненно, есть удивительное спокойствие в восьми с половиной часах, кои повторяются изо дня в день. В сердце такой тишины непременно что-то создается. Будет ли это творение или крах? Создаст ли Пьер величественный мир новой книги? Или бледное измождение разрушит его легкие и саму его жизнь? Невыразимо жаль, что человек должен так поступать!
Когда в знойный полдень мы вспоминаем непроглядную черноту ночи, то ночь кажется невозможной – кажется, что это солнце никогда не сядет. О, та память о глубочайшем мраке как о мутном осадке от уже пережитого, и нет никакой защиты от его возвращения. Кто-то может казаться вполне здоровым в один день, а на другой – ужинать черной похлебкой вместе с Плутоном.
Тогда неужели вся эта работа – ради одной книги, кою можно прочесть за каких-то несколько часов, а то и вовсе ее, скорее всего, бегло просматривают за одну секунду, коя в конце концов, какой бы ни была, должна, вне всяких сомнений, стать пищей для червей?
Нисколько – то, что ныне поглощает время и жизнь Пьера, это вовсе не книга, но простое осмысление того странного жизненного опыта, мысли о коем, при попытке облечь их в форму книги, накатывали на него и бушевали в его душе. Было написано две книги, из которых мир видел только одну, и то была хуже написанная. Та из них, что была больше объемом и бесконечно лучше по стилю, предназначалась для личной книжной полки Пьера. Именно она, со своими неиссякаемыми потребностями, пила его кровь; другая книга требовала лишь его чернил. Но обстоятельства так распорядились, что последняя не могла быть написана на бумаге до тех пор, пока первая не будет записана в его душе. И та, что должна быть записана в его душе, по-слоновьи неповоротлива и даже не пошевельнется, если дать себе передышку. Выходило, что Пьера сосали две пиявки – разве жизненных сил Пьера хватит надолго? Посмотрите-ка на него! Он готовит себя для вечной жизни, разжижая себе кровь да загоняя свое сердце. Он учится жить, репетируя в некоторой степени смерть.
Кто может пересказать все мысли и чувства Пьера в той одинокой и ледяной комнате, когда под конец его стала преследовать мысль, что, чем более мудрым и знающим он будет становиться, тем больше и больше будут уменьшаться его шансы заработать на хлеб, что выброси он сейчас свое глубокое творение из окна да возьмись за какой-нибудь пустой примитивный роман, который можно написать самое большее за месяц, – тогда он мог бы смело надеяться получить и признание, и деньги.
Но ненасытные бездны, кои открылись в нем, пожирали все его жизненные силы; даже если бы он и хотел, он не мог с выгодой для себя перепрыгнуть на мелководье какого-нибудь занимательного, понятного и веселого любовного романа. Теперь он понимал, что каждый раз, когда он обращался к Божьей искре внутри себя, некий мощный поток безграничного, всеохватывающего вдохновения ускользал от него да низвергался вдали мощным водопадом. Иль я не говорил вам, что боги, так же как и человечество, покинули нашего Пьера? Одним словом, вы в нем видите маленького ребенка, о коем я рассказывал, коего принудили стоять на своих ногах да учиться ходить самостоятельно.
Порой он поворачивается к своей походной кровати, макает салфетку в миску с водой и прижимает мокрую салфетку ко лбу. Иногда он откидывается назад на своем стуле, словно сдаваясь, но затем снова склоняется над доской и пишет.
Сумерки сгущаются, голос Изабелл, зовущей его, слышен из-за двери; наш бедный, заледеневший, с посиневшими губами, трясущийся от холода путешественник из Санкт-Петербурга раскутывается и тяжело подымается со своего стула. Затем берет свою шляпу и трость и идет на прогулку, подышать свежим воздухом. Прогулка немыслимо неуклюжего субъекта, коего от ветра шатает! Люди глазеют на него, когда он проходит мимо, как на какого-то безрассудного больного, который раньше времени нарушил постельный режим. Если ему встретится знакомый и попытается рассказать на ухо приятную сплетню, то такой знакомый скоро отшатывается от него, обиженный его суровым видом ледяной неучтивости. «Невежа», – бормочет знакомый и идет дальше.
Он возвращается в свои комнаты и садится за стол, который прибрала Дэлли; и Изабелл успокаивающе рассматривает его и уговаривает его есть и набираться сил. Но его голод таков, что питает отвращение к любой еде. Он не может есть иначе, но только по принуждению. Он уничтожил свой естественный распорядок дня, как же он может есть с аппетитом? Если он ложится отдохнуть, то не может спать; он пробудил в себе бесконечную бессонницу – как же он тогда будет спать? Одна его книга, как огромная шумная планета, вращается в его больной голове. Он не может приказать ей сойти с орбиты; он бы охотно себя обезглавил, лишь бы хоть на одну ночь обрести покой. Наконец, тяжкие часы проходят, и чистое изнурение побеждает его, и он спит мертвым сном, не так, как спят дети и поденные рабочие, но забывается тяжелым сном от всех своих треволнений, на это краткое время зажимает в горсти клюв стервятника и не позволяет ему клевать свое сердце.
Приходит утро; снова открывается окно, снова ледяная вода, растирание тела массажной щеткой, завтрак, горячие кирпичи, чернила, перо с восьми утра до полпятого вечера, и весь этот обычный, настоящий ад повторения одного и того же каждый день.
Ах! Неужели этот человек, который изо дня в день дрожит от холода под множеством одеял и пальто, тот самый горячий парень, который однажды спел миру о «Тропическом лете»?
Глава XXIII ПИСЬМО ДЛЯ ПЬЕРА. ИЗАБЕЛЛ. ПРИБЫТИЕ МОЛЬБЕРТА И ДОРОЖНЫХ СУНДУКОВ ЛЮСИ К АПОСТОЛАМ
I
Если поселенец был схвачен дикими индейцами и уведен далеко в глубь лесов и там его держат пленным, без малейшей возможности случайного освобождения, тогда самым мудрым поступком, который этот человек может предпринять, – это любым доступным способом изгнать из памяти всякое воспоминание о родных местах и близких, кои теперь навсегда для него потеряны. Ибо чем более желанными они представляются ему в его нынешнем положении, когда он оторван от них, тем более мучительно для него будет теперь вспоминать о них. И хотя сильный человек порой может преуспеть в том, чтобы задушить такие тягостные воспоминания, все же, если с самого начала позволить им вторгнуться в его ум и застать его врасплох, тот же самый человек станет в конце концов идиотом. Когда континент и море лежат между ним и его женой, для разлученного с ней таким образом, по какой бы то ни было важной причине, на долгие годы супруга, если он испытывает к ней пылкую привязанность и от природы одарен чувствительной душой, склонной к размышлениям, будет всего мудрее забыть о ней до тех пор, пока он снова ее не обнимет, – будет всего мудрее навсегда позабыть ее, если он услышит о ее смерти. И хотя такие совер шенно суицидальные попытки забыть на практике оборачиваются невозможными, все же это только неглубокие и поверхностные чувства шумят в пристанищах посмертных воспоминаний. Любовь так же глубока, как смерть[196]. Что означают эти шесть[197] слов, как не то, что такая любовь не может жить и постоянно вспоминать, что возлюбленной нет больше? Если это так, тогда в случаях, когда полнейшая нераскаянность смотрит на утрату любимых как на предполагаемую, насколько же труднее стерпеть, когда в голове вертится знание о безнадежном ничтожестве воспоминаний, связанное с тем, что вспоминающий сначала осыпает себя тайными упреками в том, что он – даже невольно – выступает в роли источника своих страданий. Кажется, нет никакого другого разумного лекарства для неких унылых особ, для коих подобные средства при обстоятельствах, кои сложились таким образом, единственные ориентиры, кои могут направить их, что бы ни случилось.
Если до настоящего времени мало или совсем ничего не было сказано о Люси Тартан, памятуя о том, в каком состоянии находился Пьер после своего отъезда из Седельных Лугов, это лишь потому, что ее образ добровольно не занимал его души. Он старался изо всех сил, чтобы изгнать его оттуда; и лишь один раз – при получении новостей про ухаживания Глена, кои возобновились, – он ослабил силу этих стараний или скорее почувствовал их как важные для себя в этот час его многоаспектной и бесконечной прострации.
Не воспоминание о помертвевшей Люси, падающей в обморок на свою белоснежную постель, не воспоминание о той душераздирающей муке, коя звучала в ее крике: «Любимый мой! Любимый мой!», не они всплывали временами в его памяти, заставляя все его существо дрожать от безымянного ужаса и страха. Но самое волнение, которое вызывал у него призрак, заставлял Пьера избегать его, напрягая все оставшиеся душевные силы.
Не было здесь желания еще другого и куда более удивительного, хотя – пусть и смутно сознательные – чувства в груди Пьера приняли, в качестве защиты, молящий вид. Не говоря уже о том, что он был поглощен тотальной трудностью темы своей книги, были у него также и зловещие мысли более тонкого и более пугающего толка, намеки на кои были уже сделаны.
Это случилось, когда он сидел в одиночестве в своей комнате одним утром; его ослабевшие силы искали минутной передышки, он поник головой к голому полу, скользя взглядом по швам в нем, кои, словно провода, шли прямо от того места, где он сидел, до двери в соседнюю комнату и пропадали под ней, ведя в комнату Изабелл; и он вздрогнул от легкого стука в эту самую дверь, вслед за коим послышался знакомый, низкий, приятный голос:
– Пьер! Письмо для тебя – неужели ты не слышишь? Письмо… могу я войти?
На Пьера сразу же нахлынули удивление и дурное предчувствие, ибо он был именно в том положении, кое нередко встречается, когда внешний мир уважает его ровно настолько, что он, будучи благоразумным, не мог ожидать никаких иных новостей, кроме ужасных или, на худой конец, неприятных. Он дал согласие; и Изабелл вошла, протягивая ему письмо.
– Это от некой леди, Пьер; кто это может быть?.. Правда, не от твоей матери, в этом я уверена – выражение ее лица, которое я когда-то видела, отнюдь не отвечает манере этого почерка на конверте.
– Моя мать? От моей матери? – пробормотал Пьер в исступ лении растерянности. – Нет! Нет! Это едва ли от нее… О, она больше не пишет даже в своих собственных личных тетрадях! Смерть украла последний листок и стерла все напрочь, чтобы нацарапать там свою собственную незабываемую эпитафию!
– Пьер! – крикнула Изабелл в страхе.
– Дай его мне! – загремел он окрепшим голосом, протягивая руку. – Прости меня, милая, милая Изабелл, я запутался в своих размышлениях – эта книга доводит меня до безумия. Ну вот, я пришел в себя, – сказал он более отстраненным тоном, – ну же, оставь меня снова. Это от какой-нибудь хорошенькой тетушки или кузины, я уверен, – прибавил, беспечно поигрывая письмом в руке.
Изабелл покинула комнату; в ту же секунду, как за ней закрылась дверь, Пьер нетерпеливо вскрыл письмо и прочел…
II
«Этим утром я клянусь, мой милый, бесконечно дорогой, дорогой Пьер, что я чувствую себя получше сегодня, ибо сегодня у меня гораздо больше мыслей о твоей собственной сверхчеловеческой, ангельской силе, которая таким образом, хоть и в малой степени, передалась мне. О, Пьер, Пьер, какие слова я буду писать тебе теперь – теперь, когда, до сих пор не зная ничего о твоем секрете, я, словно провидица, подозреваю. Горе, глубокое, несказанное горе сделало меня такой провидицей. Я могу убить себя, Пьер, когда я думаю о моей прежней слепоте; но это произошло только от моего обморока. Это было ужасно и совершенно убийственно; но теперь я понимаю, что ты был абсолютно прав, оставив меня столь быстро и никогда после не написав мне ни слова, Пьер; да, теперь я понимаю это и обожаю тебя еще больше.
Ах! Ты слишком благороден и подобен ангелу, Пьер, теперь я чувствую, что подобные тебе не могут любить так, как другие мужчины любят, но ты любишь любовью ангелов, не для себя, но только ради других. Но мы по-прежнему одно, Пьер; ты пожертвовал собою, и я спешу вновь связать тебя с собою, так что я могу поймать искру твоего огня, и все горячие многочисленные языки нашего прежнего пламени могут вспыхнуть снова. Я ничего не попрошу у тебя, Пьер, ты можешь не рассказывать мне секрет. Ты был совершенно прав, Пьер, когда в той поездке на холмы ты отказался произнести нежный глупый обет, который я от тебя требовала. Совершенно, совершенно прав, теперь я понимаю это.
Тогда если я торжественно поклянусь никогда не добиваться от тебя ни малейшего объяснения, которое ты не мог бы свободно мне поведать, если я когда-нибудь, в каких-либо внешних событиях, узнаю, совсем как ты, особенное положение того таинственного и навеки святого существа, тогда, разве я не могу приехать и жить с тобой? Я не стану тебе обузой. Я знаю только, где ты находишься и как ты живешь; и только там, Пьер, и только так любая дальнейшая жизнь выносима или возможна для меня. Она никогда не узнает, ибо я уверена, что так далеко не простирались твои откровения с ней, ты не открыл ей, кем я была тебе когда-то. Представим все так, что я твоя кузина, затворница, которая поклялась всегда жить с тобой в твоей странной ссылке. Не оказывай мне, никогда не оказывай больше никаких видимых сознательных знаков любви. Я никогда не буду дарить их тебе. Наши земные жизни, о мой божественный Пьер, станут с этого времени одним немым ухаживанием друг за другом, без каких-либо объяснений; никакой свадьбы до тех пор, пока мы не встретимся в чистых землях Божьего райского блаженства, которое будет нам даровано, до тех пор, пока мы не встретимся там, куда земной мир, с его бесконечными беспокойствами и бесконечными свадьбами, не может и не сможет ворваться, где все твое скрытое, блистательное бескорыстие будет блистательно открыто в полном блеске Божественного света; где, более не принуждаемая к этим жесточайшим маскировкам, она, она тоже займет свое блистательное место, не принимая этого с тяжелым сердцем, но скорее чувствуя на себе истинное благословение, когда там твое прекрасное сердце будет явно и нескрываемо моим. Пьер, Пьер, мой Пьер!.. только эта мысль, эта надежда, эта нежная вера теперь поддерживают меня. Это было правильно, тот обморок, в котором ты меня оставил, ту долгую вечность назад, это было правильно, дорогой Пьер, что, хотя я и опомнилась от него для того, чтобы смотреть и искать, все же это было только для того, чтобы смотреть и искать, и тогда я снова падала в обморок, и снова доискивалась ответов, и снова лишалась чувств. Но это все было пустое; мало я поняла, ничего я не узнала; это был не более чем сон, мой Пьер, я не имела ни одной сознательной мысли о тебе, моя любовь, но чувствовала внешнюю черноту, пустоту – ибо разве ты не был тогда внешне потерян для меня? И что же тогда оставалось бедной Люси?.. Но теперь этот долгий, долгий обморок в прошлом, я снова пришла в себя для жизни и света; но как я могу прийти в себя, как я могу жить по-другому, если не вместе с тобой? Словом, в ту минуту, как я пробудилась от долгого, долгого обморока, тогда же пришла ко мне бессмертная вера в тебя, которая, хоть и не могла предложить ни малейшего возможного аргумента простого здравого смысла в отношении тебя, все же была тем единственным, тем более таинственным императивом для нее, мой Пьер. Знай же, мой бесконечно дорогой Пьер, что, несмотря на все ярчайшие земные причины разувериться в твоей любви, я, тем не менее, всю себя без остатка отдаю твердой вере в нее. Ибо я чувствую, что всегда любовь есть любовь, и она не может знать перемены, Пьер; я чувствую, что небеса призывают меня сослужить тебе небывалую службу. Бросив меня в тот долгий, долгий обморок – за время которого, как Марта говорила мне, я едва ли вполне совершала три обычных приема пищи, – совершив это, небеса, как я теперь чувствую, готовили меня для той сверхчеловеческой службы, о которой я говорю; они полностью отдалили меня от этой земли, даже когда я все же задержалась на ней; они готовили меня для небесной миссии на земной ниве. О, дай мне немного твоей дивной силы! Я не более чем бедная слабая девушка, дорогой Пьер, та, которая однажды любила тебя, но слишком нежно и с земной слабостью. Но теперь я стану выше этого; я воспарю ввысь к тебе, туда, где ты восседаешь на своих мирных, величественных небесах героизма.
О, не пытайся отговорить меня, Пьер. Разве ты хотел бы убить меня, и убить миллион раз? И разве ты не хочешь прекратить убивать меня? Я должна приехать!
Я должна приехать! Сам Господь Бог не остановит меня, ибо Он тот, кто направляет меня… Я знаю, что все будут выслеживать меня в бегстве к тебе – моя изумленная мать, мои взбешенные братья, весь ядовитый и презрительный мир. Но ты – моя мать, и мои братья, и весь мир, и все небо, и вся Вселенная для меня – ты, мой Пьер. Ради одного-единственного человека бьется мое сердце – и это ты, Пьер… Словом, я приеду к тебе, Пьер, и быстро – это будет сегодня, – и никогда больше я тебя не оставлю, Пьер. Поговори с ней обо мне, не медля ни минуты, ты лучше всех знаешь, что сказать. Разве нет никакой родственной связи между нашими семьями, Пьер?
Я слышала, как моя мать иногда находила такую связь – некое косвенное родство. Если ты одобряешь это, тогда ты можешь сказать ей, что я – твоя кузина, Пьер, твоя решительная и непоколебимая затворница-кузина, которая поклялась всегда жить с тобой, служить тебе и ей, хранить тебя и ее до скончания дней. Приготовь какой-то маленький уголок для меня где-нибудь, но пусть я буду как можно ближе к тебе. Я уже еду, я выслала вперед небольшое количество своих вещей – инструменты, с помощью которых я буду работать, Пьер, и таким образом вносить свой вклад в общую казну. Жди меня следом за ними. Я еду! Я еду, мой Пьер, ибо глубокий, глубокий голос убеждает меня, что все благородно, что связано с тобой, Пьер, что тебе угрожает некая грозная опасность, которую только мое постоянное присутствие может прогнать прочь. Я еду! Я еду!
ЛЮСИ».III
Когда человека окружает команда подлецов и корыстолюбцев, когда он, слишком долго привыкший смотреть на представителей своего племени с подозрительным презрением, вдруг почувствует на себе легкое прикосновение ангельского пера доброты, услышит человеческие слова о Божественной любви, и увидит сияющие человеческие глаза Божественной красоты, – когда все это разом сваливается на него, какое же это тогда небывалое и пугающее потрясение! Это как если бы в небесном своде появились дыры и в черной долине Иосафата[198] он поймал взглядом вышние парения серафима, преисполненного к нему зримой любви.
Пьер сжимал безыскусное, ангельское письмо в своей недоверчивой руке; он вздрогнул и обвел долгим взглядом свою комнату и пространство за окном, вопрошая пустые, безлюдные, всезапрещающие стены, стоящие квадратом, и затем спросил самого себя, неужели это то самое место, кое ангел выбрал для своего визита на землю. Затем его охватило чувство бесконечного, выходящего из берегов торжества, что девушка, чьи необыкновенные достоинства его душа когда-то интуитивно разгадала с такой ясностью и пылом, несомненно, смогла в этом ужаснейшем из всех испытаний проявить себя с таким бесконечным величием. Потом он вновь безнадежно утонул, потеряв ее из виду, тонул, словно в бездонной пучине, и бежал, дрожа, сквозь отвратительные галереи отчаяния, преследуя некую бледную, светлую тень, как чу! пара бездонных темных глаз встретились с его, и Изабелл, безмолвная и мрачная, но все же бесконечно прекрасная, стояла перед ним.
Пьер вскочил на ноги из-за своей доски, отбросил прочь все свои одеяло и пальто, что согревали его, и стал мерить шагами комнату, чтобы как-то отдалиться от места, где он познал столь приятные, столь грандиозные, столь необычные откровения.
Тогда раздался неуверенный, краткий стук в дверь.
– Пьер, Пьер, теперь, когда ты поднялся на ноги, не могу ли я войти – только на минутку, Пьер…
– Входи, Изабелл.
Она приблизилась к нему в своей обычной, самой удивительной и чарующе-мрачной манере, когда Пьер отступил от нее на шаг и протянул руку, не то чтобы приглашая войти, но скорее предостерегая.
Изабелл внимательно посмотрела ему в глаза и стала неподвижно.
– Изабелл, ко мне приезжает другая. Ты не должна говорить, Изабелл. Она едет, чтобы жить с нами до конца наших дней, Изабелл. Не хочешь ли ты что-то сказать?
Девушка стояла неподвижно, продолжая по-прежнему буравить Пьера пристальным взглядом широко распахнутых неподвижных глаз.
– Не хочешь ли ты что-то сказать, Изабелл? – повторил Пьер, испуганный ее застывшим, неподвижным видом, но при этом будучи слишком испуган, чтобы показать ей свой страх, и медленно приблизился к ней.
Изабелл слабо подняла одну руку, словно ища опору, затем медленно повернула голову в сторону двери, в кою вошла, затем медленно прошептала пересохшими губами:
– Моя постель; уложи меня, уложи меня!
Попытка заговорить разбила напряженное очарование ее неподвижности; ее тело обмякло, она едва не упала, но Пьер подхватил ее и перенес в ее комнату и уложил ее там на постель.
– Дай мне воздуха! Дай мне воздуха!
Пьер овевал Изабелл веером, раздувая ослабевшее пламя ее жизни; и мало-помалу она медленно повернулась к нему:
– О! Слово о женщине из твоих уст, дорогой Пьер, что она, что она!..
Пьер сидел молча, овевая ее веером.
– О, я ничего не хочу в этом мире, кроме тебя, брат мой, но ты, но ты! И, о Боже! Разве меня тебе недостаточно? Голая земля, кою я делю с моим братом, для меня – небеса, но вся моя жизнь, вся моя душа без остатка не удовлетворяет моего брата.
Пьер молчал, он только слушал; ужасное, жгучее любопытство завладело им, кое сделало его словно бессердечным. Все, что Изабелл сказала до сих пор, было так двусмысленно.
– Если бы я знала… если бы я только знала раньше! О, как мучительно жестоко узнавать об этом теперь. Что она! Что она! – Изабелл вдруг резко села в постели и почти свирепо взглянула ему в лицо: – Или ты открыл ей твой секрет, или она не стоит самой обычной любви мужчины! Отвечай, Пьер, что из двух?
– Секрет по-прежнему остается секретом, Изабелл.
– Значит, она никчемная, Пьер, кем бы она ни была, глупо, безумно влюбленная!.. Разве весь мир не знает меня как твою жену?.. Чтоб и духу ее здесь не было! Это грязное пятно на тебе и на мне. Чтоб и духу ее здесь не было! Один мой взгляд убьет ее, Пьер!
– Это безумие, Изабелл. Смотри: рассуди меня. Прежде чем открыть это письмо, разве я не сказал тебе, что, без сомнений, оно от какой-нибудь хорошенькой молодой тетушки или кузины?
– Говори живо!.. Кузина?
– Кузина, Изабелл.
– Все же, все же это далеко не все, сдается мне. Расскажи мне больше – и живее! Больше! Больше!
– Очень странная кузина, Изабелл, почти монахиня по своим убеждениям. Прослышав о моем таинственном изгнании, она, не зная причины, принесла таинственную клятву верности нам обоим – не столько мне, Изабелл, как нам, нам… служить нам и, по некой прекрасной прихоти небес, направлять нас и хранить нас.
– Тогда, возможно, это может быть очень хорошо, Пьер, брат мой… брат мой… могу ли я сказать это теперь?
– Что угодно, все слова твои, Изабелл; слова и миры со всем их содержанием должны смиренно служить тебе, Изабелл.
Изабелл взглянула на Пьера горячо и вопросительно, затем уронила взгляд и коснулась его руки, затем воззрилась на него снова:
– Не говори мне больше ничего, Пьер! Ты мой брат; разве ты не брат мой?.. Но расскажи мне теперь больше о… ней; это все новизна и совершенная странность для меня, Пьер.
– Как я уже сказал тебе, моя прекраснейшая сестра, что у нее такие вот сумасбродные, монашеские представления. Она своенравна; в своем письме она клянется, что должна приехать и обязательно приедет… и ничто на свете не остановит ее. Не питай больше никакой сестринской ревности, сестра моя. Ты увидишь, что это самая добрая, скромная, заботливая девушка, Изабелл. Она никогда не заговорит с тобой о том, о чем не следует говорить, никогда не намекнет на это, потому что она ни о чем не знает. При этом, не зная секрета, она все же имеет неясное, случайное представление о секрете – мистическая, не иначе, догадка о нашем секрете. И ее божья кротость заглушила все ее женское любопытство, так что она вовсе не хочет, каким бы то ни было образом, проверить свою догадку, она довольствуется одной своей догадкой, ибо в этом заключаются, как она думает, ее божья миссия, чтобы прибыть к нам, – только так, только в этом, Изабелл. Ты понимаешь меня?
– Я ничего не понимаю, Пьер, здесь нет ничего, чтобы мои глаза увидели, Пьер, чтобы моя душа поняла. Всегда, как и теперь, я иду, стесненная со всех сторон, окруженная загадками. Да, она приедет; это просто еще одна загадка. Она говорит во сне, Пьер? Будет ли это хорошо, если она будет спать со мной, брат мой?
– На твое усмотрение… как тебе будет угодно… если тебя это не стеснит… и… и… не зная точно, каково положение вещей на самом деле… она, вероятно, ожидает и желает другого, сестра моя.
Изабелл смотрела на Пьера твердым, пристальным взглядом, а он – на нее, имея внешне невозмутимый вид, но без внутренней твердости; и затем она опустила глаза в молчании.
– Да, она приедет, брат мой; она приедет. Но это вплетает свою нить в общую ткань, брат мой… Обладает ли она тем, что именуют памятью, Пьер, памятью? Имеет ли она ее?
– Мы все обладаем памятью, сестра моя.
– Не все! Не все!.. Бедная Белл обладает очень краткой. Пьер! Я видела ее в каком-то сне. Она была белокурой… голубоглазой… она не такая высокая, как я, и немного стройнее.
Пьер вздрогнул:
– Ты видела Люси Тартан в Седельных Лугах?
– Люси Тартан – это ее имя?.. Возможно, возможно… но также во сне, Пьер; она пришла, смотрела на меня умоляюще своими голубыми глазами; казалось, она предостерегала меня от тебя… мне кажется, она была тогда больше чем твоя кузина… мне кажется, она была тем добрым ангелом, который, как говорят, парит над каждой душой человеческой; и мне кажется… о, мне кажется, что я была твоим другим… твоим другим ангелом, Пьер. Взгляни… посмотри на эти глаза… на эти волосы… нет, эти щеки… все темное, темное, темное… и она… голубоглазая… белокурая… о, когда-то румяная!
Изабелл окутала себя своими эбеновыми волосами; она устремила на Пьера пристальный взгляд своих эбеновых глаз:
– Скажи, Пьер, разве меня не окружает траурность? Был ли когда-нибудь катафалк украшен столь пышными перьями?.. О, Боже! Если бы я только родилась с голубыми глазами и белыми локонами! Они дают божественное облачение! Разве ты хоть раз слышал о добром ангеле с темными глазами, Пьер?.. нет, нет, нет… все голубое, голубое, голубое… это цвет небес, голубой… чистый, живой, несказанный голубой, который мы видим в июньском небе, когда все облака истаяли… И добрый ангел приедет к тебе, Пьер. Тогда оба будут ближе к тебе, брат мой, и ты можешь, наверно, выбрать… выбрать!.. Она приедет, она приедет… Когда это случится, дорогой Пьер?
– Завтра, Изабелл. Так здесь было написано.
Девушка устремила пристальный взгляд на скомканный листок в его руке:
– Было бы подло просить об этом, но не столь низко было бы хоть попытаться… Пьер… нет, я не должна говорить об этом… хотел бы ты?
– Нет, я не хочу дать тебе это прочесть, сестра моя; я не хочу, потому что я не имею на это никакого права… никакого права… никакого права… это все… нет, я не имею права. Я сожгу это немедленно, Изабелл.
Пьер отступил от девушки в соседнюю комнату, швырнул лист бумаги в печь, и только когда увидел, как последние клочья пепла рассыпались в прах, повернулся к Изабелл.
Она буравила его бесконечно намекающим взглядом.
– Это сожжено, но не уничтожено; это ушло, но не потеряно. Через печь, трубу и дымоход оно обратилось в пламя и ушло посланием в небеса! Оно появится вновь, брат мой… Горе мне… горе, горе!.. Горе мне, о, горе! Не говори со мной, Пьер, оставь меня. Она приедет. Темный ангел должен служить светлому; она будет жить с нами, Пьер. Не оскорбляй меня недоверием; ее внимательность ко мне я превзойду своей внимательностью к ней… Позволь мне побыть в одиночестве, брат мой.
IV
Несмотря на то что неожиданное послание нарушило его уединение, послание, в получении коего он едва ли когда-нибудь сможет оправдаться перед Изабелл, с тех пор как она столь неукоснительно воздерживалась от каких-либо обвинений, дожидаясь какого-нибудь более подходящего повода, Пьер, в центре этих противоречивых, двойственных эмоций, кои немедленно последовали за первым удивительным эффектом от странного письма Люси, был принужден ради Изабелл придать себе некий вид уверенности и понимания относительно содержания того письма; все же в глубине души он по-прежнему был жертвой мучительных тайн всех мастей.
Теперь, вскоре, как он покинул комнату Изабелл, эта таинственность вновь полностью восторжествовала над ним; и как только он автоматически опустился на стул в столовой, который заботливо предложила ему Дэлли, ибо молчаливая девушка видела, что некая странность, некая тишина воцарилась в нем, ум Пьера напряженно размышлял о том, как это было возможно или каким бы то ни было образом мыслимо, что Люси была вдохновлена такими на первый взгляд удивительными догадками о чем-то вымышленном, или замаскированном, или непрочном, где-то и как-то, в его настоящем, совершенно одиноком положении в глазах общества. Яростные слова Изабелл все еще звенели в его ушах. Это было оскорбление всему женскому роду – представить, что Люси, как бы она ни была преданна ему втайне, в своем сердце, должна добровольно приехать к нему так надолго, как она собиралась, когда во мнении остального мира Пьер был обыкновенным женатым человеком. Но как, по какой мыслимой причине, какой мыслимый намек она уловила, чтобы заподозрить противоположное или подозревать что-то несказанное? Ибо ни в этот настоящий момент, ни в какой-либо другой, более поздний период Пьер не представлял или Пьер не мог, возможно, представить, что, обладая ее чудесным чутьем, данном любовью, она имела какое-либо известное представление о самой природе секрета, который столь скрытно и чудодейственно поработил его. Но определенные мысли об этом мелькали у него снова и снова.
Среди светских сплетен, кои он хранил в памяти, была весьма примечательная история о молодом джентльмене, который, будучи обручен с красавицей, – история, похожая на его собственные переживания зарождающейся страсти, – то ли был каким-то образом вскоре случайно соблазнен на безрассудное открытое проявление нежных чувств по отношению ко второй леди, то ли друзья второй леди, глубоко заинтересованные в деле, добились того, что до сведения бедного молодого джентльмена дошло, что те нежные чувства, кои он проявил по отношению к ней, кои он обнаружил, не могли не оказать естественного действия на нее; было бесспорно, что эта вторая леди чахла и чахла – и стояла на пороге смерти, и все из-за жестокой измены ее предполагаемого возлюбленного; так что мучительные мольбы, да еще и от такой прекрасной девушки, коя явно умирала от тоски по нему, в конце концов настолько сломили молодого джентльмена, что он, став болезненно безразличным к тому факту, что, поскольку две леди предъявляли свои права на него, первая леди была более достойна его руки, а совесть исступленно корила его за несчастье второй леди, – он думал, что нескончаемая скорбь будет ему уготована как в этом мире, так и в загробном, если он не откажется от своей первой любви, будучи сам в ужасе от того, чего будет стоит такая попытка и ему, и ей, и он обвенчался со второй леди; вот что он сделал, в то время как в течение всей его последующей жизни учтивость и уважение, кои он испытывал к своей венчанной жене, помешали ему объяснить своей первой возлюбленной, как на самом деле обстоят дела, и успокоить ее сердце; и поэтому она, будучи в полном неведении, поверила, что он охотно и бессердечно предал ее; и она так горевала, что умерла в безумии.
Эта странная история из реальной жизни, Пьер знал, была знакома Люси, ибо они несколько раз обсуждали ее, и первая возлюбленная слабоумного молодого джентльмена была школьной подругой Люси, и Люси рассчитывала, что будет ее подружкой невесты. Мимолетное воспоминание об этом случае подсказывало Пьеру, что некая похожая догадка относительно него и Изабелл могла зародиться в уме Люси не просто так. Но затем подобная гипотеза вновь полностью доказывала свою непригодность в конце концов; ибо этого, вне всяких сомнений, не было достаточно для удовлетворительного разрешения того несомненного мотива, который толкнул Люси на столь необыкновенный шаг; не получалось также и с помощью обыкновенного закона приличия в целом оправдать такой шаг. Одним словом, Пьер не знал, что и думать, едва ли – о чем грезить. Удивительные события, нет, прямые чудеса, не иначе, твердили ему о любви; но здесь было совершенное чудо само по себе – чудо, выходящее за всякие рамки. Ибо Пьер с непоколебимой уверенностью чувствовал, что, какой бы ни была ее странная догадка, каким бы ни было ее загадочное заблуждение, каким бы ни был ее самый тайный и необъяснимый мотив, все же Люси в своем девственном сердце оставалась искренне чистой, без тени порока или изъяна. Как бы там ни было, каким же непостижимым было это ее побуждение, о коем она столь страстно писала в своем письме! Это изумляло Пьера, совершенно сбивало с толку.
Неясное, пугающее чувство закралось теперь в его душу, что, несмотря на ругань всех атеистов, есть же таинственная, неисповедимая Божественность в мире – Бог, Всевышний, Который несомненно присутствует повсюду, – нет, Он сейчас находится в этой комнате; воздух колыхнулся, когда я присел. Я заменил Дух, стало быть, сместил его немного в сторону от этого места. Пьер опасливо посмотрел вокруг себя; он чувствовал бурлящую радость от доброты Дэлли.
Стоило ему погрузиться в размышления об этой таинственности, послышался стук в дверь.
Дэлли нерешительно поднялась со своего места:
– Могу ли я позволить кому-то войти, сэр?.. Я думаю, это мистер Миллторп стучит.
– Иди и взгляни… иди и взгляни… – сказал Пьер безучастно.
Следом за этим распахнулась дверь, и Миллторп – так как это был он – поймал взглядом сидящего Пьера, коего можно было рассмотреть позади Дэлли, и с шумом вошел в комнату:
– Ха, ха! Отлично, приятель, как продвигается «Ад»? Это ведь то, что ты пишешь; малый должен ходить туча тучей, когда он описывает преисподнюю… ты всегда любил Данте. Приятель! Я завершил десять метафизических трактатов, участвовал в прениях по пяти разным делам в суде, присутствовал на всех собраниях нашего общества, сопровождал нашего великого профессора, мсье Волвуна, лектора, в его турне по философским салунам[199], разделяя с ним честь его выдающегося триумфа; и, кстати, позволь мне сказать тебе, Волвун втайне отличает меня даже большим доверием, чем должно, ибо, клянусь, я помогал ему написать не больше половины его лекций, редактировал – анонимно, правда, – многосложную научную работу «Точная причина изменений в волнообразном движении волн», посмертную работу бедного приятеля – славный малый он был, мой друг. Да, вот сколько всего я успел переделать, пока ты все еще корпишь над одним жалким, чертовым «Адом»! О, тут есть секрет в написании подобных работ: терпение! терпение! Ты вскоре познаешь секрет. Время! Время! Я не могу тебя этому научить, приятель, но время может; я хотел бы, да не могу.
Послышался другой стук в дверь.
– О! – закричал Миллторп, резко поворачиваясь в эту сторону. – Я и забыл, приятель. Я пришел сказать тебе, что тут есть один, нагруженный каким-то странным багажом, носильщик, который о тебе расспрашивал. Мне случилось встретить его внизу, в коридорах, и я предложил ему следовать за мной – я покажу ему путь; вот и он, впусти его, впусти его, добрая Дэлли, моя девочка.
До сих пор стрекотания Миллторпа если и производили вообще какое-то впечатление, то лишь оглушали Пьера, который ушел в свои мысли. Но теперь он вскочил на ноги. Человек в шляпе стоял в дверях, держа перед собой мольберт.
– Это комната мистера Глендиннинга, джентльмены?
– О, да входи, входи уже, – закричал Миллторп. – Не сомневайся.
– О! Так это вы, сэр? Так, так, вот… – И человек поставил мольберт.
– Славно, приятель, – воскликнул Миллторп, обращаясь к Пьеру, – ты все еще в плену сна «Ада». Смотри, вот что люди называют мольбертом, приятель. Мольбертом, мольбертом – не тальбертом[200]; ты смотришь на это так, будто думаешь, что перед тобой тальберт. Очнись же, подъем, подъем! Ты заказывал его, я полагаю, и вот тебе его привезли. Ступай рисовать и иллюстрировать свой «Ад», как ты и собирался, думаю. Что ж, друзья говорят мне, что это великая жалость, что мои-то собственные труды не иллюстрированы. Но я не могу себе этого позволить. Есть у меня, правда, тот «Гимн к нигеру», который я швырнул в ящик стола год или два назад – вот он был бы хорош для иллюстраций.
– Это для мистера Глендиннинга, вы спрашивали? – произнес Пьер медленно, ледяным тоном, обращаясь к носильщику.
– Для мистера Глендиннинга, сэр, все верно, не так ли?
– Превосходно, – сказал Пьер машинально и бросил другой странный, восторженный, смущенный взгляд на мольберт. – Но кажется, что здесь чего-то недостает. А, теперь я вижу, вижу это… Злодей!.. Виноградные лозы! Ты отломал зеленые листья! Ты оставил только голый скелет от прекрасного дерева, за которым она когда-то удобно устраивалась! Ты пьяный, бессердечный деревенский дурак и дьявол, неужто ты шел во сне, неужто в твоей усохшей печени столько нескончаемого вреда, что ты наделал? Живо почини зеленые виноградные лозы! Восстанови их, ты, проклятый!.. О, мой Боже, мой Боже, растоптанные виноградные лозы, каждая ветвь раздроблена и разбита, как же они смогут цвести вновь, даже если будут пересажены! Будь проклят ты, ты!.. Нет, нет, – прибавил Пьер мрачно, – я бредил сам с собою. – Затем он произнес быстро и насмешливо: – Прошу прощения, прошу прощения!.. Носильщик, я смиреннейше прошу твоего высокого прощения. – Затем он сказал властно: – Давай пошевеливайся, носильщик, у тебя внизу осталось еще довольно поклажи, принеси все наверх.
Когда пораженный носильщик повернулся, он прошептал Миллторпу:
– Он не буйный?.. Могу я принести вещи?
– О, разумеется, – улыбнулся Миллторп, – Я присмотрю за ним, он никогда не бывает по-настоящему опасен в моем присутствии; ну же, ступай!
Прибыли два дорожных сундука с монограммой «Л. Т.», которая расплывчато проступала на их сторонах.
– Это все, любезный? – спросил Пьер, как только дорожные сундуки были поставлены перед ним, – Ну, сколько с меня? – В эту минуту его взгляд впервые зацепился за расплывчатые монограммы.
– Заплачено вперед, сэр, но не буду возражать, если дадите еще.
Пьер стоял молча, в забытьи, продолжая пристально рассматривать расплывчатые буквы; его тело перекосило, и одна сторона сникла, словно в эту минуту было наполовину разбито параличом и он еще не осознал этого удара.
Два его собеседника из уважения на минуту замерли неподвижно в своих позах, едва увидели те удивительные изменения, кои произошли с ним. Наконец, словно стыдясь находиться под влиянием таких чувств, Миллторп, окликая его громким, веселым голосом, подошел к Пьеру и, похлопав его по плечу, закричал:
– Просыпайся, просыпайся, приятель!.. Он сказал, что ему заплатили вперед, но не будет возражать, если дашь еще.
– А?.. Тогда возьми это, – сказал Пьер, равнодушно опустив что-то в ладонь носильщика.
– И что я с этим буду делать, сэр? – спросил носильщик, глазея на него.
– Выпей за здоровье, но не за мое; это была насмешка!
– На ключ, сэр? Вы дали мне ключ.
– А!.. Что ж, ты, по крайней мере, не будешь иметь того, что освобождает меня. Верни мне ключ и возьми вот это.
– Да, да!.. Вот она, звонкая монета! Благодарствую, сэр, благодарствую. На это можно выпить. Меня недаром кличут носильщиком, Стаут[201] меня звать, мой номер 2151; любая работенка, только свистните.
– Ты когда-нибудь переносил гроб, любезный? – спросил Пьер.
– Клянусь богом! – вскричал Миллторп, заливаясь веселым смехом. – Если бы ты не писал «Ад», то… но не важно. Носильщик! Этот джентльмен в данное время находится на лечении. Тебе лучше сбе… – ну, ты понимаешь – сбежать, носильщик! вот так, приятель, его как ветром сдуло; я знаю, как вести себя с этими канальями; тут есть своя манера, приятель, – бесцеремонная манера этого самого, как ты там это называешь?.. ну, ты понимаешь – манера! Манера! Все дело заключается в манере. Знаешь манеру – все прекрасно; не знаешь – все плохо. Ха! ха!
– Носильщик ушел, стало быть? – сказал Пьер спокойно. – Вот что, мистер Миллторп, будьте так любезны последовать за ним.
– Чудная шутка! Прекрасно!.. Доброго утра, сэр. Ха, ха!
И Миллторп, веселье коего ничто не могло смутить, покинул комнату.
Но не успела дверь закрыться за ним, не успел он отпустить дверную ручку, как вдруг Миллторп снова распахнул дверь наполовину и, просунув свою кудрявую белокурую голову в дверную щель, закричал:
– Кстати, приятель, у меня для тебя устное послание. Наверно, ты помнишь того скользкого типа, который беспокоил тебя в поздние часы. Ну вот, можешь расслабиться: он заплатил. Нежданно-негаданно отсыпал мне вчера деньжат – обычная выплата. Можешь мне вернуть в любой день, знаешь же – никакой спешки; вот и все… А кстати – раз уж ты выглядишь так, будто дожидаешься гостей, дай мне знать, если у тебя возникнет во мне нужда… ну, там, перетащить кровать или поднять какие-то тяжелые вещи. Не вздумай этого делать сам, со своими женщинами, ни-ни! Теперь вроде все. Адьес, приятель. Береги себя!
– Стой! – крикнул Пьер, протянув вперед руку, но не шагнув следом. – Стой! – крикнул он, среди всех прежних эмоций, которые бушевали в нем, до глубины души тронутый исключительной добротой Миллторпа.
Но дверь уже резко закрылась; и, напевая «фа, ла, ла», Миллторп, в своем обветшалом пальто, легкой походкой спустился вниз по лестнице в коридор.
– Прекрасное сердце, пустая голова, – пробормотал Пьер, неподвижно глядя на дверь. – Да, ей-богу! Бог, который создал Миллторпа, был одновременно и лучше, и благороднее, чем тот Бог, что создал Наполеона или Байрона… Прекрасное сердце, пустая голова… Брр! Мозги, без участия сердца, быстро заселяются червями; но сердце, без участия ума, способно поддержать жизнь в теле и поддерживать в человеке доброту при пустой голове… Дэлли!
– Сэр?
– Моя кузина мисс Тартан приезжает, чтобы жить с нами, Дэлли. Этот мольберт, эти сундуки принадлежат ей.
– Святые небеса! – Приезжает сюда? Ваша кузина? Мисс Тартан?
– Да, я думал, что ты слышала о ней и обо мне, но это кончено, Дэлли.
– Сэр? Сэр?
– У меня нет никаких объяснений, Дэлли, и от тебя я не должен ожидать ни малейшего удивления. Моя кузина – заметь себе, моя кузина, мисс Тартан, – приезжает, чтобы жить с нами. Комната, которая примыкает к этой, стоит пустой. Эта комната будет отдана ей. Ты будешь служить и ей, Дэлли.
– Конечно, сэр, конечно, я все сделаю, – сказала Дэлли, дрожа, – но… но… а миссис Глендин-диннинг… а моя хозяйка знает об этом?
– Моя жена знает все, – сказал Пьер твердо. – Я пойду вниз и достану ключ от комнаты, а ты должна там подмести.
– Нужно ли там привести все в порядок, сэр? – спросила Дэлли. – Мисс Тартан… да ведь она привыкла ко всяким роскошным вещам: пышным коврам, гардеробам, зеркалам, занавескам – ба, ба, ба!
– Слушай, – сказал Пьер, ерзая ногой по старому ковру, – вот это вполне ковер, перенеси его в ту комнату; вот стул, перенеси его туда же; а что касается кровати… да, да, – тихо прибавил он про себя, – я сделал ее для нее, и она, в полном неведении, лежит на ней сейчас!.. как сделано… так и лежит. О боже!
– Слышите! Моя хозяйка зовет, – закричала Дэлли, продвигаясь в сторону противоположной комнаты.
– Стой! – крикнул Пьер, хватая ее за плечо. – Если они обе одновременно позовут тебя из разных комнат и обе будут в полуо бморочном состоянии, к которой двери ты побежишь сначала?
Девушка минуту глазела на него непонимающе и испуганно и затем сказала:
– К этой, сэр, – указывая рукой, возможно, от простого смущения в сторону комнаты Изабелл.
– Хорошо. Теперь ступай.
Пьер стоял в той же напряженной неизменной позе до тех пор, пока Дэлли не вернулась.
– Как моя жена чувствует себя теперь?
Снова, испуганная особым ударением, которое было сделано на магическом слове жена, Дэлли, коя задолго до этого порой приходила в удивление от того, насколько редко он употребляет это слово, растерянно взглянула на него и повторила почти невольно:
– Ваша жена, сэр?
– Да, разве нет?
– Благодарение Господу, что она ваша… Ох, нет ничего горше, чем спрашивать об этом, для бедной, бедной Дэлли, сэр!
– Ну тебя с твоими слезами! Никогда этого не отрицай больше!.. Я клянусь небесами, что она мне жена!
Выкрикнув в исступлении эти слова, Пьер надвинул на глаза шляпу и покинул комнату, бормоча про себя что-то о необходимости достать ключ от дополнительной комнаты.
Как только дверь за ним закрылась, Дэлли рухнула на колени. Она подняла было голову к потолку, но затем вновь склонила ее, как если бы некая тираническая сила внушала ей несказанный ужас и гнула ее к полу, пока она всем телом не распростерлась, дрожа, на полу.
– Боже, Который сотворил меня и Который не был суров ко мне так, как грешная Дэлли заслуживала, Боже, Который сотворил меня, я молюсь Тебе! Охрани меня от этого греха, если он случится со мной. Не будь глух к моей мольбе среди этих каменных стен – Ты можешь слышать сквозь них. Помилуй меня! Помилуй меня!.. Милосердие, мой Боже!.. Если они не женаты, если я, раскаиваясь, стремлюсь сохранять чистоту и сейчас прислуживаю более великому греху, чем тот, в котором меня обвиняли; тогда помилуй меня! Помилуй меня! Помилуй меня! Помилуй меня! Помилуй меня! О Боже, Который сотворил меня, узри меня, узри меня здесь… что может Дэлли сделать? Если я уйду отсюда, никто не примет меня, кроме негодяев. Если я останусь, тогда… ибо остаться я должна… и они не женаты… тогда помилуй меня, помилуй, помилуй, помилуй, помилуй!
Глава XXIV ЛЮСИ В АПОСТОЛАХ
I
На следующее утро упомянутая комната, примыкающая с другой стороны к столовой, имела совсем другой вид, чем тот, который открылся глазам Дэлли, когда она прошлым вечером впервые отперла ее вместе с Пьером. Два выцветших ковра с разным рисунком закрывали половину пола в комнате, оставляя вплоть до плинтуса широкое пустое пространство вокруг себя. Маленькое зеркало было повешено в простенке; под ним маленький столик с ковриком длиной в фут[202] или два перед ним. В одном углу стояла походная кровать, опрятно застланная постельным бельем. У внешней стороны кровати был положен еще один небольшой коврик. Нежная ножка Люси не будет дрожать от холода на голом полу.
Пьер, Изабелл и Дэлли стояли в комнате; глаза Изабелл были неотрывно устремлены на кровать.
– Я думаю, теперь это будет очень уютно, – сказала Дэлли, бледнея и озираясь по сторонам, и затем стала заново прихорашивать подушку.
– Все же здесь довольно холодно, – сказала Изабелл. – Пьер, в комнате нет печи. Она будет очень холодной. Труба… можем ли мы протянуть ее в этом направлении? – И она посмотрела на него с бо́льшим напряжением, чем того, казалось, требовал вопрос, что нуждался в подтверждении. – Лучше изменить направление трубы, Пьер, – добавила Изабелл, – это будет постоянно и сэкономит уголь.
– Мы не будем это делать, Изабелл. Разве эта труба и это тепло не идут в твою комнату? Разве я должен обокрасть мою жену, добрая Дэлли, даже в пользу моей самой любящей и преданной кузины?
– О! Я должна ответить нет, сэр, совсем нет, – сказала Дэлли с нотками истерики в голосе.
Огонь торжества сверкнул в глазах Изабелл; она вздохнула полной грудью, но промолчала.
– Она может быть здесь в любую минуту, Изабелл, – сказал Пьер, – идем встретим ее в столовой; это наше место для приема гостей, ты же знаешь.
И все трое вышли в столовую.
II
Они не пробыли там долго, когда Пьер, который расхаживал туда-сюда, вдруг остановился, как если бы его осенила некая неповоротливая мысль, коя появилась у него в одиннадцатом часу. Сперва он посмотрел на Дэлли, словно хотел ей предложить покинуть комнату, в то время как он должен что-то сказать Изабелл наедине; но затем, как будто ему пришла на ум иная мысль задним числом, считая противоположность этой процедуры самой благоразумной, он, безо всякого предисловия, сразу обратился к Изабелл, в тоне своей обычной беседы, так, будто Дэлли вовсе не могла его слышать и не имеет значения, хочет она того или нет.
– Моя дорогая Изабелл, хотя, как я уже говорил тебе, моя кузина, мисс Тартан, та странная, и своенравная девушка, почти монахиня, приняла таинственное решение приехать любой ценой и жить с нами, все же должно быть совершенно немыслимо, чтобы ее друзья одобрили такой исключительный шаг, шаг даже более исключительный, Изабелл, чем ты, в своей простоте, можешь себе представить. Я буду сильно обманут, если они не станут, по крайней мере, ставить этому препятствия. То, что я собираюсь прибавить к сказанному, может быть совершенно не нужно, но я не могу не заговорить об этом при всем при том.
Изабелл, с пустыми руками, сидела молча, но напряженно и в ожидании не спускала с него глаз; в то время как позади ее стула Дэлли низко склонилась над своим вязанием, за кое она принялась, как только Пьер начал говорить, и дрожащими пальцами нервно накидывала петли на свои длинные спицы. Было ясно, что она ждала слов Пьера едва ли с меньшей жадностью, чем Изабелл.
Поняв прекрасно эти чувства Дэлли и, несомненно, не будучи ими недоволен, Пьер продолжал, но ни словом, ни взглядом никак не выразил внешне, что адресует свои слова еще кому-то, кроме Изабелл:
– Я имею в виду, дорогая Изабелл, следующее: если эта, весьма вероятная враждебность со стороны друзей мисс Тартан по отношению к выполнению ею ее странного решения… если любому проявлению подобной враждебности случится произойти у тебя на глазах, тогда ты, конечно, будешь знать, какое мнение составить себе на этот счет, и поэтому, конечно, не сделаешь никаких таких из этого выводов, кои хоть в малейшей возможной степени будут дурными на мой счет. Нет, я уверен, что ты не станешь, моя дражайшая Изабелл. Ибо, пойми меня, узнав об этой странной причуде моей кузины как о событии, кое всецело выше моего понимания, и на самом деле видя в самой моей бедной кузине пламенную энтузиастку, коя участвует в некой фантастической тайне, что мне совершенно неизвестна, и не желая служить невежественным препятствием тому, что кажется почти сверхъестественным деянием, я не стану отказывать ей в приезде, как бы яростно ее друзья ни старались этому помешать. Я не стану отказываться от нее, и это так же точно, как то, что я просто не склонен это сделать. Но нейтральная позиция порой выглядит как подозрительная. Я имею в виду следующее: оставь все подобные смутные подозрения насчет меня, если таковые имеются, только друзьям Люси, но не давай подобным абсурдным опасениям возникнуть у тебя, моя дражайшая Изабелл, кои могли бы доставить тебе малейшее беспокойство. Изабелл! Ответь мне: разве я не сказал достаточно, чтобы прояснить, что я имею в виду? Или, действительно, не все из того, что я сказал, было совсем не нужно, принимая во внимание, что когда человек чувствует себя очень совестливым, то часто способен казаться ненужным и действительно неприятно и неподобающе честным? Говори, моя Изабелл. – И он шагнул ближе к ней, простирая к ней руку.
– Твоя рука подобна литейному ковшу, Пьер, который наполняет меня целиком. Ты изливаешь мне свои душевные состояния и малейшие прихоти мысли; и я усваиваю эти умонастроения, и примеряю их на себя, и с того времени ношу их до тех пор, пока ты еще раз не сформируешь мне новые. Если ты поведал мне какие-либо свои мысли, то как они могут не стать моими, мой Пьер?
– Боги сотворили тебя в праздничный день, когда их работа над всем остальным миром была закончена, и с любовью вытачивали твои черты в часы отдыха, ты, совершенство!
Так сказав в порыве восхищенной любви и благоговения, Пьер пересек комнату; в то время как Изабелл сидела в молчании, склонился над ее рукой, и его наполовину скрыли ее волосы. Нервные стежки Дэлли стали менее судорожными. Она казалась успокоенной, словно некое темное и неясное подозрение в ней было вытеснено чем-то напрямую высказанным Пьером или выводами из его слов.
III
– Пьер! Пьер!.. Скорее! Скорее!.. Они тащат меня назад!.. Ох, скорее, дорогой Пьер!
– Что такое? – немедленно закричала Изабелл, вскочив на ноги и изумленно глядя на дверь, ведущую в коридор.
Но Пьер ринулся вон из комнаты, запретив кому бы то ни было следовать за собой.
На середине лестницы, ведущей на первый этаж, легкая, воздушная, почти неземная фигурка отчаянно цеплялась за балюстраду; и два молодых человека, один из них в одежде моряка, напрасно старались разжать пальцы двух тонких белых ручек без того, чтобы не ранить их. Это были Глен Стэнли и Фредерик, старший брат Люси.
В одну секунду руки Пьера оказались среди прочих.
– Негодяй!.. Будь ты проклят!.. – кричал Фредерик; и, отпустив руку своей сестры, он с яростью набросился на Пьера.
Но Пьер перехватил его руку.
– Ты приворожил прекраснейшего ангела, ты, проклятый мошенник! Защищайся!
– Нет, нет, – закричал Глен, ловя обнаженную шпагу взбешенного брата Люси и удерживая его изо всех сил, – он безоружен, а здесь не время и не место улаживать нашу с ним ссору. Твоя сестра… прекрасная Люси… давай прежде спасем ее, и затем делай что хочешь. Пьер Глендиннинг, если в тебе есть хоть на мизинец настоящего мужества, убирайся прочь отсюда! Твоя порочность, твоя гнусность поистине дьявольские!.. Не смей и мечтать о ней – красавица сошла с ума!
Пьер отступил немного назад и обвел всех троих мутным и измученным взглядом:
– Я ни перед кем не в ответе: я есть то, что я есть. Эта прекрасная девушка – этот ангел, которого вы замарали выкручиванием рук, – она совершеннолетняя в глазах закона – она сама себе госпожа в глазах закона. И теперь, я клянусь, у нее будет право выбора! Отпустите девушку! Позвольте ей стоять самостоятельно. Смотрите, она вот-вот лишится чувств; отпустите ее, я сказал! – И он снова бросился в гущу свары.
Как только все они вдруг, на одну минуту, немного поутихли, бледная девушка лишилась чувств и боком упала к Пьеру; и, не ожидав этого, два его противника бессознательно разжали свою хватку, отпустили ее, отпрянули друг от друга, и оба рухнули на ступени. Сжимая Люси в объятиях, Пьер ринулся прочь от них, добежал до своей двери, гоня перед собой Изабелл и Дэлли, кои, испуганные, ждали его там – и, ворвавшись в приготовленную комнату, уложил Люси на ее постель, потом быстро вышел из комнаты и закрыл на ключ всех троих: и так быстро – как молния – было все это сделано, что, только когда щелкнул, закрываясь, замок, Глен и Фредерик достаточно опомнились и свирепо подступили к нему.
– Джентльмены, все кончено. Эта дверь заперта. Девушка в руках женщин. Отойдите назад!
Когда два молодых человека в бешенстве схватили Пьера, чтобы избить в стороне, несколько Апостолов быстро окружили их, привлеченные шумом.
– Оттащите их от меня! – кричал Пьер. – Они нарушители! Оттащите их!
Глена и Фредерика незамедлительно схватило двадцать рук; и, повинуясь знаку от Пьера, их вытащили прочь из комнаты, потащили вниз по лестнице и сдали в руки проходившего мимо офицера полиции – как двух буйных молодых парней, кои вторглись в святилище частного жилища.
Напрасно они с яростью доказывали свое; но под конец, словно разом осознав, что ничего больше нельзя сделать без предварительного действия со стороны закона, они самым неохотным и раздраженным тоном заявили, что готовы удалиться. Таким образом, они должны были уйти, но не обошлось без ужасных угроз о скорой расправе в сторону Пьера.
IV
Молчаливый человек всегда будет счастливым в час страсти. Он никогда не станет делать непроизвольных угроз и поэтому никогда не обманется при переходе от гнева к спокойствию.
Идя по оживленной улице, после того как они покинули Апостолы, Глен и Фредерик довольно скоро согласились между собою, что Люси нельзя так легко спасти угрозами или силой. Воспоминание о бледном, непостижимо решительном и непоколебимо бесстрашном Пьере начало брать над ними власть, ибо любое необычное положение в обществе или величие порой больше всего впечатляют в ретроспективе. Слова Пьера насчет Люси о том, что она совершеннолетняя в глазах закона, – вот что теперь вновь пришло им на ум. После долгих мучительных размышлений Глен, будучи более хладнокровен, предложил, чтобы мать Фредерика посетила комнаты Пьера; он воображал, что, нечувствительная к их собственным объединенным угрозам, Люси могла не остаться глухой к материнским мольбам. Будь миссис Тартан другой женщиной, а не той, что она была, будь у нее в самом деле какие-то бескорыстные терзания великодушного сердца, а не простые разочарования от неудачного сватовства, какими бы они ни были горькими, тогда надежда Фредерика и Глена могла иметь большую вероятность сбыться. И все же пробная встреча состоялась, но провалилась с треском.
В общем присутствии своей матери, Пьера, Изабелл и Дэлли, обращаясь к Пьеру и Изабелл как к мистеру и миссис Глендиннинг, Люси дала самые торжественные клятвы, что останется жить вместе с хозяином и хозяйкой комнат до тех пор, пока они не покинут ее. Напрасно ее мать, чередуя мольбы с угрозами, уговаривала ее, стоя на коленях, или казалось, вот-вот дойдет до того, что ударит ее, напрасно она живописала все презрение и отвращение, стороной намекала на красивого и учтивого Глена, угрожала ей, что в случае, если она будет упорствовать, вся ее семья откажется от нее и, даже если она будет умирать с голоду, не подаст куска хлеба ей, такой предательнице, которая бесконечно хуже обесчещенной девушки.
На все это Люси – будучи теперь в полной безопасности – отвечала со всей кротостью и добротой, но все же со спокойствием и твердостью, из коих становилось ясно, что тут не на что надеяться. То, что она делает, исходит не от нее; она была вдохновлена всемогущими силами свыше, снизу и кругом. Она не чувствовала ни малейших терзаний по поводу своего нынешнего положения; ее единственной мукой было сострадание. Она не искала вознаграждения; в основе ее добродетельности было осознанное стремление делать добро без малейшей надежды на воздаяние. Относительно потери земного богатства и роскоши и всех аплодисментов парчовых гостиных – в этом нет для нее никакой потери, ведь она никогда их не ценила. Получается, что она ничего не теряет, но, действуя по своему настоящему вдохновению, получает все. Равнодушная к презрению, она не просит никакой жалости. Что до вопроса, в уме ли она, то тут она взывает к суждению ангелов, а не к грязным мнениям людей. Если кто-то станет возражать, что она пренебрегает материнскими советами, кои надлежит свято соблюдать, то она может ответить только следующее: что она относится к матери со всем дочерним уважением, но ее безоговорочное подчинение принадлежит другим. Пусть все надежды на то, что она немедленно раз и навсегда переедет куда-то еще, будут забыты. Только одно-единственное событие могло повлиять на нее так, чтобы она двинулась с места, и то лишь для того, чтобы сделать ее навеки неподвижной, – то была смерть.
Такая удивительная сила духа при такой удивительной кротости, такая твердость в столь хрупком существе могла заворожить любого наблюдателя. Но для ее матери это было куда большим потрясением, ибо, как многие другие предубежденные наблюдатели, она составила свое прежнее мнение о Люси, основанное на незначительности ее особы и кротости ее нрава, и миссис Тартан всегда воображала, что ее дочь совершенно неспособна совершить мало-мальски дерзкий поступок. Как будто настоящая святость несовместима с героизмом! Эти два качества никогда не встретишь поодиночке. Несмотря на то что Пьер знал Люси лучше, чем кто бы то ни было другой, то неслыханное мужество, с которым она держалась в своем падении, потрясло его. Даже тайна Изабелл редко опьяняла его больше, при всей своей притягательности, в коей было что-то ужасное. Простой вид живой Люси, коя сильно изменилась из-за последних событий в жизни, вызвал в нем самые сильные, доселе неведомые чувства. То, прежде свойственное ей цветение красок теперь окончательно исчезло, но ни в коей мере не уступив места желтизне, как это часто бывает в подобных обстоятельствах. И как если бы ее тело и впрямь было божьим храмом и один только мрамор годился бы для алтаря такой святости, ее лицо светилось сияющей, божественной белизной. Ее голова сидела на плечах, точь-в-точь как у высеченной из мрамора статуи; и мягкий огонь непреклонности, коим горели ее глаза, казался таким же чудом, как если бы мраморная статуя стала подавать признаки жизни и разумения.
Изабелл также была самым странным образом тронута этой кроткой духовностью в Люси. Но это шло не столько от обычных велений сердца, а скорее было отдельно поручено ей самим знаком с небес. В том уважении, с коим она служила небольшим повседневным нуждам Люси, было больше от бессознательности инстинктов, чем сочувственного умысла. И когда случилось так, что – возможно, из-за случайного разлада отдаленной и одинокой гитары – в то время, как Люси мягко говорила в присутствии своей матери, нечаянный, едва слышный голос струн, который отзывался музыкальной покорностью, проник в открытую дверь из соседней комнаты, – тогда Изабелл, будто охваченная неким благоговейным страхом, внушенным свыше, опустилась на колени перед Люси и поспешно склонилась в почтении, и все же почему-то, так сказать, явно не по своей воле.
Увидев, что все ее самые ревностные усилия остались бесплодными, миссис Тартан горестно попросила Пьера и Изабелл покинуть комнату, чтобы она могла высказать свои мольбы и угрозы наедине. Но Люси мягко сделала им знак остаться и затем повернулась к матери. С этого времени она не имеет секретов, кроме тех, которые также будут секретами на небесах. Все, что было общеизвестно на небесах, может быть достоянием всех на земле. Нет ни малейшего общего секрета у нее и у матери.
Совершенно сбитая с толку этой непостижимостью в своей дочери, которая явно потеряла голову и держалась с ней как чужая, миссис Тартан гневно повернулась к Пьеру и предложила ему последовать за ней. Но Люси снова сказала «нет», тут не может быть никаких секретов между ее матерью и Пьером. Она может высказать здесь все что ей угодно. Попросив перо и бумагу, а также книгу, чтобы положить себе на колени и писать, она набросала следующие строки и отдала их матери:
«Я – Люси Тартан. Я приехала жить к мистеру и миссис Пьер Глендиннинг, чтобы делить с ними все радости их жизни, по своей собственной доброй воле. Если они этого захотят, я должна буду уехать, но никакая иная сила больше не разлучит меня с ними, кроме прямого насилия; и в случае применения ко мне любого насилия я, как должно, взываю к закону».
– Прочтите это, мадам, – сказала миссис Тартан, дрожащей рукой протягивая бумагу Изабелл, взирая на нее с сердитой и презрительной многозначительностью.
– Я прочла, – сказала Изабелл спокойно и, обменявшись взглядом с Пьером, передала бумагу ему, словно показывая этом, что у нее нет собственного мнения в этом деле.
– И вы, сэр, тоже будете косвенно этому потворствовать? – воззвала миссис Тартан к Пьеру, едва он пробежал глазами бумагу до конца.
– Я не берусь судить, мадам. Кажется, это изложенное в письменной форме, спокойное и окончательное выражение воли вашей дочери. В таком случае вам лучше отнестись к ней с уважением и удалиться.
Миссис Тартан в гневе и отчаянии обвела взглядом комнату, избегая смотреть на дочь; затем, глядя на нее в упор, заговорила:
– Девчонка! Здесь, не сходя с этого места, я навеки отрекаюсь от тебя. Никогда больше я не стану раздражать тебя своими материнскими мольбами. Я накажу твоим братьям, чтоб они отреклись от тебя; я накажу Глену изгнать твой презренный образ из его сердца, если этого еще не произошло из-за твоего неслыханного безрассудства и порочности. Что до тебя, мистер монстр! Божья кара настигнет тебя за эти дела. А что до вас, мадам, у меня нет подходящих слов для женщины, которая вероломно позволяет любовнице ее родного мужа жить с ней под одной крышей. А что до тебя, хилое создание (к Дэлли), ты не нуждаешься в отдельном обращении… Гнездо разврата! И вот теперь, несомненно, ту, кого сам Господь Всемогущий навеки покинул, может оставить и мать, чтобы никогда больше не возвращаться.
Это прощальное материнское проклятие, казалось, не вызвало у Люси никакой видимой ответной реакции – она уже была столь мраморно-белой, что страх не мог заставить ее побелеть еще больше, если и в самом деле страх был тогда в ее сердце. Ибо как высочайший, и чистейший, и тончайший эфир остается равнодушным ко всякому шуму из нижних небес, так и прозрачная белизна ее лица, и та ясная спокойная лазурь ее глаз не отразили ни малейшего намека на чувство, пока ее приземленная мать бушевала ниже. Она обладала помощью от недрогнувших рук, она видела проблески незримой помощи свыше; опорой ей были те высокие силы бессмертной любви, кои с давних пор взяли под защиту слабейший тростник, который рвала на части свирепейшая буря; и тогда та буря, самая свирепая из всех, должна утихнуть перед необоримым сопротивлением того тростника, что слабее всех слабых.
Глава XXV ЛЮСИ, ИЗАБЕЛЛ И ПЬЕР. ПЬЕР РАБОТАЕТ НАД КНИГОЙ. ЭНЦЕЛАД[203]
I
День или два спустя после прибытия Люси, когда она вполне пришла в себя от любых возможных негативных впечатлений из-за последних событий – событий, которые стали таким потрясением и для Пьера, и для Изабелл, хотя для каждого из них это было свое переживание, – но которые, по-видимому, не произвели на Люси большого впечатления, когда они все трое сидели за кофе, Люси рассказала о своем намерении начать зарабатывать деньги на своих рисунках пастелью. Это было бы столь приятное занятие для нее и, кроме того, взносы в их общую казну. Пьер хорошо знал ее мастерство в улавливании сходства и приукрашивал их искренне и в пределах разумного – не столько меняя сами черты, сколько видя их в благоприятном свете. Ибо даже в этом случае, сказала Люси, брошенные в лагуну[204] и там оставленные, как она слышала, самые твердые камни, не меняясь, приобретают вид самых мягких. И если только Пьер возьмет на себя небольшой труд приводить натурщиков в ее комнату, она не сомневается, что легко соберет отличную жатву из портретных зарисовок. Несомненно, среди бесчисленных обитателей старой церкви Пьер может знать многих, кто без возражений позволил бы сделать с себя набросок. Более того, хотя у нее почти не было возможности познакомиться с ними, все же в таком замечательном обществе поэтов, философов и мистиков всех мастей должны быть примечательные лица. В заключение она выразила свое удовольствие комнатой, коя была для нее приготовлена, поскольку имела прежде художественную студию, одно окно которой было заметно высоким, в то время как благодаря особому расположению внутренних створок можно было устроить, чтобы свет падал под тем углом, под каким душа пожелает.
Пьер уже предвидел что-то в этом роде – одного взгляда на мольберт ему было достаточно, чтобы заподозрить это. Поэтому его ответ был довольно продуманным. Он сказал, что, коль скоро Люси чувствует себя в этом заинтересованной, постоянные совершенствования в своем искусстве на практике, вне всяких сомнений, были бы к великой пользе, предоставив ей занятие, которое приносит настоящую радость. Но так как теперь она едва ли может надеяться на какую-либо поддержку от богатого светского круга общения своей матери, несомненно, подобная идея, должно быть, никак не вяжется и с ее собственными желаниями, и поскольку только на одних обитателей Апостолов она могла – по крайней мере, какое-то время – с основанием рассчитывать как на натурщиков, и поскольку эти обитатели Апостолов почти все были оборванными и без единого пенни, хотя, по правде говоря, попадались среди них иные особы, которые выглядели на удивление обеспеченными, – поэтому Люси не должна ждать немедленных высоких заработков. Конечно, вскоре она может создавать что-то очень привлекательное, но в начале было бы хорошо умерить свои ожидания. Это предостережение было, по-видимому, вызвано тем известным, стоическим, угрюмым настроением Пьера, кое появилось у него за последнее время, и приучило его никогда ни в чем не ждать хорошего, но всегда предполагать дурное; правда, не без готовности к благоприятному исходу дела; и поэтому, если происходило что-то хорошее, что ж, тем лучше. Он добавил, что готов этим же утром обойти все комнаты и коридоры Апостолов, чтобы поведать всем, что его кузина, леди-художница, которая работает пастелью, занимает соседнюю с ним комнату и будет рада любым натурщикам.
– И теперь, Люси, сколько будут стоить твои рисунки? – спросил Пьер. – Ты знаешь, что это очень важный вопрос.
– Я полагаю, Пьер, их стоимость должна быть очень низкой, – ответила Люси, глядя на него в задумчивости.
– Очень низкой, Люси; несомненно, очень низкой.
– Хорошо, значит, десять долларов.
– Десять английских банков со своими сокровищницами, Люси! – закричал Пьер. – Боже мой, Люси, да это почти четверть дохода для какого-нибудь обитателя Апостолов!
– Четыре доллара, Пьер.
– Я сам назову тебе цену, Люси, но сперва ответь: сколько времени займет закончить один портрет?
– Два сеанса позирования и два утра моей работы в уединении, Пьер.
– И постой – каковы твои материалы? Думаю, они не слишком дорогие. Они не хрустальные, твои инструменты, ты ведь не точишь их с помощью бриллиантов, Люси?
– Послушай, Пьер! – сказала Люси, выставляя вперед ладошку. – Послушай, это несколько угольных карандашей, кусочек хлебного мякиша, один или два пастельных карандаша и лист бумаги – вот все.
– Хорошо, значит, ты можешь брать один доллар семьдесят пять центов за портрет.
– Только доллар семьдесят пять центов, Пьер?
– Я даже опасаюсь, что мы подняли цену слишком высоко, Люси. Ты не должна просить непомерных денег. Рассуди сама: если твои услуги будут стоить десять долларов, то ты будешь оказывать их в кредит; тогда у тебя будет полно натурщиков, но взамен ты не получишь почти ничего. Но если ты опустишь свои цены и также скажешь, что тебе должны платить наличными – старайся не слишком глазеть на качество банкнот, – тогда у тебя будет не так много натурщиков, это точно, но больше денег. Надеюсь, ты понимаешь.
– Все будет именно так, как ты говоришь, Пьер.
– Значит, решено, я напишу для тебя объявление, где изложу твои условия, и повешу его на видном месте в твоей комнате, чтобы каждый обитатель Апостолов мог знать, чего ему ожидать.
– Благодарю тебя, благодарю тебя, кузен Пьер, – сказала Люси, поднимаясь со своего места. – Меня радует твой приятный и не совсем безнадежный взгляд на мой скромный маленький план. Но я должна быть чем-то занята, я должна зарабатывать деньги. Как видишь, я и так съела слишком много хлеба этим утром, а еще не заработала ни единого пенни.
Пьер с веселой грустью мысленно сопоставил тот маленький кусочек хлеба, к коему она прикоснулась этим утром, с тем большим упоминанием о нем, сделанном ею, и стал было подтрунивать над ней, но она ускользнула в свою комнату.
Он вскоре очнулся от странных грез, кои охватили его, едва лишь он сделал выводы из этой сцены, когда рука Изабелл притронулась к его колену, и она устремила на него тяжелый многозначительный взгляд. В продолжение всего предыдущего разговора она хранила полное молчание, но внимательный наблюдатель мог бы, возможно, заметить, что в ней бушевали некие новые и очень сильные – пока сдерживаемые – эмоции.
– Пьер! – сказала она, резко наклонившись к нему.
– Ну, ну, Изабелл, – с запинкой ответил Пьер; в то же время таинственный румянец залил ему все лицо, и шею, и лоб; и он невольно отстранился немного назад от ее соблазнительного тела.
Опешив от такой его реакции, Изабелл пристально изучала его глазами, затем медленно поднялась с места, с безграничномрачным высокомерием распрямила плечи и сказала:
– Если твоя сестра когда-либо подойдет слишком близко к тебе, Пьер, то скажи заранее об этом своей сестре, ибо сентябрьское солнце не столь ревниво прогоняет туман в долине прочь с надменной земли, как мой тайный бог прогонит меня от тебя, если я когда-либо слишком близко подойду к тебе.
При этих словах Изабелл прижала одну свою руку груди, словно решительно чувствуя, что нечто смертельное скрывается в ней, но его внимание в ту минуту куда больше занимал сам тон ее слов, чем тот особенный жест, поэтому Пьер не оценил должным образом всю многозначительность, с коей она приложила руку к своей груди, хотя после когда он вспоминал об этом, то сразу и до конца понял его мрачное значение.
– Слишком близко ко мне, Изабелл? Солнце или роса, ты приносишь мне благо! Могут ли солнечные лучи или роса чересчур приблизиться к тому, что они согревают и орошают? Значит, сядь рядом со мной, Изабелл, и сядь поближе, обними меня как можно крепче – если ты так можешь, – чтобы мое тело могло быть континентом для двоих.
– Красивые перья окрыляют красивых птиц, как я слышала, – сказала Изабелл с величайшей горечью, – но разве красивые слова порождают прекрасные деяния? Пьер, ты сейчас попросту отдаляешься от меня!
– Когда мы должны сердечно обняться, мы сперва раскрываем наши объятия, Изабелл; я раскрываю свои объятия лишь для того, чтобы быть ближе к тебе.
– Отлично, все слова – это отъявленные стрелки, деяния же – целая армия! Пусть будет так, как ты говоришь. Я все еще верю тебе… Пьер.
– Я затаил дыхание, ожидая твоих слов; что такое, Изабелл?
– Я была глупее каменной глыбы; я в бешенстве, когда думаю об этом! И прихожу в еще большее бешенство оттого, что ее великая кротость должна была впервые указать мне на мою собственную глупость. Но ей не опередить меня! Пьер, и я должна каким-то образом работать для тебя! Послушай, я продам эти волосы, вырву и продам эти зубы, но я найду способ заработать деньги для тебя!
Пришел черед Пьера пристально уставиться на Изабелл. Все признаки, что она приняла твердое намерение, были налицо; ее глубоко терзала какая-то тайная рана. Нежные успокаивающие слова чуть было не сорвались у него с языка, он было протянул к ней руку, но вместо этого, переменив выражение лица, он воскликнул встревоженным шепотом:
– Тише! Она идет… Успокойся.
Но, храбро вскочив на ноги, Изабелл распахнула настежь соседнюю дверь, закричав полуистерически:
– Смотри, Люси, вот самый странный супруг из всех – боится быть пойманным во время разговора со своей женой!
Вместе с маленькой коробочкой художественных принадлежностей, коя стояла перед ней – перестук которых, возможно, встревожил Пьера, – Люси сидела в центре своей комнаты, напротив распахнутой двери, так что в тот момент и Пьер, и Изабелл были ей прекрасно видны. Особые нотки в голосе Изабелл сразу же заставили ее поднять внимательный взгляд. Тотчас же внезапный проблеск некой острой догадки – но одобряемой ли ею или нет, нельзя было сказать с точностью – отразился во всех ее чертах. Она пробормотала какой-то неясный случайный ответ и затем склонилась ниже над своей коробкой со словами, что она очень занята.
Изабелл закрыла дверь и снова села рядом с Пьером. По ее лицу было видно, что ее одолевают двойственные и мучительные, раздражающие чувства. Она выглядела как та, кого самое сильное переживание в жизни поймало в сложные тенета обстоятельств, и в то время как она страстно жаждет освободиться, она сознает, что все старания сделают только хуже, и поэтому на мгновение становится безумно неосторожной и бросает вызов всем препятствиям. Пьер задрожал, когда посмотрел на нее. Но вскоре эти чувства в ней улеглись, ее прежняя, чарующая мрачность заняла их место, вновь ясная непроницаемость была в ее таинственных глазах.
– Пьер, прежде… прежде, чем я узнала тебя… я совершала безумные поступки, и при этом я никогда не сознавала, что делаю, и имею о них лишь смутные воспоминания. Я не считаю эти поступки своими поступками. То, что я теперь вспоминаю, то, что я только что сделала, был один из них.
– Ты не сделала ничего, но только показала свою силу, в то время как я показал свою слабость, Изабелл, да, для всего мира ты моя жена, для нее тоже ты моя жена. Разве я не сказал ей этого сам? Я был слабее котенка, Изабелл; и ты сильна, как те высокие ангельские силы, от которых совершенная красота не берет их мощь.
– Пьер, когда-то такие слова от тебя были мне бодрящими и живительными, но теперь, хотя они и исходят от тебя, столь же теплые и гладкие, как прежде, все же – на пути через холодное поле отчуждения – они замерзают и стучат по моему сердцу, как ледяной град, Пьер… Ты не говорил с ней об этом!
– Она не Изабелл.
Девушка пронзила его быстрым и внимательным взглядом, затем приняла довольно спокойный вид и заговорила.
– Моя гитара, Пьер, ты знаешь, как чудесно мне повинуются ее струны; теперь, прежде чем ты отправишься искать заказчиков для портретиста, ты должен найти учеников учительнице музыки. Ты станешь? – И она посмотрела на него с такой мольбой, так трогательно, что показалось Пьеру более чем смертельным.
– Моя бедная, бедная Изабелл! – вскричал Пьер. – Тебе ведомы тайны природного сладкозвучия гитары, а не изобретенные и выверенные уловки игры на ней, а эти последние – все, за что глупые ученики и будут платить, чтобы научиться. Но тому, что ты знаешь, нельзя научить. Ах, твое милое неведение так трогает меня! Моя милая, моя милая!.. Дорогая, святая моя! – И он порывисто схватил ее в объятия.
До того как первое пламя его чувства открыто проявило себя, но прежде чем он обнял ее, Изабелл спиной пятилась к соседней двери, коя в момент их объятия вдруг распахнулась, словно по своему собственному желанию.
Глазам Люси, коя сидела за работой, открылся вид тесных объятий Пьера и Изабелл; Пьер касался губами щеки последней.
II
Несмотря на материнский визит миссис Тартан и ту безапелляционность, с коей она, уходя, божилась никогда не возвращаться, божилась, что настроит против Люси всех ее родных, и друзей, и ее братьев, и ее ухажера, чтобы они отреклись от нее и вычеркнули из памяти, все же Пьер воображал, что он слишком хорошо знает человеческое сердце в целом и слишком хорошо в особенности характеры и Глена, и Фредерика, чтобы ему оставить совершенно всякое беспокойство, и размышлял о том, что те два бешеных молодых человека, должно быть, теперь плетут против него заговор как против вымышленного ими монстра, который с помощью адских заклинаний заставил Люси забыть все светские приличия. Не счастливо, но только с еще большей мрачностью он предвидел тот факт, что миссис Тартан придет к Люси без сопровождения и что Глен и Фредерик провели последние сорок восемь часов и более, не сделав ни малейшего вражеского или лояльного движения. Сначала он думал, что, обуздав свою импульсивную ярость, они сошлись на том, чтобы действовать медленными, но, возможно, более действенными методами, чтобы вырвать Люси силой и возвратить обратно, начав какой-нибудь судебный процесс. Но эта мысль была отвергнута другими соображениями.
Не только Фредерик обладал такого рода характером, который, особенно для военного человека, мог бы подтолкнуть его в таком сугубо личном и в высшей степени частном и семейном деле отнестись с презрением к наемной гласности медлительной руки закона и мог бы побудить его, как свирепый пожар, лично защищать свои права и мстить, ибо в нем говорило, возможно, столько же чувство вопиющей семейной обиды из-за Люси, как, собственно, ее предполагаемый самостоятельный проступок, который, каким бы тайным он ни был, задел его за живое: так обстояли дела не только с Фредериком; но что касалось Глена, Пьер хорошо знал, что если Глен и был холоден, насколько мог, творя свершения на ниве любви, то над свершениями на ниве ненависти Глен трудился не без огонька; что хотя в ту памятную ночь прибытия Пьера в город, Глен холодно захлопнул перед ним свою дверь, то теперь тот же Глен с сердечным пылом выломает дверь в жилище Пьера, если будет хоть немного убежден в том, что продолжительный успех увенчает схватку.
Кроме того, Пьер знал следующее – что столь неразличим естественный, неукрощенный, скрытый дух бесстрашной мужественности в мужчине, что, хотя этот дух воспитывался обществом на протяжении тысяч лет в своевольном почтении к закону, как к тому единственному назначенному защитнику прав для каждого, кому нанесли урон, к тому же так повелось с незапамятных времен и повсеместно среди сильных духом джентльменов, что если уж единожды вы произнесли вслух независимые личные угрозы лично отомстить своему врагу и затем, после этого, сдали назад, чтобы прокрасться в суд и нанять с помощью взяток целую свору визгливых адвокатов, чтобы они дрались в той схватке, о которой вы столь храбро протрубили, – это на первый взгляд всегда будет считаться очень пристойным и благоразумным – самой мудрой задней мыслью, но, по своей основе, весьма низким деянием. Фредерик не был человеком, в жилах которого текла бы водянистая кровь, ну, а у Глена, безусловно, было немало дурной крови.
Более того, Пьеру казалось вполне ясным, что, только доведя Люси до полного сумасшествия и приложив усилия, чтобы доказать это посредством тысячи маленьких грязных подробностей, мог закон преуспеть в том, чтобы вырвать ее из убежища, которое она себе добровольно избрала; такое развитие событий одинаково претило заинтересованным сторонам по обе стороны баррикад.
Что тогда могли бы сделать эти двое, в ком кровь кипела от бешенства? Возможно, они могли бы патрулировать улицы и, едва увидев Люси без сопровождения, похитить ее и вернуть домой. Или, если бы рядом с ней был Пьер, тогда избили бы его до полусмерти багром[205] или палкой, играя по-честному или напав из-за угла; и после – прощай, Люси! Или, если Люси будет постоянно находиться в своей комнате, то напасть на Пьера совершенно открыто, сбить его с ног и избить до полной неузнаваемости, покрыть его градом и тьмой ударов, подсказанных ненавистью и обидой, так что, смятый под колесом такого позора, Пьер должен был бы почувствовать себя разбитым, и тогда они могли бы пожать плоды своей низости.
Ни невнятное бормотание духов в старом доме, посещаемом призраками, ни адское и зловещее знамение, увиденное ночью в небесах, не заставят волосы гордого благородного человека встать дыбом на голове так, как когда он прокручивает в своем уме картины некоего возможного грязного, публичного и реального бесчестья. Это не страх – это ночной кошмар для гордости, который более ужасен, чем любой страх. Тогда, благодаря бескрайнему воображению, чувствуется, как раскаленное клеймо убийцы Каина проступает на лбу и старый, уже побывавший в деле, заржавевший от крови нож стиснут в занесенной для удара руке.
Несомненно, эти два молодых человека должны плести против него какой-то яростный заговор; эхо их язвительных проклятий, которыми они осыпали Пьера на лестнице, до сих пор звенело в его ушах, проклятий, от безрассудных ответов на которые он тогда с большим трудом удержался – он остро чувствовал сверхъестественность той безумной, пенящейся ненависти, с которой вспыльчивый брат бросался на оскорбителя чести сестры, – вне всяких сомнений, то была самая бескомпромиссная из всех известных человеческих страстей, – и он не забывал о неприглядной правде, которая гласит, что если такой брат поразит врага прямо за столом у родной матери, то окружающие и все судьи встанут на его сторону, признавая все допустимым для благородной души, пришедшей в бешенство из-за бесчестья любимой сестры, причиненного ей проклятым соблазнителем, примеряя на себя свои собственные чувства, как если бы он на самом деле был тем, кем Фредерик его столь живо воображал, помня о том, что в любовных делах ревность выступает помощником и что ревность Глена удвоилась из-за необычайной злобы зримых обстоятельств, по прихоти которых Люси с презрением отвергла объятия Глена и сбежала к его всегда счастливому и теперь уже женатому сопернику и как бы своенравно и бесстыдно угнездилась там, – припоминая все эти глубокие побуждения обоих своих врагов, Пьер не мог не ожидать в скором будущем яростной схватки. Эта буря страстей в его душе была подкреплена его решением, принятым в час размышлений, спокойнейший из возможных. Буря страстей в его душе находила поддержку в том решении, которое он принял в час самых холодных, по возможности, размышлений. Буря и спокойствие, оба сказали ему – позаботься о себе, о Пьер!
Убийства совершаются маньяками; но серьезные мысли об убийстве – это удел хладнокровных головорезов. Пьер был именно таким – рок или что там еще сделал его таким. Но именно таков он был. И когда эти картины проплыли перед его мысленным взором, когда он подумал обо всех двусмысленностях, которые окружали его, каменные стены со всех сторон, которые он не мог преодолеть, миллион раздражающих обстоятельств его в высшей степени злой доли, то последняя призрачная надежда на счастье ускользнула от него, сгорела, как в языках пламени, и, глядя в будущее, он видел лишь черную бездонную пропасть преступления, к самому краю которой его оттеснили, где он, шатаясь, каждый час боролся с собой, – тогда он ликующе приветствовал предельную ненависть Глена и Фредерика; и убийство, совершенное, чтобы отразить их бесчестный удар на публике, казалось единственным достойным продолжением такой отпетой карьеры.
III
Как статуя, коя, водруженная на крутящийся пьедестал, показывает то одну свою конечность, то другую, то лицо, то спину, то бок, постоянно меняя также свой общий профиль, так кружится и скульптурная душа человека, когда ее поворачивает рука правды. Только ложь никогда не меняет, а посему не ищите в Пьере никакого постоянства. Ни один лицемерный конферансье не появляется за ним следом, чтобы называть каждое его превращение. Улавливайте смены его превращений, и да будет вам в помощь ваша интуиция.
Прошел еще день; Глен и Фредерик никак не заявили о себе, и Пьер, Изабелл и Люси жили вместе. Участие Люси в домашней жизни стало оказывать замечательное действие на Пьера. Иногда, для тайно-зоркого взгляда Изабелл, он, казалось, смотрел на Люси с выражением, плохо подходящим для их простых, так называемых, исключительно родственных отношений, а потом также с другим выражением, еще более для нее непонятным, – выражением страха и благоговейного трепета, не без примеси нетерпения. Но его личное отношение к Люси было сама деликатность и любящая внимательность – ничего больше. Он никогда не оставался с ней наедине; хотя, как прежде, иногда оставался наедине с Изабелл.
Люси, казалось, совсем не желала добиться для себя какого-то места рядом с ним, не проявляла ни малейшего нежелательного любопытства по отношению к Пьеру и никакого болезненного смущения – к Изабелл. Несмотря на это, казалось, она все более и более, час за часом, каким-то необъяснимым образом скользила меж ними, не касаясь их. Пьер чувствовал, что некая странная божественная сила была рядом с ним, охраняла его от некоего небывалого зла, а Изабелл живо ощущала какую-то неуловимую беглую поддержку. Все же когда все трое были вместе, то чудесное спокойствие, и кротость, и полное отсутствие какой бы то ни было подозрительности у Люси исключало всякую возможность обыкновенного замешательства; так что если замешательство когда и царило под этой крышей, то это происходило в те моменты, когда Пьер оставался наедине с Изабелл, после того как Люси покидала их безо всякого умысла.
Тем временем Пьер все еще работал над своей книгой, с каждой минутой становясь все более чувствительным ко всякого рода обстоятельствам, крайне неблагоприятным, под влиянием которых продвигались его труды. И так как теперь его сосредоточенная работа, продвигаясь вперед быстрыми темпами, требовала от него все больше и больше напряжения и сил, он стал чувствовать, что он все меньше и меньше привносит в нее. Ибо это было не только личное мучение Пьера, быть незримо – хотя и непредумышленно – подгоняемым и в период душевной незрелости пытаться создать зрелое произведение, – обстоятельство, достаточно плачевное само по себе; но также, переживая период неотступного безденежья, он вдобавок оказался втянут в долгую и затянувшуюся в выполнении работу, и совершенно неизвестно было, ждет ли это в конце коммерческий успех. Почему так обстояли дела, с чего все началось, можно было бы объяснить до конца и к большой пользе, но пространство и время приказывают молчать.
В конце концов, домашние заботы – где достать денег на оплату аренды и на хлеб? – так сильно стеснили его, что уже не имело значения, закончена его книга или нет, а первые страницы нужно было отослать издателю; и к этому добавлялось страдание иного рода, поскольку опубликованные страницы теперь задавали тон всей остальной рукописи и на все последующие мысли и находки Пьера диктовали ему: «Так-то и так-то; то-то и то-то; или все будет плохо сочетаться». Следовательно, была ли книга уже ограниченной, связанной обстоятельствами и обреченной на несовершенство даже до того, как она обретет какую-то законченную форму или просто заключение? О, кто опишет ужасы бедности начинающего писателя – ужасы, коим несть числа? Пока глупый Миллторп бранился с ним из-за задержки рукописи на несколько недель и месяцев, с какой горечью Пьер, отвечая молчанием на его упреки, чувствовал всем сердцем, что над величайшими работами в истории человечества их авторы трудились не недели и месяцы, не годы и годы, но в течение своей жизни, отказавшись от всего и посвятив себя делу без остатка. Несмотря на то что обе его руки были схвачены девушками, которые пожертвовали бы ради него своей жизнью, по части покровительства самых непостижимых, высочайших сил Пьер был начисто лишен сочувствия со стороны Бога, человека, зверя или растения. Живя в одном городе вместе с сотнями и тысячами других человеческих существ, Пьер был так же одинок, как на полюсе.
И самым большим горем было следующее: обо всем этом не подозревал никто извне, и это оставалось полной тайной вовне – те самые кинжалы, которые ранили его, заносили над ним со смехом глупость, невежество, меднолобость, самодовольство и всеобщая близорукость и слепота окружающих. Его стало до костей пробирать чувство, что силы титана были преждевременно перехвачены ножницами судьбы. Он был как лось, которому перерезали сухожилия. Все позывы думать, или двигаться, или лежать неподвижно, казалось, были будто созданы для того, чтобы насмехаться над ним и мучить. Словно ему даровано благородство для того только, чтобы он мог уронить его в грязь. И тем не менее его природное упрямство еще не выдохлось. Несмотря на разбитое сердце и голову в огне, несмотря на всю мрачную усталость, и смертельное изнеможение, и сонливость, и головокружение, и проблески сумасшествия, все же он держался стойко, как полубог. Корабль его души предвидел неизбежные рифы, но решился плыть дальше и бесстрашно пойти ко дну. Он платил колкостью за колкость и насмехался над обезьянами, которые ему надоедали. Имея душу атеиста, он писал самые благочестивые труды; страдая, чувствуя, что смерть стоит у него за спиной, он создавал живые и радостные образы. Когда боль когтями впивалась в сердце, он писал про смех. И все прочее он также маскировал под столь ладно скроенной и подвижной портьерой бесконечно-многозначной философии. Ибо, чем больше и больше он писал, чем глубже и глубже погружался, тем яснее Пьер видел постоянную неуловимость правды – повсеместную потаенную лживость даже самых великих и чистых мыслей, которые попадали на бумагу. Словно крапленые карты, страницы всех великих книг были тайно подтасованы. Пьер занимался не чем иным, как создавал еще одну колоду, только очень скверную колоду и совсем неумело крапленную. Получалось, что он не топтал ничего, кроме своих собственных стремлений; ничто он не ненавидел так сильно, как величайшие стороны своей души. Самый яркий успех теперь представлялся ему нестерпимым, с тех пор как он ясно увидел, что самый яркий успех никогда не бывает единственным отпрыском достижения, но зависит от достижения на одну тысячную и на остальные девяносто девять процентов от стечения обстоятельств, которые так совпали. Словом, прежде всего он презирал те лавры, которые, в самой природе вещей, никогда не могут присуждаться по справедливости. Но из-за подобных рассуждений всякое земное честолюбие навсегда отлетело от него, а стечение обстоятельств вынудило принять участие в алчной схватке за успех. Словом, прежде всего Пьер чувствовал жгучие укусы тайного жала, принимая что похвалы, что порицания, в равной степени нежеланные и в равной степени непременно вызывающие у него ненависть. Словом, прежде всего он чувствовал все возрастающее презрение истинного высокомерия ко всему необъятному сборищу бесконечно ничтожных критиков. Его презрение было того сорта, что нашептывает: это того не стоит – питать презрение. Те, кого он презирал больше всех, никогда не знали об этом. В своем одиноком маленьком кабинете Пьер предвкушал все, что мир мог ему дать, все похвалы или осуждение; и, таким образом, предугадывая вкус питья в обеих чашах, он столь живо вообразил его, что как будто заранее отведал и то и другое. Пора всех панегириков, всякого осуждения и критики на все лады наступила слишком поздно для Пьера.
Но человек никогда не сдается вот так, не покидает дом, который уже лишен дверей и ставен, чтобы ветра со всех четырех сторон света могли свободно завывать в нем, не довершив его окончательного разрушения. Гораздо чаще, чем раньше, Пьер стал откидываться назад на своем стуле, чувствуя смертельную слабость. Гораздо чаще, чем раньше, со своей вечерней прогулки он приходил домой шатаясь и, будучи в полнейшем физическом изнеможении, старался реже делать вдохи и выдохи, отвечая на встревоженные вопросы, можно ли ему как-то помочь. И как будто всей объединенной душевной закостенелости да злобы в соединении с его общей физической усталостью было недостаточно, невиданный физический недуг набросился на него, как ястреб. Непрерывная напряженная работа сказалась на его глазах. Они стали настолько чувствительными, что бывали дни, когда он писал почти с закрытыми глазами, боясь широко распахнуть их, потому что дневной свет причинял боль. Сквозь опущенные ресницы он щурился на бумагу, которая, казалось, была расчерчена проволокой. Временами он писал вслепую, отвернувшись в сторону от бумаги, бессознательно символизируя таким образом враждебную необходимость и отвращение, а последнее и вовсе превратило его в совершенно невольного государственного заложника изящной словесности.
Каждый вечер, когда был кончен его дневной писательский труд, плоды этого труда надобно было исправлять, и Изабелл читала ему рукопись. Там пестрели ошибки, но Пьер, будучи во власти роя идеальных и чистых образов, переносил все хуже эту каждодневную мелочную пытку, мучительную, как укусы москитов; он редактировал в случайном порядке самые трудные места, но его не хватало на остальное; он смеялся сам с собою над богатым урожаем, который снимал ради комариного писка критиков.
Но, наконец, он принял важнейшее внутреннее решение – отложить это, оставить на потом этот изнурительный труд.
В то время, когда он писал первые страницы своей книги, он находил некоторое облегчение, совершая свою каждодневную вечернюю прогулку по самым большим и оживленным улицам города; судите сами – полное одиночество, в котором находилась его душа, что должна была немного взбодриться от непрерывного трения его тела о тела спешащих мимо тысяч людей. Затем он начал чувствовать, что ему куда больше нравятся грозовые ночи, чем мирные, ибо тогда главные улицы города были меньше заполнены народом, навесы бесчисленных магазинов колыхались и хлопали, как широкие паруса шхуны в бурю, и ставни грохотали, словно бастионы, которые брали приступом, и шиферная плитка крыш сыпалась вниз с треском, словно поврежденные кильблоки, подброшенные в воздух. Бродя в такую бурю по опустевшим улицам, Пьер испытывал темную радость победителя: в то время как другие в страхе плелись к своим убогим жилищам – мелким шагом, согнувшись перед ветром в три погибели, – он один встречал лицом к лицу великий шторм, который самым мстительным образом осыпал его потоками крупного града, и градины, падая на его пышущее жаром тело, которое было словно раскаленная железная печь, таяли и становились теплым дождем и, не причиняя ему никакого вреда, стекали с него тонкими струйками.
Мало-помалу в такие ненастные вечера, когда ветер завывал диким зверем, Пьер стал направлять свои шаги дальше, во тьму узких переулков, в поисках более малолюдных и подозрительных баров. Там он чувствовал исключительное удовлетворение, когда садился на стул и с него градом падали капли, и заказывал себе свои обычные полпинты эля, и надвигал поглубже кепи на глаза, защищая их от света, изучая взглядом мешанину лиц, какую являли собой посетители – отбросы общества, которые находили здесь приют в те ночи, когда погода была совсем уж скверной.
Но под конец он стал чувствовать отвращение даже и здесь; и теперь ничто, кроме самых темных улиц, на которых тянулись одни склады и которые были совершенно пустынны по ночам, не удовлетворяло его или хотя бы заставляло меньше страдать. В этой пустыне ему стал привычен ветер, который продувал его до костей каждый вечер, пока однажды ночью, когда он замер на месте и уже повернулся, чтобы идти домой, его схватил за глотку неожиданный, непривычный, всепроникающий приступ начала болезни. Он не сознавал больше, где находится; он помертвел, лишившись вдруг всех чувств. Он не мог видеть, хотя, инстинктивно поднося руки к глазам, он, казалось ему, чувствовал, что глаза его открыты. Затем все вместе – слепота и головокружение – навалились на него и закружили; он видел миллионы зеленых метеоров, которые кружились в танце перед ним; он наткнулся дрожащей ногой на край тротуара, вытянул вперед руки и провалился в небытие. Когда он пришел в себя, то увидел, что валялся, раскинув руки, в канаве, весь в грязи и мути. Он приподнялся и попытался стать на ноги, но они были как ватные и не слушались. Он тотчас же ринулся домой, не переводя дух и не останавливаясь на всем пути, заботясь лишь о том, чтобы прилив крови к голове, за которым последовал временный паралич ног, не бросил его снова наземь. Этот случай заставил его держаться подальше от тех пустынных улиц, дабы избежать повторения – ноги отказываются ему служить, и он остается умирать ночью в неизвестности и непредвиденном одиночестве. Но если то ужасное головокружение имело целью также другое и более опасное предупреждение, он вовсе не думал об этом дополнительном предостережении; но вновь стал занимать свои ум и сердце напряженной работой, как прежде.
Но теперь наконец, с тех пор как сама кровь его тела тщетно восстала против его титанической души, теперь единственный зримый внешний символ этой души – его глаза – также обернулись предателями, и с большим успехом, чем его мятежная кровь. Он напрягал их так отчаянно, что теперь они совершенно отказывались смотреть на бумагу. Он обращал глаза к бумаге, а они моргали и закрывались. Его глазные яблоки в своих орбитах поворачивались прочь от бумаги. Он закрыл глаза рукой и опустился обратно на стул. Затем, ни слова не говоря, он остался сидеть на месте, отбывая свои положенные на писательство часы в подвешенном состоянии, неподвижный, опустошенный.
Но на следующее утро – это было несколькими днями после прибытия Люси, все еще чувствуя определенную совершенную одержимость, не меньше, одновременно неизбежную и необходимую для создания любой великой, глубокомысленной книги или даже при неудачной в целом попытке создать какую-либо великую, глубокомысленную книгу, на следующее утро он вернулся к работе. Но его глазные яблоки вновь повернулись в своих орбитах прочь от бумаги: и апатия, глубокая, безымянная – некое ужасное предвкушение самой смерти, – казалось, вкралась в его душу.
IV
В продолжение этого полубессознательного состояния или скорее транса примечательный сон, а может, видение стало приходить к нему. Настоящие, сделанные рукой человека предметы, окружавшие его, от него ускользали, и их место занимал бесплотный, но все же грандиозный спектакль в природных декорациях. Но хотя само видение и было бесплотным, в этом воздушном спектакле имелись сцены, очень хорошо знакомые Пьеру. Это было волшебное зрелище – гора Титанов[206], эта удивительная вершина, которая стоит довольно обособленно на бескрайней равнине, неподалеку от большой цепи темно-голубых холмов, которые окружали кольцом ее родовые владения.
Говоря языком иных поэтов, природа – не столько свой толкователь, сколько простой создатель того хитрого алфавита, с помощью которого, выбирая и складывая символы, как ему угодно, каждый человек читает свой собственный, особенный урок, сообразно со своими определенными умственными способностями и настроением. Так рассказывал один имеющий высокие устремления, но угрюмый, разочарованный бард, которому однажды случилось посетить Седельные Луга и который, увидев ту потрясающую вершину, окрестил ее Горой Титанов, как все ее с тех пор и стали называть, совершенно позабыв прежнее название – Прекрасная Вершина, – которым давным-давно нарек ее фермер-баптист, потомственный почитатель Беньяна и его исключительной книги. С тех пор гора так и не смогла никогда избавиться от чар второго названия, ведь теперь стоило лишь кинуть на нее взгляд, и вот уже это второе название двусмысленно витает в воздухе, и ни один наблюдатель с поэтической жилкой не мог отрицать явную меткость такого прозвания. Ибо если древняя гора и в самом деле склонна была приспособиться к столь недавнему имени, иные говорили, что она незаметно изменила свой внешний вид за десяток-другой зим. Эта странная игра воображения не была вовсе лишена оснований, когда посмотришь, как каждый год перемещения огромных глыб камня и гигантских деревьев постоянно меняют общий облик горы и сам ее контур.
Ее северный отрог был обращен к старому особняку Глендиннингов и отстоял от него на пятнадцать миль – горный пик, видимый с веранды в мягкой туманной дымке летнего полудня, который представал высоким, прекрасным, но вполне досягаемым пурпурным склоном, высотой около двух тысяч футов, который с каждой стороны косо спускался к высоким травам пастбищ на горных скатах.
Эти горные пастбища, надо сказать, густо поросли меленькими невянущими белыми цветами, которые, будучи совершенно неприятными на вкус для домашнего скота, вовсе не употреблялись им в пищу и потому лишь множились постоянно повсюду год от года и, вне всяких сомнений, увеличивали земледельческую ценность этих земель на взгорье. Дела зашли так далеко, что из-за этого павшие духом сыровары, жители этой части имения, обратились с просьбой к своей леди-землевладелице, чтобы та уменьшила размер их ежегодных податей от покоса высокогорных трав в июньскую косьбу, количество глиняных горшочков с маслом, когда в октябре приходило время отсылать их в поместье, и число голов молодых бычков и телок, когда в октябре приходило время забивать скот, вместе с числом индеек, что под Рождество доставлялись в поместье на санях.
– Маленький белый цветок – наша верная смерть! – вопияли жители в мольбе. – Этот амарант[207], который только разрастается и заполоняет собой все новые луга! Бессмертный амарант, который не увядает, и прошлогодние цветы распускаются вновь! Горные пастбища зарастают им и белеют, и в теплом июне все еще кажется, что они покрыты снегом – достойное подтверждение бесплодия земли, что амарант принес с собою! Помогите нам справиться с амарантом, госпожа, или извольте снизить нам ренту!
Но горный пик, если к нему приблизиться, не менял своего пурпурного контура, каким он виделся с веранды особняка, – тот красивый, впечатляющий пурпурный контур, который, несомненно, полностью оправдывал свое былое, беньяновское название, которое носил первоначально, – и видна была одна пышная зелень леса, растущего на скальных кручах. Все же, если подойти еще ближе, длинные и частые просветы в массе листвы открывали жуткие проблески темных влажных камней и таинственные пасти волчьих пещер. Пораженный этим совершенно неожиданным видом, путешественник убыстрял свои встревоженные шаги, чтобы проверить ту перемену, которая происходила, стоило лишь вплотную приблизиться к этой вершине-хамелеону. Как только он начал шагать быстрее, та низменность, которая, пока ее наблюдали с веранды поместного особняка, казалась просто травянистой равниной, внезапно превратилась в очень долгий и изнурительный пологий подъем, мало-помалу, по мере восхождения, скрывающий от глаз основание горного пика; и цветущие травы колыхались на ветру, скрывая подножие, как цветные волны какой-то огромной возвышенности или долгая крутящаяся большая волна, кипящая у ватерлинии необозримого колоссального военного корабля, идущего по морю. И, как среди вихрей песка в Египте, что крутятся наподобие морских волн, ломаные ряды руинных сфинксов ведут к самой пирамиде Хеопса, так и этот пологий подъем густо усыпан большими грудами камня гротескных форм, с удивительными гранями, которые, казалось, выражали ту дремлющую сметливость некоторых зверей на отдыхе – зверей, чью сообразительность в них как будто обессилили каким-то печальным и необъяснимым заклинанием. Как бы там ни было, со всех сторон окружают эти, по-прежнему зачарованные камни, затвердевшие на самых краях и в сетке их хитрых трещин, горные козы, ненавидящие человека, они находят свою любимую пищу, ибо те камни, столь безжизненные с виду, сохраняют в своих разломах мягкую влажность, которая насыщает зелень всеми минералами, что содержатся в вулканической почве.
Покидая эти лежачие камни, вы по-прежнему поднимаетесь в гору, идя по лесной чаще, выросшей на ее склонах, и продираетесь сквозь сплетение самых низких ветвей, затем вдруг вы замираете на месте, пораженный, как марширующий солдат, сбитый с толку видом неприступного редута, где он воображал найти легкое укрепление, при взятии которого можно было бы показать свое бесстрашие и силу. Хитро замаскированный до этих пор зеленым гобеленом лесной чащи, ужасающе высокий частокол темных, покрытых мхом лесных великанов противостоит вам; и, сочась неиспарившейся влагой, они обрушивают на вас со своих мшистых ветвей медленные ливни водяных капель, холодных, как последние слезы перед смертью. И теперь вы стоите и дрожите от холода в этом сумраке, несмотря на то что пришли туда в самый полдень и лучи жаркого августовского солнца сжигают луга. Со всех сторон суровые, покрытые трещинами скалы громоздятся и громоздятся друг на друга, вздымаются, создают выступы, удлиняются, разрастаются и нетерпеливо простираются ввысь; куда ни обернись, повсюду скалы щерятся и источают мрачное сопротивление. Поваленные наземь, лежащие грудой и в беспорядке среди всего этого, подобно хаотичному рисунку соединенных меж собой борозд в аллювиальной почве, переполненных бурными водами речных потоков далекого Арканзаса, или словно великое множество мачт и досок потопленных флотилий, то взмывающие вверх, то швыряемые вниз со всей силы, по прихоти волн, обломки флотилий, которые шторм разметал и бросил на грозные скалы в Атлантическом океане, – вы видите лишь печальные обломки, которые северный ветер, что, сражаясь в неугасимой вражде на стороне зимы, вырвался на волю из лесов и проредил их на своем избранном поле брани с варварским презрением. Дополняя эту картину широкого и бессмысленного разрушения, грохот камнепада время от времени взрывал тишину и пугал окрестное эхо, которое начинало рокотать и перекатываться среди каверн, словно вопящие женщины и дети в осажденном городе.
Полное опустошение, разрушение, беспощадное и непрестанное, холод и мрак – все это жило здесь своей тайной жизнью, скрытое от глаз за тем прекрасным пурпуром, который, когда любуешься на него с веранды поместного особняка, создает ту красоту горы, что когда-то называлась Прекрасной и теперь величалась Титанической.
Побежденные невообразимой тьмой и кручами, вы с грустью возвращаетесь назад и, возможно, обойдете стороной горные луговые пастбища, что лежат ниже, где бесчисленные и совершенно бесплодные, не имеющие запаха, бессмертные белые меленькие цветы вытеснили собой сочные травы, которые были питательным кормом задумчивым коровам. Но кое-где вы еще могли почувствовать приносимое ветром издалека благоухание зарослей кошачьей мяты, этой чудной травы, что всегда растет на фермах. Вскоре вы увидите скромную зелень самого растения; и где бы вы ни увидели эту картину, глыбы древнего фундамента и гниющие бревна давно покинутого дома также непременно попадутся вам на глаза – руины дома, плохо скрытые зеленой порослью этой травы, стойко хранящей дому свою верность. Кошачья мята, котовник – самое подходящее для нее название для травы, которая подобна домашней кошке: несмотря на то что люди оставили жилище, эта трава еще надолго задержится, будет расти и цвести у покинутого очага. Она плохо таится, ибо с каждой новой весной амарант, бессмертный цветок, оттесняет все дальше смертное домашнее растение, ибо каждой осенью котовник увядает, но ни одна осень еще не заставила амарант хотя бы пожелтеть. Котовник и амарант!.. земной человеческий мир домашнего очага и вечная всепроникающая страсть Бога.
Вы обошли стороной печальные покинутые пастбища, и теперь спускаетесь вниз по длинному склону, по краю таинственной вершины. Посреди луга вы вновь медлите среди руинных, подобных сфинксам, каменных глыб, которые когда-то откололись от скальной кручи. Вы медлите, захваченные зрелищем очертаний явного мятежа, очертаниями ужасности. Вы видите титана Энцелада, самого могучего из всех гигантов, который рвется прочь из оков сковавшей его земли, увенчанный мохнатой шапкой мха, он корчится, хотя и безоружный, все еще пытается бороться всем своим огромным телом, которое придавлено сверху Пелионом и Оссой, все еще пытается поднять свое мятежное чело и взглянуть в упор на таинственный скальный массив, с которым он борется в вечной тщете и в котором, когда его сокрушили этой скалой, заточили его непримиримый дух – и, в насмешку, с тем и оставили его заливаться напрасными воплями.
Пьер всегда интересовался этой удивительной вершиной, несмотря на то что до сих пор все ее скрытое значение никогда не открывалось ему во всей своей полноте и ясности. Во времена его раннего отрочества бродячей компанией молодых студентов, которая путешествовала пешком, довелось забраться на эту скалу; и, пораженные ее необыкновенностью, они принесли множество кирок и заступов и стали окапывать ее кругом, чтобы понять, был ли то в самом деле дьявольский каприз природы или некий твердый предмет искусства допотопных времен. Сопровождая эту команду энтузиастов, Пьер впервые увидел бессмертного сына Геи. В те времена, в своем нетронутом естественном состоянии, статуя представляла собой просто увенчанную шапкой мха голову из вулканического камня, которая подымалась из земли, – гигантское лицо, которое время не смогло уничтожить, что смотрело вверх, на Титаническую гору, и бычья шея статуи были ясно видны. С искаженными чертами, в паутине трещин, и сломанными, черными бровями под нависающей шапкой мха, Энцелад стоял под землей, врос в почву по самую шею. Кирки и заступы вскоре освободили его от солидного куска Оссы и работали до тех пор, пока наконец вокруг него не образовался круглый колодец глубиной около тринадцати футов. К этому времени измученные молодые студенты в отчаянии бросили свою затею. Несмотря на весь свой тяжелый труд, они так и не смогли выкопать Энцелада. Но они освободили приличную часть его могучей грудной клетки, обнажили его искалеченные плечи и обломки его некогда бесстрашных рук. Раскопав развалину по сию пору, они безжалостно бросили его в этом состоянии, оставив обнаженной его каменную грудь, выпяченную в напрасном негодовании, на радость птицам, которые в течение бессчетного количества лет пачкали своим пометом его побежденную грудь.
Не лишним будет сравнить того массивного титана, которым искусство братьев Марси[208] и широко известная гордость Бурбона[209] украсили зачарованные сады Версаля, где из его рта, навеки застывшего в мучительной гримасе, воды фонтана до сих пор взлетают в воздух на шестьдесят футов, в естественном соревновании с теми языками пламени Этны, которые исстари называли злобным дыханием поверженного гиганта, – не лишним будет сравнить того массивного полубога, который ощетинился тяжкими скалами, и одно его согнутое вывернутое колено выступает из обломков бронзы, – не лишним будет сравнить с тем смелым достижением высокого искусства этого американского Энцелада, созданного могучей рукой самой природы, он мог не только соперничать – он намного превзошел ту впечатляющую статую, которую человеческое искусство с посредственным мастерством изваяло в бронзе. Марси сделали акцент на вечной беззащитности, но природа, более правдивая в этом отношении, провела ампутацию и оставила беспомощного титана вовсе без ног, пригодных ему служить.
Таков был дикий пейзаж – гора Титанов и поверженная группа оскорбителей неба вместе с Энцеладом в самом центре, бесстыдно лежащим, как их пьедестал, – таков был дикий пейзаж, который теперь для Пьера, в его странном сне, вытеснил собой четыре голые стены, доску, которая служила письменным столом, и походную кровать, и довлел над ним в его трансе. Но теперь, стряхнув с себя каменное оцепенение своих недостойных поз, все титаны дружно вскочили на ноги, всем скопом ринулись на горную крутизну и вновь долбили в безмолвную стену твердыни. Впереди всех Пьер увидел безрукого гиганта в шапке из мха, который, отчаявшись как-то по-иному излить свою неутолимую ненависть, обратил свой мощный корпус в боевой таран и повернул, как кинжалы, выступающие дуги своих ребер, снова и снова бросаясь на несокрушимую вершину.
– Энцелад! Это Энцелад! – закричал Пьер в своем сне.
В это мгновение призрак взглянул ему в лицо; и Пьер больше не видел Энцелада, но на том титаническом, лишенном рук корпусе – точную копию своего собственного лица, и его призрачные черты пророчили ему скорби и крушение надежд. Весь дрожа, он очнулся сидящим на своем стуле и пробудился от мнимого ужаса для своего истинного горя.
V
Несмотря на то что знания Пьера о древних легендах были хаотичными, он безошибочно истолковал видение, которое столь непонятным образом наложило на уста печать молчания. Но толкование это было самого неприятного рода, зловещим и предостерегающим, возможно, потому что Пьер еще не взял последний барьер мрака, возможно, потому что Пьер не нашел бессознательно какого бы то ни было успокоения в той легенде, не победил ту непреклонную скалу, как Моисей поборол свою, и принудил даже саму засуху утолить его мучительную жажду.
Сраженная таким образом, Гора Титанов, казалось, уступала напору следующего течения…
Самый старый из Титанов был сын, рожденный в кровосмесительном союзе Каилуса и Терры, сын кровосмесительного союза Неба и Земли. И Титан взял в жены свою мать Терру, заключив другой, более кощунственный, кровосмесительный брак. И первым родился Энцелад. Значит, Энцелад был одновременно и сыном, и внуком инцеста; и как раз таким образом, появившееся на свет от естественной смеси божественного и земного в Пьере, родился его настрой – другой, неясный, стремящийся к небесам, но все же не до конца освобожденный от земных уз, настрой, который, опять же, благодаря земным узам, которые удерживали его подле его земной матери, порождали в нем нынешнего, вдвойне кровосмесительного Энцелада; так что теперешнее состояние Пьера – тот его безрассудный, богохульственный настрой был все-таки на одной стороне с внуком неба. Ибо это с вечного соизволения небес низвергнутый Титан по-прежнему ищет, как бы обрести вновь свою власть по отеческому первородству, даже с помощью свирепого штурма. И при любом шторме небо посылает блистательные знаки, что зародился он именно там! Но что бы ни согласилось ползком ползти к этой хрустальной крепости, тем самым оно лишь еще раз подтверждало, что было рождено в грязи и поэтому должно навеки в ней оставаться.
Стряхнув последние клочья сонных чар и немного оправившись от своего дикого видения, которое окутало его в трансе, Пьер придал своему нахмуренному лицу насколько можно спокойное выражение и немедленно покинул роковой кабинет. Заново оценив те силы, что у него еще остались, он решил, что, посредством крутой и жестокой перемены и за счет умышленного нарушения самых устойчивых привычек в своем образе жизни, он справится со странной немощью его глаз, с этим новым смертоносным дьяволом – оцепенением, этим Адом из его видения о Титанах.
И теперь, стоило ему переступить порог кабинета, он прилагал мучительные усилия, чтобы придать лицу такое выражение, которое не было бы безрадостным, несмотря на то что он не мог сказать, как на самом деле выглядело его лицо в действительности, ибо он страшился найти какие-то новые, невыносимо мрачные изменения в своем отражении в зеркале, он в последнее время избегал в него смотреться, – и он быстро прикинул в уме, какие пустые, притворные или, наоборот, беззаботные, веселые слова он скажет, когда пригласит своих дам к участию в небольшом плане, который он замыслил.
И даже теперь воспоминание о жестоком Энцеладе, которого мир богов сковал в наказание за его дерзость, тяготило его, словно невидимое бремя; даже теперь та планета расцветала тысячами цветов, чья беззащитная красота скрывала ее массивную тяжесть.
Глава XXVI ПРОГУЛКА. ЗАМОРСКИЙ ПОРТРЕТ. ПРОГУЛКА НА ВОДЕ. И ФИНАЛ
I
– Идем, Изабелл, идем, Люси; мы еще ни разу не были на совместной прогулке. Погода холодная, но ясная; и если мы выйдем из города, то найдем ее солнечной. Идемте, собирайтесь, и пройдемся до пристани, и затем – до какого-нибудь извива узкой ленты залива. Вне всяких сомнений, Люси, в бухте ты найдешь подходящую обстановку и увидишь несколько сцен для той тайной картины, которой ты посвящаешь столько времени – перед тем, как к тебе приходят живые, настоящие натурщики, – над которой ты трудишься с таким увлечением, совсем одна и за закрытыми дверями.
При этих словах первое удивление Люси, бледной, взволнованной – из-за неожиданного предложения Пьера дать себе небольшую передышку, – сменилось чудным, безмолвным, но непередаваемым выражением, с коим она кротко и в полном смущении опустила долу полные слез глаза.
– Значит, это кончено! – закричала Изабелл, не оставив без внимания эту маленькую сцену и порывисто сделав шаг вперед, как будто для того, чтобы перехватить быстрый, восхищенный взгляд, коим Пьер смотрел на взволнованную Люси. – Эта ужасная книга, она завершена, наконец!.. Благодарение Богу!
– Не совсем так, – молвил Пьер; и лихорадочный румянец, на миг вытеснив всякое притворство, нежданно проступил на его лице. – Но, прежде чем ужасная книга будет завершена, я должен узнать еще какой-нибудь другой элемент, кроме земли. Я столько времени провел в земном седле, что теперь совершенно измотан и должен ненадолго сменить его на что-то иное. О, видится мне, что всегда есть два неутомимых скакуна для храброго мужчины, который готов рискнуть, – Земля и Море; и, подобно цирковым артистам, мы можем никогда не спешиваться, но только крепнуть и давать себе передышки, перепрыгивая с одной лошади на другую, в то время как они бок о бок вечно мчатся вокруг света. Я пробыл в седле скакуна по имени Земля настолько долго, что я чувствую дурноту!
– Ты никогда не станешь слушать меня, Пьер, – тихо сказала Люси, – но ведь нет никакой нужды в этой непрерывной нагрузке. Вспомни, Изабелл и я, мы обе согласны быть твоими помощницами – не только в простом переписывании набело, но при самом написании; я уверена, наша помощь тебе очень кстати.
– Невозможно! Я дерусь на дуэли, где все секунданты запрещены.
– Ах, Пьер! Пьер! – воскликнула Люси, уронив свою шаль и смотря на него во все глаза с невыразимой жаждой выразить словами некое неведомое чувство.
Бросив на Люси немой, но выразительный взгляд, Изабелл придвинулась к Пьеру, завладела его рукой и заговорила:
– Я ослепну вместо тебя, Пьер, вот, прими эти глаза и пользуйся ими вместо очков. – Сказав это, она кинула на Люси странный, быстрый, как молния, взгляд, в коем читались вызов и высокомерие.
Теперь все, отчасти руководствуясь чутьем, заняли свои места, как будто были уже готовы выйти из дому.
– Вы готовы, идите же вперед, – произнесла Люси кротко. – Я последую за вами.
– Нет, обе пойдут со мной под руку, – сказал Пьер. – Идем!
Едва они миновали низкий сводчатый вестибюль, чтобы вый ти на улицу, как веселый загорелый моряк, проходя мимо них, крикнул:
– Ступай мелким шагом, приятель, узким путем идешь!
– Что он говорит? – спросила Люси мягко. – Да, улица здесь и правда сужается.
Но Пьер почувствовал внезапную дрожь, что передалась ему от Изабелл, которая прошептала что-то невнятное ему на ухо.
Дойдя до одной из главных улиц, они приблизились к броскому плакату на дверях, гласившему, что выше этажом находится галерея живописи, недавно прибывшей из Европы, и картины можно еще увидеть на бесплатной выставке, прежде чем они уйдут с молотка на аукционе. Несмотря на то что посещение этой выставки им совсем не планировалось, Пьер, повинуясь безотчетному порыву, тут же предложил зайти посмотреть на полотна. Девушки согласились, и они поднялись наверх.
В передней ему вложили в руку каталог. Он остановился на минуту, чтобы просмотреть его весь мельком. В длинной колонке таких имен, как Рубенс, Рафаэль, Анджело[210], Доменикино[211], да Винчи, каждое из них сопровождалось беззастенчивым комментарием «подлинный» или «сомнительный», Пьер наткнулся на следующую краткую строку: «№ 99. Голова незнакомца, кисти неизвестного живописца».
Становилось ясно, что вся выставка была собранием той жалкой, заокеанской мазни, кою с неслыханной наглостью, свойственной некоторым зарубежным торговцам живописью в Америке, окрестили величайшими именами, известными в мире искусства. Но как даже самые увечные торсы некогда прекрасных античных статуй все-таки достойны внимания студентов, так и самые топорные современные творения заслуживают того не меньше, ведь и то и другое – неоконченные торсы; одни лишились части своих красот в прошлом, других ожидают новые улучшения в будущем. Все же, когда Пьер шел вдоль обильно увешанных картинами стен и, казалось, различал безумное тщеславие, кое должно было двигать многими из этих, совершенно безвестных художников в их неудачных попытках изобразить слабой кистью живые темы, он невольно сравнивал их с собою и не мог подавить предчувствия самого меланхоличного толка. Казалось, на всех стенах мира теснилась тьма пустых и слабых картин – в роскошных рамах, но ничтожного содержания. Небольшие и более скромные полотна представляли маленькие сцены семейной жизни и были куда лучше написаны; но они хотя и не вызывали у него вполне ясного отталкивающего чувства, также не рождали никакого дремлющего величественного отзвука в его душе, и поэтому они в целом были ничтожными, несовершенными и неудовлетворительными.
Наконец Пьер и Изабелл подошли к тому полотну, которое Пьер, повинуясь капризу, нашел в каталоге – № 99.
– О боже! Смотри! Смотри! – закричала Изабелл в сильном возбуждении, – Прежде одно лишь зеркало показывало мне в своей глади эти черты! Смотри! Смотри!
По некой странной прихоти судьбы или посредством коварных хитросплетений какого-то обмана, настоящая жемчужина итальянской живописи проникла в это совершенно разношерстное собрание бледных подделок.
Ни один из тех, кому довелось побывать в знаменитых картинных галереях Европы и не прийти в смущение от тамошних многочисленных непревзойденных шедевров – изобилие, кое сводило на нет всякое различие или отличительное качество в самых обычных умах, – ни один невозмутимый, мудрый человек не может с победоносным видом пройти мимо живописного строя богов без того, чтобы не испытать известное, совершенно особое чувство, вызванное какими-то неповторимыми полотнами, за которыми, тем не менее, и каталоги, и критика величайших знатоков не признает ни одного мало-мальски значимого достоинства, хоть немного похожего на то художественное впечатление, которое при взгляде на произведение искусства возникает само собой. Теперь не время подробно на этом останавливаться; удовлетворитесь этим, что в таких случаях это не всегда отстраненное совершенство, но нередко – случайная конгениальность, которая рождает это удивительное впечатление. Все же сам человек способен списать это на другую причину, поэтому необдуманный исступленный восторг одной или двух особ по поводу творений, которые вовсе не стоят восторгов или которые, самое большее, безразличны остальному миру, – обстоятельство, которое так часто считается необъяснимым.
Но в этой «Голове незнакомца», написанной «неизвестным художником», отвлеченное общее совершенство сливалось с совершенно поразительным, случайным сходством в создании совокупного мощного впечатления и на Пьера, и на Изабелл. Притягательность этого полотна вовсе не уменьшилась от явной незаинтересованности Люси в той самой картине. В самом деле, Люси, коя воспользовалась предлогом постоянных толчков от толпы, выскользнула из руки Пьера и поэтому шаг за шагом прошла далеко вперед по картинному холлу; Люси прошла мимо странной картины, не бросив на нее даже беглого взгляда, и теперь бродила вокруг в ровно противоположном конце холла, где в это самое мгновение она замерла неподвижно перед вполне приличной репродукцией (второй из двух единственных хороших картин из всего собрания) той прекраснейшей, в высшей степени трогательной, но одной из самых страшных женских головок – «Ченчи»[212] кисти Гвидо. Дивность этой головы, возможно, заключается главным образом в разительном, предполагаемом контрасте, наполовину схожем и наполовину подобном тому, почти сверхъестественному виду, который порой имеют девушки южных народов, а именно: кроткие и светлые голубые глаза в соединении с удивительно белым цветом лица, дополненные иссиня-черными волосами. Но при голубых глазах и белой коже волосы Ченчи золотого цвета – значит, с точки зрения натуры все находится в прямой, естественной гармонии, которая, как бы там ни было, даже больше подчеркивает предполагаемую причудливую непоследовательность – как столь прекрасное создание с золотыми кудрями ангела было, так сказать, окутано двойным черным крепом двух самых ужасных преступлений (в одном она была участницей, в другом – сообщницей), какие возможны в цивилизованном обществе: инцесте и отцеубийстве.
И теперь эта «Ченчи» и «Незнакомец» были помещены на некоторой высоте, на одном из верхних креплений; и с противоположных стен они смотрели точно в лицо друг другу, так что казалось, что они втайне ведут немой разговор поверх голов живых зрителей, что прогуливались внизу.
Как выглядит «Ченчи», известно каждому. «Незнакомец» представлял темноволосого, привлекательного молодого мужчину, голова которого зловеще выступала на мрачном, темном фоне и который двусмысленно улыбался. Невозможно было различить никакого занавеса; темная голова с волнистыми, курчавыми, темными волосами, казалось, просто выплывала из портьер и теней. Но Изабелл явственно различала в глазах и челе на портрете туманные черты безошибочного сходства с собою, в то время как для Пьера это лицо было в каком-то смысле воскресением из пепла той копии, которую он сжег на постоялом дворе. Это не было сходство отдельных черт, но проницательный взгляд, тонкая внутренняя гармония целого были почти те же; и при этом, несмотря ни на что, здесь присутствовало недвусмысленное веяние чужих стран, дыхание Европы, и в чертах портрета и в самой манере письма.
– Это?.. Это?.. Как такое может быть? – повторяла Изабелл напряженным шепотом.
Изабелл ровным счетом ничего не знала о той картине, коя была уничтожена Пьером. Но она тут же вспомнила похожего человека, который – под именем ее отца – навещал ее в радушном доме, в который ее перевезли в детстве из большого и безымянного замка, вместе с милой женщиной, в карете. Вне всяких сомнений, несмотря на то что в действительности она не могла быть твердо уверена в своем собственном рассудке, который окутывал мрак тайны, она могла каким-то образом лелеять туманные мечты о том, что этот человек всю свою жизнь имел тот же вид для других, какой он имел для нее, в течение столь краткого периода его возможного существования. Зная его исключительно – или грезя о нем, как это вполне могло быть, – в этом единственном его облике, она не могла вообразить его ни в каком другом. Эти ли, другие соображения о грезах Изабелл занимали Пьера в тот миг, сказать было сложно. В любом случае, он ничего ей не сказал, не обманул ее, но и не отрыл ей глаза, не просветил ее, но и не ввел в заблуждение. Несомненно, он был слишком погружен в свои, весьма глубокие переживания, в которых надо было разобраться, чтобы копаться еще и в похожих эмоциях Изабелл. Иными словами, здесь, на этой самой пяди земли, случилось небывалое: хоть они оба и были сильно взволнованы видом одного и того же полотна, но их мысли и воспоминания разминулись и потекли в совершенно разных направлениях, тогда как каждый из них в это время, как бы то ни было неразумно, мог смутно воображать, что ум другого занят теми же, единственными размышлениями. Пьер думал о портрете в кресле; Изабелл – о живом лице. И пылкий ропот Изабелл, вызванный воспоминаниями об этом живом лице, немедленно нашел свой отклик в душе Пьера, пробудив своим звучанием память о портрете в кресле. В любом случае, весь ход событий был столь непредсказуемым и таинственным, что впоследствии никто и, возможно, никогда не раскрыл этого противоречия, поскольку вихрь последующих событий нес их столь быстро и стремительно, что у них не было времени на какие-то неторопливые грезы о прошлом, которые, возможно, необходимы для такого открытия.
– Это?.. Это?.. Как такое может быть? – напряженно шептала Изабелл.
– Нет, этого не может быть; все не так, – отвечал Пьер. – Всего лишь одно из удивительных совпадений, не больше.
– Ох, оставь, Пьер, мы бы напрасно пытались объяснить необъяснимое. Скажи мне: это правда! Это и вправду так! Это чудо!
– Мы сейчас же уходим и будем хранить об этом вечное молчание, – сказал Пьер торопливо; и, отыскав Люси, они спешно покинули выставку; как и прежде, Пьер, явно не был склонен вступать в разговор с кем-то, кого он знал или кто мог знать его спутниц, и поэтому он по привычке ускорил шаги, торопясь пройти главные улицы и выйти на простор.
II
Во время их поспешного бегства Пьер молчал, но рой диких мыслей кружился над ним и жалил его сердце. Самые неукротимые, зверские и беспощадные чувства кипели в нем, стоило лишь подумать об Изабелл, но – хотя тогда он едва ли мог сознательно отдавать себе в том отчет – эти мысли не были ему совсем неприятны.
Как он мог быть уверен в том, что Изабелл – его сестра? Если оставить в стороне туманную историю тетушки Доротеи, которая, имея несколько белых пятен, казалось, вполне совпадала с еще более неясной историей Изабелл, пусть и довольно неопределенно, а соединение сюжетных линий в обеих историях было такой неясной условностью, когда смотришь на них в строгом свете одних голых фактов, которые оставляют решающее слово лишь за признанными потомками; и если оставить в стороне его собственные темные воспоминания, когда он бродил вокруг отцовского смертного одра (ведь и в самом деле, с одной точки зрения, эти воспоминания могли допустить, в некоторой степени, предположение, что его отец мог быть родителем некой, никому не известной дочери, однако же притязания на родство от этой предполагаемой дочери весьма сомнительны; и главный вопрос, который теперь беспокоил Пьера, был не общего свойства, имел ли его отец дочь, но, собирая все кусочки мозаики в одно целое, была ли Изабелл, из всех прочих живых существ, той самой дочерью), если оставить в стороне все его собственные многочисленные убеждения, окутанные покровом тайны, и его веру во сверхъестественное, которая впервые зародилась, как ему теперь представлялось, на почве глубокой страсти к творчеству – страсти, которая больше не была в нем столь многообещающей, как прежде; если оставить все это в стороне и следовать только за прямыми, ясными фактами, как он мог быть уверен, что Изабелл – его сестра? Ни одна черта ее лица не напоминала ему его отца, сколько бы он ни присматривался. Портрет в кресле – вот он был единственная причина и источник для всех возможных, соответствующих, прямых, предполагаемых доказательств, которые упорно взывали к отдельной части его души. Но появился другой портрет совершенного незнакомца – европейца; портрет, который привезли из-за океана, чтобы продать его на публичных торгах, и он был таким же сильным доказательством, как и первый. Значит, человек на этом втором портрете был таким же отцом Изабелл, как и его отец – на первом. И возможно, не было вовсе никакого натурщика, который позировал для этого второго портрета; он мог быть плодом чистого воображения, что подсказывалось отсутствием в портрете каких-то индивидуальных черт, которые не давали ни единой зацепки.
Вот какие размышления кружили ему голову и бурлили в нем, словно встревоженные волны на берегах самых потайных уголков его души; и теплое пожатие ручек этих девушек – Изабелл и Люси, кои шли с ним по обе стороны, – будило в Пьере такие чувства, что едва ли можно было сыскать слова для их описания.
В последнее время более живо, чем когда-либо, вся история Изабелл казалась Пьеру сплошной загадкой, тайной, неправдоподобным бредом, особенно с тех пор, как он с головой ушел в придуманные им тайны своей книги. Однако тот, кто на деле глубоко сведущ в мистицизме и тайнах, тот, кто сам профессионально занимается мистицизмом и тайнами, – нередко такой человек чаще, чем кто-либо другой, склонен смотреть на тайны в других как на крайне обманчивые фокусы и также, как это уместно, быть больше материалистом во всех своих собственных, сугубо личных взглядах (как в реальной жизни обстояли дела со жрецами элевсинских мистерий[213]), в большей степени и чаще, чем любой другой человек, он был склонен, в самой глубине души, непримиримо скептически относиться ко всем новым утопическим гипотезам любого сорта. Это только немистики или те, кто наполовину верит в мистику, по сути, легковерны. Одним словом, Пьер стал явным исключением из правила, которое гласит, что человек, обретя настоящую мудрость, приобретает также скептический взгляд на все тайны мироздания, тогда как противоположное можно встретить на каждом углу.
Удивительную историю Изабелл могли каким-то образом, посредством неких коварных уловок и по какой-то неведомой причине, выдумать нарочно для нее и обманом внушить ей в детстве, когда она была еще совсем маленькой и впечатлительной; и эта история теперь – как легкая отметина на молодом деревце – свободно росла вместе с ней до тех пор, пока не превратилась в огромное чудо, которое всем бросается в глаза. От первого же вопроса на какую-то подлинную, практическую и рациональную тему история трещала по швам и казалась не менее фантастической, чем, к примеру, ее предполагаемое путешествие по морю, ведь когда Пьер говорил с ней позже, то выяснилось: она не знает даже того, что море соленое.
III
Когда его сбивчивые размышления были в самом разгаре, все трое вышли на пристань; и, выбрав самое заманчивое прогулочное судно из нескольких судов – трех или четырех паромов, которые стояли у причала, – которое собиралось отплыть в получасовую прогулку по водным просторам, дабы насладиться красотами этой знаменитой бухты, они вскоре взошли на борт, и судно быстро заскользило по водной глади.
Они стояли, облокотившись на перила, в то время как проворная яхта стрелой пролетела сквозь лес высоких сосновых мачт множества кораблей, затем – непроглядный подлесок и тростниковые заросли карликовых мачт яликов и шлюпов. Вскоре каменные шпили земли слились с деревянными мачтами на воде; развилина рек-близнецов почти скрыла от глаз великий клинообразный город. Они миновали два маленьких островка, находящихся в отдалении от берега, они полностью оставили позади величественные здания из песчаника и мрамора и достигли великого, грандиозного водного пространства открытой всем ветрам бухты.
Легкий бриз начал чувствоваться в душном городе в тот день, но свежий бриз вольной природы только теперь обдавал их своим дыханием. Волны стали более большими и бурными; и как только они прошли то место, где около высокого выступа крепости широкая бухта разливалась бескрайним Атлантическим океаном, Изабелл судорожно схватила Пьера за руку и заговорила с надрывом:
– Я чувствую! Я чувствую! Это!.. Это!..
– Что ты чувствуешь?.. Что – «это»?
– Движение! Движение!
– Разве ты не понимаешь, Пьер? – сказала Люси, рассматривая с тревогой и удивлением его бледное лицо с широко распахнутыми глазами. – Это волны, это движение волн имеет в виду Изабелл. Смотри, как они бурлят, налетают прямиком с океана.
Пьер вновь впал в прежнее отстраненное молчание и задумчивость.
Было невозможно совсем отрицать силу этого изумительного подтверждения таким фактом – самым изумительным и немыслимым во всей изумительной и немыслимой истории Изабелл. Он прекрасно помнил ее смутное воспоминание о морской качке, которая разительно отличалась от незыблемых полов в неведомом, заброшенном старом доме среди гор, которые по описанию походили на французские.
Пока он был погружен в эти взаимоисключающие мысли о портрете незнакомца и последних словах Изабелл, яхта прибыла к месту назначения – к маленькому селению на побережье, которое находилось не так далеко от большого канала, голубые воды которого неслись в океан, что теперь был более ясно виден, чем прежде.
– Давайте не будем останавливаться здесь, – закричала Изабелл. – Давайте отплывем вдаль! Белл должна отплыть вдаль! Смотрите! Смотрите! Туда, в голубую даль! Туда! Туда! Уплыть вдаль – далеко, далеко!.. Уплыть, уплыть дальше, и дальше, и дальше… прочь отсюда! Туда, где небо и море сливаются и между ними не остается ничего… Белл должна отплыть!
– Боже мой, Изабелл, – пробормотала Люси, – это значит доплыть до далекой Англии или Франции; ты найдешь только новых друзей в далекой Франции, Изабелл.
– Друзей в далекой Франции? А какие у меня друзья здесь?.. Ты мне разве друг? В самых потайных уголках своего сердца неужели ты желаешь мне добра? Что до тебя, Пьер, я тяжкий камень на твоей шее, отнимающий всякое счастье, нет? Да, я отплыву туда… прочь отсюда! Поплыву, поплыву! Пустите меня! Дайте мне броситься в воду!
Люси потерялась на мгновение и непонимающе переводила взгляд с одной на другого. Но они с Пьером вдвоем автоматически вновь удержали руки Изабелл, которая была в неистовстве, когда они вновь отошли от дальних поручней яхты. Они оттащили ее назад, они отвлекли ее разговором, они успокоили ее; но, хотя и не такая яростная, Изабелл по-прежнему с глубоким подозрением смотрела на Люси и с глубокой укоризной – на Пьера.
Они не покинули яхты, как и планировалось; и все трое были просто счастливы, когда их судно отчалило и развернулось, чтобы поплыть обратно.
Сойдя на берег, Пьер еще больше торопил своих спутниц, прокладывая путь через неизбежную толпу главных улиц, и перешел на спокойный шаг, только когда они добрались до более уединенных улочек.
IV
Когда они вернулись в Апостолы и его спутницы разошлись по своим комнатам в поисках уединения, Пьер какое-то время провел, сидя в напряженном молчании у горящей печи в гостиной, и только уже собрался открыть дверь в свой кабинет из коридора, как Дэлли, которая неожиданно последовала за ним, сказала ему, что она забыла упомянуть об этом раньше, но он найдет два письма в своей комнате, которые были порознь оставлены у двери, пока они все отсутствовали.
Пьер прошел в свой кабинет и тихонько заперся на засов – которым, из-за отсутствия чего-то получше, служил старый затупившийся кинжал, – все еще не сняв свое кепи, медленно прошагал к столу и взял письма. Они лежали запечатанными сторонами вверх; так что Пьер взял в каждую руку по письму и держал оба на вытянутых руках поодаль от себя.
– Я еще не видел почерка, еще не убедился своими собственными глазами, что они предназначены для меня, и все же, держа их в руках, я чувствую, что сейчас сжимаю последние кинжалы, которые должны поразить меня; и, поразив меня, они вместо этого сотворят также из меня самый быстрый разящий клинок. Какое открыть первым?.. Это!
Он разорвал конверт, который держал в левой руке.
«СЭР,
Вы мошенник. Прикрываясь обещанием написать для нас популярный роман, вы получили от нас аванс наличными, а взамен прислали нам для печати высокопарную и богохульную болтовню, надерганную из сочинений гнусных атеистов, Лукиана[214]и Вольтера. Наша великая спешка с публикацией не дала нам ни малейшей возможности раньше выслушать наших корректоров, которые вычитывали вашу рукопись. Не присылайте нам продолжения. Наш договор на издание вашей рукописи вместе с копией чека, подтверждающего выплату аванса наличными, то есть все то, что вы получили от нас путем обмана, теперь находится в руках нашего адвоката, который получил указания поступать по всей строгости закона.
(подписи) СТИЛ, ФЛИНТ & АСБЕСТОС».Он смял письмо в левой руке, бросил его под свой левый каблук и растоптал, а после открыл письмо в правой руке.
«Ты, Пьер Глендиннинг, ты – чудовищный и клятвопреступный лжец. Единственная цель этого письма – выстрелом в упор сразить тебя наповал, чтобы тебя пробрало до самых печенок, чтобы впредь эти слова пульсировали в твоей крови и распространились по всему твоему телу. Мы ненадолго вышли из игры, чтобы усилить и укрепить нашу ненависть. Поодиночке и вместе мы выжжем тебе на каждом легком печать лжеца – лжеца, потому что это самое презренное и отвратительное клеймо для мужчины, которое и без слов поведает вкратце о всех твоих позорных деяниях.
ГЛЕНДИННИНГ СТЭНЛИ, ФРЕДЕРИК ТАРТАН».Он смял письмо в правой руке и бросил его под свой правый каблук, затем, скрестив руки, стал на оба письма.
– Это – ничтожные события, но оттого, что они стряслись со мной именно сейчас, стали символами всех грозных несчастий. И теперь у меня под ногами земля горит! По этим угольям мне лететь к моему освобождению! Нет больше таких обязательств, которые бы держали меня. Земной хлеб жизни и земное дыхание чести – и то и другое украдено у меня, но я и сам отвергаю весь земной хлеб и честь. И вот я вышагиваю перед целыми королевствами, которые построились в боевом порядке в широчайшем пространстве, и вызываю их на битву все без исключения! О, Глен! О, Фред! С каким чувством самой пылкой братской любви я бросаюсь в ваши объятия, которые обещают сокрушить мне ребра! О, как я люблю вас обоих за то, что вы еще способны так живо ненавидеть в мире, где другие могут мне предложить лишь вялое презрение!.. Ну-ка, где эта мошенническая, эта выдуманная книга? Здесь, на этом гнусном рабочем столе, с коего мошенническая книга намеревалась шагнуть в мир, здесь я быстро прибью ее гвоздями за разоблаченное преступление! И затем, наскоро пригвоздив ее, я плюну на нее и с этого начну худшие надругательства мудрого мира над ней! Теперь я выйду из дому, чтобы встретить свою судьбу, которая поджидает меня, разгуливая по улице.
Как был, в своем кепи и с письмом Глена и Фредерика, кое он невидимо сжимал в кулаке, он, словно сомнамбула, прошел через комнату Изабелл; она длинно завизжала высоким голосом при виде его смертельно-белого и осунувшегося лица и после, не имея сил кинуться к нему, в оцепенении рухнула на свой стул, будто ее набальзамировали и покрыли слоем ледяного лака.
Пьер не обратил на нее внимания, но просто-напросто прошел напрямую две смежные комнаты и без стука, необдуманно, вошел в комнату Люси. Он миновал бы и эту не глядя, чтобы добраться до коридора, не сказав ни слова, но что-то остановило его.
Мраморно-белая девушка сидела перед своим мольбертом; маленькая коробка с заточенными угольными карандашами и несколькими кистями была подле нее; ее чародейская палочка художницы вытянулась в сторону рамы; сжимая угольный карандаш двумя пальцами, держа в той же руке корочку хлеба, она легкими движениями щеточки чистила эскиз портрета, чтобы удалить некоторые опрометчивые линии. Пол комнаты был усыпан хлебными крошками и угольной пылью; он заглянул за мольберт и увидел свой собственный портрет в форме наброска.
Сперва мельком взглянув на него, Люси ни двинулась, ни шелохнулась, но, словно ее собственная чародейская палочка приворожила ее, сидела, как в забытьи.
– Холодные угли угасшего огня покоятся перед тобой, бледная краса, мертвым углем ты пытаешься разжечь огонь давным-давно потухшей любви! Не трать этот хлеб, ешь его – в горечи!..
Пьер повернулся и вышел в коридор и затем, остановившись ненадолго, простер руки ко двум внешним дверям, что вели в комнаты Изабелл и Люси:
– За вас двоих возношу сейчас самые искренние молитвы, чтобы там, где вы, невидимые мне, оцепенели на своих стульях, чтобы вы могли никогда не очнуться к жизни – орудие Истины, орудие Добродетели, орудие Судьбы ныне покидает вас навсегда!
Когда он быстро шел по длинному, продуваемому ветром проходу, кто-то с верхних этажей нетерпеливо окликнул его:
– Куда, куда, приятель? Куда в такой опасной спешке? Привет! Ну и ну!
Но Пьер, не обратив на него ни малейшего внимания, прошел мимо. Миллторп с тревогой и беспокойством посмотрел ему вслед и дернулся было бежать за ним, но передумал.
– У этого Глендиннинга всегда была буйная кровь; и теперь вены на его кулаках так вздулись, словно ему руки перетянули жгутом. Следовать за ним по пятам я не смею, но все же, чует мое сердце, что надо… Стоит ли мне подыматься в его комнаты и спрашивать, какое черное несчастье обрушилось на его голову?.. Нет, пока нет, я могу показаться навязчивым, скажут, что меня послали. Я подожду – что-то вот-вот может произойти. Выйду-ка я на улицу перед Апостолами и немного прогуляюсь; и затем увидим.
V
Пьер прошел в дальнюю часть здания и резко ворвался в комнату одного из Апостолов, которого он знал. Комната была пуста. Он помедлил мгновение, затем направился к книжному шкафу, который представлял собой комод в нижней части.
– Я видел, как он клал их сюда… вот… нет… здесь… нет… посмотрим-ка еще вот здесь.
Он рванул на себя и открыл запертый ящик, и пара пистолетов, полная пороховница, мешочек с пулями и круглая зеленая коробочка с пистонами открылась его глазам.
– Ха! Какие чудесные орудия использовал Прометей, кто знает? Но эти более удивительны тем, что в одну секунду могут уничтожить самые важные из успешных деяний Прометея за последние без малого тринадцать лет. Взгляните-ка: вот две трубы, что будут играть громче, чем тысяча труб Гарлема… В них есть музыка?.. Нет?.. Итак, вот порох для пронзительного сопрано, и материал для тенора, и руководящая пуля для баса, который всему подводит итог! И… и… и… да… в качестве наилучшей подкладки я отошлю им назад их же ложь и засажу огненные пули каждому из обоих прямиком в мозг!
Пьер оторвал ту часть письма Глена и Фреда, в которой громче всего звучала их ложь, и, разделив бумагу на две части, сделал из нее два пыжа[215] для пуль.
Сунув пистолеты себе за пазуху, он вышел на улицу через заднюю дверь и направил свои быстрые шаги в сторону большой центральной улицы города.
Это был холодный, но ясный, тихий и безотрадно-солнечный день; было около четырех или пяти часов после полудня – тот час, когда эта большая, яркая улица была больше всего запружена экипажами, которые катили со всей надменностью, и повсюду гордо шелестело платье прогуливающихся особ, как мужчин, так и женщин. Но эти последние избрали себе один широкий тротуар, ведущий на запад, и в основном прогуливались там; второй тротуар был почти безлюден, оставлен ими для носильщиков, слуг и рассыльных из магазинов. На западном же тротуаре, растянувшись на долгие три мили, тянулось в обе стороны два потока блестящей, закутанной в шали или тонкое шелковистое сукно публики, которая непрерывно скользила, огибая друг друга, как две длинные, великолепные, усталые вереницы соперничающих павлинов.
Не присоединившись ни к одному из потоков, Пьер гордо пошел посередине между ними. Видя, как его лицо искажает дикая и роковая гримаса, одни люди бросались в стороны, к стенам, другие жались к краю тротуара. Нетрудно догадаться, что Пьер рассеял всю эту толпу, пусть и в сокровенных глубинах своего сердца. Он двигался решительно, с открытой, математической точностью. Он нашел, что его зрение совершенно прояснилось во время этой ходьбы, особенно когда он бросал взгляды на противоположную, пустующую сторону улицы; эта пустота не обманывала его, он и сам частенько гулял по той стороне, чтобы как следует пробежать глазами густой людской поток на другой стороне.
Как только он достиг широкой, открытой, треугольной площади, окруженной самыми величественными общественными сооружениями – самыми величавыми в городе, – он увидел Глена и Фреда, которые, заметив его издалека, выступили вперед на другой стороне улицы. Он продолжал идти вперед и вскоре увидел, как они переходят на его сторону улицы окольным путем, как будто намереваясь столкнуться с ним лицом к лицу. Он продолжал идти вперед, когда Фред неожиданно его обогнал, забежав вперед, и там озлобленно стал, преграждая путь (поскольку Фред не мог действовать в одиночку в прямом, личном нападении на одного) и крича: «Лжец! Негодяй!», Глен прыгнул на Пьера спереди и одновременно, с молниеносной жестокостью, со всей силы хлестнул Пьера по лицу плетью из воловьей кожи, оставив частью синевато-багровый, частью кровавый след.
В то же мгновение люди со всех сторон отхлынули от них и оставили их, на время отпрянувших друг от друга, в кольце паники.
Но, быстро сунув руки за пазуху, Пьер, вырвавшись из слабой хватки двух энергичных девушек, выхватил оба пистолета и прыгнул головой вперед к Глену:
– За один твой удар прими в ответ сразу две смерти! Как невыразимо приятно будет убить тебя!
Брызги его родственной крови окрасили тротуар; его собственная рука уничтожила его семью в резне с единственным неизгнанным человеком, носящим имя Глендиннинг, – и Пьер был схвачен сотней вражеских рук.
VI
В тот вечер Пьер одиноко стоял в низком склепе городской тюрьмы. Тяжелый каменный потолок почти касался его лба, так что длинные ряды массивных тюремных камер сверху, казалось, отчасти давили ему на голову. Его бессмертный, непоколебимый, побелевший лик было сух, но каменные лица стен сочились влагой. Тюремные сумерки с узкого двора заползали в камеру через стрельчатые просветы в окне, забранном решеткой, ложились тусклыми полосами на гранитный пол.
– Вот каков, значит, безвременный, своевременный конец – последняя глава жизненного тома, славно скрепленного в середине! Ни книга, ни сам автор книги уже не получат второго шанса на жизнь, но и у того и у другого найдется последнее слово!.. Это по-прежнему двусмысленно. Будь я сейчас малодушен, сам не свой и снизошел до равнодушной женитьбы на девушке в Седельных Лугах, то тогда я бы прожил долгую счастливую жизнь на земле и мог вкушать вечное блаженство на небесах! Но теперь оба эти слова сулят мне один лишь ад. Ну что же, пусть будет ад. Я слеплю трубу из языков пламени и со своим огненным дыханием выдохну в нее свое ответное презрение! Но дайте мне сперва другое тело! Я жажду, жажду смерти, чтобы сбросить с себя этот опозоренный облик. Ты предан смертной казни через повешение… Ну нет, мне еще удастся обставить всех вас!.. О, теперь жизнь для меня означает смерть, и смерть теперь – моя жизнь, ныне для моей души смерть стала повивальной бабой!.. Чу!.. Палач?.. Кто идет?
– Твоя жена и кузина – так они сказывали… надеюсь, это взаправду они… они могут остаться тут до двенадцати, – сипло ответил тюремщик, вталкивая в камеру дрожащих девушек и запирая за ними дверь.
– Вы, два бледных призрака, тут иной мир, и вам здесь не рады. Ступайте прочь!.. Светлый ангел и темный ангел, обе!.. Ибо Пьер не принадлежит больше ни одной из вас!
– О вы, каменные своды и семь каменных небес!.. Не ты убийца, но это твоя сестра убила тебя, брат мой, о, брат мой!
Еще не смолкло эхо этого скорбного вопля Изабелл, как Люси вся сжалась в комочек и без звука рухнула к ногам Пьера.
Он проверил ее пульс.
– Мертва!.. Малышка! Жена или сестра, святая или дьявол! – крикнул он, хватая Изабелл в объятия. – В твоих грудях не найдется питательного молока, дающего младенцам жизнь и силы, а вот смертоносный нектар – для тебя и меня!.. Снадобье! – И, разорвав лиф ее платья, он выхватил из ее корсета таинственный пузырек, который был там спрятан.
VII
Ночной порой приземистый, дышащий с хрипами тюремщик шел тяжелой поступью по скверно освещенному черному коридору и помедлил у одной камеры из этого бесконечного, как пчелиные соты, ряда.
– Здоровяк по-прежнему там, в этой дыре, и с ним две мышки, которых я пустил к нему… кхгм!
Откуда ни возьмись, в дальнем конце коридора он разглядел туманную фигуру, которая появилась там из сводчатого прохода и бежала к нему вместе с констеблем, стремительно приближаясь к тому месту, где стоял тюремщик.
– Еще родственнички пожаловали. Эти разбитные парни всегда на стреме, поджидая свою вторую смерть, видя, что упустили первую… Кхгм! Почему парень в такой спешке? Отсапывается хуже, чем я!
– Где она? – закричал на него Фред Тартан в ярости. – Ей нечего делать в камерах убийц! Я искал здесь красавицу сразу после нападения, но замкнутый и бессловесный верзила, которого я нашел здесь, лишь выкрутил ей нежные руки и указал на дверь – и обе птички упорхнули! Где она, тюремщик? Я обрыскал здесь все вдоль и поперек, кроме этого этажа. Сюда, в твой гранитный ад, залетал какой-нибудь ангел, очищая и освещая все вокруг?
– Тоже страдает одышкой; сорвался с цепи, что ль? – просипел тюремщик констеблю, который подошел к нему.
– Этот джентльмен ищет юную леди, свою сестру, каким-то образом завязавшую невинное знакомство с заключенным, которого сюда привели последним. Приходили сюда какие-то женщины, чтобы его увидеть?
– О, да, две женщины находятся у него и теперь. – Тюремщик указал своим коротким пальцем позади себя.
Фред бросился к указанной камере.
– О, полегче, полегче, юный джентльмен. – Тюремщик забренчал, поигрывая огромной связкой ключей. – Спокойнее, спокойнее, дождитесь, пока я подберу нужные, тут я хозяйничаю… Взгляните-ка, к нам еще кто-то пожаловал.
В том же сводчатом проходе к ним бежала вторая туманная фигура вместе со вторым констеблем, обгоняя его.
– Где его камера? – крикнул Миллторп.
– Он хочет поговорить с тем заключенным, которого привели последним, – объяснил второй офицер.
– Запустим-ка их туда обоих разом, – прохрипел тюремщик, широко распахнув дверь камеры, которая отворилась со скрежетом. – Вот его прелестная гостиная, джентльмены, пожалуйте сюда. В эту дыру мыши захаживают бесконечно, не правда ли?.. Можно услышать, как на другом конце света кролик роет себе нору… они что там, уснули все?
– Я споткнулся! – закричал Фред изнутри. – Люси! Дайте огня! Огня!.. Люси! – И он, дико мечась на ощупь по камере, поймал в темноте Миллторпа, который также занимался слепыми поисками с ожесточением.
– Не трогай меня! Убери прочь свои чертовы руки!.. Эй, эй, принесите огня!.. Люси! Люси!.. Она в обмороке!
Затем оба вновь столкнулись в камере и отскочили друг от друга, на миг оба замерли в неподвижности, словно у них захватило дыхание.
Когда принесли свет, Фреда увидели на полу, сжимающего сестру в объятиях. И Миллторп стоял на коленях рядом с Пьером, стиснув в своей руке безжизненную руку друга, в то время как Изабелл, сотрясаемая слабой дрожью, полулежала, прислонившись к стене, между ними.
– Да! Да!.. Мертва! Мертва! Мертва!.. Без единой видимой раны… ее прекрасные волосы, видно, скрывают это… Ты, дьявольское отродье, это дело твоих проклятых рук! Твои грязные фокусы убили наповал эту небесную чистоту! О, мой Боже, мой Боже! Ты пытаешься обмануть меня этим безжизненным видом!
– Буйная кровь вскипела и дала себе волю, и перед нами лишь его бренные останки – все, что выбросила на берег буря! Ах, Пьер! Мой старый друг, Пьер… школьный товарищ… друг детства… друг!.. Наши прекрасные и невозвратные прогулки по лесам в юности!.. Ох, я бы трунил над тобой и шутливо отговаривал тебя от твоих выходок, когда они были слишком мрачными, но ты бы никогда не послушал! Какая презрительная невинность осталась в твоей усмешке, мой друг!.. Рука обожжена порохом убийцы, но при этом такая нежная, как у женщины!.. Клянусь небом, эти пальцы шелохнулись!.. Одно немое пожатие!.. Все кончено!
– Все кончено, и ты его не знаешь! – донесся задушенный крик от стены, и из пальцев Изабелл выпал пустой пузырек – словно то были опустелые песочные часы, – и она забилась в судорогах на полу, всем телом стала клониться на бок и упала на грудь Пьеру, и ее длинные волосы водопадом хлынули на него и скрыли, словно беседку, увитую эбеновыми лозами.
КОНЕЦ
Сноски
1
Грейлок (англ. Mount Greylock) – самая высокая точка штата Массачусетс, гора в округе Беркшир на западе штата. Высота – 1064 м над уровнем моря. – Здесь и далее примечания переводчика.
(обратно)2
Имеется в виду округ Беркшир в штате Массачусетс; обыгрывается полное совпадение в названии с графством Беркшир в Англии, где расположен Виндзорский замок, который на протяжении веков был резиденцией британских монархов.
(обратно)3
Багрянородный (лат. Porphyrogenitus) – титул, который носили дети византийского императора, как юноши, так и девушки, – те дети императора, которые родились после его восшествия на престол.
(обратно)4
Война за независимость (амер. Revolutionary War, American War of Independence; 1775–1783) – война американских поселенцев с британцами за выход из состава Британской империи.
(обратно)5
На американском Юге, который Мелвилл избрал местом действия, именно хозяева поместья в отсутствие священника брали на себя его роль и обладали правом крестить, женить, хоронить своих черных рабов.
(обратно)6
Ричмонд, герцог Ричмонд (англ. Duke of Richmond) – герцогский титул, который был создан в 1525 г. для Генри Фицроя, внебрачного сына английского короля Генриха VIII и Элизабет Блаунт. Род герцогов Ричмондских несколько раз пресекался, и каждый раз короли жаловали этот титул своим незаконным сыновьям. Мелвилл имеет в виду Чарлза Леннокса, незаконного сына короля Карла II и Луизы де Керуаль, который получил от отца свой титул герцога Ричмонда в 1675 г.
(обратно)7
Мелвилл упоминает другого незаконного сына короля Карла II, Чарлза Боклера, которому король пожаловал титул герцога Сент-Олбанса.
(обратно)8
Графтон (англ. Duke of Grafton) – еще один титул, созданный английским монархом Карлом II для своих внебрачных сыновей.
(обратно)9
Граф Портленд (англ. Earl of Portland) – наследственный титул, переживший две креации – в первый раз был создан в 1633 г. и затем возрожден в 1689. В 1716 г. граф Портленд стал герцогом Портлендом.
(обратно)10
Карл II Стюарт (англ. Charles II, 1630–1685) – английский король из династии Стюартов, сын Карла I, казненного во времена Славной революции 1688 г., и Генриетты Французской. Взошел на престол после смерти Кромвеля и реставрации монархии в Англии. Историки спорят, оценивая его правление; одни ставят ему в заслугу, что во времена его правления власть короля была отделена от власти парламента и возникли политические партии тори и вигов; другие упрекают в слабости и реакционности, как правителя.
(обратно)11
Георг III (англ. George III, 1738–1820) – британский монарх из Ганноверской династии, царствование которого длилось почти шестьдесят лет. Времена его правления были богаты на события: Великобритания и Ирландия стали Объединенным Королевством, в ходе американской Войны за независимость на политической карте появились США, прогремели Великая французская революция, Наполеоновские войны. Под конец жизни Георга III поразил тяжелый психический недуг, и вместо него страной управлял регент.
(обратно)12
Бриджуотерский канал – канал в Великобритании, построенный в 1762–1772 гг. между Манчестером и портом Ранкорн, длина которого составляет 68 км; положил начало каналомании в Соединенном Королевстве.
(обратно)13
Нелл Гвинн (англ. Nell Gwynn 1650–1687) – Элеонор Гвин (или Гвинн), прозванная Нелл, фаворитка короля Карла II, проститутка низкого происхождения, которую народная молва справедливо окрестила Золушкой, что попала «из грязи в князи», была торговкой апельсинами в театре, завела дружбу с актерами, и они научили ее азам актерской игры и танца, дебютировала в пьесе Драйдена «Индейский император». Стала содержанкой придворного, Чарлза Сэквилла, что положило начало ее восхождению при дворе. Герцог Бэкингем представил ее королю, и вскоре она стала одной из фавориток и родила королю сына Чарлза, которому был пожалован титул герцога Сент-Олбанса.
(обратно)14
В оригинале – Charles the Blade; рискну предположить, что Мелвилл имеет в виду Карла I Стюарта.
(обратно)15
Яков I (англ. king James 1566–1625) – первый английский монарх из династии Стюартов.
(обратно)16
Серпентайн (англ. Serpentine) – небольшое (12 га) искусственное озеро, которое делит Гайд-парк на две части; имеет извилистую форму.
(обратно)17
Бен-Невис (гаэльск. Ben Nevis, англ. Beinn Nibheis) – гора в Шотландии в районе Хайленд. Составляет часть хребта Грампианских гор. Считается самой высокой точкой Британских островов. Высота – 1344 м.
(обратно)18
Сноудон (англ. Snowdon, валл. Yr Wyddfa) – самая высокая гора в Уэльсе, самая высокая гора в Великобритании. Высота – 1085 м.
(обратно)19
Мелвилл имеет в виду Войну за независимость.
(обратно)20
Гемпден, Джон (англ. Hampden 1595–1643) – английский национальный герой и патриот. Стоял у истоков Английской революции XVII века (Английской гражданской войны), оппозиционный политик, входил в число тех членов парламента, которые резко выступали против Карла I. Умер от ран в битве с королевскими солдатами на Чалгроув Филд – похоже, Мелвилл проводит насмешливую аналогию с дедом Пьера, генералом Глендиннингом, который погиб в похожей схватке, и намекает на разницу в положении: неродовитый Гемпден известен всему миру, его имя звучит на уроках истории, а родовитый Глендиннинг известен лишь небольшой кучке людей в сельской усадьбе, затерянной на просторах Америки.
(обратно)21
День независимости – национальный праздник в США.
(обратно)22
Никто против Бога – только сам Бог (лат.).
(обратно)23
Джаггернаут (англ. Juggernaut; Джаганнатха, санскр. Jagannatha, «Владыка Вселенной») – индийское божество, которому поклоняются вместе с его братом Баларамой и сестрой Субхадрой; почитатели поклоняются им в виде массивных деревянных истуканов, которые в дни празднества Ратха-ятра выносят из храма и устанавливают на гигантских разукрашенных колесницах, что влекут по городу. Раньше верующие бросались под колеса этих колесниц, поскольку верили, что погибшие таким образом возрождались в духовном мире. На первых европейцев, что увидели праздник Ратха-ятра, колесница Джаганнатхи произвела мрачное впечатление, и Джаггернаутовой колесницей стали называть действие любой слепой силы, которая давит все живое на своем пути.
(обратно)24
Салический закон (у Мелвилла Salique Law, лат. Lex Salica) – древнейший закон, принятый в VI в., в царствование Хлодвига I, гласил, что родовые владения могут наследовать лишь отпрыски мужского пола, что распространялось также и на престолонаследие в империи франков. В русских источниках называется также Салической Правдой.
(обратно)25
Платоновы тела – правильные многогранники, какими Платон видел атомы.
(обратно)26
Опс – в греческой мифологии – Рея, жена Кроноса; богиня, отвечающая за браки. Сатурн в Древнем Риме был богом времени (каким у греков был Кронос).
(обратно)27
Непереводимая игра слов – match значит одновременно и «спичка», и «найти подходящую пару».
(обратно)28
Анакреон – древнегреческий поэт-лирик; писал гимны, любовные песни.
(обратно)29
Томас Мур (англ. Thomas Moore, 1779–1852) – английский поэт, ирландец по происхождению, сочинял романтические стихи, песни и баллады; поэтический сборник «Ирландские мелодии» – одна из самых известных его книг.
(обратно)30
Баллада «Любовь когда-то начиналась с малого» (англ. «Love was once a little boy») – американская любовная баллада, которую сочинил Дж. Н. Паттисон (J. N. Pattison) 1873 г. в Нью-Йорке.
(обратно)31
Букв. «морской гвардеец».
(обратно)32
Намек на Иисуса Христа и Нагорную проповедь.
(обратно)33
Халдей – первоначально халдеями звались семитские племена, что поселились в землях между Тигром и Евфратом с X по IV в. до н. э. Считалось, что они занимались магией и волхвованием. Много позже слово «халдей» стало нарицательным, и так стали звать любого мага, чародея, звездочета или прорицателя в просторных восточных одеждах.
(обратно)34
Джош (англ. joss) – слово это пришло в английский из португальского, искаженное «deos» – бог; несмотря на то что Мелвилл пишет его с большой буквы, это имя нарицательное и применяется к любому идолу (синоним слова «божок»).
(обратно)35
Бейгорн, Джон (англ. John Burgoyne, 1722–1792) – британский генерал, политик и драматург, которого прозвали «Джентльмен Джонни»; сражался на стороне Британской империи во времена Войны за независимость, где сыграл плачевную роль: ему было поручено командовать армией, что должна была двигаться на юг из Канады, чтобы отвоевать назад Новую Англию и положить конец американскому восстанию. Бейгорн выступил из Канады, но его войско двигалось к Нью-Йорку настолько медленно, что это позволило американцам собрать свои силы. Вместо того чтобы следовать намеченному плану, британская армия в Нью-Йорке двинулась дальше на юг, чтобы захватить Филадельфию. Неподалеку от Саратоги армия Бейгорна была окружена. Он дал еще два небольших сражения и затем, видя, что силы неравные, сдался в плен вместе со своими солдатами. Это событие стало поворотной точкой в войне Британии и американских поселенцев и позволило последним выиграть войну.
(обратно)36
Булинь – «король узлов», концевая петля, которая не затягивается.
(обратно)37
Ханаан, или Земля Обетованная, – Палестина, в которую Господь пообещал привести евреев, под предводительством Моисея, когда те сбежали из Египта (Исход, 3, 8 и 17).
(обратно)38
Черкесия – историческая область на юге России, у Черного моря, место проживания черкесов; столица – г. Сочи.
(обратно)39
Кимвалы – старинный ударный музыкальный инструмент, предшественник современных тарелок.
(обратно)40
Каровое озеро (англ. tarn) – ледниковое озеро высоко в горах, которое занимает дно кара (естественного углубления в горной породе; отсюда и название).
(обратно)41
Корнуолл (англ. Cornwall) – графство на юго-западе Англии, которое до середины XIX века было самым крупным районом добычи олова и меди в мире и славилось своими бездонными шахтами, разработка коих началась еще в бронзовом веке.
(обратно)42
Моравские братья – протестантская секта.
(обратно)43
Лотарио – повеса, волокита, ловелас (по имени литературного персонажа; Лотарио – герой пьесы Николаса Роу (1674–1718) «Прекрасная грешница» («Fair Penitent», 1703).
(обратно)44
Халдейский – т. е., волшебные, загадочный.
(обратно)45
Золотые стихи (англ. Golden Verses) – семьдесят одно стихотворение, написанное дактилическим гекзаметром, авторство коих по традиции приписывается Пифагору. Согласно легенде, Золотые Стихи – та сторона учения Пифагора, которую он счел нужным открыть непосвященным. Первоисточники этих стихов до нас не дошли. Золотые стихи принадлежат к мистической литературе. Они повествуют как об этике и религиозных нормах, так и о бытовых правилах жизни. Это литературный памятник народной философии. Так как появление этих стихов – сплошная тайна и сами они полны загадочности, то Мелвилл, вероятно, потому и упоминает их.
(обратно)46
Адриатика – Адриатическое море, часть Средиземного.
(обратно)47
Город Дневного Солнца (англ. City of the Day) – такой титул некогда принадлежал Вавилону, в то время как город Борсиппу (букв. «Второй Вавилон», расположен был на юго-западе, неподалеку от Вавилона) именовали Городом Ночного Солнца.
(обратно)48
Косвенная цитата из «Антония и Клеопатры» Шекспира: «У нас весна любви, и эти слезы – // Апрельский вешний дождь» (Марк Антоний, пер. Донской, акт III, сцена 2). Ср. также слова Доны Анны в сцене IV «Каменного гостя» Пушкина: «Слезы // С улыбкою мешаю, как апрель».
(обратно)49
Двойница жен. (двойник м.) – человек, который может одновременно появляться в двух местах, в двух лицах – одним словом, призрак. Мелвилл ведет речь о призраке женского пола, называя его «лицо» (в оригинале – face).
(обратно)50
Северный край (англ. Boreal realm) – скорее всего, Мелвилл имеет в виду Шпицберген (англ. Spitsbergen, норвежск. Vestspits bergen) – самый большой остров архипелага Свальбард в северной Норвегии; в XIX в. у этого острова велся активный китобойный промысел.
(обратно)51
Эолова сосна (в оригинале – Eolean pine) – измененный фразеологизм, образованный от фразы «эолова арфа». «Эолова арфа» (воздушная арфа, «арфа духов») – струнный музыкальный инструмент, который играет сам по себе, когда на него дует ветер и двигает струны.
(обратно)52
Джон Флаксман (англ. John Flaxman, 1755–1826) – скульптор, иллюстратор и художник, который жил в Англии; главный представитель неоклассического стиля в английском искусстве. Иллюстрации для таких театральных постановок, как «Илиада» Гомера, принесли ему международную славу.
(обратно)53
То есть Данте.
(обратно)54
Возможно, Мелвилл имеет в виду библейского царя Навуходоносора, который обращался к пророку Даниилу с просьбой растолковать ему сон, обещая взамен неисчислимые сокровища.
(обратно)55
Lapsus-lingua (лат.) – оговорка.
(обратно)56
Точнее, 150 фунтов согласно принятой в Великобритании и США системе мер и весов эвердьюпойс (англ. avoirdupois). Это система мер веса, в которой 1 фунт равен 0,453 592 37 кг, в то время как в метрической системе 1 фунт – 0,500 кг. И 150 фунтов в системе эвердьюпойс (вес Пьера) это 68 кг. Пьеру двадцать лет, и он увлекается гимнастикой, греблей, фехтованием, боксом. Для молодого человека его возраста и занятий это здоровый вес.
(обратно)57
Tableau (фр.) – картина, зрелище, сцена.
(обратно)58
1 амер. пинта для жидкостей равна 0,4732 л.
(обратно)59
1 амер. кварта для жидкостей составляет 0,9463 л.
(обратно)60
Прямая цитата из пьесы Шекспира «Много шума из ничего» (пер. Щепкиной-Куперник): 4-й акт, сцена 1, слова Клавдио, обращенные к Геро: «Казалась»? Постыдись!» (в оригинале – Out on thee, seeming!). Почти то же самое говорит себе Пьер: «Out on thee», то есть буквально: устыдись (здесь: своего малодушия). Надо отметить, что в этом обмене репликами у Шекспира Клавдио возмущается двусмысленным обликом Геро, которая, по его словам, имела облик невинности, а в действительности предавалась разврату.
(обратно)61
Ясные мысли (в оригинале – lucid thoughts) – намек на любовные мысли о Люси (игра слов – Lucy – lucid).
(обратно)62
Чарльз Джордж Гордон (англ. Charles George Gordon, 1833–1885) – британский генерал, которого посмертно провозгласили национальным героем за его подвиги в Китае и Судане (защита Хартума от махдистов – восстание коренных жителей Судана против англичан-колонистов). Был известен исключительной храбростью и верностью своему слову: в частности, Гордон, зная, что Хартум обречен, отказался его покинуть, остался вместе с жителями города, которых не успел эвакуировать, и принял казнь от рук повстанцев. Память генерала Гордона до сих пор чтут в Великобритании; в Лондоне ему установили памятник.
(обратно)63
Ретроспектива – взгляд, обращенный в прошлое.
(обратно)64
Мавзол (лат. Mausolus; 377–335 гг. до н. э.) – персидский сатрап, что правил Карией, царством на полуострове Анатолия (Малая Азия, ныне – турецкая провинция Мугла). Его великолепную гробницу, постройку которой завершила его сестра и супруга Артемизия, провозгласили одним из семи чудес света, а слово «мавзолей» стало нарицательным. Артемизия также устроила состязание риторов, где участники должны были славить покойного царя, и раздала им награды.
(обратно)65
В оригинале – as in a choice fountain; зд.: райский источник. В древности похороны с величайшими почестями означали возведение огромной и роскошной усыпальницы или мавзолея над прахом покойного, а у мавзолея нередко возводили фонтан. Вероятнее всего, Мелвилл ссылается на вот какую традицию. На Востоке фонтаны возводили на кладбищах или святых местах, и этот вид фонтана называли «сельсебиль» (райский источник); по преданию, в мусульманском раю течет райский источник, от которого будут пить только праведные (Коран, 76-я сура, 18-й аят).
(обратно)66
Источник в Дербишире (англ. petrifying well) – удивительный водопад в Мэтлоке, графство Дербишир, Великобритания: его воды, в силу своего особенного состава, в который входят уникальные минералы, может постепенно превратить в камень любой предмет.
(обратно)67
Аримафеева гробница (англ. tomb of Arimathea) – гроб с телом Господним; упоминается во всех четырех Евангелиях (Мф. 27:57; Мк. 15:43; Лк. 23:50; Ин. 19:38) как та самая, где был похоронен Иисус Христос, для чего св. Иосиф Аримафейский, богатый член синедриона, тайный ученик Спасителя, отдал собственную, готовую усыпальницу.
(обратно)68
Эренбрейтштейн (Эренбрайтштейн, нем. Festung Ehrenbreitstein) – крепость на одноименном холме, расположенная на правом берегу Рейна, в Германии. Основана ок. 1000 г. Конрадином Эренбрайтом. Одна из самых больших и мощных крепостей во всем мире. За всю свою историю была сдана лишь однажды – французам в 1799 г., и то после трех лет осады и тогда, когда в крепости уже начался голод. В 1801 г. французы, покидая крепость, взорвали ее. После Венского конгресса 1815 г. отошла Пруссии, была восстановлена, обратясь в самую грозную крепость Европы. В Германии – одно из главных укреплений. Именно здесь хранилась Честная риза Господня с 1657 по 1794 г. Лорд Байрон побывал в Эренбрейтштейне и воспел крепость в стихах, посвятив ей 58-ю главку 3-й песни «Паломничества Чайльд Гарольда». Байрон в примечаниях к «Гарольду» упоминает прозвище крепости: «Твердыня чести» («The Broad-Stone of Honour»). Прозвище это было настолько известно, что под тем же названием в Лондоне в 1822 г. Кенельм Генри Дигби выпустил энциклопедию этикета, адресованную настоящим джентльменам. Любопытно, что если перевести прозвище крепости на французский, то получится «La Pierre d'Honneur». Возможно, Мелвилл косвенно сравнивал Пьера с этой крепостью.
(обратно)69
Три Дивных Божества (Богини) – (в оригинале – Three Weird Ones) – речь идет о греческих богинях судьбы, трех Мойрах, что были старше других богов; согласно легендам, они пряли нити человеческих судеб.
(обратно)70
Черная белена – ядовитое травянистое растение семейства пасленовых с фиолетово-желтыми цветками, листьями, покрытыми беловатыми волосками, и дурманящим запахом.
(обратно)71
Тадмор (библ. Tadmore, араб. Tadmur; греч. и лат. Palmyra – Пальмира, «город пальм») – город, который в древности был необычайно богат, располагается в южной части Центральной Сирии, между Дамаском и Евфратом. Процветал за счет караванного пути, что через него пролегал: город был местом отдыха караванов. Носил прозвище «невеста пустыни», связывая Восток и Запад; стал называться Пальмирой в I в н. э. В числе прочего уникален тем, что именно в его стенах впервые мирным путем прошел синтез восточной и западной культур, и из них была образована своя, смешанная. Д. Робийяр (D. Robillard), исследователь творчества Мелвилла, выдвигает предположение, что Тадмор (Пальмира) выступает метафорой семьи Глендиннингов, внешне благополучной, скрывающей за внешним блеском прошлые грехи, – семьи, которая, как и Пальмира, одновременно и разрушенная, и недостроенная.
(обратно)72
Малаккское кресло (в оригинале – chair of Malacca) – кресло из города Малакка. Малакка (англ. Malacca, Melaka) – штат на одноименном полуострове, который входит в состав Малайзии, и столица его также называется Малаккой. Этот город основан в начале XIII в. н. э. Жители занимаются возделыванием риса, кокосов и маслин, прибрежным рыболовством, а также выращиванием и первичной обработкой каучука. В Малакке власть не единожды менялась – яванцы, китайцы, арабы (в правление которых Малакка расцвела), затем португальцы, голландцы и, наконец, англичане. На момент пуб ликации «Пьера» в 1852 г. Малакка была частью английских колониальных владений в Малайе. В Малакке очень долго сохранялось правление мусульман-арабов; и так как это всегда был скорее восточный город, а также нет никаких сведений о том, что мебель из Малакки имела некие уникальные черты, то можно предположить, что малаккское кресло было просто удобное и мягкое кресло, украшенное восточной резьбой.
(обратно)73
В те времена и мальчиков и девочек до пяти лет одинаково рядили в платья.
(обратно)74
Французская революция – скорее всего, речь идет о Великой французской революции 1789–1794 гг.
(обратно)75
В оригинале – nature is said to abhor vacuum. От латинского natura abhorret vacuum – высказывание из трактата «Физика» Аристотеля, который полагал, что пустоты в природе не существует; обрело широкую известность после того, как Рабле помянул его косвенной цитатой в «Гаргантюа и Пантагрюэле». По смыслу это высказывание очень близко русской поговорке «Свято место пусто не бывает».
(обратно)76
Фенхель – приправа, которая имеет очень приятный, немного сладковатый, освежающий вкус. В просторечье ее называют укропом.
(обратно)77
Алигьери Д., Божественная комедия / Пер. М. Лозинского, М.: Правда, 1982. Гл. XXV. Ст. 67.
(обратно)78
Чинц – голубая хлопчатобумажная ткань.
(обратно)79
Имеется в виду Нагорная проповедь – собрание поучений и изречений Христа, произнесенные им на горе перед народом и учениками, и эта речь стала сутью нового учения – иными словами, Новым Заветом. Проповедь начинается с заповедей блаженства, которые цитирует Мелвилл: Евангелие от Матфея 5, 3–12: «1) Блаженны нищие духом (смиренные), ибо их есть Царство Небесное; 2) Блаженны плачущие (о грехах своих), ибо они утешатся».
(обратно)80
Вероятно, речь идет о побеге английского монарха Карла I Стюарта в ноябре 1647 г. из заключения в Гольмби, куда его поместил английский парламент, на остров Уайт, где он позже вновь попал в плен. Стоит отметить, что личная жизнь короля Карла была примером благопристойности; когда речь шла о литературе и искусстве, он обладал непогрешимым вкусом; также он многое сделал для укрепления в своих владениях власти церкви; тем не менее был двоедушен и считал нарушение клятв мудрым поведением.
(обратно)81
Пророк Мухаммед (Магомет; 571–632 гг. н. э.) – пророк ислама, которого мусульмане чтят так же, как христиане – Иисуса Христа. По свидетельствам современников, Мухаммед был очень чистоплотен и пользовался благовониями для тела.
(обратно)82
Сонетка – лента или шнур комнатного звонка, закрепленный на стене.
(обратно)83
Великодушные чувства (англ. «Better Angel») – все лучшее, что есть в душе человека. Впервые – Шекспир, «Отелло» (акт V, сцена 2): Грациано говорит, что, увидев смерть Дездемоны, ее отец отринул бы все великодушные чувства («better angel») ради жестокой мести. Затем, уже в несколько ином значении, в романе Диккенса «Барнеби Радж» (1841): отголоски наших желаний всегда стоят между нами и нашими великодушными чувствами («our better angels») и потому вовсе заглушают блеск последних. Наконец, 4 марта 1861 г. фразу из Диккенса – «наши великодушные чувства» – процитировал Авраам Линкольн в своей первой речи к Конгрессу. После выступления Линкольна эта цитата стала ходячим афоризмом.
(обратно)84
Стихарь – длинная, с широкими рукавами, обычно парчовая, одежда священников, надеваемая при богослужении.
(обратно)85
Скорее всего, речь идет о Леонардо да Винчи.
(обратно)86
Искаженная цитата из Ветхого Завета: «…ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода» (Исх., 20:5).
(обратно)87
Библия, Втор., 5:6–21.
(обратно)88
Декалог (Десятисловие, Закон Божий) – десять заповедей, что были даны Богом Моисею.
(обратно)89
Ср. «Об Ангелах сказано: Ты творишь Ангелами Своими духов и служителями Своими пламенеющий огонь» (К Евр., 1:7).
(обратно)90
Немного измененная цитата из «Жизни двенадцати цезарей» Светония, римского историка: «Да будет брошен жребий» – слова Гая Юлия Цезаря при переходе реки Рубикон.
(обратно)91
Итан Аллен (1738–1789) – американский военный и политический деятель, герой Войны за независимость, один из отцов-основателей штата Вермонт. В 1770 г. Вермонт был спорной территорией между штатами Нью-Йорк и Нью-Хэмпшир. Высший суд Нью-Йорка вынес решение в пользу своего штата. Итан Аллен и его земляки выступили против решения британских властей, создали вооруженный отряд «Парни с Зеленых гор» и силой вытесняли обратно нью-йоркских поселенцев. И словом, и оружием Итан Аллен добивался, чтобы Конгресс Соединенных Штатов признал самостоятельность Вермонта. Он также написал и издал свои мемуары, которые пользовались большой популярностью в Америке XIX века.
(обратно)92
Конечная причина (fi nal cause, causa fi nalis) – в метафизике Аристотеля выступает как одно из четырех первоначал; означает целесообразность, цель, то, во имя чего что-либо делается.
(обратно)93
Интермедия – маленькая самостоятельная пьеса (нередко – комического характера), которая исполняется в середине действия оперы, драмы или между актами.
(обратно)94
Скала Мемнона – Пьер дал ей название по аналогии с египетскими Колоссами Мемнона. Это две гигантские каменные статуи, что стоят у входа в ныне разрушенную гробницу фараона Аменхотепа III. В 27 г. до н. э. произошло землетрясение, в результате которого северный колосс раскололся. С тех пор статуя стала «поющей» – каждое утро от нее доносились не то стоны, не то посвистывания. Однако несколько веков спустя римский император Север распорядился восстановить статуи, и «пение» колосса навсегда прекратилось.
(обратно)95
Капитан Кидд (1654–1701) – шотландский мореплаватель, английский капер. Имя капитана Кидда стало широко известно после громкого судебного процесса и казни. Это судебное дело вызывает споры и по сей день: одни утверждают, что Кидд занимался грабежом, другие – что у него был каперский патент. После его казни поползли слухи, что он где-то спрятал сказочные сокровища. Эта история вдохновила многих писателей, в частности Эдгара По («Золотой жук»), Вашингтона Ирвинга («Дьявол и Том Уокер») и Роберта Стивенсона («Остров сокровищ»).
(обратно)96
Нагорье Гудзон (Hudson's Highlands) – плоскогорье, расположенное на юго-востоке штата Нью-Йорк.
(обратно)97
В оригинале – S. ye W. Могут значить имя и профессию, или же имя и прозвище.
(обратно)98
Мафусаилово древо – имя, которое носит одна из древнейших сосен на Земле, которая растет на востоке штата Калифорния, в Национальном лесу Инио. Предполагают, что возраст этой сосны – около 4846 лет.
(обратно)99
Суперкарго – нескл. м. Второй помощник капитана на судне, отвечающий за прием и выдачу грузов, а также наблюдающий за состоянием трюмов.
(обратно)100
Мелвилл передает историю возведения колоссов в несколько видоизмененном виде. Греческие путешественники прозвали статуи Аменхотепа III Колоссами Мемнона, так как северный колосс издавал стоны только с наступлением зари, поэтому они считали, что это богиня Эос оплакивает своего погибшего сына Мемнона.
(обратно)101
Нинон де Ланкло (1620–1705) – одна из самых знаменитых красавиц во Франции XVII столетия, куртизанка. Обладала удивительной природной красотой без малейшего изъяна; более того, оставалась привлекательной и в восемьдесят лет – даже тогда она была окружена поклонниками и имела возлюбленных. Отличалась не только красотою, но и умом – ее афоризмы подхватывали и записывали Лабрюйер и Мольер; она стала прототипом Селимены из «Мизантропа» Мольера. Ратовала за равноправие мужчин и женщин, желала «быть честным человеком».
(обратно)102
Непереводимая игра слов; в оригинале – Glendenning – gentleman.
(обратно)103
Сайя – (сайя женщины из города Лимы, лимийская сайя) – женское платье с короткими или длинными рукавами, кое состояло из сорочки, похожей на тунику, и просторную спереди юбку, которая полностью закрывала ноги. В городе Лима, столице Перу, женщины в дополнение к сайе носили широкие шали из шелка, которыми закрывали голову и лицо так, что были видны только глаза. Такую одежду перуанки Лимы носили с XVI в. вплоть до конца XIX в. Обычай носить сайю с платком, закрывающим лицо, сохранялся в Лиме дольше, чем в других областях Перу, вплоть до времен поздней Республики, когда стала господствовать французская мода. Более всего сайя в соединении с шалью напоминает традиционный наряд мусульманки или еще католическое монашеское одеяние.
(обратно)104
Монастырь Санто-Доминго (исп. Iglesia y Convento de Santo Domingo) – католический собор, который располагается неподалеку от Пласа-де-Армас; считается настоящей перуанской церковью Лимы. Этот монастырь стал известен благодаря двум святым XVII в. – святой Розе Лимской и Сан-Мартину-де-Поррес. Житие святого Мартина было необычным: незаконнорожденный, мулат, он вынес немало испытаний, прежде чем стал полноправным членом монашеской общины. Но благодаря своим праведным деяниям он был принят в братство спустя несколько лет, а позднее канонизирован и похоронен на монастырском кладбище.
(обратно)105
Пантеистический – считающий, что окружающий мир и бог – это одно и то же.
(обратно)106
Вольтов столп – один из первых приборов для получения электричества: его составляли из чередующихся меж собой колец меди, цинка и сукна, которое пропитывали специальной кислотой. В 1800 г. был придуман в Италии ученым по имени Алессандро Вольта.
(обратно)107
Гиперборея – согласно древнегреческим преданиям, сказочная страна где-то на Крайнем Севере, где царит вечная весна и никогда не заходит солнце, населенная гипербореями – народом, любимым богами, а потому ведущим счастливую и беззаботную жизнь.
(обратно)108
Скорее всего, Мелвилл имеет в виду завоевание монголами китайских государств в XIII в.
(обратно)109
Терцина (от лат. terra rima – третья рифма) – строфа из трех стихов, кои рифмуются так, что из ряда терции создается непрерывная цепь тройных рифм и оканчивается она отдельной строкой, что образует рифму со средним стихом последней терцины. Данте написал «Божественную Комедию» именно таким стихотворным размером.
(обратно)110
Алигьери Данте. Божественная Комедия / перевод. М. Лозинского, «Ад», III, 1–7.
(обратно)111
Шекспир У. Гамлет / перевод М. Лозинского, акт I, сцена V, заключительные слова Гамлета.
(обратно)112
Карисбрук (Carisbrooke Castle) – замок, выстроенный на южном побережье Англии, на острове Уайт, неподалеку от деревеньки Карисбрук. Его возвели в XII в., а знаменит он тем, что на протяжении 14 месяцев, вплоть до 1649 г., был темницей короля Карла I Стюарта. Впоследствии этот замок, самая сильная твердыня острова Уайт, большей частью разрушился и пришел в упадок.
(обратно)113
Монохорд – древнегреческий музыкальный инструмент с одной струною, на коем играли, пощипывая струну.
(обратно)114
Три проворные девы – Мойры, древнегреческие богини судьбы.
(обратно)115
Мальстрем (или Мальстрим, англ. Maelstrom) – большой водоворот в Норвежском море, который находится у северо-западного побережья Норвегии, меж двух Лофотенских островов, Фере и Москенесей. Известен с XVI в., и его название порой употребляется как синоним какого-нибудь большого водоворота в море или океане.
(обратно)116
Фрэнсис Бэкон (1561–1626) – основоположник эмпиризма, английский политический деятель, философ и историк. Бэкон выступал защитником научной революции. В своих работах он доступным языком рассказал об индуктивной методологии научного исследования, которую стали называть методом Бэкона. Через эксперимент, наблюдение и проверку гипотез индукция получает знания об окружающем мире. В 1620 г. Бэкон опубликовал свой трактат «Новый органон», где рассуждалось о том, что цель науки состоит в увеличении власти человека над природой, коя суть бездушная материя и нуждается в том, чтобы человек ее использовал.
(обратно)117
Сукновальная машина – машина для валки сукна (шерстяной ткани, поверхность которой покрыта ворсом), что сбивает вытканное сукно, чтобы оно стало плотнее и толще и чтобы потом можно было вычесать из него ворс.
(обратно)118
Святой Дунстан (909–988) – католический священник, ворчестерский и лондонский епископ, архиепископ Кентерберийский. С его именем связано множество легенд. Считалось, что ему не было равных в умении изгнать дьявола. По одной легенде, он как-то раз изгнал дьявола, сдавив тому нос длинными щипцами. В английской литературе он упоминается часто. К примеру, именно эту легенду с щипцами приводит Диккенс в «Рождественском гимне».
(обратно)119
Хронометр – переносные высокоточные часы с аттестатом из любой испытательной лаборатории, используемые для хранения времени. При помощи хронометра определяют географическую долготу в навигации и т. д.
(обратно)120
Солецизм – синтаксическая неправильность, непоследовательность.
(обратно)121
Маммона – земные блага, богатства; слово пришло из сирийского языка.
(обратно)122
Магглтонианцы – приверженцы учения Лодовика Магглтона (Lodowick Muggleton, 1609–1698), английского пуританина, еретического религиозного лидера, который выступал против догмата о Троице. Последователи считали его пророком.
(обратно)123
Джаггулариус – скорее всего, полностью придуманный Мелвиллом персонаж; возможно, собирательный образ плута и фокусника, поскольку нередко выступает в роли синонима к этим словам.
(обратно)124
В оригинале – EI.
(обратно)125
Азорские острова – архипелаг в Атлантическом океане, занимаемый автономным регионом Португалии.
(обратно)126
Эфесская матрона – известная легенда Средневековья и Нового времени, бродячий сюжет о неверной вдове. Некая матрона из Эфеса прославилась своей стойкой верностью своему мужу. После его смерти она объявила во всеуслышание, что умрет в его склепе от голода и жажды. На пятые сутки в склеп пробрался солдат, что охранял неподалеку трупы трех разбойников. Путем долгих уговоров он уговорил вдову сперва поесть, а затем, в конце концов – разделить с ним ложе. Любовники жили в склепе умершего мужа до тех пор, пока кто-то не похитил с креста тело одного из разбойников. Тогда вдова, спасая жизнь возлюбленному, предложила повесить на крест тело ее усопшего супруга, что и было сделано. Поутру прохожие узнали покойника, и молва разнесла эту историю по всему свету.
(обратно)127
В англосаксонской культуре крестик в письме символизирует поцелуй.
(обратно)128
Кардинальные добродетели (от лат. cardo «стержень») – группа из четырех основных добродетелей в христианском нравственном богословии, основанная на античной философии и имеющая параллели в других культурах. Классическая античная формула включает в себя благоразумие, справедливость, умеренность и мужество.
(обратно)129
Горка – застекленный шкаф для посуды, безделушек и т. п., имеющий один или несколько ярусов.
(обратно)130
Негус – старинный напиток, похожий на глинтвейн; состоит из портвейна, в который добавляли сахар, лимон и тертый мускатный орех. Иногда вместо портвейна использовали херес или сладкое вино.
(обратно)131
Тоскана – область Италии; столица – город Флоренция. Упоминая тосканскую политику, Мелвилл, возможно, намекал на политические интриги семьи Медичи, представители которой с XIII по XVIII в. неоднократно становились правителями Флоренции.
(обратно)132
Квиетизм – религиозно-этическое учение XVII в., которое проповедовало смирение, покорность, созерцательное, пассивное отношение к действительности, полное подчинение воле Божьей.
(обратно)133
Возможно, это вымышленное название образовано от Ориноко (исп.) – реки Южной Америки, текущей через Венесуэлу и впадающей в Атлантический океан. Ее еще называют Великой рекой Ориноко.
(обратно)134
Гладиатор Боргезе («Боргезский боец», «Сражающийся воин») – мраморная древнегреческая скульптура, носящая прозвище Боргезской, так как ее нашли на вилле Боргезе в Италии. Позу Боргезского борца копировали многие ваятели и художники. Эта скульптура была очень популярна, и во многих дворянских поместьях были ее копии. Выставляется в Лувре с 1807 г.
(обратно)135
Спартак (лат. Spartacus; ок. 120 г. до н. э. – 71 г. до н. э.), вожак самого большого восстания рабов, какое знал Древний Рим. Спартак родился во Фракии, в племени медов, служил в войске царя Митридата, попал в римский плен, и его продали в гладиаторы. Он добился свободы благодаря необыкновенной доблести на арене. Однако Спартак остался лютым врагом Рима и поднял восстание, охватившее всю Италию. В конце концов он был распят на кресте вместе со своими сообщниками.
(обратно)136
Имя Орест здесь двойственно. Несомненно, в первую очередь Мелвилл говорит о том Оресте, который был военачальником в Риме в V в. до н. э. В ту эпоху Римская империя уже была в упадке, и варвары-гунны правили всем. Флавий Орест (449 г. до н. э.), урожденный римлянин, был одним из приближенных Аттилы. Служа варварам, Орест, тем не менее, лелеял мечту вернуть Риму былую славу и возродить империю. После смерти Аттилы он пускается в странствия, надеясь найти людей, которые помогли бы ему в честолюбивых замыслах. Служил нескольким римским императорам, которые были ставленниками варваров. В своей карьере при императорском дворе имел вечным противником варвара Одоакра, который обладал равной с ним властью, лидерскими качествами и амбициями. Наконец, используя хаотичное войско варваров – германских племен, – к которым император его посылал для того, чтобы усмирить их, и с которыми он неожиданно вступает в союз, Орест ненадолго захватывает власть в Риме, провозгласив императором своего сына. Но он отказался выполнить обещание отдать земли Рима своим воинам-варварам. Те обратились к Одоакру, которого Орест лишил должности, с предложением возглавить их, взять власть и отомстить Оресту. Одоакр согласился. Орест бежал из Рима с горсткой преданных воинов в Северную Италию. Одоакр с армией настиг его; была кровопролитная битва, известная тем, что Орест не сдавался до последнего; предполагается, что он умер в бою. Цитирую историка: «Хоть это и выглядело безрассудно, но Орест отказывался признать поражение» (-padenie-imperii/). Все эти события легли в основу сюжета под названием «месть варваров военачальнику Оресту».
Второе значение имени Орест, не менее важное, уходит корнями в гомеровские сказания о Троянской войне. Орест – сын Агамемнона и Клитемнестры, по велению богов вынужденный убить свою мать и ее любовника Эгисфа из мести за убитого ими отца. Дружба Ореста с Пиладом, сыном царя Фокиды Строфия и сестры Агамемнона, вошла в поговорку, их имена стали нарицательными для неразлучных друзей, переживающих вместе все невзгоды. Скорее всего, сравнивая Пьера с Орестом, Мелвилл намекает на былую неразрывную дружбу Пьера и Глена, которую Глен предал.
(обратно)137
Синедрион – совет старейшин в Древней Иудее.
(обратно)138
Клан Кэмпбеллов (Campbell clan) – шотландский дворянский род, один из самых влиятельных в Западной Шотландии. Прославился своей неизменной верностью сперва шотландской, а после – британской короне, неуемным честолюбием и крайним вероломством. Не однажды они устраивали кровавые расправы даже над теми кланами, с которыми их связывали узы родства. Имя рода Кэмпбеллов стало нарицательным, равносильным ругательству – к примеру, над входом в некоторых пабах в Шотландии до сих пор красуется табличка: «Не для уличных торговцев или Кэмпбеллов».
(обратно)139
Оливер Голдсмит (1730–1774) – английский писатель ирландского происхождения, был одним из представителей сентиментализма. Называл себя доктором, так как учился в медицинском университете, но диплома не получил, и, вероятно, Мелвилл ставит перед его именем приставку «доктор», на кою тот не имел права, в качестве издевки.
(обратно)140
«Кок против Литлтона» (Комментарии Кока к Литлтону) – речь идет о Томасе де Литлтоне, английском судье и авторе законодательных актов (1407 (?) – 1481) и его «Трактате о землевладении», который можно назвать первым руководством по английскому праву собственности. Эдуард Кок (1552–1634) – известнейший юрист и политик эпохи правления Елизаветы I и Якова I; один из лидеров парламентской оппозиции. Фактический создатель английской системы общего права, Кок был его крупнейшим знатоком и комментатором, основываясь на средневековых юридических документах, таких как Великая хартия вольностей, выступал за ограничения королевской власти он один из авторов «Петиции о праве» (1628), которая послужила фундаментом для английской конституции. Выступал против произвольного налогообложения, и, таким образом, комментарии Кока к «Трактату о землевладении», где он возражает Литлтону, слились в одно издание, и на протяжении нескольких столетий они были одним из столпов, на которых покоилась английская правовая система.
(обратно)141
Городская адресная книга – список жителей, улиц, предприятий, организаций или учреждений, коя давала представление об их месторасположении в каком-либо городе. Городские адресные книги были предшественницами телефонных и использовались столетиями.
(обратно)142
… кирпичей, ножниц и утюгов – скорее всего, Мелвилл иронически перечисляет содержание городского справочника: кирпичи означают улицы, утюги – дома, ножницы – символ предприятия.
(обратно)143
В прежние времена верили, что розовое эфирное масло «притягивает» любовь и удачу в любви, поскольку получено из розы – цветка – символа богини Афродиты, помогающей в любви.
(обратно)144
Cui bono – Кому на пользу? (лат.) (Цицерон, «Речь в защиту Росция Америйского, ХХХ, 84: L).
(обратно)145
Шамсуддин Мухаммад Хафиз Ширази (ок. 1325–1389/1390) – персидский поэт и суфийский шейх, один их величайших лириков мировой литературы. Его стихи признаются вершиной персидской поэзии; в Иране их до сих пор читают и декламируют. Стихи Хафиза Ширази входили в обязательный учебный курс в школах (мактабах) Бухарского ханства в XVI – начале XX в.
(обратно)146
Анакреонт (570/559–485/478 гг. до н. э.) – лирический поэт родом из Ионии (область в Древней Греции). Его стихи дошли до нас в цитатах более поздних авторов. Воспевал радости жизни, любовь, вино, свободу мысли и пиры.
(обратно)147
Гай Валерий Катулл (ок. 87–54 гг. до н. э.) – в эпоху Цицерона и Цезаря был в Риме одним из самых известных поэтов. Считается основателем римской лирической поэзии.
(обратно)148
Публий Овидий Назон (43–17/18 гг. до н. э.) – поэт Древнего Рима, автор любовных элегий и поэм «Метаморфозы» и «Наука любви».
(обратно)149
Том Мур (англ. Thomas Moore, 1779–1852) – английский поэт-романтик ирландского происхождения, автор песен и баллад. Его самый известный стихотворный сборник называется «Ирландские мелодии».
(обратно)150
Литография – рисунок, напечатанный на бумаге с плоской поверхности камня, на которую он был нанесен.
(обратно)151
Аркартианский – образовано от названия замка Аркарт (Urquhart) – замка, который расположен на берегу озера Лох-Несс в Шотландии.
(обратно)152
Тимонизм – беспросветное отчаяние, кое приводит человека к мизантропии.
(обратно)153
Кони-Айленд (англ. Coney Island) – бывший остров, а ныне часть Бруклина в Нью-Йорке. Название происходит от искаженного нидерландского выражения, означающего «Кроличий остров».
(обратно)154
Дагерротип – фотографический снимок, сделанный с помощью первого способа фотографирования с натуры, и сей способ был длинным, утомительным процессом для натурщика.
(обратно)155
Гранка, гранки – страницы текста, кои уже сверстаны и возращены автору, чтобы он дал свое окончательное согласие на публикацию.
(обратно)156
Тимон Афинский – герой одноименной пьесы Шекспира, легендарный мизантроп.
(обратно)157
Таппан Зее (англ. Tappan Zee, Tappan Sea, Tappaan Zee) – естественное расширение реки Гудзон, около 3 км поперек в самом широком месте, на юго-востоке Нью-Йорка в Соединенных Штатах.
(обратно)158
Гудзон (Hudson River) – река на востоке США, которая относится к бассейну Атлантического океана; длина – 492 км. Протекает в основном по территории штата Нью-Йорк.
(обратно)159
Каспар Хаузер (нем. Kaspar Hauser; предположительно 1812–1833) – одна из нераскрытых загадок XIX в., таинственный юноша, который почти не умел ни ходить, ни говорить, найденный на улице Нюрнберга в Троицын день в 1828 г. и убитый пять лет спустя неким неизвестным. Носил прозвище «Дитя Европы». Единственным смутным воспоминанием у него было его одиночное заключение в тюремной камере, что началось, когда ему было три или четыре года и продлилось до шестнадцати лет; больше он не знал ни о чем на свете. Поговаривали, что он был наследным принцем баденского престола, коего похитили из колыбели. Несмотря на то что король Бадена объявил о солидной награде за малейшие сведения об этом юноше и его убийце, вплоть до сегодняшнего дня так ничего и не удалось о них узнать.
(обратно)160
Поденщик (устар.) – рабочий, нередко – бедняк, с ежедневной (поденной) оплатою труда.
(обратно)161
Непереводимая игра слов – Мелвилл играет с самой формой написания буквы i английского алфавита, и с ее звучанием, которое совпадает со звучанием слова «глаз».
(обратно)162
Непереводимая игра слов: Мелвилл обыгрывает фонетическое созвучие фамилии философа (Кант) и английского глагола cannot (не мочь, не иметь права).
(обратно)163
Монашеский орден доминиканцев – основанный во Франции испанцем святым Домиником, в 1216 г. получил утверждение от папы Римского Гонория III, был создан для борьбы с ересями и стал первым нищенствующим монашеским орденом. Его члены углубленно изучали богословие, так как их основатель считал, что святости достигают молитвами и аскетизмом. Одним из самых известных проповедников, членов ордена был Джироламо Савонарола.
(обратно)164
Королева Бесс – Елизавета I (1533–1603), королева Англии и Ирландии. Дочь Генриха VIII и Анны Болейн. Ее также называли Королевой-девственницей, Глорианой (от англ. Glory – слава) или доброй королевой Бесс. Бездетная и незамужняя Елизавета стала последним английским монархом из династии Тюдоров. В истории Англии ее сорокапятилетнее правление называют золотым веком.
(обратно)165
Бенедикт Арнольд (Benedict Arnold; 1741–1801) – американский офицер и уроженец Америки, известный, как легендарный предатель. Во времена Войны за независимость сперва сражался на стороне колонистов, а потом, в 1779 г., за 20 000 фунтов и высокий военный чин перешел на сторону Британской империи.
(обратно)166
Карл-старший – скорее всего, Мелвилл имеет в виду Карла I Стюарта (так предполагать дает основание указание на то, что речь идет об английском рыцаре).
(обратно)167
В оригинале идет неологизм Мелвилла povertiresque, ближе всего по значению к которому – слово «бедность». Ля повретэ (la pauvreté франц.) – бедность, нищета, скудость; лучше всего, по моему мнению, передает значение слова и его французское звучание.
(обратно)168
Томас Гейнсборо (1727–1788) – английский живописец XVIII в., портретист и мастер пейзажа. Славился своею непосредственностью восприятия и умением передавать на полотне личное обаяние человека; на его ранних портретах люди нередко изображались на лоне природы.
(обратно)169
Кабинетные картины – небольшие жанровые картины, вошедшие в моду в XVIII в.
(обратно)170
Гераклит (ок. 544–483 до н. э.) – древнегреческий философ, прозвищами которого были Темный и Плачущий; по преданию, не мог взирать без слез на зрелище человеческой суматохи.
(обратно)171
Фут – единица длины в английской системе мер. Один фут равен 30,48 см. 30 футов – 9,14 м.
(обратно)172
Академия в американском понимании – частная средняя школа или частный пансион, готовящие к поступлению в колледж, университет.
(обратно)173
Патрик Генри (Patrick Henry; 1736–1799) – блестящий оратор, один из главных деятелей в американской Войне за независимость; радикал и антифедералист, заявлявший, что правительство США берет себе слишком большие полномочия. Несколько раз отклонял выгодные предложения президентов США занять какой-нибудь высокий пост.
(обратно)174
Джозеф Родмэн Дрейк (1795–1820) – американский поэт-романтик, который обогатил молодую литературу США несколькими памятными стихотворениями, но, к сожалению, рано ушел из жизни. Перед своей смертью он приказал жене уничтожить свои неопубликованные поэмы, но она их сохранила, и в 1835 г. они были опубликованы в сборнике под названием «Грешный эльф и другие поэмы» («Culprit Fay and Other Poems»). В «Грешном эльфе», которого признают лучшим произведением Дрейка, речь идет о духе реки Гудзон, который влюбляется в смертную девушку. Дрейк был одним из первых (если не пионером), кто сделал попытку перенести легенды о феях на земли Соединенных Штатов; он также высоко ценим за описания природы в своих стихах (эта тема звучит также в его поэмах «Ниагара» и «Бронкс»).
(обратно)175
Возможно, что Мелвилл говорит о трех Мойрах, богинях судьбы.
(обратно)176
Джироламо Кардано (Gerolamo Cardano; англ. – Jerome Cardan, 1501–1576) – итальянский врач, математик, астролог, философ и игрок. Жил в эпоху Ренессанса. Оставил более двухсот работ по медицине, математике, физике, философии, религии и музыке.
(обратно)177
Эпиктет (около 50–138) – древнеримский философ-стоик. Основатель философской школы. Ничего не записывал, а передавал свое учение устно. Его ученик Флавий Арриан записал «Беседы Эпиктета», «Руководство Эпиктета», «Рассуждения Эпиктета».
(обратно)178
Книга Мормона – священный текст мормонской церкви, дополняющий Библию. Впервые был опубликован в Нью-Йорке в 1830 г. и с тех пор многократно переиздавался и переводился на различные языки.
(обратно)179
Абрахам Такер (Abraham Tucker; 1705–1774) – английский моралист, философ-любитель. Главная работа его жизни – трактат в семи томах «Истина изученного характера» («Light of Nature Pursued»), в котором он рассуждает о различных психологических и метафизических вопросах. Отрывок из этого многотомного труда был опубликован в 1763 г. под названием «Свобода воли» и сразу же навлек на себя критику. В 1765 г. Такер опубликовал первые четыре тома «Истины изученного характера» под псевдонимом Эдварда Серча. Следующие три тома вышли в свет уже после его смерти.
Такер находился под сильным влиянием теорий Уильяма Пейли (англ. священник, философ, отстаивающий идеи христианства и разумного замысла в природе) и, возможно, Мальтуса.
(обратно)180
Мари Жан Антуан Никола Кондорсе, де (Condorcet; 1743–1794) – маркиз, французский философ-просветитель, математик, социолог, политический деятель. Ему принадлежит проект образовательной реформы (образование должно быть всеобщим, бесплатным, светским). Отстаивал также женские гражданские права. За успехи в области математики был принят в 1769 г. во французскую Академию наук. Один из создателей теории исторического прогресса. Поступательное движение истории Кондорсе объяснял безграничной возможностью человеческого разума.
(обратно)181
Зенд-Авеста («Текст и толкование») – священная книга последователей зороастризма; собрание текстов с комментариями для систематического изучения. В Зенд-Авесте повествуется о мифологии, астрологии, философии и истории: борьба добра и зла, загробная жизнь, воскресение из мертвых, конец света. Основная мысль – следование духовным и нравственным идеалам добра.
(обратно)182
Кюрасо (Curaçao, у Мелвилла – Curacoa, архаичная форма того же слова) – ликер, который вырабатывается из винного спирта, в который добавляют сушеную апельсиновую кожуру, мускатный орех, гвоздику, корицу. Содержание спирта – 30 %. Цвет – голубой, оранжевый, зеленый, белый. Этот ликер получил свое название от острова Кюрасао в Карибском море (самый большой из Антильских островов, которые принадлежат Нидерландам).
(обратно)183
Бомбазин (бумазея; от франц. Bombasin – хлопок) – плотная хлопчатобумажная ткань, очень мягкая, пушистая, хорошо сохраняющая тепло.
(обратно)184
Негус – напиток на основе вина и горячей воды с добавлением сахара, мускатного ореха и лимона. Изобретен в 1735–1745 гг. английским полковником Фрэнсисом Негусом и назван в его честь.
(обратно)185
Кир II (Великий) – царь из династии Ахеменидов, который правил Персией в 558–530 гг. до н. э.
(обратно)186
Скорее всего, цитата выдумана Мелвиллом.
(обратно)187
То есть обыкновенной воды. Название воды в Старом Завете.
(обратно)188
Бушель – единица объема сухих веществ. Происходит от старофранцузского выражения «сколько можно зажать в горсти». В Англии и Америке ею пользуются по традиции для измерения зерна и фруктов. В международной торговле под бушелем обычно подразумевают коробку весом в 18 кг.
(обратно)189
Фэрмонт – город в американском штате Западная Виргиния, где берет начало судоходная река Мононгахила (Мононгэхела). Название происходит от индейского «падающие берега». Вероятнее всего, Мелвилл имел в виду воду из реки Мононгахилы.
(обратно)190
Кротон – река, которая течет на юго-востоке штата Нью-Йорк и у города Кротон-Пойнт впадает в реку Гудзон. Один из источников водоснабжения г. Нью-Йорка – водохранилище на реке Кротон.
Еще один любопытный факт. Кротоном назван город в Южной Италии, где некогда родился Милон, знаменитый атлет. В Кротоне Пифагор основал свою философскую школу.
(обратно)191
Кочайчуат – озеро в штате Массачусетс.
(обратно)192
Кларет – красное вино бордо.
(обратно)193
Великий пожар в Нью-Йорке 1835 г. – большой пожар, который 16 декабря 1835 г. ночью вспыхнул в районе Уолл-стрит, Брод-стрит и Южной улицы (нижний Манхэттен). Сгорело 674 здания. Та ночь была столь морозной, что пожарные не могли справиться с пламенем из-за того, что вода замерзала в ведрах.
(обратно)194
Команчи – индейский народ в США. Индейцы в штате Техас. Самоназвание – «настоящие люди».
(обратно)195
Пику – остров в Атлантическом океане, принадлежащий Португалии. Входит в центральную группу Азорских островов.
(обратно)196
Искаженная цитата из Книги Притчей Соломоновых: «…ибо любовь столь же сильна, как смерть, а ревность непреклонна, как могила» (Притчи, 8:6).
(обратно)197
В английском оригинале слов не шесть, а пять: The love deep as death.
(обратно)198
Иосафат – евр. Йошафат, «Яхве рассудил». Другое название – Кедрон, «мутный ручей». Долина между Иерусалимом и Масличной горой, по которой проходили дороги на Вифанию и на Иерихон. Предполагается, что в долине Иосафата – «долине суда» – начнется воскресение мертвых и Страшный суд.
(обратно)199
Салун – кабак, питейное заведение.
(обратно)200
Непереводимая игра слов – easel (англ. мольберт) и weasel (англ. горностай).
(обратно)201
Стаут – англ. букв. силач, громила, крепыш. Также крепкий портер, темное пиво, узнаваемое по винному привкусу, и сладкое и горькое одновременно.
(обратно)202
Фут – мера длины, равная 30,48 см.
(обратно)203
Энцелад (англ. Enceladus) – титан, сын Геи и Урана. Выступал противником Афины в Гигантомахии, великой битве богов и титанов за власть над миром. По преданию (об этом говорят Каллимах, Аполлодор и Вергилий), Афина придавила Энцелада, который обратился в бегство, островом Сицилия; и с тех пор он покоится под вулканом Этна, и извержения Этны – дыхание Энцелада.
(обратно)204
Лагуна – мелководная часть моря (океана), которая соединяется с ним одним или несколькими проливами и отделена от него узкой полосой суши – косой или коралловыми рифами.
(обратно)205
Багор – инструмент в виде длинного шеста с металлическим наконечником – крюком, загнутым назад. На корабле используется, чтобы достать что-либо, упавшее в воду, или для швартовки. На суше с помощью багра вытаскивают лодки на берег или, скажем, бревна.
(обратно)206
Отрис (Othrys) – которую называют горой Титанов, горная вершина в Греции. В греческой мифологии, в частности в сказаниях о Титаномахии, великой битве олимпийских богов и титанов, гора Отрис служила титанам пристанищем, отсюда и ее прозвище. Но Мелвилл, как истинный американец, имеет в виду одноименную гору в поместье Седельные Луга.
(обратно)207
Амарант (греч. «неувядаемый цветок») – декоративное растение с мелкими цветами красного, пурпурного или золотистого цвета, которое родом из Южной Америки. Одни виды амаранта используются в пищевых и лекарственных целях, другие – вредные сорняки.
(обратно)208
Гаспар и Бальтазар Марси (Гаспар: 1624–1681; Бальтазар: 1628–1674) – братья, французские скульпторы. На службе у Людовика XIV занимались убранством Версальского дворца и садов. Создали совместно боскет «Энцелад», с фигурой титана из золоченой бронзы (1675–1677, сады Версаля).
(обратно)209
Речь идет о Людовике XIV, который давал заказы братьям Марси.
(обратно)210
Анджело Брондзино (англ. Angelo, итал. Angeolo di Cossimo; 1501–1572) – живописец, родом из Флоренции, талантливый последователь Микеланджело, ученик и помощник Понтормо. Выдающийся портретист.
(обратно)211
Доменикино, настоящее имя – Доменико Цампьери (итал. Domenichino Zampieri 1581–1641) – итальянский художник и архитектор. Имел прекрасную рисовальную технику, но был туг на придумывание собственных сюжетов. Принадлежал к болонской школе эпохи барокко, был наставником Лоррена, Пуссена. Один из предшественников классицизма.
(обратно)212
Портрет Беатриче Ченчи (итал. Beatrice Cenci; 1577–1599) – Беатриче Ченчи была итальянской аристократкой родом из Рима, дочерью Франческо Ченчи. Отцеубийца, осужденная и казненная за это преступление, но прославившаяся мужественным поведением во время пыток и казни, а также своей красотой. Ее история несколько веков служила источником вдохновения для писателей, поэтов и художников. Самый известный ее портрет (девушка в белом одеянии и головном покрывале вполоборота к зрителю) в течение долгого времени ранее приписывался художнику Гвидо Рени, теперь же называют автором его ученицу, Элизабетту Сирани. Этот портрет также нередко путают с «Девушкой с жемчужной сережкой» из-за схожести в позах и одеянии.
(обратно)213
Элевсинские мистерии – ежегодные празднества, которые были приняты в Древней Греции; почитание богинь Деметры и Персефоны: проводились обряды инициации и очищения, верующие постились, устраивались праздничные шествия, пир и танцы, поминались усопшие.
(обратно)214
Лукиан из Самосаты (англ. Lucian of Samosata, лат. Lucianus Samosatensis; 125–180 гг. н. э.) – величайший греческий софист, «Вольтер древности». Словарь Суда (греч. Súdas; византийский этимологический и толковый словарь, созданный в X в.): «Лукиан Самосатский, прозванный богохульником или злословцем за то, что в его диалогах содержатся насмешки над божественным». В своих сатирических диалогах подвергал осмеянию предрассудки и пороки общества, религии и философии. Признан автором более семидесяти произведений в различных жанрах: сатирические диалоги, речи, повести, памфлеты, пародии, поэмы, эпиграммы. Спустя годы изменился и взгляд Лукиана на мир – он перестал ставить своей целью одну лишь насмешку, начал искать в людях положительные качества, а сатиру направлять на определенных лиц. Вся пресловутая враждебность Лукина к христианству заключалась в том, что он видел в нем всего лишь новую секту философов.
(обратно)215
Пыж – это прокладка из войлока, картона или бумаги, которая предотвращает высыпание пороха из патрона.
(обратно)







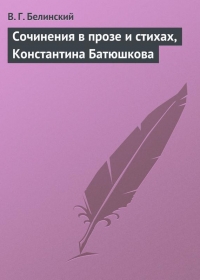

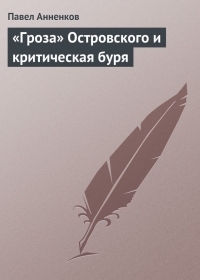



Комментарии к книге «Пьер, или Двусмысленности», Герман Мелвилл
Всего 0 комментариев