Энтони Троллоп Домик в Оллингтоне
Перевод с английского журнала «Современникъ», 1863–1864
© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2017
Глава I ОЛЛИНГТОНСКИЙ СКВАЙР
Само собою разумеется, что в Оллингтоне был и Большой дом. Иначе, каким же образом мог существовать там Малый дом? Наш рассказ, как и должно ожидать от его названия, ближе всего относится к лицам, которые жили в более скромном из этих двух обиталищ, но, впрочем, он будет иметь тесную связь и с жившими в здании, носившем более громкое название, а потому, мне кажется, необходимо сказать здесь, при самом начале, несколько слов о Большом доме и его владетеле.
Оллингтонские сквайры были сквайрами Оллингтона с тех пор, как сквайры, такие как теперь, сделались впервые известными в Англии. В фамилии Делей скипетр сквайра переходил от отца к сыну, от дяди к племяннику и, в одном случае, от второго кузена ко второму кузену, акры земли оставались неизменными, увеличиваясь в ценности и не уменьшаясь в числе, несмотря на то что они не связывались законом о заповедных имениях и не находились под защитой особенного благоразумия и мудрости. Поместье Деля оллингтонского было смежно с оллингтонским приходом в течение нескольких столетий, и хотя, как я уже сказал, раса сквайров вовсе не обладала особенным благоразумием и, быть может, не руководилась в житейских путях непогрешительными правилами, но все же она так крепко держалась священного закона, что ни один акр имения не был выпущен из рук существовавшего сквайра. Напротив, иногда делались попытки, хотя и бесплодные, увеличить территорию, как это было при Ките Деле, отце Кристофера Деля, который между действующими лицами нашей драмы явится владетельным сквайром Оллингтона. Старик Кит Дель, женившись на деньгах, откупил заложенные фермы – клочок земли в одном месте, клочок в другом, – много говоря при этих случаях о политическом влиянии партии добрых старых ториев. Но эти фермы и эти клочки земли снова перешли в другие руки, не дождавшись нашего времени. Ничем особенным они не были привязаны к тому или другому владельцу. Когда старик Кит нашелся вынужденным покориться натискам славного 19-го драгунского полка, в котором второй сын его сделал для себя карьеру, он увидел, что гораздо легче продавать, чем покупать; делая это, он был убежден, однако же, что продавал свою собственность, а отнюдь не наследственное достояние Делей. С его кончиною кончился и последний остаток этих покупок. Семейные дела требовали сбережений, а Кристофер Дель требовал наличных денег. Скупленные фермы исчезли, как исчезали и прежде подобного рода новые покупки, старинное же наследственное достояние оставалось по-прежнему неприкосновенным.
Это достояние составляло частицу священных верований Делей, поэтому, видя, что сохранение таких верований оставалось неизменным, и зная, что огонь древних весталок никогда не потухал на очаге, я не смею сказать, что Дели совершали земное свое поприще без высоких правил. Этих верований крепко держались все Дели, и новый наследник, вступив во владение, не понес на себе излишнего бремени, кроме разве того, которое уже тяготило его еще до принятия наследства. И все-таки о передаче имения в чужие руки не было и помину. Идея подобной передачи не согласовалась с особенностями воззрения Делей на вещи. К числу верований Делей принадлежало и то, что хотя каждый сквайр и имел полное право промотать акры Оллингтона, но он должен был воздерживаться от подобного мотовства. Я помню, мне случилось обедать в одном доме, слава и счастье которого, по преданию, зависела от целости одного заповедного бокала. Все гости знали об этом предании. Все знали, что с разбитием стеклянной посудины разбивалось вдребезги счастье целого семейства. Несмотря на то, меня, как и прочих гостей, все-таки заставляли пить из этого рокового бокала. Рыцарский дух хозяина дома не допускал, чтобы его судьба находилась под защитою такого хрупкого замка. То же самое было и с оллингтонскими Делями. В их понятиях, передача имения в чужие руки была весьма хрупким замком, старинное рыцарство их дома не дозволяло им прибегать к защите подобного рода.
Я сказал весьма поверхностно о славе и подвигах этой фамилии, впрочем, слава их не была блистательна, а подвиги не были замечательны. В Оллингтоне оллингтонский Дель постоянно слыл за властелина. В Гествике, соседнем ярмарочном городке, он был великим человеком – человеком, которого по субботам можно было видеть на торговой площади и который постановлял цены на привозный хлеб и пригонный скот, несмотря на то что были люди, которые лучше его знали цену и хлеба, и скота. В Хамершаме, тоже соседнем городке, куда по третям года собирались окружные судьи для производства уголовных следствий, оллингтонский Дель пользовался вообще некоторой репутацией, как постоянный присяжный судья той провинции и как человек, который доблестно шел своей дорогой. Но даже в Хамершаме слава Делей блекла по временам, потому что личности их не всегда выставлялись рельефно в отдаленных пределах маленькой провинции и потому еще, что своим знанием юриспруденции они не заслужили большой известности в большом зале судебных собраний. За пределы Хамершама слава их не распространялась.
Это были люди, выделанные по одному и тому же образцу, каждый из них наследовал от отца те же добродетели и те же пороки, – люди, которые жили точно так же, как жили их отцы, никто из них не был отвлекаем невидимым магнетизмом с того жизненного пути, по которому ползли предшествовавшие Дели, магнетизм этот не в силах был приподнять кого-нибудь из Делей до одного уровня с веком, в котором они жили, он только тянул их вперед по тому же направлению, по которому плелись нога за ногу предки. Это были люди упрямые, слишком много веровавшие в самих себя, надеявшиеся на себя, согласно своим идеям о законности суровые к своим арендаторам, но не считавшиеся суровыми даже со стороны самих арендаторов, потому что правила, которым следовали оллингтонские сквайры, не изменялись с самого начала, деспоты в отношении к своим женам и детям, но деспоты в известных границах, так что ни одна еще мистрис Дель не бежала из-под кровли своего властелина и ни разу между отцами и сыновьями не было вопиющего скандала, точные в своих понятиях о денежных делах, вполне убежденные, что они должны получать весьма много, а отдавать весьма мало, хотя в то же время и не считались скрягами, потому что были сострадательны к бедствиям ближнего – творили милостыню и приносили лепту в сокровищницы местных благотворительных учреждений. Они были ревностными поборниками церкви, они благосклонно принимали в свой приход таких новых священников, которых от времени до времени назначал Кембриджский университет, пользуясь правом делать назначение по своему усмотрению, так как приход этот служил для него в некотором роде оброчною статьею дохода, несмотря на то Дели, однако же, питали какую-то невыразимую вражду к своему священнику, так что отношения между этими двумя семействами, светским и духовным, редко бывали вполне приятные.
Таковы были оллингтонские Дели со времен незапамятных, таков был бы и Кристофер Дель нашего времени, если бы в молодости не приключилось с ним двух несчастий. Он влюбился в одну леди, которая решительно отказала ему в руке, и вследствие этого он на всю жизнь остался холостым. Второе выпавшее на его долю несчастье относилось до предполагаемого богатства его родителя. При вступлении в наследственные права он вообразил себя богаче всех оллингтонских Делей и, держась этой идеи, питал надежду заседать в парламенте в качестве представителя своей провинции. С целью достичь такой почести, он позволил жителям Хамершама и Гествика осуждать политику своей старой фамилии и объявил себя либералом. Он никогда не записывался в избирательный список и никогда не домогался парламентского места, зато всячески старался показать себя приверженцем либеральной партии, но и эта уловка ему не удалась: все окружавшие знали очень хорошо, что Кристофер Дель в душе своей такой же закоснелый консерватор, как и всякий из его предков, это обстоятельство делало его кислым и молчаливым там, где дело касалось политики, и некоторым образом отчуждало его от собратий, других сквайров.
В других отношениях Кристофер Дель вообще стоял выше среднего уровня всех членов своей фамилии. Полюбив кого-нибудь однажды, он любил искренно и горячо. С своими врагами хотя и обращался дурно, но не выходил из законов приличия. Он был аккуратен и скуп в небольших денежных расчетах, а в некоторых семейных делах, как мы увидим впоследствии, в нем проявлялась необыкновенная щедрость. Он старался исполнять свой долг сообразно с своим взглядом на вещи и успел отучить себя от различных наклонностей и прихотей, с которыми свыкся в ранние дни своих больших, но несбывшихся ожиданий. В своей безответной любви он был вполне искренен и благороден. Кристофер Дель полюбил женщину, и, когда узнал, что эта женщина не сочувствует его суровой, сухой, безотрадной любви, он не в состоянии был привязаться душой к другому существу. Это обстоятельство случилось как раз в период смерти его отца, и он старался забыть свое горе в вихре политических стремлений, конец которого мы уже видели. Постоянным, прямым и искренним человеком был наш Кристофер Дель, тощим и сухим в своих душевных качествах, далеко не способным оценить прекрасные качества вполне достойного человека, далеко не одаренным силою прозрения всего, что было выше его, но при всем том вполне достойным уважения за путь долга, который он назначил себе и которому старался следовать. Наконец, кроме всего сказанного, мистер Кристофер Дель был джентльмен.
Таков был оллингтонский сквайр, единственный постоянный обитатель Большого дома. По наружности это был обыкновенный, худощавый мужчина, с коротко остриженными волосами и густыми седыми бровями. Бороды у него не было, он носил, впрочем, небольшие бакенбарды, узенькой полоской спускавшиеся от нижних оконечностей его ушей. Его глаза были остры и выразительны, нос – прямой и хорошо сформированный, таков же был и его подбородок. Но благородные черты лица его обезображивались до некоторой степени посредственным ртом с тонкими губами, его высокий и узкий лоб хотя и заставлял вас принимать мистера Деля за идиота, но в то же время не отнимал у вас возможности составить о нем идею как о человеке с большими дарованиями или обширными способностями. Ростом он был около пяти футов десяти дюймов, и в период нашего рассказа ему можно было дать и около шестидесяти, и около восьмидесяти лет. Впрочем, время обходилось с ним весьма благосклонно, в нем обнаруживалось весьма немного признаков старости. Таким был по наружности Кристофер Дель, эсквайр – оллингтонский сквайр, – полный господин трех тысяч фунтов стерлингов годового дохода, получаемых исключительно с его поместья.
Теперь я поговорю о Большом оллингтонском доме. В действительности дом этот был не очень велик, вокруг него не было великолепного парка, который придает особенную грандиозность обиталищам наших зажиточнейших землевладельцев. Впрочем, надо сказать, что дом сам по себе имел некоторую прелесть. Он был построен в дни Стюартов, в том архитектурном стиле, которому мы даем название стиля Тюдоров. На лицевом его фасаде показывались три остроконечные кровли, или три шпиля, в промежутках между кровлями тянулись тонкие, высокие дымовые трубы, так что оконечности их значительно возвышались еще над тремя шпилями, о которых я упомянул. Мне кажется, что красота дома много зависела от этих двух труб, – от них и еще от готических окон, которыми испещрен был лицевой фасад. Парадный вход с выдающимся вперед подъездом, само собою разумеется, ни под каким видом не мог находиться посредине фасада. При входе в главную дверь, направо от вас, красовалось одно окно, налево – три. Над ними тянулась линия пяти окон, из коих одно приходилось прямо над подъездом. Нам всем знакомо прекрасное старинное окно Тюдоров, с его каменной колонкой посредине, с каменными сводами, пересекающими эту колонку ближе к его вершине, чем к основанию. Из всех окон, придуманных архитектурой, едва ли найдется другое более приятное на вид. А здесь, в Оллингтоне, мне кажется, красота их увеличивалась еще и тем, что они не имели однообразной формы. Некоторые окна сравнительно были очень широки, другие вновь узки. К числу первых принадлежали окна нижнего этажа по ту и по другую сторону парадных дверей. Прочие не отличались особенною правильностью – в одном месте широкое окно, в другом – узкое, – но общий вид от этого ничего не терял, напротив, едва ли можно было придумать что-нибудь лучше. Наконец, в трех шпилях находились три подобных отверстия. Они так же разделялись посредине колонками, так что в архитектуре лицевого фасада дома было много общего.
Вокруг дома были три хорошеньких сада, не очень больших, но достойных замечаний по своей изысканной чистоте, по своим широким песчаным дорожкам, наконец, по одной аллее перед лицевым фасадом дома, такой широкой, что правильнее было бы назвать ее террасой. Впрочем, эта аллея хотя и тянулась перед лицевым фасадом, но начиналась от него в некотором расстоянии, чтобы дать место экипажам для подъезда к парадному входу. Оллингтонские Дели всегда были садовниками, и их сад считался во всем округе более замечательным, чем все другие принадлежности господского дома. Внешняя сторона садов не имела никаких особенных претензий, которые бы придавали величие оллингтонскому Дому. Прилегавшие к садам пастбища были ни более ни менее как прекрасные луга, с обилием растущих деревьев. В Оллингтоне не было оленьего парка, оллингтонские леса хотя и были весьма известны, но они не составляли целого, которого бы парк был частью. Они лежали в стороне, закрытые от глаз, на целую милю от заднего фасада дома, тем не менее, однако, это способствовало размножению лисиц.
И опять, дом стоял слишком близко к дороге, чтобы сохранить за собой право на грандиозность, если только можно допустить, что кто-либо из оллингтонских сквайров имел притязания на эту грандиозность. Впрочем, мне кажется, что наши идеи о сельской красоте и с тем вместе грандиозности значительно изменились со времени постройки старинных загородных замков и барских домов. Быть вблизи деревни, для того собственно, чтобы некоторым образом доставлять ей комфорт, защиту и покровительство, а может статься, и для того, чтобы доставлять подобным соседством удовольствие своим домашним и друзьям, казалось, служило главною целью джентльмена старого времени, когда он строил загородный дом. В настоящее же время уединение в центре обширного парка считается самым удобным и приятным местоположением, теперь принято за правило, чтобы из окон господского дома не показывался ни один коттедж селянина, кроме разве утонувшего в зелени коттеджа садовника. В настоящее время если деревню нельзя уничтожить совсем, то, по крайней мере, она не должна бросаться в глаза. Унылый звук церковных колоколов производит неприятное впечатление, и дорога, по которой свободно может проехать всякий простолюдин, должна находиться в стороне. Не так думал об этом один из оллингтонских Делей, когда строил свой дом. Тут стояла и церковь, и деревня, ему нравилось подобное соседство – ему приятно было находиться в близком расстоянии и от Бога, и от ближних.
Проезжая по дороге от Гествика в деревню, вы видите в левой стороне, довольно близко от себя, церковь, а господского дома все еще не видать. Но когда вы приблизитесь к церкви, когда поравняетесь с воротами церковной ограды, перед вами откроется во всей красоте Большой оллингтонский дом. Быть может, это самое лучшее место, с которого можно любоваться картиной оллингтонского Дома. Неширокая просека или аллея и по ней обыкновенная дорога ведут к воротам церковной ограды, воротам, которые вместе с тем служат и входом в поместье мистера Деля. Тут нет сторожевого домика, ворота стоят открытыми, и открытыми почти постоянно, за исключением только случаев, когда потребуют закрытия их пасущиеся за ними стада. Впрочем, тут есть еще другие, внутренние ворота, отделяющие пастбища от сада, и за ними, пожалуй, третьи, ярдов на тридцать от вторых, через которые вы входите на двор, принадлежащий к ферме. Быть может, такое близкое соседство фермы составляет недостаток Большого дома, но надобно сказать, что конюшни, хлева, сеновалы, немытые телеги и лениво передвигающаяся с места на место домашняя скотина закрыты от дома, как ширмой, рядом каштановых деревьев, с красотой которых, когда они в ранние майские дни покроются всею роскошью цвета, не может сравняться никакой другой ряд каштанов во всей Англии. Если бы кто-нибудь сказал оллингтонскому Делю – нынешнему или прежнему, – что поместье его нуждается в лесе, он вместо ответа указал бы, с смешанным чувством гордости и неудовольствия, на эту ширму, на этот каштановый пояс.
О церкви я намерен сказать как можно меньше. Это была церковь, каких в Англии найдутся тысячи – высокая, неудобная, с трудом поддерживаемая в должном порядке, преждевременно пропитанная сыростью, а между тем, странным покажется, живописная и правильная в архитектурном отношении. Она имела трапезу, приделы и паперть, расположенные в виде креста, хотя приделы или крылья и были слишком коротки, так что казались обрезанными и приставленными к туловищу руками, имела отдельный алтарь, большую четырехугольную невысокую башню и шпиль в виде опрокинутого колокола, покрытый свинцом и крайне неправильных размеров. Кому не знакомы низенькая паперть, высокое готическое окно, приделы с плоскими кровлями и почтенная, старая, седая башня таких церквей, как эта? Что касается ее внутренности, то она имела мрачный вид, была загромождена неуклюжими скамейками с высокими спинками, в конце церкви находились хоры, на которых собирались ребятишки и где два ветхих музыканта надували свои хриплые фаготы, все здание покривилось и, казалось, готово было рушиться, кафедра представляла собою неуклюжее сооружение, почти упиравшееся в самый потолок, так что пюпитр или налой на кафедре едва позволял священнику свободно держать голову от болтавшихся кистей навешенного над ним балдахина. Нисколько не удобнее устроено было в кафедре и место для клирика, вообще все было сделано не так, как бы хотелось видеть. Несмотря на то, церковь была как церковь, и я едва ли могу сказать больше в похвалу всех новейших зданий, воздвигнутых в мое время на прославление Бога. Да, это была действительно церковь, и тем более что, проходя посредине ее между скамейками, вы ступали на медные плиты, которые достойным образом обозначали места вечного упокоения отошедших от мира сего Делей.
За церковью, между ней и деревней, стоял пасторский дом. Небольшой сад, окружавший его, простирался от кладбища до самых задворков деревенских коттеджей. Это был прехорошенький домик на привлекательной местности, построенный заново тридцать лет тому назад, он вполне удовлетворял идеям о комфорте богатого духовного сословия, из которого всегда назначались священники в оллингтонский приход. Само собою разумеется, что в течение нашего пребывания в Оллингтоне нам придется от времени до времени заглядывать и в пасторский дом, а потому теперь я не вижу необходимости распространяться о его комфорте и удобствах.
По мере того как вы подвигаетесь вперед по аллее, ведущей к пасторскому дому, к церкви и к господскому дому, большая дорога быстро опускается вниз к небольшому ручью, который бежит мимо деревни. Направо, при спуске, вы увидите гостиницу под вывескою «Красный лев», другого более замечательного здания, которое бы обращало на себя внимание, вы не встретите. Внизу ската, подле самого ручья, стоит почтовая контора, содержимая, конечно, самой сварливой старушонкой в этой местности. Здесь дорога пересекается ручьем, и здесь же для удобства пешеходов устроен узенький деревянный мостик. Но до перехода через ручей вы увидите в левой стороне поперечную дорогу, идущую совершенно в параллель с аллеей господского дома. Здесь, на том месте, где улица поднимается на пригорок, стоят самые лучшие дома деревни. Здесь живет булочник и та почтенная женщина, мистрис Фромэдж, которая торгует лентами, игрушками, мылом, соломенными шляпами и множеством других вещей и вещиц, пересчитывать которые было бы и бесполезно, и слишком долго. Здесь также живет аптекарь, благоговение к которому, как здешнего, так и соседних приходов, возвысило его на степень доктора, наконец, здесь же, в миниатюрном, но премиленьком коттедже, живет мистрис Харп, вдова прежнего священника, – живет на заключенных с сквайром условиях, которые, к сожалению, я должен сказать, не так дружественны или гуманны, как бы им следовало быть. За скромной резиденцией этой леди оллингтонская улица, ибо так названа здесь дорога, вдруг круто поворачивает к церкви, и на самом повороте вы упираетесь в невысокий железный забор с воротами и закрытым коридором, ведущим к передним дверям дома. При заключении этой скучной главы я скажу только одно, что это-то и есть оллингтонский Малый дом. Оллингтонская улица, как я уже сказал, круто поворачивает в этом месте к церкви и там оканчивается у белых ворот, служащих входом на кладбище с другой стороны.
О Большом оллингтонском доме, о сквайре и деревне я сказал все необходимое. О Малом доме я поговорю отдельно в одной из дальнейших глав.
Глава II ДВЕ ОЛЛИНГТОНСКИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ
– Но мистер Кросби ни больше ни меньше как клерк.
Этот саркастический приговор произнесен был мисс Лилианой Дель в разговоре с сестрой ее Изабеллой и относился к джентльмену, с которым на этих страницах мы много будем иметь дела. Я не говорю, что мистер Кросби будет нашим героем, предвидя, что эта роль в настоящей драме, как говорится, перервется. Все возвышенное и прекрасное в нашей драме будет разжижено и распределено в весьма умеренных дозах между двумя или более, по всей вероятности, между тремя или четырьмя молодыми джентльменами, но ни одному из них не представится привилегии быть героем.
– Не знаю, Лили, что ты хочешь этим сказать: ни больше ни меньше как клерк. Мистер Фанфарон тоже ни больше ни меньше как адвокат, а мистер Бойс – ни больше ни меньше как священник.
Мистер Бойс был оллингтонский священник, а мистер Фанфарон – адвокат, который во время объездов для уголовных следствий заезжал в Оллингтон.
– Ты, пожалуй, еще скажешь, что и лорд Дегест ни больше ни меньше как граф.
– И скажу: действительно, ни больше ни меньше как граф. Конечно, этого никто бы не сказал, если бы он, кроме откармливания быков, занимался чем-нибудь другим. Ведь ты понимаешь, что я хотела сказать, назвав мистера Кросби клерком? Небольшая, кажется, важность получить коронную должность, а между тем мистер Кросби ужасно как важничает.
– Однако ты не можешь сказать, что мистер Кросби то же самое, что и Джон Имс, – возразила Белл, которая, судя по тону ее голоса, вовсе не намерена была унижать достоинства мистера Кросби.
Джон Имс был молодой джентльмен из Гествика, получивший, года два тому назад, место в управлении сбора податей, с жалованьем по восьмидесяти фунтов стерлингов в год.
– Джон Имс тоже обыкновенный клерк, – сказала Лили. – А мистер Кросби… Ну, скажи мне, Белл, что же такое мистер Кросби, если не обыкновенный писец? Разумеется, он старше Джона Имса, и, как раньше его поступивший на службу, надо думать, что и жалованья получает больше восьмидесяти фунтов.
– Я не посвящена в тайны мистера Кросби. Знаю только, что он служит в генеральной комиссии, и полагаю, что там один только он и управляет делами. Я слышала, как Бернард говорил, что у него под рукой до семи молодых людей и что… Впрочем, я не знаю, чем он занимается в своей комиссии.
– Хочешь, я скажу тебе, что такое мистер Кросби? Мистер Кросби пустой, надменный человек.
И Лилиан Дель сказала правду: мистер Кросби был человек пустой и надменный.
Здесь, мне кажется, у места объяснить, что такое был Бернард и кто был мистер Кросби. Капитан Бернард Дель служил в корпусе инженеров, был первый кузен двух разговаривавших сестер, племянник и предполагаемый наследник сквайра. Его отец, полковник Дель, и его мать, леди Фанни Дель, еще были в живых и обретались в Торки; это была бесполезная, больная, беззаботная чета, сделавшаяся мертвою для всего мира за пределами торкийских карточных столов. Это был тот самый Дель, который составил себе карьеру в 19-м драгунском полку, и составил ее тем, что увез дочь совершенно обнищавшего графа, лорда Дегеста. После такого подвига обстоятельства как-то не складывалась в его пользу, не доставляли ему случая выказать себя, сделаться человеком замечательным, он постепенно начал терять к себе уважение общества, а надобно сказать, что общество до его побега с леди Фанни уважало его, теперь же, при переходе лет его в преклонное состояние, он и леди Фанни только и были известны как постоянные члены карточных столов на торкийских минеральных водах. Его старший брат все еще был здоровый мужчина, ходил, как говорится, в толстых башмаках и крепко держался в седле, но полковник, не имея ничего для поддержания бодрости, ничего, кроме графского титула жены, преждевременно раскис и заснул в своих туфлях. От него и от леди Фанни Бернард Дель был единственным сыном. У них были и дочери, одни померли, другие вышли замуж, и при них осталась одна, тоже для того, чтобы скитаться между карточными столами. В последнее время Бернард виделся с своими родителями довольно редко, не чаще того, сколько требовал сыновний долг и надлежащее выполнение пятой заповеди. Он тоже делал для себя карьеру: имел поручения от начальства и был известен всем своим товарищам как племянник графа и наследник имения, дающего три тысячи фунтов стерлингов годового дохода. Если к этому я прибавлю, что Бернард Дель вовсе не имел расположения отклонять от себя какое либо из этих преимуществ, то отнюдь ничего не будет сказано в его порицание. Преимущество быть наследником хорошего имения так очевидно, что никто не решится отклонить его от себя, не пожелает кому-нибудь другому сделать то же самое. Деньги в кармане или ожидание получить деньги заставляют человека совсем иначе держать голову, придают какую-то уверенность его голосу, уверенность в самом себе, которые много помогают ему на пути жизни – разумеется, в таком только случае, если человек воспользуется ими, а не употребит их во зло. Бернард Дель не любил говорить часто о своем дяде-графе. Он знал, что дядя его – граф, и был уверен, что факт этот был известен всем. Он знал, что в противном случае его не выбрали бы членом Бофорта или того самого аристократического небольшого клуба, который назывался клубом Себрэйт. Когда дело касалось благородства крови, он не ссылался на свое собственное происхождение, но умел говорить как человек, о котором знал весь свет, и знал, какое место должен занимать он в обществе, благодаря своему происхождению. Значит, он благоразумно пользовался своим преимуществом и не употреблял его во зло. По должности своей он был одинаково счастлив. С помощью трудолюбия, небольшого, но деятельного ума и с помощью покровительства он мало-помалу подвигался вперед, становился более и более заметным и успел наконец прослыть за талантливого человека. Имя его сделалось известным между учеными экспериментаторами – не как имя человека, который сам изобрел небывалую пушку или орудие, противодействующее пушке, но как человека, понимающего пушечное дело и совершенно способного судить и рядить о пушках, изобретенных другими, – человека, который честно будет производить опыты над изобретением и поставлять ему противодействующую силу. В этом роде состояли все занятия капитана Деля около Лондона, его не посылали в Новую Шотландию строить казармы или в Пунджаб – проводить дороги.
Капитан Бернард был мужчина невысокого роста, не выше своего дяди, но в лице имел с ним большое сходство. У него были те же глаза, тот же нос, подбородок и даже рот, но лоб его был лучше, не так высок, менее выдавался вперед и как-то особенно лучше сформирован над бровями. Сверх того, он носил усы, прикрывавшие его тонкие губы. Вообще говоря, он был красивый мужчина и, как я уже заметил, имел вид самоуверенный, который уже сам по себе придавал молодому человеку особенную грацию.
В настоящее время Бернард находился в доме своего дяди, пользуясь пленительною теплотою летнего сезона – июль месяц еще далеко не был на исходе, задушевный друг его, Адольф Кросби, – был ли он или не был обыкновенным клерком, об этом я предоставляю моим читателям составить свои собственные мнения, – гостил вместе с ним у сквайра. С своей стороны я намерен сказать, что Адольф Кросби был более чем клерк или писец, и я не думаю, чтобы его назвал кто-нибудь писцом, даже Лили Дель, если бы он сам не дал ей повода считать его пустым, надменным человеком. Во-первых, человек, делаясь надменным, не может во время этого процесса оставаться обыкновенным писцом. Во-вторых, капитан Дель не захотел бы быть Дамоном какого-нибудь Пифия, о котором можно сказать, что он действительно обыкновенный писец. И опять, никакой писец не мог бы попасть в клуб Бофорт или Себрэйт. Это может служить сильным опровержением первого предположения со стороны мисс Лилианы Дель и весьма сильным опровержением высказанного ею последнего мнения. Правда, мистер Кросби действительно был надменен, правда и то, что он был клерком в генеральной комиссии. Но надо заметить, что генеральная комиссия находилась в Вайтмолле, между тем как бедный Джон Имс должен был ежедневно путешествовать из отдаленной части Лондона на Россель-сквэр, в грязную контору в Соммерсет-гаузе. Адольф Кросби, еще в молодости был приватным секретарем, где достиг некоторого авторитета и впоследствии получил место старшего чиновника, приносившее ему, кроме семисот фунтов стерлингов жалованья, еще высокое, заметное положение между помощниками секретарей и другими чиновниками, а это, даже с официальной точки зрения, что-нибудь да значило. У Адольфа Кросби были еще и другие отличия. Мало того что он был в дружеских отношениях с помощниками секретарей и имел в Вайтголле особую комнату с креслом, он пользовался правом стоять на ковре в клубе Себрэйт и ораторствовать, между тем как богатые люди слушали его, – не только богатые люди, но и люди, имевшие при фамилиях своих звучные приставки! Отличия Адольфа Кросби состояли более чем в приготовлении дельных докладов по генеральной комиссии. Он расположился перед воротами города моды и взял их штурмом, или, проще говоря, подобрал ключи к замкам этих ворот и прошел сквозь них. На пути светской жизни, в фешенебельном обществе, Адольф Кросби имел важное значение. Если житель Вест-энда, самой фешенебельной части Лондона, не знал, кто такой Адольф Кросби, значит, он ровно ничего не знал. Я не говорю, что Адольф был в близких отношениях с многими знатными личностями, но все же эти личности не гнушались знакомством с Адольфом Кросби, и его нередко можно было встретить в гостиных, а на парадных лестницах министров и подавно.
Лилиана Дель, – милая Лили Дель, – предупреждаю читателя, что она действительно премилое создание, и что история моя покажется ему пустою, если он не полюбит Лили Дель, – Лилиана Дель сделала открытие, что мистер Кросби – надменный человек. Но по долгу правдивого человека я обязан сказать, что он не принял бы этого факта за оскорбление, сделавшись надменным, он не сделался еще совсем дурным человеком. И вот еще что: нельзя же в самом деле ожидать от человека, которого ласкали и лелеяли в клубе Себрэйт, чтобы он держал себя в оллингтонской гостиной, как Джон Имс, которого никто не баловал и не лелеял, кроме разве матери. Наконец, эта частица нашего героя имела еще другие преимущества, кроме тех, которыми он пользовался в модном свете. Адольф Кросби был высокого роста, видный мужчина, с приятными и выразительными глазами, – мужчина, на которого бы вы обратили внимание, в какой бы гостиной ни встретились с ним, он умел поговорить, и в его разговоре было что-то привлекательное. Это не был денди или бабочка, которая сформировалась под влиянием солнечной теплоты и получила привлекательную пестроту в своих крылышках от солнечных лучей. Кросби имел свой собственный взгляд на вещи – на политику, на религию, на филантропические тенденции века, он это читал, и это тем более способствовало ему для верного выражения своих мнений. Быть может, он выиграл бы гораздо больше, не поступив так рано в Вайтгол. В нем было что-то особенное, что могло бы доставить ему лучший кусок хлеба при другой профессии.
Впрочем, в этом отношении судьба Адольфа Кросби была решена, и он примирился с ней, несмотря на ее неумолимость. На его долю выпало небольшое наследство, доставлявшее около ста фунтов годового дохода, а вдобавок к этому он получал жалованье, и больше ничего. На эти деньги он жил в Лондоне холостяком, наслаждался всеми удовольствиями, какие Лондон мог предоставить ему как человеку с умеренными, но почти независимыми средствами и ожидающему в будущем неприхотливой роскоши: ему хотелось иметь жену, собственный дом или конюшню, полную лошадей. Те удовольствия и даже прелести жизни, которыми он наслаждался, делали бы его в глазах Имса, если бы он узнал о них, баснословным богачом. Квартира мистера Кросби в улице Маунт была элегантна во всех отношениях. В течение трех месяцев лондонского сезона Кросби считал себя полным господином очень миленькой кареты. Он щегольски одевался, всегда прилично и со вкусом. В клубах умел держать себя наравне с людьми, получавшими вдесятеро больше дохода. Кросби не был женат. В душе он сознавался, что ему нельзя жениться на бедной невесте, как сознавался и в том, что ему не хотелось бы жениться на деньгах, и поэтому вопрос о женитьбе, о счастье супружеской жизни был отодвинут у него на задний план. Но… но в настоящую минуту мы не станем вдаваться с излишним любопытством в частную жизнь и обстоятельства нашего нового друга Адольфа Кросби.
После приговора, произнесенного над ним Лилианой, две сестры оставались на некоторое время безмолвными. Белл, как кажется, немного рассердилась на Лили. Редко случалось, чтобы она позволяла себе расточать похвалы какому-нибудь джентльмену, а теперь, когда она сказала несколько слов в пользу мистера Кросби, сестра упрекнула ее за это невольное увлечение, Лили что-то рисовала и через минуту или две совсем забыла о мистере Кросби, но Белл продолжала считать себя обиженною и не замедлила вернуться к прерванному разговору:
– Мне, Лили, неприятно слышать от тебя такие слова.
– Какие слова?
– Которыми ты назвала друга Бернарда.
– Ах, да! Я назвала его пустым, надменным человеком. А мне, так кажется, чрезвычайно приятно употреблять смешные слова там, где дело идет о смешном. Только я боюсь, что это может расстроить твои нервы. Неужели же при каждом разговоре нам должно обращаться к лексикону и отыскивать в нем приличные выражения, согласись, что это очень скучно, да и медленно.
– Все же, мне кажется, нехорошо отзываться так о джентльмене.
– В самом деле? Я и хотела бы выражаться лучше, да что же делать, если не умею.
«Если не умею»! Для взрослой девицы подобного неуменья не должно существовать. Дело другое, если бы природа и мать не наделили ее этой способностью. Но я думаю, что в этом отношении природа и мать были довольно щедры для Лилианы Дель.
– Во всяком случае, мистер Кросби джентльмен и умеет показать себя приятным. Вот мое мнение. Мама говорила о нем гораздо больше, чем я.
– Мистер Кросби – Аполлон, а я всегда смотрю на Аполлона как на величайшего… Я не досказываю, потому что Аполлон был…
В этот момент, когда имя бога красоты оставалось еще на губах Лили, в открытом окне гостиной промелькнула тень, и вслед за тем вошел Бернард, сопровождаемый мистером Кросби.
– Кто здесь говорит об Аполлоне? – спросил капитан Дель.
Девицы как будто вдруг онемели. Ну, что будет с ними, если мистер Кросби слышал последние слова бедной Лили? Белл всегда обвиняла сестру свою в опрометчивости – и вот результат! Но, по правде сказать, Бернард, кроме слова Аполлон, ничего не слышал, а мистер Кросби, идя позади, не слышал и этого.
Пленительны и музыкальны, Как звуки арфы Аполлона…– С струнами из его волос! – сказал мистер Кросби, не обращая большого внимания на цитату, но замечая, что сестры были чем-то встревожены и молчали.
– Какая должна быть неприятная музыка, – сказала Лили, – впрочем, может статься, у Аполлона были волосы не такие, как у нас.
– Волоса его уподоблялись солнечным лучам, – заметил Бернард.
В это время Аполлон поздоровался, и леди приветствовали гостей надлежащим образом.
– Мама в саду, – сказала Белл с той притворной скромностью, которая так свойственна молоденьким леди, когда молодые джентльмены застают их одних, как будто все заранее знают, что мама должна быть предметом их посещения.
– Собирает горох, – прибавила Лили.
– Так пойдемте же скорее помогать ей, – сказал мистер Кросби, и с этими словами все отправились в сад.
Сады Большого оллингтонского дома и Малого были открыты друг для друга. Их разделяли густая живая изгородь из лавровых деревьев, широкий ров и решетчатый железный забор, окаймлявший ров. В одном месте через широкий ров перекинут был пешеходный мостик, который затворялся воротами, никогда не знавшими замка. Сад, принадлежащий Малому оллингтонскому дому, был очень мал, да и самый домик стоял так близко к дороге, что между окнами столовой и железным забором оставалось весьма небольшое пространство в виде каймы, по которой тянулась вымощенная камнем дорожка, фута два шириною, доступная только для одного садовника. Расстояние от дороги к дому, не более пяти-шести футов, занято было крытым коридором. Сад позади дома, перед окнами гостиной, расстилался так отдельно, как будто тут не существовало ни оллингтонской деревни, ни дороги, ведущей к церкви. Правда, с зеленой поляны, тут же перед окнами, виднелся церковный шпиц, выглядывая из-за тисовых деревьев, посаженных в углу кладбища, примыкавшего к стене сада мистрис Дель, но никто из Делей не выражал своего неудовольствия при виде этого шпица. Главная прелесть оллингтонского Малого дома заключалась в его поляне, такой ровной, такой гладкой и мягкой, точно бархат. Лили Дель, гордясь своей поляной, часто говорила, что в Большом доме не найти такого местечка, на котором бы можно было поиграть в крикет. Трава, говорила она, растет там какими-то кочками, которых Хопкинс, садовник, никак не может или не хочет выровнять. В Малом доме этого нет, а так как сквайр не имел особенного пристрастия к игре в крикет, то все принадлежности ее переданы были в Малый дом, и крикет сделался там особым учреждением.
Говоря о саде, я должен упомянуть об оранжерее мистрис Дель, относительно которой Белл была решительного мнения, что Большой дом не имел ничего подобного. «Разумеется, я говорю только о цветах», – говорила она, поправляясь, потому что при Большом доме находился отличный виноградник. В этом случае сквайр был менее снисходителен, чем в деле крикета, и обыкновенно замечал своей племяннице, что в цветах она ничего не смыслит.
«Может быть, дядя Кристофер, – возражала она. – Мне все равно, только наши герани лучше винограда».
Мисс Дель была немножко упряма, впрочем, это качество принадлежало всем Делям мужского и женского пола, молодым и старым.
Нельзя также не сказать здесь, что попечение о поляне, оранжерее и, вообще, о всем саде, принадлежавшем к Малому дому, лежало исключительно на Хопкинсе, старшем садовнике Большого дома, а по этой простой причине мистрис Дель не считала за нужное нанимать особого садовника. Работящий парень, который чистил ножи и башмаки и копал гряды, был единственным слугою мужского пола при трех леди. Впрочем Хопкинс, главный оллингтонский садовник, имевший у себя работников, с таким же почти усердием наблюдал за поляной и оранжереей Малого дома, как за виноградом, персиками и террасами Большого. В его глазах это было одно и то же место. Малый дом принадлежал его господину, как принадлежала ему даже самая мебель в доме, дом этот был в полном распоряжении, а не отдавался на аренду мистрис Дель. Хопкинс, может статься, не слишком жаловал мистрис Дель, видя, что он вовсе не был связан какой-нибудь обязанностью в отношении к ней, как к урожденной леди Дель. Дочерей ее он любил, но тоже иногда делал им грубости, и делал их совершенно безнаказанно. В отношении к мистрис Даль он был холодно-учтив, и когда она отдавала Хопкинсу какое-нибудь серьезное приказание относительно сада, он не иначе исполнял его, как с разрешения сквайра.
Все это будет служить объяснением условий, на которых мистрис Дель жила в Малом доме, – обстоятельство, необходимо требующее объяснения раньше или позже. Ее муж был младший из трех братьев и во многих отношениях лучший. В молодости он отправился в Лондон и сделался землемером. Он так прекрасно исполнял свои обязанности, что правительство приняло его в коронную службу. В течение трех или четырех лет он получал большие доходы, но смерть внезапно постигла его в то самое время, когда только что начинала осуществляться золотая перспектива, которую он видел перед собою. Это случилось лет за пятнадцать до начала нашего рассказа, так что оставшиеся сироты едва сохранили воспоминание о своем отце. В течение первых пяти лет вдовства мистрис Дель, никогда не пользовавшаяся особенным расположением сквайра, жила с двумя маленькими дочерями так скромно, как только позволяли ее весьма ограниченные средства. В то время старуха мистрис Дель, мать сквайра, занимала Малый дом. Но когда старуха умерла, сквайр предложил этот дом бесплатно своей невестке, поставив при этом на вид, что ее дочери, живя в Оллингтоне, получат значительные общественные выгоды. Вдова приняла предложение, и затем действительно последовали общественные выгоды. Мистрис Дель была бедна, весь доход ее не превышал трехсот фунтов в год, и потому образ ее жизни был по необходимости весьма незатейливый, но она видела, что ее дочери становились популярными во всем округе, были любимы окружавшими их семействами и пользовались почти всеми преимуществами, которые принадлежали бы им, если бы они были дочерями оллингтонскаго сквайра, Деля. При таких обстоятельствах ей было все равно, любил ли ее или не любил оллингтонский сквайр, уважал ли ее или не уважал садовник Хопкинс. Ее дочери любили и уважали ее, и в этом заключалось все, чего она требовала для себя от целого света.
Дядя Кристофер был очень добр и любезен к своим племянницам, добр и любезен по своим суровым понятиям о доброте и любезности. В конюшнях Большого дома находились две маленькие лошадки, пони, которые были отданы в полное распоряжение племянниц, так что, кроме них, никто не имел права кататься на лошадках, за исключением разве каких-нибудь особенных случаев. Я думаю, сквайр мог бы подарить этих пони своим племянницам, но он думал иначе. Он пополнял их гардероб, посылая от времени до времени необходимые, по его мнению, материи, далеко, впрочем, не модные и не нарядные. Денег он не давал и не делал по этой части никаких обещаний. Они были Дели, и сквайр любил их, а Кристофер Дель, полюбивши однажды, любил навсегда. Белл была его фавориткой, вместе с племянником Бернардом она пользовалась лучшею теплотою его сердца. На этих двух существах он основывал все свои планы, предполагая, что Белл будет будущею госпожой Большого оллингтонского дома, впрочем, относительно этого плана мисс Белл оставалась в совершенном неведении.
Теперь мы, кажется, можем воротиться к нашим друзьям, которых оставили на поляне. Они, как нам уже известно, отправились помогать мистрис Дель собирать горох, но на пути к занятию встретилось удовольствие, и молодые люди, забыв о трудах хозяйки дома, позволили себе увлечься прелестями крикета. Железные обручи и палки стояли на местах, около них лежали моллеты и мячи, и притом из молодых людей образовались такие прекрасные партии!
– Я не играл еще в крикет, – сказал мистер Кросби.
Нельзя сказать, чтобы много ушло времени для этой игры, потому что мистер Кросби прибыл в Большой дом не далее как перед обедом предшествовавшего дня. Через минуту моллеты были уже в руках играющих.
– Мы, конечно, разделимся на партии, – сказала Лили, – Бернард и я будем играть вместе.
Но этого не позволили, Лили считалась героинею на поле крикета, а так как Бернард был искуснее своего друга, то Лили заставили взять себе в товарищи мистера Кросби.
– Аполлон не умеет попадать в обручи, – говорила впоследствии Лили своей сестре, – но как грациозно он делает это!
Лили была побеждена, и потому ей можно извинить небольшую досаду на своего товарища. Впрочем, надобно сказать, что мистер Кросби до отъезда своего из Оллингтона научился прекрасно попадать в обручи, и Лили хотя все еще считалась царицею поля, но должна была допустить в своих владениях и господство мужчины.
– Мы не так играли в… – сказал Кросби во время игры и вдруг остановился.
– Где же это вы играли? – спросил Бернард.
– В одном месте, где я был прошлое лето, в Шропшейре.
– В том месте, мистер Кросби, где вы были прошлое лето, в Шропшейре, не умеют играть в крикет, – сказала Лили.
– Я знаю, ты хочешь сказать, что он был у леди Хартльтон, – сказал Бернард.
Здесь мы заметим, что маркиза Хартльтон была очень важная персона – передовая личность фешенебельного света.
– А! у леди Хартльтон! – возразила Лили. – В таком случае, конечно, мы должны отдать ей первенство.
Эта маленькая ирония имела значение для мистера Кросби и, разумеется, осталась у него в памяти. Он старался избегать имени леди Хартльтон и не упоминать о ее поляне для игры в крикет. Несмотря на то, он не сердился на Лили Дель, напротив, она нравилась ему, но Белл нравилась еще больше, хотя и мало говорила, Белл, надо сказать, была в семействе красавица.
Во время игры Бернард вспомнил, что они пришли просить обитательниц Малого дома к обеду в Большой дом. Они обедали там накануне, и дядя молоденьких леди отправил кавалеров просить их к обеду и на этот день.
– Я пойду спросить об этом мама, – сказала Белл, освободясь от игры.
По возвращении на поляну она объявила, что она и сестра должны исполнить приказание дяди, но что мама предпочитает остаться дома.
– Она хочет покушать гороху, – заметила Лили.
– Так отправить его в Большой дом, – сказал Бернард.
– Нельзя, Хопкинс не позволит, – сказала Лили, – он называет это смешением вещей. Хопкинс не любит смешений.
Когда кончилась игра, молодые люди начали бродить по саду, перешли из малого в большой, добрались до его окраины из мелкого кустарника, вышли на соседние поля, где еще лежали остатки сушившегося сена. Лили взяла грабли и минуты две гребла сено, мистер Кросби, сделав попытку набросать на воз сено, должен был заплатить поселянам полкроны за поздравление с благополучным приездом. Белл спокойно сидела под деревом, заботясь о сохранении в лице нормального румянца, между тем мистер Кросби, убедясь, что подбрасывание сена очень утомительно, бросился под то же самое дерево, приняв позу настоящего Аполлона, как сказывала Лили своей матери поздно вечером. Бернард не мог придумать лучшей шутки, как бросить на Лили охапку сена, Лили, отвечая тем же, едва не задушила мистера Кросби – разумеется, без всякого умысла.
– Ах, Лили, – заметила Белл.
– Ради бога извините, мистер Кросби. Это все Бернард виноват. С вами, Бернард, никогда другой раз не пойду на сенокос.
Таким образом, все были веселы, все как-то особенно настроены к дружескому развлечению, одна Белл спокойно сидела под деревом и только изредка прислушивалась к словам мистера Кросби. Время, проведенное в обществе, где для оживления беседы требуется весьма немного разговора, имеет свою особенную прелесть. Белл была не так развязна и жива, как сестра ее Лили, и, когда, спустя час после этого, сестры одевались к обеду, она признавалась, что провела время самым приятным образом, хотя мистер Кросби и не был слишком разговорчив.
Глава III ВДОВА ДЕЛЬ
Так как мистрис Дель Малого дома не принадлежала, по своему происхождению, к фамилии оллингтонских Делей, то не представляется ни малейшей надобности утверждать факт, что в ее характере не следует отыскивать особенностей, свойственных характеру Делей. Эти особенности не были, может статься, очень заметны и в ее дочерях, которые в этом отношении более заимствовали от матери, чем от отца, при всем том внимательный наблюдатель легко заметит в них оттенки характера Делей. они были постоянны, тверды и иногда очень строги в своих суждениях, они склонны были думать, что весьма много значит принадлежать к фамилии Делей, но не имели расположения много говорить об этом и гордиться, у них была своя лучшая гордость, которая досталась по наследству от матери.
Конечно, мистрис Дель была гордая женщина, но она гордилась вовсе не тем, что исключительно принадлежало ей самой. По своему происхождению она была гораздо ниже мужа, потому что ее дед был почти никто. Ее состояние было довольно значительно для ее скромного положения в жизни, и доходы с него служили главными источниками ее существования, но этого далеко не достаточно, чтобы гордиться им как богатством. Она считалась некогда красавицей, и даже теперь, на мой взгляд, все еще была очень хороша, но, разумеется, в эту пору жизни, после пятнадцати лет вдовства, с двумя взрослыми дочерями на руках, она не гордилась своей красотой. Не имела она также сознательной гордости в том, что была леди. А что она была леди, снаружи и внутри, с маковки головы до подошвы ног, в голове, в сердце и в уме, леди по воспитанию и леди по природе, леди также по происхождению, несмотря на недостаток в этом отношении ее деда, я ручаюсь за этот факт – meo periculo. Сквайр, не питая к ней особенного расположения, признавал, однако же, в ней это достоинство и во всех отношениях обходился с ней как с равной себе.
Ее положение требовало, чтобы она была или очень горда, или уж очень покорна. Она была бедна, а между тем ее дочери занимали положение, которое принадлежит только дочерям богатых людей. Они пользовались этим положением как племянницы бездетного оллингтонского сквайра и, как его племянницы, по мнению мистрис Дель, имели полное право на его ласки и любовь, не в ущерб уважения к ней самой или к ним. Весьма дурно выполняла бы мистрис Дель материнские обязанности в отношении к своим дочерям, если бы позволила своей собственной гордости занять место между ними и теми материальными выгодами, которые дядя в состоянии был предоставить им. Через них и для них она бесплатно получала дом, в котором жила, и пользовалась многим, что принадлежало собственно сквайру, для себя не получала ничего. Брак ее с Филиппом Делем не нравился его брату сквайру, и сквайр, при жизни еще Филиппа, продолжал показывать, что изменить чувства его в этом отношении не было никакой возможности. И они не изменились. Прожив несколько лет в самом близком соседстве, живя, можно сказать, в одном и том же семействе, сквайр и мистрис Дель не могли сделаться друзьями. Между ними никогда не было ссоры, об этом нечего и говорить. Они постоянно встречались. Сквайр бессознательно оказывал глубокое уважение вдове своего брата, с своей стороны вдова вполне ценила любовь, оказывавшую дядей ее дочерям, но все-таки они не могли сделаться друзьями. Мистрис Дель никогда не говорила сквайру слова о своих денежных делах. Сквайр ни слова не говорил матери о своем намерении относительно ее дочерей. Таким образом они жили и живут в Оллингтоне.
Жизнь, которую проводила мистрис Дель, нельзя назвать легкой жизнью, она не была лишена многих трудных, тяжелых усилий с ее стороны. Теорию ее жизни можно выразить следующими словами – мистрис Дель должна похоронить себя, собственно для того, чтобы дочери ее счастливо жили на свете. Для приведения этой теории в исполнение необходимость требовала, чтобы она воздерживалась от всякой жалобы на свою участь, не показывала перед дочерями ни малейшего вида, что ее положение горько. Счастье их жизни на земле было бы отравлено, если бы они заметили, что их мать, в своей подземной жизни, испытывает ради них и переносит всякого рода лишения. Необходимо было, чтобы они думали, что сбор гороха в коленкоровой шляпке с опущенными полями, долгое чтение книг перед камином и одинокие часы, проводимые в размышлениях, составляли ее любимую наклонность. «Мама не любит показываться в обществе», «Я не думаю, чтобы мама была где-нибудь счастливее, кроме своей гостиной» – так обыкновенно говорили ее дочери. Я не думаю, чтобы их научали говорить подобные слова, они сами приучились к мысли, которая заставила их выражаться таким образом, и уже в ранние дни своего появления в обществе привыкли отзываться так о своей матери. Но вскоре пришло время – сначала к одной, а потом и к другой, – когда они узнали, что это было совсем не так, и узнали также, что для них и за них бедная мать их много страдала.
И действительно, мистрис Дель по сердцу могла бы быть нисколько не старше своих дочерей. Могла бы тоже играть в крикет, грести сено, красоваться на маленькой лошадке и находить удовольствие в наездничестве, могла бы, наконец, выслушивать любезные фразы того или другого Аполлона, могла бы, если бы все это согласовалось с ее положением. Женщины в сорок лет не всегда становятся ветхими мизантропками или строгими моралистками, совершенно равнодушными к светским удовольствиям – нет! даже если бы они и были вдовами. Есть люди, которые полагают, что непременно таково должно быть настроение их умов. Признаюсь, я смотрю на это совсем иначе. Я бы хотел, чтобы женщины, а также и мужчины были молоды до тех пор, пока могут сохранить в своих сердцах силу молодости. Я не хочу, чтобы женщина считала себя по летам моложе того, сколько ей значится лет по записи отца ее в фамильной библии. Пусть та из них, которой сорок лет, и считает себя сорокалетней, но если в эти года душой она может быть моложе, то зачем же не показывать себя тем, что есть на самом деле?
В этом отношении я не оправдываю мистрис Дель. Вместо того чтобы оставаться между гороховыми тычинками в коленкоровой шляпе с опущенными полями, ей бы следовало, таков по крайней мере мой совет, присоединиться к играющим в крикет. Тогда между молодыми людьми она не проронила бы ни одного сказанного слова. А эти гороховые тычинки отделялись от поляны только невысокой стеной и несколькими кустарниками. Мистрис Дель прислушивалась к словам играющих не как подозревающее что-нибудь, но как любящее существо. Голоса ее дочерей были для нее очень дороги, серебристые звуки голоса Лили раздавались в ушах ее так очаровательно, как музыка богов. Она слышала, что говорено было о леди Хартльтон, и ужаснулась при смелой иронии своей Лили. Она слышала, как Лили сказала, что мама хочет дома покушать гороху, и при этом подумала, что теперь такова уж ее участь.
– Милое, дорогое дитя! действительно, такова и должна быть моя участь!
Когда напряженный слух ее проводил молодых людей через маленький мостик в соседний сад, она с корзинкой на руке перешла через поляну и, опустившись на приступок у окна гостиной, устремила взор свой на роскошные летние цветы и гладкую поверхность расстилавшейся перед ней поляны.
В том, что она находится здесь, не проявлялась ли особенная благость Провидения? Можно ли быть недовольным таким состоянием? Разве она не может считать себя счастливою, имея дочерей таких пленительных, любящих, доверчивых и в свою очередь заслуживающих полного доверия? Хотя Богу угодно было, чтобы муж, лучшая половина самой ее, был оторван от земной жизни и чтобы чрез это она лишена была всех земных радостей, но разве дурно, что за такое лишение для нее так много было сделано, чтобы смягчить ее судьбу и придать этой судьбе столько прелести и красоты? Все это так, говорила она про себя, и все-таки считала себя несчастливою. Она решилась, как сама часто говорила, отказаться от всякого ребячества, и теперь сожалела об этом ребячестве, которое сама же от себя отбросила. В ушах ее все еще раздавался серебристый голос Лили, звучавший в группе молодых людей, когда они пробирались сквозь кустарники, – она слышала эти звуки в то время, когда ничей слух, кроме материнского, не мог бы его различить. Если эти молодые люди были в Большом доме, то весьма естественно, и ее дочери должны быть там же. Сквайр не любил, чтобы гости сидели с ним, когда не было дам, которые бы украшали его стол. Но что касается до нее, она была уверена, что о ней никто и не вспомнит. Правда, от времени до времени она должна была показываться в Большом доме, в противном случае самое ее существование было бы не то чтобы незаметным, но неприятно заметным. Другой причины, по которой она не должна присоединяться к обществу молодых людей, не было. Так пусть же ее дочери едят со стола брата и пьют из его чаши. Им всегда и от всей души будет сделан радушный прием. Для нее не существовало подобного радушия ни в Большом, ни во всяком другом доме, ни за чьим бы то ни было столом!
«Мама хочет дома покушать гороху».
И мистрис Дель, облокотясь на колена и подпирая руками подбородок, повторила слова, произнесенные ее дочерью во время прогулки.
– Извините, мама, на кухне спрашивают, нужно ли чистить горох.
Вопрос этот прервал думы мистрис Дель. Она встала и отдала корзинку.
– Неужели на кухне не знают, что барышни обедают сегодня в Большом доме?
– Знают, мама.
– Для меня не нужно готовить обеда. Я буду рано пить чай. И мистрис Дель не исполнила исключительно ей предназначенного долга. Но зато она приступила к исполнению другой обязанности. Когда семейство из трех человек должно проживать на доходы из трехсот фунтов в год и, несмотря на то, иметь претензию на появление в обществе, оно должно заботиться о некоторых мелочах, даже и в таком случае, если бы это семейство состояло только из лиц женского пола. Мистрис Дель знала это очень хорошо, а так как ей нравилось, чтобы наряды ее дочерей были милы и свежи, то она много долгих часов посвящала этой заботливости. Сквайр присылал им шали на зиму, дарил платья для верховой езды, привозил из Лондона темненькую шелковую материю на платья, но всегда в таком ограниченном количестве, что сшить два платья из подаренной материи оказывалось делом выше искусства женщины, и особливо платья из шелковой материи темненького цвета, а между тем сквайр хорошо помнил о своих подарках и с нетерпением желал видеть плоды своей щедрости. Все это, само собою разумеется, считалось вспомоществованием, но если бы сквайр дарил деньги, которые употреблял на покупку материй, благодеяние его ценилось бы гораздо выше. Итак, дочери мистрис Дель всегда были мило, прилично и даже нарядно одеты, они сами заботились и трудились над этим, но главною швеей и портнихой была их мать. И теперь она вошла в их комнату, вынула кисейные платья и… впрочем, мне кажется, я не должен здесь пускаться в подробности. Она, однако же, никогда не стыдилась этой работы, требовала горячий утюг и своими руками разглаживала все складки, придавала надлежащую пышность воланам, пришивала где нужно новую ленточку – словом, приводила все платье в должный порядок. Мужчины вовсе не знают, какого стоит труда доставить удовольствие их зрению, хотя бы это было даже на час времени.
– Ах, мама, как вы добры! – сказала Белл, возвратясь с сестрой своей с прогулки, чтобы надеть хорошенькие платья и потом отправиться на обед.
– Мама всегда добра, – сказала Лили, – я бы желала, мама, гораздо чаще делать для вас то же самое. – И с этими словами она побаловала мать.
Сквайр был пунктуален насчет обеденного времени, и потому барышни торопливо оделись и снова пошли по тому же саду, мать провожала их до мостика.
– Ваш дядя не сердился, что я не пришла? – спросила мистрис Дель.
– Мы его не видали, мама, – сказала Лили. – Мы были в поле и совсем забыли о времени.
– Вероятно, дяди там не было, а то бы мы с ним встретились, – заметила Белл.
– А я, мама, право, сердита на вас. И ты Белл тоже, да? С вашей стороны очень дурно оставаться всегда дома и не ходить с нами вместе.
– Я думаю, для мама приятнее сидеть в своей гостиной, чем в Большом доме, – сказала Белл с особенной нежностью, взяв мать свою за руку.
– Ну, прощайте, милые. Я буду ждать вас часам к десяти или одиннадцати. Впрочем, вы не торопитесь.
Сестры ушли, и вдова снова осталась одна. Дорожка от мостика шла прямо к заднему фасаду Большого дома, так что мистрис Дель минуты две смотрела вслед своим дочерям, почти бежавшим по дорожке. Она увидела, как размахнулись платья их при крутом повороте на террасу. Она не хотела идти дальше закрытого уголка в лавровых деревьях, которые окружали ее, боясь, чтобы кто-нибудь не подсмотрел, как следила она за своими дочерями. Но когда розовые кисейные платьица скрылись из виду, ей стало жаль, что она не пошла вместе с ними. Она стояла, не сделав ни шагу вперед. Ей не хотелось, чтобы Хопкинс рассказывал потом, как она глядела вслед своим дочерям, когда они шли из ее дома в дом сквайра. Ведь Хопкинс не в состоянии понять, зачем она следила за ними.
– Вы, мои милые, как видно, не очень торопились. Я думаю, и ваша мать могла бы прийти с вами, – сказал дядя Кристофер.
Такова была манера у этого человека. Если бы он согласовал слова свои с своими желаниями, то должен бы признаться, что ему приятнее, когда мистрис Дель остается дома, без нее он чувствовал себя за своим столом вполне господином и гораздо спокойнее. А между тем часто выражал сожаление, что она не пришла, и как будто верил в это сожаление.
– Я думаю, мама устала, – сказала Белл.
– Гм! Кажется, недалеко пройти от одного дома к другому. Если бы я каждый раз, когда устаю, запирался дома… Но ничего. Пойдемте обедать. Мистер Кросби, не угодно ли вам взять мою племянницу Лилиану.
И потом, предложив свою руку Белл, сквайр отправился в столовую.
– Если он еще будет бранить мою мама, я уйду, – сказала Лили своему спутнику. Из этого можно заключить, что в течение проведенного вместе утра молодые люди успели уже сблизиться.
Мистрис Дель, постояв с минуту на мостике, воротилась домой к чаю. Не будем входить в подробности о том, заменил ли этот чай бараньи котлеты и отварную ветчину или жареную утку и зеленый горох, которые имелись в доме для семейного обеда. Мы можем, однако же, заметить, что она села за вечернюю трапезу без особенного аппетита. Перед тем как сесть за стол, она взяла какую-то книгу, вероятно какой-нибудь роман, потому что мистрис Дель была еще в той поре женщина, когда романы читаются не без удовольствия, и, прихлебывая чай, прочитала две-три страницы. Но вот книга кладется в сторону, поднос, на котором уже давно простыл горячий чай, остается забытым, мистрис Дель садится в свое фамильное кресло и погружается в думы о себе, о своих дочерях, в думы, вероятно, и о том, какова была бы ее участь, если бы жил еще тот, которого она так горячо любила в течение немногих лет своего замужества.
Надобно заметить, что постоянно любить и ненавидеть было в натуре всех Делей. Любовь к ней мужа ее была самая искренняя, неизменная, так что покойный нередко ссорился с своим братом, потому что последний не совсем по братски выражался иногда насчет его жены. Много лет прошло с того времени, а между тем чувство это сохранилось в прежней своей силе. Приехав впервые в Оллингтон, мистрис Дель старалась приобрести расположение сквайра, но вскоре узнала, что это вещь невозможная, и у нее больше уже не было к тому желания. Мистрис Дель не принадлежала к числу тех мягкосердечных женщин, которые благодарят Бога, что могут любить всякого. Тогда она могла бы еще полюбить сквайра, могла бы питать к нему тесную сестринскую дружбу, но теперь это сделать она не могла. Сквайр был холоден к ней и с каким-то настойчивым постоянством отклонял от себя всякое с ее стороны заискивание его расположения. Вот уже прошло семь лет, в течении этого времени мистрис Дель была так же холодна к нему, как он был холоден к ней.
Все это весьма тяжело переносить. Что ее дочери должны любить своего дядю, это было не только благоразумно, но во всех отношениях желательно. К ним он не был холоден. Он был привязан к ним и великодушен. Не будь ее при них, он принял бы их в свой дом, как родных дочерей, и они, конечно, во всех отношениях стояли бы перед светом, как его приемные дети. Не лучше ли было бы, если бы ее при них не было?
Только в самом грустном настроении духа вопрос этот возникал в ее отвлеченных думах, тогда она вдруг возвращалась к действительности и решительно, с негодованием отвечала на него протестом против своей собственной болезненной слабости. Без нее дочерям ее не было бы хорошо, хотя бы дядя их был вдвое лучшим дядей, хотя бы они, благодаря ее отсутствию, могли сделаться наследницами Оллингтона. Неужели для них не дороже всего, не выше всего на свете находиться постоянно вблизи матери? И когда она предлагала себе этот вопрос, – предлагала лукаво, как она признавалась себе, – неужели она не знала, что они любили ее больше и лучше всего в мире, что они предпочли бы ее ласки и заботливость покровительству всякого дяди, как бы ни был велик его дом? Да, они любили ее лучше целого мира. К другой любви, если бы она пробудилась в их сердцах, она не стала бы ревновать. И если эта любовь пробудится, если они будут счастливы, тогда она сама, быть может, насладится светлым вечером жизни. Если они выйдут замуж, если мужья их примут ее любовь, ее дружбу и ее преданность, она бы могла еще избавиться от этой мертвенной холодности Большого дома и быть счастлива в каком-нибудь уютном коттедже, из которого могла бы выходить по временам и навещать тех людей, которые действительно были бы ей по душе. Недалеко от Оллингтона, в Гествике, жил доктор, о нем она часто думала как о человеке, который бы мог занять место зятя. Этот человек, по-видимому, нравился ее спокойной, прекрасной Белл, а он более чем старался с своей стороны понравиться ей. Но надежда эта, или, вернее, эта идея, несколько недель тому назад исчезла как сон. Мистрис Дель никогда об этом не спрашивала дочь, она была не такая женщина, чтобы делать подобного рода вопросы. В течение двух последних месяцев она с сожалением увидела, что Белл почти с холодностью смотрела на человека, к которому ее мать благоволила.
В этих размышлениях прошел весь вечер, около одиннадцати часов она услышала приближающиеся к дому шаги. Молодые люди, само собою разумеется, провожали барышень, и когда мистрис Дель вышла из все еще открытых дверей гостиной, она увидела их всех на средине расстилавшейся перед домом поляны.
– Вон и мама! – вскричала Лили. – Мама, мистер Кросби хочет поиграть в крикет при лунном свете.
– Мое кажется, теперь довольно темно, – сказала мистрис Дель.
– Для него достаточно и этого освещения, – возразила Лили. – Ведь он играет без обручей, не правда ли, мистер Кросби?
– Мне кажется, для крикета довольно свету, – отвечал мистер Кросби, взглянув на луну. – И притом же было бы нелепо ложиться теперь спать.
– Да, ваша правда, – сказала Лили. – Но ведь, вы знаете, в деревне все люди нелепые. Бильярд, на котором можно играть целую ночь при газовом освещении, гораздо лучше, не правда ли?
– Ваши стрелы, мисс Дель, далеко не попадают в цель, потому что я в жизнь свою не брал кия в руки, вам бы лучше поговорить о бильярде с вашим кузеном.
– А разве Бернард большой охотник до этой игры? – спросила Белл.
– Да, иногда играю, изредка, не чаще, чем Кросби играет в крикет. Ну, Кросби, пойдем домой и закурим сигары.
– И прекрасно, – сказала Лили. – А мы, деревенские жители, отправимся спать. Мама, я бы желала, чтобы у нас была небольшая курительная комнатка. Я не хочу, чтобы нас считали нелепыми.
С этими словами партия разделилась – дамы вошли в дом, а кавалеры отправились обратно через поляну.
– Лили, душа моя, – сказала мистрис Дель, когда все они собрались в спальне. – Мне кажется, что ты очень грубо обходишься с мистером Кросби.
– Она так обходилась с ним весь вечер, – заметила Белл.
– На том основании, что считала себя в кругу добрых друзей.
– В самом деле? – спросила Белл.
– Послушай, Белл, ты ревнива, это верно.
И потом, заметив, что сестра ее слегка обиделась, Лили подошла и поцеловала ее:
– Нет, она не ревнива, не правда ли, мама?
– Она не подавала повода думать об этом, – сказала мистрис Дель.
– Ты сама знаешь, что у меня даже в уме ничего подобного не было, – сказала Белл. – Всякий садовый цветок занимает меня больше, чем мистер Кросби.
– И меня тоже, Лили.
– Ну, уж нет. Впрочем, мама, он у меня не выходит из памяти. Он так похож на Аполлона. Я всегда буду называть его Аполлоном: Phoebus Apollo! И когда я буду рисовать его портрет, то вместо лука дам ему в руки моллету. Признаюсь, я очень обязана Бернарду, что он привез его сюда, и, право, не хотела бы, чтобы он уехал отсюда послезавтра.
– Послезавтра! – сказала мистрис Дель. – На два дня не стоило и приезжать…
– Действительно не стоило. Приехать сюда, чтобы нарушить наши мирные, спокойные привычки, не дать даже времени сосчитать его лучи.
– Впрочем, он говорит, что еще раз приедет сюда, – заметила Белл.
– Да, нам еще остается надежда на это, – сказала Лили. – Дядя Кристофер просил его приехать, когда получит более продолжительный отпуск. А ведь теперь он здесь за короткое время. Ему легче достаются отпуска, чем бедному Джонни Имсу. Джонни может отлучиться только на месяц, а мистер Кросби на два, и притом когда вздумается, вообще он, кажется, располагает своим временем круглый год, как настоящий господин.
– Дядя Кристофер приглашал его в сентябре – на охоту, – сказала Белл.
– Да, и хотя он не сказал, что приедет, но мне кажется, у него было это на уме, – возразила Лили. – Вот, мама, есть еще надежда для нас.
– Тогда тебе придется нарисовать Аполлона с ружьем вместо моллеты.
– А это весьма нехорошо, мама. Мы мало будем видеть и его, и Бернарда. Они ведь не возьмут нас в лес вместо загонщиков.
– Ты будешь много кричать и через это будешь бесполезна.
– В самом деле? Я думала, что загонщики должны кричать и вспугивать птиц. Я бы очень устала, если бы пришлось все кричать, а потому, думаю, лучше оставаться дома и заниматься шитьем.
– Я надеюсь, что он приедет, дядя Кристофер, как видно, очень его любит, – сказала Белл.
– Желала бы я знать, понравится ли его приезд одному джентльмену в Гествике, – заметила Лили и тотчас же взглянула на сестру: она увидела, что слова ее были неприятны.
– Лили, ты даешь большую волю своему языку, – сказала мистрис Дель.
– Ведь я пошутила, Белл, извини пожалуйста.
– Ничего, – сказала Белл. – Только все же Лили часто говорит, не подумав.
Разговор прекратился, и ничего больше не было сказано, кроме нескольких слов о туалете и обыкновенных желаний, выражаемых при прощании. Лили и Белл занимали одну комнату, и, когда дверь этой комнаты затворилась за ними, Белл с некоторым одушевлением намекнула на предшествовавший разговор:
– Лили, ты обещала мне не говорить ни слова о докторе Крофтсе.
– Знаю, душа моя, и знаю также, что я очень виновата. Прости меня, Белл, вперед этого не будет, разумеется, если можно будет удержаться.
– Если можно будет удержаться, Лили!
– Не знаю, право, почему я не должна говорить о нем, конечно, не в насмешку. Из всех мужчин, которых я видела в жизни моей, он нравится мне больше всех. Если бы я не любила тебя больше, чем люблю себя, я бы тебе позавидовала.
– Лили, ты что обещала мне сейчас?
– Хорошо, это начнется с утра. Не знаю тоже, почему ты так холодно обращаешься с ним.
– Я никогда не обращалась с ним холодно.
– Разве это не видно? А он между тем готов отдать левую руку, если ты только улыбнешься ему, даже правую руку, и как бы мне хотелось увидеть это на самом деле. Ты слышишь, Белл?
– Слышу, что ты говоришь пустяки.
– Как бы я желала увидеть это! Мама тоже желает, я уверена, хотя и не слышала от нее об этом ни слова. В моих глазах это – красавец мужчина, каких я не видывала. Как можно сравнить его с мистером Аполлоном Кросби! Но я вижу, что тебе неприятно, и теперь не скажу о нем ни слова.
Когда Белл пожелала сестре доброй ночи, быть может, с большею, против обыкновенного, любовью, заметно было, что слова Лили и ее энергический тон понравились ей, несмотря на обещание, которого она требовала от сестры: Лили все это видела и знала.
Глава IV КВАРТИРЫ И КВАРТИРАНТЫ МИСТРИС РОПЕР
Я говорил, что Джонни Имс, кроме матери, никто не баловал и не лелеял, но этим я ни под каким видом не думал сказать, что у Джонни Имса не было друзей. Есть класс молодых людей, которых никто не балует, но тем не менее они могут пользоваться уважением и даже, может быть, любовью. Они не являются в свет подобно Аполлонам и вовсе не блестят, сберегая блеск, который имеют в себе, для внутренних целей. Такие молодые люди часто бывают неразвязны, неловки в обращении, не имеют уверенной осанки или походки, они борются, но совладать с своими членами не могут, за пределами круга своих близких знакомых или товарищей чрезвычайно застенчивы, слова, где они более всего требуются, как нарочно, являются не скоро к ним на помощь. Общественные собрания составляют для них периоды тяжелого испытания, всякое появление в обществе расстраивает их нервы. Они любят быть одни и краснеют, когда заговорит с ними женщина. Они еще не мужчины, хотя лета их и дают право на это название, но и не мальчики: свет обыкновенно называет их юношами.
Наблюдения, которые я имел возможность сделать по этому предмету, привела меня к убеждению, что юноша во всяком случае представляет собою прекраснейший вид человеческой расы. Сравнивая неразвитого юношу двадцати одного, двадцати двух лет с каким-нибудь оконченным Аполлоном того же возраста, я смотрю на первого как на плод недоспелый, а на последнего как на плод почти переспелый. Отсюда истекает вопрос об этих двух плодах. Какой из них лучше: тот ли, который поспевает рано, поспеванию которого, быть может, благоприятствовали какие-нибудь усиленные средства, положим даже, хоть теплота стены, обращенной к полдню, или плод, который поспевает медленнее, над которым трудится сама природа без всякой посторонней помощи, на который солнце действует в свое время, а может быть, и совсем не действует, если его заслоняет какой-нибудь непрозрачный предмет, бросая на него холодную тень? Общество, без всякого сомнения, расположено в пользу усиленных средств. Плод действительно созревает, и притом в известное время. Он является чистенький, гладенький, без пятнышка, без крапинки и известного качества. Владетель его может пользоваться им, когда вздумается. Несмотря на то, по моему мнению, благотворное влияние солнца сообщается во всей своей силе другому плоду, – сообщается не насильственным образом, но во всякое время, если только не будет неблаготворной тени. Мне нравится вкус своевременно созревшего плода, и нравится еще лучше, быть может, потому, что он получен без постороннего содействия.
Впрочем, юноша, хотя и краснеет, когда говорят с ним женщины, бывает неспокоен, когда они находятся вблизи его, хотя на балу он не знает, куда девать свои руки, и во всякое другое время не умеет распорядиться своим языком, но он в особенности является красноречивейшим созданием между хорошенькими женщинами. Он наслаждается всеми радостями Дон Жуана, хотя и без той бессердечности, которою отличался настоящий Дон Жуан, при его неиспорченном еще взгляде на вещи и пленительном голосе, ему представляется возможность выходить победителем из всякой стычки. Но это красноречие звучит чарующими звуками только в его собственных ушах, и эти радости и победы существуют только в его воображении.
Истинный юноша любит оставаться без посторонних, он не увлекается общественными удовольствиями даже с другими подобными ему юношами. Эту особенную черту в его характере едва ли кто наблюдал как должно. Он, по всей вероятности, не сделался Аполлоном потому собственно, что обстоятельства не доставляли ему случая иметь столкновения с обществом, и поэтому он обретается в одиночестве, предпринимает продолжительные прогулки, в которых мечтает о подвигах и победах, какие так далеко ему не по силам. В открытом поле, с тросточкой в руке, он становится весьма красноречивым и в минуты увлечения, для поддержания энергии, сбивает тросточкой верхушки летних растений. Таким образом он дает пищу своему воображению и бессознательно подготовляет себя к окончательному периоду зрелости, если только на него не будет падать посторонняя, неблаготворно действующая тень.
Подобных юношей почти никто не ласкает, кроме разве матери, таким юношей был и Джонни Имс, когда его отправили из Гествика с тем, чтобы он начал общественную жизнь в обширной комнате одного присутственного места в Лондоне. Мы можем сказать, что около него не было ни одного молодого Аполлона. Но все же он был не без друзей – друзей, желавших ему всего хорошего и заботившихся о его благополучии. У него была сестра, которая от души его любила и которая вовсе не подозревала в нем юноши, вероятно потому, что сама была того же возраста и находилась в тех же отношениях к обществу. Мистрис Имс, их мать, была вдова, она жила в небольшом домике в Гествике, ее муж в течение своей жизни считался задушевным приятелем нашего сквайра. Это был человек, испытавший много несчастий, он начал земное свое поприще в изобилии, а кончил в нищете. Все свои дни он прожил в Гествике и, арендуя большой участок земли, убил много денег на опыты по части сельского хозяйства, впоследствии он занимал небольшой дом на самом краю города и умер там года за два до начала нашей истории. Ни с кем другим не жил мистер Дель в таких дружеских отношениях, как с Имсом. Когда мистер Имс скончался, мистер Дель добровольно принял на себя обязанности его душеприказчика и опекуна его детей. Он доставил Джонни Имсу место в коронной службе, которое молодой человек и занимал в настоящее время.
Мистрис Имс тоже всегда находилась в самых дружеских отношениях с мистрис Дель. Сквайр не имел особенного расположения к мистрис Имс, на которой муж ее женился, когда ему стукнуло за сорок лет. Своей привязанностью к этой бедной покинутой женщине мистрис Дель старалась заменить ту холодность и то равнодушие, которые оказывали ей в Большом доме. Мистрис Имс действительно была бедная, покинутая женщина, забытая даже при жизни мужа и убитая горем теперь, в своем вдовстве. В некоторых, более или менее серьезных случаях сквайр был добр для нее: устраивал ее денежные делишки, подавал советы насчет дома и дохода и, наконец, хлопотал об устройстве ее сына, но вообще при встрече с ней был весьма холоден и даже груб, так что бедная мистрис Имс всегда смотрела на него с подобострастием. Напротив того, мистрис Дель не боялась сквайра и иногда давала гествикской вдове советы, далеко не согласовавшиеся с понятиями сквайра. При таких отношениях той и другой стороны возникла дружба между Белл, Лили и молодым Имсом, та и другая сестрица приготовлялись объяви ть, что Джонни Имс был ее единственным любимым другом. Но все же они говорили о нем редко и даже с некоторой насмешкой, что очень обыкновенно в хорошеньких девушках, которые в числе своих друзей имеют юношей и которые присмотрелись уже к грациям Аполлона.
Здесь я должен сказать, что Джонни Имс, приехав в Лондон, был положительно и навсегда влюблен в Лили Дель. Он сотни раз и в самых трогательных выражениях объяснялся в своей страсти, но только самому себе. Он написал множество стихотворений и поэтических посланий к Лили и хранил их под двойным замком. Давая полную волю своему воображению, он льстил себя, что своими стихами мог бы одержать победу не только над Лили, но и над целым светом, и в то же время готов бы был скорее погибнуть, чем представить их человеческому глазу. В течение последних десяти недели своей жизни в Гествике, во время приготовления к лондонской карьере, Джонни часто заглядывал в Оллингтон, ходил туда пешком, возвращался тем же способом назад, и все напрасно. Во время этих прогулок он отдыхал в гостиной мистрис Дель, говорил очень мало и в разговоре обращался всегда к одной матери, а между тем каждый раз, отправляясь в дальнюю прогулку под знойными лучами солнца, он давал себе обещание непременно сказать несколько слов, по которым Лили могла бы догадаться, что он ее любит. При отъезде в Лондон слова эти остались невысказанными.
Джон Имс не думал еще просить руки Лили. Он начинал только жить на свете с восьмидесятью фунтами стерлингов в год жалованья и добавочными двадцатью фунтами из кошелька своей матери. Он очень хорошо понимал, что женатому человеку с такими средствами невозможно жить в Лондоне, и, кроме того, в душе своей сознавал, что человек, которому выпадет счастье жениться на Лили, должен приготовиться на доставление ей и комфорта, и неги, и роскоши. Он знал, что ему нельзя ожидать уверения в любви со стороны Лили, но, несмотря на то, считал возможным передать ей свое уверение. Конечно, такое уверение было бы напрасно. Луч истинной надежды только тогда и озарял его, когда он находился в поэтическом настроении духа. Он признавался самому себе, хотя и не совсем решительно, что перестал быть юношей, – неразвязным, молчаливым, незанимательным, с наружностью, как говорится, еще недошедшею или недоспелою. Джонни все это знал, как знал также, что в мире есть Аполлоны, которые того и гляди, что увезут Лили в своих блестящих колесницах. Тем не менее, однако же, он решил в своем уме, что, полюбив Лили однажды, должен был, как подобает истинному джентльмену, любить ее по гроб.
На прощание он сказал ей несколько слов, но в этих словах скорее выражалась дружба, а не любовь. Оставив Белл одну в гостиной, он вышел за Лили на поляну. Может статься, Лили понимала чувства юноши и на прощание хотела поговорить с ним ласково, даже более чем ласково. Любовь бывает иногда молчалива, но женщины умеют узнавать ее, и умеют так же безмолвно и вместе с тем очаровательно благодарить за то уважение, которым она сопровождается.
– Я пришел проститься, Лили, – сказал Джон Имс, настигнув Лили на одной из садовых дорожек.
– Прощайте, Джон, – сказала Лили, оглянувшись назад. – Вы знаете, как нам грустно расставаться с вами. Но что делать: вам необходимо ехать в Лондон, для вас это великое дело.
– Правда… да… я полагаю, хотя бы скорее я согласился оставаться здесь.
– Как можно! Оставаться здесь и ничего не делать! Нет, вы бы не остались.
– Разумеется, я хочу заняться чем-нибудь. Я хочу сказать…
– Вы хотите сказать, что грустно расставаться с старыми друзьями? Уверяю вас, при разлуке с вами мы все чувствуем это сами. Но у вас будет иногда и свободное время, которое доставит нам возможность увидеться с вами.
– Конечно, и тогда мы увидимся. Я думаю, Лили, мне приятнее было бы, чем с кем-нибудь, увидеться с вами.
– Ах нет, Джон. А наша мать, наша сестра?
– Да, правда, мать и сестра. Но я приду сюда в самый первый день моего приезда, – само собою разумеется, если это вам будет приятно.
– Нам всегда приятно вас видеть. Вы это знаете. Итак, милый Джон, желаю, чтобы вы были счастливы.
Слова эти произнесены были таким тоном, который совсем опрокинул бедного Джонни, или, вернее сказать, поставил его на ноги и заставил его говорить, но впоследствии сила этого тона ослабела и утратила свое могущественное действие.
– Вы мне этого желаете? – говорил он, держа ее руку в своей руке в течение нескольких счастливых секунд. – Позвольте же и мне пожелать вам быть вечно счастливыми. Прощайте, Лили.
Джонни Имс оставил ее и воротился в гостиную. Лили продолжала прогулку между деревьями и кустарниками и показалась в доме спустя полчаса времени. Скажите, много ли найдется девушек, которые имеют такого обожателя, – обожателя, который не в состоянии высказать им более того, что высказал Джонни Имс, который никогда не высказывает более того? А между тем, когда, спустя много лет, они вздумают припомнить имена всех, кто их любил, имя этого неразвязного юноши будет едва ли не первым.
Это прощание состоялось почти два года тому назад, Лили Дель была тогда семнадцати лет. После того Джон Имс только раз приезжал домой в течение четырехнедельного отпуска и часто посещал Оллингтон. Но он никогда не старался воспользоваться тем случаем, о котором я рассказал. Ему казалось, что Лили была холоднее к нему, чем в былые дни, да и сам он сделался перед ней застенчивее прежнего. Он заметил как-то, что осенью опять приедет в Гествик, но, говоря по совести, Лили Дель вовсе не обратила на это внимания, как будто ей было все равно, приедет он или не приедет. И то сказать, девицы в девятнадцать лет мало обращают внимания на обожателей – юношей двадцати одного года, если только юноша этот не будет представлять собою плода, воспользовавшегося для своей спелости выгодами какого-нибудь усиленного аппарата.
Любовь Джона Имса постоянно была искренна и горяча, она оживлялась и поддерживалась поэзией и откровенностью перед своим товарищем, таким же чиновником, как он сам, впрочем, не думайте, что в течение этих двух лет он оставался сентиментальным, мечтательным любовником. Может статься, что было бы лучше, если бы он взял на себя подобную роль. Совсем не то было на самом деле. Джон Имс бросил уже флейту, на которой до отъезда из Гествика научился выдувать три плачевные ноты, а на пятое или шестое воскресенье окончательно бросил свои одинокие прогулки по берегу канала, проведенного по Реджент-парку. Мечтать об отсутствующем предмете любви, бесспорно, очень приятно, но если пройти мили две по пустому берегу, мечтание это становится монотонным – воображение начинает рисовать картины удовольствий у тети Салли, в креморнских садах, и с тем вместе выдвигать на первый план финансовые вопросы. Не думаю, чтобы в это время какая-нибудь девушка осталась довольна настроением души своего обожателя, если бы она видела все, что происходило в этой душе.
– А что, Кодль, трудно попасть в клуб?
Вопрос этот был сделан в одну из воскресных прогулок Джоном Имсом близкому его приятелю, собрату чиновнику, настоящее имя которого было Кредль и который своими приятелями прозван был Кодлем.
– Попасть в клуб? Фишер, в нашем отделении, состоит членом какого-то клуба.
– Он член шахматного клуба. Но я говорю о настоящем клубе.
– О клубе аристократов или записных франтов, как, например, Вест-энд! – сказал Кредл, почти теряясь в изумлении при выражении такого желания своего приятеля.
– Зачем Вест-энд? Я не знаю, что может выиграть человек, слывя за записного франта. Но согласись, в доме мистрис Ропер ужасно скучно.
Мистрис Ропер, надобно сказать, было респектабельная леди, содержавшая в Буртон-Кресцент отдельные квартиры, она была отрекомендована мистрис Имс с отличной стороны, в то время когда последняя старалась приискать для своего сына спокойный и безопасный приют в семейном доме. На первый год своего пребывания в Лондоне Джон Имс жил совершенно одиноким в отдельной квартире, но результатами этой жизни было неудобство, одиночество и увы! значительный долг, падавший тяжелым бременем на бедную вдову. На второй год более спокойный и безопасный образ жизни оказывался необходимым. Мистрис Имс узнала, что мистрис Кредль, вдова адвоката, определив своего сына в управление по сбору государственных доходов, отдала его за попечение мистрис Ропер, и мистрис Имс, с множеством материнских просьб и увещаний, поручила своего сынка тому же самому попечению и надзору.
– А насчет посещения церкви? – спрашивала мистрис Имс.
– Ну уж, не знаю, мама, усмотрю ли за этим, – добросовестно отвечала мистрис Ропер. – Вы сами знаете, что молодые люди в этом случае не любят принуждения.
– Все же, мне кажется, они должны помнить церковь, – возразила мать, озабоченная новым образом жизни, в которой сыну ее предоставлялась полная свобода действовать по своему собственному усмотрению.
– Само собою разумеется, мама, что те, которые приучены к этому в молодости, будут сами исполнять этот долг без всякого принуждения.
– Ах, он приучен к этому, мистрис Ропер, уверяю вас. И пожалуйста, не давайте ему запасного ключа от уличных дверей.
– Как же я сделаю, если все они требуют его?
– Он не будет требовать, если вы скажете, что я этого не желала.
Мистрис Ропер согласилась, и Джонни Имс оставлен был на ее попечение. Он спросил запасный ключ, но мистрис Ропер отвечала, что ей не приказано выдавать под влиянием не совсем-то непогрешительной философии Кредля, он снова потребовал ключ и на этот раз получил. Мистрис Ропер всегда гордилась тем, что была благородна, как свое слово, не понимая, что кто-нибудь мог бы по справедливости потребовать от нее более того, чем она гордилась. Она отдала Джонни Имсу ключ, что, без сомнения, намерена была сделать гораздо раньше, мистрис Ропер хорошо знала свет и понимала, что молодые люди без запасного ключа не будут у ней жить.
– А я думал, что тебе веселее с той поры, как приехала сюда Амелия, – сказал Кредль.
– Амелия! Что мне за дело до Амелии? Кажется, Кредль, я тебе поверил все мои тайны, и после этого ты еще можешь говорить мне об Амелии Ропер?
– Ну, что ж такое, Джонни… – Кредль всегда называл его Джонни, и это название перешло с ним в место его служения. Даже Амелия Ропер не раз называла его этим именем. Однажды вечером ты так был любезен с ней, как будто Лили Дель не было и на свете.
Джонни Имс отвернулся и покачал головой. Несмотря на то, слова приятеля как-то приятно прозвучали в его ушах. Характер Дон Жуана имел свою прелесть в его воображении, ему приятно было, что мог доставить удовольствие Амелии Ропер пустыми, но звучными фразами, тогда как сердце его оставалось верным Лилиане Дель. И то еще надо заметить, что пустые фразы чаще говорила Амелия, чем он.
Мистрис Ропер была совершенно так же благородна, как ее слово, когда говорила мистрис Имс, что ее семейство состояло из нее, сына, служившего в конторе какого-то стряпчего, из старушки кузины, по имени мисс Спрюс, квартировавшей у нее, и мистера Кредля. Прекрасная Амелия не жила еще с ней, и свойство ее объяснения с мистрис Имс ни под каким видом не налагало на нее обязанности сообщать мистрис Имс, что эта молоденькая барышня, по всей вероятности, прибудет к ней в дом с наступающей зимой. Впоследствии она приняла к себе в качестве квартирантов мистера и мистрис Люпекс, так что дом мистрис Ропер сделался совершенно полным.
Надо также сказать, что Джонни Имс в минуту откровенности доверял Кредлю тайну второй, более слабой своей страсти к Амелия.
– Славная девушка, чертовски славная девушка! – говорил Джонни Имс, употребляя выражения, которым он выучился уже после того, как оставил Оллингтон и Гествик.
В свою очередь и мистер Кредль был почитателем прекрасного пола, и увы, как беспристрастный повествователь, я должен объявить, что в настоящую минуту предметом его почитания была мистрис Люпекс. Разумеется, при этом у него вовсе не было идеи оскорбить мистера Люпекса – человека, который занимался расписыванием декораций и хорошо знал свет. Мистер Кредль восхищался мистрис Люпекс не как обыкновенный смертный, но как любитель и знаток всего прекрасного.
– Клянусь небом, Джонни, как хороша эта женщина! – говорил он, когда в одно прекрасное утро оба молодых человека отправлялись в должность.
– Да, женщина видная.
– Я думаю! Сколько я понимаю в формах, – продолжал Кредль, – так эта женщина почти верх совершенства. Какой торс у нее!
Из этого выражения, а также из факта, что формы и вид мистрис Люпекс зависели весьма много от корсета и кринолина, можно, кажется, догадаться, что мистер Кредль очень мало понимал в формах.
– Мне кажется, что у нее не совсем прямой нос, – заметил Джонни Имс.
И действительно, нос мистрис Люпекс был кривоват. Это был длинный тонкий нос, который по мере того, как выдавался вперед, заметно уклонялся в левую сторону.
– Я не столько обращаю внимание на лицо, сколько на всю фигуру, – сказал Кредль. – И опять, у мистрис Люпекс прекрасные глаза, очаровательные глаза.
– К тому же она отлично хорошо умеет употреблять их в дело.
– Почему же и нет? Наконец, у нее такие чудные волосы.
– Только по утрам она никогда их не причесывает.
– А ты знаешь, мне очень нравится этот род дезабилье, – сказал Кредль. – Излишняя заботливость часто служит во вред.
– Все же, по моему мнению, женщина должна быть опрятна.
– Ну, можно ли подобные слова применять к такому созданию, как мистрис Люпекс! Я называю ее роскошной женщиной. Как очаровательна она была вчера вечером! Знаешь ли, мне кажется, что Люпекс обходится с ней чрезвычайно скверно. Вчера она сказала мне слова два, что… – И Кредль не договорил. Бывают секреты, которых мужчина не доверяет даже своему задушевному другу.
– А я так думаю совсем иначе.
– Как иначе?
– А так, что Люпексу самому весьма часто достается от мистрис Люпекс. Звук ее голоса иногда производят во мне дрожь.
– Мне нравится женщина с энергией, – сказал Кредль.
– Мне тоже нравится. Но энергия хороша в своем месте. Амелия сказывала мне… ты только, пожалуйста, никому не говори.
– Разумеется.
– Она сказывала, что Люпекс иногда бывает принужден убегать от нее. Он бежит в театр и остается там по два, по три дни сряду. Тогда она отправляется за ним, и ссорам в доме не бывает конца.
– Дело в том, что он пьет, – сказал Кредль. – Клянусь Георгом, мне всегда жаль женщину, у которой муж пьяница, особливо такую женщину, как мистрис Люпекс!
– Берегись, мой друг! Смотри, чтоб не попасть в западню.
– Не беспокойся, я знаю, что делаю, из-за хорошенькой женщины я не намерен потерять головы.
– А сердце?
– Сердце! у меня нет такой вещи. Я смотрю на женщину, как на картину или бюст. Разумеется, когда-нибудь женюсь и я, потому что мужчины женятся, но все же у меня нет идеи потерять себя за женщину!
– А я бы десять раз потерял себя за…
– За Лили Дель, – досказал Кредль.
– Да. Я все-таки знаю, что мне не видать ее, как своих ушей. Я веселый малый, люблю посмеяться, но скажу тебе, Кодль, что выйди она замуж, и тогда все со мной кончится, решительно все.
– Уж не думаешь ли ты перерезать себе горло?
– Нет, этого я не сделаю. Ничего подобного не сделаю, а все-таки я не жилец тогда на этом свете.
– Ты поедешь туда в октябре, почему бы не сделать ей предложения?
– С девяноста фунтами в год! (Признательное отечество ежегодно увеличивало жалованье Джонни по пяти фунтов стерлингов). С девяноста фунтами жалованья и двадцатью, которые получаю от матери!
– Она, я думаю, подождет. Я бы, право, сделал предложение. Любить девушку и оставаться в таком положении невыносимо тяжело.
– Еще бы! – сказал Джонни Имс.
В это время они подошли к дверям управления, и каждый отправился к своей конторке.
Из этого небольшого разговора можно себе представить, что хотя мистрис Ропер была благородна, как ее слово, но не была той женщиной, в которой мистрис Имс желала бы видеть ангела-хранителя для своего сына. Впрочем, надо правду сказать, для вдовьих сынков не так-то легко найти в Лондоне ангелов-хранителей за сорок фунтов стерлингов в год, выплачиваемых по четвертям года. Мистрис Ропер была нисколько не хуже других женщин ее сорта. Она предпочитала респектабельных квартирантов нереспектабельным, если бы только могла найти таких в то время, когда они требовались. Мистер и мистрис Люпекс едва ли подходили под этот разряд, и когда мистрис Ропер отдавала им просторную лицевую спальню за сто фунтов в год, она знала, что сделала нехорошо. Она беспокоилась также о своей дочери Амелии, которой перешло уже за тридцать лет. Амелия была очень умная молодая женщина, занимавшая до этой поры должность первой молоденькой леди в одном модном магазине в Манчестере. Мистрис Ропер знала, что мистрис Имс и мистрис Кредль не захотели бы, чтобы сыновья их сблизились с ее дочерью. Но что же станете делать? Не могла же она отказать в приюте родной своей дочери, а между тем сердце ее чуяло что-то недоброе, когда она увидела, что ее Амелия кокетничает с молодом Имсом.
– Я хочу, Амелия, чтобы ты поменьше говорила с тем молодым человеком.
– Что с вами? Мама!
– Да, я этого требую. Если ты будешь так себя вести, то лишишь меня обоих жильцов.
– Так себя вести! Да если джентльмен заговорит со мной, то неужели я должна молчать? Сделайте одолжение, я знаю, как вести себя.
И она вздернула свою головку.
Мать замолчала, она боялась своей дочери.
Глава V О ЛИЛИАНЕ ДЕЛЬ
Аполлон Кросби выехал из Лондона в Оллитон 31 августа, намереваясь провести там четыре недели, с тем чтобы подкрепить свои силы двухмесячным отдохновением от служебных занятий, остальное время не получило еще назначения, где его провести: не было еще определенного плана. Приглашения гостеприимства деланы были мистеру Кросби дюжинами. Двери леди Хартльтон в Шропшейре были открыты для него во всякое время, графиня де Курси приглашала его присоединиться к ее свите в Курси-кэстле. Его особенный друг, Монгомери Доббс, имел поместье в Шотландии, где собралась партия любителей кататься на яхтах и где в присутствии Кросби оказывалась существенная потребность. Но мистер Кросби не принял ни одного из этих приглашений, оставляя Лондон, он не имел в виду для начала своей поездки другого места, кроме Оллингтона. Первого октября мы будем также находиться в Оллингтоне вместе с Джонни Имсом и встретимся с Аполлоном Кросби – разумеется, ни под каким видом, к удовольствию нашего приятеля из управления сбора государственных доходов.
Джонни Имса нельзя назвать несчастным в отношении его каникул, ему должно было уехать из Лондона в октябре месяце, в течение которого не многим хотелось бы признаться, что остаются в городе. С своей стороны, я предпочитаю май, как лучшее время для вакаций, но ни один лондонец не захочет выехать из Лондона в мае месяце. Молодой Имс хотя и жил в Буртор-Кресценте и не имел еще никакой связи с Вест-эндом, но, как говорится, выучил уже свой урок по этой части.
– Эти господа в большом зале хотят, чтобы я взял май, – говорил он своему другу Кредлю. – Пора бы, кажется, перестать им думать, что я новичок.
– Это скверно, – заметил Кредль. – Можно ли просить человека, чтобы он взял отпуск в мае? Я бы никогда этого не сделал… и, что еще более, никогда не сделаю. Я обратился бы прежде в совет.
Имс избавился этой необходимости и успел получить отпуск на октябрь, который из всех месяцев ценился чрезвычайно дорого для каникулярных целей.
– Завтра вечером я отправляюсь с почтовым поездом, – говорил Джонни Амелии Ропер накануне своего отъезда.
В эту минуту он сидел один с Амелией в задней гостиной мистрис Ропер. В лицевой гостиной Кредль беседовал с мистрис Люпекс, вместе с ними сидела мисс Спрюс, и потому, надо полагать, мистеру Люпексу не представлялось ни малейшего повода к ревности.
– Да, – сказала Амелия. – Я понимаю, с каким нетерпением вы ожидаете минуты, когда отправитесь в это очаровательное местечко. Нельзя и ожидать, чтобы вы, торопясь туда, промедлили хоть один часочек в Буртон-Кресценте.
Амелия Ропер была высокая, хорошо сформированная молодая женщина, с черными волосами и черными глазами, не красива собой, потому что имела толстый нос и одутловатую нижнюю часть лица, несмотря на то, она не лишена была некоторой женской привлекательности. Глаза ее были светлые, но с тем вместе и лукавые. Она умела довольно приятно говорить и весьма неприятно браниться, умела иногда принимать на себя вид кроткой голубки, с гладенькими перьями, но иногда перья эти взъерошивались, и голубка принимала грозный вид ястреба. Я совсем было приготовился сказать, что Джонни Имс старался держать себя как можно дальше от Амелии Ропер, но известно, что молодые люди делают иногда такие вещи, каких бы не следовало делать!
– Пробыв двенадцать месяцев в Лондоне, я думаю, всякому приятно повидаться с близкими сердцу, – сказал Джонни.
– С близкими сердцу, мистер Имс! Кто же эти близкие? Вы думаете, я не знаю?
– Да нет. Думаю, что не знаете.
– Л. Д! – сказала Амелия, показывая, что о Лили говорено было между молодыми людьми, которым Лили никогда бы не позволила услышать свое имя. Но, может статься, в Буртон-Кресценте только и были известны эти две заглавные буквы. Самый тон голоса, которым они были произнесены, ясно показывал, что Амелия сомневалась даже в действительности их существования.
– Л. С. Д.[1], – сказал Джонни, разыгрывая роль остроумного, веселого молодого повесы. – В этих буквах заключается вся моя любовь: фунты, шиллинги и пенсы, и как скромна избранница моего сердца!
– Перестаньте, сэр. Пожалуйста, не говорите мне такого вздора. Как будто я не знаю, кому принадлежит ваше сердце. И какое право имели вы говорить мне, что любили какую-нибудь Л. Д. там, в провинции.
В защиту бедного Джонни Имса надобно сказать, что он никогда не имел с Амелией таких разговоров, которые бы давали повод употреблять подобного рода выражения. Но дело в том, что он написал к ней роковую записку, о которой мы будем говорить в непродолжительном времени, а это хуже всяких разговоров.
– Ха-ха-ха! – рассмеялся Джонни. Но этот смех был принужденный, вызванный не без усилия.
– Смейтесь, смейтесь! Для вас это смешно. Мужчине легко смеяться при подобных обстоятельствах – это доказывает, что у него вовсе нет сердца или вместо сердца у него лежит в груди камень. Я знаю, что некоторые мужчины сделаны совершенно из камня – их не тревожат никакие чувства.
– Чего же вы хотите от меня? Вы показываете вид, как будто все знаете, и с моей стороны было бы неучтиво не сделать вам возражения.
– Чего я хочу? Вы знаете очень хорошо, чего я хочу, или, лучше сказать, я ничего не хочу. И что мне такое Л. Д.? Ровно ничего. Вы можете ехать в Оллингтон и делать, что вам угодно. Только мне противны поступки подобного рода.
– Какие поступки, Амелия?
– Какие поступки! Послушайте, Джонни, я не позволю никакому мужчине делать из меня дурочку. Когда я приехала сюда три месяца тому назад… и, право, лучше бы мне не приезжать… – Амелия сделала паузу в ожидании от Джонни какой-нибудь нежности, но так как нежность эта не являлась к ней на помощь, то она продолжала: – Когда я приехала домой, я не надеялась встретить во всем Лондоне мужчину, который бы мог заставить меня думать о нем, – решительно не надеялась. Теперь вы уезжаете отсюда и не хотите сказать мне ласкового слова.
При этом Амелия вынула из кармана носовой платок.
– Что могу я сказать вам, если вы все это время браните меня?
– Браню вас! Я браню вас! Нет, Джонни, я и не думала бранить вас. Если между нами все должно кончиться, скажите слово, и я оставлю этот дом до вашего возвращения. У меня нет от вас секретов. Я могу воротиться к моему ремеслу в Манчестер, хотя оно далеко не соответствует моему происхождению, не соответствует моему воспитанию. Если Л. Д. для вас дороже, чем я, я не буду заслонять вам дороги. Скажите только одно слово.
Если Л. Д. дороже ему, чем Амелия Ропер? Вдесятеро дороже! Л. Д. была для него все, а Амелия Ропер хуже, чем ничто. Все это он чувствовал в эту минуту, всеми силами старался заручиться достаточным количеством мужества, чтобы выйти из неприятного положения.
– Скажите слово, – повторила она, вставая с места. – И все между вами и мной будет кончено. Я получила ваше обещание, но не захочу им воспользоваться. Если Амелия Ропер не заняла вашего сердца, она не захочет принять вашей руки. Я только жду вашего ответа.
Казалось, что ему предлагали самый легкий способ отделаться, но такая леди, как Амелия, вероятно, знала, что предлагаемый ею способ не мог быть легким для такого мужчины, как Джонни Имс.
– Амелия, – сказал он, оставаясь на месте.
– Что прикажете, сэр?
– Вы знаете, я вас люблю.
– А что вы скажете насчет Л. Д.?
– Если вам угодно верить всякому вздору, который наскажет Кредль, то я помочь ни чем не могу. Если вам угодно ревновать меня к двум буквам, то вина не моя.
– Так вы меня любите? – спросила она.
– Без сомнения, люблю.
Выслушав эти слова, Амелия бросилась в объятия Джонни.
По всей вероятности, мисс Спрюс видела всю эту сцену, потому что двери в соседнюю комнату были не совсем притворены и она сидела как раз насупротив их. Но мисс Спрюс была молчаливая старая леди, в ней трудно было возбудить чувство удивления или восхищения, а так как она прожила с мистрис Ропер более двенадцати лет, то, весьма вероятно, хорошо ознакомилась с образом действий ее дочери.
– И вы будете верны мне? – спросила Амелия в минуту объятия. – Верны мне навсегда?
– О, да, тут не может быть и сомнения, – отвечал Джонни Имс.
Амелия освободила его из объятия и вместе с ним вышла в гостиную.
– Как я рада, мистер Имс, что вы пришли сюда, – сказала мистрис Люпекс. – Здесь мистер Кредль говорит такие странные вещи.
– Странные вещи! – возразил Кредль. – Мисс Спрюс, обращаюсь к вам, говорил ли я что-нибудь странное?
– Если и говорили, сэр, то я не заметила, – отвечала мисс Спрюс.
– А я так заметила, – сказала мистрис Люпекс. – Холостому человеку, как мистер Кредль, нет никакой надобности знать, чепчик ли носит одна замужняя леди или одни природные волосы. – Как вы думаете мистер Имс?
– Право, не знаю, – отвечал Джонни.
– Да и нельзя вам знать, – продолжала замужняя леди. – Нам всем известно, на чем сосредоточено ваше внимание. Если вам придется надеть чепчик, то кто-нибудь очень скоро заметит разницу, – не правда ли мисс Спрюс?
– Совершенная правда, – отвечала мисс Спрюс.
– Если б я могла казаться в чепчике такой же хорошенькой, как вы, мистрис Люпекс, я бы завтра же его надела, – сказала Амелия, не хотевшая в настоящую минуту ссориться с замужней леди. Бывали, однако же, случаи, при которых мистрис Люпекс и мисс Ропер далеко не были так любезны друг к другу.
– А вашему мужу нравятся чепчики? – спросил Кредль.
– Ему все равно, если бы я носила на голове вместо чепчика шлем с куриными перьями, даже если бы я совсем не носила головы. Вот что значит быть замужем. Советую вам, мисс Ропер, остаться в настоящем своем положении, хотя бы через это и сокрушалось чье-нибудь сердце. Не правда ли, мисс Спрюс?
– О, что касается до меня, то я уже старая женщина, вы знаете, – сказала мисс Спрюс, и сказала совершенную истину.
– И я, право, не вижу, что выигрывает женщина через замужество, – продолжала мистрис Люпекс. – Мужчина – дело другое, он выигрывает все. Он один знает, как ему жить, пока не приищет женщину, которая бы ему помогала.
– А разве любовь у нас идет ни за что? – спросил Кредль.
– Любовь! Я не верю в нее. Мне казалось, что я когда-то любила, но что же из этого вышло? И теперь вот мистер Имс, мы все знаем, что он влюблен.
– Во мне чувство это весьма натурально, мистрис Люпекс. Я родился, чтобы любить, – сказал Джонни.
– И вот также мисс Ропер, хотя бы так свободно и не следовало говорить о барышне, но почему же не допустить, что и она влюблена.
– Говорите, пожалуйста, о себе, мистрис Люпекс, – сказала Амелия.
– Мне кажется, я ничего худого не сказала. Напротив, если вы не влюблены, то у вас весьма черствое сердце, если бы явился человек с искренней любовью к вам, я уверена, вы бы его не оттолкнули от себя. Ах боже мой, кажется, это шаги Люпекса? Что может принести его домой в такую пору? Если он пьян, то верно явится сердитый, как зверь.
Мистрис Люпекс вышла в другую комнату, и приятная беседа нарушилась.
Нельзя не сказать, что ни мистрис Кредль, ни мистрис Имс не поместили бы своих сыновей в Буртон-Кресценте, если бы знали, каким опасностям подвергались молодые люди. Тот и другой были ветрены, и при этом каждый из них ясно видел ветреность другого. Не далее как за неделю Кредль весьма серьезно предостерегал молодого своего друга против хитростей мисс Ропер.
– Клянусь Георгом, Джонни, ты запутаешься с этой девочкой.
– Надобно же когда-нибудь испытать и это удовольствие, – сказал Джонни.
– Да, но, пожалуй, можно дойти до того, что потом и не выпутаешься. Я не понимаю, где ты был и в своем ли был ты уме, давая письменное обещание жениться на ней?
Бедный Джонни не отвечал на это тотчас, хотя Амелия действительно владела таким документом.
– Где я был? – спросил Джон. – Конечно, в числе нарушающих обещание.
– Или в числе жертв брачного союза. Мне кажется, что если ты дал такое обещание, то должен его выполнить.
– Быть может, и выполню, – сказал Джонни. – Впрочем не знаю. Надо еще подумать, что человеку следует делать в подобном случае.
– Однако между вами ничего такого не было?
– О, нет!
– Будь я за твоем месте, Джонни, я бы ее бросил. Оно, конечно, интрига – вещь приятная, но вместе с тем и опасная. Ну, что было бы теперь с тобой, если бы такая госпожа была твоей женой?
Таковы были предостережения Кредля, которые он давал своему другу. В свою очередь, Имс, отправляясь в Оллингтон, отвечал приятелю тем же участием. Они вместе отправились на станцию железной дороги, и там, прохаживаясь взад и вперед по дебаркадеру, Джонни предлагал свой совет:
– Послушай, Кодль, дружище, ведь ты наживешь себе хлопот с этой мистрис Люпекс, если не остережешься.
– Я буду осторожен. Поверь, что нет ничего безопаснее, как маленькая интрига с замужней женщиной. Разумеется, ты не думай, между ней и мной нет ничего такого.
– Я вовсе об этом не думаю. Но она постоянно говорит, что муж ее ревнив, а если он расходится, то может выйти скверная история.
Кредль, однако же, думал, что тут не было ни малейшей опасности. Его любовь к мистрис Люпекс была чисто платоническая и беспорочная. Что касается до того, чтобы зайти далеко в этой интриге, его правила, как он уверял своего приятеля, были слишком благородны. Мистрис Люпекс была женщина с талантом, ее, казалось, никто не понимал, и потому он находил некоторое удовольствие в изучении ее характера. Да, это было одно лишь изучение характера, и больше ничего. Друзья разлучились, и вечерний поезд увез Имса в Гествик.
Нет надобности описывать, как мать встретила его в четыре часа утра, как радовалось материнское сердце при виде усовершенствований в своем детище, при виде возмужалости, который придавали ему бакенбарды. Многие атрибуты юноши уже отпали от него, и даже сама Лили Дель созналась бы, по всей вероятности, что он уже не мальчик. Все, конечно, было бы хорошо, если бы только он, отбросив от себя все ребяческое, усвоил что-нибудь другое, лучше ребяческого…
В самый первый день своего приезда Джонни отправился в Оллингтон. На этот раз он шел туда не пешочком, как это случалось в былые счастливые дни. Ему пришла идея, что неприлично было бы явиться в гостиную мистрис Дель с дорожной пылью на сапогах и следами солнечного зноя на лице. Поэтому он нанял лошадь и поехал верхом, немало гордясь шпорами, купленными в Пикадилли, и лайковыми перчатками, только что с иголочки. Но увы! Я боюсь, что два года, проведенные в Лондоне, не сделали особенных улучшений в Джонни Имсе, а между тем мне нужно сознаться, что Джонни Имс один из героев моего рассказа.
При входе в гостиную мистрис Дель Джонни застал хозяйку дома и ее старшую дочь. Лили в эту минуту не было, и Джонни, поздоровавшись, само собою разумеется, спросил об ней.
– Она в саду, – сказала Белл. – Она придет сию минуту.
– Лили пошла с мистером Кросби в Большой дом, – заметила мистрис Дель. – Но она там не останется. Она обрадуется вашему приезду, Джонни. Мы все ждали вас сегодня.
– В самом деле? – спросил Джонни, сердце которого при имени мистера Кросби обдало холодной ключевой водой.
С той минуты, когда приятели расстались на дебаркадере железной дороги, Джонни мечтал об одной Лилиане Дель, и уверяю всех леди, которым вздумается прочитать мою повесть, что искренность его любви к Лили не сбросила с себя ни одного перышка в течение этой не совсем непорочной связи между ним и мисс Ропер. Я боюсь, что мне не поверят, но это было так. Сердце Джонни постоянно принадлежало Лили, хотя он и позволил такому созданию, как Амелия Ропер, вынудить от себя признание в любви. Всю ночь и все утро он мечтал о встрече своей с Лили – и вдруг теперь слышит, что она одна провожает незнакомого джентльмена. Он слышал, что мистер Кросби был джентльмен, и притом весьма фешенебельный, больше этого он ничего не знал о нем. Почему же мистеру Кросби позволялось делать прогулки с мисс Лили Дель? И почему мистрис Дель говорит об этом обстоятельстве как о деле весьма обыкновенном? Тут была какая-то тайна, которая, однако ж, разъяснилась очень скоро.
– Я уверена, что Лили не рассердится, если я скажу такому близкому другу, как вы, что она объявлена невестой, – сказала мистрис Дель. – Она выходит замуж за мистера Кросби.
Приток холодной ключевой воды, которым обдало сердце Джонни, поднялся до самой головы и отнял у него способность говорить. Лили Дель объявлена невестой, она выходит замуж за мистера Кросби! Джонни звал, что ему следовало бы сказать что-нибудь при таком известии, знал, что несколько секунд молчания высказывали его тайну сидевшим перед ним двум женщинам – тайну, которую бы теперь надлежало скрыть от целого мира. А между тем он не мог говорить.
– Мы все весьма довольны этой партией, – сказала мистрис Дель, желая пощадить молодого человека.
– Ничего не может быть прекраснее мистера Кросби, – прибавила Белл. – Мы часто говорили о вас, и он будет рад познакомиться с вами.
– Ему теперь не до меня, – сказал Джонни, и даже теперь при этих ничего не выражающих словах – словах, которые он произнес потому, что нужно же было что-нибудь сказать, – тон его голоса был ненормальный. Он отдал бы весь мир, чтобы в этот момент быть господином самого себя, но чувствовал себя совершенно побежденным.
– А вон и Лили идет по поляне, – сказала мистрис Дель.
– Так я лучше уеду, – сказал Имс. – Не говорите ничего обо мне, прошу вас.
И Джонни, не ожидая ответа, ушел из гостиной.
Глава VI ПРЕЛЕСТНЫЕ ДНИ
Я знаю, что до сих пор не описал еще Белл и Лилианы Дель, как знаю и то, что, чем дальше буду откладывать это описание, тем более встретится трудностей. Я бы желал, чтобы читатели без всякого описания удовольствовались сведением, что это были две хорошенькие блондинки, из коих Белл была выше ростом и прекраснее, между тем как Лили не только так же хороша собой, как и сестра, но еще привлекательнее.
Это были блондинки, похожие одна на другую, их портрет у меня перед глазами, но я боюсь, что не в состоянии буду передать читателям верную копию. Они имели рост несколько менее обыкновенного, стройный стан, тонкую талию. Лили была пониже, но разница была так ничтожна, что когда смотреть на них отдельно, то разница была незаметна. Упомянув, что Белл была красивее, я, быть может, выразился бы вернее, если бы просто сказал, что ее черты были правильнее, чем у сестры. Обе девочки были до того блондинки, что самый легкий румянец, облегчавший белизну их лица, был едва заметен. Этот румянец все-таки говорил о их здоровье, тогда как совершенное его отсутствие обличило бы настоящую или будущую болезнь. Волосы сестер и по цвету, и по локонам были так похожи, что никто, даже мать, не могла бы сказать, что в них есть какая-нибудь разница. Это были волосы не совсем льняного цвета, но все-таки очень светлые. Не подходили они и под светло-каштановый цвет, а между тем в них заметен был золотистый оттенок, придававший им особенный блеск. Впрочем, у Белл они были гуще, чем у Лили, и потому Лили постоянно жаловалась на свои локоны и постоянно восхищалась локонами своей сестры. Несмотря на то, головка Лили была так же мила, как у сестры, совершенство ее формы и простота прически, которую они носили, не требовали никаких дополнений. Глаза их были светло-голубые, но глаза Белл были продолговаты, кротки и нежны, так что она редко решалась приподнимать их на чье-нибудь лицо, между тем как глаза Лили были круглее и светлее, и в них редко не доставало смелости смотреть на чтобы им ни вздумалось. Лицо Лили не имело такой совершенно овальной формы, как у сестры. Облик лица, мне кажется, был совершенно одинаков, только у Белл подбородок отличался большею правильностью и нежностью, зато он ничем другим не был отмечен, тогда как на подбородке сестры ее была ямочка, которая вполне дополняла в красоте его всякий другой недостаток. Зубы Белл были ровнее, и потому, быть может, она чаще их показывала. Губы ее были тоньше и, надо сказать, менее выразительны. Нос, по своей красоте, был более правильный, а нос Лили несколько шире, чем бы следовало ему быть. Из всего этого можно заключить, что Белл считалась в семействе красавицей.
Впрочем, в общем впечатлении, производимом этими девушками, и во всей их наружности было что-то более одной красоты их лиц или грации их фигуры. В обращении их обнаруживались достоинство, чуждое всякой натянутости или гордости, и девственная скромность без малейшего кокетства. Эти две девушки никогда не боялись мужчин, никогда не показывали вида, что они их боятся. Впрочем, не было и повода к подобной боязни. Быть может, на долю которой либо из них выпадет дурное обращение мужчины, но отнюдь не оскорбление. Лили, как уже читатели, вероятно, заметили, была очень бойка и игрива, но в своей игривости она держала себя так, что едва ли кто позволил бы себе забыть о дани уважения, которая неотъемлемо ей принадлежала.
Теперь же, когда Лили Дель объявлена невестой, дни ее игривости должны кончиться. Приговор этот отзывается грустью, но он справедлив. А когда я думаю, что он справедлив, когда я вижу, что резвость, смех и игры девического возраста должны прекратиться, когда девушка должна навсегда распроститься со всеми невинными удовольствиями этого возраста, мне невольно становится жаль, что прекрасный пол всегда так торопится с замужеством. К облегчению такого недуга, если только можно назвать его недугом, нет никакого средства. Впрочем, в этом недуге поспешность проявляется не собственно к супружеству, но к любви. А лишь только пробудится любовь, супружество становится почти неизбежным, и затем начало недуга.
Итак, Лили предстояло выйти замуж за Адольфа Кросби – за Аполлона Кросби, как она в шутку называла своего жениха, дозволяя, впрочем, эту шутку только своему собственному слуху. Для нее он был действительно Аполлоном, каким должен быть любимый мужчина в глазах любящей его девушки. Он был красив, грациозен, умен, самоуверен и всегда весел, когда вызывали его на веселость. Бывали и у него серьезные минуты, и он умел говорить с своей невестой о предметах серьезных. Он читал для нее и объяснял вещи, которые до этой поры были слишком трудны для ее молодого понимания. Его голос был тоже очень приятен, и Кросби умел им управлять, голос этот был патетичен там, где требовался пафос, а иногда звучал таким смехом, как смех самой Лили. Неужели же подобный человек не способен быть Аполлоном для такой девушки, которая призналась самой себе, что полюбила его всею силою своей души?
Она призналась в этом не только себе, но и ему, как, может статься, нисколько не медля скажет читатель. С своей стороны, мы заметим, что в деле этом не требовалось особенной медленности. Этим делом восхищался весь свет. Когда Кросби, в качестве друга Бернарда, явился в Оллингтон, то в первые же дни, как это всем казалось, обратил на Белл особенное внимание. Белл, в свою очередь, скромно заметила это, не сказав, однако ж, никому ни слова и думая сама об этом очень мало. Сердце Лили было свободно в то время. Первая тень крыльев любви не пронеслась еще над ее непорочным сердцем. Совсем не то было с Белл – совсем не то было, в строгом смысле этого выражения. История Белл тоже должна быть рассказана, но не на этой странице. Прежде чем Кросби сделался коротким знакомым, Белл положила в душе своей, что любовь, которую она питала, до́лжно победить, до́лжно уничтожить. Мы можем сказать, что она была побеждена и уничтожена и что Белл нисколько бы не согрешила, выслушав признание и клятвы от этого нового Аполлона. Грустно подумать, что такой человек мог полюбить и ту и другую девушку, а между тем, я должен признаться, это было действительно так. Аполлон, при полноте своего могущества, скоро переменил намерение и прежде, чем кончился его первый визит, перевел свою слабую преданность, в которой признавался, с старшей сестры на младшую. В качестве гостя сквайра он еще раз приехал в Оллингтон на более продолжительное время и к концу первого месяца своего пребывания был принят в Малом оллингтонском доме как будущий супруг Лили.
Надо было видеть и любоваться переменой обращения Белл к Кросби и к своей сестре, лишь только она заметила оборот, который приняло дело. И немного требовалось времени, чтобы заметить это, стоило только уловить первые проблески идеи в тот вечер, когда Лили и Белл обедали в Большом доме, оставив дома свою мать распоряжаться с горохом. В течение шести- или семинедельного отсутствия Кросби Белл откровеннее своей сестры говорила о нем. Она находилась при прощании с Кросби и слышала, с какой горячностью объявил он Лили, что снова возвратится в Оллингтон в непродолжительном времени. Лили выслушала слова мистера Кросби очень спокойно, как будто они до нее вовсе не касались, но Белл видела в них истину и, веря в Кросби как в истинно благородного человека, всегда отзывалась о нем с особенным чувством, стараясь поддержать расположение к любви, которое могло образоваться в груди Лили.
– Но ведь ты знаешь, он такой Аполлон, – говорила Лили.
– Я знаю, что он джентльмен.
– Разумеется, неджентльмен не может быть Аполлоном.
– И к тому же он очень умен.
– Я полагаю.
О том, что он ни более ни менее как клерк, не было и помину. В этом отношении Лили совершенно переменила свой образ мыслей. Джонни Имс тоже был клерк, между тем как Кросби если его и надо называть клерком, то он был клерк особенного рода. Между одним клерком и другим может быть огромная разница! Клерк государственного совета и клерк какого-нибудь прихода – две весьма различные особы. Лили крепко держалась этой идеи, всеми силами стараясь придать Кросби более высокое значение в правительственной службе.
– Я бы желала, чтобы он не приезжал, – говорила мистрис Дель старшей дочери.
– Мне кажется, мама, вы ошибаетесь.
– Но если она полюбит его, и потом…
– Лили никогда не полюбит человека, если он не подаст к тому благоразумного повода. А если она нравится ему, то почему бы им не сблизиться?
– Она еще так молода, Белл.
– Ей девятнадцать лет, если они будут обручены, то год-другой могут подождать. Впрочем, мама, нехорошо говорить в этом духе. Если вы запретите Лили подавать ему надежды, она не будет с ним говорить.
– Я в это дело не думаю вмешиваться.
– И прекрасно, мама. Пускай оно идет своим чередом. Что до меня, то мне очень нравится мистер Кросби.
– Мне тоже, душа моя.
– И дяде он нравится. А я бы не хотела, чтобы Лили выбрала себе мужа не по нраву дяди.
– Не следует.
– Согласитесь, что ведь очень важно, если выбор ее будет ему нравиться.
В таком роде бывали беседы между матерью и старшей дочерью. Но вот приехал мистер Кросби, и, прежде чем прошел первый месяц, признание его в любви к Лили подтвердило основательность предположения сестры. Сквайр с первого же раза объявил себя довольным этой партией, дав знать мистрис Дель с обычною холодностью, что мистер Кросби – джентльмен, располагавший доходом весьма достаточным, чтобы жить семьянином.
– Его дохода едва ли будет достаточно для семейной жизни в Лондоне, – сказала мистрис Дель.
– Он имеет больше, чем имел при женитьбе мой брат, – заметил сквайр.
– О, если бы только он мог доставить ей столько же счастья, сколько доставил мне ваш брат… хоть это счастье было так скоротечно! – проговорила мистрис Дель, отвернув лицо, чтобы скрыть выступавшие слезы.
После этого между сквайром и его невесткой ничего больше не было говорено о предстоящей будущности молодых людей. Сквайр не говорил ни слова о денежном вспомоществовании, даже не намекнул о готовности своей благословить молодых людей на новую жизнь, как следовало бы родному дяде сделать в подобном случае. Само собою разумеется, и мистрис Дель ничего не сказала по этому предмету. Сквайр ни под каким видом не хотел открывать мистрис Дель своих намерений. Положение было неприятное, это понимала та и другая сторона.
Бернард Дель все еще находился в Оллингтоне и оставался там во все время отсутствия Кросби. Все, что мистрис Дель хотела бы высказать, вероятно, было бы ему высказано, если бы Бернард не оставался таким же замкнутым, как и дядя. Кросби, по возвращении своем, большую часть времени проводил с Бернардом, и, весьма естественно, между ними происходили откровенные разговоры о двух девушках, причем Кросби старался показать своему приятелю, что его расположение к Лили становится более чем обыкновенным.
– Я полагаю, тебе известно желание моего дяди, чтобы я женился на старшей кузине, – говорил Бернард.
– Я уж давно догадался.
– И мне кажется, что брак наш состоится. Она миленькая девушка и хороша, как золото.
– Да, правда.
– Не притворяясь, скажу, что влюблен в нее. Притворяться не в моем характере. На днях, может статься, сделаю ей предложение и надеюсь, что оно будет принято. Сквайр положительно обещал мне восемьсот фунтов из доходов своего поместья и, сверх того, содержать нас в течение трех месяцев ежегодно, если мы этого пожелаем. Я наотрез ему сказал, что меньше взять не могу, и он согласился.
– Ты, кажется, с ним в хороших отношениях.
– Еще бы! Между нами никогда не выходило каких-нибудь вздоров из-за родственной любви, обязанности и т. п. Мы понимаем друг друга, и этого достаточно. Он находит удовольствие быть в хороших отношениях с своим наследником, а я нахожу удовольствие сочувствовать ему.
По моему мнению, надо допустить, что в словах Бернарда Деля было много здравого смысла.
– Что же он сделает для младшей сестры? – спросил Кросби. – При этом вопросе внимательный наблюдатель заметил бы в его голосе легкое волнение.
– Гм! Ничего не могу сказать тебе по этой части. На твоем месте я бы спросил его. Дядя мой – прямой человек и любит делать все напрямик.
– Нельзя, кажется, нельзя. Я уверен, однако же, что он ни под каким видом не отпустит ее с пустыми руками.
– И я так думаю. Однако помни, Кросби, я ничего не могу сказать тебе, на что ты должен рассчитывать. Лили тоже хороша, как золото, и если ты любишь ее, я на твоем месте спросил бы дядю, – так, знаешь, в нескольких словах, – что намерен он сделать для нее. Хотя это и послужит в ущерб моим интересам, потому что каждый шиллинг, который он подарит Лили, пойдет из моего кармана, но, ты знаешь, я не такой человек, чтобы думать об этом.
Не станем разбирать, какой был взгляд у Кросби на вещи подобного рода, но можем сказать, что для него решительно было все равно, из чьего бы кармана ни выходили деньги, лишь бы только попадали в его собственный. Когда Кросби вполне уверился в любви Лили, то есть когда получил от нее позволение переговорить с дядей и обещание Лили переговорить с своею матерью, он объявил сквайру свое намерение. Кросби сделал это откровенно и благородно, сделал как человек, который, требуя многого, предлагал с своей стороны тоже немалое.
– Ничего не могу сказать против этого, – отвечал сквайр.
– Я должен же, однако, получить ваше позволение жениться на ней.
– Зачем же, если на это согласны она и ее мать: я думаю, вам известно, что я не имею над ней никакой власти.
– Она не выйдет замуж без вашего благословения.
– Лили очень добра, если оказывает такое уважение к дяде, – сказал сквайр, и слова его прозвучали в ушах Кросби оледеняющим холодом.
Кросби ничего еще не говорил о деньгах, боясь начать подобный разговор, как он сознавался в этом самому себе. И какая была бы польза? – говорил он про себя, желая извинить себя в том, что считал слабой стороной своего характера. Если сквайр и откажет дать ей какой-нибудь шиллинг, то во всяком случае я не могу теперь отступиться от своего намерения. Потом в уме его мелькнула мысль о несправедливости мужчин в деле женитьбы. Без предварительного осведомления о состоянии невесты мужчина не должен бы делать предложения, но если он его сделал, то подобного рода осведомления бесполезны. Это размышление некоторым образом отравляло его счастье. Лили Дель действительно очень мила, очень хороша, столько свежести в ее невинности, непорочности и быстром понимании. Никакое удовольствие не может быть восхитительнее любви к Лили Дель. Ее очаровательные ласки к нему, без всякой лести и натянутости, уносили Кросби на седьмое небо. «Вы можете быть уверены в этом, – говорила она. – Я вас люблю всем моим сердцем, всеми силами моей души». Как восхитительно! Но чем же они будут жить? Неужели ему, Адольфу Кросби, придется поселиться где-нибудь в самой отдаленной части Лондона, как женатому человеку, с восемьюстами фунтами годового дохода? Если сквайр будет так же добр к Лили, каким он обещал быть к Белл, то, может быть, дела устроятся сами собою.
Для полноты счастья Лили ничего подобного не представлялось. Ее идеи о деньгах были очень смутны, но с тем вместе и очень основательны. Зная, что у нее их не было, она относила к обязанности мужа найти, что окажется необходимым. Она знала, что у нее не было денег, и потому знала также, что ей не следует ожидать особенной роскоши в небольшом хозяйстве, которое должно быть для нее приготовлено. Она надеялась, собственно, для своего мужа, что дядя сделает какое-нибудь вспомоществование, но в то же время вполне приготовилась к доказательству, что может быть доброй женой и бедного человека. В былые беседы с сестрой своей об этом предмете она всегда заявляла, что для поддержания любви необходимо небольшое состояние. Восемьсот фунтов стерлингов годового дохода считалось более чем достаточным для выполнения этого условия. Белл имела более сентиментальные понятия и отдавала преимущество безусловной прелести нищеты. Она говорила, что в деле любви деньги не должны иметь никакого значения. Полюбив человека, она вышла бы замуж за него даже в таком случае, если бы он вовсе не имел денег. Таковы были их теории относительно денег. Лили была совершенно довольна своим взглядом на этот предмет.
В эти прелестные дни ничто не омрачало ее счастья. Мать и сестра Лили единодушно говорили, что она поступила прекрасно, что она счастлива в своем выборе и безукоризненно верна в своей любви. В тот день, когда Лили рассказала своей матери о своей любви, она блаженствовала от радости, с которой было принято ее признание.
– Ах, мама, я должна вам кое-что сообщить, – сказала она, войдя в спальню матери после продолжительной прогулки с мистером Кросби по оллингтонским полям.
– Верно, что-нибудь о мистере Кросби.
– Да, мама.
И потом все остальное было рассказано не столько словами, сколько нежными объятиями и счастливыми слезами.
В то время, когда Лили, приникнув личиком к плечу матери, высказывала свое признание, в комнату последней вошла Белл и опустилась на колени подле Лили.
– Милая Лили, – говорила она, – если бы ты знала, как я рада!
Лили, вспомнив, что она похитила жениха у своей сестры, обвила руки вокруг шеи Белл и крепко ее поцеловала.
– Я знала ход всего этого дела с самого его начала, – сказала Белл. – Не правда ли мама?
– Я так ничего не знала, – возразила Лили. – Мне об этом и в голову не приходило.
– А мы все знали… мама и я знали.
– Неужели? – спросила Лили.
– Белл говорила мне, что это непременно сбудется, – сказала мистрис Дель. – Сначала, признаюсь, я не могла привыкнуть к мысли, что он достоин моей милочки.
– Ах, мама! Зачем вы это говорите? Он вполне достоин всего на свете.
– Я буду считать его хорошим человеком.
– Да и кто бы мог быть лучше его! Особливо если вы представите себе все, от чего он должен отказаться для меня! Взамен этого что же я-то могу сделать для него? Что могу я подарить ему?
Ни мистрис Дель, ни Белл никак не могли согласиться с этим, думая, что Лили приносила ему в дар совершенно столько же, сколько от него получала. Впрочем, они обе уверяли, что Кросби во всех отношениях был прекраснейший человек, они знали, что подобными уверениями увеличивали счастье Лили, и Лили между ними была совершенно счастлива, ее любви было оказываемо всякого рода поощрение, сочувствие и одобрение матери и сестры служило пищею для ее нежной страсти.
Как некстати этот визит со стороны Джонни Имса! В то время, когда бедный молодой человек выбежал из гостиной, не дав даже времени сказать «прощайте», мистрис Дель и Белл обменялись грустными взглядами, они ничего не могли придумать в оправдание такой поспешности, потому что Лили, перебежав через поляну, стояла уже перед открытым окном.
– Мы подошли к окраине кустарников, – сказала она, – и услышали, что вблизи нас находятся дядя Кристофер и Бернард; я сказала Адольфу, чтобы шел к ним один.
– А как ты думаешь, кто был здесь? – спросила Белл.
Мистрис Дель не сказала ни слова. Если бы было еще время немного подумать, то, может быть, в эту минуту не было бы и помину о визите Джонни.
– Неужели без меня кто-нибудь был? – спросила Лили. – Кто же это такой торопливый гость?
– Бедный Джонни Имс, – сказала Белл.
На лицо Лили выступил яркий румянец, в один момент она вспомнила, что старый друг молодых ее дней любил ее, что он, в свою очередь, имел надежды на ее любовь и что теперь услышал вести, которые должны были разрушить эти надежды. Она все сообразила в один момент, как сообразила и то, что ей необходимо скрыть происходившее в ее душе.
– Милый Джонни! – сказала она. – Зачем же он не подождал меня?
– Мы сказали, что ты вышла, – отвечала мистрис Дель. – Без сомнения, он скоро опять будет сюда.
– И он знает?
– Да, я объявила, думая, что ты не рассердишься на это.
– Нет, мама, конечно нет. И он уехал назад, в Гествик?
На этот вопрос не было ответа, да и вообще, после него о Джонни Имс ничего больше не было говорено. Каждая из этих женщин вполне понимала, в чем дело, и каждая знала, что понятия других были совершенно одинаковы. Молодой человек был всеми ими любим, хотя и не той любовью, которая была теперь сосредоточена на мистере Кросби. Джонни Имс не мог быть принимаем в доме как молодой человек, ищущий руки любимого в семействе создания. Мистрис Дель и дочь ее Белл очень хорошо это знали. Они любили его за его любовь и за то спокойное, скромное уважение, которое удерживало его от выражения этого чувства. Бедный Джонни! Впрочем, он еще молод, он только что вышел из поры юношества и, следовательно, легко мог перенести этот удар. Так думают женщины о мужчинах, которые любят в молодых своих годах, и любят напрасно.
Между тем Джонни Имс, возвращаясь в Гествик, забыл о шпорах и лайковых перчатках, засунутых в карман, он думал о своем положении совсем иначе. Он никогда не обещал себе успеха в любви своей к Лили и действительно всегда сознавался, что не мог иметь на это никакой надежды, но теперь, когда Лили обещана была другому, была невестой другого, он, тем не менее, сокрушался, что его прежние надежды не распространялись так далеко. Он никогда не решался говорить Лили о своей любви, в полной уверенности, что она знала это, и потому теперь не смел показаться перед ней как обличенный в напрасной любви. Потом он вспомнил о другой своей любви, вспомнил не без тех приятных размышлений, которым с таким удовольствием предавались донжуаны при созерцании своих успехов. «Положим, я женюсь на ней, и тогда конец со мной», – сказал он про себя, вспомнив хорошенькую записочку, написанную им однажды в припадке сумасбродства. В доме мистрис Ропер был небольшой ужин, мистрис Люпекс и Амелия приготовляли пунш. После ужина он по какому-то случаю остался в столовой наедине с Амелией, и тогда, разгоряченный щедрым богом, признался в своей страсти, Амелия печально покачала головой и побежала в верхние апартаменты, положительно отвергнув его распростертые объятия. Но в тот же вечер, прежде чем голова Джонни склонилась на полушку, к нему пришла записочка, написанная тоном полусожаления, полулюбви, полуупрека. «Если вы поклянетесь мне, что ваша любовь честная и благородная, тогда, быть может, я еще… загляну в щелку дверей, чтоб показать, что я вас простила». Коварный карандаш лежал под рукой, и Джонни написал требуемые слова: «У меня единственная цель в жизни – называть вас моею навсегда». Амелия сомневалась в подобном обещании, потому что оно написано было не чернилами и, в случае надобности, не могло иметь законной силы. Сомнение было тяжелое, несмотря на то, она была верна своему слову и взглянула на Джонни в полурастворенную дверь, простила его за исступление, быть может, с большим милосердием, чем требовало того обыкновенное извинение. «Боже! как хороша она с распущенными волосами!» – сказал Джонни про себя, склонившись наконец на подушку и все еще разгоряченный дарами Бахуса. Но теперь, когда он, возвращаясь из Оллингтона в Гествик, вспомнил об этой ночи, распущенные волнистые локоны Амелии потеряли для него всю свою прелесть. Он припомнил и Лили Дель, когда она прощалась с ним накануне его первого отъезда в Лондон. «Одних вас я только и желал бы видеть!» – сказал он и впоследствии часто вспоминал эти слова, старался разгадать, не приняла ли она значения их более чем за уверение обыкновенной дружбы. Он припоминал даже платье, в которое она была одета в тот день. Это было старое коричневое мериносовое платье, которое знакомо было ему и прежде и которое, по правде оказать, ничего не имело в себе особенного, чтобы произвести впечатление. «Ужасное старье!» – вот приговор, который произносила над этим платьем сама Лили, даже раньше дня разлуки. Но в глазах Джонни оно было священно, он был бы счастливейшим человеком, получив лоскуток от него, чтобы носить на сердце как талисман. Как удивительна бывает страсть, о которой говорят мужчины, сознаваясь себе, что они влюблены. При одних условиях это самая грязная, при других – самая чистейшая вещь из всех вещей в мире. При этих различных условиях человек показывает себя или зверем или богом! Пусть же бедный Джонни Имс едет по своей дороге в Гествик, душевно страдая от сознания, что любовь его низка, и в то же время страдая не менее того от сознания, что любовь его благородна.
В то время как Лили весело пробиралась между кустарниками, опираясь на руку своего жениха и беспрестанно заглядывая ему в лицо, она завидела еще издали дядю своего и Бернарда.
– Остановитесь, – сказала она, нежно вынимая руку из-под руки Кросби, – я дальше не пойду. Дядя всегда надоедает мне своими обветшалыми остротами, притом же я сегодня много гуляла. Не забудьте же, что завтра, перед отправлением на охоту, вы придете к мама.
И Лили воротилась домой.
Здесь будет кстати познакомить читателя с разговором, который происходил между дядей и племянником, во время их прогулки по широкой песчаной дорожке позади Большого дома.
– Бернард, – говорил старик, – я бы желал, чтобы дело между тобой и Белл было покончено.
– Разве требуется поспешность?
– Да, требуется, или, вернее сказать, ведь я враг всякой поспешности, есть основание поторопиться. Помни, однако же, я тебя не принуждаю. Если тебе не нравится кузина, скажи.
– Она мне нравится, только я такого мнения, что дела подобного рода вырабатываются постепенно. Я вполне разделяю ваше нерасположение к поспешности.
– Теперь, однако же, прошло порядочно времени. Дело вот в чем, Бернард, я намерен пожертвовать для тебя большей долей моего годового дохода.
– Как нельзя более признателен вам.
– У меня нет детей, и поэтому я всегда считал тебя моим сыном. С другой стороны, я не вижу ни малейшей причины, почему бы дочери моего брата Филиппа не быть так же близкой моему сердцу, как и сыну моего брата Орландо.
– Тут не может быть никого сомнения, даже обе дочери могут быть близкими к вашему сердцу.
– Бернард, предоставь мне судить об этом. Младшая сестра выходит замуж за твоего друга, который имеет достаточные средства для содержания своей жены, и потому, я думаю, невестка моя должна быть очень довольна этой партией. Ей не придется отделять какой-либо части от своего дохода, что она должна была бы сделать, если бы Лили выходила замуж за бедняка.
– Я полагаю, едва ли она в состоянии дать многое.
– Люди должны соображаться с обстоятельствами. Я не намерен заступить для них обеих место отца. Нет никакой причины к этому, и я не хочу поощрять ложные надежды. Я был бы совершенно доволен своим образом действий, если бы знал, что дело твое с Белл покончено.
Из всего этого Бернард начал замечать, что ожидания бедного Кросби, относительно приданого от дяди, не осуществятся. Он заметил также – или подумал, что заметил, – некоторую угрозу в словах дяди. Эти слова, по-видимому, выражали предостережение: «Я обещался тебе, когда женишься, восемьсот фунтов в год. Но если ты не примешь их немедленно или не дашь мне понять, что они будут приняты, то, может статься, намерение мое переменится, особливо теперь, когда выходит замуж другая невестка. Если я отделю тебе с Белл такую большую часть моего дохода, то для Лили ничего нельзя будет сделать. Но если ты хочешь жениться на Белл, тогда…» И так далее. Так по крайней мере объяснял себе Бернард слова своего дяди, прогуливаясь с ним по широкой песчаной дорожке.
– Я не хочу откладывать это дело дальше и немедленно сделаю предложение Белл, если вы желаете, – сказал Бернард.
– Если ты решился, то я не вижу причины, почему бы тебе медлить.
Разговор на этом кончился, дядя и племянник встретили своего будущего родственника с веселыми улыбками и ласковыми словами.
Глава VII НАЧАЛО ЗАБОТ И ЗАТРУДНЕНИЙ
Лили, как мы уже знаем, прощаясь в саду с женихом, просила его – или, что то же, приказывала ему, – чтобы он на другое утро, перед отправлением на охоту, навестил ее. Исполняя это приказание, мистер Кросби после чаю явился на поляне мистрис Дель, сопровождаемый Бернардом и двумя собаками. Мужчины имели ружья в руках, на них надеты были охотничьи принадлежности, но случилось так, что раньше завтрака они не могли добраться до жнива, находившегося в некотором расстояния от дороги. Выходит, что для влюбленного человека крикет едва ли не имеет лучшей прелести, чем охота с ружьем.
Нам, пожалуй, заметят, что Бернард Дель не был влюблен, но тот, кто заявит такое обвинение, заявит его ложно. Бернард был влюблен в Белл согласно своему понятию о любви. Не в его натуре было любить Белл так, как Джонни Имс любил Лили, и чрез это собственно он не был поставлен в такое затруднительное положение, в какое чарующие прелести Амелии Ропер поставили нашего бедного клерка из управлении сбора государственных доходов. Джонни, употребляя принятое выражение, был восприимчив, между тем как чувства капитана Деля подчинялись некоторому контролю. Его нельзя было присоединить к числу мужчин, которые сходили с ума от любимой девушки или умирали с сокрушенным сердцем, но, несмотря на то, он, по всей вероятности, женившись, полюбил бы жену свою и был бы попечительным отцом своих детей.
В настоящее время, крепкие узы дружбы связывали между собою эти четыре лица. Бернард и Адольф, или иногда Аполлон, Белл, Лили – все это так нравилось Кросби. Для него наступил новый образ жизни, полный удовольствия, несмотря на то, на него находили минуты грустного раздумья. В это самое время он делал то, чего он во время зрелого уже возраста давал себе обещание никогда не делать. По составленному им заблаговременно плану жизни он всячески должен был избегать женитьбы и позволял себе считать ее событием, возможным только в таком случае, если оно будет сопровождаться богатствами, почестями и красотою. А так как он не надеялся овладеть таким роскошным призом, то считал себя человеком, который до конца своей жизни должен господствовать в клубе Бофорт или быть могущественным в клубе Себрэйт. Но теперь…
Дело в том, что он упал с своего пьедестала, был побежден серебристым голосом, милым остроумием и парою умеренно блестящих глаз. Он страстно полюбил Лили Дель, обладая, по всей вероятности, более сильною способностью влюбляться, чем друг его, капитан Дель, но стоило ли это того, чтобы принести себя в жертву? Этот-то вопрос и задавал себе Кросби в минуты грустного раздумья, он задавал его вечером, когда ложился в постель, утром, когда просыпался, когда брился, и иногда после обеда, когда сквайр бывал более обыкновенного прозаичен. В такие минуты, как последние, он слушал мистера Деля и в то же время в душе делал себе горькие упреки. К чему он должен переносить это, он, Кросби, который служит в генеральной комиссии, Кросби, который никому не позволит принудить себя жить между Черинг-Кроссом и отдаленным концом Бэйсватера, к чему он должен выслушивать нескончаемые история такого человека, как сквайр Дель? Если сквайр намерен наградить свою племянницу, тогда другое дело. Но сквайр не подавал ни малейшего вида подобного намерения, и Кросби сердился на себя, что не имел настолько присутствия духа, чтобы предложить вопрос по этому предмету.
Таким образом, течение любви у нашего Аполлона было не совсем-то гладко. Она доставляла ему удовольствие, когда он играл в крикет на поляне или сидел в гостиной мистрис Дель со всеми привилегиями нареченного жениха. Она доставляла ему также удовольствие, когда он сидел за лафитом сквайра, зная, что скоро подаст ему чашку кофе очаровательная девушка, которая почти бегом перебежала два сада, чтобы исполнить для него эту обязанность. Ничего не может быть приятнее этого, хотя бы человек, с которым так обходятся, и сознавал, что он похож на тельца, положенного на жертвенник, готового к закланию, с голубыми лентами на рогах и на шее. Кросби чувствовал, что он действительно похож на такого тельца, тем более что у него не доставало смелости спросить о состоянии будущей своей жены. «Сегодня же вечером я выпытаю это от старого», – говорил он самому себе, застегивая поутру свои щегольские охотничьи штиблеты.
– Как хорош он в этих штиблетах, – говорила впоследствии Лили своей сестре, ничего не зная о мыслях, которые тревожили жениха ее в то время, когда он украшал свои ноги.
– Я полагаю, мы будем возвращаться этой же дорогой, – сказал Кросби, приготовляясь, по окончании завтрака, двинуться в путь к своим занятиям.
– Ну, не совсем! – отвечал Бернард. – Мы обойдем вокруг фермы Дарвеля и воротимся через ферму Груддока. А разве кузины не обедают сегодня в Большом доме?
Кузины отвечали отрицательно, прибавив, что они не намерены даже и вечером быть в Большом доме.
– В таком случае, если вы не хотите одеваться, то могли бы встретить нас у ворот Груддока, позади фермы. Мы будем там аккуратно в половине шестого.
– То есть мы должны быть там в половине шестого и прождать вас три четверти часа, – сказала Лили.
Несмотря на то, предложение было принято, и кузины Бернарда охотно согласились его выполнить. Так устраиваются встречи между неприхотливыми жителями провинции. Ворота на задворках фермера Груддока как-то дурно звучат, в романе о таких местах не следовало бы говорить, но для молодых людей, стремившихся к предположенной цели, эти задворки имели такую же прелесть, как тенистый столетний дуб в прогалине леса. Лили Дель стремилась к своей цели, точно так же и Адольф Кросби, только его цель начинала помрачаться, как это случается с многими предметами в сей плачевной юдоли. Для Лили все представлялось в розовом свете. Бернард Дель тоже горячо стремился к своей цели. В это утро он особенно близко стоял подле Белл на поляне и думал, что, вероятно, она не отвергнет его любви, когда он признается в ней. И зачем ей отвергнуть? Счастлива должна, быть девушка, к платью которой пришпилят восемьсот фунтов годового дохода!
– Послушай, Дель, – сказал Кросби. В это время оба охотника, выходя с мест, где надеялись найти дичи, подошли к полю Груддока и прислонились к воротам. Кросби во время перехода последних двух миль не говорил ни слова, приготовляясь к следующему разговору. – Послушай, Дель, твой дядя до сих пор не сказал мне ни слова о приданом Лили. Неужели он думает, что я намерен взять ее без ничего? Твой дядя – человек опытный, он знает…
– Опытный ли человек мой дядя или нет, я не скажу, но ты, Кросби, сам опытен. Лили, как тебе всегда было известно, ничего своего не имеет.
– Я не говорю о том, что есть у Лили. Я говорю о ее дяде. Я всегда был откровенен с ним и, влюбившись в твою кузину, тотчас объявил свои виды.
– Тебе бы следовало спросить его, если ты считал подобный вопрос необходимым.
– Если считал подобный вопрос необходимым! Клянусь честью, ты, Бернард, холодный человек.
– Послушай, Кросби, ты можешь говорить, что хочешь о моем дяде, но не должен говорить слова против Лили.
– Кто же намерен говорить что-нибудь против нее? Ты еще мало понимаешь меня, если не знаешь, что я больше твоего должен заботиться о защите ее имени от всяких нареканий, я считаю ее за самую близкую родную.
– Я хотел только оказать, что всякое неудовольствие, которое ты можешь испытывать относительно ее приданого, ты должен обращать на моего дядю, а отнюдь не на семейство в Малом доме.
– Я очень хорошо это знаю.
– И хотя ты можешь говорить что угодно о моем дяде, но я не вижу причины, по которой бы его можно было обвинять.
– Он должен был сказать мне, на что Лили может рассчитывать!
– А если ей ни на что нельзя рассчитывать? Дядя мой, кажется, не обязан рассказывать всякому, что он не намерен дать своей племяннице какое-нибудь приданое. Да и в самом деле, почему ты полагаешь, что у него есть подобное намерение?
– А разве ты знаешь, что у него нет его? Ведь ты же сам почти уверил меня, что он даст денег своей племяннице.
– Кросби, нам необходимо понять друг друга в этом отношении…
– Разве ты не уверял меня?
– Выслушай меня. Я не говорил тебе ни слова о намерениях дяди до тех пор, пока ты не сделал предложения Лили, с ведома всех нас. После того когда я уверился, что мое мнение по этому предмету не могло сделать перемены в твоем образе действий, я сказал, что, может статься, дядя что-нибудь для нее сделает. Я сказал это потому, что так думал, и, как твой друг, я должен был высказать свое мнение во всяком деле, которое касается твоих интересов.
– А теперь ты переменил свое мнение?
– Да, переменил, но, весьма вероятно, без достаточного основания.
– Как это жестоко!
– Конечно, очень неприятно быть обманутым в своих ожиданиях, но ты не можешь сказать, что с тобой поступили неблагородно.
– И ты думаешь, что он ничего ей не даст?
– Ничего такого, что было бы для тебя очень важно.
– Неужели же я не могу сказать, что это жестоко? Я думаю, это чертовски жестоко. Придется отложить на время женитьбу.
– Почему ты сам не поговоришь с моим дядей?
– Поговорю, непременно. Сказать тебе правду, я ожидал от него лучшего, но, конечно, это были одни ожидания. Я откровенно ему выскажу все, и если он рассердится, тогда придется мне оставить его дом, тем дело и кончится.
– Послушай, Кросби, не начинай разговора с намерением рассердить его. Дядя мой не злой человек, он только очень упрям.
– Но ведь и я могу быть таким же упрямым, как он.
Разговор прекратился, и друзья пошли по полю, засеянному репой, сетуя на счастье, не доставившее им случая набить дичи. Бывают иногда такие минуты настроения души, в которые человек не в состоянии ни ездить верхом, ни охотиться, ни делать верные удары на бильярде, ни помнить карты в висте, – в таком точно настроении духа находились Кросби и Дель после разговора у ворот.
Несмотря на свою пунктуальность, они опоздали прийти на место свидания минутами пятнадцатью, девицы явились раньше их. Само собою разумеется, первые осведомления были сделаны о дичи, и, тоже само собою разумеется, джентльмены отвечали, что птицы теперь меньше, чем бывало прежде, что собаки сделались какими-то дикими и что счастье охотников было невыносимо дурно. На все эти доводы, конечно, не было обращено ни малейшего внимания. Лили и Белл пришли не за тем, чтобы узнать о числе убитых куропаток, и, право, простили бы охотникам, если бы те не убили даже ни одной птицы, но они не могли простить недостатка веселости, который был очевиден.
– Не знаю, что с вами сделалось, – сказала Лили своему жениху.
– Выходили больше пятнадцати миль и…
– Я никогда не знала людей изнеженнее вас, лондонских джентльменов. Пятнадцать миль! Для дяди Кристофера это ничего не значит!
– Дядя Кристофер выткан из более суровой материи, чем мы, – отвечал Кросби. – Такие люди являлись на свет лет шестьдесят или семьдесят тому назад.
И молодые люди пошли через поле Груддока, через пажити оллингтонской усадьбы к Большому дому, где сквайр стоял на площадке переднего подъезда.
Прогулка далеко не имела тех удовольствий, которые обещала она, когда составлялись ее планы. Кросби старался возвратить свое счастливое настроение духа, но старания его оставались безуспешны. Лили, замечая, что ее нареченный совсем не то, чем бы ему следовало быть, сделалась необыкновенно унылою и молчаливой. Бернард и Белл не разделяли этого уныния, впрочем Бернард и Белл, по обыкновению, всегда были преданы молчанию более, чем другая пара.
– Дядя, – сказала Лили, – эти господа ничего не застрелили, и вследствие этого вы не можете себе представить, какими они кажутся несчастными. Всему виной эти негодные куропатки.
– Куропаток у нас много, только надобно уметь их выследить, – сказал сквайр.
– Виноваты собаки, которые ужасно горячатся, – сказал Кросби.
– При мне они не горячатся, – заметил сквайр. – Не горячатся они и при Дингльсе. – Дингльс был главный егермейстер и смотритель дичи. – Дело в том, молодые люди, вы верно хотите, чтобы собаки исполняли за вас всю работу. Для вас, я вижу, большого труда стоит походить да поискать хорошенько дичи. Однако, мои милые, вы опоздаете к обеду, если не поторопитесь.
– Сегодня вечером мы не будем у вас, – сказала Белл.
– Почему же?
– Потому что мы намерены остаться с мама.
– А почему бы вашей матери не прийти вместе с вами? Пусть меня отбичуют, если я понимаю причину этому. Другой бы подумал, что при настоящих обстоятельствах она будет ряда видеть вас вместе, как можно чаще.
– Мы, кажется, видимся довольно часто, – сказала Лили, – что же касается до мама, то я полагаю, она считает…
И Лили остановилась, встретив умоляющий взгляд сестры своей Белл. Она приготовилась с негодованием привести какое-то извинение, извинение, которое должно было возбудить гнев в ее дяде. Лили имела обыкновение говорить сквайру резкие слова, и потому он не питал к ней такого расположения, как к ее молчаливой и более рассудительной сестре. В настоящую минуту сквайр быстро повернулся и пошел в дом, а за ним последовали и молодые джентльмены, выразив на скорую руку обыкновенные прощальные приветствия. Две сестрицы пошли по дорожке, ведущей через маленький мостик, вполне сознавая, что прогулка не доставила того удовольствия, которого они ожидали.
– Тебе, Лили, не следовало бы раздражать его, – сказала Белл.
– А ему не следовало бы отзываться таким образом о нашей мама. Мне кажется, Белл, ты вовсе не обращаешь внимания на его слова.
– Ах, Лили!
– Это верно. Они меня всегда так сердят, чти я не могу удержаться от дерзостей. Неужели же мама должна идти туда, собственно, для того, чтобы угождать его капризам?
– Поверь, Лили, что мама знает не хуже нашего, что ей нужно делать. Характером она нисколько не слабее дяди Кристофера и, право, никому не позволит себя обидеть. Но, Лили, неужели ты полагаешь, что я нисколько не думаю о нашей мама? Я знаю, ты не хотела упрекнуть меня в этом?
– Разумеется, я и не думала.
В это время сестры присоединились к своей матери в маленьком владении, но мы обратимся к мужчинам, возвратившимся в Большой дом после охоты.
С Кросби, во время его переодевания к обеду, сделался один из тех меланхолических припадков, о которых я уже говорил. Неужели и в самом деле ему предстояло разрушить все то, что он создал в течении прошедших лет своей жизни, сопровождаемой до настоящей поры успехами? Или, задавая себе вопрос более строгий, он спрашивал себя: не разрушил ли уже он этим делом все свои успехи? Его женитьба на Лили, к счастью или несчастью, была делом решенным, не допускавшим ни малейшего сомнения. Отдавая полную справедливость этому человеку, я должен сказать, что в подобные минуты душевной пытки он всеми силами старался считать Лили неоцененным сокровищем, посланным ему судьбою, сокровищем, которое должно вознаградить его в предстоящем бедствии. А бедствие более и более становилось очевидным. Ему предстояло отказаться от клубов, от моды, от всего, что он приобрел до настоящего времени, что обратилось для него в привычку, и довольствоваться скучной, обыденной жизнью семьянина, с восемьюстами фунтов годового дохода, в небольшом доме, полном ребятишек. Земной рай и блаженство, которые он предвидел в своей будущности, исчезли как мечта. Лили хороша, даже очень хороша. По его словам: «Это была такая миленькая девушка, какой он в жизнь свою не видывал». Что бы там ни случилось, думал он, ее счастье должно служить для него предметом первейшей заботы и попечений. Что касается до него самого, он начинал бояться, что вознаграждение это едва ли будет достаточно. «Что ж такое, ведь это я же сделал, – говорил он про себя, намереваясь быть более благородным в своем монологе. – я сам себя приучил ко всему этому, и очень глупо. Само собою разумеется, я должен страдать, и страдать страшным образом. Она, конечно, никогда об этом не узнает. Милое, очаровательное, невинное создание!» И потом он начал думать о сквайре как о человеке, к которому считал себя в праве питать полное негодование вследствие своего собственного бескорыстного и благородного поведения в отношении к его племяннице. «Но все же я дам ему знать, как я понимаю эти вещи, – говорил Кросби. – Делю хорошо говорить, что со мной поступили благородно. Хорошо благородство – пристроить племянницу с помощью обмана. Я был уверен, что он наградит ее».
Наконец, самым решительным образом положив в душе своей не покидать Лили после обещания жениться на ней, Кросби старался найти утешение в мысли, что может, во всяком случае, позволить себе еще годика два пожить в Лондоне и окончательно насладиться жизнью холостяка. Девушки, выходящие замуж без состояния, сами знают, что им надобно ждать. Лили сама уже сказывала, что касательно себя она не торопится. Поэтому не было особенной надобности в немедленном исключении своего имени из списка членов клуба Себрэйта. Так старался утешить себя Кросби, решившись однако в тот же вечер серьезно переговорит с сквайром о приданом Лили.
Но что думала Лили в это же самое время, делая, в свою очередь, некоторые перемены в скромном туалете перед скромным обедом в Малом доме?
– Я не умею ценить его привязанности, – говорила она про себя, – решительно не умею. Я забываю, что для меня, собственно для меня, он должен отказаться от многого, а я, когда что-нибудь огорчает его, вместо утешения только раздражаю его.
Затем Лили обвиняла себя в том, что не любила его и вполовину, что она еще не показала ему, как искренно и как вполне его любила. На это она смотрела с своей собственной точки зрения, она держалась того мнения, что как девица не должна позволять мужчине брать верх над собой до тех пор, пока обстоятельства не представят ему этого права, так точно она не должна скрывать любви своей, но дать ей полную свободу и всею силою своей изливаться для него, когда существование такого обстоятельства окажется несомненным. А между тем, когда наступило время для приложения этой теории к практике, Лили сознавала, что не соблюдает правил своей теории. Она без всякого умысла принимала на себя вид притворной скромности, оказывала притворное равнодушие наперекор действительности своих чувств. Так точно поступила она с ним и сегодня, при прощании не подала ему даже руки для пожатия, не бросила на него взгляда, в котором выражалась бы ее любовь, и вследствие этого Лили была крайне недовольна собой, даже сердилась на себя.
– Кажется, я заставлю его ненавидеть меня, – проговорила она вслух в присутствии Белл.
– Это было бы очень грустно, – сказала Белл. – Но я не вижу, чтобы это могло случиться.
– Сделавшись невестой, Белл, ты не стала бы так обходиться с своим женихом. Ты не позволила бы себе говорить ему так много, а если бы сказала что-нибудь, то, верно, в твоих словах отозвалась бы любовь. Я всегда говорила ему такие страшные вещи, за которые, право, следовало бы отрезать язык.
– Я уверена, что все сказанное тобой было для него приятно.
– В самом деле? Нет, Белл, в этом я не уверена. Разумеется, он не станет бранить меня, это верно, но я вижу по его глазам, когда он бывает доволен и когда недоволен.
Разговор этим кончился, Лили и Белл отправились в обеду.
Между тем в Большом доме три джентльмена встретились в столовой в отличном, по-видимому, расположении духа. Бернард Дель был человек ровного темперамента, человек, который редко позволял какому-нибудь чувству, даже досаде, вмешиваться в его обычное обращение, который мог во всякое время являться за стол с улыбкой и встречаться с другом или недругом одинаково вежливо. Нельзя сказать, чтобы он был фальшивый человек. В спокойствии его поведения не обнаруживалось ни малейшего обмана. Оно происходило от совершенного равнодушия, но это было равнодушие холодного характера, а не то, которое образовывается под влиянием особенного рода дисциплины. Сквайр знал, что до обеда он был не в духе, но, сделав себе выговор за это, вошел в столовую с любезным радушием хозяина дома.
– Я видел, что в вашем ягдташе не совсем-то дурно, – сказал он, обращаясь к Кросби. – И полагаю, что аппетит ваш так же хорош, как и ягдташ.
Кросби улыбнулся, принудил себя быть любезным и сказал несколько комплиментов. Человек, намеревающийся через час или два принять какую-нибудь решительного меру, обыкновенно старается выдерживать себя и при этом готов выслушивать всякий вздор. Кросби похвалил охоту сквайра, замолвил доброе словцо за Дингльса и подсмеялся над собой по поводу своего недостатка в искусстве стрелять. Все были веселы, разумеется, не как свадебные колокола, но все же достаточно веселы для партии из трех джентльменов.
Решимость Кросби была неизменна. Как только старик дворецкий удалился и на столе осталось одно вино и десерт, он приступил к делу внезапно, без всяких околичностей. Сообразив все обстоятельства дела, он не считал за нужное дождаться ухода Бернарда Деля. Он рассчитывал, что в присутствии Бернарда ему легче будет выиграть сражение.
– Сквайр, – начал он. – Все более или менее близкие к мистеру Делю называли его просто сквайром, и Кросби счел за лучшее начать в этом роде, как будто между ними не было никакой преграды, которая бы разделяла их друг от друга на значительное пространство. – Сквайр, я полагаю, вам должно быть понятно, что в настоящее время я озабочен предполагаемой женитьбой.
– Это весьма натурально, – отвечал сквайр.
– Клянусь Георгом, сэр, никакой мужчина не сделает подобной перемены в жизни без того, чтобы не подумать о ней.
– Разумеется, – сказал сквайр. – Я никогда не затевал женитьбы, но, несмотря на то, понимаю это дело.
– Я считаю себя счастливейшим человеком в мире, найдя такую девушку, как ваша племянница…
При этом сквайр поклонился, намереваясь заявить, что счастье в этом деле было на стороне Делей.
– Это я знаю, – продолжал Кросби. – В ней заключается все, что только можно требовать от благовоспитанной девушки.
– Она добрая девушка, – заметил Бернард.
– Да, я думаю, – сказал сквайр.
– Но мне кажется, – продолжал Кросби, сознавая, что для него наступила минута действовать решительно, говоря другими словами, что для него наступила минута броситься в омут вниз головой, – мне кажется, что надобно же сказать хотя несколько слов на счет средств, необходимых для ее приличного содержания.
И Кросби замолчал на несколько секунд, ожидая отзыва на свои слова со стороны сквайра. Но сквайр преспокойно сидел, пристально всматриваясь в пустой камин, и не сказал ни слова.
– Для доставления ей, – продолжал Кросби, – того комфорта, к которому она привыкла.
– Она не приучена к роскоши, – сказал сквайр, – ее мать, как вам, без сомнения, известно, женщина небогатая.
– Однако, живя здесь, Лили пользовалась удовольствиями, у нее есть лошадь для верховой езды и другие подобные вещи.
– Не думаю, однако же, что она рассчитывает иметь лошадь для прогулок в парке, – сказал сквайр с весьма заметной иронией.
– Я тоже не думаю, – сказал Кросби.
– Здесь иногда она пользовалась одной из моих пони, но едва ли это может повести к странным прихотям, которые стоят денег. Я не думаю, чтобы в голове той или другой из них гнездились такие нелепые идеи. Этого быть не может, сколько я знаю.
– И ничего подобного не бывало, – сказал Бернард.
– Я не стану, впрочем, распространяться, сэр. – И Кросби, говоря это, старался сохранить обыкновенный свой голос и хладнокровие, но усиленный румянец обличал раздражительное состояние, в котором он находился. – Могу ли я вместе с женитьбой ожидать какого-нибудь приращения дохода?
– Об этом я не говорил с моей невесткой, – отвечал сквайр. – Но полагаю, она не в состоянии сделать многое.
– Само собою разумеется, от нее я не взял бы шиллинга, – сказал Кросби.
– В таком случае ваш вопрос разрешается сам собою, – заметил сквайр.
Наступила пауза, в течение которой лицо Кросби становилось краснее и краснее.
– Я вовсе не думал ссылаться на состояние мистрис Дель, я ни под каким видом не хочу его расстраивать. Я только желал узнать, сэр, намерены ли вы сделать что-нибудь для вашей племянницы.
– Относительно денежного приданого? Вовсе ничего. Решительно ничего не намерен.
– Наконец, мне кажется, мы понимаем друг друга, – сказал Кросби.
– Я думал, что мы понимали друг друга с самого начала, – заметил сквайр. – Разве я обещал вам или делал когда-нибудь намек, что намерен обеспечить мою племянницу? Подавал ли я когда-нибудь малейший повод на подобную надежду? Не знаю, что вы хотели сказать, употребив слово «наконец», одно разве только, что хотели оскорбить меня.
– Я хотел сказать истину, сэр, я хотел сказать… что, видя отношения к вам ваших племянниц, я полагал, что вы поступите с ними обеими, как с родными дочерями. Теперь я вижу свою ошибку, вот и все!
– Да, вы ошиблись, и для вашей ошибки нет никакого извинения.
– Со мной вместе ошибались и другие, – сказал Кросби, совсем забывая, что в разговор этот не следовало вводить постороннего мщения.
– Кто другие? – с гневом спросил сквайр и тотчас же приписал это проискам своей невестки.
– Я никого ни хочу вмешивать в это дело, – отвечал Кросби.
– Если кто-нибудь из моих родных вздумал сказать вам, что я намерен сделать для племянницы Лили более того, что уже сделано, тот не только лжет, но и показывает себя неблагодарным. Я никого не уполномочивал делать обещаний в пользу моей племянницы.
– Никто и не делал этих обещаний. Это было только одно предположение, – сказал Кросби.
Кросби вовсе не знал и не догадывался, на кого именно сквайр направлял свой гнев, но он заметил однако же, что хозяин дома был сердит, и, рассудив, что ему не следует ссылаться на слова Бернарда Деля, высказанные под влиянием дружбы, Кросби решился не упоминать ничьего имени. Бернард, слышавший весь разговор, видел, в чем дело, и должен бы, кажется, помочь приятелю, но, с другой стороны, сознавая себя совершенно безгрешным в этом деле, не находил причины, по которой бы должен был подвергнуться негодованию дяди.
– Не следовало даже и допускать подобного предположения, – сказал сквайр. – Никто не имел права составлять таких предположений. Еще раз повторяю, что я никого не уполномочивал давать вам повод к такому предположению. Я не буду больше говорить об этом, скажу только одно, чтобы вы поняли раз и навсегда, что я не считаю своей обязанностью дать племяннице моей Лилиане денежное приданое при ее замужестве. Надеюсь, что ваше предложение ей не было сделано под влиянием подобного ослепления.
– О, нет, этого не было, – сказал Кросби.
– В таком случае, мне кажется, особенно дурного ничего еще не сделано. Мне очень жаль, что вам внушили ложные надежды, но я уверен, вы согласитесь теперь, что эти идеи не были внушены вам мною.
– Я думаю, сэр, что вы не так меня поняли. Надежды мои были не очень большие, но, во всяком случае, я считал себя вправе узнать ваши намерения.
– Теперь они вам известны. Надеюсь, что для племянницы моей они не будут иметь особенного значения. Не думаю, чтобы ее можно было обвинить в этом деле.
Кросби поспешил немедленно защитить Лили, и потом с большим замешательством, чем следовало бы ожидать от человека, так хорошо знакомого с фешенебельной жизнью, как Аполлон Бофортский, приступил к объяснению, что если Лили не будет иметь своего состояния, то при его собственных денежных средствах необходимо понадобится отложить свадьбу до некоторого времени.
– Что касается до меня, – сказал сквайр, – то мне не совсем-то нравится продолжительность подобного рода отсрочки. Впрочем, я не имею ни малейшего права вмешиваться в это дело, до тех пор, конечно… – И мистер Дель не досказал своей мысли.
– По моему, так лучше было бы безотлагательно назначить день свадьбы, не правда ли, Кросби? – спросил Бернард.
– Я поговорю об этом с мистрис Дель.
– Если вы и она сходитесь друг с другом в своих понятиях, – сказал сквайр, – то, разумеется, этого будет весьма достаточно. А теперь не отправиться ли нам в гостиную или на чистый воздух – на поляну.
В этот вечер Кросби, ложась спать, вполне сознавал, что, вступив в состязание с сквайром, не выиграл сражения.
Глава VIII ЭТОГО БЫТЬ НЕ МОЖЕТ
На другое утро, за завтраком, каждый из трех джентльменов в Большом доме получили по записке на розовой бумажке, приглашавшей их, от имени мистрис Дель, на чашку чаю в Малом доме в этот же самый день через неделю. В конце записочки, которую Лили написала к мистеру Кросби, было прибавлено: «Танцы на поляне, если мы успеем устроить их. Вы, во всяком случае, должны прийти, все равно, будет ли у вас расположение или нет. Бернард также. Постарайтесь всячески уговорить дядю пожаловать к нам». Эта записка послужила поводом к возбуждению хорошего расположения духа в сидевших за завтраком джентльменах. Она была показана сквайру, которого принудили наконец сказать, что, может статься, и он отправится на вечер мистрис Дель.
Здесь я должен объясниться, что этот вечер предполагалось сделать для доставления удовольствия вовсе не мистеру Кросби, но бедному Джонни Имсу. Как бы поправить то неприятное дело? Вопрос этот во всей подробности рассматривался между мистрис Дель и ее дочерью Белл, они пришли наконец к такому заключению, что непременно нужно пригласить Джонни на небольшой дружеский вечер, на котором он мог бы встретиться с Лили в кругу посторонних лиц. Только этот путь и представлял возможность выйти из затруднительного положения. «Нельзя же допустить, – говорила мистрис Дель, – чтобы он оставался незамеченный ими». – «Раз бы только приласкать его, – сказала Белл, – и тогда все пойдет по-прежнему». Поэтому рано поутру в тот же день в Гествик отправлен был посланный, который возвратился с запиской от мистрис Имс, извещавшей, что она будет на вечер с сыном и дочерью. Они возьмут коляску и вернутся в Гествик в тот же вечер. Это было прибавлено по тому поводу, что мистрис Дель в приглашении своем предлагала мистрис Имс и ночевать в ее доме.
До наступления вечера в Оллингтоне случилось другое замечательное событие, которое мы должны описать, чтобы познакомить читателя с чувствами различных гостей мистрис Дель. Сквайр дал понять своему племяннику, что ему было бы желательно видеть дело его с племянницей Белл совершенно поконченным, а так как взгляды Бернарда на вещи вполне согласовались с взглядами сквайра, то он решился безотлагательно исполнить желание дяди. Этот проект не был для него новостью. Бернард любил свою кузину настолько, сколько было совершенно достаточно для супружеских целей, и начинал задаваться идеей, что женитьба – вещь недурная. Ему нельзя было бы жениться без денег, но эта женитьба предоставляла в полное его распоряжение доход без всяких судебных тяжб, без всякого вмешательства адвокатов, враждебных его интересам. Может статься, он сделал бы для себя что-нибудь лучше, но могло статься и то, что сделал бы что-нибудь хуже, ко всему этому он если не был влюблен, то, по крайней мере, любил свою кузину. Он очень спокойно рассматривал этот вопрос со всех его сторон, составлял превосходные планы насчет образа жизни, который бы привелось принять ему, заранее располагался в одной из лондонских улиц в своем собственном доме и рассчитывал на четыре, на пять дней в неделю для собственных своих удовольствий, без малейшего участия в них Белл. Что он не обнаруживал пламенной любви к ней, в этом не могло и не должно быть ни малейшего сомнения, сама Белл не признавала этого факта. Кузен ее постоянно ей нравился, но в последнее время он как то особенно старался казаться любезным.
Накануне званого вечера Лили и Белл нарочно ходили в Большой дом, собственно, за тем, чтобы посоветоваться насчет танцев. Лили решительно хотела, чтобы танцы были на поляне, но Белл не соглашалась с ней, говоря, что на открытом воздухе будет и холодно и сыро и что для этого гостиная – самое удобное место.
– Дело в том, что у нас только четыре молодых джентльмена и один юноша, – сказала Лили. – В комнате они будут стеснены, будут думать, что у нас настоящий бал, и, следовательно, казаться смешными.
– Благодарю за комплимент, – сказал Кросби, приподняв свою соломенную шляпу.
– Вы тоже будете смешны, а мы, девицы, еще забавнее. На поляне совсем другое дело. Там такая прелесть.
– Я не вижу ее, – сказал Бернард.
– А я так вижу, – возразил Кросби. – Неприменимость поляны к целям бала…
– Кто вам говорит о бале, – сказала Лили с притворным гневом.
– Я защищаю вас, а вы не даете мне говорить. Неприменимость поляны к целям бала будет скрывать недостаток в кавалерах, которых всего оказывается только четверо мужчин и один юноша. Но, Лили, скажите мне, кто же этот юноша? Не старинный ли ваш друг Джонни Имс?
– О нет! – отвечала Лили спокойным голосом. – Я вовсе не о нем говорила. Он тоже будет, но я считаю его в числе джентльменов. Это Дик Бойс, сын мистера Бойса, ему только шестнадцать лет. Он-то и есть юноша.
– Кто же четвертый джентльмен?
– Доктор Крофтс, из Гествика. Надеюсь, Адольф, вы его полюбите. Мы все его считаем образцом совершеннейшего мужчины.
– В таком случае я буду ненавидеть его, буду очень ревнивым!
И молодая чета пошла по песчаной дорожке, продолжая обмениваться выражениями нежной любви, ворковать, как пара голубков. Они удалились, а Бернард остался с Белл у живой изгороди, отделяющей сад от соседнего поля.
– Белл, – сказал он, – они, кажется, очень счастливы, не правда ли?
– Им теперь и надо быть счастливым. Милая Лили! Я надеюсь, он будет добр для нее. Знаете ли, Бернард, хотя он вам и друг, но я очень, очень беспокоюсь за него. Надо быть чрезвычайно доверчивым, чтобы положиться на человека, которого мы не совсем еще знаем.
– Это правда, но они будут жить хорошо. Лили будет счастлива.
– А он?
– Полагаю, что и он будет счастлив. Сначала он чувствовал себя немного стесненным насчет денег, но это все устроится.
– А если не устроится, ведь одна мысль об этом будет для ней пыткой.
– Нет, они будут жить хорошо, Лили должна приготовиться к скромному роду жизни и не рассчитывать на деньги, вот и все.
– Лили и не думает о деньгах. Вовсе не думает. Но если Кросби покажет ей вид, что она сделала его бедным человеком, Лили будет несчастна. Скажите, Бернард, не расточителен ли он?
Но Бернард нетерпеливо ждал минуты, чтобы начать речь о другом предмете, и потому ему не хотелось продолжать разговора относительно супружества Лили, чего, конечно, можно было бы ожидать от него, если бы он находился в другом настроении духа.
– Нет, не скажу, – отвечал Бернард. – Но, Белл…
– Не знаю, мы не могли поступить иначе, а при всем том, мне кажется, поступили опрометчиво. Если он сделает ее несчастной, Бернард, я не прощу вам никогда.
Говоря это, Белл нежно положила руку на плечо Бернарда, в тоне ее голоса нисколько не обнаруживалось горечи, сердца.
– Вы не должны со мной ссориться, Белл, что бы там ни случилось. Я и себе не позволю ссориться с вами.
– Ведь я шучу, – сказала Белл.
– Вы и я никогда не должны ссориться, по крайней мере, я не думаю, чтобы это могло быть. Я мог бы еще поссориться с кем-нибудь другим, но не с вами.
В голосе Бернарда было что-то особенное, легко, инстинктивно предупреждавшее Белл о намерении кузена. Белл не могла сказать себе в ту же минуту, что он намерен предложить ей свою руку теперь же на этом месте, но она угадывала, что в намерение его заключалось более чем одна нежность обыкновенной братской любви.
– Надеюсь, что мы никогда не поссоримся, – сказала она.
Говоря это, Белл старалась привести в порядок свои мысли, в ее уме составлялись предположения, на какого рода любовь рассчитывал Бернард, и решение, какого рода любовью можно отвечать ему.
– Белл, – сказал Бернард, – вы и я всегда были друзьями.
– Да, Бернард, всегда.
– Почему бы вам не сделаться более чем друзьями?
Отдавая капитану Делю полную справедливость, я должен сказать, что его голос при этом вопросе был совершенно натуральный и что он сам не обнаруживал ни малейших признаков волнения. Он решился объясняться в любви, и объяснялся как нельзя спокойнее. Сделав вопрос, он ожидал ответа. В этом отношении он поступил несколько круто, потому что хотя вопрос и выражен был словами, в которых нельзя ошибиться, но все же он далеко не был излажен с той полнотою, ожидать которой молоденькая леди при подобных обстоятельствах имела полное право.
Кузены сели на траву подле живой изгороди, они были в таком близком расстоянии друг от друга, что Бернард протянул руку и хотел взять в нее руку кузины. Но рука Белл лежала с другой, и Бернард ограничился тем, что обнял ее талию.
– Я не совсем понимаю вас, Бернард, – отвечала она после минутной паузы.
– Почему бы нам не быть более, чем кузенами? Почему бы нам не быть мужем и женой?
Теперь уже Белл не могла сказать, что не совсем понимает. Если требовался вопрос более ясный, то Бернард Дель высказал его как нельзя яснее. Почему бы нам не быть мужем и женой? Мало найдется людей, у которых было бы достаточно смелости предложить подобный вопрос так решительно.
– Ах, Бернард! Вы изумили меня.
– Но, надеюсь, Белл, я не оскорбил вас. Я долго думал об этом, но знаю, что мое обращение даже с вами не могло обнаружить моих чувств. Не в моем характере постоянно улыбаться и говорить нежности, подобно Кросби. Несмотря на то, я люблю вас искренно. Я искал себе жену, и думал, что если вы примете мое предложение, то буду весьма счастлив.
Бернард ничего не сказал о своем дяде и восьмистах фунтах годового дохода, но приготовился сделать это, как только представится удобный случай. Он был того мнения, что восемьсот фунтов стерлингов и хорошее расположение богатого человека должны служить сильным побуждением к супружеству, побуждением даже к любви, он нисколько не сомневался, что его кузина будет смотреть на этот предмет с той же точки зрения.
– Вы очень добры ко мне, больше чем добры. Я знаю это. Но, Бернард! Я никак этого не ожидала.
– Дайте же мне ответ, Белл! Или может быть, вам нужно время подумать, переговорить с матерью, в таком случае вы дадите мне ответ завтра.
– Мне кажется, я должна вам отвечать теперь же.
– Только не отказать, Белл. Прежде чем сделать это, подумайте хорошенько. Я должен сказать, что этого брака желает наш дядя и что он устраняет всякое затруднение, которое могло бы встретиться насчет денег.
– О деньгах я не думаю.
– Однако, говоря о Лили, вы сами заметили, что надо быть благоразумным. В нашей женитьбе все будет превосходно устроено. Дядя обещал сейчас же назначить нам…
– Остановитесь, Бернард. Не позволяйте себе думать, что какое-нибудь предложение со стороны дяди поможет вам купить… Нам нет никакой надобности говорить о деньгах.
– Я хотел только познакомить вас с фактами этого дела, как они есть. Что касается до нашего дяди, то я не могу не думать, что вы будете рады иметь его на своей стороне.
– Да, я была бы рада иметь его на моей стороне, если бы намеревалась… Впрочем, желания моего дяди не могут иметь влияния на мою решимость. Дело в том, Бернард…
– В чем же? Скажите, милая Белл.
– Я всегда считала вас за брата и любила как брата.
– Но эту любовь можно изменить.
– Нет, я не думаю, Бернард, я пойду дальше и скажу вам решительно, ее нельзя изменить. Я знаю себя довольно хорошо, чтобы сказать это с уверенностью. Этого быть не может.
– Вы хотите сказать, что не можете полюбить меня?
– Такою любовью, какою бы вы желали. Я люблю вас искренно, совершенно искренно. Я готова явиться к вам с утешением во всякой горести, как я явилась бы к брату.
– Неужели же, Белл, в этом только и должна заключаться вся ваша любовь?
– Разве этого недостаточно, разве эта любовь не имеет своей прелести? Не считайте меня, Бернард, неблагодарною или гордою. Я знаю хорошо, что вы предлагаете мне гораздо более, чем я заслуживаю. Всякая другая девушка гордилась бы таким предложением. Но, милый Бернард…
– Белл, прежде чем вы дадите мне окончательный ответ, подумайте об этом, переговорите с вашей матерью. Конечно, вы были не приготовлены, и я не смею ожидать, чтобы вы обещали мне так много без минутного размышления.
– Я была не приготовлена и потому не отвечала вам как бы следовало. Но так как в объяснении нашем мы зашли довольно далеко, то я не могу позволить себе оставить вас в безызвестности. Нет никакой надобности с моей стороны заставлять вас ждать. В этом деле я знаю свое сердце. Милый Бернард, предложение ваше не может быть принято.
Белл говорила тихо, таким тоном, в котором отзывалась умоляющая покорность, несмотря на то, тон этот сообщал ее кузену уверенность, что она говорила решительно, что эту решительность переменить было бы трудно. Да и то сказать, разве Белл не принадлежала к фамилии Делей? Случалось ли, чтобы Дели переменяли когда-нибудь свое намерение? Бернард несколько времени сидел подле кузины молча, Белл тоже, объявив свое решение, она воздерживалась от дальнейших слов. В течение нескольких минут они не сказали ни слова, глядя на живую изгородь и скрывавшийся за нею ров. Белл сохраняла прежнее свое положение, держа на коленях руки, сложенные одна в другую, Бернард склонился набок, поддерживая рукою свою голову, его лицо, хотя и было обращено к кузине, но глаза пристально смотрели в траву. В течение этого времени он, однако же, не оставался праздным. Ответ кузины хотя и огорчил его, но не нанес удара, который бы решительно поразил его и отнял всякую способность мышления. Ему казалось, что он в жизнь свою не испытывал еще такого огорчения. Умеренное желание приобрести предмет сделалось в нем сильнее, когда ему отказали в приобретении. Впрочем, он был в состоянии рассматривать в настоящем свете свое положение и судить о предстоявших шансах, если будет домогаться руки кузины, и о выгоде, если немедленно оставит это домогательство.
– Я не хочу быть настойчивым, Белл, но могу ли я спросить: если тут оказывается предпочтение…
– Тут нет никакого предпочтения, – отвечала Белл.
И они снова минуты на две оставались безмолвными.
– Дядя мой будет очень сожалеть об этом, – сказал Бернард.
– Если только в этом дело, – возразила Белл, – то, право, я не вижу причины, чтобы нам беспокоиться. Он не имеет и не может иметь ни малейшего права располагать нашими сердцами.
– В ваших словах, Белл, я слышу насмешку.
– Милый Бернард, никакой нет насмешки. Я не думала насмехаться.
– Мне не нужно говорить о моей собственной печали. Вам не понять, до какой степени она должна быть глубока. Зачем бы стал я подвергать себя такому огорчению, если бы тут не участвовало мое сердце? Но я перенесу его, если должен перенести…
И Бернард снова замолчал, посмотрев на кузину.
– Это скоро пройдет, – сказала Белл.
– Я перенесу его без ропота. Но что касается до чувств моего дяди, то я должен говорить откровенно, а вы, мне кажется, должны выслушать без равнодушия. Он всегда был добр до нас обоих и любит нас обоих более всех других живых созданий. Неудивительно поэтому, что он желал нашего брака, и не будет удивительно, если ваш отказ будет для него сильным ударом.
– Мне будет жаль, очень жаль.
– Я тоже буду сожалеть. Теперь я говорю о нем. Наш брак был его искренним желанием, а так как желаний у него очень немного, то он был постоянен в тех из них, которые выражал. Когда он узнает об этом, то переменит свое обращение к нам.
– В таком случае он будет несправедлив.
– Нет, он не захочет быть несправедливым. Он всегда был справедливый человек. Но он будет несчастлив, и несчастье его, я боюсь, отразится на других. Милая Белл, нельзя ли вопрос этот оставить на некоторое время неразрешенным? Вы увидите, что я не воспользуюсь вашим добродушием. Я не буду больше беспокоить вас, положим, в течение недель двух или до отъезда Кросби.
– Нет, нет и нет, – сказала Белл.
– Зачем вы так щедры на эти нет? В такой отсрочке не может быть ни малейшей опасности. Я не буду вас принуждать, вы можете этим заставить дядю думать, что потребовали времени на размышление.
– Есть вещи, Бернард, на которые следует отвечать немедленно. Сомневаясь в самой себе, я позволила бы вам убедить меня. Но я не сомневаюсь в себе, и с моей стороны было бы несправедливо оставлять вас в недоумении. Милый, дорогой Бернард, этого быть не может, а как этого не может быть, то вы, как брат мой, поверите мне, что я говорю откровенно. Этого быть не может.
В то время когда Белл произнесла последний приговор, вблизи их послышались шаги Лили и ее жениха. Бернард и Белл понимали, что разговор их должен прекратиться. Ни тот, ни другая не знали, как им подняться и оставить это место, а между тем каждый чувствовал, что более ничего не может быть сказано.
– Видели ли вы что-нибудь милее, очаровательнее и романтичнее? – сказала Лили, остановившись перед ними и глядя на них. – И они оставались тут во все время, пока мы гуляли и рассуждали о житейских делах. Знаешь ли, Белл, Адольфу кажется, что в Лондоне нам нельзя будет держать поросят. Это меня огорчает.
– Конечно, очень жаль, – сказал Кросби, – тем более что Лили, по-видимому, хорошо знает эту отрасль домашнего хозяйства.
– Разумеется, знаю. Недаром же я провела всю свою жизнь в деревне. Ах, Бернард, как бы я желала, чтобы вы скатились в ров. Оставайтесь в этой позе, и мы поможем вам скатиться.
При этом Бернард встал, встала и Белл, и все четверо отправились к чаю.
Глава IX СОБРАНИЕ У МИСТРИС ДЕЛЬ
Следующий день был днем собрания. Накануне этого дня вечером между Белл и ее кузеном ни слова больше не было сказано, по крайней мере, не было сказано слова, имевшего какое-нибудь значение, и, когда Кросби предложил своему другу на другое утро сходить в Малый дом и посмотреть, как идут приготовления, Бернард отказался.
– Ты забыл, мой любезный, что я не влюблен, как ты, – сказал он.
– А я так думал, что ты тоже влюблен, – заметил Кросби.
– Нет, по крайней мере, не так влюблен, как ты. Тебе, как жениху, позволят делать все: сбивать крем, настраивать фортепиано, если ты умеешь. А я только думаю еще быть женихом, замышляю вступить в брак по расчету, чтобы угодить дяде, в брак, который ни под каким видом не должен заключать в себе стеснительных условий. Твое положение совершенно противоположно моему.
Говоря все это, капитан Дель, без всякого сомнения, фальшивил, и если фальшивость можно извинить человеку в каком-нибудь положении, то она вполне была извинительна Бернарду при том положении, в котором он находился. Поэтому Кросби отправился в Малый дом один.
– Дель не хотел идти со мной, – сказал он в разговоре с обитательницами Малого дома. – Вероятно, он готовится к танцам на поляне.
– Надеюсь, он будет здесь вечером, – сказала мистрис Дель.
Белл не сказала ни слова. Она положила в душе своей, что при существующих обстоятельствах для кузена ее необходимо было нужно, чтобы его предложение и ее ответ оставались для всех тайной. Она догадывалась, почему Бернард не пришел с своим другом из Большого дома, но ни слова не сказала о своей догадке. Лили посмотрела на нее, но посмотрела молча, что касается до мистрис Дель, то она не обратила ни малейшего внимания на это обстоятельство. Таким образом проведено было вместе несколько часов без дальнейшего упоминания о Бернарде Деле, особливо со стороны Лили и Кросби: они вовсе не замечали его отсутствия.
Мистрис Имс с сыном и дочерью приехали первыми.
– Ах как мило, что вы приехали рано, – сказала Лили, стараясь выразить что-нибудь любезное и приятное, но, в сущности, употребив ту форму изъявления радушия, которая для моего слуха всегда звучит как-то особенно неприятно. «Десятью минутами раньше назначенного времени, а я думала, что вы приедете по крайней мере тридцатью минутами позже»! Так всегда толковал я себе слова, которыми меня благодарили за ранний приезд. Мистрис Имс была добрая, болезненная, невзыскательная женщина, принимавшая всякого рода любезности за искреннее приветствие. Впрочем, и Лили, с своей стороны, ничего больше не думала выразить, кроме любезности.
– Да, мы приехали рано, – сказала мистрис Имс. – Собственно, потому, что Мэри думала зайти в вашу комнату и поправить свои волосы.
– И прекрасно, – сказала Лили, взяв Мэри за руку.
– При том же я знала, что мы вам не помешаем. Джонни может выйти в сад, если там нужно что-нибудь поделать.
– Если ему лучше нравится остаться с нами, нам очень приятно, – сказала мистрис Дель. – А если он находит нас скучными…
Джонни Имс пробормотал, что ему очень хорошо и в гостиной, и вслед за тем занял ближайшее кресло. Он пожал Лили руку, стараясь произнести коротенький спич, нарочно приготовленный им на этот случай. «Я должен поздравить вас, Лили, и от всего сердца выразить надежду, что вы будете счастливы». Слова были довольно просты и с тем вместе выразительны, но бедному молодому человеку не привелось их высказать. Как только слово «поздравляю» достигло слуха Лили, она все поняла – и чистосердечие преднамеренного спича, и причину, почему его не следовало произносить.
– Благодарю вас, Джон, – сказала она, – я надеюсь чаще видеться с вами в Лондоне. Там так приятно иметь вблизи себя старого гествикского друга.
Лили говорила своим голосом и лучше Джонни умела сдерживать биение своего сердца, но и ей при этом случае трудно было вполне владеть своими чувствами. Молодой человек полюбил ее чистосердечно и истинно, продолжал любить ее, выражая свою искреннюю любовь глубокой грустью и сожалением о том, что лишился ее. Скажите, где найдется девушка, которая не будет сочувствовать такой любви и такой грусти, если и та и другая будут так явно обнаруживаться, потому, собственно, что не могут скрыть себя, если будут так определительно высказываться против воли того, кто ими страдает?
Вскоре после Имсов явилась старушка мистрис Харп, коттедж которой находился в несколько шагах от Малого дома. Она всегда называла мистрис Дель «моя милая», любила дочерей ее, как своих собственных. Когда ей объявили о предстоящем замужестве Лили, она с удивлением всплеснула руками, она все еще считала Лили за ребенка, и в одном из уголков ее комода все еще хранились остатки сахарных конфет, купленных для Лили.
– Он лондонец? Хорошо, хорошо. Лучше было бы жить ему в провинции. Восемьсот фунтов в год, моя милая? – говорила она, обращаясь к мистрис Дель. – Это звучит здесь очень приятно, потому что мы все такие бедные. Но я полагаю, что восемьсот фунтов в год не очень много для того, чтобы жить в Лондоне?
– Я думаю, и сквайр придет, не правда ли? – спросила мистрис Харп, располагаясь на софе подле мистрис Дель.
– Да, он будет здесь скоро, если впрочем не отдумает. Ведь вы знаете, он со мной не церемонится.
– Отдумает! Знавали ли вы, чтобы Кристофер Дель когда-нибудь отдумывал?
– Конечно, мистрис Харп, он бывает верен своему слову.
– Да так верен, что если обещал дать кому-нибудь пенни, то непременно даст, а если обещал отнять фунт стерлингов, то отнимет, хотя бы это стоило ему несколько лет времени. Вы знаете, он намерен выгнать меня из моего коттеджа.
– Не может быть, мистрис Харп!
– Да, моя милая, Джолиф приходил объявить мне (Джолиф, надо сказать, был управляющий сквайра), что если мне не нравится коттедж в настоящем его виде, то я могу оставить его, и что сквайр за переправки потребует плату за наем вдвойне. А я только и просила покрасить немного на кухне, где дерево сделалось так черно, как его шляпа.
– Я думаю, что он только хотел, чтобы вы сами окрасили на свой счет.
– Как же я могу сделать это, моя милая, при ста сорока фунтах в год на все и про все? Ведь я должна жить! А он имеет мастеровых при себе каждый день круглый год! И не бессовестно ли присылать мне такое предложение, мне, которая прожила в здешнем приходе пятьдесят лет? А вот и он.
И мистрис Харп при входе сквайра величественно поднялась с своего места.
Вместе с сквайром вошли мистер и мистрис Бойс из пасторского дома с юношей Диком Бойсом и двумя девочками Бойсами четырнадцати- и пятнадцатилетнего возраста. Мистрис Дель, с обычным при таких случаях видом радушия и упрека, спросила, почему не пришли Джен и Чарльз, Флоренс и Бесси. (Бойс имел огромную семью). Мистрис Бойс отвечала на это, что они и без того уже нахлынули на Малый дом как лавина.
– А где же… молодые люди? – спросила Лили, принимая вид притворного удивления.
– Они будут часа через два или три, – сказал сквайр. – Оба они одеты были к обеду, как мне казалось, очень щегольски, но для такого торжественного случая они нашли необходимым одеться еще параднее. Как поживаете, мистрис Харп? Надеюсь, в добром здоровье? Ревматизма нет, э?
Эти вопросы сквайр произносил очень громко, почти в самое ухо мистрис Харп. Мистрис Харп, правда, была немного крепка на ухо, но очень немного, и терпеть не могла, чтобы ее считали глухою. Не любила она также, чтобы ее считали страждущею ревматизмом. Сквайр это знал, и потому приветствие его было далеко не любезно.
– Вам бы не следовало, мистер Дель, доводить меня до лихорадки. Теперь, слава богу, здорова, благодарю вас. Весной было колотье: в этом коттедже ужасно как сквозит! «Удивляюсь, как ты можешь жить в нем», – говорила сестра моя, когда приезжала навестить меня. Я и думаю, что лучше отправиться к ней в Хамершам, только знаете, проживши пятьдесят лет в одном приходе, не всякому хочется переселиться на другое место.
– Пожалуйста, вы и не думайте уезжать от нас, – сказала мистрис Бойс, весьма негромко, протяжно и внятно, надеясь этим угодить старушке.
Но старушка поняла все.
– Мистрис Бойс женщина хитрая, – говорила она с мистрис Дель, перед окончанием вечера. На свете есть старые люди, угодить которым весьма трудно и с которыми, несмотря на то, невозможно почти жить, если им не угождать.
Наконец два героя перешли через поляну и через стекольчатую дверь явились в гостиную, при входе их Лили сделала низкий реверанс, ее светлое кисейное платье пышными складками сложилось на полу, так что Лили казалась роскошным цветком, который вырос на ковре, сложив ладонь на ладонь у пряжки кушака, она произнесла:
– Мы ждем прибытия вашей высокой милости и вполне сознаем, как много обязаны вам за удостоение своим посещением нашей бедной хижины.
Сказав это, она тихо поднялась, улыбаясь, – о, как очаровательно улыбаясь! человеку, которого любила, складки кисейного платья приняли волнистые формы, как будто и они улыбались вместе с нею.
Мне кажется, в мире нет ничего милее преднамеренного, обдуманного изъявления любви девушки к любимому человеку, когда она твердо решилась, чтобы весь свет знал о том, что она всецело отдалась ему.
Не думаю, чтобы все это нравилось Кросби, как бы следовало нравиться. Ему нравилось смелое уверение Лили в любви, когда они бывали вдвоем. И какому человеку не понравились бы подобные уверения при подобных случаях. Впрочем, может статься, ему было бы приятнее, если бы Лили более придерживалась риторической фигуры, известной под именем умолчания, была скрытнее относительно своих чувств в то время, когда их окружали посторонние лица. Он не обвинял ее в недостатке нежности. Он слишком хорошо знал ее характер, был если не совсем непогрешителен в этом знании, то, по крайней мере, слишком близок к этой непогрешительности, чтобы позволить себе против нее подобное обвинение. Такое проявление чувства казалась для него ребяческим и потому не нравилось ему. Ему не хотелось быть представленным, даже оллингтонскому обществу, в качестве жертвы, приготовленной к закланию и связанной лентами, для возложения на жертвенник. Позади всего этого скрывалось чувство, что было бы гораздо лучше без подобного рода манифестаций. Само собою разумеется, все знали, что он женится ни Лили Дель, и разве он, как Кросби говаривал себе довольно часто, позволял себе когда-нибудь думать об отказе от этой женитьбы. Правда, свадьба, по всей вероятности, будет отсрочена. Он не говорил еще об этом с Лили, создав для себя какое-то затруднение в приступе к подобному объяснению. «Я ни в чем не откажу вам, – говорила ему Лили, – только, пожалуйста, не торопитесь». Поэтому он не видел перед собой особенного затруднения и только желал, чтобы Лили воздерживалась от выражений как в словах, так и в обращении, которые, по-видимому, заявляли всему свету, что она намерена выйти замуж немедленно. «Завтра я должен непременно с ней объясниться», – сказал он про себя, выслушав приветствие с тем же притворно-серьезным видом, с каким произнесла его Лили.
Бедная Лили! как мало понимала она, что происходило в душе Кросби! Зная его желание, она бы тщательно завернула любовь свою в салфетку, так что никто бы ее не увидел, никто, кроме него во всякое время, когда бы он ни захотел полюбоваться этим сокровищем. Если она действовала так открыто, то все это делалось собственно для него. Она видала девушек, которые полустыдились своей любви, но она не стыдилась ни своей, ни его любви. Она вполне отдалась ему, и теперь весь свет мог знать об этом, если только весь свет нуждался в подобном сведении. Зачем ей стыдиться того, что, по ее мнению, служило для нее такой большой честью? Она слышала о девушках, которые не хотели говорить о своей любви на том основании, что в мире нет ничего постоянного и верного вообще, а для любви в особенности, от чаши до губ, по пословице, большое расстояние, – упадет она и разобьется. Везде нужна осторожность. Для Лили не представлялось надобности в подобной осторожности! Для нее не могло существовать непостоянства или неверности. Если бы чаша ее и выпала из рук, если бы ей и выпала подобная судьба, вследствие вероломства или несчастья, никакая осторожность не могла бы спасти ее. Упавшая чаша до такой степени раздробилась бы от своего падения, что всякая попытка собрать ее обломки и составить из них снова одно целое была бы невозможна. Никогда этого Лили не высказывала – и смело шла вперед, смело показывала свою любовь, не скрывая ее ни от кого.
После пирожного и чаю, когда прибыл последний из гостей, решено было, что первые два или три танца должны состояться на поляне.
– Ах, Адольф, как я рада его приезду, – сказала Лили, – пожалуйста, полюбите его.
Приезжий этот был не кто другой, как доктор Крофтс, о котором Лили иногда говорила своему жениху, но при этом с его именем никогда не связывала имени своей сестры. Несмотря на то Кросби догадывался, что этот Крофтс или был прежде влюблен, или влюблен в настоящее время, или будет влюблен в Белл, а так как он приготовился защищать притязания по этой части своего друга Деля, то особенно не торопился оказать доктору радушие как самому близкому семейному другу. Он еще ничего не знал о предложении Деля и об отказе Белл и потому приготовился к войне, если бы она оказалась необходимою. Сквайра в настоящую минуту он сильно не жаловал, но если судьба предназначала подарить ему жену из этой фамилии, он лучше бы желал иметь свояком владельца Оллингтона и внука лорда де Геста, чем какого-то сельского врача, как Кросби, в гордости своей, называл доктора Крофтса.
– К несчастью, – сказал он, – я никогда не полюблю такого мужчину, которого считают образцом совершенства.
– Но его вы должны полюбить. И он вовсе не образец совершенства: он, как и все мужчины, курит, ездит на охоту и делает другие негодные вещи.
С этими словами Лили выступила вперед поздороваться с своим другом.
Доктор Крофт сбыл жиденький, худощавый мужчина высокого роста, с блестящими черными глазами, с круглым лицом, с черными, почти кудрявыми волосами, которые, однако же, не выдвигались вперед над его лбом и висками, чтобы дополнить красоту лица, с тонким, хорошо сформированным носом и ртом, который можно бы считать совершенством, если бы губы были немного пополнее. Нижняя часть лица, рассматриваемая отдельно, имела несколько суровое выражение, которое выкупалось, однако же, блеском его глаз. И все же художник непременно бы сказал, что нижние черты его лица были несравненно красивее.
Лили подошла к нему и с особенным радушием поздоровалась, прибавив, что она очень, очень рада его видеть.
– Теперь я должна представить вас мистеру Кросби, – сказала она, решась, по-видимому, выполнить роль свою до конца.
Молодые люди пожали руку друг другу холодно, не сказав ни слова, как это делают обыкновенно молодые люди, когда встречаются при подобных обстоятельствах. Они сейчас же разошлись, к крайнему разочарованию Лили. Кросби стоял отдельно с устремленными в потолок глазами, казалось, что он намерен был держать себя важно, и притом в стороне от других, между тем как Крофтс торопливо подошел к камину, сказав по дороге несколько любезностей мистрис Дель, мистрис Бойс и мистрис Харп. От камина он тихонько пробрался к Белл.
– Мне очень приятно, – сказал он, – поздравить вас с предстоящим браком вашей сестры.
– Да, сказала Белл, – мы знали, что вам приятно будет услышать о ее счастье.
– Действительно приятно, и я вполне надеюсь, что она будет счастлива. Вам всем он нравится, не правда ли?
– Мы все его очень полюбили.
– Мне сказывали, что он в хороших обстоятельствах. Счастливый человек, весьма счастливый, весьма счастливый.
– Конечно, и мы так думаем, – сказала Белл. – Не потому, однако же, что он богат.
– Нет, не потому, что он богат, но потому, что удостоен такого счастья, потому что его обстоятельства доставят ему возможность владеть этим сокровищем и наслаждаться им.
– Да, действительно, – сказала Белл, – совершенно справедливо.
Сказав это, Белл села на стул и с тем вместе положила конец разговору. «Совершенно справедливо», – повторила она про себя. Но едва только выговорила эти слова, как подумала, что это совсем не так, и что доктор Крофтс ошибался. «Мы любим его не потому, что он достаточно богат, чтобы жениться без тревожной мысли, но потому, что он решается жениться, хотя и не богат». Сказав это про себя, Белл рассердилась на доктора.
Доктор Крофтс отошел к дверям и прислонился к стене, засунув большие пальцы своих рук в рукава жилета. Говорили, что он был застенчив. И мне казался он застенчивым, а между тем это был человек, который ни под каким видом не побоялся бы привести в исполнение задуманный план. Он будет смело и много говорить перед целой толпой, все равно, будет ли эти толпа состоять из мужчин или женщин, он был весьма тверд в своих убеждениях, положителен и настойчив в преследовании своей цели, зато он не умел говорить немного, когда, в сущности, говорить было не о чем. Он не умел разыгрывать роль, когда чувствовал, что она для него не годится. Он не изучал науки принимать на себя важный вид, где бы ни случалось ему находиться. Дело другое Кросби, тот вполне изучил эту науку и чрез нее процветал. Поэтому Крофтс удалился к дверям и прислонился к стене, а Кросби выступил вперед и сиял, как Аполлон, между всеми гостями. «Как делает он это?» – говорил про себя Джонни Имс, завидуя совершеннейшему счастью лондонского фешенебельного человека.
Наконец, Лили вывела на поляну танцоров, и так образовалась кадриль. Поляна оказалась, однако же, неудобною. Музыка из одной только скрипки, которую Кросби нанял в Гествике, была недостаточна для этой цели, и притом же трава, довольно гладкая для игры в крикет, была весьма шероховата для ног танцующих.
– Очень мило, – сказал Бернард своей кузине. – Я ничего не знаю, что могло бы быть милее, только…
– Я знаю, что вы хотите сказать, – прервала Лили. – Я все-таки останусь здесь. Из вас никто не настроен к романтичности. Вы взгляните только на луну позади церковного шпица. Я останусь здесь на всю ночь.
И Лили пошла по одной из садовых дорожек, за ней последовал ее жених.
– Неужели вам не нравится луна? – спросила Лили, взяв руку Кросби, к которой она так теперь привыкла, что даже не думала о ней, когда брала ее.
– Нравится ли мне луна? Не знаю, солнце мне нравится лучше. Я не совсем-то верю в лунный свет. Мне кажется, хорошо говорить об этом, когда человек настроен к сентиментальности.
– Ах да, этого я очень боюсь. Я часто говорю Белл, что ее романтичность увянет, как увядают розы. И потом я начинаю думать, что проза полезнее поэзии, что рассудок лучше сердца, и… и… что деньги лучше любви. Все это так, я знаю, и все-таки люблю лунный свет.
– И поэзию, и любовь?
– Да. Поэзию много, а любовь еще больше. Быть любимой вами для меня очаровательнее всех моих мечтаний, лучше всякой поэзии, которую я читала.
– Неоцененная Лили. – И ничем не сдерживаемая рука его обвилась вокруг ее талии.
– В этом я вижу и значение лунного света, и благотворное действие поэзии, – продолжала влюбленная девушка. – Тогда я не знала, почему мне нравились подобные вещи, но теперь знаю. Это потому, что я хотела быть любимой.
– И любить.
– О, да. Одно без другого ничего бы не значило. Оно составляет или будет составлять прелесть для вас – другое для меня. Любить вас или знать, что я могу любить вас, для меня величайшее наслаждение.
– Вы хотите сказать, что в этом заключается осуществление вашего романа.
– Да, но, Адольф, это не должно быть окончанием романа. Вам должны нравиться томные сумерки и длинные вечера, когда мы будем одни, вы должны читать мне книги, которые мне нравятся, наконец, вы не должны приучать меня к мысли, что мир наш и холоден, и сух, и жесток, нет не должны, хотя я часто твержу об этом в разговорах наших с Белл. От вас я не должна слышать и не услышу этого.
– Он не будет ни холоден, ни жесток, если я сумею предупредить и то и другое.
– Милый Кросби, вы понимаете, что я хотела сказать. Я не буду считать его ни холодным, ни жестоким, даже иногда, когда вздумала бы посетить нас какая-нибудь скорбь, если вы… я думаю вы поняли, что я хотела сказать.
– Если я буду беречь вас.
– В этом я не сомневаюсь, нисколько не сомневаюсь. Неужели вы думаете, что я не могу довериться вам? Нет, я хочу сказать вам, что вы не должны считать забавными мое сочувствие к лунному свету, к чтению стихов и…
– И говорить пустяки. – Сказав это, Кросби еще крепче сжал ее талию, тон его голоса в эту минуту еще более нравился Лили.
– Мне кажется, что я и теперь говорю пустяки, – сказала она с недовольным видом. – Вам приятнее было, когда я говорила о поросятах, не правда ли?
– Неправда, мне приятнее всего слушать вас теперь.
– Почему же вам неприятно было тогда? Разве я сказала тогда что-нибудь оскорбительное для вас?
– Вы мне лучше всего нравитесь теперь, потому что…
Они остановились на узенькой дорожке, идущей через мостик в сад Большого дома, их окружала тень густо разросшихся лавровых деревьев. Но свет луны ярко пробивался между деревьями, которыми оканчивалась маленькая аллея, и Лили, взглянув на Кросби, могла ясно рассмотреть форму его лица, выражение нежности и любви в его глазах.
– Потому что… – сказал он и потом нагнулся к ней, еще крепче обняв ее, между тем как Лили приподнялась на цыпочки, губы их прикоснулись, и за тем последовал нежный, страстный поцелуй.
– Друг мой! – сказала Лили. – Жизнь моя! любовь моя!
Возвращаясь ночью в Большой дом, Кросби положительно решил, что никакие денежные расчеты не принудят его изменить слово, данное Лилиане Дель. Решимость его простиралась еще дальше: он не хотел откладывать свадьбы на дальний срок, который не должен был простираться далее шести или восьми месяцев, и уж никак не более десяти, лишь бы только успеть ему устроить в этот промежуток времени свои дела. Разумеется, ему придется отказаться от всего, от всех возвышенных видов в его жизни, от честолюбия, но что же делать, с грустью говорил он самому себе, я приготовился к этому. Такова была решимость Кросби, и, размышляя о ней в постели, он пришел к заключению, что едва ли найдется несколько мужчин, менее его самолюбивых.
– Но что скажут в гостиной о нашем отсутствии? – спросила Лили, вспомнив о гостях. – Притом, ведь вы знаете, я должна распорядиться танцами. Пойдемте поскорей, и будьте умницей. Пожалуйста, ангажируйте на вальс Мэри Имс. Если вы этого не сделаете, я не буду говорить с вами весь вечер.
Действуя под влиянием такой угрозы, Кросби по возвращении в гостиную попросил молоденькую леди удостоить его чести провальсировать с ним. Мэри чувствовала себя на седьмом небе счастья. В состояния ли целый мир доставить что-нибудь восхитительнее вальса с таким кавалером, как Адольф Кросби! А бедненькая Мэри Имс танцевала хорошо, хотя не умела говорить так же хорошо и много, и притом после вальса долго не могла успокоиться. Во время движения она прилагала всю свою энергию и очень заботилась о выполнении механической части танца, чтобы не затруднить кавалера.
– Благодарю вас, очень мило, немного погодя я могу повторить с вами вальс. – Только этими словами и ограничивался разговор ее с Кросби, несмотря на то, ей казалось, что она никогда еще не держала себя так хорошо, как при этом случае.
Хотя танцующих было не более пяти пар и хотя нетанцующие, как то: сквайр, мистер Бойс и пастор из соседнего прихода, – не имели никаких развлечений, вечер, однако же, прошел весьма весело. Ровно в двенадцать часов подали небольшой ужин, который, без сомнения, облегчил несколько скуку мистрис Харп и доставил немалое удовольствие мистрис Бойс. Что касается до детей мистрис Бойс, то я нисколько не сожалею о них. Все вообще бывают счастливы в своем детском счастье, а если нет, то показывают вид, что счастливы. Во всяком случае, они просто исполняют какую-то прямую обязанность, которую в свое время исполняли для них другие. Но для чего пускаются на подобные собрания мистрис Харпы? К чему эта древняя леди просиживала несколько часов и, зевая, с нетерпением ждала минуты, когда ей можно забраться в постель, поглядывая через каждые десять минуть на часы, чувствуя, что все кости ее ноют, что старым ушам ее больно от окружающего шума? Неужели все эти страдания переносятся для одного только ужина? Как бы то ни было, после ужина служанка мистрис Харп провела ее до коттеджа, за ней побрела мистрис Бойс, сквайра проводили довольно парадно, прощаясь с хозяйкою дома, он намекнул молодым людям, чтобы по возвращении домой не делали шуму. Бедный пастор еще оставался, от времени до времени он обращался к мистрис Дель с скучными речами и глядел глазами Тантала на светские радости и удовольствия, приготовленные для других. Надобно сказать, что общественное мнение и мнение английских епископов сложились в этом отношении как-то особенно жестоко против пасторов.
В последний период вечерних удовольствий, когда время, танцы и другие развлечения сделали всех молодых людей счастливыми, Джон Имс в первый раз стоял подле Лили в паре кадрили. Лили сделала все, что только могла, лишь бы принудить его оказать для нее эту милость; она чувствовала, что для нее это было бы милостью. Лили, быть может, не совсем понимала, как велико было желание с его стороны ангажировать ее и в то же время получить отказ. Несмотря на то, она понимала многое. Она знала, что он не сердился на нее, знала, что он страдал сколько вследствие отвергнутой любви, столько и от самой любви, которую продолжал еще питать к Лили. Она желала успокоить его, облегчить его страдания и в то же время не совсем верила в полную, прямую, непринужденную искренность его чувств.
Наконец Джонни подошел к ней, и хотя Лили была ангажирована, но тотчас же приняла его предложение. Она перепорхнула через комнату.
– Адольф, – сказала она, – я не могу танцевать с вами, хотя и обещала. Меня просить Джон Имс, и я еще ни разу с ним не танцевала. Вы понимаете меня, и верно будете паинькой, не правда ли?
Кросби нисколько не ревновал, как паинька, он спокойно сел в уголок позади дверей.
В течение первых пяти минут разговор между Имсом и Лили был весьма обыкновенный. Она повторила желание видеться с ним в Лондоне, а он, без всякого сомнения, обещал исполнить это желание. После того наступило молчание на несколько времени, и затем нужно было танцевать.
– Не знаю еще, когда будет наша свадьба, – сказала Лили, когда кончилась фигура и когда оба они снова стояли друг подле друга.
– Тем менее я могу знать об этом, – сказал Имс.
– Во всяком случае, я полагаю, не в нынешнем году, это можно сказать почти наверное.
– Может быть, весной, – намекнул Имс. Он бессознательно желал, чтобы свадьба была отложена на более продолжительное время, и в то же время не хотел огорчать Лили.
– Я говорю об этом собственно потому, что нам было бы весьма приятно, если бы вы могли быть здесь в день моей свадьбы. Мы все вас так любим, и я в особенности желаю, чтобы этот день вы провели вместе с нами.
Почему это так постоянно делается девушками, выходящими замуж? Почему они постоянно просят мужчин, которые любили их, присутствовать на свадьбе их с другими мужчинами? Тут нет, кажется, особенного торжества. Это делается просто из одного расположения и любви, они надеются предложить что-нибудь смягчающее, а отнюдь не увеличивающее душевную скорбь, которой сами были виновными. «Вы не можете жениться на мне, – говорит, по-видимому, новобрачная, – но вместо беспредельного счастья, которое бы я могла доставить вам, сделавшись вашей женой, вы будете иметь удовольствие видеть меня замужем за другим». Я вполне ценю образ действий подобного рода, но, говоря по чистой совести, сомневаюсь в удовольствии, которое может доставить такая замена.
При настоящем случае Джон Имс был одного со мной мнения, он не принял приглашения Лили.
– Неужели вы не хотите сделать для меня этого одолжения? – спросила Лили голосом, исполненным непритворной нежности.
– Я готов сделать вам всякое одолжение, – угрюмо отвечал Джонни.
– Кроме этого?
– Да, кроме этого. Я не в состоянии сделать этого.
Сказав это, Джонни должен был танцевать, и, когда, кончив фигуру, снова стоял подле Лили, они оба оставались безмолвными до конца кадрили. Отчего это в ту ночь Лили думала о Джонни Имсе гораздо больше, чем бывало прежде, отчего в ней явилось большее расположение уважать его как человека, который обнаруживал большой запас своей собственной воли?
В эту кадриль Крофтс и Белл танцевали вместе и тихо говорили о свадьбе Лили.
– Мужчина может перенести очень многое, – говорил Крофтс, – но он не имеет права заставить женщину переносить нищету.
– Может быть, – сказала Белл.
– То, что для мужчины не составляет страдания, чего мужчина, может статься, и не почувствует, для женщины будет земным адом.
– Весьма быть может, – сказала Белл, не обнаружив ни малейшего сочувствия к этим словам, ни в лице, ни в голосе.
Но она запомнила каждое слово, сказанное Крофтсом, и доискивалась истины в каждом из них со всею силою своего сердца и ума, со всею пылкостью своей души. «Как будто женщина не в состоянии перенести более мужчины!» – говорила она самой себе, проходя по комнате, освободясь от руки доктора.
Танцы кончились, и остальные гости разошлись.
Глава X МИСТРИС ЛЮПЕКС И АМЕЛИЯ РОПЕР
Я ввел бы доверчивого читателя в большое заблуждение, сказав ему, что мистрис Люпекс была любезная, милая женщина. Может статься, факт, что она была не любезна, составляет один из величайших недостатков, который можно было бы вменить ей в вину, но этот недостаток принял такие широкие размеры и разросся в таком множестве различных мест ее жизни, подобно плодовитому растению, распускающему свои корни и листья по всему саду, что делал ее несносною в каждой отрасли жизни и одинаково отвратительною для тех, кто знал ее мало и кто знал ее много. Если бы наблюдатель имел возможность заглянуть в душу этой женщины, то увидел бы, что Люпекс хотела быть порядочной женщиной, что она делала, или по крайней мере, обещала себе сделать некоторые попытки усвоить добрую нравственность и приличие. Для нее было так естественно терзать тех, кого несчастье сближало с ней, и особливо того несчастного человека, который, должно быть, в черный день прижал ее к груди своей как жену, как подругу своей жизни, тогда нравственность совсем покинула ее и приличие для нее не существовало.
Мистрис Люпекс, как я уже описывал, была женщина не без некоторой женской прелести в глазах тех, кому нравилось утреннее дезабилье и вечерние наряды, которые длинный нос, согнутый на сторону, не считали недостатком. Она была умна в своем роде и умела говорить остроумные вещи. Она умела также льстить и говорить любезности, хотя самая любезность ее отзывалась чем-то неприятным. Она, должно быть, имела порядочную силу воли, иначе муж ее убежал бы от нее задолго до того времени, которое я описываю. Иначе, тоже, едва ли бы она попала на житье в гостиную мистрис Ропер, потому что хотя сто фунтов стерлингов в год, плаченные или обещанные быть уплаченными, и имели в хозяйственных расчетах мистрис Ропер весьма важное значение, но, несмотря на то, едва только прошли первые три месяца пребывания мистрис Люпекс в Буртон-Кресценте, как в хозяйке дома родилось сильное желание отделаться от своих женатых квартирантов.
Быть может, я лучше всего опишу маленький случай в Буртон-Кресценте во время отсутствия нашего друга Имса и течение дел в той местности, представив два письма, которые Джонни получил по почте в Гествике, поутру после вечера в доме мистрис Дель. Одно письмо было от его приятеля Кредля, другое – от преданной Амелии. В настоящем случае передам письмо от джентльмена первым, полагая, что лучше угожу желаниям моих читателей, придерживаясь скромности до последней возможности.
«Сентября 186* г.
Любезный мой Джонни.
У нас, в Кресценте, случилось страшное происшествие, я решительно не знаю, как рассказать тебе о нем, хотя и должен это сделать, потому что нуждаюсь в твоем совете. Тебе известны мои отношения к мистрис Люпекс, и может статься, ты помнишь, что мы говорили на дебаркадере железной дороги. Мне, конечно, нравилось ее общество, как нравилось бы общество всякого другого друга.
Я знал, без сомнения, что она прекрасная женщина, и если ее мужу угодно быть ревнивым, то я не мог этому помочь.
Я не имел в виду ничего дурного и, если бы понадобилось, мог бы привести тебя в свидетели, чтобы доказать справедливость моих слов. Я не сказал ей ни одного слова за стенами гостиной мистрис Ропер, а в стенах гостиной всегда бывала мисс Спрюс, или сама мистрис Ропер, или кто-нибудь другой. Тебе известно также, что муж ее пьет иногда страшным образом, и когда напьется, то, разумеется, сумасбродствует. Вчера вечером, около девяти часов, он пришел совершенно в пьяном виде. Судя по словам Джемимы (Джемима была горничная мистрис Ропер), он пьянствовал в театре около трех дней. Мы не видели его со вторника. Он вошел прямо в гостиную и послал Джемиму за мной, сказав, что ему нужно меня видеть. Мистрис Люпекс находилась в комнате и, услышав приказание пригласить меня, прибежала ко мне и сказала, что если предполагается сделать кровопролитие, то она уйдет из дому. В гостиной не было больше никого, кроме мисс Спрюс, которая, не сказав ни слова, взяла свечку и ушла наверх. Можешь представить себе, что обстоятельство это было в высшей степени неприятно. Что должен был я делать с пьяным человеком внизу в гостиной? Как бы то ни было, она, по-видимому, думала, что мне надо идти. „Если он поднимется сюда, – сказала она, – то я буду жертвой. Вы еще мало знаете, на что бывает способен этот человек, когда гнев его воспламенен вином“. Ты я думаю, знаешь, что я не трус перед кем бы то ни было, но к чему мне было ввязываться в такую суматоху, как эта? Я ничего не сделал. И притом же, если бы началась ссора и из нее вышло бы что-нибудь, как этого надо было ожидать, если бы произошло кровопролитие, как выразилась мистрис Люпекс, или драка, или если бы он разбил мне голову каминной кочергой, с какими бы глазами показался я в должность? Человек, состоящий в общественной службе, например, как ты и я, не может заводить ссоры, а тем более вступать в драку. Так, по крайней мере, я думал в этот момент. „Пожалуйста, идите вниз, – сказала горничная, – если не хотите видеть меня убитой у ваших ног“. Фишер говорит, что если сказанное мною правда, то они, должно быть, сами устроили это все между собою. Не думаю, потому что я уверен, что она действительно любит меня, и притом же каждому известно, что они никогда и ни в чем не соглашаются. Она умоляла меня спуститься вниз. Нечего делать, я спустился. В самом низу лестницы стояла Джемима, я слышал, что Люпекс ходил взад и вперед по гостиной. „Будьте осторожны, мистер Кредль“, – сказала горничная; я видел по ее лицу, что она была в страшном испуге. В это время я увидел свою шляпу на столе зала, и мне в тот же момент пришла в голову мысль, что я должен посоветоваться с каким-нибудь другом. Разумеется, я нисколько не боялся человека, который расхаживал в гостиной, но кто бы оправдал меня, если б я вступил в драку, даже для защиты своей жизни, в доме мистрис Ропер? Я обязан был подумать о ее интересах. Поэтому я взял шляпу и преспокойно вышел в уличную дверь. „Скажи ему, – сказал я Джемиме, – что меня нет дома“, – и сейчас же отправился к Фишеру, предполагая послать его к Люпексу в качестве моего друга, но, как нарочно, Фишер был в шахматном клубе.
Так как, по моему мнению, в подобном случае нельзя было терять ни минуты времени, то я поспешил в клуб и вызвал Фишера. Ты знаешь, какой хладнокровный человек этот Фишер. Мне кажется, взволновать его ничто не в состоянии. Когда я рассказал ему всю историю, он ответил, что Люпекс проспится и тем дело кончится, не так думал я, прогуливаясь около клуба в ожидании, когда Фишер кончит игру. Фишер полагал, что мне лучше всего воротиться в Буртон-Кресцент, но, разумеется, я знал, что об этом и думать нельзя, и кончил тем, что проспал ночь на софе Фишера, а утром послал домой за некоторыми вещами. Я хотел, чтобы Фишер до должности сходил к Люпексу, но он сказал, что лучше повременить и что зайдет к нему в театр, кончивши занятия по службе.
Я хочу, чтобы ты написал мне немедленно, сказав в письме своем все, что ты знаешь об этом деле. Я прошу тебя, собственно, потому, что мне не хочется вовлекать в эту историю кого-нибудь из других жильцов в доме мистрис Ропер. Мне крайне неприятно, что не могу оставить ее дом сейчас же, не могу потому, что не отданы деньги за последнюю четверть года, иначе я бежал бы отсюда, этот дом, скажу тебе, не годится ни для меня, ни для тебя. Поверь, мистер Джонни, что я говорю тебе сущую правду. Сказал бы я тебе несколько слов об А. Р. но боюсь, что слова мои поведут к неудовольствию. Пожалуйста, пиши ко мне безотлагательно. Мне кажется, лучше будет, если ты напишешь к Фишеру, так что он может показать письмо твое Люпексу, и подтвердить при этом, основываясь на твоих словах, что между мною и мистрис Люпекс не было и не могло быть других отношений, кроме обыкновенной дружбы, и что, само собою разумеется, ты, как мой друг, должен знать все. Отправлюсь ли я сегодня в дом мистрис Ропер, будет зависеть от того, что скажет мне Фишер, после свидания с Люпексом.
Прощай, мой друг! Надеюсь, что ты теперь блаженствуешь, и что Л. Д. в добром здоровье. Твой искренний друг
Джозеф Кредль».Джон Имс два раза прочитал это письмо, прежде чем распечатал письмо от Амелии. Он в первый раз получил письмо от мисс Ропер и вовсе не ощущал того нетерпения прочитать его, которое обыкновенно испытывают молодые люди при получении первого письма от молоденькой леди, в настоящую минуту воспоминание об Амелии было для него отвратительно, и он бросил бы письмо в камин не распечатанным, если бы не опасался дурных последствий. Что касается до друга своего, Кредля, он стыдился за него, стыдился не потому, что Кредль бежал от мистера Люпекса, но потому, что побег свой Кредль оправдывал ложными предлогами.
Наконец он распечатал письмо от Амелии. «Неоцененный Джон» – этими словами начиналось оно. Джонни прочитал их и судорожно сжал письмо. Оно было написано женским почерком, с тоненькими прямыми черточками при конце каждой буквы, вместо круглых очертаний, но все же было весьма четко, и казалось, как будто каждое слово написано вполне обдуманно.
«Неоцененный Джон. Для меня так странно еще употреблять подобное выражение. И все-таки скажу „неоцененный Джон“, разве я не имею права называть вас таким образом? Разве вы не принадлежите мне, а я вам навсегда? (Джонни снова судорожно сжал письмо и при этом пробормотал несколько слов, повторять которые я не считаю за нужное. Через минуту он продолжал). Я знаю, что мы совершенно понимаем друг друга, и в таком случае совершенно позволительно одному сердцу открыто говорить другому. Таковы мои чувства, и я уверена, что в вашей груди найдется для них отголосок. Не правда ли, что любить и в то же время быть любимым в высшей степени восхитительно? Так, по крайней мере, я нахожу это чувство. При этом, неоцененный Джон, позвольте мне уверить вас, что в моей груди нет ни малейшей частицы ревности к вам. Я имею слишком много уверенности, как в ваше благородство, так в свою собственную, я хочу сказать, чарующую силу, хотя вы и назовете меня тщеславною. Вы не думайте, что этими словами я намекаю на Л. Д. Само собою разумеется, что вам приятно видеться с друзьями вашего детства, и, поверьте, сердце вашей Амелии слишком далеко от того, чтобы завидовать такому очаровательному удовольствию. Ваши друзья, я надеюсь, со временем будут и моими друзьями. (Судорожное сжатие письма.) И если между ними действительно будет Л. Д. которую вы так искренно любили, я точно так же искренно приму ее в мое сердце. (Этого уверения со стороны Амелии было слишком много для бедного Джонни, он швырнул на пол письмо и начал думать, где и в чем искать ему помощи – в самоубийстве или в колониях, – немного погодя он снова поднял письмо, решившись осушить горькую чашу до дна.) Если вам показалось, что перед вашим отъездом я была немного капризна, то вы должны простить вашу Амелию. Я уже наказана за это: месяц вашего отсутствия для меня целая вечность. Здесь нет ни души, кто бы сочувствовал моему положению. А вы во время своего отсутствия не хотели даже порадовать меня. Могу вас уверить, какие бы ни были ваши желания, я не буду счастлива до тех пор, пока не увижу вас при себе. Напишите мне хотя строчечку, скажите, что вы довольны моею преданностью.
Теперь я должна вам сказать, что в нашем доме случилось грустное происшествие, в котором не думаю, чтобы друг ваш мистер Кредль вел себя вполне благородно. Вы помните, как он всегда ухаживал за мистрис Люпекс. Матушка моя была крайне огорчена этим, хотя ни слова никому не говорила. Разумеется, кому приятно говорить о таких предметах, которые касаются имени какой-нибудь леди. В течение последней недели Люпекс сделался страшно ревнивым, мы все знали, что собирается что-то недоброе. Сама Люпекс хотя и хитрая женщина, но не думаю, чтобы она замышляла что-нибудь дурное, разве только одно, чтобы довести мужа своего до бешенства. Вчера Люпекс пришел под хмельком и пожелал видеться с Кредлем, но Кредль перепугался, взял шляпу и ушел. Это с его стороны было весьма дурно. Если он считал себя невинным, то почему он не явился на призыв Люпекса и не объяснил недоразумения? Это обстоятельство, говорит моя мать, падает темным пятном на наш дом. Люпекс клялся вчера вечером, что утром отправится в управление сбора государственных доходов и осрамит Кредля перед комиссионерами, клерками, перед всеми. Если он это сделает, то вся история появится в газетах, весь Лондон узнает об этом. Самой Люпекс это понравится, я знаю, она только и заботится о том, чтобы о ней говорили, но что будет тогда с домом моей матери? Как я желаю, чтобы вы были здесь: ваше благоразумие и благородство все бы это уладили сразу, так, по крайней мере, я думаю.
Я буду считать минуты до получения вашего ответа и позавидую почтальону, который возьмет в руки ваше письмо прежде, чем оно дойдет до меня. Пожалуйста, пишите поскорее. Если я не получу ответа в понедельник утром, то буду думать, что с вами что-нибудь случилось. Хотя вы и находитесь в кругу дорогих своих старых друзей, но, вероятно, у вас найдется минута написать несколько слов вашей Амелии.
Матушка очень огорчена происшествием в ее доме и говорит, что, если бы вы были здесь и подали ей совет, она бы много не беспокоилась. Для нее это очень тяжело, она всегда заботилась о том, чтобы дом ее пользовался уважением и чтобы все в нем были покойны. Я послала бы мою искреннюю любовь и почтение вашей дорогой мама́, если бы только знала ее, хотя надеюсь, что узна́ю, вашей сестрице, а также Л. Д., если вы объяснили ей наши отношения. За тем ничего больше не остается сказать со стороны
душой преданной и обожающей вас Амелии Ропер».Ни одна часть этого нежного письма не доставила удовольствия бедному Имсу, напротив, последняя из них отравляла все его чувства. Возможно ли было оставаться равнодушным, когда эта женщина осмелилась послать любовь его матери, его сестре и даже Лили Дель! Он чувствовал, что одно уже произношение имени Лили такой женщиной, как Амелия Ропер, было осквернением этого имени. А между тем Амелия Ропер, как она уверяла его, принадлежала ему. Как ни противна для него была она в настоящую минуту, он верил, что и сам принадлежал ей. Бедный Джонни чувствовал, что в лице его она приобрела некоторую собственность и что ему суждено уже быть связанным с ней на всю жизнь. Во все время знакомства с Амелией он сказал ей весьма немного нежностей, весьма немного таких, по крайней мере, нежностей, которые имели бы серьезное значение, но между этими немногими было слова два-три, которыми он высказал свою любовь к ней! А эта роковая записочка, которую он написал к ней! При одном воспоминании об этом Джонни подумал: уж не лучше ли ему отправиться к большому резервуару позади Гествика, резервуару, питавшему водой своей Хамершамский канал, и положить конец своему жалкому существованию?
В тот же самый день он написал два письма: одно к Фишеру, другое к Кредлю. Фишеру он высказал свое убеждение, что Кредль точно так же, как он сам, был невинен в отношении к мистрис Люпекс. «Он далеко не такой человек, чтобы подделываться к замужней женщине», – говорил Джонни, к немалому неудовольствию Кредля: когда письмо достигло до места служения последнего, джентльмен этот был не прочь от репутации Дон Жуана, которую надеялся приобрести между своими сослуживцами чрез это маленькое происшествие. При первом взрыве бомбы, когда до бешенства ревнивый муж свирепствовал в гостиной, раздражаемый все более и более парами вина и любви, Кредль находил обстоятельство это в высшей степени неприятным. Но на утро третьего дня – Кредль провел две ночи на софе своего приятеля Фишера – он начал гордиться этим, ему приятно было слышать имя мистрис Люпекс произносимым другими клерками. Поэтому, когда Фишер прочитал письмо из Гествика, ему очень не поправился тон его друга.
– Ха-ха-ха! – захохотал он. – Я только и хотел, чтоб он именно это сказал. Подделываться к замужней женщине! По этой части я самый последний человек во всем Лондоне.
– Клянусь честью, – сказал Фише, – я думаю, последний.
И Кредль остался недоволен. В этот день он смело отправился в Буртон-Кресцент и там обедал. Ни мистера, ни мистрис Люпекс не было видно, мистрис Ропер ни разу не упомянула их имени. В течение вечера он собрался с духом и спросил об них мисс Спрюс, но эта ветхая леди торжественно покачала головой и объявила, что ей ничего неизвестно о подобных делах: где ей знать об этом?
Но что же должен был делать Джон Имс с письмом от Амелии Ропер? Он чувствовал, что всякого рода ответ на него был бы делом очень опасным, тем не менее казалось опасным оставить его совсем без ответа. Он вышел из дому, прошел через гествикский выгон, через рощи гествикского господского дома, к большой вязовой аллее в парке лорда Дегеста, и во все время прогулки своей придумывал способы, как бы выпутаться из этого безвыходного положения. Здесь по этим самым местам он бродил десятки и десятки раз в свои ранние годы, когда, оставаясь еще в совершенном неведении о происходившем за пределами его родного крова, мечтал о Лили Дель и давал себе клятву, что она будет его женой. Здесь он сплетал свои стихотворения, питал свое честолюбие возвышенными надеждами, строил великолепные воздушные замки, в которых Лилиана Дель господствовала, как царица, и хотя в те дни он сознавал себя неловким, жалким юношей, до которого никому не было дела, никому, кроме матери и сестры, а все же был счастлив в своих надеждах, хотя никогда не приучал себя к мысли, что они могут когда-нибудь осуществиться. Но теперь ни в мечтаниях его, ни в надеждах ничего не было отрадного. Все для него было мрачно, все грозило ему несчастьем, гибелью. Впрочем, и то сказать, почему же ему не жениться на Амелии Ропер, если Лили выходит замуж за другого? Но при этой мысли он вспомнил момент, когда Амелия в памятную ночь показалась ему в полуотворенную дверь, и подумал, что жизнь с такой женой была бы живой смертью.
Одно время он решался рассказать все своей матери и предоставить ей написать ответ на письмо Амелии. Если худое должно сделаться худшим, то, во всяком случае, Роперы не могли бы совершенно погубить его. Он знал, по-видимому, что Роперы могли начать судебный процесс, вследствие которого его бы посадили в тюрьму на известное время, уволили бы от службы и наконец распубликовали бы его поступок во всех газетах. Все это, однако же, можно бы перенести, если бы перчатка была брошена ему кем-нибудь другим. Джонни чувствовал, что он одного только не мог сделать, – писать к девушке, которую бы следовало любить, и сказать ей, что он вовсе не любил и не любит ее. Он знал, что сам был бы не в состоянии выставить подобные слова на бумаге, как знал очень хорошо также и то, что у него недостало бы смелости сказать ей в лицо, что он изменил свое намерение. Он знал, что ему должно принести себя в жертву Амелии, если не найдет какого-нибудь доброго рыцаря, который бы одержал победу в его пользу, и при этом снова подумал о своей матери.
Вернувшись домой, Джонни, однако, был так же далек от решимости объяснить матери свое положение, как и в то время, когда отправлялся на прогулку. В течение более чем половины времени, проведенного под открытым небом, он строил воздушные замки, не те, в которых в былое время считал себя счастливейшим созданием, но мрачные замки, с еще более мрачными темницами, в которых едва-едва проникал луч жизни. Во всех этих зданиях воображение Джонни рисовало ему портрет Лили в качестве жены мистера Кросби. Он принимал это за действительность, а воображение продолжало рисовать более мрачные картины, подделываясь под его настроение духа, представляя ему, что Лили была едва ли не несчастнее его чрез дурное обращение и суровый характер ее мужа. Он старался мыслить и составить план дальнейших его действий, но в мире нет ничего труднее, как принудить себя мыслить в то время, когда деятельности ума поставлены почти непреодолимые преграды. В подобных обстоятельствах ум похож на лошадь, которую привели к водопою и заставляют ее пить в то время, когда у нее вовсе нет жажды. Поэтому Джонни воротился домой все еще в раздумье: отвечать или нет на письмо Амелии? Если нет, то как ему надобно вести себя по возвращении в Буртон-Кресцент?
Не знаю, надобно ли говорить, что мисс Ропер, сочиняя свое письмо, предвидела все это, и что такое положение бедного Джонни было тщательно выработано для него предметом… его обожавшим.
Глава XI ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
В тот день, когда Кредль возвратился под гостеприимный кров мистрис Ропер, мистер и мистрис Люпекс, в полном супружеском счастье, кушали одно из своих лакомых блюд. К этому блюду присоединялись некоторые другие лакомства, соответствовавшие времени года и находившиеся в соседстве театра, с помощью горького пива и грога они сглаживали все шероховатости на дороге жизни, заставляя себя забывать все минувшие неприятности. Об этом супружеском примирении Кредль ничего не слышал и, увидев счастливых супругов, входящих в гостиную спустя несколько минут после вопроса, предложенного мисс Спрюс, был приведен в крайнее изумление.
Люпекс был незлопамятен и от природы довольно мягкого характера. Это был человек, который любил хорошо покушать и в глазах которого стакан горячего пунша имел весьма высокую цену. Будь жена для него действительно доброю подругой, он совершил бы назначенный путь в этой жизни, если не вполне респектабельно, то, во всяком случае, без явного позора. К сожалению, эта женщина не доставляла ему никакого утешения, кроме разве того, которое можно было почерпать из пуншевого стакана. Восемь лет они были друг для друга мужем и женой, и иногда, к сожалению, я должен сказать, мистрис Люпекс доводила его до такого состояния, что бедный муж считал бы за счастье, если бы жена бросила его. В жалком его положении, тот или другой способ избавиться от нее навсегда доставил бы ему отраду. Если бы он обладал в достаточной степени энергией, он перенес бы искусство свое писать театральные декорации в Австралию, даже на самые отдаленные концы вселенной, где только существовало сценическое искусство. Но это был мягкий, беспечный, самим собою балуемый и избалованный человек. Во всякое время, как бы его ни тяготило горе, ему достаточно было стакана грогу и вкусного обеда, чтобы забыть все и примириться с своим положением. Второй стакан делал его самым нежным супругом, за третьим к нему возвращались воспоминания о всех обидах и оскорблениях и сообщалось особенное расположение и храбрость повоевать с женой или, пожалуй, с целым светом, даже в ущерб окружавшей его мебели, если в это время попадалась под руку каминная кочерга. Все эти особенности его характера не были, однако же, известны Кредлю, и потому появление его в гостиной с женой своей, опиравшейся на его руку, как нельзя более удивило нашего приятеля.
– Мистер Кредль! вашу руку, – сказал Люпекс после второго стакана грогу, на третий ему не было дано разрешения. – Между нами было маленькое недоразумение, забудемте о нем.
– Мистер Кредль, сколько я знаю его, – сказала мистрис Люпекс, – настолько джентльмен, чтобы забыть всякое неудовольствие, когда другой джентльмен подает ему руку в знак примирения.
– О, конечно, – сказал Кредль, – я совершенно… да, я… мне очень приятно, что кончилось все благополучно.
Вместе с этим он пожал руки супругов, причем мисс Спрюс поднялась с кресла, сделала низкий реверанс и тоже обменялась пожатием рук с мужем и женой.
– Вы, мистер Кредль, холостой человек, – сказал Люпекс. – И потому не в состоянии понять, что происходит иногда в душе человека женатого. Бывают минуты, когда чувство ревности из-за этой женщины берет верх над рассудком.
– Ах, Люпекс, перестань, – сказала жена его, шутя похлопав по плечу его старым зонтиком.
– И я, не колеблясь, скажу, что в тот вечер, когда вас приглашали в столовую, я не мог совладеть с этим чувством.
– Я очень рад, что все уладилось, – сказал Кредль.
– Очень рада и я, – сказала мисс Спрюс.
– И следовательно, нет надобности говорить об этом, – заметила мистрис Люпекс.
– Еще одно слово, – сказал мистер Люпекс, размахнув рукой. – Мистер Кредль, я чрезвычайно рад, что вы не исполнили моего требования в тот вечер. Придите вы тогда, признаюсь вам, придите вы тогда, и, право, без крови дело бы не обошлось. Я ошибался. И теперь сознаюсь в своей ошибке, но все-таки без крови дело бы не обошлось.
– Ах, боже мой, боже мой! – сказала мисс Спрюс.
– Мисс Спрюс, – продолжал Люпекс. – Бывают минуты, когда сердце человеческое ожесточается.
– Так, так, – сказала мисс Спрюс.
– Ну, Люпекс, довольно, – сказала жена его.
– Да, довольно. Но все же, мне кажется, я вправе выразить мистеру Кредлю мое удовольствие, что он не пришел ко мне. Ваш друг, мистер Кредль, удостоил меня вчера своим посещением в театре, в половине пятого. К сожалению, в это время я был на подмостках и никак не мог спуститься к нему. Я сочту за особенное счастье встретиться с вами в ресторане Пот и Покер, в улице Бау, и за хорошей котлетой похоронить в стакане вина это неприятное недоразумение.
– Вы очень любезны, – сказал Кредль.
– Мистрис Люпекс тоже будет с нами. Там есть очаровательный, уютный уголок, и если мисс Спрюс удостоит…
– Ах, сэр, ведь я старуха, вы это знаете.
– Нет, нет, нет! – воскликнул Люпекс. – И слышать не хочу. Что вы скажете, на это, мистер Кредль, насчет обеда, знаете, вчетвером?
Само собою разумеется, что приятно было видеть мистера Люпекса в его настоящем настроении духа, гораздо приятнее, чем в то время, когда дело с ним, по его собственному выражению, не обошлось бы без крови, но как ни был он приятен, и на этот раз все-таки было видно, что он находился не совсем в трезвом состоянии. Поэтому Кредль не назначил дня для скромного званого обеда и только заметил, что будет очень рад воспользоваться приглашением при первой возможности.
– Теперь, Люпекс, пора спать, – сказала жена. – Ты знаешь, тебя сегодня был тяжелый день.
– А ты, моя милочка?
– Я приду сию минуту. – Полно же пожалуйста, не дурачься, отправляйся спать. Иди сюда! – И она стала в открытых дверях, ожидая, когда он пройдет.
– Мне бы хотелось лучше остаться здесь и выпить стакан чего-нибудь горячего, – сказал Люпекс.
– Люпекс, ты опять хочешь рассердить меня, – сказала жена, бросив на него взгляд, совершенно для него понятный.
Люпекс не имел расположения драться и в настоящее время вовсе не жаждал крови, поэтому он решился идти. Но во время перехода он приготовился к новым битвам.
– Уж сделаю же я что-нибудь отчаянное, – говорил он, снимая сапоги, – непременно сделаю.
– Ах, мистер Кредль, – сказала мистрис Люпекс, как только затворила дверь за удалившимся мужем. – Я не знаю, как взглянуть вам в глаза после событий этих последних памятных дней!
Она села на диван и закрыла лицо свое батистовым платком.
– Перестаньте, – сказал Кредль, – это ничего не значит между такими друзьями, как мы.
– Но ведь это будет известно в вашем управлении и уже, может быть, известно, оттуда приходил к нему в театр какой-то джентльмен. Не знаю, переживу ли я это?
– Согласитесь, мистрис Люпекс, я должен же был послать кого-нибудь.
– Я не обвиняю вас, мистер Кредль. Я знаю очень хорошо, что в моем жалком положении не имею даже права обвинять кого-нибудь и не могу судить об отношениях одного джентльмена к другому. Но только подумать о том, что мое имя упоминается с вашим… Ах, мистер Кредль! мне стыдно взглянуть на ваше лицо!
И она снова спрятала свое лицо в батистовый платок.
– Хорошее к хорошему идет, – сказала мисс Спрюс, в тоне ее голоса было что-то особенное, придававшее словам ее много скрытного значения.
– Ваша правда, мисс Спрюс, – сказала мистрис Люпекс, – в настоящую минуту только это одно меня и утешает. Мистер Кредль настолько джентльмен, чтобы не воспользоваться… я в этом совершенно уверена.
И мистрис Люпекс взглянула на него через край руки, в которой держала батистовый платок.
– Конечно, я не позволю себе, – сказала Кредль. – То есть…
Кредль не высказал своей мысли. Гоняясь за мистрис Люпекс, он вовсе не хотел попасть в западню. А между тем ему нравилась идея, что о нем будут говорить как о поклоннике замужней женщины, ему нравились блестящие глаза этой женщины. Когда несчастный мотылек, летая, в своем полуослеплении, вокруг огня горящей свечи, задевает крылышками за пламя свечи, обжигает их и чувствует мучительную боль, он даже и тогда не обращает внимания на этот урок, но снова и снова подлетает к огоньку до тех пор, пока тот окончательно его не уничтожит. Таким мотыльком был и бедный Кредль. Пламя, вокруг которого летал он, не сообщало ему отрадной теплоты, в его блеске не было никакой красоты. Напротив, оно наносило ему вред, обжигало ему крылья, отнимало всю силу для будущих полетов и грозило совершенною гибелью. Никто не мог сказать, чтобы дружба с мистрис Люпекс доставила ему хотя бы несколько минут истинного счастья. Он не чувствовал к ней ни малейшей любви, напротив, боялся ее, и во многих отношениях она ему не нравилась. Но для него, при его слабости, неопытности и ослеплении, свойственных всем мотылькам, и то казалось уже великим делом, что ему позволяли летать близ огня. О, друзья мои! вспомните, сколь многие из вас были мотыльками и что теперь вы порхаете с более или менее опаленными крыльями, с более или менее заметными следами обжогов!
Прежде чем мистер Кредль успел решить в своем уме, следует ли ему или нет воспользоваться настоящим случаем, чтобы еще раз порхнуть к огоньку, – в подобного рода действии он не стеснялся присутствием мисс Спрюс, – дверь в гостиную отворилась и в нее вошла Амелия Ропер.
– Ах, мистрис Люпекс! – сказала она. – И мистер Кредль!
– И мисс Спрюс, прибавьте, моя милая, – сказала мистрис Люпекс, показывая на ветхую леди.
– Я ведь старуха, вы знаете, – заметила мисс Спрюс.
– О, да, я вижу мисс Спрюс, – сказала Амелия. – Я произнесла ваши имена без всякого умысла, могу вас уверить.
– Я и не думала об этом, душа моя, – сказала мистрис Люпекс.
– Право, я никак не полагала, чтобы вы были так спокойны… я хочу сказать, что когда услышала о ссоре, я полагала… Впрочем, если последовало примирение, то поверьте, никто так не рад ему, как я.
– Да, мы помирились.
– Если мистер Люпекс удовлетворен, то я радуюсь от души, – сказала Амелия.
– Мистер Люпекс удовлетворен, – возразила мистрис Люпекс, – и позвольте вам сказать, душа моя, зная, что вы надеетесь сами выйти замуж…
– Мистрис Люпекс, я не надеюсь выйти замуж – по крайней мере, в настоящее время.
– А я думала, что вы даже торопитесь. Во всяком случае, позвольте сказать, что когда вы будете иметь мужа, то увидите, что не всегда возможно поддерживать доброе согласие. Нет ничего хуже жить на этих квартирах, какой-нибудь пустой ничтожный случай, и о нем все уже знают. Как вы скажете, мисс Спрюс?
– Я скажу, что гораздо спокойнее жить на квартире, чем содержать квартиры, – отвечала мисс Спрюс, находившаяся в некотором страхе и зависимости от своих родственников Роперов.
– Это каждому известно, – сказала Амелия. – Если какой джентльмен будет приходить домой в пьяном виде и грозить убийством другому джентльмену в том же доме и если леди…
Амелия остановилась, она знала, что линейный корабль, с которым приготовилась сразиться, имел в себе много боевой силы.
– Дальше, дальше, мисс, – сказала мистрис Люпекс, вставая с места и выпрямляясь во весь рост. – Что же, если леди?
Здесь мы можем сказать, что сражение началось и что два корабля были обязаны, по общим законам храбрости и ведения войны на море, поддерживать бой до тех пор, пока один из них будет совершенно обезоружен, если только не взорван на воздух или не пущен на дно. В этот момент для постороннего зрителя трудно было сказать, на чьей стороне из сражающихся находился более верный шанс на совершенный успех. Правда, мистрис Люпекс имела на своей стороне более действительной силы: навык драться, сообщавший ей беспредельное искусство, храбрость, заглушавшую боль ран до конца сражения, и, наконец, беспечность, делавшую ее почти равнодушною к тому, потопят ли ее или она останется на поверхности воды. С другой стороны, Амелия несла большую артиллерию и имела возможность бросать более тяжелые снаряды, чем неприятель, она тоже приняла грозную позицию. Если б им пришлось сцепиться и вступить в рукопашный бой, то Амелия, без всякого сомнения, вышла бы из него победительницей, но мистрис Люпекс была слишком хитра, чтобы допустить подобный маневр, однако все же была готова на всякий случай и жаждала битвы.
– Ну так что же, если леди? – спросила она таким тоном, который не допускал миролюбивого ответа.
– Всякая леди, если только она леди, – сказала Амелия, – должна знать, как ей следует вести себя…
– Так вы намерены учить меня, вы, мисс Ропер? Премного вам обязана. Значит, вы придерживаетесь манчестерского обращения?
– Я придерживаюсь честного обращения, мистрис Люпекс, обращения, в котором соблюдается приличие, обращения, которое не наводит ужаса на дом, полный народа, для меня все равно, будет ли это обращение манчестерское или лондонское.
– Обращение модисток?
– Все равно, мистрис Люпекс, обращение модисток или обращение театральное, но в нем покамест нет еще ничего такого дурного, как в вашем, мистрис Люпекс. Поняли вы меня? Чем объяснить ваши отношения к этому молодому человеку? Разве только тем, что вы хотите чрез пьянство и ревность свести с ума вашего мужа и посадить его в дом умалишенных?
– Мисс Ропер! мисс Ропер! – сказал Кредль. – Послушайте…
– Оставьте ее, мистер Кредль, – сказала Люпекс, – она не стоит ваших слов. Если вы питаете к бедному Имсу дружеские чувства, то лучше скажите ему, что это за женщина. А как поживает, душа моя, мистер Джунипер из магазина Грограма, в Сальфорде? Не беспокойтесь! Мне все известно и все будет известно Джонни Имсу, этому бедному, несчастному, безрассудному юноше! Осмелилась мне говорить о пьянстве и ревности!
– И буду говорить! Но теперь, когда вы упомянули имя мистера Джунипера, мистер Имс и мистер Кредль могут узнать обо всем. Насчет мистера Джунипера в поведении моем не было ничего такого, что могло бы заставить меня стыдиться.
– Мне кажется, трудно заставить вас стыдиться чего бы то ни было.
– Позвольте вам сказать, мистрис Люпекс, вы, вероятно, не намерены нарушать своими поступками благопристойность этого дома?
– Я проклинаю тот день, в которой Люпекс привел меня в ваш дом.
– В таком случае заплатите деньги и убирайтесь вон, – сказала Амелия, указывая на дверь. – Я ручаюсь, что дело тогда обойдется без содействия полиции. Отдайте только долг моей матери и можете отправляться, куда вам угодно.
– Я уйду отсюда, когда мне вздумается, но ни часом раньше этого. И как ты смеешь говорить мне подобные вещи, ты, цыганка?
– Нет, ты уйдешь отсюда, когда нам вздумается, стоит только пригласить полицию, которая заставит тебя выехать из нашего дома.
В этот момент бедная Амелия, стоявшая перед своим врагом подбоченясь, по-видимому, выигрывала сражение. Горечь языка мистрис Люпекс не производила особенных результатов. С своей стороны, я такого мнения, что замужняя женщина непременно взяла бы верх над женщиной незамужней, если бы битва дошла до отчаяния, разумеется, без абордажных орудий. Но в этот момент в комнату вошла мистрис Ропер, сопровождаемая сыном, и сражающиеся разошлись.
– Амелия, что это значит? – спросила мистрис Ропер, стараясь принять на себя вид крайнего изумления.
– Спросите мистрис Люпекс, – отвечала Амелия.
– И мистрис Люпекс ответит, – возразила эта леди. – Ваша дочь пришла сюда и напала на меня… осыпала меня градом таких выражений, и все это перед мистером Кредлем…
– Да, я спросила только, почему она не платит долга и не оставит этого дома, – сказала Амелия.
– Замолчи! – вскричал ее брат. – Не твое дело вмешиваться в то, о чем тебя не спрашивают.
– Но, полагаю, мое дело вмешаться, когда меня оскорбляет такая тварь, как эта.
– Тварь! – вскричала мистрис Люпекс. – Желала бы я знать, кто из нас двоих похож больше на тварь! Я сейчас вам объясню это. Амелия Ропер…
Поток красноречия мистрис Люпекс был остановлен, потому что Амелия с помощью толчка своего брата исчезла за дверью. С мистрис Люпекс сделалась истерика, и в этом случае диван оказал ей существенную услугу. Мы оставим ее в покое на несколько времени, чтобы, в свою очередь, доставить покой и мистрис Ропер.
«Находка же будет для Имса, если он женится на этой девчонке», – говорил про себя Кредль, отправляясь в свою комнату, и в то же время гордился своим собственным положением и своими подвигами, сознавая, что единственным поводом к происходившей баталии было особенное внимание к его особе со стороны замужней женщины. Так и Парис находил большое удовольствие и гордость в десятилетней осаде Трои.
Глава XII ЛИЛИАНА ДЕЛЬ СТАНОВИТСЯ БАБОЧКОЙ
Теперь мы воротимся в Оллингтон. То же самое утро, которое принесло Джону Имсу два письма, принесло и в Большой дом, между прочим, следующее послание к Адольфу Кросби от графини де Курси. Оно было написано на розовой бумажке, гладкой, как атлас, и пропитанной нежным ароматом, в уголку ее стояла коронка и причудливый вензель. Вообще послание имело фешенебельный и привлекательный вид, так что Адольф Кросби нисколько не сердился, получив его.
«Замок Курси, сентябрь 186*.
Любезный мистер Кросби,
мы получили о вас некоторые сведения. К нам приехали Гезби и рассказывают, что вы наслаждаетесь сельской жизнью в какой-то очаровательной деревеньке, где, между прочими прелестями, находятся лесные и водяные нимфы, которым посвящается большая часть вашего времени. Так как это совершенно в вашем вкусе, то я ни за что в мире не хотела бы нарушить ваших наслаждений, но если вы можете оторваться от оллингтонских рощ и фонтанов, мы бы встретили вас здесь с радушием и восторгом, хотя, после вашего земного рая, вы найдете нас весьма неромантичными.
К нам приедет леди Думбелло, которая, я знаю, ваша фаворитка, или не вы ли ее фаворит? Я приглашала леди Хартльтон, но она не может оторваться от бедного маркиза, который, как вам известно, очень слаб. Герцога в настоящее время нет в Гатеруме, но это обстоятельство, без всякого сомнения, не может препятствовать приезду сюда милой леди Хартльтон. Полагаю, что дом наш будет полон и что в нем не будет недостатка в нимфах, хотя, я боюсь, они не будут вроде лесных и водяных. Маргарита и Александрина желают, чтобы вы приехали, они говорят, что вы имеете удивительную способность поддерживать приятное настроение духа в доме, полном народа. Пожалуйста, уделите нам хотя недельку, прежде чем воротитесь к управлению делами нации.
Душевно вам преданная Розина де Курси».Графиня де Курси была старым другом мистера Кросби, т. е. таким старым другом, какие бывают в той среде общества, в которой жил мистер Кросби. Он познакомился с ней лет семь тому назад, бывал на всех ее лондонских балах, повсюду весьма охотно и мило танцевал с ее дочерями. По старинным семейным отношениям он находился в короткой дружбе с мистером Мортимером Гезби, который, будучи адвокатом, и адвокатом весьма замечательным, женился на старшей дочери графини и в настоящее время заседал в парламенте, в качестве депутата от города Барчестера, близ которого расположен был замок Курси. Говоря сущую правду, мистер Кросби находился в самых дружественных отношениях с дочерями графини де Курси, Маргаритой и Александриной, особливо с последней, хотя, сказав это, я не хотел бы, чтобы читатели допустили предположение, что между молодыми людьми существовали чувства более нежные, чем обыкновенная дружба.
В то утро Кросби не сказал ни слова о полученном письме, но в течение дня, а может статься, и в то время, когда размышлял об этом предмете, ложась спать, он решился воспользоваться приглашением леди де Курси. Ему приятно было бы увидеться с Гезби, провести несколько дней под одной кровлей с великим маэстро в высокой и трудной науке фешенебельной жизни, леди Думбелло, и наконец возобновить дружеские отношения к дочерям графини – Маргарите и Александрине. Если бы он чувствовал, что по настоящим его отношениям к Лили приличие требовало того, чтобы он оставался при ней до конца своих каникул, Кросби, без всякой борьбы с самим собой, мог бы навсегда бросить этих де Курси. Но Кросби задался идеей, что в настоящее время было бы очень благоразумно удалиться от Лили, или, может быть, думал, что Лили осталась бы довольна, если бы он удалился от нее. Кросби вовсе не представлялось надобности приучать ее к мысли, что они не должны были жить, любуясь друг другом в течение тех нескольких месяцев, а может статься, и нескольких лет, которые должны пройти до счастливого дня бракосочетания. Не должен был он также позволять ей думать, что удовольствия или занятия в жизни его или ее должны непременно находиться в связи между собою, должны зависеть непременно от удовольствий и занятий каждого из них. В этом роде и довольно логически размышлял мистер Кросби по поводу полученного письма и наконец пришел к заключению, что ему можно отправиться в замок Курси и воспользоваться благотворным блеском фешенебельного общества, которое там соберется. Спокойствие, а вместе с ним и скука своего собственного камина находились от него не за горами!
– Я думаю, сэр, в среду проститься с вами, – сказал Кросби сквайру в воскресенье по утру за завтраком.
– В среду проститься с нами! – с изумлением сказал сквайр, державшийся старинного понятия, что жених и невеста не должны разлучаться друг с другом до тех пор, пока позволят тому обстоятельства. – Не случилось ли чего-нибудь?
– О, нет! Но, сами знаете, всему бывает конец, до возвращения в Лондон мне необходимо сделать один или два визита, и потому я думаю уехать отсюда в среду. Я пробыл здесь до крайней возможности.
– Куда же ты отправишься? – спросил Бернард.
– Очень недалеко – в соседний округ, в замок Курси.
После этого ответа за завтраком не было больше и помину об отъезде Кросби.
Три джентльмена из Большого дома имели обыкновение в воскресные дни перед обедней отправляться на поляну, принадлежавшую Малому дому, так и в это воскресенье они вместе пришли на поляну, где Лили и Белл уже ждали их. При этих случаях они оставались на поляне несколько минут в ожидании, когда мистрис Дель пригласит их пройти через дом ее в церковь; так это было и в настоящем случае. Приходя на поляну, сквайр обыкновенно становился посредине ее и любовался окружавшими его кустарниками, цветами и фруктовыми деревьями, он никогда не забывал, что все это его собственность и пользовался этим случаем осмотреть ее, в другие дни ему редко приводилось заглянуть в этот уголок. Мистрис Дель, надевая свою шляпку и посматривая из окна, полагала, что угадывает происходившее в это время в душе сквайра, и глубоко сожалела, что обстоятельства принуждали ее быть обязанной ему за такое вспомоществование. В сущности же она далеко не знала, о чем думал сквайр в эти минуты. «Это все мое, – говорил он про себя, осматривая всю местность перед Малым домом. – Как я доволен, что они могут этим пользоваться. Она вдова моего родного брата, пусть же владеет всем этим, я рад, душевно рад».
Мне кажется, что если бы эти две личности лучше знали сердце и душу друг друга, они, право, лучше бы любили друг друга.
Кросби объявил Лили свое намерение.
– В среду! – сказала она, и бедненькая побледнела от душевного волнения при этом известии.
Он объявил ей без всякого предупреждения, не думая, вероятно, что подобное объявление подействует на нее так сильно.
– Непременно. Я уже написал леди де Курси и назначил середу. Нельзя же мне прервать знакомство и, может быть…
– Ах нет, Адольф! Неужели вы думаете, что я сержусь на вас?.. Нисколько. Только это так неожиданно, не правда ли?
– Я пробыл уже здесь более шести недель.
– Да, вы были очень добры. Как быстро пролетели эти шесть недель! Какая огромная перемена произошла в это время со мной! Не знаю, так ли она заметна для вас, как для меня, я перестала быть куколкой и начинала становиться бабочкой.
– Но, Лили, пожалуйста, не будьте бабочкой, когда выйдете замуж.
– Нет, вы меня не поняли. Я хотела сказать, что мое действительное положение в жизни открылось для меня только тогда, когда я узнала вас и узнала, что вы меня полюбили. Однако нас зовет мама, мы должны идти в церковь. Так в середу уезжаете! Значит, осталось только три денька!
– Только три денька!
– Когда же мы опять увидимся? – спросила Лили, подходя к церковной ограде.
– О, как трудно на это ответить! Надобно спросить председателя наших комитетов, когда он опять уволит меня в отпуск.
После этого ничего больше не было сказано, Кросби и Лили вошли в церковь вслед за сквайром и вместе с другими расположились на фамильных скамьях. Сквайр сел отдельно от других, в уголок, который он занимал после смерти своего отца, и оттуда делал возгласы громко и внятно, так громко и так внятно, что в этом отношении с ним ни под каким видом не мог сравняться приходский дьячок, несмотря на все свои усилия.
– Нашему сквайру хочется быть и сквайром, и пастором, и дьячком, и всем чем угодно, да, пожалуй, и будет, – говаривал бедный дьячок, жалуясь на притеснения, которые испытывал со стороны сквайра.
Если молитвы Лили и были прерываемы ее новой печалью, то, мне кажется, ей можно простить эту вину. Она знала очень хорошо, что Кросби не намерен больше оставаться в Оллингтоне. Она знала не хуже Кросби день, в который кончался его отпуск, и час, в который ему следовало явиться в должность. Она приучила себя к мысли, что ему нельзя оставаться в Оллингтоне до конца отпуска, и теперь испытывала то неприятное чувство, которое испытывает ученик, когда совершенно неожиданно объявят ему, что последняя неделя его каникул должна быть отнята у него. Печаль Лили была бы гораздо легче, если бы она заранее знала о дне разлуки. Она не винила своего жениха. Она даже не допускала мысли, что Кросби должен оставаться при ней до конца отпуска. Она не позволяла себе предположения, что Кросби в состоянии сделать что-нибудь для нее неприятное. А между тем она чувствовала свою потерю и, становясь на колена во время молитв своих, не раз отирала невольно вытекавшую слезу.
Кросби тоже думал о своем отъезде, и думал гораздо более, чем бы следовало в то время, когда мистер Бойс говорил проповедь.
– Как легко слушать и понимать его, – отзывалась обыкновенно мистрис Харп о преемнике своего мужа, – он никого не затрудняет своими доводами.
Кросби, быть может, находил гораздо больше затруднений, чем мистрис Харп, и, вероятно, углубился бы в размышления, если бы доводы были глубокомысленнее. Необходимость слушать человека, который говорит обыкновенные вещи, оказывается иногда весьма тяжелою. При настоящем случае Кросби вовсе не обращал внимания на эту необходимость и вполне предался размышлениям о том, как лучше объясниться ему с Лили до своего отъезда. Он хорошо припоминал несколько слов, высказанных на первых порах своей любви, слов, которыми выражалось его намерение не откладывать на долгое время день свадьбы. Он припоминал также, как очаровательно убеждала его Лили не торопиться. И теперь он должен был отречься от того, что было тогда сказано. Он должен был отказаться от своих собственных доводов и объявить Лили, что ему желательнее было бы отложить день свадьбы на неопределенное время, это такая задача, которая, по моему мнению, всегда должна быть крайне неприятна для человека, давшего слово жениться.
– Сегодня же решу это дело, – сказал Кросби про себя, когда по окончании проповеди мистера Бойса наклонил к ладоням лицо в знак выражения благодарности.
Так как оставалось только три дня, то, разумеется, ему необходимо было решить это дело безотлагательно. Лили не имела состояния, и потому не вправе была сетовать на продолжительность отсрочки дня свадьбы. Это было у него главным аргументом. Но он часто говорил себе, что Лили имела бы полное право сетовать, если б оставалась, хотя на день, в недоразумении по этому предмету. И к чему он так опрометчиво высказал эти слова и поставил себя в затруднительное положение, поступил совершенно как школьник или как Джонни Имс? Каким был он глупцом, если не помнил себя, послушался внушений сердца, не посоветовавшись с холодным рассудком, если забыл при этом случае все то, что следовало бы сделать Адольфу Кросби! И потом вдруг мелькнула мысль, что действительно ли еще его можно назвать глупцом. Подавая руку Лили при выходе из церкви, он при этой мысли пожал плечами. «Теперь уж это слишком поздно», – сказал он про себя и, обратившись к Лили, сказал ей несколько приятных слов. Адольф Кросби был умный человек, он хотел бы быть и честным человеком, если бы искушения к обману не были для него слишком велики.
– Лили, – сказал он, – после завтрака не хотите ли прогуляться со мной по полям?
Прогуляться с ним по полям! Разумеется, она хотела. Ведь только три денька и оставалось, так неужели же она не согласилась бы отдать ему все минуты этого времени, если бы только пожелал он воспользоваться ими? После обедни они завтракали в Малом доме, мистрис Дель обещала присоединиться к обществу обедающих за столом сквайра. Сквайр не имел привычки завтракать, оправдывая эту привычку тем, что завтрак сам по себе вещь весьма дурная. «Однако он завтракает в своем доме, – говорила впоследствии мистрис Дель в разговоре о сквайре с своей дочерью Белл. – Я часто видела, как он выпивал рюмку хересу». Вспоминая об этом, мистрис Дель приготовляла себе обед. Если сквайр не хотел завтракать за ее столом, то и она не хочет обедать за его столом.
Лили в несколько секунд переменила шляпу; вместо парадной шляпы, над которой Кросби, по праву жениха, часто подсмеивался, Лили надела шляпу с широкими полями, которая лучше нравилась Кросби.
– Только три денька остается, – сказала Лили, переходя вместе с Кросби ускоренными шагами зеленую лужайку.
Она сказала это голосом, не выражавшим ни упрека, ни сожаления, в этих словах заключался тот смысл, что так как счастливого времени остается очень немного, то они должны им вполне воспользоваться. Какой другой комплимент мог бы быть сказан такому очаровательному человеку? Какая лесть могла бы быть более приятною? Все мое земное небо состоит в том, чтобы находиться при вас, и теперь для наслаждения блаженством этого неба мне оставлено только три дня! Поэтому я воспользуюсь до последней возможности дарованным мне счастьем. Все, что чувствовала Лили, чувствовал и Кросби, он сознавал, в каком огромном долгу был перед Лили. «Я приеду к ним на день в Рождество, и только на один день», – сказал он про себя. Потом, рассудив, что намерение это можно привести в исполнение, он решился начать разговор обещанием этого рода.
– Да, Лили, только три денька и остается теперь. Впрочем, не знаю… я полагаю, в Рождество вы будете дома?
– Будем ли мы дома в Рождество? Разумеется, будем. Вы, верно, хотите сказать, что тогда приедете к нам!
– Да, я думаю, приеду, если вы примете меня.
– Ах, как это долго! Позвольте, это будет через три месяца. И вы будете здесь в Рождество! Я лучше желала бы, чтобы вы были здесь именно в этот день, чем в какой-нибудь другой.
– Но я приеду, Лили, только на один день. Я приеду к обеду накануне Рождества и на другой день уеду.
– Однако вы приедете прямо в наш дом?
– Если вы можете уделить мне комнату.
– Разумеется, можем. Мы могли бы это сделать и теперь, но когда вы приехали, то знаете…
Лили посмотрела в лицо Кросби и улыбнулась.
– Когда я приехал, я был другом сквайра и его кузена, но не вашим. После того произошла большая перемена.
– Да, вы сделались моим особенным другом. Я и сама должна теперь и навсегда быть вашим единственным и лучшим другом, не правда ли, Адольф?
Этим вопросом Лили вынудила от него повторение того обещания, которое он так часто давал ей.
В это время они прошли сад Большого дома, примыкавшие к нему луга и очутились на соседних полях.
– Лили, – сказал Кросби совершенно внезапно, как бы предупреждая, что намерен сказать что-то особенно серьезное. – Я хочу сказать вам несколько слов насчет нашего дела.
Сказав последние два слова, он слегка рассмеялся, Лили догадывалась, что он был взволнован.
– Я буду вас слушать. Ах, Адольф, прошу вас, не бойтесь за меня, не думайте, что я не в состоянии перенести заботы и огорчения. Я могу переносить решительно все до тех пор, пока вы меня любите. Я говорю это потому, чтобы вы не подумали, что меня огорчает ваш отъезд. Поверьте, у меня и в уме этого не было.
– Милая Лили, я никогда не думал, чтобы вы огорчались. В вашем поведении, в ваших чувствах я до сих пор не замечал ничего, кроме прекрасного. Трудно было бы доставить мужчине удовольствие, если бы вы ему не нравились.
– Если я могу только нравиться вам…
– Вы нравитесь мне во всем. Милая Лили, встретив вас, мне кажется, я встретил ангела. Но приступимте к делу. Может статься, гораздо будет лучше, если я поговорю с вами откровенно.
– Пожалуйста, говорите мне все, решительно все.
– Но прошу вас, не придавайте словам моим ложного значения. Если я буду говорить о деньгах, то не думайте, что это имеет какую-нибудь связь с моей к вам любовью.
– О, как бы я желала собственно для вас не быть такой бедной.
– Я хочу сказать одно, что если меня беспокоят деньги, то вы не должны полагать, что это беспокойство может иметь влияние на беспредельность моей к вам привязанности. Я буду любить вас по-прежнему и, женившись на вас, считать себя счастливейшим человеком, все равно, богаты вы или бедны. Вы понимаете меня?
Лили не совсем понимала его, но она крепко пожала его руку, как бы стараясь этим поощрить его и вызвать на дальнейшее объяснение. Она полагала, что Кросби намерен был сообщить ей что-нибудь относительно их будущего образа жизни, что-нибудь такое, которое, по его мнению, было бы неприятно для нее, и потому она решилась показать ему вид, что готова выслушать его с удовольствием.
– Вы знаете, – продолжал Кросби, – как я желал, чтобы свадьба наша не была отложена на неопределенное и отдаленное время. Все мысли мои, все мои лучшие желания заключаются в том, чтобы, как можно скорее, назвать вас другом моим, принадлежащим мне навсегда.
В ответ на такое скромное признание в любви Лили снова пожала ему руку, это был такого рода предмет, по которому она сама не имела сказать многого.
– Я должен был заботиться об этом, но теперь нахожу, что это не так легко, как я предполагал.
– Адольф, вы помните, что я сказала. Я сказала, что по моему мнению лучше подождать. Я уверена, что и мама разделяет это мнение. Если только можно видеть вас от времени до времени…
– В этом нечего и сомневаться. Но я уже сказал… Позвольте, что я говорил… Да, всякого рода ожидание будет для меня невыносимо. Для мужчины, который решился жениться, ожидание должно быть пыткой, особливо когда судьба посылает ему такого ангела, как вы. – При этих словах рука Кросби обвилась вокруг талии Лили. – Но…
Кросби хотел что-то сказать и замолчал. Он хотел дать ей понять, что такая перемена в его намерении произошла, собственно, от неожиданного поступка со стороны сквайра. Кросби хотел, чтобы Лили вполне узнала, в чем дело, – что он надеялся на щедрость ее дяди в отношении приданого, что он обманулся в своих ожиданиях и имел право сетовать на подобное разочарование и что вследствие такого удара, нанесенного его ожиданиям, он по необходимости должен был отложить день своей свадьбы. В то же время Кросби желал также сообщить Лили понятие, что это обстоятельство нисколько не уменьшало той любви, которую он питал к ней, что это чувство нисколько не должно страдать от скупости дяди Лили. Все это он желал бы передать своей невесте, но не знал, как высказать свое желание, не огорчив Лили и в то же время не показав виду, что обвиняет себя в мелочных и не совсем благородных побуждениях к изменению своего намерения. Он начал желанием высказать Лили все, но подобное желание не всегда может быть выполнимо. Бывают вещи, которые высказываются с величайшим затруднением, которые иногда не допускают ни малейшей возможности высказываться.
– Вы хотите сказать, неоцененный Кросби, что свадьба наша не может состояться теперь же?
– Да, именно это. Я надеялся, что мне представится возможность, но…
Скажите, какой влюбленный мужчина нашел бы возможность высказать предмету любви своей о своем совершенном разочаровании вследствие сделанного открытия, что этот предмет не имеет состояния? Если так, то надо сказать, что храбрость у него сильнее любви. Кросби видел себя в необходимости сделать это, поставленный в такое затруднение, он находил, что с ним поступили жестоко. Отсрочку свадьбы своей он приписывал сквайру, а не себе. Он готов был выполнить свою роль, если бы только сквайр имел расположение выполнить свой долг, который ему принадлежал вполне. Но сквайр не хотел войти в его положение, а потому и он должен был оставаться в бездействии. Справедливость требовала, чтобы все это было понято, но, приступив к объяснению, Кросби увидел, что слова как-то не вязались. Он должен был отказаться от этой попытки, должен был перенести несправедливость, утешая себя мыслью, что, по крайней мере, он вел себя в этом деле совершенно благородно.
– Меня, Адольф, это нисколько не огорчает.
– В самом деле? – спросил Кросби. – Что касается до меня, то признаюсь, я не могу равнодушно перенести эту отсрочку.
– Зачем же, любовь моя? Вы, однако же, не должны придавать словам моим другое значение, – сказала Лили, остановясь на дорожке, по которой они шли, и глядя ему прямо в лицо. – По принятому правилу я полагаю, мне следовало бы уверять, что я охотно буду дожидаться. Это сказала бы всякая девушка. Без всякого сомнения сказала бы это и я, если бы вы стали принуждать меня назначить день нашей свадьбы. Но теперь я буду с вами откровеннее. Единственное мое желание в этом мире – быть вашей женой, иметь возможность разделять с вами участь, которую пошлет нам судьба. Чем скорее будем мы вместе, тем лучше – во всяком случае, лучше для меня. Вот все, что я могу сказать вам, – будет ли для вас этого достаточно?
– Милая Лили, моя неоцененная Лили!
– Да, ваша Лили, вам преданная всей душой и навсегда. Милый Адольф, вы не должны иметь ни малейшего повода сомневаться во мне. Я не вправе надеяться, чтобы все было так, как мне хочется. Опять вам скажу, что я не буду скучать в ожидании той минуты, когда вы возьмете меня. И могу ли я скучать, будучи вполне уверена, что вы меня любите? Правда, я огорчилась, услышав, что вы намерены уехать отсюда так скоро, и, кажется, обнаружила свое неудовольствие. Но эти маленькие неудовольствия переносятся легче, нежели большие.
– Да, совершенно справедливо.
– Нам остается только три дня быть вместе, и я намерена насладиться каждой минутой этого кратковременного срока. Вы будете писать ко мне, побываете у нас о Рождестве, а на будущий год вы, верно, опять приедете на каникулы, не правда ли?
– Совершенно можете быть уверены в этом.
– Таким образом незаметно пройдет время до тех пор, пока вы найдете возможным взять меня с собою. Нет, я не буду скучать.
– Я, во всяком случае, буду нетерпелив.
– Ведь мужчины всегда бывают нетерпеливы. Мне кажется, это одна из их привилегий. И я не думаю, чтобы мужчина когда-нибудь испытывал то положительное и полное удовольствие в убеждении, что он любим, какое испытывает девушка. Вы – моя птичка, которую я подстрелила из моего собственного ружья, и уверенности в этом успехе совершенно достаточно для моего счастья.
– Вы уничтожили меня, я упал пред вами, и вы знаете, что мне больше не подняться.
– Не знаю, но я подняла бы вас весьма скоро, если бы вы пожелали.
Какие Кросби делал уверения, что он не желает этого, не желал бы и не мог бы желать, читатель узнает в самом непродолжительном времени. Он рассудил, что все денежные вопросы можно оставить в том самом положении, в котором они находились. Главная цель Кросби состояла в том, чтобы убедить Лили, что по обстоятельствам с той и другой стороны день свадьбы должен быть отложен, – в этом отношении Лили вполне поняла его. Быть может, в течение следующих трех дней представится какой-нибудь случай, который объяснит мисс Дель все это дело. Во всяком случае, Кросби высказал свое намерение благородно, так что никто бы не мог осуждать его.
На следующий день они все отправились в Гествик – они все, то есть Лили и Белл, Бернард и Кросби. Цель их поездки заключалась в том, чтобы отдать два визита, один весьма благородной и высокой особе, леди Джулии Дегест, а другой – особе более скромной и ближе знакомой, мистрис Имс. Так как поместье Дегеста лежало на дороге в город, то молодые люди заехали сюда и выполнили более величественную церемонию прежде другого визита. Нынешний граф Дегест, родной брат леди Фанни, бежавшей с майором Делем, был холостой нобльмен, посвятивший себя преимущественно воспитанию домашних животных. А так как он воспитывал животных весьма хорошо, находил в этом занятии беспредельное удовольствие, употреблял на это всю свою энергию и воздерживался от всякого рода грубых, резко бросающихся в глаза привычек, то каждый согласится, что он был полезным членом общества. Он был закоснелый тори, который охранение всех своих интересов поручал представителю его партии и который редко сам приближался к столице, разве только по случаю выставки домашних животных. Он был невысокого роста, коренастый мужчина, с красными щеками и круглым лицом, до обеда его всегда можно было видеть в очень старом охотничьем пальто, еще более старых брюках, штиблетах и очень толстых башмаках. Большую часть времени он проводил за стенами своего дома и умел одинаково отлично охранять дичь в своем поместье и откармливать быков. Он знал каждый акр своей земли, каждое дерево на ней, знал так хорошо, как иная леди знает украшения своего будуара. В какой-нибудь изгороди не было лазейки, которой бы он не помнил величину и расположение, не было тропинки, о которой бы он не знал, откуда и куда идет она, почему и для чего она проложена. В отношении доходов с своего поместья он был в прежние годы довольно бедный человек – даже очень бедный, если рассматривать его как графа. В настоящее же время он далеко не был беден, бедственное положение его отца и деда служило для него уроком и научило его жить, соображаясь со средствами. Говорили даже, что он становился богачом, имел значительный капитал – положение, в котором не был ни один из лордов Дегестов в течение многих поколений. Его отец и дед слыли за большой руки мотов, а этого графа некоторые называли скрягой.
В наружности его мало было аристократического, но все же сильно бы ошибся тот, кто бы подумал, что лорд Дегест не гордился своим положением в обществе, что эта гордость не была дорога для его души. Первый предок его возведен был в звание лорда во времена короля Джона, в Англии только и было три лорда, которым грамоты пожалованы раньше его. Он знал, какие привилегии предоставляло ему происхождение, и не имел ни малейшего расположения отказываться от них или позволять, чтобы их уменьшали. Правда, он не требовал их громогласно. Проходя земное свое поприще, он не рассылал во все стороны герольдов, которые бы возвещали о шествии лорда Дегеста. Накрывая стол для своих друзей, что делалось, впрочем, в весьма редких случаях, он угощал их просто, с старинным, спокойным, скучным радушием. Можно сказать, что лорд Дегест никому не заслонял дороги, если только ему не мешали действовать по-своему, зато в противном случае в нем являлось сильное озлобление, и если кто-нибудь его затрагивал, он готов был идти против целого света. Он вполне сознавал свое высокое значение, видел в особе своей до последнего волоска особу графа и в грязных штиблетах так же величественно являлся между своими быками, как явился бы, блистая звездами, на каком-нибудь церемониале между своими собратьями-лордами в Вестминстере, да, он был граф вполне и лучше выказывал свое достоинство, чем те, которые употребляют свое высокое происхождение для каких-нибудь пышных целей. Горе тому, кто бы принял его старое платье за признак грубой, грязной деревенщины! Некоторые попадали в этот просак и навлекали на себя весьма тяжелое покаяние.
Вместе с графом жила сестра, девица леди Джулия. Отец Бернарда Деля в раннюю пору жизни бежал с одной сестрой, но никто из поклонников прекрасного пола не был достаточно счастлив, чтобы склонить леди Джулию на побег с ним. Поэтому она все еще жила в девственном блаженстве, как полная госпожа гествикского господского дома, и, как госпожа, имела немалое понятие о том высоком положении, которое предоставила ей судьба. Это была скучная, тяжелая, целомудренная старая дева, которая приписывала себе огромную заслугу за то, что всю свою жизнь оставалась в доме, где провела свою юность, вероятно забывая при этом – в настоящих своих, уже далеко не молодых годах, – что искушения покинуть родной кров не были ни сильны, ни многочисленны. Она обыкновенно отзывалась о своей сестре Фанни с некоторым пренебрежением, потому, собственно, что эта бедная леди унизила себя, вступив в брак с человеком, принадлежавшим к меньшей братии. Она гордилась своим положением не менее своего брата-графа, но гордость ее проявлялась более наружным образом и менее внутренним сознанием своего достоинства. Довольно трудно было для нее заставить свет признавать в ней леди Дегест, и потому она принимала надменный и покровительственный вид, который не делал ее популярною между соседями.
Сношения между гествикским и оллингтонским домами не были часты и не отличались особенным радушием. Вскоре после побега леди Фанни оба эти семейства согласились признавать родственную связь друг с другом и показывать обществу, что они находились в дружеских отношениях. Им лучше было бы принять тот или другой способ показать обществу, что они были врагами. Дружба представляла меньше беспокойства, и потому два семейства от времени до времени навещали одно другое и давали одно другому обеды, не чаще, впрочем, как раз в год. Граф считал сквайра за человека, который отказался от участия в общественных делах и чрез это лишался того уважения, которое по всей справедливости принадлежало бы ему как наследственному землевладельцу-магнату, а сквайр, в свою очередь, ни во что не ставил графа как человека, который не имел ни малейшего понятия о внешнем мире. В гествикском доме Бернард Дель пользовался некоторым расположением, во-первых, потому, что был родственник, что в его жилах текла кровь Дегестов, во-вторых, что он был наследник Оллингтона, и, наконец, потому еще, что фамилия Делей была стариннее благородной фамилии, которой он был родственником. Если бы Бернард сделался сквайром, то, без всякого сомнения, отношения между гествикским и оллингтонским домами были бы искреннее, между наследником графа и наследником сквайра всегда найдутся какие-нибудь поводы к раздору.
Молодые люди застали леди Джулию в гостиной одну, мистер Кросби был представлен ей с соблюдением всех установленных на этот случай правил. Факт, что Лили помолвлена, был, без всякого сомнения, известен в гествикском господском доме, и, конечно, нельзя было не понять, что Лили привезла своего жениха затем, чтобы на него посмотрели и одобрили. Леди Джулия сделала весьма изысканный реверанс и выразила надежду, что ее молодая подруга будет счастлива в той сфере жизни, в которую угодно было Богу призвать ее.
– Надеюсь, леди Джулия, я буду счастлива, – сказала Лили, с легкой усмешкой, – во всяком случае, я постараюсь быть счастливой.
– Мы все стараемся, душа моя, но многие из нас даже при достаточной энергии не успевают достигать желанных целей. Конечно, только исполняя свой долг, мы можем надеяться быть счастливыми – в одинокой жизни или в замужней.
– Мисс Дель намеревается быть совершеннейшим драконом в исполнении своих обязанностей, – сказал Кросби.
– Драконом! – возразила леди Джулия. – Нет, я надеюсь, мисс Лили Дель никогда не сделается драконом.
Сказав это, она повернулась к своему племяннику. Можно заметить, что она никогда не простит мистеру Кросби свободы выражения, которое он употребил. Он находился в гостиной гествикского господского дома не более пяти минут и осмелился уже говорить о драконах, осмелился употребить название, которое придается злым женщинам.
– Вчера я слышала о вашей матери, Бернард, – сказала леди Джулия, – к сожалению, она, кажется, очень слаба.
За этим начался небольшой, весьма неинтересный по своему свойству разговор тетки и племянника о состоянии здоровья леди Фанни.
– Я не знала, что моя тетка так больна, – сказала Белл.
– Она не больна, – сказал Бернард, – она никогда не бывает больна, но также никогда и не бывает здорова.
– Ваша тетка, – сказала леди Джулия, сообщая своему голосу при повторении этих двух слов легкий сарказм, – ваша тетка никогда не пользовалась хорошим здоровьем с тех пор, как оставила этот дом, а это было давно, очень давно.
– Очень давно, – заметил Кросби, не имея намерения оставаться безгласным. – Я полагаю, Дель, ты не помнишь этого времени.
– Я так его помню, – сказала леди Джулия с заметным гневом. – Я помню, когда сестра Фанни считалась первой красавицей в округе. Да, красота – дар опасный.
– Весьма опасный, – сказал Кросби.
Лили снова засмеялась, леди Джулия окончательно рассердилась. Какой противный этот человек! И еще соседи ее принимают его в свое семейство как самого близкого родственника! Впрочем, она слышала о мистере Кросби прежде, и мистер Кросби также слышал об ней.
– Ах, кстати, леди Джулия, – сказал он. – Мне кажется, я знаю некоторых ваших самых дорогих друзей.
– Самых дорогих друзей – выражение довольно сильное. У меня почти нет таких друзей.
– А семейство Гезби? Я слышал, как об вас разговаривали Мортимер Гезби и леди Амелия.
При этом леди Джулия призналась, что действительно знает Гезби.
– Мистер Гезби, – говорила она, – в молодости ничем особенно не отличался, хотя все же был почтенной особой. Теперь он в парламенте и, по всей вероятности, приносит пользу.
Она не совсем одобряла замужество леди Амелии, это выражала сама леди де Курси, ее старинная подруга, но… И потом леди Джулия наговорила множество слов в похвалу мистера Гезби, смысл которых заключался в том, что он был превосходнейший человек, с полным убеждением в слишком великой чести, оказанной ему дочерью графа, которая вышла замуж за него, и не менее полным сознанием, что брак этот ни под каким видом не ставил его на одну параллель с родственниками его жены и даже с его женой. Наконец, оказалось, что леди Джулия на будущей неделе надеялась встретиться с семейством Гезби в замке Курси.
– Я в восторге от мысли, что буду иметь удовольствие увидеться с вами в доме леди де Курси, – сказал Кросби.
– В самом деле! – сказала леди Джулия.
– Я отправляюсь туда в среду. Крайне сожалею, что такой ранний срок не позволяет мне служить вам.
Леди Джулия выпрямилась во весь рост и отклонила от себя конвоирование, на которое намекнул мистер Кросби. Ей неприятно было открытие, что будущий муж Лили Дель был в числе коротких знакомых ее подруги, и особенно было неприятно, что он отправлялся в дом этой подруги. Неприятно было и для Кросби открытие, что леди Джулия будет вместе с ним гостить в замке Курси, но он не обнаружил своего неудовольствия. Он только улыбался и поздравлял себя с удовольствием встретиться снова и так скоро с леди Джулией, в сущности же он дал бы дорого, если бы мог придумать какой-нибудь маневр, который бы заставил эту даму остаться дома.
– Какая она несносная старуха, – сказала Лили по дороге в Гествик. – Ах, извините, Бернард, ведь она ваша тетушка.
– Да, она моя тетка, и хотя я не слишком ее жалую, но все-таки не могу согласиться с вами, что она несносная старуха. Она никого не убила, никого не ограбила, ни от кого не отбила любовника.
– Совершенно ваша правда, – сказала Лили.
– Она, без всякого сомнения, очень усердно читает молитвы, – продолжал Бернард. – Подает милостыню бедным и завтра же, по желанию брата, готова будет пожертвовать своими собственными желаниями. Конечно, я допускаю, что она очень некрасива и надменна и что ей, как женщине, не следовало бы иметь таких длинных черных волос на верхней губе.
– Мне дела нет до ее усов, – сказала Лили. – Но к чему она заговорила мне об исполнении моих обязанностей? Я приехала к ней не для того, чтобы слушать проповедь.
– И к чему она заметила, что красота есть опасное достояние? – возразила Белл. – Поверьте, мы очень хорошо знаем, что она думала сказать.
– А по моему мнению, она очаровательная женщина, и я в особенности буду любезен с ней у леди де Курси, – сказал Кросби.
Таким образом, молодые люди, строго критикуя бедную старую деву, подъехали к дому мистрис Имс.
Глава XIII ПОЕЗДКА В ГЕСТВИК
В то время как партия из Оллингтона подъезжала по узкой главной улице Гествика через торговую площадь к небольшому, респектабельному, но весьма непривлекательному ряду новых домов, в одном из которых проживала мистрис Имс, гествикские жители знали все, что мисс Лили Дель провожал ее будущий муж. Между гествикцами существовало мнение, что она очень счастливая девушка. «Для нее это прекрасная партия», – говорили некоторые и в то же время покачивали головой, намекая этим, что жизнь мистера Кросби в Лондоне не совсем-то такая, какою бы ей следовало быть, и что Лили могла бы быть счастливее, если бы вышла замуж за кого-нибудь из близких соседей с менее опасными претензиями. Другие, напротив, ничего хорошего не видели в этой партии. Они знали его средства до последнего пенни и были уверены, что молодым людям весьма трудно будет поддерживать свое хозяйство в Лондоне, если только старый сквайр не окажет им помощи. Несмотря на то, многие завидовали Лили, в то время когда она ехала по городу рядом с своим красивым женихом.
Сама Лили была очень счастлива. Я не буду отвергать, что она испытывала немалое удовольствие в сознании, что ей завидуют. Подобное чувство с ее стороны весьма естественно, как бывает оно естественно у всех мужчин и женщин, которые убеждены в том, что прекрасно устроили свои дела. Кросби был, по ее же словам, ее птичкой, ее добычей, которую она убила из своего ружья, произведением ее способности, которою она обладала, счастьем, с которым она должна жить и, если возможно, наслаждаться им до конца своей жизни. Лили вполне сознавала всю важность своего подвига и как нельзя основательнее размышляла о своем супружестве. Чем более она думала об этом, тем более убеждалась, что действовала превосходно, и тем более становилась довольною. А между тем она знала также, что тут был риск. Тот, кто в настоящее время был для нее всем на свете, мог умереть, мало того, он мог оказаться совсем не таким человеком, каким она считала его, мог охладеть и бросить ее, дурно обращаться с ней. Но Лили решилась положиться во всем на судьбу и с этой решимостью не допускала ни малейшей возможности к отступлению. Ее корабль должен был выплыть на средину океана, скрыться из виду безопасной гавани, из которой он вышел, ее армия должна выиграть сражение без всякой другой надежды на свое спасение, кроме той, которую доставляет победа. Всему свету предоставлялось полное право узнать, что она любила его, если только свету представлялась в этом надобность. Она торжествовала, гордилась своим нареченным и не скрывала даже от самой себя этой гордости.
Мистрис Имс была в восторге от их посещения. Со стороны мистера Кросби было весьма обязательно навестить такую бедную, забытую женщину, как она, обязательно было это и со стороны капитана Деля и милых девиц, у которых в настоящее время так много радостей дома в Оллингтоне! Пустые вещи, которые считаются другими за обыкновенную учтивость, мистрис Имс принимала за большую милость.
– Как здоровье мистрис Дель? Надеюсь, что она не утомилась после того вечера, когда мы просидели до такой поздней поры?
Белл и Лили уверили старушку, что их мать не чувствовала ни малейшей усталости. После этого мистрис Имс встала и вышла из комнаты под предлогом позвать Джона и Мэри, но в действительности, с намерением принести в гостиную пирожное и сладкое вино, которые хранились под замком в маленькой комнатке.
– Пожалуйста, не будемте здесь долго, – прошептал Кросби.
– Нет, не будем, – сказала Лили. – Но, мистер Кросби, если вы приехали навестить моих друзей, вы не должны торопиться.
– Вы не торопились уезжать от леди Джулии, – сказала Белл, – позвольте же и нам в свою очередь не торопиться.
– Тем более что мистрис Имс не станет говорить об исполнении наших обязанностей и о том, что красота – вещь опасная, – заметила Лили.
Мэри и Джон вошли в гостиную до возвращения матери, потом вошла мистрис Имс, а спустя несколько минут явились вино и пирожное. Конечно, все это было как-то неловко, все, по-видимому, были как-то связаны. Мистрис Имс и ее дочь не привыкли видеть в своем доме таких величественных людей, каким старался показать себя мистер Кросби, бедный Джон оставался безмолвным от сознания своего жалкого, ничтожного положения. Он не отвечал еще на письмо мисс Ропер и не решил еще, отвечать ли ему или нет. Вид счастья Лили не производил в нем той радости, которую бы он должен был испытывать, как друг ее детства. Надобно сказать правду, он ненавидел Кросби, и чувство это высказывал не только самому себе, но и сестре, и притом нередко, а особливо после вечера у мистрис Дель.
– Я тебе вот что скажу, Молли, – говаривал он. – Я бы вызвал на дуэль этого человека, лишь бы представился повод.
– Как! Чтобы сделать Лили несчастною?
– Она никогда не будет с ним счастлива. Я уверен, что не будет. Я не хочу сделать для нее какой-нибудь вред, но, право, подрался бы с этим человеком на дуэли, да не знаю, как бы устроить это.
И потом ему приходило на мысль, что если они оба падут в подобной борьбе, то это послужило бы единственным путем к прекращению настоящего порядка вещей. Этим путем он избавился бы также от Амелии, другого исхода в настоящую минуту не предвиделось.
Войдя в гостиную, Джонни пожал руку всем оллингтонским гостям, но при пожатии руки Кросби у него, как он впоследствии говорил своей сестре, по всему телу пробежали мурашки. Кросби, посматривая на Имсов, как-то натянуто и принужденно сидевших в своей собственной гостиной, решил в своем уме, что жена его по приезде в Лондон должна как можно реже видеться с Джонни, он решил это не из ревности, но из нерасположения к молодому человеку. Он узнал от Лили все – или, по крайней мере, все, что знала Лили, – и видел во всем этом одно забавное. «Пожалуйста, Лили, видайтесь с ним реже, – говорил он ей. – Как можно реже, из боязни, что он сделается ослом». Лили поверила ему все свои чувства, рассказывала ему все, что могла, а между тем он вовсе не замечал, что Лили действительно питала горячую любовь к молодому человеку, которого он ненавидел.
– Нет, благодарю вас, – сказал Кросби. – Я никогда не пью вина в такое время дня.
– Кусочек пирожного! – И мистрис Имс взглядом своим умоляла Кросби оказать ей эту честь.
Точно так же она умоляла и капитана Деля, но они оба оставались непреклонными. Не знаю, более ли было расположения у дам, чем у кавалеров, выпить вина и скушать пирожного, но они понимали, что не попробовать лакомств, поставленных на стол, значило бы огорчить и даже оскорбить добрую старушку. Женщины всегда охотно приносят небольшие жертвы для общества, так же как и большие жертвы для жизни. Мужчина, способный на все хорошее, всегда бывает готов к выполнению своего долга, так точно и женщина с добрыми наклонностями всегда готова на принесение какой либо жертвы.
– Действительно, нам пора отправиться, – сказала Белл, – а то застоятся наши лошади.
Предлог был извинительный, и гости распростились.
– Вы, Джонни, верно еще побываете у нас перед отъездом в Лондон? – спросила Лили, когда молодой человек вышел на улицу с намерением помочь Лили сесть на лошадь, но железная воля мистера Кросби принудила его отказаться от этого намерения.
– Да, побываю, перед отъездом. До свидания.
– До свидания, Джон, – сказала Белл.
– До свидания, Имс, – сказал капитан Дель.
Кросби, садясь в седло, слегка кивнул головой, но его соперник не хотел обратить на это ни малейшего внимания.
– Так или иначе, но я вызову его на дуэль, – говорил Имс про себя, возвращаясь по коридору в дом своей матери.
В свою очередь Кросби, вкладывая ноги в стремена, чувствовал, что молодой человек не нравился ему все более и более. Чудовищно было бы полагать, что к этому чувству примешивалась ревность, а между тем он очень сильно не любил молодого человека и даже рассердился на Лили за то, что она пригласила его побывать в Оллингтоне. «Я должен положить конец всему этому», – думал он, молча выезжая из города.
– Вы, милостивый государь, не должны быть взыскательны к моим друзьям, – сказала Лили, улыбаясь, но в то же время ее голос показывал, что она говорит серьезно.
В это время они были уже за городом, и Кросби не сказал почти ни слова с тех пор, как они оставили дом мистрис Имс. Они находились теперь на большой дороге, Белл и Бернард ехали впереди.
– Я никогда не был взыскательным, – сказал Кросби с некоторою раздражительностью. – По крайней мере, в отношении к тем, кто того не заслуживал.
– А я разве заслужила это?
– Перестаньте, Лили, я никогда еще не был и не думаю быть взыскательным к вам. Но вы не обвиняйте меня, если я не был любезен с вашими друзьями. Во-первых, я бываю со всеми любезен, насколько позволяет мне это мой характер, а во-вторых…
– Что же, во-вторых?..
– Я не совсем уверен, что вы действуете благоразумно, поощряя в настоящее время дружбу этого молодого человека.
– Вы хотите сказать, что я действую весьма неблагоразумно?
– Нет, милая Лили, я совсем не то хочу сказать. Если бы я думал это, я бы откровенно вам высказал. Я говорю то, что думаю. Нет никакого сомнения, я полагаю, что этот молодой человек питает к вам род романтической любви, – нелепый род любви, в которой не думаю, чтобы он мог надеяться на взаимность, но мысль о которой придает некоторую прелесть его жизни. Когда он встретит молодую женщину, способную быть его женой, он забудет об этой любви, но до той поры будет считать себя отчаянно влюбленным. Притом же такой молодой человек, как Джон Имс, весьма способен всюду и всем рассказывать о своих фантазиях.
– В настоящую минуту я не думаю, чтобы он решился упоминать мое имя перед кем бы то ни было.
– Но, Лили, вы, может быть, согласитесь со мной, что я более вашего знаю молодых людей.
– Да, без сомнения.
– И я могу уверить вас, что они вообще имеют большую наклонность свободно употреблять имена девушек, в которых они воображают, что влюблены. Не удивляйтесь, если я вам скажу, что мне не хотелось бы, чтобы какой-нибудь мужчина свободно обращался с вашим именем.
После этих слов Лили минуты две оставалась безмолвною. Она чувствовала, что ей оказана несправедливость, ей было неприятно это, но она не знала, в чем именно заключалась несправедливость. Она весьма много была обязана Кросби. Во многом она должна была соглашаться с ним – и старалась соглашаться даже более, чем требовал того ее долг. Но все же она была убеждена, что не всегда может быть хорошо уступать ему безусловно во всем. Она желала думать, по возможности, так, как думал он, но не могла сказать, что соглашалась с ним, когда их убеждения расходились. Джон Имс был старый друг, которого она не могла оставить, и потому считала необходимым заявить об этом теперь же.
– Послушайте, Адольф…
– Что вы хотите сказать, милая Лили?
– Вы, верно, не захотите, чтобы я сделалась совершенно равнодушною, даже холодною к такому старинному другу, как Джон Имс? Я знала его всю мою жизнь, и мы все как нельзя более уважаем это семейство. Его отец был самым искренним, задушевным другом моего дяди.
– Мне кажется, Лили, вы должны понимать, что я думаю. Я вовсе не хочу, чтобы вы рассорились с вашими друзьями, как не хочу и того, чтобы вы были к ним совершенно холодными. Вам только не следует делать особенных и убедительных приглашений этому молодому человеку побывать у вас перед отъездом в Лондон и потом навещать вас, когда вы сами будете в Лондоне. Вы сами говорили мне, что он питает к вам какую-то романтическую любовь, что он в отчаянии, потому что вы не влюблены в него. Все это, конечно, пустяки, но, мне кажется, что при таких обстоятельствах вам всего лучше… оставить его.
Лили снова сделалась безмолвною. И вот эти три последних дня, три дня, в которые она намеревалась быть счастливою, но более всего на свете старалась доставить счастье в особенности ему. Она ни под каким видом не хотела отвечать ему на это резкими словами и тем более питать в душе своей чувство неудовольствия, а между тем сознавала, что он был несправедлив, и в этом сознании с трудом могла принудить себя перенести обиду. Такова была натура у всех Делей. Не надо, конечно, забывать при этом, что весьма многие, которые в состоянии обречь себя на великие жертвы, не могут принудить себя к перенесению незначительных обид. Лили могла уступить своему жениху во всем, лишь бы только доставить ему удовольствие, но не могла позволить считать себя неправою, тогда как была вполне убеждена, что она права.
– Я пригласила его теперь, и он должен приехать, – сказала она.
– Но на будущее время, пожалуйста, не приглашайте.
– Конечно, особливо, Адольф, после того, что вы сказали мне. Без всякого сомнения, я совершенно понимаю…
– Что же вы понимаете, Лили?
Но Лили молчала, она боялась высказать свою мысль, боялась сказать что-нибудь обидное для Кросби.
– Адольф, не принуждайте меня высказываться. Я буду делать все, что вы потребуете.
– Вы хотели сказать, что когда увидите себя в моем доме, то, конечно, не станете приглашать к себе своих друзей. Скажите, Лили, справедливо ли это?
– Что бы я ни хотела сказать, я этого не сказала. И действительно, я даже не думала об этом. Но пожалуйста, Адольф, оставим это. Вы знаете, мы проводим последние дни, зачем же тратить их на разговоры о предметах неприятных? Я одно вам скажу, что Джонни Имс для меня ничего не значит, решительно ничего. Да и может ли кто другой занимать меня, когда я думаю об одних только вас?
Но даже и эти слова не могли сейчас же произвести в Кросби приятное настроение духа. Если бы Лили уступила ему и призналась, что он прав, он сейчас же сделался бы таким приятным и радостным, как майское солнышко. Но Лили этого не сделала. Она не высказала своих доводов, собственно потому, что не хотела больше испытывать досады, и объявила намерение видеться с Имсом в обещанный визит. Кросби желал, чтобы Лили признала себя неправою, желал иметь наслаждение в привилегии простить ее. Но Лили принадлежала к числу таких женщин, которые не находят большого удовольствия в прощении, мало того, не видят особенной необходимости получать прощение. Поэтому они продолжали ехать, если не совсем молча, то без всякого одушевления и удовольствия в разговоре. Было уже далеко за полдень понедельника, а Кросби уезжал в среду поутру. Ну, что если эти три дня будут омрачаться такими страшными тучами!
Бернард Дель ни слова не говорил с ехавшей рядом с ним кузиной, он почти ничего не говорил с ней с тех пор, как Кросби и Лили прервали их интимный разговор, когда они сидели у живой изгороди на берегу оврага. Он несколько раз танцевал с ней на вечере мистрис Дель и, по-видимому, без всякого затруднения разговаривал с ней о самых обыкновенных предметах. Белл поэтому думала, что дело совсем кончилось, она была благодарна кузену, положив в душе своей забыть об этой встрече, об этом объяснении, как будто их никогда и не было. Никому, даже своей матери, она не хотела говорить об этом. На подобное молчание она обрекала себя собственно для него, думая, что такой поступок с ее стороны будет для него приятен. Но теперь, когда они ехали вместе, далеко впереди от Кросби и Лили, Бернард возобновил свое объяснение.
– Белл, – сказал он. – Могу ли я еще надеяться?
– На что надеяться, Бернард?..
– Скажите, неужели простой ответ можно принять за решительный приговор по такому предмету? Там, где дело касается самого щекотливого чувства, я знаю, никто не удовлетворится подобным ответом.
– Если этот ответ был передан искренно и не ложно…
– О, без всякого сомнения. Я вовсе не допускаю лицемерия или обмана с вашей стороны, когда вы не позволили мне высказаться перед вами.
– Бернард, я никогда не запрещала вам высказываться.
– Было что-то вроде этого. Впрочем, я нисколько не сомневаюсь, что вы были правы. Однако, Белл, зачем это должно быть так? Только тем я и могу объяснить это, что вы влюблены в кого-нибудь другого.
– Я ни в кого не влюблена.
– Прекрасно. В таком случае, почему бы вам о мне не соединить нашу судьбу!
– Нет, Бернард, напрасно говорить об этом.
– Выслушайте меня. Во всяком случае, позвольте мне высказаться. Полагаю, что вы не пренебрегаете мною?
– О, нет.
– Если вы не хотите принять чьего-нибудь предложения, собственно, по неимению состояния, то поверьте, в нашем браке не может быть этой преграды, относительно денег вы не должны восставать против него. О любви моей я не буду больше говорить, я не сомневаюсь, что вы верите моим словам, но почему вам ближе не посоветоваться с своими чувствами, прежде чем вы решаетесь противиться желаниям всех тех, кто так близки к вам.
– Вы говорите о моей маме, Бернард?
– Не исключительно об ней одной, хотя я не могу не думать, что ей приятен будет брак, который послужит подпорою всему семейству и предоставит вам полное равное право на состояние, которое я имею.
– В глазах моей мамы это не будет иметь ни малейшего значения.
– Вы ее спрашивали?
– Нет, об этом деле я никому еще не сказала ни слова.
– Поэтому вы не можете знать мнения вашей мама. Что касается до дяди, то я положительно знаю, что брак наш составляет предмет лучших его желаний в жизни. Если я сам не заслуживаю с вашей стороны никакого внимания, то полагаю, что одно уже уважение к нему должно принудить вас подумать, прежде чем вы дадите окончательный ответ.
– Для вас я бы сделала более, чем для него, гораздо более.
– В таком случае сделайте это для меня. Позвольте мне думать, что я не получил еще ответа на мое предложение, отсрочьте ваше решение на месяц, до Рождества… до какого вам угодно времени, лишь бы только я знал, что дело это еще не решено, и мог бы сказать это дяде Кристоферу.
– Бернард, это будет бесполезно.
– Это, по крайней мере, будет показывать ему, что вы намерены подумать.
– Напротив, у меня нет такого намерения, вовсе нет. Я знаю очень хорошо, и с моей стороны было бы весьма нечестно, если бы я решилась вас обманывать.
– Значит, вы хотите, чтобы я передал дяде непременно этот ответ?
– Откровенно вам скажу, Бернард, для меня решительно все равно, что бы вы ни сказали дяде по этому делу. Он не имеет никакого права располагать моей рукой, и потому мне нет ни малейшей надобности обращать внимание на его желания. Я в нескольких словах объясню вам свои чувства по этому вопросу. Я не выйду замуж против желания мама, даже если бы она и пожелала, я не выйду против своего собственного желания. Что касается до дяди, я вовсе не считаю себя обязанною соглашаться с его желаниями по вопросу, касающемуся собственно меня.
– Но ведь он глава нашего семейства.
– Для меня это ничего не значит.
– Он всегда был так великодушен ко всем вам.
– В этом я с вами не согласна. Он не был великодушен к нашей маме. Напротив, в отношении к ней он весьма суровый и скупой человек. Он отдает ей свой дом потому только, что ему непременно хочется, чтобы Дели перед светом и людьми казались респектабельными, и наша мать живет в этом доме, собственно, из-за нас. Будь моя воля, я бы завтра же оставила этот дом, а если не завтра, то сейчас же после свадьбы Лили. Я охотно и немедленно отправилась бы в Гествик и жила бы там, как живут Имсы.
– Мне кажется, Белл, вы неблагодарны.
– Нет, я не неблагодарна. Вы говорите, Бернард, чтобы я посоветовалась с дядей насчет моего замужества, но я скорее бы посоветовалась с вами, нежели с ним. Если бы вы позволили мне смотреть на вас как на брата, я бы не задумалась дать вам обещание не выходить замуж за человека, выбор которого вы бы не одобрили.
Такие отношения между ними ни под каким видом не согласовались с видами Бернарда. Не дальше как недели четыре или пять он думал, что лично сам он не слишком беспокоился об этом браке. Он говорил самому себе, что кузина ему нравилась, что весьма недурно было бы для него сделаться семьянином, что его дядя был рационален в своих желаниях и довольно щедр в своих предложениях и что поэтому ему следовало жениться. Ему и в голову не приходило, что кузина откажется от такого выгодного предложения, а тем более не мог он допустить мысли, что через этот отказ ему придется пострадать. Он, конечно, далеко не питал того чувства, которое обнаруживают влюбленные, высказывая, что они для любви своей готовы пожертвовать всем, что для них дорого в жизни. В то время, когда он, сидя подле Белл на мягкой траве подле живой изгороди, рассказывал ей повесть своей томной любви, ему казалось, что он вовсе ничего не приносил в жертву этой любви. Он вовсе не предвидел, что ему придется испытывать разочарование, досаду и горесть. Он полагал, что принятие его предложения доставит ему маленькое торжество, но никак не думал получить отказ и вместе с тем испытать уничижение. В этом настроении духа он приступил к исполнению своего плана и теперь увидел, к своему крайнему изумлению, что ответ этой девочки делает его совершенно несчастным. Он только выразил желание на приобретение известного предмета, и одно такое выражение возбуждало уже в нем желание непременно обладать этим предметом. В то время когда лошади их тихой рысью шли одна подле другой, когда за словами Белл, высказанными с полною искренностью, последовало молчание с той и другой стороны, Бернард сознавал, что в нем было гораздо более этого желания, чем он предполагал. В эту минуту он чувствовал себя несчастным, разочарованным, озабоченным, неуверенным в своем будущем, чувствовал себя ребенком, которому непременно хочется иметь игрушку, которая ему понравилась. Он сердился на себя, и в то же время на душе у него было и тяжело и грустно. Бернард пристально смотрел на Белл, когда она, молчаливая, спокойная и несколько грустная, сидела на своей маленькой лошадке, и сознавал в душе, что Белл была прекрасна, что она представляла собою именно тот предмет, которым ему хотелось бы обладать, если бы только обладание было возможно. В эту минуту Бернард чувствовал, что любил ее, и в то же время сердился на себя за такое чувство. И зачем ему подчиняться слабости, заглушающей рассудок и все другие чувства? Ведь любовь никогда не доставляла ему ни малейшего удовольствия. До настоящей поры он никогда не допускал этого чувства, но теперь принужден был допустить его, потому что оно становилось для него источником беспокойства и огорчения. Нам, впрочем, позволительно еще сомневаться в действительности любви Бернарда Деля к своей кузине. Не был ли он более влюблен в свое желание? Как бы то ни было, Бернард, против своей воли, произнес приговор над собою, что он влюблен, и сердился за это и на себя, и на целый свет.
– Белл, – сказал он, примкнув к ней на самое близкое расстояние. – Я бы желал, чтобы вы поняли, как я люблю вас.
В этих словах и в тоне голоса, которым они были высказаны, Белл действительно видела более любви, чем спекулятивных расчетов, обнаруживаемых до этой поры Бернардом.
– Но разве я не люблю вас? Разве я не предлагала быть для вас сестрой во всех отношениях?
– Это ничего не значит. Подобное предложение я считаю за насмешку надо мной. Белл, я не отстану от вас. Дело в том, что вы еще не знаете меня, не знаете, как вы бы должны были знать человека, прежде чем выберете его своим мужем. В этом отношении вы и Лили не похожи друг на друга. Вы очень осторожны, вы сомневаетесь в самих себе и, может статься, сомневаетесь в других. Я задумал это дело, я желаю и решился выполнить его и буду стараться, чтобы желание мое увенчалось успехом.
– Ах, Бернард, напрасно вы говорите это! Поверьте мне, если я говорю, что этому не бывать никогда.
– Нет, я не верю, я не хочу вам поверить. Я не позволю довести себя до отчаяния. Откровенно вам говорю, что не хочу вам верить. Я могу надеяться, надежды от меня никто не отнимет. Нет, Белл, я не оставлю вас… не оставлю до тех пор, пока не увижу вас женой другого человека.
При этих словах они въехали в ворота сквайра и отправились к конюшням, где по обыкновению слезали с лошадей.
Глава XIV ДЖОН ИМС ПРЕДПРИНИМАЕТ ПРОГУЛКУ
Джон Имс долго смотрел на удалявшуюся кавалькаду, и лишь только затих стук лошадиных копыт, отправился в одинокую прогулку. Само собою разумеется, расположение духа его далеко было неприятное. Он был крайне озабочен, думы, одна мрачнее другой, тяготили его душу в то время, как он удалялся от дома своей матери, уж не лучше ли отправиться ему в Австралию, на остров Ванкувера, на…? Я не буду называть мест, которые бедный молодой человек представлял себе крайними пределами дальних путешествий, которые, по всей вероятности, ему суждено было сделать. В тот самый день, перед самым приездом Делей, он получил от нежно любящей Амелии второе письмо, написанное вслед за первым. Почему он не прислал ей ответа? Здоров ли он? Не изменил ли ей? Нет, последнего предположения она не хотела допустить и оставалась при втором, именно, что он захворал. Если это правда, то она бросит все и прилетит повидаться. Ничто в мире не принудит ее оставаться вдали от постели своего нареченного. Если она не получит с первой же почтой ответа от своего неоцененного Джона, то немедленно, на экстренном поезде, отправится в Гествик. Таково было положение такого молодого человека, как Джон Имс! Что касается до Амелии Ропер, то можно сказать, что она принадлежала к числу тех молодых женщин, которые до последней возможности преследуют свою добычу. «Нет, мне надобно куда-нибудь уехать», – говорил про себя Джон Имс, проходя, с нахлобученной на глаза шляпой, по одной из глухих улиц Гествика.
Что скажет ему мать, когда услышит об Амелии Ропер? Что скажет, когда увидит ее?
Джонни направился к соседнему господскому дому, намереваясь уединенно побродить по лесу. От большой дороги через поле, в полумиле от домиков, мимо которых проезжали Дели, пролегала тропинка. Джон Имс вышел на эту тропинку, миновал господский дом и вскоре очутился в центре гествикских лесов. Он хорошо был знаком почти с каждым деревом, потому что с той поры, как ему было позволено одному делать прогулки, он часто бродил по этому лесу. Здесь, под тенью столетних дубов, он по целым часам мечтал о Лили, в те дни он мечтал о ней с наслаждением. Теперь же он мог только вспоминать о ней как о милом создании, которое покинуло его навсегда, и вместе с тем думать о той, которая, по его выбору, заступила место Лили.
Молодые люди, очень молодые люди, люди столь молодые, что представляется вопрос: достигли ли они или еще нет зрелого возраста? – всегда более расположены к задумчивости и мечтательности, когда бывают одни, нежели в присутствии других, хотя бы эти другие были их старшие. Мне кажется, что вместе с летами мы забываем, что это действительно так было с нами, и, забывая, не верим, что так бывает с нашими детьми. Мы постоянно говорим, что юность безрассудна. Не знаю, не будет ли вернее, если мы заменим это выражение другим и будем говорить, что юность рассудительна, благоразумна. Конечно, нет никакого сомнения, что размышления не сразу же производят благоразумие. Благоразумие, которое мы имеем в зрелые лета, не происходит ли скорее от прекращения наклонности поддаваться искушениям, или оно составляет результаты мысли и размышлений – это еще вопрос. Мужчины, вполне оперенные и имеющие какой-нибудь труд, бывают большею частью слишком заняты, чтобы предаваться думам, но молодые люди, на которых общественные дела не налегли еще всею своею тяжестью, имеют достаточно времени, чтобы думать, мечтать.
Таким образом и Джон Имс был рассудителен и благоразумен. Знавшие его коротко считали его за веселого, доброго, немного беспечного молодого человека, доступного искушениям, но еще более доступного хорошим впечатлениям; нельзя было предсказать ему больших успехов на пути жизни, но близкие его вполне могли надеяться, что он не наделает для них хлопот, а тем менее не опозорит своего имени. Несмотря на то, его нередко называли безрассудным, и, называя таким образом, конечно, поступали в отношении к нему несправедливо. Он любил размышлять, размышлял о свете, как он ему казался, размышлял о себе, как он сам казался свету, размышлял также о предметах за пределами света. Какова-то будет судьба его в настоящее время и впоследствии? Он навсегда лишился Лили Дель, а Амелия Ропер, как жернов, висела у него на шее. При таких обстоятельствах какая впереди ожидала его участь?
С своей стороны, мы можем сказать, что трудности на его пути не были еще очень велики. Что касается до Лили, ему не оставалось ни малейшей надежды, да и то сказать, его любовь к Лили была, может статься, не настоящая страсть, а просто одна сентиментальность. Большая часть молодых людей испытывали и испытывают подобное разочарование, они способны переносить его без малейшего вреда своей карьере или счастью. В последующей жизни воспоминание о такой любви должно служить для них скорее блаженством, нежели чувством томительной горести, испытавшему это разочарование представляется возможность к сознанию, что в те ранние дни в душе его было чувство, стыдиться которого он не имел ни малейшего повода. Относительно Лили Дель я нисколько не сожалею бедного Джона Имса. Обращаясь затем к Амелии Ропер, если бы Джонни имел хотя одну десятую долю опытности этой барышни или на четверть обладал ее наглостью, то, разумеется, он не знал бы ни малейшего затруднения! Что могла бы сделать ему Амелия, если бы он напрямик сказал ей, что жениться на ней не намерен? Если строго судить, так он вовсе не обещал на ней жениться. В отношении к ней он решительно ничем не был связан, даже по долгу чести. По долгу чести… к такой женщине, как Амелия Ропер! Впрочем, мужчины всегда бывают трусами перед женщинами, пока не сделаются тиранами, бывают чрезвычайно скромны и покорны, пока вдруг не ознакомятся с фактом, что гораздо приятнее быть жертвоприносителем, нежели жертвой. Впрочем, есть люди, которые никогда не выучивают этого последнего урока.
Хотя причина страха была ничтожная, но бедный Джон Имс находился в величайшей боязни. Различные мелочи, имевшие связь с его глубокой горестью, мелочи, о которых даже смешно упоминать, увеличивали затруднительное положение и делали в глазах Джонни выход из этого положения совершенно невозможным. Ему нельзя было возвратиться в Лондон, не заглянув в Буртон-Кресцент, потому собственно, что там было его платье и потому еще, что он должен был мистрис Ропер небольшую сумму денег, которой у него не оказалось бы в кармане немедленно по возвращении в Лондон. Поэтому он должен встретиться с Амелией, он знал, что у него недостанет настолько смелости, чтобы сказать ей прямо в лицо, что он вовсе не любит ее, хотя в одно время и вынужден был признаться в своей любви. Самое смелое его намерение состояло не более как только в том, чтоб написать письмо, в котором хотел решительно отказаться от нее, и навсегда удалиться из той части города, в которой находился Буртон-Кресцент. Но как поступить ему с платьем, с долгом? Ну что, если Амелия, не дождавшись письма, приедет в Гествик и заявит свои права? В состоянии ли он будет в присутствии матери объяснить, что Амелия не имела ни какого права на подобное заявление? Затруднения действительно совершенно ничтожные, но они были слишком тяжелы для бедного молодого клерка из управления сбора государственных доходов.
Читатели, пожалуй, заметят, что Джонни был чистый глупец и трус. В оправдание Джонни мы скажем, что он умел читать и понимать Шекспира. Он знал наизусть много, даже очень много стихотворений Байрона. Он был глубокий критик и писал в своем чересчур растянутом дневнике критические статьи. Он писал бегло и со смыслом, вообще, я должен сказать, что сослуживцы Джонни далеко не признавали его за бездарного человека. Он знал свое дело и исполнял его едва ли не лучше тех многих людей, которые в глазах модного света представлялись более способными и образованными. Что касается до трусости, то надобно сказать, что Джонни счел бы за величайшее блаженство в мире запереться в комнате с Кросби, получив позволение биться с ним до тех пор, пока один из них увидит себя вынужденным отказаться от своих притязаний на Лили Дель. Нет, Джонни Имс не был трус. Он никого не боялся в целом мире – страшно боялся только Амелии Ропер.
В грустном настроении духа бродил Джон Имс по заповедным лесам, окружавшим поместье лорда Дегеста. Почта отходила из Гествика в семь часов, и ему нужно было непременно решить, писать или не писать в тот день к Амелии Ропер. Нужно было также придумать, что написать. Он сознавал необходимость по крайней мере хоть что-нибудь ответить на письма. Не обещать ли жениться на ней лет через десять, через двенадцать? Не сказать ли ей, что он негодный человек, неспособный для любви, и со всею покорностью, даже с унижением умолять ее, чтобы она его извинила? Наконец, не написать ли к ее матери, сказав ей, что в Буртон-Кресценте жить ему больше нельзя, обещать ей уплатить долг при окончательном расчете и в заключение просить о доставлении его платья в управление сбора доходов? Или же не отправиться ли ему домой и смело рассказать все своей матери?
Как бы то ни было, Джонни решился писать, составляя в уме своем проект письма, он сел под старое дерево, стоявшее на том месте, где встречалось и пересекалось несколько лесных тропинок. Составленное здесь письмо было бы очень не дурно, если бы только он сейчас же написал его и отнес на почту. Каждое слово этого письма отличалось точностью, каждое выражение было ясно, определительно и вполне оправдывало его намерение. Он признавал себя виновным в том, что ввел в заблуждение свою корреспондентку и дал ей повод воображать, что она владеет его сердцем. Он не мог отдать своего сердца в ее распоряжение. Он был довольно легкомыслен, не написав ей на первое письмо, его удерживала боязнь огорчить ее, но теперь он считает себя обязанным по долгу совести и чести объявить ей истину. Объяснив все это, он прибавил, что не намерен возвращаться в Буртон-Кресцент, зная, что его присутствие там будет для него тяжело. Он всегда будет питать к ней глубокое уважение (о Джонни!), будет надеяться, что жизнь ее будет сопровождаться благополучием и счастьем. Таково было содержание письма, написанного под деревом в уме Джонни, но перевести это письмо на бумагу было делом, как знал и сам Джонни, величайшей трудности. Он повторил его, и заснул.
– Молодой человек! – раздалось в ушах его во время сна.
Сначала Джонни подумал, что голос этот ему приснился, но когда слова «молодой человек» были повторены, Джонни проснулся, приподнялся и увидел перед собой здоровенного джентльмена. С минуту он не знал, где находился, не мог понять, каким образом попал сюда, глядя на деревья, не мог припомнить, долго ли он пробыл в лесу. Он узнал джентльмена, хотя и не видел его более двух лет.
– Молодой человек, если вы хотите получить ревматизм, то вы выбрали самый лучший способ. Гм! Да это кажется молодой Имс, не правда ли?
– Да, милорд, – отвечал Джонни, глядя на румяное лицо графа.
– Я знал вашего отца, хороший был человек, только ему бы не следовало заниматься фермерством. Иные думают, что можно заниматься сельским хозяйством, не изучив этой науки, и, право, шибко ошибаются. Я могу держать ферму, потому что изучил сельское хозяйство. Как вы думаете, не лучше ли вам встать?
Джонни встал на ноги.
– Впрочем, если хотите, то можете лежать, сколько угодно, только в октябре, вы знаете…
– Извините, милорд, что я без позволения расположился на вашей земле, – сказал Имс. – Я шел по тропинке и…
– Ничего, сколько вам угодно. Если вы пойдете со мной в дом, то я дам вам что-нибудь закусить.
Джонни отклонил от себя это гостеприимное предложение, сказав, что уже поздно и что он должен воротиться домой к обеду.
– Пойдемте же вместе, – сказал граф. – Вы не найдете короче дороги, как мимо моего дома. Боже мой, боже мой! как хорошо я помню вашего отца. Он был умнее меня, несравненно умнее, но только ничего не смыслил в фермерстве, другой ребенок лучше его сумел бы отправить на рынок какую-нибудь домашнюю скотину. Кстати, говорят, вас определили в общественную службу, правда ли это?
– Правда, милорд.
– Весьма хорошее дело, прекрасное дело. Но зачем же вы спали в лесу? Ведь вы знаете, теперь не тепло, напротив, я нахожу, даже холодно.
И граф пристально посмотрел на Джонни, как бы решившись проникнуть в глубину его тайны.
– Я пошел прогуляться, кое о чем думал, присел под дерево и заснул.
– Вероятно, вы в отпуску?
– Так точно, милорд.
– Не случилось ли у вас чего-нибудь дурного? Вы кажетесь таким озабоченным. Ваш бедный отец часто бывал в затруднительном положении.
– Ведь я не занимаюсь фермерством, – отвечал Джонни, делая попытку улыбнуться.
– Ха-ха-ха!.. Правда, совершенная правда. И пожалуйста, никогда не занимайтесь, пока не научитесь, это все равно, не научась, приняться башмаки тачать, решительно все равно. Так у вас нет ничего дурного, а?
– Нет, милорд, по крайней мере, нет ничего особенного в этом роде.
– Ничего особенного! Я знаю очень хорошо, что молодые люди, живя в Лондоне, часто наживают себе хлопоты. Если вам понадобится что-нибудь… совет или что-нибудь в этом роде, приходите ко мне во всякое время, я очень хорошо знал вашего отца. А что, любите вы стрелять?
– Не стрелял в жизнь свою.
– И прекрасно делаете. Сказать вам правду, я не очень-то жалую молодых людей, которые берутся за ружье, когда нечего стрелять. Да вот что, хорошо что вспомнил, я пришлю вашей матери немного дичи. (Здесь кстати сказать, что мистрис Имс довольно часто получала дичь из гествикского господского дома). – Холодный фазан за завтраком – вещь отличная. Фазан за обедом – дрянь, настоящая дрянь. Вот мы и у дома. Не хотите ли зайти и выпить рюмку вина?
Джонни отказался и от этого предложения, что понравилось графу более, чем если бы Джонни принял его. Не потому, что лорд был негостеприимен или неискренен в своем предложении, но потому, что ему не хотелось, чтобы такой господин, как Джон Имс, слишком скоро воспользовался предлагаемым знакомством. Он чувствовал, что Имс оказывал его особе некоторый страх и полную почтительность, и вследствие этого он нравился ему еще более. Да, Джон Имс еще более понравился за это, а надо сказать, что граф Дегест был такой человек, который никогда не забывал, что ему нравилось.
– Если не хотите зайти, то до свидания, – сказал он, протянув Имсу руку.
– Добрый вечер, милорд, – сказал Джонни.
– Помните же, что получить ревматизм – чертовски неприятная вещь. Будь на вашем месте, я бы ни за что не лег спать под деревом, тем более теперь, в октябре. Впрочем, вы во всякое время можете гулять в моем поместье, где вам угодно.
– Благодарю вас, милорд.
– А если вздумаете охотиться, но, я знаю, вы не вздумаете, если попадете в затруднительное положение и вам понадобится мой совет или что-нибудь в этом роде, напишите мне. Я очень хорошо знал вашего отца.
И они расстались, Имс пошел по дороге в Гествик.
По какой-то причине, которой Джонни не мог объяснить, он после свидания с графом чувствовал себя гораздо лучше. В этом тучном, добродушном, чувствительном человеке было что-то особенное, которое не только рассеяло в нем печаль, но даже располагало к веселости.
– Фазан за обедом – дрянь, настоящая дрянь, – повторял он про себя по дороге в Гествик.
Это были первые слова, которые он произнес перед матерью по возвращении домой.
– Я бы желала почаще иметь такую дрянь, – сказала мистрис Имс.
– И вы получите ее не позже завтрашнего дня.
И Джонни со всею подробностью рассказал свою встречу с милордом.
– Что же, граф, во всяком случае, говорил совершенную правду, что теперь вредно ложиться на землю; удивляюсь, как ты безрассуден. Он говорил тоже совершенную правду насчет твоего бедного отца. Однако, поди перемени сапоги, а мы между тем приготовимся к обеду.
К величайшей досаде матери, Джонни Имс, прежде чем сесть за обед, написал письмо к Амелии и сам отнес его на почту. Письмо это, однако же, не заключало в себе тех положительных и сильных выражений, которые сами собою слагались в уме его во время прогулки по лесам лорда Дегеста. Это была простая записка, в которой проглядывала трусость.
«Милая Амелия (так начиналось письмо). Я получил оба ваши письма, и не отвечал на первое из них потому, что чувствовал некоторое затруднение выразить вам то, что было на моей душе. Теперь же я нахожу за лучшее преодолеть это затруднение до возвращения в Лондон. Я буду там дней через десять. Все это время я был совершенно здоров, здоров и теперь, и очень благодарен вам за ваши осведомления. Я знаю, что письмо это покажется вам холодным, но когда расскажу вам все, то вы согласитесь со мной, что лучше этого не может быть ничего. Если мы вступим в брак, то будем несчастны, потому что не имеем никаких средств к жизни. Если я сказал вам что-нибудь с целью обмануть вас, то от всей души прошу у вас прощения, впрочем, может статься, будет лучше оставить этот предмет до нашей встречи в Лондоне.
Остаюсь ваш искреннейший друг и, могу сказать, обожатель (о, Джонни, Джонни!)
Джон Имс».
Глава XV ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
Последние дни бывают самыми несносными днями, а последние минуты еще несноснее. Эти дни и эти минуты не потому бывают несносны, что с окончанием их должна начаться разлука, но потому, что они сопровождаются чувством тягостного ожидания чего-то особенного, всегда ими доставляемого. Судорожные периоды удовольствия, любви и даже занятия редко оканчиваются неудачей или разочарованием, если только бывают задуманы заранее. Когда наступают последние дни, то надо позволить им прийти и уйти, не обращая на них особенного внимания, даже не вспоминая о них. Что же касается до последних минут, то таких минут не должно существовать. Пусть они кончаются даже прежде, чем будет признано их присутствие.
Лили Дель не выучила этих уроков жизненного опыта, она все думала и ожидала, что сладкая чаша, из которой она пила, будет становиться все слаще и слаще, пока она будет подносить ее к своим губам. Каким образом осадок в этой чаше смешался с последними каплями, мы уже видели, и в тот же самый день, в понедельник вечером, в чаше все еще оставалась горечь, потому что Кросби во время вечерней прогулки в саду нашел другие предметы, по которым считал необходимым дать Лили несколько назидательных замечаний – замечаний, отзывавшихся настоящей лекцией. Девушке, действительно влюбленной, как это, конечно, было с Лили Дель, приятно слушать замечания и советы относительно будущей ее жизни от человека, которому она предана всею душою, но, мне кажется, ей приятно слушать, когда они будут коротки, когда советы в них будут выражены в виде намеков, а не длинных лекций. Кросби, как человек с тактом, как человек, близко знакомый со светом и уже много лет обращавшийся в кругу женщин, без всякого сомнения, понимал это не хуже нашего. Но ему почему-то вздумалось задаться идеей, что он обижен, что он отдавал очень много, не получая ничего взамен, и что поэтому имел право позволять себе вольности, которых другой на его месте не позволил бы себе ни под каким видом. Читатель, вероятно, скажет, что все это с его стороны весьма неблагородно. Да, действительно, весьма неблагородно. Не знаю впрочем, говорил ли я, что от него можно ожидать благородства. Он имел несколько понятий о правде и несправедливости, руководствуясь которыми надеялся не сбиться совсем с прямого пути, но его прошедшая жизнь была такого рода, что ему трудно было бы не сделаться эгоистом. Он не имел благородства, а тем более великодушия, Лили чувствовала это, хотя не признавалась в этом даже самой себе. Она была весьма откровенна с ним, выражая в такой откровенности всю глубину своей любви к нему, уверяя его, что он для нее был теперь все на свете, что жизнь ее без его любви была бы невозможна. Кросби некоторым образом воспользовался этими искренними признаниями и начал обходиться с ней как с существом, вполне находившимся в его власти, как это и было на самом деле.
В тот вечер он не вспоминал больше о Джонни Имсе, но много говорил о неизбежных трудностях для человека, который намерен сделаться семьянином и жить в Лондоне, которого все средства к жизни ограничиваются одним только его скудным жалованьем. В нескольких словах он дал ей понять, что, если бы ее родственники могли уделить для нее две или три тысячи фунтов стерлингов, сумма гораздо меньше той, на которую он рассчитывал, делая предложение, эти тяжелые трудности были бы устранены, при этом, конечно, он намекнул ей, что свет назвал бы его весьма неблагоразумным в случае его женитьбы на девушке, ничего не имевшей. В то время, когда он высказывал эти вещи, причем Лили соблюдала молчание, ему пришла мысль, что можно поговорить с ней откровенно о своей прошедшей жизни, гораздо откровеннее, чем в то время, когда он боялся, что чрез такую откровенность мог бы получить отказ. Теперь он не боялся этого. Увы! возможно ли, скажите, допустить, что у него была подобная надежда!
Кросби рассказал, что его прошедшая жизнь была расточительна, что хотя он не имел долгов, но проживал все, что получал, и усвоил такие привычки, сопряженные с большими издержками, что почти не представлялось возможности оставить их в короткое время. Потом он говорил о своих затруднительных обстоятельствах, намереваясь как можно полнее объяснить их свойство, но не решился на это, когда увидел, что все объяснения его для Лили будут совершенно непонятны. Нет, Кросби был неблагородный человек, весьма неблагородный. А между тем в течение всего этого времени он воображал, что действует благородно, руководствуясь своими правилами.
«Лучше всего быть откровенным с ней», – говорил он про себя. И потом десятки раз повторял себе, что, делая предложение, он надеялся и имел право надеяться, что она выйдет за него не без денег. При этих обстоятельствах он делал для Лили все, что только мог сделать лучшего, – честно предложил ей свое сердце, с полною готовностью жениться на ней в самый неотдаленный день, который она признает возможным назначить. Если бы он был осторожнее, то не впал бы в такую жестокую ошибку, но, конечно, Лили не могла сердиться на него за его неблагоразумие. Он решился не отступать от своего обещания жениться на ней, хотя, чем больше думал об этом, тем сильнее сознавал, что виды его в будущем должны совершенно рушиться, что он сам на недосягаемое пространство отстранял от себя все те привлекательные предметы, которые непременно хотел приобрести. Продолжая говорить с Лили, он отдавал особенную справедливость своему великодушию и чувствовал, что только исполнял свой долг, представив ей все затруднения, лежавшие на пути к их браку.
Сначала Лили сказала несколько слов, намереваясь выразить ими уверение, что она будет самая экономная жена, но вскоре воздержалась от дальнейших уверений и обещаний. Благодаря своим острым понятиям, она видела, что затруднения, которых Кросби так боялся, должны быть устранены до женитьбы, после же нее нельзя ожидать каких-нибудь других затруднений, которые бы могли тяготить его.
– Я не в состоянии буду равнодушно смотреть на простенькое и дешевенькое хозяйство, – говорил Кросби. – Вот это-то и составляет главное затруднение, которого я хотел бы избегнуть, собственно ради вас.
Лили обещала терпеливо выжидать время, которое он назначит для свадьбы.
– Хотя бы семь лет, – говорила она, взглянув в лицо Кросби и стараясь заметить на нем какой-нибудь признак одобрения.
– Это пустяки, – сказал Кросби, – долговечность патриархов миновала. Я полагаю, нам придется подождать года два. Даже и это слишком отдаленный срок, можно умереть от скуки.
В тоне голоса Кросби было что-то такое, болезненно подействовавшее на чувства Лили: на минуту она казалась совершенно убитою.
В то время как они прощались на конце мостика, перекинутого через овраг из одного сада в другой, Кросби обнял ее и хотел поцеловать, как это часто делалось на этом самом месте. Это обратилось даже в обыкновение при вечерних прощаниях, и закрытый уголок между кустарниками был невыразимо дорог для Лили. При настоящем случае она сделала усилие уклониться от его нежности. Она слегка отвернулась от него, но этого было достаточно, чтобы понять ее нерасположение.
– Вы на меня сердитесь? – спросил Кросби.
– О, нет, Адольф, могу ли я сердиться на вас?
И Лили снова повернулась к нему и позволила поцеловать себя, не дожидаясь его просьбы.
«Во всяком случае, он не должен думать, что я не добра к нему. При том же теперь все равно», – говорила она про себя, медленно переходя в темноте через зеленую лужайку к стекольчатым дверям гостиной своей матери.
– Ну что, моя милая, – сказала мистрис Дель, сидевшая в гостиной одна, – веселы ли бороды в Большом доме?
Это сказано было в шутку, потому что ни Кросби, ни Бернард Дель за туалетом своим не прибегали к бритве.
– Не очень веселы, мама. И, мне кажется, тут виновата одна я – у меня разболелась голова. Мама, я думаю сейчас же лечь в постель.
– Душа моя, ты нездорова?
– Ничего, мама. Мы так много ездили верхом… Адольф уезжает… нам так много нужно было переговорить. Завтра будет последний день… мне только и придется видеться с ним завтра поутру, поэтому, чтобы вполне располагать свежими силами, я хочу теперь же лечь спать.
С этими словами Лили взяла свечу и удалилась.
Когда вошла Белл, Лили еще не заснула и просила сестру свою не тревожить ее:
– Пожалуйста, Белл, не говори со мной. Я хочу успокоиться, и притом же я чувствую, что если разговорюсь, то буду говорить, как ребенок. Право, у меня столько дум в голове, что не знаю, как и справиться с ними.
Лили старалась, и не совсем безуспешно, говорить веселым тоном, старалась показать вид, что ласки, которыми окружали ее, имели свою особенную прелесть. Белл поцеловала сестру и предоставила ей полную свободу углубиться в свои думы.
А дум этих было много, так много, что в прихожей не раз били часы, прежде чем они приняли определенную форму. Приведя их в такое состояние, Лили заснула. Но чего стоило привести их в такое состояние? Слезы смачивали ее подушку, сердце ее горело, почти разрывалось на части, сколько тревожных сомнений волновало его, сколько вопросов далеко неопределительных задавала она себе, – что именно следовало ей делать в таком положении, и что именно предстояло ей перенести, чтобы сделать это? Наконец, вопросы эти были решены, и Лили заснула.
Во время прощания сделано было условие, что Кросби придет в Малый дом на следующий день после завтрака и пробудет там до наступления минуты своего отъезда. Лили решилась изменить это условие и вследствие такой решимости немедленно после завтрака надела шляпку и отправилась на мостик, чтобы встретить там жениха. Кросби скоро явился с своим другом Делем, и Лили сейчас же рассказала ему свое намерение.
– Я хочу поговорить с вами, Адольф, прежде, чем вы встретитесь с мама, поэтому пойдемте в поле.
– Прекрасно, – сказал Адольф.
– Бернард может кончить свою сигару на нашей поляне, к нему присоединятся там мама и Белл.
– Прекрасно, – сказал Бернард.
Они расстались, Кросби отправился с Лили в то самое поле, где они впервые узнали друг друга в сенокосные дни.
Отдаляясь от дома, Лили не начинала разговора и только отвечала на некоторые вопросы Адольфа, не обращая даже полного внимания на эти вопросы. Когда, по мнению Лили, они дошли до удобного места, она начала очень отрывисто:
– Адольф, я хочу сказать вам несколько слов, которые вы должны выслушать внимательно.
Адольф посмотрел на нее и тотчас узнал, что она приготовилась сказать что-то серьезное.
– Это последний день, в который я могу поговорить, – продолжала она. – И я очень рада, что мне представляется случай не дать пройти этому дню, не поговорив с вами. Того, что я хочу сказать теперь, я не сумела бы выразить в письме.
– Что же это такое, Лили?
– Не знаю, могу ли я даже и теперь объясниться как следует, впрочем, я надеюсь, вы не будете взыскательны. Адольф, если вы желаете, чтобы все было кончено между нами, я согласна.
– Лили!
– Я говорю вам положительно. Если желаете, я согласна, делая это предложение, будьте уверены, что я никогда не стану обвинять вас, если вы только верите моему слову.
– Лили, верно, я наскучил вам!
– Нет. Вы мне никогда не наскучите, как никогда не наскучит мне любить вас. Я не хотела высказать этого теперь, но я только смело отвечаю на ваш вопрос. Вы мне наскучили! да какой девушке может наскучить обожаемый ею человек? Я скорее соглашусь умереть в борьбе с своей любовью, чем быть причиною вашей гибели. Это будет лучше, во всех отношениях лучше.
– Кажется, я ни слова не говорил о своей гибели.
– Выслушайте меня. Я не умру, если вы оставите меня, сердце мое не сокрушится совсем. Правда, я не в состоянии буду полюбить что-нибудь на свете так, как я любила вас. У меня есть Бог и Спаситель, и этого будет для меня довольно. Я обращусь к ним с полною признательностью, если они признают за благо, чтобы вы меня оставили. Я даже обращалась к ним, и…
В этот момент речь ее прервалась. Душевное волнение ее было так сильно, что слова и голос изменили ей. Стараясь скрыть от Кросби борьбу с своими чувствами, Лили отвернулась от него и пошла по траве.
Само собою разумеется, Кросби последовал за ней, но не так быстро, и этим предоставил Лили время поправиться.
– Я говорю вам правду, – сказала Лили. – У меня достаточно твердости, чтобы высказать вам это. Хотя я предалась вам, как ваша жена, но, поверьте, я могу перенести разлуку с вами теперь же, в настоящую минуту. Милый Адольф, хотя звук этих слов и покажется вам бездушным, но я все-таки скажу, милый Адольф, верьте мне, я скорее соглашусь навсегда разлучиться с вами, чем льнуть к вам, как тяжелое бремя, которое должно утянуть вас в глубину и утопить в хлопотах и заботах. Да, я соглашаюсь на это вполне. Конечно, разлучась с вами, я потеряю то, что было для меня так дорого. Но в мире есть более других предметов, гораздо более. Я постараюсь быть счастливой, да, милый Адольф, я буду счастлива. В этом отношении вы не бойтесь за меня.
– Но, Лили, почему все это говорится мне здесь, сегодня?
– Потому что я считаю это своим долгом. Теперь я поняла ваше положение, только теперь. До вчерашнего дня мне не приходило этого в голову. Когда вы делали мне предложение, вы думали что я… что у меня есть состояние.
– Лили, теперь не следует и говорить об этом.
– Но ведь вы думали. Теперь я все вижу. Конечно, было бы лучше, если б можно сказать, что я ошибаюсь. Тут было недоразумение, и мы оба сделались страдальцами. Но зачем же допускать, чтобы страдания эти увеличились. Милый Адольф, с этой минуты, вы свободны. Ни я, ни даже сердце мое не будем обвинять вас за принятие этой свободы.
– Неужели вы страшитесь бедности? – спросил Кросби.
– Я страшусь ее за вас. Вы и я жили различно. Вы привыкли к роскоши, к удовольствиям, о которых я не имею понятия. Повторяю еще раз, что я могу перенести разлуку с вами, но не соглашусь ни за что в мире сделаться источником вашего несчастья. Да, я перенесу, и никто не осмелится сказать о вас в моем присутствии что-нибудь дурное. Я привела вас сюда с тем, чтобы вы произнесли слово разлуки, даже более, посоветовать вам, чтобы вы произнесли его.
Кросби молчал, держа Лили за руку. Лили смотрела ему прямо в лицо, между тем как глаза Кросби устремлены были в облака. В эти тяжелые минуты молчания душа его переносила тяжелую пытку. Ну что, если принять это предложение? Найдутся люди, которые будут говорить о нем неприятные вещи, будут осуждать его, но разве не говорили подобных вещей и не осуждали многих других без всякого для них вреда? Не лучше ли будет для них обоих, если они разлучатся? Лили погорюет, потом забудет свое горе и снова полюбит, как это бывало и с другими девушками, а что касается до него, то он избегнет гибели, которая угрожала ему и на которую он в течение последней недели смотрел как на неизбежную участь. Это была гибель, совершенная гибель. Правда, он любил ее, он признавался в этом самому себе. Но такой ли он человек, чтобы для любви бросить свет? Бывали и такие люди, но принадлежит ли он к числу таких людей? Мог ли он быть счастлив, в каком-нибудь маленьком домике около Новой Дороги, с полудюжиной детей и этими несносными напоминаниями об уплате счетов за припасы для домашнего хозяйства? Из всех живущих мужчин он ведь не последний позволил себе попасть в такую западню? Все это промелькнуло в уме Кросби в то время, как он смотрел в облака, стараясь принять на себя вид величественный и благородный.
– Отвечайте же, Адольф, скажите, что это так должно быть.
Сердце изменило ему, у него не достало присутствия духа выпутать себя из затруднительного положения.
– Если я вполне понимаю вас, Лили, то все это происходит не от недостатка любви с вашей стороны?
– Недостатка любви с моей стороны! Вам бы не должно говорить мне это.
– В таком случае я не соглашусь ни на какую разлуку. Нет, Лили, каковы бы ни были наши заботы и лишения, мы должны быть связаны вместе, неразрывно связаны.
– В самом деле? – спросила Лили, и голос ее дрожал, рука трепетала.
– И тем неразрывнее, чтобы не допустить и мысли о всегдашней разлуке. Нет, Лили, я удерживаю за собою право высказывать вам все мои заботы, но я не оставлю вас.
– Но, Адольф…
– Адольф ничего больше не имеет сказать по этому предмету. Он пользуется правом, которое считает своим собственным, и на основании этого права хочет владеть навсегда выигранным призом.
Лили прильнула к нему.
– О Адольф! любовь моя! – сказала она. – Я не знаю, как мне высказать это чувство. О вас я только и думаю, о вас, о вас!
– Я это знаю, но вы немного не поняли меня.
– Неужели? Так выслушайте же меня, друг моей души, моя любовь, мой муж, мой господин. Если я не могу быть для вас сейчас же Руфью и неотступно следовать за вами, то все мои мысли и помышления будут мыслями и помышлениями Руфи: если что-нибудь, кроме смерти, должно разлучить меня с тобою, то пусть Бог пошлет ее мне!
С этими словами Лили упала на грудь Кросби и заплакала.
Кросби все еще с трудом понимал глубину ее характера. Впрочем, он был не довольно проницателен, чтобы понять его вполне. Но все же он благоговел перед беспредельностью ее любви и приходил в восторг от своей решимости. В течение нескольких часов он думал только об одном, что бросит свет и посвятит себя этой женщине как единственному другу и утешителю на пути жизни и крепкому щиту от всех напастей!
– Лили, ты моя навсегда!
– Навсегда! Навеки! – сказала Лили, и взглянув на него, старалась рассмеяться. – Вы, пожалуй, примете меня за безумную, но я так счастлива. Теперь я не беспокоюсь о вашем отъезде нисколько. Вы можете уезжать теперь же, сию минуту, если хотите. – И она отняла от него свою руку. – Теперь я чувствую себя совсем другою, чем в эти несколько последних дней. Я так рада, что вы объяснились со мной. Само собой разумеется, я должна переносить все вместе с вами. Меня теперь ничто не может тревожить. Не поможет ли нам, если я займусь работой и сделаю какие-нибудь вещи?
– Например, дюжину сорочек для меня?
– Отчего же? Я сошью.
– Может быть, со временем и придется сшить.
– Ах, дай-то боже! – Сказав это, Лили снова сделалась серьезною, на глазах ее снова выступили слезы. – Дай-то боже, быть полезной для вас, трудиться для вас, делать что-нибудь для вас, что бы могло иметь в себе разумное, существенное значение выгоды. Я хочу находиться при вас и в то же время служить вам, делать для вас все решительно. Иногда мне думается, что жена самого бедного человека – счастливейшее создание, потому что она делает все, исполняет все работы.
– И вам придется делать все в самом непродолжительном времени, – сказал Кросби.
После этого они с особенным наслаждением провели в поле утренние часы, и, когда появились в гостиной Малого дома, мистрис Дель и Белл изумлены были необыкновенной веселостью Лили. К ней, по-видимому, возвратились все ее прежние привычки и манеры, все шутки, которые она употребляла, когда Кросби впервые был очарован ее красотой.
– В доме графини, Адольф, вы так загордитесь, что совсем забудете об Оллингтоне.
– Разумеется, – сказал Кросби.
– Бумага, на которой вы вздумаете писать письма, будет вся в коронках, впрочем, вздумаете ли? Это еще вопрос. Может статься, напишете Бернарду, собственно для того, чтоб показать, что вы находитесь в замке.
– Ты, Лили, верно не заслуживаешь того, чтобы мистер Кросби написал к тебе, – сказала мистрис Дель.
– В настоящее время я не ожидаю такой милости. Адольф разве тогда напишет мне, когда воротится в Лондон и когда увидит, что в должности ему нечего делать. Мне бы хотелось видеть, как обойдется с вами леди Джулия. Когда мы были у нее, она смотрела на вас как на зверя, не правда ли, Белл?
– Для леди Джулии, я думаю, многие кажутся зверями, – отвечала Белл.
– Мне кажется, что леди Джулия весьма добрая женщина, – сказала мистрис Дель, – и мне не хотелось бы, чтобы ее осуждали.
– Особливо в присутствии Бернарда, который считается ее любимцем-племянником, – сказала Лили. – Я полагаю, что и Адольф сделается ее любимцем, когда она проведет с ним неделю в замке Курси. Постарайтесь сделать это, Адольф, и отбейте от нее Бернарда.
Из всего этого мистрис Дель заключала, что какая-то забота, тяжелым камнем лежавшая на сердце Лили, была теперь облегчена, если только не совсем устранена. Она не расспрашивала свою дочь, но замечала, что в течение нескольких минувших дней Лили была озабочена и что забота эта проистекала из ее помолвки. Она не расспрашивала, но, без всякого сомнения, ей сообщили о средствах мистера Кросби, и понимала, что этих средств не было бы достаточно для всех нужд супружеской жизни. Трудно было догадаться, чем именно была озабочена Лили, но теперь нельзя было не заметить, что между ними произошел разговор, который устранил эту заботу.
После завтрака молодые люди катались верхом по соседним полям, и время до обеда прошло очень приятно. Это был последний день, но Лили решилась не грустить. Она сказала, что Кросби может ехать теперь же и что отъезд его не огорчит ее. Она знала, что следующее утро будет пусто для нее, но старалась выполнить свое обещание и успевала в этом. Они все обедали в Большом доме, даже мистрис Дель при этом случае присутствовала за столом сквайра. Вечером, когда воротились из сада домой, Кросби почти все время разговаривал с мистрис Дель, между тем как Лили сидела в некотором отдалении, с напряжением вслушиваясь в разговоры, она была невыразимо счастлива от одной мысли, что ее мать и ее жених поймут наконец друг друга. Надобно сказать, что Кросби в это время вполне решился преодолеть затруднения, о которых так много думал, и назначить по возможности самый ранний день для свадьбы. Торжественность последней встречи в поле свежо еще оставалась в его памяти и сообщала его чувствам благородство и прямодушие, которых вообще у него не доставало. О, если бы эти чувства сохранились навсегда! Кросби говорил с мистрис Дель о ее дочери, о своих будущих видах, – говорил таким тоном, какого он не употребил бы, если б в это время не был действительно всею душою предан Лили. Никогда еще не говорил он так откровенно с матерью Лили, и никогда еще мистрис Дель не оказывала ему так много материнской любви. Он извинялся в необходимости отсрочки свадьбы, говоря, что не мог бы видеть свою молодую жену без комфорта в ее доме, и что теперь в особенности боялся наделать долгов. Мистрис Дель, конечно, не нравилась отсрочка, как это не нравится вообще всем матерям, но не могла не согласиться с таким убедительным доводом.
– Лили еще так молода, – сказала мать, – что годик можно и подождать.
– Семь лет, мама, – прошептала Лили на ухо матери, подбежав к ней с своего места. – Мне тогда только что исполнится двадцать шесть, а ведь это еще не старые лета.
Таким образом вечер прошел очень приятно.
– Да благословит вас Бог, Адольф! – сказала мистрис Дель, прощаясь с ним у порога своего дома. В первый раз еще она назвала Кросби по имени. – Надеюсь, вы понимаете, как много мы доверяем вам.
– Понимаю, понимаю, – сказал он, в последний раз пожав ей руку.
Возвращаясь домой, он снова дал себе клятву быть верным этим женщинам, и дочери, и матери, ему еще очень живо представлялась торжественность утренней встречи.
Ему предстояло на другое утро двинуться в путь до восьми часов, Бернард вызвался свезти его на гествикскую станцию железной дороги. В семь часов подан был завтрак, и в то самое время, когда молодые люди спустились вниз, в столовую вошла Лили в шляпке и шали:
– Я вам сказала, что приду разлить чай.
За завтраком никто не разговаривал, да и то сказать, в последние минуты расставания трудно найти предмет для разговора. К тому же тут сидел Бернард, оправдывая пословицу, что два лица могут составлять общество, а три – никогда. Мне кажется, что Лили поступила не совсем благоразумно, впрочем, она и слышать не хотела, когда возлюбленный ее просил ее не беспокоиться приходить поутру, она ни под каким видом не хотела позволить ему уехать, не повидавшись с ним. Беспокоиться! Да она просидела бы всю ночь, чтобы только взглянуть поутру на верхушку его шляпы.
Бернард, пробормотав что-то насчет лошади, удалился.
– Я хочу поговорить с вами, и для этого мне нужна только одна минуточка, – сказала Лили, подбежав к Адольфу. – Я думала всю ночь о том, что намерена сказать. Думается всегда так легко, а высказывается так тяжело.
– Милая Лили, я понимаю все.
– Вы должны понять еще и то, что я никогда не буду больше недоверчива к вам. Я уже больше никогда не попрошу вас оставить меня, никогда больше не скажу, что могу быть счастлива без вас. Я не могу жить без вас, то есть без полного убеждения, что вы принадлежите мне. Но никогда и не будет во мне нетерпения. Ради бога, Адольф, верьте мне! Ничто не может наставить меня иметь и к вам недоверие.
– Дорогая Лили, я постараюсь не подать ни малейшего к тому повода.
– Знаю, знаю, но мне особенно хотелось сказать вам это. Вы будете писать ко мне, и очень скоро?
– Как только приеду.
– И так часто, как только можно. Впрочем я не хочу надоедать вам, но ваши письма будут доставлять мне такое счастье! Я буду гордиться ими. Сама я буду не много писать – боюсь, что наскучу.
– Никогда этого не будет.
– Так я не наскучу? Только вы должны написать первым. Ах, если бы вы могли понять, как буду наслаждаться я вашими письмами! Теперь прощайте! Экипаж подъехал. Да благословит вас Бог, мой неоцененный Адольф, мой – навсегда!
И Лили отдала себя в его объятия, как уже отдала себя его сердцу.
Она стояла в дверях, когда молодые люди садились в кабриолет, и, когда последний прокатился сквозь ворота, она поспешила на террасу, откуда могла видеть глубину аллеи на несколько ярдов дальше. С террасы Лили пробежала к воротам, потом на кладбище, откуда виднелись одни только шляпы молодых людей, пока кабриолет не повернул на большую дорогу позади пасторского дома. Устремив взоры к тому месту, откуда слышался стук колес, Лили оставалась на кладбище, пока не замолкнул и этот стук. Тихо, уныло пошла она по кладбищу к воротам, которые выходили на большую дорогу, проходившую мимо лицевых дверей Малого дома.
– Так и прошиб бы ему голову, – говорил Хопкинс, садовник, когда увидел отъезжавший кабриолет и Лили, бежавшую проводить его, пока не скроется из виду тот, кого он увозил. – И не задумался бы сделать это, право бы, не задумался, – прибавил Хопкинс в своем монологе.
В Большом доме вообще все полагали, что мисс Лили была фавориткой Хопкинса, хотя Хопкинс свое расположение обнаруживал грубостями, чаще повторявшимися перед ней, чем перед ее сестрой.
Лили, как было видно по всему, намеревалась воротиться домой через уличную дверь, но она переменила свое намерение прежде, чем дошла до дому, и тихо пошла обратно через кладбище, через ворота Большого дома, через сад, расположенный позади этих ворох, пока не перешла через мостик, разделявший сады Большого и Малого оллингтонских домов. На этом мостике она остановилась отдохнуть, как часто бывало отдыхала на нем, и привести себе на память все, все более или менее замечательное для нее с того июльского дня, в который она впервые встретилась с Кросби. Ни на каком другом месте, как только на этом, Кросби так часто не говорил ей о своей любви, и нигде больше, как только здесь, она не клялась ему, что будет навсегда его почтительной и любящей женой.
– И с помощью Бога я буду такой женой, – сказала она про себя, возвращаясь к дому твердыми шагами.
– Он уехал, мама, – сказала Лили при входе в столовую. – Теперь у нас опять начнутся будничные дни, – эти шесть недель были для меня настоящим праздником.
Глава XVI НА ПУТИ В ЗАМОК КУРСИ МИСТЕР КРОСБИ ВСТРЕЧАЕТ СТАРОГО СВЯЩЕННИКА
Кросби и Бернард Дель на первых двух милях своего пути к станции железной дороги сидели большею частью молча. Они не видели Лили в то время, как она, прибежав на кладбище, стояла там и провожала их взорами, исполненными любви. Впрочем, как тот, так и другой находились под влиянием ее беспредельной преданности, и оба сознавали, что было бы некстати сейчас же начать какой-нибудь обыкновенный разговор. Кроме того, нельзя не сказать, что Кросби был сильно взволнован разлукой с такой девушкой, как Лили Дель, с которой жил в самых дружеских отношениях в течение шести недель и которую любил всем своим сердцем, если только допустить, что он имел сердце для подобных целей. В тревожных думах своих насчет женитьбы он никогда не позволял себе порицать что-нибудь в Лили. Он не приучил себя к мысли, что Лили была совсем не похожа на его идеал и что такое несходство могло бы оправдать его, если бы он вздумал взять назад слово жениться на ней. Нет, он вовсе не имел намерения прибегнуть к той уловке, столь обыкновенной между мужчинами, желающими освободиться от уз, которыми они позволили связать себя. Лили пленяла его взоры, все его чувства. Он испытывал слишком большое наслаждение находиться вместе с ней, слушать ее признания в своей любви, чтобы допустить идею, что она ему наскучила. Клубная жизнь еще не избаловала его до такой степени, чтобы не находить истинного удовольствия во всех безыскусственных непринужденных манерах Лили, в нежных ласках, в добром, чисто женском юморе. Нет, нет, Лили ни под каким видом ему не наскучила. Удовольствие признаваться в любви своей к Лили Дель во время прогулок по зеленым полям было лучше всякого из его лондонских удовольствий, его смущали только последствия этой любви: дети с их принадлежностями, скучные вечера перед тусклым огнем, грусть разочарованной женщины – вот что более всего его страшило. Необходимость заставит его беречь свое платье, потому что заказ нового фрака будет служить для него тяжелым расходом. Ему более не представится возможности проводить время между графинями и их дочерями, потому что жена его, без всякого сомнения, не согласится заводить с ними знакомство. Ему придется отказаться от всех выигранных побед. Он думал об этом даже в то время, когда кабриолет огибал угол близ пасторского дома и когда Лили с чувством искренней любви провожала его своими взорами, но в то же время он думал, что для него, быть может, готовится другая победа, что ему, быть может, необходимо полюбить тот скучный камин, даже если тут будут ребятишки, а против него женщина, углубленная в заботы об этих ребятишках. Он прилагал к этой борьбе все свои силы, торжественное настроение духа, которое сообщила ему Лили, не покидало его.
– Надеюсь, что ты остался доволен своим визитом? – спросил Бернард, нарушив молчание.
– Остался ли доволен? Разумеется остался.
– Ты говоришь как будто нехотя, конечно, вежливость ко мне больше этого не требует. Притом же я знаю, что ты до некоторой степени обманулся в своих ожиданиях.
– Да, правда, я обманулся в своих ожиданиях насчет денег. Отрицать это было бы бесполезно.
– В настоящую минуту я не намекнул бы на это, если бы не хотел узнать, не сердишься ли ты на меня.
– Я не сержусь ни на тебя, ни на кого другого, никого не виню в этом, кроме самого себя.
– Ты хочешь сказать, что каешься в своем поступке?
– Нет, и не думаю. Я слишком крепко привязался к девушке, которую мы сейчас оставили, чтобы чувствовать раскаяние в нашей помолвке. Конечно, если бы я лучше сошелся с твоим дядей, то и дело это устроилось бы гораздо лучше.
– Сомневаюсь. Я знаю, что лучшего ничего бы не было, и могу тебя уверить, что напрасно ты станешь сожалеть об этом. Сначала я думал, как тебе известно, что дядя мой намерен был что-нибудь сделать для Лили – что-нибудь, разумеется, не более того, что намерен он сделать для Белл, – но будь уверен, что у него заранее положено было в уме своем, что именно сделать для той и другой. Ни мои, ни твои убеждения не в состоянии были бы изменить его намерения.
– И прекрасно, не будем больше говорить об этом, – сказал Кросби.
После этих слов снова наступило молчание, и они молча приехали в Гествик к самому отходу поезда.
– Дай мне знать, когда приедешь в Лондон, – сказал Кросби.
– О, конечно. Я напишу тебе еще до отъезда отсюда.
И таким образом они расстались. Когда Бернард повернул и уехал, Кросби почувствовал, что он ему нравится теперь гораздо меньше, чем прежде, в свою очередь, Бернард, в думах своих на обратном пути в Оллингтон, пришел к заключению, что Кросби в качестве свояка не будет таким добрым малым, каким он был до этой поры в качестве случайного друга. «Он еще наделает нам хлопот, сожалею, что привез его сюда». Таково было убеждение капитана Деля по этому предмету.
Путь Кросби от Гествика, по железной дороге, лежал к Барчестеру, кафедральному городу в соседнем округе, откуда он намеревался переехать по обыкновенному шоссе в замок Курси. Такому раннему отъезду его из Оллингтона, в сущности, не было особенного повода, он знал, что все приезды в загородные замки и господские дома обыкновенно приноравливались почти к самому обеду. Кросби решился уехать как можно скорее собственно потому, чтобы положить конец тяжелым последним часам своего пребывания в Оллингтоне. Таким образом, он очутился в Барчестере в одиннадцать часов без всякого дела и, совершенно не зная, что делать, отправился в церковь. Там происходила полная служба, и в то время, как церковный староста в парадном облачении и с жезлом в руке проводил Кросби до одной из пустых скамеек, небольшой, худощавый старичок начинал петь молебные гимны.
«Вот уж не думал-то попасть сюда в такое время», – сказал про себя Кросби, заняв место на скамейке и положив руки на возвышавшуюся впереди его подушку.
Особенная прелесть в голосе этого старичка в скором времени привлекла к себе его внимание, – голосе, хотя немного и дрожавшем, но все еще сильном, так что Кросби перестал сожалеть о своем раннем отъезде.
– Кто этот старый джентльмен, который пел гимны? – спросил он старосту, когда последний, по окончании службы, провожал его по собору и показывал надгробные памятники.
– Это наш главный кантор, мистер Хардин. Вероятно, вы о нем слышали.
Но мистер Кросби с полным извинением сознался в своем невежестве.
– Как же-с, он очень хорошо известен многим, хотя он и большой нелюдим. Он тесть нашего декана и тесть грантлийского архидиакона.
– Значит, его дочери тоже занимаются его профессией?
– Да, да, впрочем, мисс Элеонора, я помню ее еще девочкой, когда они жили в госпитале…
– В каком госпитале?
– В госпитале Гирама. Он там был смотрителем!.. Я бы советовал вам осмотреть этот госпиталь, если вы никогда в нем не бывали. Так извольте видеть, мисс Элеонора тогда была у него самая младшая, и в первый раз она вышла замуж за мистера Болда, теперь же она супруга нашего декана.
– А, вот что.
– Да, да. И как вы думаете, сэр? Ведь мистер Хардин если бы захотел, то сам бы мог быть деканом. Ему предлагали.
– И он отказался?
– Отказался, сэр.
– Nolo decanari. Я об этом никогда не слышал. Что заставило его быть таким скромным?
– Я думаю, скромность. Ему теперь лет семьдесят, если не больше, а между тем он так скромен, как молоденькая девушка, даже скромнее другой девушки. Ах, как бы видели его вместе с его внучкой!
– А кто его внучка?
– Леди Думбелло, или, все равно, маркиза Хартльтон.
– Я знаю леди Думбелло, – сказал Кросби, не думая, впрочем, похвастаться перед церковным старостой знакомством своим с такой благородной особой.
– Вы знаете ее, сэр? – спросил староста и при этом признаке величия в посетителе бессознательно прикоснулся к своей шляпе, хотя, надо правду сказать, он очень не жаловал ее сиятельство. – Вы, вероятно, отправляетесь в замок Курси.
– Да, кажется, так.
– Миледи будет там, но раньше вашего. Вчера, проездом туда, она завтракала у своей тетки в доме декана, она находила слишком затруднительным заезжать к своему отцу в Пломстед. Ее отец, вы знаете, архидиакон. Говорят… впрочем, вы, кажется, принадлежите к числу друзей ее сиятельства.
– Нет, этого не скажу, я так знаком только с ней. В обществе она точно так же стоит выше меня, как и выше своего отца.
– Да, она стоит выше всех. Говорят, что она не хочет даже говорить с старым джентльменом.
– Как, с своим отцом?
– Нет, с мистером Хардином, с джентльменом, который пел молебен. Да вот он и сам идет.
Разговаривающие стояли в это время в дверях одного из трансептов, и мистер Хардин прошел мимо них, когда они говорили о нем. Это был небольшого роста сухощавый старичок, с опущенными плечами, в коротеньких панталонах с длинными черными штиблетами, которые лежали складками на его тощих старых ногах, он шел и потирал себе руки. Поступь его была довольно скорая, но нетвердая, когда он поравнялся с ними, староста почтительно поднес руку к своей шляпе, а Кросби приподнял свою. При этом мистер Хардин снял шляпу, поклонился и повернулся к разговаривавшим, как будто намереваясь что-то сказать. Кросби почувствовал, что в жизнь свою не видел лица, на котором так ясно обозначались бы следы добродушия. Старичок однако же не сказал ни слова, сделав пол-оборота и, как бы стыдясь этого движения, пошел по прежнему направлению.
– Это такой человек, из каких делаются ангелы, – сказал староста. – Только немного выйдет ангелов, если потребуются такие добрые и прекрасные люди, как этот джентльмен. Премного вам обязан, сэр, – заключил староста, опуская в карман полкроны, которую Кросби дал ему за труды.
«Так это дед леди Думбелло», – сказал Кросби про себя, медленно обходя церковную ограду и направляясь к госпиталю по тропинке, указанной старостой. Он не любил леди Думбелло, которая осмелилась даже его ставить ни во что. «Из таких людей, как этот почтенный старичок, выходят ангелы, – продолжал он про себя. – Но из его внучки едва ли успеют сделать что-нибудь хорошее».
Кросби перешел через маленький мостик и в воротах госпиталя снова встретил мистера Хардина.
– Я бы желал осмотреть это место, – сказал он. – Но боюсь, что буду кому-нибудь в тягость.
– Нет, нисколько, – сказал мистер Хардин. – Пожалуйте. В настоящее время не могу сказать, что здесь я как дома. Теперь я здесь не живу. Но я знаю все ходы и выходы этого места и могу быть вам полезным. Вон это дом смотрителя. Я думаю, в такую пору нам незачем идти в него, тем более что у хозяйки дома огромное семейство. Превосходная дама, я считаю ее моим лучшим другом, и муж ее тоже мой друг.
– Он здешний смотритель?
– Да, смотритель этого госпиталя. Вы видите этот дом. Премиленький домик – не правда ли? Прехорошенький. Такого дома, мне кажется, я никогда не видывал.
– Не знаю, можно ли с вами согласиться в этом.
– Но вы бы согласились, если бы прожили в нем двенадцать лет, как прожил я. Я прожил в этом доме двенадцать лет, и не думаю, чтобы на поверхности земного шара был уголок очаровательнее этого. Видали ли вы когда такую траву, такую зелень?
– Очень милы и та и другая, – сказал Кросби и, сделав сравнение с зеленью в саду мистрис Дель, нашел, что оллингтонская трава лучше, чем у этого госпиталя.
– Я сам настилал этот деон. Когда я поступил сюда, тут были одни только куртины с шиповником и сиренью. Деон с зеленой травой был улучшением.
– В этом нет никакого сомнения.
– Да, деон был улучшением. Я насадил вон и эти кустарники. Здесь во всем округе не найдется такого португальского лавра, как этот.
– Вы были здесь смотрителем?
И Кросби, сделав этот вопрос, вспомнил, что в молодости он слышал о какой-то журнальной полемике на счет гирамского госпиталя в Барчестере.
– Так точно, сэр. Я был здесь смотрителем двенадцать лет. Боже мой, боже мой! Если бы они не назначили сюда джентльмена, который был не расположен ко мне, я бы не был так обижен. Но я мог действовать свободно и оставил это место прежде, чем они… Впрочем, они же уволили меня. Тут были причины, заставлявшие их желать, чтобы я подал в отставку.
– И вы теперь живете в деканском доме, мистер Хардин?
– Да, я живу теперь в деканском доме. Но я не декан, вы это знаете. Мой зять, доктор Арабин, декан. У меня есть другая дочь замужем, она живет по соседству с здешним местом, так что, поистине должно сказать, линии моих планет расположились очень удачно.
После этого мистер Хардин повел Кросби по всем комнатам госпиталя. Это был не госпиталь, но городская богадельня, и мистер Хардин, прежде чем Кросби оставил его, объяснил все обстоятельства, сопровождавшие устройство богадельни и его увольнение.
– Мне не хотелось оставлять этого места, я думал, что умру от горя. Но после того, что было сказано, я не мог оставаться, решительно не мог. И что еще больше, с моей стороны было бы несправедливо, если бы я остался. Теперь я все это вижу. Но когда я выходил, мистер Кросби, вон из-под той арки, опираясь на руку моей дочери, я думал, что сердце мое совсем разобьется.
При этих словах, по щекам старика покатились слезы.
Это была длинная история, и нет никакой надобности повторять ее здесь. Мистер Хардин был любезный, словоохотливый старичок, любивший вспоминать о прошедшем. Рассказывая свою историю, мистер Хардин ни о ком не сказал обидного слова, хотя сам был обижен, оскорблен, глубоко оскорблен.
– Все делается к лучшему, – сказал он наконец, – особливо когда мне не отказано в счастье устроить себя в старом месте. Я проведу вас в смотрительский дом, который очень уютен и спокоен, только при большом семействе не всегда бывает удобен в раннее время дня.
Услышав это, Кросби снова подумал о своем будущем доме и ограниченных средствах. Он сказал старику джентльмену, кто он такой, и объяснил, что отправляется в замок Курси.
– Там, кажется, я встречусь с вашей внучкой.
– Да-да, она моя внучка. Она и я пошли по различным путям жизни, так что я редко ее вижу. Говорят, что она хорошо исполняет свои обязанности в той сфере жизни, в которой Богу было угодно поставить ее.
«Это зависит, – подумал Кросби, – от рода обязанностей, которые должны лежать на виконтессе».
Не сказав, однако же, ни слова о леди Думбелло, Кросби простился с своим новым знакомцем и около шести часов вечера въехал в ворота замка Курси.
Глава XVII ЗАМОК КУРСИ
Замок Курси был полон гостей. Во-первых, там собралась вся фамилия Курси. Само собою разумеется, там были граф и графиня. В это время года графиня де Курси всегда находилась в замке, но присутствие там графа до настоящей поры не всегда было постоянно. Это был человек вполне преданный придворным церемониалам, поездкам в гористые страны Британии, продолжительному, хотя часто вовсе ненужному, пребыванию в Лондоне, поездкам на известные германские минеральные воды, вероятно, с целью изучать обряды и церемонии германских дворов, и различным другим отлучкам из дому, вынужденным неутомимым преследованием его особенных целей в жизни: граф де Курси был придворный человек в строгом смысле этого слова. В последнее время подагра, ревматизм, а может быть, и некоторое уменьшение в его способностях казаться во всякое время приятным и любезным примирило его с семейными обязанностями, и граф проводил большую часть своего времени дома, графиня в прежние времена жаловалась на частые отсутствия своего мужа, но трудно угодить женщинам: теперь графиня не совсем была довольна его присутствием.
В замке собрались все сыновья и дочери, за исключением старшего сына, лорда Порлокка, который никогда не встречался со своим отцом. Граф и лорд Порлокк не только не были в дружеских отношениях, но даже ненавидели друг друга, насколько может существовать ненависть между подобными отцами и подобными сыновьями. Там был высокопочтенный Джорж де Курси с молодой своей женой, он недавно исполнил прямой свой долг, женившись на молодой женщине с деньгами. Молодая жена была уже не первой молодости, лета ее перешли уже за тридцать, но ведь и сам высокопочтенный Джорж не был очень молод, и в этом отношении партия считалась ровною. Деньги молодой жены не были весьма большие, вся сумма их простиралась, быть может, до тридцати тысяч фунтов стерлингов, но зато высокопочтенный Джорж вовсе не имел денег. Теперь он получал доход, на который мог жить, а потому его отец и мать простили ему все его прегрешения и снова приняли в родительское лоно. Женитьба эта в настоящую минуту имела большое значение, потому что старший сын не был еще женат, и, следовательно, граф и графиня де Курси могли ожидать от этого союза наследника своей фамилии. Молодая жена не отличалась ни красотой, ни умом, ни пленительным обращением и не могла похвалиться высоким происхождением. Но не была она и безобразна или невыносимо глупа. Она имела весьма обыкновенные манеры, а что касается до ее происхождения, то все оставались более или менее довольны, потому, собственно, что она не обнаруживала в этом отношении никаких претензий. Она была дочь купца, занимавшегося торговлей каменным углем. Ее обыкновенно называли мистрис Джорж, при этом все в семействе старались обходиться с ней как с видной женщиной, хорошо одетым подобием живого существа, которое, по известным целям, господам де Курси было необходимо держать в своей свите. О высокопочтенном Джорже мы можем еще заметить, что, будучи всю свою жизнь страшным мотом, он сделался теперь расчетливым и бережливым до скупости. Достигнув рассудительного сорокалетнего возраста, он наконец убедился, что нищенское положение должно быть невыносимо тяжкое, и поэтому посвятил всю энергию своей души сбережению шиллингов и пенсов там, где их представлялся случай сберегать. Когда в первый раз обнаружилась в нем такая наклонность, отец и мать его приходили в величайший восторг, но не прошло и двенадцати месяцев, как начали показываться неприятные результаты. Хотя он и получал доход и делал из него сбережения, но не предпринимал никаких мер к приобретению дома и хозяйства. Он проживал обыкновенно под родительской кровлей и в столице, и в провинции, пил родительские вина, разъезжал на родительских лошадях и даже попробовал приобретать наряды для жены от модистки своей матери. При совершении этого последнего невинного поступка в семействе обнаружилась легкая размолвка.
Высокопочтенный Джон, третий сын, тоже прибыл в замок Курси. Он еще не приобрел себе жены, и так как до настоящей поры не показал себя полезным членом семейства в каком бы то ни было отношении, то на него начали смотреть как на тяжелое бремя. Не имея собственных доходов, из которых можно было бы делать сбережения, он не мог подражать своему брату в отношении бережливости, не мог усвоить этого драгоценного качества; говоря прямую правду, он вообще до такой степени был в тягость своему отцу, что последний не раз грозил ему изгнанием из-под родительского крова. Но не так легко выгнать сына. Оперившихся цыплят человеческой породы нельзя выгонять из гнезда так, как выгоняют молодых птичек! Высокопочтенный Джон скажется всему свету, если его предоставить полной нищете, скажется если не словами, то отпечатками на своей наружности нищеты и голода. Повеса из высшего сословия имеет весьма важные выгоды на своей стороне в борьбе с респектабельностью. Его нельзя отправить в Австралию без его согласия. Его нельзя посадить в богадельню без того, чтобы не узнал об этом весь свет. Граф бранился, грозил, спорил, показывал свои зубы, он был сердитый человек… и человек, который умел казаться сердитым, глаза его наливались кровью, над бровями делались такие морщины, что иногда страшно было смотреть. Но он был непостоянный человек, и высокопочтенный Джон изучил все слабые стороны отца и старался ими пользоваться.
Я сказал прежде всего о сыновьях, потому собственно, что как-то принято отдавать им это преимущество перед дочерями, и притом же в книге пэров имена их всегда упоминаются прежде сестер.
Граф и графиня де Курси имели четырех дочерей: Амелию, Розину, Маргариту и Александрину; они, можно сказать, были украшением семейства и жили так спокойно, что из-за них никогда не возникало тех семейных раздоров, которые так часто происходили между их отцом и братьями. Это были скромные, благовоспитанные девицы, думавшие, быть может, чересчур много о своем положении в свете и несколько склонные неверно оценивать те достоинства, которыми они обладали, и те, которых не имели. Леди Амелия была уже замужем, она успела составить существенную, если не блестящую партию с мистером Мортимером Гезби, известным адвокатом, принадлежавшим к партии тех адвокатов, которые в течение многих лет были агентами имения де Курси. В настоящее время он был в парламенте представителем от города Барчестера, получив такое место отчасти чрез влияние своего тестя. Обстоятельство это послужило поводом к возбуждению величайшего негодования в высокопочтенном Джорже, который думал, что место это должно принадлежать ему по всем правам. Но так как мистер Гезби заплатил при выборах весьма значительную сумму из собственного своего кармана, и, как Джорж де Курси, конечно, с своей стороны не мог заплатить подобной суммы, то права его подлежат большому сомнению. Мистрис Гезби была теперь счастливая мать многих малюток, которых она не захотела привозить с собой в замок Курси, и делалась во время этих визитов превосходным партнером своего мужа. Мистеру Гезби, может статься, лучше бы хотелось, чтобы жена его не так часто говорила ему самому о своем высоком положении, как дочери графа, или так часто другим о своем низком положении, как жены адвоката. Но вообще они жили очень согласно, и мистер Гезби приобрел в своей женитьбе все, чего желал.
Леди Розина была религиозна, и я не знаю, была ли она замечательна в каком-либо другом отношении, кроме разве того, что по характеру имела большое сходство с своим родителем. Одной только леди Розины трепетали все слуги, особливо в так называемые дни отдыха, которые при ее господстве в доме становились для многих днями мучительной пытки. С самого начала леди Розина не была такою: ей открыла глаза супруга одного соседнего духовного сановника, и с той минуты в ней произошло перерождение. Дай бог, чтобы читатели мои никогда не узнали, до какой степени бывает тягостна подобная пытка, производимая энергической, незамужней, здоровой женщиной, – женщиной, не имеющей ни мужа, ни детей, ни обязанностей, которые бы отвлекали ее от такого труда.
Леди Маргарита была фавориткой своей матери и во всем имела сходство с ней, за исключением только того, что мать ее была красавица. Свет называл ее гордой, дерзкой и даже наглой, но свет не знал, что все ее поступки совершались под влиянием принципа, требовавшего самоотречения. Она считала своим долгом быть де Курси и дочерью графа во всякое время и вследствие этого приносила в жертву своему понятию о долге всякую популярность, ласки и привязанность, которыми могла бы воспользоваться как нарядно одетая, высокая, стройная, фешенебельная и ни под каким видом не глупая женщина. Стоять во всякое время в чем бы то ни было выше тех, кто по званию был ниже ее, составляло главный предмет всех ее стараний. Впрочем, она была добрая дочь, по мере сил своих помогала матери во всех семейных хлопотах и никогда не сожалела о холодной, бесцветной, непривлекательной жизни, на которую обрекла себя.
Александрина считалась в семействе красавицей и действительно была самая младшая. Впрочем, она была не очень молода, так что близкие к ней начинали бояться, что она упустит драгоценное время сенокоса, не воспользовавшись лучами своего летнего солнца. Она, быть может, слишком много рассчитывала на свою красоту и ожидала более обильной жатвы. Никто не мог бы отвергать, что ее лоб, нос, щеки и подбородок были сформированы прекрасно. У нее были мягкие и густые волосы, очень хорошие зубы, большие круглые глаза, недостаток в ее лице состоял в том, что в отсутствие ее невозможно было припомнить ее черты. После первого знакомства вы могли бы с ней встретиться и не узнать ее. После многих встреч вы напрасно будете стараться унести с собой портрет ее лица. Такова была она в двадцать лет, такова она и теперь, когда ей исполнилось тридцать. Годы не произвели никакой перемены в правильности ее лица, не провели на нем ни одной морщинки. Носилась молва, что леди Александрина два раза отклоняла от себя предложение любви, но нам всем известно, что молва, избрав себе подобный предмет, преувеличивает истину и часто пускается в злословие. Действительно, леди Александрина была помолвлена, помолвка продолжалась два года, и потом последовала размолвка вследствие каких-то денежных затруднений, встреченных родителями той и другой стороны. С того времени она стала сомневаться и даже, полагали некоторые, беспокоиться насчет своего сенокоса. Зеркало и горничная уверяли ее, что солнце ее светит так же ярко, как и прежде, но, несмотря на то, леди Александрине становилось скучно от ожидания, она страшилась сделаться ужасом для всех, подобно сестре своей Розине, или предметом, ни для кого неинтересным, подобно сестре своей Маргарите. От нее-то в особенности и отправлено было приглашение к нашему другу Кросби: в течение минувшей весны в Лондоне она и Кросби весьма коротко узнали друг друга. Да, благосклонные мои читатели, это истина, которую подтверждает даже ваше сердце. При таких обстоятельствах мистеру Кросби не следовало бы ездить в замок Курси.
Таков-то был семейный кружок де Курси. Из числа других гостей я не буду перечислять многих. В числе замечательных, стоявших на первом плане лиц была по всем отношениям леди Думбелло, о происхождении и положении которой я сказал уже несколько слов в предыдущей главе. Она была все еще молодая леди и была замужем немного больше двух лет. Но в эти два года победы ее были многочисленны, так многочисленны, что в большом свете положение ее равнялось положению ее знаменитой свекрови, маркизы Хартльтон, которая в течение двадцати лет господствовала в царстве моды, не имея соперницы. Леди Думбелло сделалась так же могущественна, как и маркиза Хартльтон, мужчины и женщины поговаривали уже, что невестка в скором времени сделается могущественнее свекрови.
– Пусть меня повесят, если я понимаю, как она это делает, – сказал однажды мистеру Кросби известный благородный пэр, стоя в дверях клуба Себрэйта в один из последних дней минувшего сезона. – Она ни с кем не говорит. Десяти слов не хочет сказать в течение целого вечера.
– Я не думаю, чтобы в голове ее была какая-нибудь идея, – сказал Кросби.
– Позвольте вам сказать, что она должна быть очень умная женщина, – продолжал благородный пэр. – Глупая женщина не в состоянии сделать того, что она делает. Не забудьте, ведь она только дочь священника, а что касается до ее красоты…
– Я не нахожу в ней особенной красоты, которою бы можно было восхищаться, – сказал Кросби.
– Но все же она очень хороша. Не знаю, нравится ли все это самому Думбелло.
Разумеется, Думбелло нравилось это. Быть главным лакеем в свите своей жены удовлетворяло его честолюбию. Он считал себя великим человеком, потому что ней другие люди большого света считали за особенное счастье находиться в присутствии жены, он считал себя даже выше сыновей маркизов благодаря блеску и величию, отражавшемуся на нем от дочери пастора, на которой женился. В настоящее время он тоже привезен был в замок Курси и, конечно, немало гордился своим положением, потому что леди Думбелло встречала значительное затруднение посвятить неделю графине Курси.
Леди Джулия Дегест, сестра другого старого графа, жившего в соседнем округе, была уже там. Она приехала днем раньше и, само собою разумеется, не замедлила распространить новость о помолвке Кросби.
– Помолвлен за одну из Делей, – сказала графиня, с легкой улыбкой, ясно показывавшей, что обстоятельство это не имело для нее особенного интереса. – А что, есть у нее деньги?
– Ни шиллинга, – сказала леди Джулия.
– Хорошенькая, я полагаю?
– Да, она хороша, да и вообще милая девушка. Не знаю, благоразумно ли было со стороны ее матери и дяди завлечь мистера Кросби в эту женитьбу. Я не слышала, чтобы он имел что-нибудь особенное относительно денег.
– Я думаю, эта помолвка кончится ничем, – сказала графиня, любившая слышать о девушках, которые были помолвлены и потом теряли своих будущих мужей.
Она сама не знала, что это ей нравилось, и уже заранее испытывала удовольствие в горести бедной Лили. Но тем не менее она сердилась на Кросби, сознавая, что он приехал к ней в дом под ложным предлогом.
Александрина тоже рассердилась, когда леди Джулия повторила при ней те же самые известия.
– Мы, право, очень мало думаем об этом, леди Джулия, – сказала Александрина, вздернув головку. – Нам уже в третий раз говорят о помолвке мисс Дель.
– Ведь вы кажется в родстве с Делями? – спросила Маргарита.
– Не совсем, – отвечала леди Джулия, ощетинившись. – Девушка, на которой мистер Кросби намерен жениться, вовсе мне не родня, ее кузен, наследник оллингтонского имения, приходится мне племянник по своей матери.
Разговор этим кончился.
По приезде Кросби ему отвели комнату, объявили час обеда и оставили одного. Он бывал в замке не раз и знал все ходы и выходы. Он сел за стол и начал письмо к Лили. На первом же слове работа его остановилась. Он придумывал, с чего начать письмо, и, держа в руке перо, вспоминал о Лили и думал о том, что скоро для него закроются такие дома, как этот, в котором он теперь находился, как вдруг в дверях раздался стук, и вслед за тем, не дожидаясь ответа, в комнату вошел высокопочтенный Джон.
– Здравствуй, дружище, – сказал он, – как поживаешь?
Кросби был в дружеских отношениях с Джоном де Курси, но никогда не питал к нему ни дружбы, ни расположения. Кросби не нравились такие люди, как Джон де Курси, несмотря на то, что они называли друг друга друзьями, бесцеремонно обходились друг с другом и вообще, по-видимому, были в самых близких отношениях.
– Услышал, что ты здесь, – продолжал высокопочтенный Джон, – и думаю, дай пойду посмотреть на него. Ну что, друг, женишься?
– Не знаю, – сказал Кросби.
– Полно, полно, мы знаем лучше твоего. Женщины уж вот три дня, как толкуют об этом. Вчера я слышал и имя твоей невесты, а сегодня и забыл. Хорошенькая, говорят, не правда ли?
При этом высокопочтенный Джон расположился на столе.
– Ты, кажется, знаешь гораздо больше моего.
– Это все рассказала нам гествикская старуха. Подожди, на тебя нападут все женщины. Если тут нет правды, то это чертовски скверно. И к чему они всегда выдумывают такие вещи? Ведь и меня раз как-то тоже женили.
– В самом деле?
– На Гарриете Туистльтон. Ты знаешь Гарриету Туистльтон? Необыкновенно славная девушка. Но я не поддался на удочку. Я люблю, очень люблю Гарриету, но люблю, знаешь, по-своему. Да, нет, брат, старого воробья на мякине не обманешь.
– Душевно сожалею, вместе с мисс Туистльтон, о ее потере.
– Я не знаю, что значит сожаление. Знаю только, что быть женатым – прескучная вещь. Видел ли ты жену Джоржа?
Кросби отвечал, что не имел еще этого удовольствия.
– Она теперь здесь. Я бы на ней не женился, хотя бы у нее было не тридцать, а триста тысяч фунтов стерлингов. Клянусь небом, не женился бы. Но он ее любит. И поверишь ли мне? Он теперь ни о чем больше не заботится, как только о деньгах. Ты никогда, я думаю, не видывал такого человека. Но вот, что я тебе скажу, у него нос-то скоро скрючится, потому что Порлокк намерен жениться. Я слышал это от Кольпеппера, который почти живет вместе с Порлокком. Как только Порлокк услышал, что жена Джоржа беременна, он в ту же минуту решился во что бы то ни стало пересечь ему дорогу.
– Это весьма замечательное проявление братской любви.
– Я знал, что он сделает это, и предупреждал Джоржа еще до женитьбы. Но он и слышать не хотел. Если бы он года на четыре или лет на пять остался холостым, то не было бы никакой опасности, потому что Порлокк, ведь ты сам знаешь, ведет чертовскую жизнь. Меня нисколько не удивит, если он переменится и примется петь псалмы или что-нибудь в этом роде. Однако, послушай друг, есть ли у тебя сигары?
– Неужели ты думаешь курить здесь?
– Да почему же не курить? Ведь женщины отсюда далеко?
– Нет, пока занимаю эту комнату, я не позволю в ней курить, и к тому же время одеваться к обеду.
– Неужели? И в самом деле пора! А я все-таки покурю до обеда. Так, значит, это ложь насчет твоей помолвки?
– Кажется, что ложь, – сказал Кросби.
И друзья расстались.
Что же станет делать Кросби теперь, в этот день, насчет своей помолвки? Он знал заранее, что леди Джулия Дегест непременно принесет с собой в замок Курси самые верные известия, но не составил никакого плана, относительно своего образа действий. Ему и в ум не приходило, что его немедленно уличат в этом преступлении, потребуют от него оправдания, чтобы признать его виновным или невинным. Он не придумывал никаких доводов для своего оправдания и вместе с тем не имел ни малейшего расположения признаться, что помолвлен с Лилианой Дель. Ему казалось, что подобным признанием он сразу лишит себя всех удовольствий, доставляемых такими домами, как замок Курси, – и притом же почему не насладиться ему небольшим остатком холостой своей жизни? Что касается до отречения от помолвки перед Джоном де Курси, это ничего не значило. Всякий, конечно, поймет, что его можно оправдать в скрытии факта, относящегося до него самого, от такого человека, как высокопочтенный Джон. Отречение, повторенное таким человеком, как Джон, ровно ничего не будет значить, даже между его сестрами. Но все же для Кросби необходимо было придумать ответы на вопросные пункты, которые будут предложены ему дамами. Если он и перед ними опровергнет этот факт, то последствия подобного опровержения будут весьма серьезны… Да и то сказать, возможно ли это еще сделать в присутствии леди Джулии?
Сделать подобное отречение! Да справедливо ли еще, что у него было желание поступить таким образом, – что он помышлял о подобной лжи и даже придумывал планы к совершению такого низкого поступка? Не далее как утром головка этой молоденькой девушки лежала у его сердца. Он клялся ей, клялся самому себе, что не подаст ни малейшего повода к сомнению в его любви. Он торжественно признавался самому себе, что на радость ли, или на горе, он связан с ней навсегда, и возможно ли допустить, что он уже рассчитывала на отречение от нее? Делая этот поступок, не должен ли он назвать себя негодяем? Впрочем, в сущности он еще не делал этого расчета. Цель его заключалась в том, чтобы избегнуть предмета этого разговора, придумать ответ, которым бы можно было поселить сомнение. Ему не представлялось никакой возможности сказать графине смело, что в этой молве не было ни на волос истины и что мисс Дель для него ничего не значит. Но нельзя ли ему искусно отделаться смехом, даже в присутствии леди Джулии? Помолвленные мужчины делают это часто, почему же бы и ему не последовать их примеру? Ведь многие полагают, что уважение к чувствам любимого предмета не позволяет мужчине открыто говорить о его помолвке. И опять он вспомнил ту свободу, с которой говорили во всем Оллингтоне о его положении, и в первый раз подумал, что семейство Делей, по нескромности своей, было не совсем деликатно. «Я полагаю, они разглашали о моей помолвке, чтобы еще крепче связать меня с Лили, – говорил он про себя, расправляя концы своего галстука. – И как я глупо сделал, что поехал сюда, устроив это дело, мне нужно бы никуда не показываться». Вслед за тем он спустился в гостиную.
Тяжелый камень спал с груди Кросби, когда никто не приступал к обвинению его в преступлении. Он сам до такой степени был углублен в этот предмет, что ожидал нападения при появлении в гостиной. Его встретили без малейшего намека на помолвку. Графиня спокойно пожала ему руку, как будто она виделась с ним не далее вчерашнего дня. Граф, сидевший в кресле, спросил кого-то из гостей довольно громко, кто этот незнакомый ему человек, и потом протянул Кросби два пальца и пробормотал какое-то приветствие. Но Кросби привык к подобным встречам. «Как здоровье ваше, милорд?» – спросил он, поворачивая в то же время лицо свое к кому-то другому, и затем не обращал уже более внимания на хозяина дома. «Совсем не знаю его!» – заметил милорд. Далеко не ровный по своему будущему супружескому союзу, Кросби чувствовал, однако же, что пока еще был равен графу в общественном положении. Вскоре после того Кросби увидел себя в глубине гостиной, в стороне от пожилых гостей, в кругу леди Александрины, мисс Греманс, кузин де Курси и других молодых особ.
– Так здесь у вас и леди Думбелло? – спросил Кросби.
– О, да, милое создание! – сказала леди Маргарита. – Она приехала сюда, и это с ее стороны так любезно.
– Она положительно отказалась от поездки к графине Сент-Бонгэй, – сказала Александрина. – Надеюсь, что вы замечаете, как мы добры к вам, предоставляя вам случай встретиться с ней. Многие просили позволения приехать сюда.
– Чрезвычайно вам признателен, впрочем, по правде сказать, моя признательность более относится до замка Курси и их радушных обитательниц, нежели до леди Думбелло. А муж ее здесь?
– Как же! Он где-то в других комнатах. Вон он стоит подле леди Клэндидлем. Он всегда принимает такую позу перед обедом. Вечером он обыкновенно сидит, сохраняя, однако же, ту же позу.
Кросби видел его при входе в гостиную, как видел всех лиц, находившихся в этой комнате, но ему казалось лучше не показывать вида, что он заметил лорда Думбелло.
– А миледи, вероятно, еще наверху? – спросил он.
– Она обыкновенно является последнею, – отвечала Маргарита.
– Несмотря на то что ее всегда одевают три женщины, – заметила Александрина.
– Зато, когда кончится туалет, как великолепна бывает она! – сказал Кросби.
– Очаровательно великолепна! – с энергией подтвердила Маргарита.
В эту минуту дверь отворилась, и в гостиную вошла леди Думбелло. Моментально все приведены были в движение, даже подагрик старый лорд приподнялся в своем кресле и, с старческой улыбкой, старался казаться любезным и приятным. Графиня выступила вперед с выражением радости, сказала несколько любезных приветствий, на которые виконтесса отвечала просто одной только пленительной улыбкой. Леди Клэндидлем, толстая неповоротливая дама, оставила виконта и присоединилась к группе, собравшейся вокруг леди Думбелло. Барон Погснеф, немецкий дипломат, скрестил руки на груди и сделал низкий поклон. Высокопочтенный Джорж, простоявший четверть часа молча, заметил виконтессе, что воздух в гостиной должен показаться для нее холодным; леди Маргарита и Александрина сказали несколько комплиментов своей милой леди Думбелло, выразив при этом надежду на одно и умоляя о другом, как будто стоявшая перед ними «белая женщина» была самой дорогой подругой их детства.
Действительно, леди Думбелло была «белая женщина», на ней надето было белое платье, убранное белыми кружевами, другими украшениями служили одни только бриллианты. Она была одета великолепно, что, без всякого сомнения, делало честь тем трем артисткам, которые занимались ее туалетом. Лицо леди Думбелло было так же прекрасно, но с каким-то холодным, невыразительным отпечатком красоты. Она шла по комнате плавно, бросая улыбки то на ту, то на другую сторону, но улыбки легкие, и наконец заняла место, показанное ей хозяйкой дома, слово сказала графине и два графу. Более этого она не раскрывала своих губ. Все комплименты она принимала за справедливую дань. Она нисколько не стеснялась, нисколько не конфузилась своего молчания. Она не казалась дурочкой, да и никто не считал ее за дурочку, но взамен восхищения ею она ничего не дарила обществу, кроме своей холодной, черствой красоты, своей гордой осанки и поступи, своего пышного наряда. Мы можем сказать, что она дарила много, потому что общество считало себя в величайшем долгу у нее.
Единственным лицом в гостиной, на которого появление леди Думбелло не произвело особенного впечатления, был ее муж. Впрочем, это происходило не от недостатка в нем энтузиазма. Искра удовольствия сверкнула в глазах его, когда он увидел торжественный вход своей жены. Он чувствовал, что составил партию, вполне соответствующую ему, как великому нобльмену, и что общество не могло упрекнуть его в выборе. А между тем леди Думбелло была ни более ни менее как дочь сельского священника, который не достигнул ранга выше архидиаконского.
– Как удивительно хорошо воспитала ее та женщина! – сказала Маргарите графиня вечером в своем будуаре.
Под словами «та женщина» подразумевалась мистрис Грантли, жена священника и мать леди Думбелло.
Старик граф был очень сердит, потому что этикет повелевал ему вести к столу леди Клэндидлем. Он чуть не оскорбил ее, когда она любезно старалась помочь ему в его старческой нетвердой поступи.
– Какое нелепое обыкновение, – сказал он, – позволять двум таким старикам, как вы и я, помогать друг другу.
– Это относится до вас, милорд, – сказала леди, смеясь. – Я еще могу обойтись без помощи. – Действительно, леди Клэндидлем сказала совершенную истину.
– И слава богу! – проворчал граф, занимая за столом свое место.
После этого он старался забыть свою досаду в любезностях с леди Думбелло, сидевшей по левую сторону от него. Улыбка графа и зубы графа, когда он нашептывал различные пустячки хорошеньким молоденьким женщинам, представляли феномен, которому нельзя было не удивляться. Каковы бы ни были эти пустячки при настоящем случае, леди Думбелло принимала их весьма равнодушно, изредка отвечая на них односложными словами.
Вести к столу Александрину выпало на долю Кросби, и он был этим чрезвычайно доволен. Для него, как будущего женатого человека, необходимо было бы отказаться от знакомства с такими семействами, как семейство де Курси, но ему хотелось, по возможности, оставаться в дружбе с леди Александриной! Какой бы прекрасной подругой для Лили была леди Александрина, если только возможна подобная дружба! Какую бы пользу доставила она этой милой девушке, потому что хотя прелести милой девушки и были очень велики, но он не мог не допустить, что в Лили чего-то недоставало: недоставало умения держать себя и говорить, умения, которое некоторые люди называют светским лоском. Лили, наверное, могла бы многому научиться от леди Александрины, и, само собою разумеется, это-то убеждало и заставляло Кросби понравиться Александрине при настоящем случае.
Александрина, по-видимому, тоже была расположена к тому, чтобы понравиться. Во время обеда она ни слова не сказала Кросби о Лили, хотя и говорила о Делях вообще, об Оллингтоне, показывая тем, что ей известно было положение, в котором он находился, намекала на последние балы в Лондоне, на случаи, при которых, как припоминал Кросби, отношения между ними были самые нежные. Для Кросби было очевидно, что, во всяком случае, она не хотела с ним ссориться. Очевидно было также, что она немного колебалась заговорить с ним о его помолвке. Кросби нисколько не сомневался, что она знала об этом. В таких отношениях они находились друг к другу, пока дамы не вышли из столовой.
– Итак, ты думаешь жениться, – сказал высокопочтенный Джорж, подле которого очутился Кросби по уходе дам.
Кросби занимался в это время орехами и потому не счел за нужное отвечать.
– Это самая лучшая вещь, какую только может сделать человек, – продолжал Джорж, – то есть если не упустит из виду главного предмета, если не будет дремать. Ну что хорошего проводить всю свою жизнь холостяком!
– Ты, однако же, успел свить себе гнездышко.
– Да, успел, я успел кое-чем заручиться и намерен удержать это за собой. Ну что будет с Джоном, когда не станет нашего отца? Ведь Порлокк не даст ему ни куска хлеба с сыром, ни стакана пива, чтобы поддержать в нем жизнь, разумеется, не даст, если только захочет.
– Я слышал, что твой старший брат тоже женится.
– Ты слышал это от Джона. Он везде распространяет эту молву, собственно, для того, чтобы вывести меня из терпения. Я не верю этому ни на волос. Порлокк не способен быть женатым, и, что еще более, сколько мне известно, он недолговечен.
Таким образом Кросби выпутался из затруднительного положения, и, когда вышел из за стола, он не видел ни малейшего повода упрекать себя.
Но вечер еще не кончился. Когда Кросби воротился в гостиную, он старался уклониться от всякого разговора с графиней, полагая, что нападение, по всей вероятности, скорее последует от нее, чем от дочерей. Поэтому он вступал в разговор то с одной, то с другой из ее дочерей, пока не увидел себя наедине с Александриной.
– Мистер Кросби, – сказала Александрина вполголоса, в то время, когда они стояли у одного из отдаленных столов, – я хочу, чтобы вы сказали мне что-нибудь о мисс Лилиане Дель.
– О мисс Лилиане Дель! – сказал он, повторив ее слова.
– Она очень хороша собой?
– Да, очень хороша.
– И очень мила, привлекательна, умна, вообще очаровательна? Можно ее назвать образцом совершенства?
– Она очень привлекательна, но образцом совершенства назвать нельзя.
– Какие же у нее недостатки?
– Отвечать на такой вопрос весьма трудно. Если бы меня спросил кто-нибудь, в чем состоят ваши недостатки, как вы думаете, ответил ли бы я на этот вопрос?
– Ответили бы, я уверена, и составили бы из них предлинный список. Что касается до мисс Дель, вы должны считать ее совершенством. Если какой джентльмен будет моим женихом, то я потребую от него клятвы перед целым светом, чтобы он признавал меня за верх совершенства.
– Но если тот джентльмен не будет вашим женихом?
– Тогда совсем другое дело.
– Я не ваш жених, – сказал Кросби. – Такое счастье и такая честь для меня недоступны. Но, несмотря на то, я приготовился всюду свидетельствовать о вашем совершенстве.
– А что скажет на это мисс Дель?
– Позвольте уверить вас, что мнения, которые я вздумаю выражать, мои собственные мнения, независимые от мнений посторонних.
– И вы думаете поэтому, что вы не обязаны быть порабощенным? Много ли же месяцев вы будете наслаждаться такой свободой?
Кросби с минуту молчал и потом заговорил серьезным голосом.
– Леди Александрина, – сказал он, – я попросил бы от вас большой милости.
– Какой же милости, мистер Кросби?
– Я говорю вам серьезно. Будьте так добры, так любезны, не соединяйте моего имени с именем мисс Дель, пока я нахожусь здесь.
– Скажите, пожалуете, уж вы не поссорились ли?
– Нет, мы не ссорились. Я не могу объяснить вам теперь же причины этой просьбы, но я объясню вам ее до отъезда.
– Объясните ее мне!
– Я всегда считал вас более чем знакомой, я считал вас другом. В былые дни бывали минуты, когда я становился до такой степени безрассуден, что надеялся назвать вас даже более чем другом. Признаюсь, я не имел ни малейшего права на подобные надежды, но уверен, что все еще могу смотреть на вас как на друга.
– О, да, без всякого сомнения, – сказала Александрина самым тихим голосом, в котором отзывалась нежность. – Я сама всегда считала вас своим другом.
– Поэтому-то я и решаюсь просить у вас этой милости. Это такой предмет, о котором в настоящую минуту я не могу говорить откровенно без сожаления. Вам, во всяком случае, обещаю объяснить все прежде, чем оставлю ваш замок.
Таким образом он успел мистифировать леди Александрину.
– Я не думаю, что он помолвлен, – говорила она в тот вечер леди Амелии Гезби.
– Пустяки, душа моя. Леди Джулия не стала бы говорить об этом с такою уверенностью. Само собою разумеется, ему не хочется, чтобы говорили об этом.
– Если он и дал обещание жениться, то, верно, нарушит его, – сказала леди Александрина.
– Да, он нарушит, душа моя, если ты подашь ему надежду, – сказала замужняя сестра с чисто сестринским расположением.
Глава XVIII ПЕРВОЕ ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО ЛИЛИ ДЕЛЬ
Ложась спать, Кросби гордился собою. Он успел отклонить приготовленную против него атаку, не сказав ни слова, за которое бы мучила его совесть. Так, по крайней мере, говорил он в то время самому себе. Впечатление, произведенное его словами, состояло в том, что, вероятно, только еще возбужден вопрос о его помолвке с Лилианой Дель, но что в настоящую минуту ничего еще положительного не было. Поутру однако же совесть его была уже не так чиста. Что подумала бы и сказала Лили, если бы узнала обо всем? Осмелился ли бы он объяснить ей или кому-нибудь другому действительное состояние своей души?
В то время как он лежал еще в постели, зная, что через час ему снова предстояло бороться с опасностями своей роли, он чувствовал, что ненавидит замок Курси со всеми его обитателями. Было ли между ними хотя одно существо, которое можно бы сравнить с мистрис Дель и ее дочерями? Он презирал и Джоржа, и Джона. Он проклинал хозяина дома. Что касается до графини, Кросби был к ней совершенно равнодушен, считая ее за женщину, с которой хорошо иметь знакомство, но которая была известна не более как госпожа замка Курси и дома, и в Лондоне. Относительно дочерей графини, он смеялся над всеми ими, даже над Александриной, в которую, казалось, был влюблен. Может статься, он питал к ней некоторого рода любовь, но эта любовь никогда не затрагивала его сердца. Он умел оценить каждую вещь по ее достоинству, умел оценить и замок Курси с его привилегиями, и леди Думбелло, и леди Клэндидлем, и все, все вообще. Он знал, что был гораздо счастливее на Оллингтонской поляне и гораздо довольнее самим собою, чем в великолепных чертогах леди Хартльтон в Шропшейре. Леди Думбелло могла быть довольна всеми этими вещами, даже в самых сокровенных уголках своей души, но он ведь не леди Думбелло. Он знал, что для него есть что-то лучшее, более доступное.
Несмотря на то, воздух Курси был для него слишком тяжел. Соображая все сложившиеся обстоятельства, он считал себя за человека, пораженного проказой, от которой нет исцеления, и потому совершенно зависящего на всю жизнь от развития этой болезни. Бесполезно было бы для него говорить самому себе, что Малый оллингтонский дом лучше замка Курси. Сатана знал, что небо лучше ада, но он нашел себя более способным для последнего места. Кросби осмеивал леди Думбелло и даже в кругу ее друзей употреблял самые резкие слова, какие только могло приискать его остроумие, несмотря на то для него дорога была привилегия находиться с ней в одном и том же доме. Такова была дорога жизни, на которую попал Кросби, и он внутренно признавался, что борьба за желание уклониться от этой дороги будет ему не по силам. Все, что тревожило и волновало его в то время, как он находился в Оллингтоне, приводило его в смущение и страх под занавесами замка Курси.
Не лучше ли бежать ему сейчас же из этого места? Он сознавался самому себе, что раскаивался в своем обещании жениться на Лилиане Дель, но все же решился во что бы то ни стало выполнить это обещание. Он честью был обязан жениться на этой «девочке», и потому сурово смотрел на драпировку над его головой, уверяя себя, что он человек честный. Да, он готов пожертвовать собою. Дав слово, он не хотел отказаться от него. Он был слишком для этого благороден!
Но благоразумно ли он поступил, отклонив от себя умный совет Лили, когда она говорила ему в поле, что лучше было бы для них обоих разлучиться? Он не хотел признаться самому себе, что отвергнул ее предложение собственно потому, что не имел достаточно твердости характера, чтобы принять его в ту же минуту. Нет. Он был слишком добр в отношении к бедной девушке, чтобы воспользоваться ее словами. В таком роде он рассматривал это дело в своей груди. Он был совершенно предан Лили, и теперь результат оказывался тот, что они оба на всю жизнь будут несчастны! Он не мог бы жить счастливо с семейством при ограниченных средствах. Он знал это очень хорошо. Никто другой, кроме него самого, не был бы в этом деле более строгим судьею. Но теперь было слишком поздно исправлять недостатки прежнего воспитания.
В этом роде он рассматривал и обсуждал свое положение, лежа в постели, причем один довод противоречил другому снова и снова, и каждый из них приводил его к убеждению, что помолвка была для него несчастьем! Бедная Лили! В ее последних словах заключалось уверение, что она никогда не позволит себе сомневаться в его верности. В это первое утро после отсутствия Кросби и Лили, пробудясь от сна, много, много думала о взаимных клятвах. Как свято желала она их выполнить! Какою бы преданною женою она была для него! Она не только бы любила его, но в любви своей она служила бы ему, посвящая на это служение все свои силы и энергию, – служила бы ему в этом мире и, если возможно, в будущем.
– Белл, – сказала она, – я бы желала, чтобы ты тоже вышла замуж.
– Благодарю тебя, душа моя, – сказала Белл. – Может статься, когда-нибудь и выйду.
– Ах, Белл! Я говорю тебе не шутя. Это кажется такое серьезное дело. И право, ты не стала бы так говорить мне об этом, как говоришь теперь, если бы сама находилась в одинаковом со мной положении. Как ты думаешь, сделаю ли я его счастливым?
– Сделаешь, без всякого сомнения.
– Счастливее, чем с другой, которую он мог бы встретить? Я не смею думать об этом. Мне кажется, я бы завтра же отдала назад его слово, если бы увидела, что другая будет для него лучше, чем я.
Ну что бы сказала Лили, если бы знала чарующие прелести леди Александрины де Курси?
Графиня была весьма любезна к нему, ни слова не сказала о его помолвке, хотя очень много говорила с ним о его поездке в Оллингтон. Кросби был весьма приятный человек в дамском обществе. Он был охотник, но не такой записной, чтобы целый день рыскать по полям. Как политик, он не жертвовал утренних часов чтению синих книг или рассмотрению тактических маневров той или другой партии. Как любитель чтения, он не обрекал себя кабинетной жизни. Как наездник, он не проводил времени в конюшнях. Он умел вызвать на разговор и поддержать его, когда это требовалось, и удалиться, когда его присутствие между женщинами оказывалось ненужным. На другой день по приезде, между чаем и завтраком, Кросби долго беседовал с графиней и старался казаться как можно любезнее. Графиня продолжала подсмеиваться над его продолжительным пребыванием между такими патриархальными людьми, как Дели; Кросби принимал ее сарказмы за шутку.
– Шесть недель в Оллингтоне, и без всякого движения! Помилуйте, мистер Кросби, да вы должны себя чувствовать, что вы там прозябали!
– Я и прозябал, как старинное дерево. Я пустил от себя такие корни, что едва мог сдвинуться с места.
– Верно, дом сквайра во все это время был полон гостей?
– Кроме Бернарда Деля, племянника леди Джулии, никого больше не было.
– Точь-в-точь история Дамона и Пифия. По всему видно, что вы отправились под тени Оллингтона наслаждаться в течение шести недель беспрерывными удовольствиями дружбы.
– Дружбы и куропаток.
– Неужели же там, кроме этого, ничего больше не было?
– Нет, этого не скажу. Там была вдова с двумя весьма миленькими дочерями, живущими если не в том же самом доме, то на той же земле.
– В самом деле? Это делает большую разницу, не правда ли? Вы не такой человек, чтобы переносить лишения относительно куропаток и тем более испытывать недостаток в дружбе. Но как скоро вы заговорили о хорошеньких девицах…
– Тогда это делает большую разницу, не правда ли?
– Весьма большую. Мне кажется, я и прежде слышала об этой мистрис Дель. Так ее дочери миленькие создания?
– Весьма миленькие.
– Играют в крикет и кушают кислое молоко на лугу. Но скажите, неужели это все не наскучило вам?
– Нисколько. Я был счастлив с раннего утра и до позднего вечера.
– Ходили, полагаю, с пастушьим посошком?
– Только не с живым. Я пользовался всеми удовольствиями сельской жизни. Я узнал многое насчет поросят.
– Под руководством мисс Дель?
– Да, под руководством мисс Дель.
– Я уверена, что одна особа премного вам обязана за то, что вы расстались с такими прелестями и приехали к таким неромантичным людям, как мы. Впрочем, я знаю, мужчины всегда делают подобные вещи раз или раза два в своей жизни и потом говорят об этом как о своих сувенирах. Я полагаю, что для вас это не будет сувениром.
Вопрос был прямой, но, несмотря на то, он допускал уклончивый ответ.
– Да, – сказал Кросби, – для меня это действительно сувенир, который останется при мне на всю мою жизнь.
Графиня была совершенно довольна. Она нисколько не сомневалась в истине тех новостей, которые привезла с собой леди Джулия. Для нее нисколько не было удивительно, что Кросби дал слово жениться на молоденькой барышне в провинции и в то же время обнаруживал все признаки любви к ее лондонской дочери. В ее глазах подобного рода поступок не имел в себе ничего постыдного. Мужчины поступают так ежедневно, и девицы всегда должны быть приготовлены к таким поступкам. В ее глазах помолвленного мужчину нельзя еще считать совершенно безопасным от атаки. Оглядываясь назад на минувшие карьеры своей собственной вереницы, ей предстояло насчитать немало разочарований, испытанных ее дочерями. Со всеми, кроме Александрины, поступлено было точно таким же образом. Леди де Курси питала сначала большие надежды относительно своих дочерей, потом умеренные надежды, а за ними следовало горькое разочарование. Только одна вышла замуж, и притом не более как за стряпчего. Из всего этого нельзя полагать, чтобы она имела благородные чувства касательно прав Лили в этом деле.
Правда, такой человек, как Кросби, не мог составить блистательной партии для дочери графа. Подобная женитьба была бы жалким торжеством. Графиня, заметив в течение минувшего лондонского сезона, каким образом шли дела Александрины, сделала своему дитяти предостережение, даже выговор за ее неблагоразумие. Но ее дитя держалось благоразумия четырнадцать лет, так что оно обратилось для нее в невыносимую тягость. Сестры Александрины занимались этим трудом еще дольше и, наконец, бросили его с отчаянием. Александрина не говорила своей родительнице, что ее сердце перестало уже подчиняться благоразумию и что она навсегда посвятила себя Кросби, она показывала недовольный вид, говорила, что сама знает очень хорошо, что делает, в свою очередь бранила мать и принудила леди де Курси заметить, что борьба становилась очень тяжела. При том же тут были другие соображения. Мистер Кросби не имел своего состояния, но он был человек, из которого, с помощью фамильного влияния и при его способностях, можно бы было что-нибудь сделать. Он не был таким тяжелым человеком, которого не могла бы привести в брожение никакая закваска. Это был человек с таким положением в обществе, какого не постыдилась бы ни сама графиня, ни ее дочери. Леди де Курси не выразила прямого согласия на ведение атаки, но мать и дочь понимали друг друга и соглашались, что составленный план можно допустить к исполнению.
Между тем совершенно неожиданно приходит известие об оллингтонской девушке. Леди де Курси не сердилась на Кросби. Сердиться за такие вещи было бы бесполезно, глупо и даже неприлично. Это была часть игры, которая казалась для нее такою же натуральною, как ровное поле для игрока в крикет. Ведь и то сказать, человек не может же всегда выигрывать в какой бы то ни было игре. Она нисколько не сомневалась в помолвке Кросби с Лилианой Дель, как не сомневалась и в том, что Кросби стыдится этой помолвки. Если бы он действительно любил мисс Дель, он бы не оставил ее и не приехал в замок Курси. Если он действительно решился жениться на ней, он не стал бы отражать все вопросы относительно своей помолвки ложными ответами. Он забавлялся с Лили Дель, и надо полагать, что молоденькая девочка думала о своем замужестве не очень серьезно. С этой точки зрения и в этом благотворном свете леди де Курси смотрела на вопрос о женитьбе Кросби.
Кросби должен был до обеденного времени написать письмо Лили Дель. Он обещал сделать это немедленно по приезде – и знал, что целым днем опоздал исполнить свое обещание. Лили говорила ему, что будет жить его письмами, и потому необходимо было немедленно доставить ей эту пищу. Он отправился в свою комнату значительно раньше обеда, достал перо, чернила и бумагу.
Да, Кросби достал перо, чернила и бумагу и потом увидел, что нет ничего труднее начала. Прошу заметить, что Кросби не совсем был человеком бессовестным. Он не мог сесть и писать письмо под диктовку своего сердца, он понимал, что тогда каждое слово в его письме была бы чистейшая ложь. Он был светский, непостоянный человек, весьма склонный много думать о себе и приписывать себе качества, которых вовсе не имел, но не мог быть фальшивым с преднамеренной жестокостью в отношении к женщине, которую он поклялся любить. Он не мог написать Лили письмо, проникнутое теплым чувством любви, не принудив себя, хотя на время, почувствовать к ней истинную теплую любовь. Поэтому Кросби долго сидел с сухим пером, стараясь переработать свои мысли, которые хитрость графини де Курси успела сделать враждебными к Лили и Оллингтону. Он должен был бороться с самим собою, делая усилия начать письмо, усилия, которые бывают часто безуспешны. Иногда легче поднять пару стофунтовых гирь, чем сложить в уме несколько мыслей, которые в другое время, когда и не нужно, мчатся одна за другой без всякого понуждения.
Наконец он выставил месяц и число, в это время кто-то постучался в дверь и вслед затем в комнату вошел высокопочтенный Джон:
– Послушай, Кросби, вчера перед обедом ты что-то говорил о сигарах.
– Ни слова, – отвечал Кросби несколько сердитым тоном.
– Так это, должно быть, я говорил. Вот что, возьми-ка свой портсигар и приходи в шорную, если не хочешь курить здесь.
Я устроил там маленький приют, мы можем ходить туда и заглядывать в конюшню.
Кросби желал, чтобы высокопочтенный Джон провалился сквозь землю.
– Я должен писать письма, – сказал он, – кроме того, я не имею привычки курить до обеда.
– Вот еще вздор. Я выкуривал с тобой сотни сигар до обеда, уж не хочешь ли ты обратиться в такую же скрягу, как Джорж и ему подобные? Не знаю, право, что делается нынче на свете. А, тебе верно запретила курить маленькая девочка – оллингтонская невеста?
– Маленькая девочка… – начал было Кросби, но потом размыслил, что нехорошо было бы для него говорить с таким товарищем об этой девочке. – Без шуток, – сказал он. – Мне нужно написать несколько писем и сегодня же отправить на почту. Мой портсигар на туалете.
– Надеюсь, много пройдет времени прежде, чем доведут меня до подобного состояния, – сказал Джон, взяв портсигар.
– Ты, пожалуйста, возврати мне его, – сказал Кросби.
– Верно, невестин подарок, – сказал Джон. – Отличная вещица! Не бойся, возвращу.
– Славный будет шурин, – сказал Кросби про себя, когда затворилась дверь позади удалявшегося потомка фамилии де Курси, и потом снова принялся за перо.
Письмо должно быть написано, и потому он наклонился на стол, решившись во что бы то ни стало исписать лежавшую перед ним бумагу.
«Замок Курси, октября, 186*
Неоцененная Лили. Это первое еще письмо, которое пишу к вам, за исключением маленьких записочек, в которых посылал вам различные приветствия, и как странно звучат эти два слова: первое письмо. Вы, вероятно, подумаете, что оно пришло к вам не так скоро, как бы следовало, но, правду вам сказать, я приехал сюда вчера перед самым обедом. Я долго оставался в Барчестере, встретившись там с весьма странной личностью. Надо вам сказать, что в Барчестере я отправился в церковь и познакомился с священником, служившим обедню, с такой доброй старой душой, и что еще замечательнее, он дед леди Думбелло, которая в настоящую минуту находится здесь. Не знаю, какого вы мнения о леди Думбелло и понравилось ли бы вам провести с ней неделю в одном доме?
Относительно причины моей остановки в Барчестере я должен сказать вам теперь правду, в день моего отъезда я был величайшим обманщиком. Я хотел в то последнее утро избегнуть расставания и потому уехал ранее, чем было нужно. Я знаю, вы будете сердиться на меня, но откровенное признание благотворно действует на душевное спокойствие. Ранним приходом вашим в Большой дом вы разрушили мой план, и в то время, как вы стояли на террасе, провожая нас взорами, я сознавался, что вы были правы, а я не прав. Я так был рад, что вы находились при мне в последнюю минуту разлуки.
Неоцененная Лили, вы не можете представить себе огромной разницы между здешним местом и двумя оллингтонскими домами, и до какой степени я отдаю преимущество образу жизни, который принадлежит последним. Я знаю, что принадлежу к числу людей, которых называют великосветскими, но вы снимете с меня это название, вы меня излечите от этого. Я сильно сомневался в этом, после того как оставил вас, и не думаю, чтобы излечение было невозможно. Во всяком случае, я с полною доверчивостью поручаю себя такому милому доктору. Я знаю, как трудно бывает для человека изменить свои привычки, скажу вам по чистой совести, что я был счастлив в Оллингтоне, наслаждаясь там каждым часом, а здесь меня раздражает всякий человек и почти всякий предмет. Во всем семействе де Курси мне нравится только одна из дочерей, из числа прочих гостей я не могу найти себе не только друга, но даже товарища. Как бы то ни было, мне нет никакой возможности прервать внезапно все подобного рода связи.
По приезде в Лондон, куда спешу с нетерпением, я могу написать больше и гораздо непринужденнее, чем здесь.
Здесь, между этими людьми я сам не свой – или, вернее, здесь я такой человек, каким вы знаете меня, или каким, я надеюсь, вы всегда будете знать меня. Несмотря на то, здешние миазмы не имеют на меня вредного влияния, меня сохраняет от них моя истинная к вам любовь. Хотя я и здесь, но мое сердце на оллингтонских полях, на милой поляне, на милом мосту!
Передайте мою любовь вашей сестре Белл и вашей мама́. Я чувствую уже, что мог бы назвать ее моей мама́. Пожалуйста, милочка Лили, пишите ко мне – немедленно. Надеюсь, что ваши письма будут и длиннее, и лучше, и отраднее моих. По приезде в Лондон я постараюсь, чтобы мои письма были приятнее, чем это.
Да благословит вас Бог,
Душевно вам преданный А. К.».По мере того как письмо пробуждало в Кросби чувство любви, сердце его как будто согревалось, он старался быть нежным и, как льстил себе, искренним и откровенным. Несмотря на то, он некоторым образом сознавал, что приготовлял для себя способ увернуться от намеков своих на привязанность к большому свету, если только увертка эта должна быть безусловно необходимою. «Я старался, – сказал бы он тогда, – я боролся, употребляя все свои усилия, чтобы достигнуть успеха, но, как оказывается, я не способен для такого успеха». У меня нет намерения сказать, что он употребил в своем письме слова подобного рода умышленно, но, употребив их, он не мог избегнуть нарекания, что тут был своего рода умысел.
Кросби прочитал свое письмо, остался им доволен и решил, что голова его может быть свободна по крайней мере на сорок восемь часов. Каковы бы ни были его прегрешения пред совестью, он исполнил свой долг в отношении к Лили. С этой успокоительной мыслью он опустил письмо свое в почтовый ящик.
Глава XIX СКВАЙР ДЕЛАЕТ ВИЗИТ МАЛОМУ ДОМУ
Мистрис Дель признавалась самой себе, что имела мало основания на надежду найти в доме Кросби счастье для своей последующей жизни. Ей нравился мистер Кросби, и она вполне полагалась на него, в Оллингтоне она достаточно узнала его, чтобы убедиться в том, что будущий дом Лили в Лондоне не мог быть для нее отрадным приютом. Он принадлежал к большому свету или по крайней мере обращался между людьми великосветскими. Он будет употреблять все свои усилия, чтобы увеличить свои средства, его жизнь будет беспрерывной борьбой не столько, быть может, для приобретения денег, сколько для приобретения тех вещей, которые могут доставить одни только деньги. Есть люди, для которых восемьсот фунтов стерлингов в год составляют большое богатство, и есть дома, в которые это богатство приносит все удобства жизни. Но Кросби не был таким человеком, и его дом не принадлежал бы к числу подобных домов. Мистрис Дель надеялась, что Лили будет счастлива с ним, и потому оставалась довольна его привычками и образом жизни, относительно себя она принуждена была признаться, что при этом замужестве ее дочь будет совершенно с ней разлучена. Отрадный приют, который она так долго усматривала впереди, и в котором надеялась провести остаток дней своих, должен находиться между полями и деревьями, а не в одной из лондонских улиц. Лили должна сделаться теперь лондонскою леди, но Белл все еще будет оставаться при ней, и все еще можно было надеяться, что Белл найдет для себя дом где-нибудь в провинции.
С того дня, как Лили объявила о предложении Кросби, мистрис Дель чаще и продолжительнее разговаривала с Белл, нежели с младшей своей дочерью, пока Кросби находился в Оллингтоне, это было довольно естественно. Он и Лили постоянно были вместе, между тем как Белл оставалась с своей матерью. Но и после отъезда Кросби в Малом оллингтонском доме сохранялся тот же порядок вещей. Это происходило не вследствие холодности или недостатка любви между матерью и дочерью, но потому, что сердце Лили было совершенно все занято ее женихом и что мистрис Дель хотя и дала полное свое согласие на брак, но только в некоторых отношениях чувствовала расположение к своему будущему зятю. Она никогда не говорила, даже самой себе, что Кросби не совсем ей нравится, напротив, иногда она старалась убедить себя, что очень любит его. Но все же, говоря по правде, это был человек, который не пришелся ей по сердцу. Он далеко не был человеком, который мог бы быть для нее ее сыном, ее родным детищем.
Мистрис Дель и Белл проводили вместе долгие часы, разговаривая о перспективе Лили.
– Странным мне кажется, – сказала мистрис Дель, – что Лили очаровал такой человек, как мистер Кросби, и что она его полюбила. Я не могу представить себе, как она будет жить в Лондоне.
– Если он будет любить и беречь ее, то Лили будет счастлива, где бы он ни жил.
– Я надеюсь, я уверена в этом. Но мне кажется, что она будет так разлучена с нами. Разлука эта произойдет не от расстояния, но от образа жизни. Надеюсь, Белл, что тебя не увезут от меня так далеко.
– Не думаю, чтобы я позволила увезти себя в Лондон, – сказала Белл, засмеявшись. – Впрочем кто может знать свое будущее. Если и уеду в Лондон, то вы, мама, должны находиться при нас.
– Душа моя, я бы не хотела видеть тебя замужем за другим мистером Кросби.
– Но, может быть, я бы сама захотела. Не бойтесь, мама, ведь Аполлоны не каждый день проходят этой дорогой.
– Бедная Лили! Помнишь, как она в первый раз назвала его Аполлоном?
– Я помню это очень хорошо. Я помню, как он пришел сюда на другой день, когда Бернард привел его в наш дом, помню, как вы играли на полянке, в то время, когда я была в другом саду. Тогда я вовсе не думала, чем кончится это новое знакомство.
– Однако, мама, вы не сожалеете об этом?
– Нисколько, если это послужит к ее счастью. Если она будет счастлива с ним, то могу ли я сожалеть, хотя бы он увез ее на край света. Чего же мне больше желать, как только видеть тебя и ее счастливыми?
– Мужчины в Лондоне точно так же счастливо живут с своими женами, как и в провинции.
– О, да, из всех женщин я первая готова подтвердить эту истину.
– Что же касается до Адольфа, то не знаю, почему нам не положиться на него.
– Правда, душа моя, нет никакой причины. Если бы я не полагалась на него, я бы не так охотно дала свое согласие на брак. Но, несмотря за то…
– Дело в том, что он вам не нравится, мама.
– Откровенно тебе скажу, что он не так мне нравится, как, я надеюсь, понравится человек, которого ты выберешь себе в мужья.
Лили ничего не говорила об этом предмете с мистрис Дель, но чувствовала, что ее мать до некоторой степени чуждалась ее. Имя Кросби часто повторялось между ними, но в тоне голоса мистрис Дель, в ее манере, когда она говорила о нем, недоставало той теплоты, той искренности, которую производит неподдельное расположение. Лили не анализировала своих собственных чувств и не старалась разбирать чувства своей матери, но она замечала, что они не были таковы, какими бы она желала их видеть.
– Я знаю, мама не любит его, – говорила она Белл вечером того дня, в который получила от Кросби первое письмо.
– Разумеется, не так любит, как ты, но все же она любит его.
– Не так, как я! Зачем говорить такой вздор: конечно, она не может его любить так страстно, как я. Дело в том, что она вовсе его не любит. Неужели ты думаешь, что я ничего не вижу.
– Я боюсь, что ты видишь уже чересчур много.
– Она ни слова не говорит против него, но если бы она действительно его любила, то верно иногда сказала бы хоть слово в его пользу. Мне кажется, она никогда не произнесет его имени, пока ты или я не заговорим о нем в ее присутствии. Если она не одобряет его, то почему бы не сказать об этом раньше?
– Это уже слишком жестоко, – сказала Белл, с некоторою горячностью. – Она не думает не одобрять его, да и не думала. Ты очень хорошо знаешь мама, и можешь быть уверена, что она никогда не будет вмешиваться в наши дела без какой-нибудь серьезной причины. Что касается до мистера Кросби, то мама дала свое согласие, нисколько не колеблясь!
– Да, это я знаю.
– Как же ты можешь говорить, что она не одобряет его?
– Конечно, я не смею отыскивать недостатков в моей маме. Может быть, все делается к лучшему.
– Непременно, все будет прекрасно.
Хотя Белл и выразила это успокоительное обещание, но она знала так же хорошо, как Лили и ее мать, что семейство их разделится, когда Кросби женится на Лили и увезет ее в Лондон.
На следующее утро мистрис Дель и Белл сидели вместе. Лили была наверху в своей комнате и, вероятно, или писала письмо к жениху, или читала его письмо, или думала о нем, или что-нибудь для него работала. Во всяком случае, она была занята им и потому оставалась одна. Была половина октября, в камине гостиной мистрис Дель пылал огонек. Окно, открывавшееся на полянку, было затворено, тяжелые маркизы были убраны, все показывало безотрадный факт, что остатки лета миновали. Для мистрис Дель это всегда была самая грустная пора, хотя мистрис Дель не обнаруживала явно своей грусти.
– Белл, – сказала она, внезапно взглянув по направлению к окну, – твой дядя у окна, впусти его.
С того времени, как подняли маркизы, стекольчатая дверь была не только закрыта, но и заколочена. Поэтому Белл встала и отворила коридор, чтобы впустить сквайра. Не часто случалось, чтобы он являлся в Малый дом этим путем, и если являлся, то непременно с какой-нибудь целью, о чем он уведомлял заблаговременно.
– Как, уже огонь в камине? – спросил он. – У себя я не раньше начинаю топить камин, как с первого ноября. Я люблю видеть огонь в камине в особенности после обеда.
– А я люблю огонь, когда мне холодно, – сказала мистрис Дель.
Вообще это был предмет, в котором сквайр и его невестка никогда не соглашались, а так как мистер Дель имел какое-то дело, то и не хотел тратить времени на защиту своего взгляда по вопросу о каминном огне.
– Милая Белл, – сказал он, – я хочу поговорить с твоей мама по одному серьезному делу. Вероятно, ты согласишься оставить нас минуты на две?
Белл собрала свое рукоделие и ушла наверх к сестре.
– У нас дядя Кристофер, – сказала она, – пришел к мама по какому-то делу, вероятно, поговорить насчет твоего замужества.
Но Белл ошибалась. Визит сквайра не имел ни малейшего отношения к замужеству Лили.
По уходе Белл мистрис Дель не сделала движения, не сказала слова, хотя очевидно было, что сквайр молчал, собственно, для того, чтобы вынудить с ее стороны какой-нибудь вопрос.
– Мэри, – сказал он наконец, – я скажу вам, зачем я пришел сюда.
При этом мистрис Дель сложила в коробку шитье, которым занималась, и приготовилась слушать.
– Я хочу поговорить с вами о Белл.
– О Белл? – повторила мистрис Дель, с видом крайнего изумления.
– Да, о Белл. Лили выходит замуж, недурно было бы выдать замуж и Белл.
– Я вовсе не вижу в этом надобности, – сказала мистрис Дель. – Я ни под каким видом не тороплюсь от нее отделаться.
– Кто же говорит об этом. Однако нет сомнения, что вы заботитесь об ее благополучии, с своей стороны, я забочусь о ней не менее вашего. При обыкновенных обстоятельствах не было бы никакой надобности торопиться ее замужеством, но могут быть обстоятельства, когда подобная вещь более всего желательна, и мне кажется, что теперь наступили эти обстоятельства.
Судя по тону сквайра, по его приемам, очевидно было, что он говорил серьезно, но в то же время было очевидно, что он находился в некотором затруднении высказать то, что было у него приготовлено. Голос его дрожал, его нервы, по-видимому, приходили в раздражение. Мистрис Дель не хотела помочь ему выйти из этого положения. Она не хотела позволить ему распоряжаться ее дочерями и, будучи обязана выслушать его, неохотно исполняла эту обязанность и даже решилась противоречить всему, что бы он ни сказал. Кончив свой маленький спич об обстоятельствах, сквайр замолчал, мистрис Дель тоже замолчала, остановив неподвижно глаза свои на его лице.
– Я искренно, от всей души люблю ваших детей, – сказал сквайр. – Хотя, кажется, вы не отдаете мне за это должной справедливости.
– Я уверена, что вы их любите, – сказала мистрис Дель, – и мои дочери хорошо знают это.
– Как нельзя более я забочусь о том, чтобы пристроить их и доставить им средства к безбедной жизни. У меня нет своих детей, и потому детей двух моих братьев я считаю своими родными.
Мистрис Дель не сомневалась, что Бернард будет наследником сквайра, и никогда не думала, что ее дочери могут иметь какие-нибудь права на это наследство. В фамилии Делей всем было известно, что старший в роде Делей из мужского колена должен быть наследником всего имения Деля и всех денег Деля. Она вполне признавала всю законность такого распоряжения. Но ей казалось, что сквайр лицемерил, сказав, что любит и заботится о племяннике и двух племянницах как о родных. Бернард был им усыновлен, и никто не оспаривал у дяди права подобного усыновления. Бернард был для него все и, как наследник, обязан был во всем повиноваться. Дочери же мистрис Дель были для него не более того, чем могут быть племянницы для всякого дяди. Он не имел никакого права располагать их замужеством, мать в душе вооружилась и приготовилась вступить в битву за свою собственную независимость и за независимость своих детей.
– Если Бернард женится хорошо, – сказала она, – то, без всякого сомнения, это будет для вас большим утешением.
Этими словами мистрис Дель хотела дать понять сквайру, что он не имеет никакого права беспокоиться о супружестве других.
– Совершенная правда, – сказал сквайр. – Это было бы для меня величайшим утешением. А если бы он и Белл сошлись друг с другом, то, мне кажется, это было бы большим утешением и для вас.
– Бернард и Белл! – воскликнула мистрис Дель.
Никогда еще идея о подобном союзе не приходила ей в голову, и потому она, пораженная изумлением, осталась безмолвною. Она всегда любила Бернарда Деля, питала к нему более родственной любви, чем к которому либо из других Делей за стенами своего дома. Он был в ее доме как свой, ее дочери любили его, как родного брата. Но она никогда не рассчитывала на него как на будущего мужа Лили или Белл.
– Разве Белл не говорила вам об этом? – спросил сквайр.
– Ни слова.
– И вы никогда не думали об этом?
– Решительно никогда.
– Я так думал об этом очень много. Я думал об этом в течение нескольких лет, у меня давно задуман этот план, и если он не исполнится, то я буду очень несчастлив. Тот и другая для меня очень дороги – дороже, чем кто-нибудь другой. Если бы мне привелось увидеть их мужем и женой, я бы спокойно оставил им свое старое место.
Никогда еще сквайр не обнаруживал перед своей невесткой более теплого чувства, и никогда еще невестка не доверяла этому чувству с такою искренностью, как теперь. Она не могла не сознаться самой себе, что это неожиданное проявление теплой любви относилось и до ее дочери, и потому чувствовала себя обязанною выразить за нее свою признательность.
– Вы очень добры, если думаете о ней, – сказала мать, – очень добры.
– Я много, много о ней думаю, – сказал сквайр. – Впрочем это не идет теперь к делу. Я должен сказать, что она отклонила предложение Бернарда.
– Разве Бернард делал ей предложение?
– Так, по крайней мере, он сказывал мне, и она отказала ему. Быть может, с ее стороны это было весьма естественно, потому что она не привыкла смотреть на него, как на будущего мужа. Я не виню ее. Я не сержусь на нее.
– Сердиться на нее! Да едва ли вы можете сердиться за то, что она не влюблена в своего кузена.
– Я и говорю, что не сержусь на нее. Но мне кажется, она могла бы подумать об этом. Ведь вы не прочь от такой партии, не правда ли?
Мистрис Дель не дала сейчас же ответа, она начала обдумывать этот предмет и рассматривать его с различных точек зрения. С первого взгляда в нем было весьма много хорошего. Все местные условия были в его пользу. Относительно ее самой он обещал все, чего она желала. Он предоставлял ей возможность часто видеться с Лили, потому что, если бы Белл устроилась в старом фамильном доме, Кросби, весьма естественно, часто приезжал бы к своему другу. Она тоже любила Бернарда, ей представлялось, что если брак этот состоится, то между ней и старым сквайром восстановится доброе согласие и взаимное уважение.
– Ну, что же? – сказал сквайр, пристально смотревший в лицо своей невестки.
– Я все думала, – отвечала мистрис Дель. – Так вы говорите, что она отказала ему?
– К сожалению, это правда, впрочем, вы знаете…
– Я знаю, что это должно быть предоставлено ее произволу.
– Если вы хотите сказать, что Белл нельзя принудить выйти замуж за ее кузена, то, конечно, мы все это знаем.
– Я хочу сказать еще более.
– Что же такое?
– Что это дело должно предоставить ее решению, ни вы, ни я не должны в этом случае прибегать к убеждению. Если он сам может убедить ее, тогда…
– Ну да, конечно. Он должен убедить ее. Я совершенно согласен с вами, что он должен сам защищать свое дело. Но посмотрите сюда, Мэри, Белл всегда была послушна вам…
– Это правда.
– Слово с вашей стороны много будет значить в этом деле. Зная, что вам приятно было бы, если бы она вышла замуж за кузена, она будет считать своим долгом…
– Вот этого-то я и не в состоянии сделать.
– Дайте мне договорить, Мэри. Вы останавливаете меня и начинаете браниться, прежде чем я высказал половину того, что намерен сказать. Само собою разумеется, я знаю, что в нынешние времена нельзя молоденькую девушку принудить выйти замуж, но, сколько я вижу, они поступали бы в этом деле менее опрометчиво, если бы действовали не совсем по своему.
– Я никогда не позволю себе просить мою дочь выйти замуж за человека, который, может быть, ей и не нравится.
– Но вы можете объяснить ей обязанность хорошенько обдумать предложение, прежде чем сделать решительный отказ. Девочка должна быть или влюблена, или нет. Если влюблена, то она готова повиснуть на шее мужчины, как это и было с Лили.
– Она никогда не думала о замужестве, пока ей не сделали предложения.
– Теперь это дело решеное. Но если девочка не влюблена, она считает долгом уверять и клясться, что никогда не будет любить.
– Я знаю, что Белл ничего подобного не делала.
– Нет, делала. Она сказала Бернарду, что не любила его и не могла его любить, мало того, что она не хочет даже и думать об этом. Мэри, это факт, который я называю упрямством. Я не хочу принуждать ее, не хочу, чтобы и вы принуждали, но есть одно обстоятельство, которое для нее будет очень хорошо, – вы должны допустить это. Нам всем известно, что она в превосходных отношениях с Бернардом. Поэтому можно полагать, что они не будут ссориться и ненавидеть друг друга на всю жизнь. Она говорила, что очень любит его, что будет для него сестрой и другой вздор в этом роде.
– В этом я не вижу никакого вздора.
– Вздор, вздор, особливо при таком случае. Если мужчина просит девушку выйти за него замуж, ей нечего говорить, что она будет для него сестрой. Я считаю это за чистейший вздор. Если она поразмыслит о предложении как следует, то скоро научится любить его.
– Этот урок, если только нужно выучивать его, должен быть выучен без помощи учителя.
– Значит, вы вовсе не хотите помочь мне?
– По крайней мере, я не буду вам мешать. И сказать вам правду, я должна подумать об этом вопросе, прежде чем решусь говорить о нем с Белл. Судя по ее молчанию…
– Я думаю, она уже говорила с вами.
– Нет, мистер Дель. Если бы она приняла предложение Бернарда, то, без всякого сомнения, объявила бы мне. Если бы она намерена была принять его, то, вероятно, посоветовалась бы со мной. Если же она решилась отказать…
– Ей не следовало бы этого делать.
– Если она решилась отказать, то мне кажется весьма естественным, что она не говорила об этом. Вероятно, она думает, что Бернарду будет приятнее, если никто не узнает об этом.
– Вздор! Вам нужно время подумать об этом, потому теперь я больше ничего не скажу. Будь она моей дочерью, я бы не задумался объяснить ей то, что считал бы за лучшее для ее благополучия.
– Можете быть уверены, мистер Дель, что я сама забочусь о ее благополучии. Я скажу ей непременно о вашем к ней расположении и любви. Поверьте мне, что за это чувство я всегда буду питать к вам искреннее уважение.
В ответ на эти слова мистер Дель покачал головой, и что-то промямлил.
– А как вы сами-то, желаете их брака? – спросил он.
– Даже очень желаю, – сказала мистрис Дель. – Я всегда любила Бернарда и уверена, что дочь моя была бы с ним счастлива. Но в деле подобного рода, вы сами знаете, моя любовь или нелюбовь ни к чему не поведут.
И они расстались, сквайр вышел в ту же дверь, вполовину довольный этим свиданием. Впрочем, это был человек, для которого и половинного удовольствия было достаточно. Он редко позволял себе надеяться, что люди охотно будут доставлять ему полное удовольствие. Мистрис Дель с самого приезда в Малый дом никогда не была для него источником утешения, по этому случаю он даже сожалел, что привез ее туда. Он был человек, настойчиво преследовавший свои цели, но без горячности, и ни под каким видом не ожидая, что у него все будет делаться гладко.
Он решил в своем уме, что племянник его и племянница должны быть соединены вместе брачными узами, и если бы ему не удалось исполнить этого, то такая неудача послужила бы отравой для всей его последующей жизни, не в натуре также было этого человека сердиться или браниться при встрече сопротивления. Он сказал мистрис Дель, что любит Белл как родную дочь. Действительно, он так и любил ее, хотя в разговорах с ней редко оказывал ей особенное внимание и никогда особенной нежности. Теперь же он любил ее меньше, потому что она действовала наперекор его желаниям. Он был постоянный, положительный человек, действовавший скорее настойчиво, чем рассудительно, более грубый в словах, чем в мнениях, с более теплым сердцем, чем полагали другие или чем знал он сам, за всем тем он был человек, который, однажды пожелав иметь какую-нибудь вещь, не оставит этого желания на всю свою жизнь.
Мистрис Дель, оставшись одна, начала разбирать этот вопрос с большею подробностью, чем вместе со сквайром. Не будет ли этот брак для них всех счастливейшим семейным событием? Ее дочь не имела никакого состояния, а тут для нее приготовлен будет всякий комфорт, какой только может доставить богатство. Она будет принята в дом дяди не как бедная, бесприданная невеста, которую бы Бернард мог взять за себя, но как жена, выбор которой одобрили бы все друзья Бернарда. И потом, относительно самой мистрис Дель, в таком браке решительно бы все восхищало ее. Он осуществил бы все мечты ее о будущем счастье.
Но, как она снова и снова говорила себе, все это не разрешает вопроса. Решить его должна была сама Белл, и только она одна. С идеей о любви соединялось в ее понятиях что-то священное. Она стала бы считать свою дочь отверженною, если бы та вышла замуж без всякой любви, если бы она не любила своего мужа, как Лили любила Кросби, – всем сердцем, всею силою своей души.
При таком убеждении мистрис Дель чувствовала, что не много хорошего может она посоветовать Белл.
Глава XX ДОКТОР КРОФТС
Изабелла Дель ни в чем не была так вполне уверена, как в том, что она не влюблена в доктора Крофтса. Что касается до ее любви к кузену Бернарду, ей не представлялось еще случая предлагать себе вопрос по этому предмету. Правда, она любила его как брата, но никогда не думала о том, чтобы быть со временем его женой, а теперь, когда Бернард сделал предложение, она совсем перестала думать об этом. Что же касается доктора Крофтса, она часто, почти постоянно думала о нем, как о будущем своем муже.
Надо сказать, что мисс Белл нельзя было бы оправдывать за такие, хотя и самые сокровенные думы, если бы сам доктор Крофтс не подал ей к тому повода. Поэтому необходимо разобрать, каким образом доктор Крофтс подал подобный повод. Это может быть сделано различным образом. Мисс Дель не могла предлагать себе вопросов о нем, если не представлялось к тому удобного случая.
Профессия медика в небольшом провинциальном городке редко доставляет занимающемуся ею хорошие выгоды в молодые годы жизни. Быть может, ни на каком другом поприще не должно так много трудиться, чтобы заработать что-нибудь, а иногда и вовсе ничего нельзя заработать. Мне часто казалось, что молодые и старые доктора согласились делить между собою различные результаты своей профессии: молодые доктора исполняют весь труд, а старые собирают все деньги. Этим можно объяснить преждевременную серьезность, которая является в наружности многих медиков. При таком положении нельзя винить молодого человека за его расположение оставлять свойственные молодым людям наклонности в ранней поре своей жизни.
Доктор Крофтс занимался практикой в Гествике около семи лет, пристроившись в этом городке, когда ему было от роду двадцать три года, в период нашего рассказа ему было около тридцати лет. В течение тех семи лет его искусство и трудолюбие были вполне оценены, так что он успел оставить за собой медицинское попечение о всех бедных городского общества и за этот труд получал сто фунтов стерлингов в год. Кроме того, он был ассистентом в небольшом городском госпитале и занимал еще две или три другие подобные общественные должности, что вообще служило доказательством его способностей и успеха. Они избавляли его от опасностей лености, но, к несчастью, не доставляли ему возможности считать себя человеком независимым в материальном отношении, между тем как старый доктор Груфен, о котором не многие отзывались с хорошей стороны, приобрел состояние в Гествике и все еще продолжал извлекать из городских недугов значительные и нисколько не уменьшающиеся доходы. Положение доктора Крофтса было крайне стеснительно, особливо при обстоятельствах, о которых мы упомянули.
Доктор Крофтс был знаком с семейством Делей задолго прежде своего устройства в Гествике и с того времени и по настоящий день находился с ними в самых дружеских отношениях. Из всех мужчин молодых и старых, которых мистрис Дель считала своими близкими друзьями, он был один, к которому она имела более доверия и которого более других любила. Впрочем, это был такой человек, на которого все знавшие его могли вполне положиться. Он не был таким светским и блестящим, как Кросби, и не имел такого практического ума, каким обладал Бернард Дель. В силе ума своего, мне кажется, он не превосходил даже Джона Имса, разумеется принимая в сравнение период, когда ребячество Джона Имса должно миноваться. Но Крофтс, в сравнении с этими тремя джентльменами, при настоящих их качествах, заслуживал несравненно более доверия, чем каждый из них. Он обладал случайными проблесками юмора, без которого едва ли бы успел заслужить такое расположение к себе со стороны мистрис Дель, каким пользовался в настоящее время.
Юмор этот, однако же, был спокойный, проявлявшийся в присутствии весьма немногих близких друзей, а не в собрании большого общества. Кросби, напротив, способен был блистать только среди многочисленного общества, а не при одном каком-нибудь или двух собеседниках. Бернард Дель никогда не блистал своим юмором, что же касается до Джонни Имса… он не успел еще заявить перед светом, что обладает остроумием.
Прошло два года с тех пор, как мистрис Дель обратилась к Крофтсу за медицинским советом. Она была долго больна, месяца два или три, и доктор Крофтс часто являлся с визитами в оллингтонский Малый дом. В этот промежуток времени он очень сблизился с дочерями мистрис Дель, и в особенности с старшей. Молодых неженатых докторов не следовало бы, по моему мнению, приглашать в дома, где находятся молоденькие барышни. По крайней мере, я знаю многих мудрых матерей, которые сильно придерживаются этого мнения, полагая, вероятно, что доктора должны жениться тогда, когда начнут приобретать состояние. Мистрис Дель, быть может, считала своих дочерей еще просто детьми, потому что старшей из них, Белл, было тогда восемнадцать лет, или, может быть, она держалась своих мнений по этому предмету, или, наконец, может быть, и то, что она предпочитала доктора Крофтса доктору Груфену, подвергая опасности своих детей и самое себя. Как бы то ни было, результат был таков, что молодой доктор, возвращаясь однажды из Оллингтона в Гествик, окончательно убедился, что земное его счастье будет положительно зависеть от возможности жениться на старшей дочери мистрис Дель. В то время весь его доход простирался немного более за двести фунтов стерлингов в год, но он рассуждал, что доктор Груфен считался в общественном мнении лучшим медиком и что рыжеволосому ассистенту доктора Груфена представлялся шанс выиграть еще более в общественном мнении, когда первый из них будет признан слишком устарелым для медицинской практики. Крофтс не имел своего состояния и знал, что его не было у мисс Дель. При таких обстоятельствах что же предстояло ему делать?
Не считаем за нужное входить в подробности тех периодов любви в жизни доктора, происходивших за три года до начала этого повествования. Крофтс не признавался Белл в своей любви, но Белл, при всей своей молодости, очень хорошо понимала, что он не замедлил бы сделать такое признание, если бы ему не изменяло присутствие духа или, вернее, если бы его не удерживало благоразумие. С мистрис Дель он говорил и признавался в своей любви, но не открыто, а одними намеками, жалуясь при этом на свои неудовлетворенные надежды и обманутые ожидания в своей профессии.
– Я не жалуюсь, что я беден, – говорил Крофтс, – моя бедность такова, что не может еще служить источником огорчений, но с настоящими средствами едва ли можно жениться.
– Однако они увеличатся, не правда ли? – спросила мистрис Дель.
– Да, со временем, когда я буду стариком, – отвечал Крофтс, – но тогда какая из этого будет польза для меня?
Мистрис Дель не могла сказать ему, что он может выбрать одну из ее дочерей и на ней жениться, несмотря на его бедность, которая должна еще удвоиться после их брака. Он не упомянул даже имени Белл, а если бы упомянул, то мистрис Дель, без всякого сомнения, посоветовала бы ему ждать и надеяться. После того он ни слова не говорил по этому предмету. Белл тоже он не сказал ни слова о своей любви, но в один весенний день, когда мистрис Дель уже выздоравливала и когда повторение его медицинских советов становилось ненужным, Крофтс пошел с ней прогуляться по дорожкам, вполовину прикрытым кустарниками, и рассказал ей вещи, которых никогда бы не высказал ей, если бы действительно желал привязать ее к своему сердцу. Он повторил ей историю о своих доходах и объяснил, что бедность его тягостна для него только в том отношении, что не позволяет ему думать о женитьбе.
– Я полагаю, – сказал Белл.
– Мне кажется, было бы непростительно с моей стороны сделать предложение девушке разделить со мной средства, которые я имею, – сказал Крофтс.
При этом Белл намекнула ему, что есть девушки, которые имеют состояние, и что, женившись на такой девушке, можно будет устранить затруднение.
– Я бы боялся самого себя, женившись на девушке с деньгами, – сказал он, – и кроме того, это вовсе не относится до настоящего вопроса.
Само собою разумеется, Белл не спросила, почему это не относится до настоящего вопроса, и в течение некоторого времени они шли молча.
– Хотя и тяжело, – сказал он наконец, избегая взоров Белл и глядя на песок, на котором стоял, – хотя и тяжело, но я решился не думать больше об этом. Мне кажется, что человек может быть точно так же счастлив в холостой жизни, как и в семейной… почти точно так же.
– Очень может быть, – сказала Белл.
После этих слов доктор оставил ее, и Белл, как я уже сказал, решила в уме своем с величайшей твердостью, что она не влюблена в него. С своей стороны я положительно могу сказать, что в мире не было ничего, в чем бы она была так уверена, как в этом.
В эти дни доктор Крофтс не очень часто приезжал в Оллингтон. Если бы в семействе Малого дома кто-нибудь захворал, то, разумеется, он являлся бы туда ежедневно. Сквайр для себя и для своих поселян нанимал аптекаря, а когда требовалась серьезная помощь, то посылал за доктором Груфеном. Когда мистрис Дель давала вечер по случаю помолвки своей дочери, доктор Крофтс получил особенное приглашение, впрочем особенных приглашений друзьям мистрис Дель было весьма немного, и доктор знал очень хорошо, что ему нужно придумать какой-нибудь повод к поездке в Малый дом, когда желал видеться с обитателями этого дома. Он, однако же, редко придумывал такие случаи, сознавая, быть может, что находился более в своей стихии, обращаясь с больными в богадельне и госпитале.
Как раз около этого времени, Крофтс сделал большой и неожиданный шаг к преуспеянию на своем поприще. В одно прекрасное утро он был крайне изумлен, когда его потребовали в господский дом подать медицинскую помощь лорду Дегесту. Семейство этого дома пользовал доктор Груфен в течение тридцати лет, и Крофтс, получив приглашение от графа, едва верил словам посланного.
– Граф не очень болен, – сказал слуга, – но он будет рад видеть вас у себя, если можно, перед самым обедом.
– Вы уверены, что он хочет видеть меня? – спросил Крофт.
– О, да, совершенно уверен, сэр.
– Не доктора ли Груфена?
– Нет, сэр, не доктора Груфена. Мне кажется, его сиятельство остались порядочно недовольны доктором Груфеном. Однажды доктор этот посадил его сиятельство в мякину.
– В мякину! С руками и ногами? – спросил Крофтс.
– С руками и ногами! Помилуйте сэр, он просто издевался над ним, как будто его сиятельство был никто. Я не видал сам, но слышал от мистрис Коннор, что милорд страшно ощетинился.
Доктор Крофтс сел на лошадь и отправился в господский дом.
Граф был один, леди Джулия уже уехала в замок Курси.
– Как поживаете, как поживаете? – восклицал граф. – Я так не совсем здоров, мне бы хотелось немного с вами посоветоваться. Оно пустяки, но все же не мешает поговорить с вами.
При этом доктор Крофтс разумеется заявил, что считает за счастье быть полезным милорду.
– Знаю я, знаю все, – сказал граф. – Ваша бабушка Стоддард была старой подругой моей тетки. Вы не помните ли леди Джемиму?
– Нет. Не имел чести знать ее.
– Превосходная старушка, хорошо знала вашу бабушку Стоддард. Груфен пользовал нас, уж я и не знаю как много лет, но, клянусь честью… – И граф не досказал своей мысли.
– Дурной тот ветер, который не приносит ничего хорошего, – сказал Крофтс, с легкой усмешкой.
– Может статься, что-нибудь и принесет, потому что Груфен ничего не приносил. Дело в том, что я здоров, крепок, как лошадь.
– У вас довольно здоровый вид.
– Ни у одного человека не может быть здоровее, конечно, у человека моих лет. Мне ведь шестьдесят, вы это знаете.
– Ваше лицо не показывает, что вы нездоровы.
– Я постоянно на открытом воздухе, и, мне кажется, это лучшее средство для здоровья человека.
– Совершенная правда, особливо при достаточном движении.
– О, я всегда в движении, – сказал граф. – В здешнем околотке нет человека, который бы работал больше моего. Да позвольте вам сказать, сэр, если вы вздумали держать в своих руках шесть или семь акров земли, вы должны присматривать за ней, иначе потеряете все деньги.
– Я всегда слышал, что ваше сиятельство отличный сельский хозяин.
– Я думаю, у меня не пропадает даром ни одного вершка земли. Вы редко застанете меня в постели в шесть часов утра.
После этого Кросби решился спросить его сиятельство, в чем заключался в настоящее время его физический недуг, требующий медицинской помощи.
– Я к этому-то и подхожу, – сказал граф. – Мне говорят, что очень опасно спать после обеда.
– Однако привычку эту нельзя назвать необыкновенной, – сказал доктор.
– Полагаю, что нельзя, а леди Джулия всегда за это сердится на меня. И надо сказать правду, я сплю весьма крепко, особливо когда расположусь в гостиной в креслах. Иногда сестра не может разбудить меня, так, по крайней мере, она говорит.
– А каков у вас аппетит за обедом?
– Отличный. Я никогда не завтракаю, зато уж обедаю вполне. За обедом выпиваю рюмки три или четыре портвейна…
– И после обеда вас клонит ко сну?
– Да, правда, – сказал граф.
Быть может, нет особенной надобности знать, в чем состояло существенное свойство докторского совета, но считаем достаточным сказать, что он подан был так хорошо, что граф выразил свое удовольствие и желание снова увидеться с доктором.
– Посмотрите сюда, доктор Крофтс, я в настоящее время один-одинешенек. Не приедете ли вы завтра отобедать со мной, и потом, когда я посплю, вы скажете мне правду, преувеличивает ли леди Джулия состояние моего сна или нет. Между нами будь сказано, я не совсем верю ей насчет… насчет моего храпения.
Сдерживал ли граф свой аппетит за обедом под глазами доктора, или заказанная для него баранья котлета имела желаемое действие, или разговор доктора был оживленнее, чем леди Джулии, мы не скажем, но только граф в этот вечер находился в необыкновенно приятном настроении духа. Расположившись после обеда в мягком кресле, он раза два только прижмуривал глаза, а когда выпил большую чашку чаю, которую имел обыкновение поглощать в полусонном состоянии, он чувствовал себя совершенно свежим человеком.
– Ах да, – сказал он, встав с кресла и протирая глаза, – я чувствую себя необыкновенно легко. Я люблю вздремнуть после обеда, положительно люблю. А сестра моя считает за преступление, буквально за какой-то грех спать в кресле. Никто еще не заставал ее спящею в кресле! Кстати, доктор, познакомились ли вы с мистером Кросби, которого Бернард Дель привез в Оллингтон? Леди Джулия и он гостят теперь в одном и том же доме.
– Раз я встретил его у мистрис Дель.
– Говорят, что он женится на одной из ее дочерей, правда ли это?
Доктор Крофтс объяснил, что он помолвлен с Лилианой Дель.
– Ах да, говорят, славная девушка. Вы знаете, ведь все эти Дели нам сродни. Сестра моя Фанни замужем за их дядей, Орландо. Мой шурин не любит кататься, и потому я почти никогда его не вижу, во всяком случае, я принимаю участие в этом семействе.
– Это мои старые друзья, – отвечал Крофтс.
– Вот что, у вдовы, кажется, две дочери, не так ли?
– Да, две.
– И мисс Лили младшая. А не слыхать, чтобы сватался кто-нибудь на другой?
– Ничего не слышал.
– Славная девушка. Помнится мне, я видел ее в прошлом году у ее дяди. Неудивительно, если она выйдет замуж за кузена своего Бернарда. Он ведь получит все имение сквайра Деля, он мне племянник, вы знаете?
– Я не совсем одобряю брачный союз между кузенами, – сказал Крофтс.
– А между тем они женятся и выходят замуж, это согласуется с некоторыми семейными видами. Я полагаю, Дель обеспечит их и этим сбудет с рук одну из них без всякого затруднения.
Доктор Крофтс смотрел на этот предмет совсем с другой точки зрения, но не хотел вступить с графом в спор.
– Младшая уже сама себя обеспечила, – сказал он.
– Как обеспечила? Разве тем, что заручилась мужем? Все же я полагаю, что Дель должен ей дать что-нибудь. Они еще не обвенчаны, и, сколько я слышал, этот Кросби ненадежный жених. Он не женится на ней, если Дель не даст ей денег. Вы увидите, женится ли он. Мне сказывали, что в замке Курси он натянул на свой лук другую тетиву.
Вскоре после этого Крофтс отправился домой, дав обещание графу обедать у него в самый ближайший день.
– Для меня будет очень удобно, если вы приедете около того же времени, – сказал граф, – для вас, как холостого человека, это не составит разницы. Приезжайте в четверг, часов в семь. Смотрите, будьте осторожны. Ни зги не видать, так темно. Джон, поди отвори первые ворота для доктора Крофтса.
И граф, проводив гостя, лег спать.
На обратном пути к дому Крофтс все время думал о двух оллингтонских девушках. «Он не женится на ней, если старый Дель не даст ей денег». Неужели свет дошел до того, что для сдержания благородного слова необходимы деньги? Неужели между человечеством не существует более ни романтизма, ни рыцарского чувства? «В замке Курси он натянул на свой лук другую тетиву», – сказал граф, и, по-видимому, в этих словах для него не заключалось ничего изумительного. В этом тоне отзываются в настоящее время мужчины о женщинах, но сам Крофтс чувствовал такое благоговение к девушке, которую он любил, и так страшился повредить ей в ее общественном положении, что не смел даже высказать ей своей искренней, бескорыстной любви.
Глава XXI ДЖОН ИМС ВСТРЕЧАЕТ ДВА ПРИКЛЮЧЕНИЯ И ОБНАРУЖИВАЕТ В ОБОИХ ИЗ НИХ БОЛЬШОЕ ПРИСУТСТВИЕ ДУХА
Лили думала, что письмо ее возлюбленного пришло совершенно вовремя. Она не знала, долго ли идет почта между Курси и Оллингтоном, и потому не считала себя обманутою в своих ожиданиях, когда письмо не пришло к ней в самый первый день. Утром, однако же, она сама сходила на почту удостовериться, что письмо не осталось там.
– Что вы, мисс! все письма разосланы, вы это знаете, – сказала мистрис Кромп, содержательница почтовой конторы.
– Я думала, что письмо ко мне могло как-нибудь остаться на почте.
– Почтальон Джон сегодня же отнес газету к вашей мама. Не могу же я сама приготовлять письма, когда их не пишут те, кому бы следовало писать.
– Извините, мистрис Кромп, но случается, что они остаются до другого дня. Джон не пойдет с одним письмом, если ему нет ничего больше нести для кого-нибудь в нашей улице.
– Он должен идти. Я ни под каким видом не позволю ему оставить здесь не только письма, но даже газеты. С вашей стороны, мисс Лили, нехорошо приходить сюда за письмами. Если он не пишет к вам, я за него не могу писать.
И таким образом бедная Лили воротилась домой встревоженная.
Письмо пришло на другое утро, и все беспокойства были забыты. По ее понятиям в нем не было никаких недостатков – ни в полноте изложения, ни в выражении любви. Когда он сообщил ей, каким образом составлялись у него планы для раннего отъезда собственно с тою целью, чтобы избежать грустной разлуки с ней в последние минуты, Лили улыбнулась, судорожно сжала в своих пальцах концы листка почтовой бумаги и внутренно торжествовала, что успела превзойти его в этом маневре. Она целовала слова, сообщавшие ей ту радость, которую испытывал Кросби при встрече с ней в последние минуты. Лили вполне верила признанию, что он был счастливее в Оллингтоне, чем в замке Курси, и восхищалась мыслью, что это и должно быть так. Там, где он обвинял себя в привязанности к большому свету, Лили оправдывала его и извиняла, убеждая себя в то же время, что он и в этом отношении был рассудителен, как и в других. Само собою разумеется, что человек, живущий в Лондоне и приобретший средства к жизни между людьми большого света, должен быть более светским, чем провинциальная девушка, но его способность любить такую девушку, избрать ее женой себе, разве это не служит достаточным доказательством, что свет не поработил его? «Мое сердце на оллингтонских полях», – говорил Кросби, и Лили, прочитав эти слова, еще раз поцеловала письмо.
В ее глазах, для ее слуха и сердца, письмо было очаровательным посланием. Мне кажется, нет выше наслаждения, доставляемого девушке любовным письмом, девушке, которая знает, что, получив его, она не делает проступка, которая может распечатать его перед отцом и матерью совершенно спокойно и только разве немного вспыхнув от сознания своего положения. Из всех любовных писем первое бывает самое восхитительное! Какая огромная цена придается в нем каждому слову! Каждое выражение в нем рассматривается и принимается в розовом цвете! Какое серьезное значение придается всем милым фразам, которые очень скоро становятся фразами пустыми. Кросби заключил свое письмо, испрашивая на нее благословение Всевышнего. «Да благословит Всевышний и тебя», – сказала Лили, прижав письмо к своей груди.
– Не говорит ли он чего-нибудь особенного? – спросила мистрис Дель.
– Как же, мама, тут все особенное.
– Которое до нас не относится?
– Он посылает свою любовь вам и Белл.
– Премного ему обязаны.
– Так и следует. Между прочим, он пишет, что в Барчестере заходил в собор и встретил там священника, который был дед леди Думбелло. По приезде его в замок Курси леди Думбелло была уже там.
– Какое замечательное стечение обстоятельств! – сказала мистрис Дель.
– Больше ни слова не скажу вам об его письме, – сказала Лили.
С этими словами она сложила его и положила в карман. Оставшись наедине в своей комнате, Лили снова вынула его и несколько раз перечитала.
Это было ее утренним занятием, это и еще какое-то замысловатое рукоделие, предназначенное для украшения особы мистера Кросби. Руки ее, впрочем, были полны работы, или скорее она хотела, чтобы они были полны. Она хотела взять с собой в свой новый дом, после свадьбы, всякого рода хозяйственные принадлежности, произведение ее трудолюбия и бережливости. Она объявила, что ей хотелось бы что-нибудь сделать для своего будущего мужа, и хотелось бы начать это немедленно. В этом случае она непременно решилась выполнить обещания, данные самой себе, не допустить, чтобы ее добрые намерения остались невыполненными. Лили скоро окружила себя орудиями рукоделия, более тяжелыми, чем те, которые употребляла при вышивании туфлей, начатых вслед за отъездом мистера Кросби. Мистрис Дель и Белл хотя в душе и подсмеивалась над ней, но, несмотря на то, работали с ней вместе усердно, по нескольку часов сидели за работой, желая, чтобы дом Кросби не был пуст, когда их милочка займет в нем место хозяйки.
Между тем оказывалось решительно необходимым отвечать на письмо. Она вменяла себе в большое преступление пропустить почтовый день, не отправив письма к Кросби в замок Курси. Сесть за маленький столик, открыть письменные принадлежности и чувствовать, что она должна писать письмо, в котором предстояло высказаться весьма во многом, составляло для Лили беспредельное удовольствие. До этой поры ее переписка была не интересна и слаба по своему содержанию. С матерью и сестрой она почти никогда не разлучалась, подруг хотя и имела, но редко встречала необходимость сноситься с ними по почте. Что особенно интересного, например, могла сообщить она Мэри Имс в Гествик? Когда она писала к Джону Имсу о том, что мама надеется иметь удовольствие видеть его у себя за чайным столом в таком-то часу, это был труд не большой важности, отнявший у нее минуту времени, хотя самая записка и сделалась драгоценным сокровищем для того, кому она была адресована.
Теперь же совсем другое дело. Увидев на бумаге слова: «Неоцененный Адольф», она была изумлена их многозначительностью. Четыре месяца тому назад, она не только не знала, но и вовсе не слышала о нем. А теперь он был для нее и более, и даже ближе, чем сестра или мать! Она припоминала, как подсмеивалась над ним за его мину и называла его пустым франтом в первый день его появления в Малом доме и как в то же время старалась, самым невинным образом, понравиться, когда лондонский гость, совершенный незнакомец, пригласил ее прогуляться. Теперь Кросби более уже не был незнакомцем, напротив, он был самым близким и самым дорогим ее другом.
Лили положила перо, чтобы подумать обо всем этом – конечно, не в первый раз, – и потом быстро схватила его, как бы испугавшись, что почтальон явится перед Малым домом прежде, чем будет кончено, письмо. «Неоцененный Адольф! Не нахожу надобности говорить, до какой степени я восхищена была сегодня утром, когда мне принесли ваше письмо». Я не буду здесь повторять всего письма Лили. Ей нечего было описывать, даже интересного случая, вроде встречи мистера Кросби с мистером Хардином в Барчестере. Она не встречалась с леди Думбелло и не играла дуэта с леди Александриной, о которой, как о подруге, могла бы сказать слово похвалы. Имени Джона Имса она не упоминала, знав, что Джонни Имс не был фаворитом мистера Кросби, да и нечего было говорить о нем, потому что все было уже сказано. Правда, он обещал приехать в Оллингтон, но этот визит еще не состоялся, когда Лили писала к Кросби свое первое любовное письмо. Это было милое, доброе, благородное любовное письмо, полное уверений в неизменной любви и беспредельной вере в его любовь, в нем проглядывал легкий юмор относительно величавых особ в замке Курси, и оно оканчивалось обещанием быть довольной и счастливой, получая постоянно его письма, и жить надеждой на свидание с ним на Рождество.
– Кажется, я не опоздала, мистрис Кромп? – спросила Лили, придя на почту.
– Разумеется, не опоздали, на целых полчаса. Почтальон еще не тронулся с места в пивной лавочке. Опустите письмо в ящик.
– Но вы там его не оставите?
– Оставлю ли я его в ящике! Да разве вы слышали что-нибудь подобное? Если боитесь опустить, то можете взять его с собой, вот и все тут, мисс Лили!
И мистрис Кромп отвернулась к своим занятиям у лоханки. Мистрис Кромп имела нехороший характер, в чем, однако же, ее можно было извинить. По каждому письму, которое приходило по почте, к ней являлись за справками, отнимали у нее время, и за все это, как она часто с глубоким негодованием объясняла своим друзьям, ей давали жалованья «не более двух с половиною пенсов в неделю. Этого мне недостает на башмаки, не говоря о прочем». Так как мистрис Кромп никогда не видали вне ее дома, кроме разве в церкви, и то раз в месяца, то жалобу ее на башмаки едва ли можно назвать основательною.
Лили получила другое письмо и отвечала на него прежде, чем Имс сделал обещанный визит в Оллингтон. Джонни Имс, как нам известно, имел свою корреспонденцию. Он отвечал на письмо мисс Ропер и с того времени страшился двух вещей, в меньшей степени какого-нибудь грозного письма от Амелии и в большей – более грозного визита от этой леди. Ну что, если она в самом деле прилетит в Гествик и перед его матерью и сестрой объявит себя его невестой, что оставалось ему делать тогда? Мисс Ропер, впрочем, не сделала еще этого, мало того, она еще не отвечала на его жестокое послание.
– Надо быть ослом, чтобы бояться ее! – сказал он про себя, идя под тополями гествикской аллеи, тянувшейся по направлению к Оллингтону.
Отправляясь в Оллингтон, в первый раз по приезде из Лондона, он ехал верхом, с блестящими шпорами, в новом платье и перчатках. Тогда он не знал еще о помолвке Лили. Теперь же он довольствовался путешествием, и в то время, как брал шляпу и трость в прихожей дома своей матери, он оставался совершенно равнодушным к своей наружности. Он скоро шел по аллее, под тенью гествикских тополей, по широкой окраине мягкого дерна, окаймлявшего палисады графа Дегеста. «Надо быть ослом, чтобы бояться ее», – размахивая тростью своей по воздуху, ударяя ею то по одному, то по другому дереву, сталкивая камни с дороги, он углубился в размышления о своем положении. «Ничто в мире не принудит меня жениться на ней, – говорил он про себя, – даже если приведут против меня десятки обвинений. Она знает не хуже моего, что я вовсе не думал жениться на ней. Это был обман с начала до конца. Если она приедет сюда, я ей скажу это перед матерью». Но, представив себе внезапное ее прибытие, он сознавался самому себе, что все еще сильно ее боялся. Он сказал ей, что любил ее. Он только это и написал ей. При обвинении он только в этом грехе и должен признаться.
Размышления его постепенно перешли от Амелии Ропер к Лили Дель, но и тут он не видел ничего отрадного в своей перспективе. Он обещал перед отъездом побывать в Оллингтоне – и теперь исполнял свое обещание. Он знал заранее, что в гостиной мистрис Дель будет сидеть молча, с постоянным сознанием, что должен от всех скрывать свою тайну. Ему нельзя свободно говорить в присутствии Лили, он не мог говорить с ней о предмете, занимавшем все его мысли. Если бы он застал ее одну… Но, может статься, тогда положение его было бы еще хуже.
В гостиной не было никого, когда Джонни вошел в нее.
– Они все трое были здесь минуту тому назад, – сказала служанка. – Если вы пойдете в сад, мистер Джон, то наверное найдете их там.
И Джон Имс, нисколько не медля, отправился в сад.
Прежде всего он обошел вокруг сада и никого не встретил. Потом прошел поперек полянки в отдаленный конец сада и там, выступив на небольшую дорожку, проведенную от Большого дома, встретился с Лили.
– Ах, Джон, – сказала она, – как ваше здоровье? Я думаю, вы никого не нашли дома. Мама и Белл в огороде – с Хопкинсом.
– Я исполняю свое обещание, – сказал Имс. – Я сказал, что приду к вам перед отъездом в Лондон.
– Они также будут рады видеть вас, как рада я. Не идти ли и нам в огород? Впрочем, вы, может быть, пришли пешком и устали.
– Да, я шел пешком, – сказал Имс, – но не очень устал.
В сущности же он не хотел идти к мистрис Дель, хотя в то же время решительно не знал, что говорить ему с Лили, оставаясь с ней одной. Он воображал, что перед отъездом ему приятно было бы иметь случай поговорить с ней наедине – воспользоваться последним свиданием с ней, прежде чем она сделается замужнею женщиною. Случай этот представился, и он почти готов был уклониться от него.
– Вы останетесь и отобедаете с нами? – спросила Лили.
– Нет, не могу, я положительно сказал моей маме, что к обеду буду домой.
– Вы так добры, что даже пришли пешком повидаться с нами. Если вы действительно не устали, то сходимте к мама. Она будет очень сожалеть, если не увидит вас.
Лили сказала это, вспомнив в тот момент наставления Кросби насчет Джона Имса. Но Джон решился высказать ей слова, для которых нарочно пришел, он решился наконец воспользоваться случаем, который предоставляло ему счастье.
– Нет, я не пойду в сад сквайра, – сказал он.
– Дяди Кристофера там теперь нет. Он где-то на ферме.
– Если позволите, Лили, я лучше останусь здесь. Я думаю, они скоро воротятся. Разумеется, мне бы приятно было увидеться с ними перед отъездом моим в Лондон. Но, Лили, я пришел сюда собственно для того, чтобы увидеться с вами. Ведь вы сами вызвали меня на обещание.
Не прав ли был Кросби в своих замечаниях? Благоразумно ли она поступала, оказывая искреннее расположение своему старому другу?
– Не лучше ли нам пойти в гостиную? – спросила Лили, чувствуя, что там она будет до некоторой степени безопаснее, чем между садовыми кустарниками и дорожками.
И мне кажется, в этом отношении она была права. Мужчина будет говорить о любви между лилиями и розами, между тем как скромное украшение четырех стен гостиной делает его совершенно немым. Джон Имс некоторым образом сознавал это, он решился оставаться в саду, если только в состоянии будет устроить это.
– Говоря о себе, я не хотел бы уйти отсюда. Я лучше останусь здесь. Итак, Лили, вы выходите замуж?
Сказав эти слова, Джонни пропустил целую половину приготовленного объяснения и начал прямо с его середины.
– Да, – сказала она, – кажется, так.
– Я еще, кажется, не поздравлял вас.
– Я знаю очень хорошо, что вы меня поздравили в вашей душе. Я всегда была уверена, что вы пожелаете мне всего хорошего.
– Вы говорите правду. И если поздравление может поселить во мне надежду, что вы будете счастливы, то я поздравляю вас. Но, Лили…
И он остановился, красота, непорочность и женская грация отнимали у него способность говорить.
– Мне кажется, я понимаю все, что вы хотите сказать. Для меня ненужно обыкновенных слов, которыми можно сказать мне, что я должна считать вас одним из моих лучших друзей.
– Нет, Лили, вы не поняли всего, что я хотел бы сказать. Вы никогда не знали, как часто и как много я думал о вас, как искренно и горячо любил я вас.
– Джонни, теперь вы не должны говорить об этом.
– Не высказав вам этого, я не могу уехать отсюда. Когда я приехал сюда и когда мистрис Дель сказала мне, что вы выходите замуж за этого человека…
– Вы не должны отзываться о мистере Кросби в этом роде, – сказала Лили, обращаясь к нему с видом величайшего гнева.
– Я не имею намерения отзываться о мистере Кросби непочтительно. Позволив себе это, я стал бы презирать самого себя. Без всякого сомнения, вы его любите больше всякого другого.
– Я люблю его больше всего в целом мире.
– И я тоже люблю вас больше всего в целом мире. – Сказав это, он поднялся с своего места и встал перед Лили. – Я знаю, как беден я и до какой степени недостоин вас, хотя вы и выходите за него замуж, но я не думаю, чтобы мне нельзя было высказать того, что у меня лежит на душе. Разумеется, вы не могли принять предложения такого человека, как я. Но я любил вас с того времени, как мы помним себя, и теперь, когда вам предстоит быть его женой, я не могу не сказать вам, что это истина. Вы отправитесь в Лондон и будете там жить, но видеться там с вами для меня невозможно. Я не могу прийти в дом этого человека.
– О, Джон!
– Нет, никогда, никогда с той минуты, как вы делаетесь его женой. Я любил вас, право, не меньше его. Когда мистрис Дель сказала мне о вашей помолвке, я чувствовал себя совершенно убитым. Я ушел, не повидавшись с вами, потому что не мог с вами говорить. Я сделал глупца из себя, да и был глупцом во все это время. Я глуп и теперь, высказывая вам свои чувства, но это делается против моей воли.
– Вы все это забудете, встретив девушку, которую полюбите всей душой.
– Я ли не любил вас всей душой? Но ничего. То, что я хотел вам высказать, я высказал. Теперь я уйду. Если нам случится когда-нибудь в одно и то же время быть здесь, в провинции, может быть, я еще увижусь с вами, но в Лондоне никогда. Прощайте, Лили.
И Джонни подал Лили свою руку.
– Вы не хотите даже подождать мама? – сказала Лили.
– Нет. Передайте ей и Белл мою любовь, они понимают все, они догадаются, почему я ушел. Если вам встретится надобность в человеке сделать что-нибудь, помните, что я всегда сделаю, что бы то ни было.
В то время как он переходил полянку, ему пришло на ум, что самая лучшая услуга, какую он желал бы сделать для нее, это подвергнуть Кросби телесному наказанию. О, если только Кросби будет дурно обходиться с ней, если будет оскорблять ее и если бы только пригласили Джонни отомстить за эти оскорбления! Возвращаясь в Гествик, Джонни все строил воздушный замок, за который Лили Дель ни под каким бы видом не поблагодарила его.
Оставшись одна, Лили залилась слезами. Она не подала своему покинутому обожателю ни малейшей надежды и держала себя во время свидания так, что даже Кросби едва ли бы остался недоволен, но теперь, когда Имс удалился, сердце изменило ей. Она чувствовала, что любила его, не так горячо, как Кросби, но все же любила его нежно и искренно. Если бы Кросби знал ее мысли в эту минуту, я сомневаюсь, чтобы они ему понравились. Она залилась слезами и удалилась в глухую часть сада, где не могли бы ее увидеть ни мать, ни Белл при их возвращении.
Джонни Имс шел весьма тихо, размахивая тростью по воздуху и ударяя концом ее по слою пыли, все его мысли были заняты недавней сценой. Он сердился на себя, думая, что дурно разыграл свою роль, обвинял себя в том, что грубо обошелся с Лили и был самолюбив в выражении своей любви, он сердился также на признание Лили, что она любила Кросби более всего на свете. Он знал, что она иначе и не должна любить его, что это, во всяком случае, было в обыкновенном порядке вещей. Все же он думал, что при нем ей бы не следовало так выражаться. «Она может теперь презирать меня, – говорил он про себя, – но будет время, она станет презирать Кросби». Джонни был вполне уверен, что Кросби был злой, дурной, самолюбивый человек. Он чувствовал, что Лили за ним будет несчастлива. Он несколько сомневался еще, женится ли Кросби, и из этого сомнения старался извлечь для себя частицу утешения. Если Кросби покинет ее и если Джонни представится привилегия избить этого человека до смерти своими собственными кулаками, тогда мир не будет казаться ему постылым. Во всем этом он, конечно, был очень жесток относительно Лили, но разве Лили не жестоко поступила в отношении к нему?
Он все еще размышлял об этих предметах, когда подошел к первому из гествикских пастбищ. Граница земли графа определялась очень ясно, от нее начиналась тенистая аллея тополей, тянувшаяся вдоль дороги, и свободное широкое зеленое поле, за которое признательны были и те, кто гулял на нем пешком, и кто катался верхом. Имс вышел на это поле и, углубленный в свои мысли, незаметно переменил тропинку, как вдруг он услышал на соседнем поле человеческий крик и мычанье быка. Джонни знал, что на этом поле паслось стадо скота графа Дегеста и что в этом стаде находился один особенный бык, которого граф ценил весьма высоко и считал своим фаворитом. Соседи говорили, что бык этот был если не бешеный, то по крайней мере злой, но лорд Дегест с своей стороны утверждал и даже хвастался, что бык его вовсе не имел дурных качеств. «Его дразнят ребятишки, а взрослые еще хуже ребятишек, – говорил граф. – Он никого не тронет, когда его не трогают». Руководимый этим правилом, граф привык смотреть на быка как на огромную рогатую, невинную овцу в своем стаде.
Джон Имс остановился, ему показалось, что он узнал голос графа и что в этом голосе выражалось отчаяние. Вслед за тем раздался в весьма близком от него расстоянии рев быка, при этом Джонни подбежал к воротам и, нисколько не думая о том, что делает, перелез через них и выступил на несколько шагов к середине поля.
– Ало! – вскричал граф. – Вот и еще человек. Иди! Иди!
В непрерывающихся криках графа слышались несвязные слова, но Имс ясно понимал, что граф просил помощи при самых крайних обстоятельствах. Бык делал приступы к своему господину, как будто решившись непременно поднять на рога его сиятельство, при каждом из этих приступов граф быстро отступал на несколько шагов, но отступал, ни на минуту не спуская глаз с своего неприятеля, и, пока животное приближалось к нему, размахивал перед его лицом длинной лопаткой, которую нес в своей руке. Таким образом, делая довольно успешно отступление, граф не имел возможности держаться по прямому направлению к воротам, так что ему угрожала величайшая опасность быть прижатым быком к глухому забору.
– Иди! Иди! – кричал граф, мужественно выдерживая борьбу, хотя и не надеясь пожать все лавры победы. – Иди! Иди! – повторил он, остановясь на тропинке и продолжая размахивать лопаткой, он воображал, что этими воинственными жестами наведет страх на животное.
Джонни Имс, смеясь, побежал на помощь графу, как он побежал бы на помощь всякому поселянину. Это был человек, которому, в этот период его жизни, быть может, я несправедливо приписал бы дар весьма высокой храбрости. Он боялся многих вещей, которых мужчина не должен бы бояться, но никогда не боялся за вред своей коже и костям. Когда Кредль бежал из дома в Буртон-Кресценте, украдкой пробираясь через коридор на улицу, он делал это потому, что страшился Люпекса, думая, что Люпекс прибьет его, нанесет ему удары, которые долго будут для него чувствительны. Джон Имс тоже пожелал бы дать тягу при подобных обстоятельствах, но он пожелал бы этого, собственно, потому, что ему не хотелось бы, чтобы в таком затруднительном положении на него устремлены были взоры всех обитателей дома, и потому еще, что воображение рисовало ему все ужасы картины, в которой полисмен тащит его прочь, с подбитым глазом и разорванным платьем. Здесь же никто не смотрел на него, здесь не было полисменов. Поэтому он бросился на помощь графу, размахивая тростью, с криками, едва ли не громче самого быка.
Животное увидев, что с ним поступают коварно, что число врагов его удвоилось, в то время как на его стороне вовсе не было подмоги, остановилось на минуту, негодуя на несправедливость человеческого рода. Бык встал как вкопанный, вздернув кверху свою голову, он в диком вопле выразил свою жалобу.
– Не подходите к нему! – вскричал граф, почти задыхаясь от усталости. – Держитесь от него подальше! У-у! Уп-уп!
И снова начал размахивать лопаткой, вытирая от времени до времени задней стороной ладони пот, крупными каплями выступавший на его лице.
В то время как бык оставался неподвижным, размышляя о том, не будет ли бегство при подобных обстоятельствах благоразумнее и предпочтительнее удовлетворенному бешенству, Имс налетел на него с намерением нанести удар по голове. Граф, заметив это, сделал тоже шаг вперед и приподнял лопатку к глазам животного. Но бык не мог вынести подобного оскорбления. Он хотел сделать окончательный приступ, нагнув голову по направлению к Имсу, он вдруг с той нерешительностью, которая непростительна и даже позорна не только в быке, но и в полководце, переменил свое намерение и направил рога свои на другого врага. Следствием этого маневра были то, что бык проскочил между обоими врагами, так что граф и Имс очутились позади его хвоста.
– Теперь к воротам! – вскричал граф.
– Только тихонько, не торопитесь, не бегите! – сказал Джонни, принимая в минуту опасности тон советника, тон, который при других обстоятельствах показался бы графу весьма странным.
При этом случае граф нисколько не оскорбился.
– Теперь хорошо! – сказал он, отступая к воротам.
Между тем бык снова обратился к нему, граф сделал прыжок, замахал руками и ногами и потом направил лопатку свою прямо против неприятеля. Имс, сохраняя позицию немного в стороне от своего друга, низко наклонился и бил тростью землю, как будто вызывая животное на бой. Бык видел этот вызов, стоял неподвижно и ревел и наконец решился сделать нападение.
– Отступайте к воротам! – вскричал Имс.
– У! У! Гоп! Гоп! – кричал граф, пятясь назад.
– Теперь перескакивайте, – сказал Имс, когда оба они придвинулись к углу поля, где стояли ворота.
– А вы что будете делать? – спросил граф.
– Я брошусь к забору направо.
Говоря это, Джонни замахал тростью, чтобы привлечь, хотя на минуту, внимание бешеного животного. Граф сделал прыжок к воротам и в момент очутился на верхней перекладине. Бык, увидев, что добыча его убегает, сделал окончательное нападение на графа, ударив головой в ворота так сильно, что граф свалился с них на другую сторону. Лорд Дегест благополучно упал на мягкую траву по другую сторону ворот. Он упал благополучно, но в совершенном изнеможении. Имс между тем сделал прыжок к частому плетню, отделявшему поле от гествикских кустарников. За плетнем находился широкий ров и на другой стороне живая изгородь, которая, однако же, была в некоторых местах попорчена проходившими тайком по полям графа. Имс был молод, развязен и превосходно прыгал. Он так ловко скакнул, что до половины своего туловища ввалился в живую изгородь и вскоре выкарабкался из нее на другую сторону, разумеется не без малого вреда своему платью, рукам и лицу.
Разъяренный бык, оправившись от удара о деревянную перекладину, пристально посмотрел на своего последнего удалявшегося врага, все еще карабкавшегося в кустарниках. Он взглянул на ров и на сломанный плетень, не понимая, до какой степени была слаба для него подобная преграда. Ударив головой в деревянную перекладину, довольно крепкую, чтобы выдержать более сильный удар, бык устрашился кустарников, которые мог бы затоптать ногами без всякого усилия. Как много мы бываем похожи на этого быка, когда, побежденные сопротивлением, которое для нас ничего бы не значило, удаляемся в сторону и ломаем себе ноги, и что еще хуже, сокрушаем сердца свои об алмазные скалы. Бык наконец решил в своем уме, что ему не одолеть живой изгороди, произнес окончательный вопль, повернулся назад и мерным шагом отправился к стаду.
Джонни выбрался из кустарников на дорогу и вскоре с окровавленным лицом стоял подле графа. Одна половина его панталон зацепилась за сучок и разорвалась от пояса до самого низу, шляпа осталась в поле и послужила для быка единственным трофеем.
– Надеюсь, что вы не ушиблись, – сказал Джон.
– О, нет, слава богу, только у меня страшно захватывает дух. Да вы все в крови. Не ударил ли он вас?
– Нет, я оцарапался о сучья в живой изгороди, – сказал Джонни, проводя рукой по лицу. – Жаль только, я потерял свою шляпу.
– Стоит ли об этом говорить: шляп найдется сколько угодно.
– Да, придется постараться найти ее, – сказал Джонни, у которого средства к приобретению шляп не были так обильны, как у графа.
– А бык-то теперь успокоился, – прибавил он, сделав движение к воротам.
В этот момент лорд Дегест вскочил на ноги и схватил молодого человека за воротник его пальто.
– Вы хотите идти за шляпой! – сказал он. – Да надо быть совершенным безумцем, чтобы думать об этом. Если вы боитесь простудиться, возьмите мою шляпу.
– Я вовсе не боюсь простуды, – сказал Джонни. – Но, скажите, милорд, часто он бывает в таком состоянии? – спросил Джонни, кивнув головой на удалявшегося быка.
– Самое тихое животное, настоящая овца, точь-в-точь, как овца. Может статься, он увидел у меня красный носовой платок. – И лорд Дегест показал этот платок своему избавителю. – Где бы я был теперь, если бы вы не подошли!
– Разумеется, там, где вы теперь находитесь, за воротами, милорд.
– Да, только за эти ворота меня бы вынесли четыре человека – ногами вперед. Мне страшно хочется пить. У вас нет с собой фляжки?
– Нет, милорд, не имею.
– В таком случае мы отправимся прямо домой и выпьем по рюмке вина.
На этот раз милорд непременно хотел, чтобы предложение его было принято.
Глава XXII ЛОРД ДЕГЕСТ В СВОЕМ ДОМЕ
Граф и Джон Имс, отделавшись от быка, вместе отправились к господскому дому.
– Вы можете написать записку к вашей матери, и я пошлю ее с мальчиком.
Это был ответ милорда, когда Имс, под предлогом, что его будут ждать дома, отклонялся от приглашения к обеду в господском доме.
– Мое платье в таком беспорядке, милорд, – говорил Джонни. – Я изорвал в изгороди мои панталоны.
– Но ведь у меня, кроме нас двоих и доктора Крофтса, никого не будет. Доктор наверное не взыщет, когда расскажем ему всю историю, а что касается до меня, то мне все равно, если бы вы были в одной сорочке. Вам веселее будет возвращаться в Гествик, пойдемте, пойдемте.
Имс не имел больше предлогов, и потому повиновался приказанию. Теперь он не был так бесцеремонен с графом, как в минуты сражения. Мысль, что графская челядь увидит его в разорванном платье и с непокрытой головой, конфузила его, и ему хотелось лучше отправиться домой, кроме того, он хотел снова обратиться к размышлениям о сцене, происходившей в оллингтонском саду. Как бы то ни было, он считал себя обязанным повиноваться графу и потому пошел вместе с ним через парк.
По дороге граф говорил весьма немного, он был утомлен и задумчив. В немногих словах, высказанных им, обнаруживалась досада на неблагодарность к нему любимого быка.
– Я никогда не дразнил, никогда не обижал его.
– Я полагаю, это самые опасные животные, – сказал Имс.
– Нисколько, когда с ними обходятся как следует. Всему виной, я думаю, красный носовой платок. Мне помнится, что перед ним я вытирал свой нос.
Своему избавителю он ни разу не выразил благодарности.
– Где был бы я теперь и что было бы со мной, если бы вы не пришли ко мне на помощь! – воскликнул он после избавления и больше этого не считал за нужное ничего сказать Имсу.
Впрочем он старался быть любезным, и когда пришел домой, его спутник почти радовался, что его принудили обедать в господском доме.
– Теперь мы чего-нибудь напьемся, – сказал граф. – Мне кажется, я в жизнь свою не испытывал такой жажды.
Показавшиеся два лакея обнаружили изумление при виде Джонни.
– Молодой джентльмен, кажется, ранен, милорд? – спросил дворецкий, глядя на окровавленное лицо нашего молодого друга.
– Его панталоны ранены еще хуже, – сказал граф. – Я бы дал надеть ему свои, да они для него будут слишком коротки и слишком широки, не правда ли? Мне жаль, что вы находитесь в таком неприятном положении, но не думайте об этом.
– Я вовсе и не думаю.
– Я уверен. Виккерс, мистер Имс обедает со мной.
– Слушаю, милорд.
– Он потерял шляпу на средине моего выгона. Пусть человека три или четыре сходят за ней.
– Три или четыре человека, милорд!
– Да, три или четыре человека. С быком моим делается что-то не совсем хорошее. Да позови какого-нибудь мальчика, пусть он возьмет лошадь и свезет записку в Гествик к мистрис Имс. Ах, как хорошо, теперь мне гораздо легче, – сказал граф, поставив на стол стакан, из которого утолял жажду. – Пишите теперь записку, а потом отправимся посмотреть фазанов, до обеда.
Виккерс и лакей догадывались, что что-нибудь случилось необыкновенное, потому что граф особенно хлопотал на счет обеда. Он был очень взыскателен и любил, чтобы гости являлись к его обеду одетые согласно требованиям современной моды, он сам никогда не садился за стол, даже без гостей, не заменив свой утренний, далеко не блестящий наряд парой черного платья, с белым галстуком, оставлял свои старые охотничьи серебряные часы, которые носил в течение дня на засаленной ленточке, накинутой на шею, и надевал небольшие золотые часы с цепочкой и печатями, которые целый вечер болтались над его жилетом. Однажды как-то доктор Груфен был приглашен к нему на обед. «На котлету холостяка, – говорил граф, – кроме меня, не будет ни души». Груфен явился к обеду в цветных панталонах, и после того ни разу не был приглашен к обеду в гествикский господский дом. Все это Виккерс знал очень хорошо, а теперь милорд привел обедать молодого Имса в лохмотьях, которые висели на нем более чем полунеприлично, как выразился Виккерс в кругу своей собратии в лакейской. Поэтому все догадывались, что, должно быть, случилось что-нибудь необыкновенное.
– Я знаю, – говорил Виккерс, – тут было что-то с быком, но бык так не мог перервать ему платье.
Имс написал к матери записку, в которой говорил, что имел приключение с лордом Дегестом и что его сиятельство принудил его отобедать с ним: «Я в клочки изорвал панталоны, – прибавил он в постскриптуме, – и потерял свою шляпу, все прочее обстоит благополучно».
Он вовсе не знал, что лорд Дегест отправил к мистрис Имс коротенькую записку от себя.
«М. Г. (мы приводим здесь вполне содержание записки графа).
Ваш сын, благодаря Провидению, спас мою жизнь. Как это было, я предоставляю ему самому рассказать вам. Он был так добр, что проводил меня до дому и воротится в Гествик после обеда с доктором Крофтсом, который тоже обедает здесь. Поздравляю вас с сыном, одаренным таким хладнокровием, присутствием духа и добрым чувством.
Ваш вернейший слуга Дегест. Четверг, октября 186».После этого лорд Дегест и Джонни Имс отправились смотреть фазанов.
– Знаете ли, что, – сказал граф, – я бы вам советовал заняться охотой. Это удовольствие принадлежит джентльмену, который в состоянии держать дичь в своем поместье.
– Но, милорд, вы знаете, что я постоянно живу в Лондоне.
– Нет, неправда. В настоящую минуту вы не в Лондоне. Вы всегда имеете каникулы. Если вы вздумаете поохотиться, помните, что в моем поместье вы можете распоряжаться как в своем собственном. Это несравненно лучше, чем спать под деревьями. Ха-ха-ха! До сих пор не могу понять, что принудило вас расположиться там. В тот день вы, кажется, не имели дела с быком?
– Нет, милорд. Тогда я даже не видел быка.
– Прекрасно, вы понимаете, что я намерен сказать вам. Когда я говорю о чем-нибудь, то прежде всего подумаю об этом. Вы можете стрелять здесь, сколько вам угодно, если только вздумаете поохотиться.
Полюбовавшись фазанами, они бродили по парку, пока граф не сказал, что пора одеваться к обеду.
– Вам не надо одеваться. Но, во всяком случае, вы можете вымыть руки и отделаться от крови. Я буду в малой гостиной за пять минут до семи и надеюсь там увидеть вас.
За пять минут до семи граф Дегест пришел в малую гостиную и нашел там Джонни, сидевшего за книгой. Граф был чем-то озабочен, обнаруживал некоторое волнение и вообще казался человеком, которому предстояло совершить непривычный подвиг. Он держал что-то в руках и при входе в гостиную во всех своих движениях был связан. На нем, по обыкновению, надет был черный фрак, черные панталоны и белый галстук, но золотая цепочка не красовалась уже на его жилете.
– Имс, – сказал он, – я хочу, чтобы вы приняли от меня маленький подарок, на намять нашего подвига с быком. Он будет напоминать вам об этом подвиге, когда, быть может, меня не станет на этом свете.
– О, милорд…
– Это мои любимые часы, которые я носил несколько времени, у меня есть другие… двое или трое… там где-то наверху. Вы не должны отказать мне. Я терпеть не могу, когда мне отказывают. Тут две или три печати, которые я тоже носил. Я снял только печать с моим гербом, которая для вас бесполезна, а мне необходима. Ключа у этих часов нет, они заводятся колечком – вот так. – И граф показал, как нужно обращаться с этой игрушкой.
– Вы приписываете сегодняшнему происшествию большое значение, – сказал Имс с расстановкой.
– Нет-нет. Я очень мало думаю об этом. Я знаю, что делаю. Положите эти часы в карман до приезда доктора. Да вот и он скачет, я слышу его лошадь. Зачем он не приехал в экипаже, тогда бы мог отвезти вас домой.
– Я умею хорошо ходить пешком.
– Я устрою это дело. Слуга отправится на лошади Крофтса и воротится назад в фаэтоне. Как поживаете, доктор? Полагаю, вы знаете Имса? Пожалуйста не смотрите на него так пристально. Нога у него не повреждена, повреждены только панталоны.
Вслед за этим граф рассказал приключение с быком.
– Теперь Джонни сделается героем в нашем городе, – сказал Крофтс.
– Да, я боюсь только, что он всю славу этого подвига припишет себе, тогда как я боролся вдвое дольше его. Я вам вот что скажу, молодые люди, когда я добрался до ворот, то думал, что у меня не станет больше духу перелезть через них. Юноше двадцати двух лет легко проскочить сквозь живую изгородь, но когда человеку стукнуло шестьдесят, так он призадумается при подобном подвиге. Обед, кажется, готов. Готов и я. Я совсем забыл, доктор, что сегодня мне нужно соблюдать диету. Впрочем, после боя с быком, я думаю, всякому захочется пообедать.
Вечер прошел без особенного удовольствия, и я, к сожалению, должен сказать, что граф, после чашки кофе сейчас же заснул. Во время обеда он был очень любезен с обоими гостями, но к Имсу оказывал необыкновенное расположение, шутил с ним и вообще обращался с некоторою фамильярностью. Он смеялся над ним, припомнив, как застал его спящим под деревом.
– Имс был тогда такой унылый, что я сейчас же подумал: верно влюблен, – сказал граф, обращаясь к доктору.
Он просил Джонни сказать имя своей возлюбленной.
– Выпить разве за ее здоровье, – продолжал граф, положив руку на графин с портвейном, – но прежде я должен узнать ее имя. Кто бы она ни была, я уверен, вам нечего стыдиться за нее. Как! Вы не хотите сказать! В таком случае и я не буду пить больше.
И граф вышел из столовой, но не прежде, как заметив по лицу своих гостей, что шутка его произвела приятное впечатление. Выходя в другую комнату, он облокотился своей рукой на плечо Имса, слуги видели в этом признак, что молодой человек сделается фаворитом графа.
– Он сделает его своим наследником, – сказал Виккерс.
Другой лакей не соглашался с этим замечанием, стараясь доказать мистеру Виккерсу, что, по законам землевладения, наследником должен быть второй кузен его сиятельства, которого граф никогда не видел и не имел ни малейшего расположения видеть.
– Граф не может выбрать себе в наследники кого вздумается, как это можем сделать мы с тобой, – сказал лакей, как видно знакомый с законами отечества.
– Неужели не может? Как это жаль! – сказала хорошенькая горничная.
– Вздор, – возразил Виккерс, – ты по этой части ровно ничего не знаешь. Милорд может завтра же сделать молодого Им-са своим наследником, то есть наследником своего состояния. Он не может сделать его графом, потому что титул этот передается только кровным родственникам.
– А если у него не найдется наследников из его родственников? – спросила горничная.
– Он должен их иметь, – отвечал дворецкий. – Они есть у каждого. Если другой сам и не знает их, то их выищет закон.
С этими словами мистер Виккерс удалился, чтобы избегнуть дальнейшего диспута.
Между тем граф по привычке заснул, и молодые люди из Гествика затруднялись доставить себе какое-нибудь развлечение. Они взяли по книге, но бывают минуты, когда человек совершенно неспособен читать и когда книга служит только прикрытием его лени или скуки. Наконец доктор Крофтс шепотом намекнул, что пора думать об отъезде домой.
– Э, да, что? – спросил граф. – Ведь я не сплю.
Доктор ответил на это, что он поехал бы домой, если его сиятельство позволит ему отдать приказание подать лошадь. Но граф снова захрапел, не обратив дальнейшего внимания на это предложение.
– Не отправиться ли нам, не дожидаясь, когда он проснется? – прошептал Имс.
– Э, что? – спросил граф.
И гости снова принялись за книги, снова обрекли себя на мученичество минут на пятнадцать. По истечении этого промежутка времени, лакей принес чай.
– Э, что? Чай! – сказал граф. – Прекрасно, мы выпьем вместе чаю. Я слышал все, что вы говорили.
Эти слова со стороны графа всегда возбуждали гнев в леди Джулии.
– Ты ничего не мог слышать, Теодор, потому что я ничего не говорила, – возражала она.
– Но я услышал бы, если бы ты говорила, – замечал он в свою очередь сердитым тоном.
На этот раз ни Крофтс, ни Имс не противоречили ему, и он пил свой чай далеко не вполне проснувшись.
– С вашего позволения, милорд, я прикажу подать мою лошадь, – сказал доктор.
– Да, лошадь… да, – бормотал граф в полусонном состоянии.
– Как же вы отправитесь, Имс, если я поеду верхом? – спросил Крофтс.
– Я пойду пешком, – прошептал Имс самым тихим голосом.
– Что-что-что? – вскричал граф, вскочив на ноги. – Ах да! отправляетесь домой? А я думал, что еще посидите здесь и посмотрите, как я сплю. Однако, доктор, ведь я не храпел, не правда ли?
– Так… изредка.
– И не громко? Скажите, Имс, громко ли я храпел?
– Раза два или три, милорд, вы принимались храпеть очень громко.
– В самом деле? – спросил граф, с видом крайнего недоумения. – А между тем, знаете ли, я слышал каждое сказанное вами слово!
В это время подали кабриолет, и двое молодых людей отправились в Гествик, сопровождаемые лакеем, ехавшим позади их на лошади доктора.
– Послушайте, Имс, – сказал граф, простившись с гостями, на пороге приемного зала, – вы говорите, что после завтра уезжаете в Лондон, значит, я с вами больше не увижусь?
– Нет, милорд, – сказал Джонни.
– Так слушайте же. Перед святками я приеду в Лондон на выставку рогатого скота. Двадцать второго декабря вы должны обедать со мной в моем доме, в улице Джермин, в семь часов ровно. Смотрите же, не забудьте. Запишите в памятную книжку, когда приедете домой. Прощайте, доктор, прощайте! Я вижу, что мне должно прибегать к бараньей котлете в середине дня.
Кабриолет покатился.
– Непременно сделает его своим наследником, – сказал Виккерс самому себе, медленным шагом пробираясь к своей комнате.
– Вы верно возвращались из Оллингтона, когда встретились с лордом Дегестом и быком? – спросил Крофтс.
– Да, я ходил туда проститься.
– Все ли они в добром здоровье?
– Я видел только одну, других двух не было дома.
– Кого же вы видели, мистрис Дель?
– Нет, Лили.
– И верно, сидит одна и мечтает о своем прекрасном лондонском обожателе? Конечно, мы должны смотреть на нее как на весьма счастливую девушку. Я нисколько не сомневаюсь, что она считает себя вполне счастливою.
– Не знаю, – сказал Джонни.
– Мне кажется, он очень хороший молодой человек, – заметил доктор. – Только мне не совсем нравятся его манеры…
– Мне тоже не нравятся.
– По всей вероятности, и ему не нравятся ни мои, ни ваши манеры. Впрочем, все к лучшему.
– Не вижу тут ничего хорошего. Он просто сноб, а я – нет.
Джонни выпил у графа две рюмки крепкого портвейна и потому более, чем когда-нибудь, был расположен к откровенности и вместе с тем к более крепким выражениям.
– Нет, я не думаю, что он сноб, – сказал Крофтс. – Если бы он был таким, мистрис Дель заметила бы это.
– Увидите, – сказал Джонни, сильно ударив вожжами лошадь графа, – увидите. Человек, позволяющий себе важничать перед другими, есть сноб, а он сильно важничает. К тому же я не думаю, что он честный, прямой человек. Черный для нас тот день, в который он явился в Оллингтон.
– Я не вижу этого.
– А я так вижу. Впрочем, никому другому я слова не сказал об этом, и не намерен говорить. Что тут может быть хорошего. Я полагаю, Лили должна теперь выйти за него.
– Разумеется должна.
– И быть несчастною на всю свою жизнь. О-о-ох! – И Джонни действительно вздохнул из глубины души. – Крофтс, я вам вот что скажу. Он берет прелестнейшую девушку из нашего места, девушку, которой он ни под каким видом не заслуживает.
– Я не думаю, однако же, что ее нельзя сравнить с ее сестрой, – сказал Крофтс протяжно.
– Как! Лили не может сравниться? – возразил Имс, как будто доктор сказал величайшую нелепость.
– Я всегда был такого мнения, что Белл несравненно лучше своей сестры.
– Вот что скажу я вам, мои глаза никогда еще не останавливались на создании, которое было бы так очаровательно, как Лили Дель. И этот зверь хочет жениться на ней! Послушайте, Крофтс, я все думаю, как бы мне затеять с ним ссору.
Крофтс, заметив при этих словах свойство болезни, которою страдал его спутник, не сказал больше ни слова ни о Лили, ни о Белл.
Вскоре после того Имс находился уже у дверей своего дома и был встречен матерью и сестрой с тем восторгом, с которым встречают героев.
– Он спас жизнь графа! – восклицала мистрис Имс, читая перед дочерью записку лорда Дегеста. – О боже! – И она почти в обмороке откинулась к спинке дивана.
– Спас жизнь лорда Дегеста! – сказала Мэри.
– Да, благодаря Провидению.
– Как же он сделал это?
– С помощью своего хладнокровия, присутствия духа и самоотвержения, так, по крайней мере, говорит милорд. Однако и в самом деле, как он сделал это?
– Как бы там ни сделал, только все же он изорвал себе платье и потерял шляпу, – заметила Мэри.
– Я нисколько об этом не думаю, – сказала мистрис Имс. – Не имеет ли граф какого влияния на управление сбора государственных доходов? Прекрасно было бы, если бы он мог повысить Джонни. Ведь это доставило бы сразу семьдесят фунтов стерлингов в год. Разумеется, он имел полное право остаться и обедать, когда милорд пригласил его. И Крофтс тоже там. Неужели понадобилась медицинская помощь?
– Нет, не думаю, ведь в записке говорится только о панталонах.
Таким образом, мать и сестра принуждены были ждать возвращения Джонни.
– Расскажи пожалуйста, Джон, как ты сделал это? – спросила мать, обнимая сына, лишь только отворилась дверь.
– Расскажи, как ты спас жизнь графа? – спросила Мэри, стоявшая позади матери.
– Неужели его сиятельство был бы убит, если бы ты не подоспел на помощь? – спрашивала мистрис Имс.
– И он очень сильно избит? – спросила Мэри.
– О, вздор! – отвечал Джонни, на которого результаты дневных подвигов вместе с портвейном графа все еще производили неприятное впечатление.
При обыкновенных случаях мистрис Имс рассердилась бы на подобный ответ своего сына, но в настоящую минуту она смотрела на него как на человека, стоявшего весьма высоко в общем мнении, и потому не чувствовала ни малейшей обиды.
– Расскажи, Джонни, пожалуйста. Нам непременно хочется узнать, как было дело.
– Да, право, нечего рассказывать, кроме разве того, что на графа бросился бык в то время, как я проходил мимо его поля, я прибежал на это поле, помог графу, и потом он заставил меня остаться у него отобедать.
– Однако его сиятельство говорит, что ты спас ему жизнь, – сказала Мэри.
– Благодаря Провидению, – прибавила мать.
– Граф подарил мне золотые часы с цепочкой, – сказал Джонни, вынув из кармана графский подарок, – признаться, я давно нуждался в часах. Мне не хотелось, однако же, брать их.
– С твоей стороны было безрассудно отказаться от них, – сказала мать, – я от души радуюсь, что ты был так счастлив. Помни, Джонни, когда тебе встречается счастье, не отворачивайся от него.
Наконец нежность матери и сестры заставили Джонни растаять, и он рассказал им всю историю. Боюсь только, что при описании подвигов графа, вооруженного лопаткой, он едва ли отзывался о своем патроне с достодолжным уважением.
Глава XXIII МИСТЕР ПЛАНТАЖЕНЕТ ПОЛЛИСЕР
Неделя пролетела над головою мистера Кросби в замке Курси без особенного неудобства относительно хорошо известного факта о его брачной помолвке. Джорж де Курси и Джон де Курси каждый по своему осуждали его поступок и старались досаждать ему, обращаясь как можно чаще к этому предмету, но Кросби нисколько не тревожили ни остроты, ни злословие Джоржа и Джона де Курси. Графиня после немногих слов, высказанных в первый день приезда Кросби в замок, не намекала даже на Лили Дель и, по-видимому, вполне решилась смотреть на его действия в Оллингтоне как на препровождение времени, свойственное молодому человеку в таком положении. Его завезли в скучную деревню, и он, весьма естественно, предавался там удовольствиям, какие могла доставить эта деревня. В виде вознаграждения за скуку, испытываемую им в обществе сквайра, Кросби стрелял куропаток и влюбился в молоденькую барышню. Быть может, он зашел немного далеко в любви своей, но никто не знал лучше графини, как трудно бывает для молодого человека не зайти далеко в деле подобного рода. Не ее было дело принимать на себя обязанность цензора поведения молодых людей. В этом случае, без всякого сомнения, и Кросби, и мисс Дель были одинаково виноваты. Правда, она сожалела, что молоденькая барышня должна испытать разочарование, но если барышни будут неблагоразумны, будут надевать чепцы на мужчин выше их по своему положению в обществе, то разочарование неизбежно. Таким языком леди де Курси говорила об этом предмете между своими дочерями, и ее дочери вполне соглашались с ней, что женитьба мистера Кросби на мисс Лили Дель – дело несбыточное. В течение недели он не видел от Александрины ни одной из тех насмешек, которых ожидал. Он обещал объяснить перед отъездом все обстоятельства, сопровождавшие его знакомство с Лили, и потому леди Александрина решилась потребовать исполнения обещания, но до этой поры она не обнаруживала ни малейших признаков досады или охлаждения дружбы. К сожалению, я должен сказать, что в последовавшем между ними разговоре эта дружба ни под каким видом не была менее нежна, чем в Лондоне.
– Когда же вы расскажете мне обещанное? – спросила она тихим голосом, в то время, когда они стояли у окна бильярдной, в те досужных полчаса, которые всегда случаются прежде, чем настанет необходимость приготовиться к обеду.
Леди Александрина каталась верхом и была в костюме амазонки. Кросби только что возвратился с охоты. Она знала, что в этом наряде была необыкновенно хороша. Наступали сумерки, но еще не смерклось, и в бильярдной не было искусственного освещения. Был предлог сыграть на бильярде, но это был только предлог.
– Даже Диана, – сказала она, – не играла на бильярде в подобном костюме.
Александрина положила кий, и они вместе подошли к углублению полукруглого окна.
– Что я обещал вам? – спросил Кросби.
– Вы сами знаете. Конечно, для меня это не составляет особенного интереса, но вы обещали, и этим возбудили мое любопытство.
– А если это для вас не составляет особенного интереса, – сказал Кросби, – то вы, вероятно, согласитесь освободить меня от этого обещания.
– От вас этого можно было ожидать, – сказала она. – Как любят мужчины обманывать! Вы, кажется, хотели купить мое молчание о неприятном предмете ложным предложением своей будущей откровенности и своего доверия ко мне, и теперь говорите, что не намерены доверить мне вашей тайны.
– Вы с самого начала сказали мне, что предмет этот нисколько вас не интересует.
– Опять ложь, опять обман! Вы хорошо знаете, что я подразумевала под этими словами. Помните, что вы говорили мне в первый день вашего приезда? Неужели же мне не следовало сказать, что ваша женитьба на той или другой барышне не составляет для меня особенного интереса? Все же, как ваш друг…
– Прекрасно, как мой друг!
– Мне приятно было бы узнать… Впрочем, я не намерена просить вашей откровенности, одно только скажу вам, что в глазах моих тот человек низок, который сражается под фальшивым флагом.
– И вы думаете, что я сражаюсь под фальшивым флагом?
– Да, думаю. – Говоря эти слова, леди Александрина вспыхнула под полями своей шляпы; как ни был тускл потухающий свет вечера, Кросби, взглянув ей в лицо, увидел на нем яркий румянец. – Да, думаю. Тот джентльмен действительно сражается под ложным флагом, который приезжает в дом, подобный здешнему, где идет общий говор о его помолвке, и потом ведет себя, как будто ничего подобного не существовало. Само собою разумеется, для меня это все равно, я только называю это сражением под ложным флагом. Теперь, сэр, от вас совершенно зависит выполнить обещание, данное мне в первый день вашего приезда сюда, или же пусть и остается оно одним обещанием.
Надо признаться, леди Александрина выдерживала бой с большой храбростью и даже с некоторым искусством. Дня через три или четыре Кросби уедет, а если победа оказывалась необходимою, то ее должно было выиграть в эти три или четыре дня. В случае потери сражения Кросби непременно должен быть наказан, на него должно излиться все мщение, которым она могла располагать. Впрочем, леди Александрина не замышляла глубокого мщения и не была приготовлена к тому, чтобы испытывать сильный гнев. Она любила Кросби, как любила всякого другого мужчину. Она полагала, что и Кросби любил ее точно так же. Она не предавалась более сильной страсти, но думала, что замужняя жизнь приятнее блаженного одиночества. Она нисколько не сомневалась, что Кросби обещал жениться на Лили Дель, но точно такое же или почти такое же обещание он дал и ей. Игра была чистая, леди Александрине хотелось бы ее выиграть. В случае проигрыша она обнаружила бы свой гнев, но гнев мягкий, слабый, она вздернула бы нос перед Лили в присутствии Кросби и сказала бы несколько оскорбительных для него слов за его спиной. Ее гнев не увлек бы ее далее этого.
– Теперь, сэр, от вас совершенно зависит выполнить обещание, данное мне в первый день вашего приезда, или же пусть и останется оно одним обещанием.
Сказав это, она отвернулась от него и стала смотреть в темную даль.
– Александрина! – сказал Кросби.
– Что вам угодно? Позвольте вам заметить, что вы не имеете права обращаться со мной фамильярно. Вы знаете, что не имеете права называть меня просто по имени.
– Вы требуете, чтобы в разговоре с вами я употреблял ваш титул?
– Всякая леди станет требовать от джентльменов того, что вы называете их титулом, если только джентльмены не пользуются привилегией дружбы более той, на которую вы имеете право рассчитывать. Ведь вы не называли мисс Дель по ее имени, пока не получили на это позволения?
– Но вы позволяли мне называть вас по имени.
– Никогда! Раза два, когда вы сделали это, я не запрещала вам, хотя бы и следовало запретить. Итак, сэр, если вы ничего не имеете сказать мне, я оставлю вас. Я должна признаться вам, что не думала видеть в вас такого труса.
Приготовляясь уйти, она приподняла полы своего редингота и взяла хлыстик, лежавший на окне.
– Александрина, останьтесь на минуту, – сказал Кросби, – я несчастлив, и уверен, что вы не употребите выражений, которые бы делали меня еще несчастнее.
– Почему же вы несчастны?
– Потому… я скажу вам сию минуту, если могу быть уверен, что говорю вам одним, а не всему дому.
– Разумеется, я не стану рассказывать другим. Неужели вы думаете, что я не умею хранить тайны?
– Я несчастлив потому, что обещался жениться на одной девушке, а люблю другую. Теперь я вам все сказал, и если вам угодно утверждать, что я сражаюсь под фальшивым флагом, то я оставлю замок, прежде чем вы еще раз увидите меня.
– Мистер Кросби!
– Теперь вам все известно, и вы можете себе представить, счастлив ли я или нет. Вы, кажется, сказали, что время одеваться к обеду.
И без дальнейших объяснений молодые люди разошлись по своим комнатам.
Как только Кросби очутился один в своей комнате, он опустился в кресло и начал вырабатывать в уме своем планы относительно образа будущих своих действий. Не должно однако же полагать, что сделанное им признание было вызвано единственно с тою целью, чтобы выйти из затруднительного положения. В течение недели атмосфера замка де Курси произвела на него свое действие. Каждое слово, слышанное им, клонилось к тому, чтобы разрушить в нем все прекрасное и истинное и возбудить в душе его самолюбие и ложь. В течение этой недели он десятки раз говорил самому себе, что никогда не мог бы быть счастливым с Лили Дель, как никогда не мог бы и осчастливить ее. Потом он прибегал к софизмам, с помощью которых старался убедить себя, что с его стороны было бы справедливо поступать согласно с своими желаниями. Не лучше ли было бы для Лили, если бы он решился бросить ее, чем жениться на ней против внушений своего сердца? И если он действительно не любил ее, то не сделает ли он гораздо больше преступления, женившись на ней, вместо того чтобы покинуть ее? Он признавался самому себе, что был весьма несправедлив, позволив внешнему миру поселить в себе убеждение, что любовь такой непорочной девушки, как Лили, далеко не достаточна для его счастья. Между тем это убеждение обратилось в факт, и Кросби увидел себя не в силах бороться с ним. Если бы он мог каким-либо самопожертвованием обеспечить благополучие Лили, он не поколебался бы ни на минуту. Но благоразумно ли было приносить в жертву и ее, и себя?
Долго рассматривал Кросби и обсуждал эти вопросы в глубине души своей и наконец пришел к тому заключению, что его долг был нарушить обещание, данное Лили, и вместе с тем убедился, что женитьба его на дочери графа де Курси удовлетворит его честолюбию и поможет ему в борьбе со светом. Что леди Александрина примет его предложение, он не сомневался нисколько, особливо если бы ему удалось убедить ее простить его за помолвку с Лили Дель; до какой степени леди Александрина будет расположена к прощению в этом деле, Кросби не предвидел, он не знал еще, как нелегко женщина может простить подобное преступление, особливо если прощение будет зависеть совершенно от нее.
Была еще и другая причина, сильно действовавшая на Кросби и располагавшая его к настоящему настроению духа и желаний, хотя в то же время она и сообщала его сердцу совершенно противоположное побуждение. Он колебался немедленно вступить в брак с Лили Дель собственно вследствие ограниченности своего содержания. Теперь же он имел в виду значительное увеличение этого содержания. Один из комиссионеров его управления получил высшее назначение, а все сослуживцы Кросби были уверены, что секретарь главного комитета займет вакантное место комиссионера. В этом не было ни малейшего сомнения. Кросби получил уже два или три письма по этому предмету, хотя вероятность сделать шаг на служебном поприще и казалась довольно трудною. Содержание Кросби увеличилось бы от семисот до тысячи двухсот фунтов стерлингов. Один из его приятелей писал к нему, что на это место нет ни одного претендента. Если его ожидало такое счастье, то какие же могли еще встретиться затруднения в его женитьбе на Лили Дель? Но увы, он смотрел на этот предмет совсем с другой точки зрения! Не могла ли графиня помочь ему в этом повышении? И если судьба назначала ему такие прекрасные вещи, как секретарство, комиссионерство, председательство и тому подобное, то не благоразумно ли было бы с его стороны начать борьбу за обладание такими вещами с той помощью, которую могли бы оказать ему хорошие связи?
Вечером Кросби сидел в своей комнате, думал и передумывал обо всем этом. Со времени приезда своего в замок Курси, он только два раза писал к Лили. С первым письмом мы познакомили наших читателей. Второе письмо было написано в том же духе, хотя Лили, читая его, бессознательно испытывала менее удовольствия, чем при чтении первого письма. В выражениях любви не было недостатка, но они были слабы и бессердечны. В них не было искренности, хотя сами они и не обнаруживали в себе ничего, за что бы можно было их осуждать. Ведь не многие лжецы способны лгать с совершенною легкостью и с близким подражанием истине, Кросби, как ни был испорчен, не достиг еще, однако, этого совершенства. Он ничего не говорил Лили о надеждах на повышение, которое открывалось для него, но снова намекал на свою привязанность к большому свету, признаваясь впрочем, что пышность и суета замка Курси далеко не доставляли ему полного удовольствия. Сказав леди Александрине, что любит ее, он решился проложить себе другую дорогу, он был принужден признаться самому себе, что жребий брошен.
Размышляя о всем этом, Кросби испытывал некоторое удовольствие. Вскоре после признания в любви в Оллингтоне, он чувствовал, что вместе с этим признанием как будто перерезал себе горло. Он старался убедить себя, что может жить спокойно и с перерезанным горлом, и пока Лили находилась при нем – был убежден, что в состоянии сделать это, но теперь он начал обвинять себя в самоубийстве. Таково было настроение его ума даже в то время, когда он находился в Оллингтоне, а в течение пребывания в замке Курси идеи его об этом предмете сделались еще положительнее. Но так как самозаклание еще не состоялось, то Кросби начал думать, что есть еще возможность спасти себя. Не считаю за нужное говорить, что это не было полным торжеством для него. Даже если бы не встречалось материальных затруднений к его размолвке с Лили, если бы не было дяди, кузена и матери, с гневом которых ему предстояло встретиться, если бы призрак бледного личика в безмолвии своем не был красноречивее бушующего шторма упреков со стороны дяди, кузена и матери, он не мог показаться совершенно бездушным. Каким образом сказать ему все это девушке, которая так искренно любила его, которая так любила его, что, по его собственному сознанию, ее любовь служила бы для него источником блага во всей его последующей жизни, все равно, будет ли эта жизнь сопровождаться радостью, или печалью. «Я не достоин ее, и так и скажу ей», – говорил он про себя. Как много молодых коварных мужчин старались успокоить свою совесть подобного рода притворным смирением? Во всяком случае, в эту минуту, вставая с кресла, чтобы одеться к обеду, Кросби сознавался, что жребий был брошен и что теперь он мог свободно говорить леди Александрине, что ему угодно. «Ведь не я первый прохожу через этот огонь, – говорил он про себя, спускаясь в гостиную, – проходили многие другие и выходили без обжога». И при этом он припомнил имена различных джентльменов известных фамилий, которые в дни своей молодости впадали в заблуждение, в каком находился и он.
Проходя через зал, Кросби догнал леди Джулию Дегест и успел отворить для нее дверь в гостиную. Он вспомнил при этом, что, когда леди Александрина и он стояли у окна, леди Джулия вошла в бильярдную с одной стороны и вышла с другой. В то время он не обратил на леди Джулию особенного внимания, теперь же, отворив дверь для нее, он сказал ей какой-то весьма обыкновенный комплимент.
Леди Джулия в некоторых случаях была суровая женщина и обладала значительным запасом присутствия духа. В течение минувшей недели она видела все, что делалось вокруг нее, и становилась все более и более сердитою. Хотя она и отреклась от родственных связей с Лили Дель, но несмотря на то, в настоящее время питала к ней сочувствие и даже любовь. Почти каждый день она повторяла графине какой-нибудь случай из помолвки Кросби, говорила положительно, как о деле решенном во всех отношениях. С повторениями подобного рода она обращалась исключительно к графине, но в присутствии Александрины и всех гостей женского пола. Впрочем все, что говорила она, принималось просто, с улыбкой недоверия. «Боже мой! леди Джулия, – сказала наконец графиня, – я начинаю думать, что вы сами влюблены в мистера Кросби: так постоянно твердите вы одно и то же о его помолвке. Услышав, что так громко трубят об успехе молоденькой девушки, другой, право, подумает, что в вашей стороне для молодых девиц чрезвычайно трудно находить женихов». Леди Джулия на минуту замолкла, но нелегко было для нее молчание, когда предмет разговора так близко касался ее сердца.
В настоящую минуту, когда леди Джулия, сопровождаемая мистером Кросби, входила в дверь, почти весь модный свет замка Курси собрался в гостиной. Увидев себя вблизи толпы, леди Джулия вдруг повернулась и обратилась к мистеру Кросби с голосом более громким, чем требовалось для разговора в гостиной.
– Мистер Кросби, – сказала она, – давно ли получали известия от нашего милого друга Лили Дель?
С этими словами, она пристально посмотрела ему в лицо, в ее взгляде выражалось значения гораздо более, чем она думала сообщить ему. В гостиной послышался шепот, взгляды всех устремились на Джулию и на Кросби.
Кросби в один момент приготовился храбро выдержать атаку, но он чувствовал, что не мог спокойно распоряжаться своими силами, как не мог избежать того, чтобы не обнаружить холодного пота, выступившего на его лицо.
– Я вчера получил письмо из Оллингтона, – сказал он, – надеюсь, вы слышали о неприятной встрече с быком?
– С быком! – произнесла леди Джулия.
Очевидно стало, что неприятель приведен в смятение и в свою очередь был атакован.
– Боже праведный! Какие вы странные, леди Джулия, – сказала графиня.
– Какая же это была встреча с быком? – спросил высокопочтенный Джорж.
– Дело в том, что граф сбит был с ног быком посредине одного из своих собственных полей.
– Ах боже! – воскликнула Александрина, за ней послышались разные другие восклицания от всех собравшихся гостей.
– Впрочем, он не получил никаких ушибов, – продолжал Кросби. – Молодой человек по имени Имс как будто упал с неба, и на плечах своих утащил графа.
– Ха-ха-ха-ха! – разразился другой граф, услышав о таком поражении своего собрата пэра.
Леди Джулия тоже получила письмо из Гествика, и знала, что с ее братом ничего особенного не случилось, но она чувствовала, что на этот раз была побеждена.
– Надеюсь, что с ним не было несчастья? – спросил мистер Гезби с озабоченным видом.
– В прошлую ночь мой брат был совершенно здоров, благодарю вас, – отвечала леди Джулия.
После этого снова образовались небольшие группы, и леди Джулия осталась одна в углу дивана.
– Не сами ли вы придумали эту историю? – спросила леди Александрина, обращаясь к Кросби.
– Вовсе нет. Вчера я получил письмо от друга моего Бернарда Деля, племянника этой старой ведьмы, на лорда Дегеста действительно напал бык. Мне бы еще приятнее было сообщить ей, что этот старый глупец сломал себе шею.
– Фи, мистер Кросби!
– Кто же ее просит мешаться в мои дела?
– Но и я хотела предложить вам тоже вопрос, на который, вероятно, вы бы не придумали подобной сказки.
В то время когда леди Александрина намеревалась предложить вопрос, гостей пригласили к обеду.
– Правда ли, что лорда Дегеста истоптал его бык? – спросил граф, когда дамы удалились.
За обедом он ничего не говорил, кроме разве немногих слов, сказанных на ухо леди Думбелло. Для него, в его собственном доме, разговор редко доставлял удовольствие, теперь же мысль о том, что лорд Дегест был истоптан быком, имела в его глазах свою особенную прелесть.
– Нет, бык только сшиб его с ног, – сказал Кросби.
– Ха-ха-ха! – разразился граф, налив себе рюмку вина и передав бутылку другим. – Бедный граф! В этом мире оставалось для него весьма немногое, что бы доставляло ему удовольствие.
– Ничего смешного я не вижу в этом, – сказал Плантаженет Поллисер, сидевший направо от графа, против лорда Думбелло.
– В самом деле? – спросил граф. – Ха-ха-ха!
– Пусть меня застрелят, если я вижу в этом смешное. Сколько мне известно, Дегест отличнейший фермер. Право, ничего нет смешного в том, что бык боднул фермера, который в то же время и нобльмен. Как вы думаете? – спросил Поллисер, обращаясь к мистеру Гезби, сидевшему напротив.
Хозяин дома был граф и с тем вместе тесть мистера Гезби. Мистер Плантаженет Поллисер был наследник герцога. Поэтому мистер Гезби что-то пробормотал вместо положительного ответа. Мистер Поллисер не сказал больше ни слова, не сказал ничего и граф, и, таким образом, шутка потеряла все свое значение.
Мистер Плантаженет Поллисер был наследник герцога Омниума, наследник титула этого нобльмена и его огромного богатства, а потому в большом свете слыл за человека замечательного. Само собою разумеется, он заседал в палате общин. Ему было около двадцати пяти лет, и он был еще холост. Он не скакал с борзыми по полям, не стрелял, не имел яхты, и, как говорили, нога его не была еще на конских ристалищах. Одевался он очень скромно, никогда не переменял ни цвета, ни фасона своего платья, в обществе он держал себя тихо, скромно и часто был молчалив. Он был высокого роста, худощав, но имел вид здорового мужчины, больше этого ничего нельзя сказать относительно его наружности, кроме разве того, что всякий с первого взгляда признал бы в нем джентльмена. С своим дядей-герцогом он был в хороших отношениях, или, вернее сказать, дядя и племянник никогда между собою не ссорились. Племянник получал от дяди хорошее содержание, но не сходился с ним во вкусах, и потому они редко встречались. Раз в год мистер Поллисер приезжал к герцогу дня на два или на три в его загородное поместье и раза два или три обедал у него во время лондонского сезона. Мистер Поллисер был в парламенте представителем небольшого городка, находившегося в полной зависимости от герцога, но он принял это место с положительным условием, что образ его действий должен быть совершенно независимый. При таких разумных условиях герцог и его наследник представляли собою свету образец семейного счастья.
– Какая разница между графом де Курси и лордом Порлокком! – говорили жители западного Барсетшэйра. Надо сказать, что имения герцога и графа находились в западной стороне того графства.
Мистер Поллисер был более известен свету как возрастающий политик. С своей стороны мы можем сказать, что для своих удовольствий он имел в своем распоряжении все, что только мог предоставить ему мир. За ним ухаживали все, кому представлялась возможность приблизиться к нему настолько, чтобы ухаживать. Мы скажем без всякого преувеличения, что он мог бы выбрать себе невесту из всего, что только было прелестнейшего и лучшего между женщинами Англии. Если бы он вздумал скупить конские скачки и тратить тысячи на одни пари, он доставил бы этим своему дяде величайшее удовольствие. Он мог бы сделаться полным господином бесчисленного множества гончих, мог бы бить птиц, сколько душе угодно. Но ни к чему подобному у него не было расположения. Он избрал своим поприщем политику и занимался ею с таким постоянством и усердием, с каким во всякой другой профессии или ремесле составил бы себе богатство. Он постоянно присутствовал в парламентских комитетах до половины августа. Редко случалось, чтобы он не находился при каком-нибудь замечательном прении, и всегда был налицо при всяком более или менее замечательном разделении голосов. Говорил он редко, но всегда готов был говорить, если того требовали его виды. Никто не замечал в нем гениальных способностей, весьма немногие полагали, что из него со временем сделается оратор или государственный сановник, а между тем свет говорил о нем, как о человеке, быстро возвышающемся, а старый Нестор государственного кабинета смотрел на него, как на человека, который в один из отдаленных будущих дней займет в кругу сановников почетное место. Поэтому он постоянно отказывался от предложений занять место в каком-нибудь низшем управлении, и терпеливо выжидал случая, который бы предоставил ему высшую государственную должность. Он не был приверженцем той или другой партии, хотя и был известен за либерала во всех своих политических тенденциях. Он много читал, не урывками, заглянув то в одну книгу, то в другую, и притом в какую ни попало, нет, он прочитывал огромное число книг, углублялся в историю человечества, запасаясь фактами, хотя и пользовался этими фактами нисколько не лучше своих предшественников. Наконец, он всеми силами старался сделаться лингвистом, и не без успеха, насколько это требовалось для понимания различных языков. Вообще это был человек хотя и не высокого ума, но трудолюбивый, заслуживающий полного уважения, человек, который охотно посвящал труду всю свою молодость, чтобы на старости представилась ему возможность заседать между советниками государства.
Нисколько поэтому не покажется удивительным, если мы скажем, что имя мистера Поллисера не присоединялось к имени какой-нибудь женщины, которую бы он, по мнению общества, восхищался, впрочем, в последнее время замечали, что его часто видали в одной и той же комнате с леди Думбелло. Только это и можно сказать, не более, а если принять в соображение, до какой степени были положительны обе эти особы, как мало тот и другая расположены были к обнаружению более сильного чувства, то, кажется, не стоило и упоминать об этом. Правда, от времени до времени он разговаривал с ней и оказывал ей особенное внимание, с своей стороны леди Думбелло, заметив его присутствие, приподнимала голову с некоторыми признаками жизни и озиралась кругом, как будто отыскивая предмет, заслуживающий того, чтобы на нем остановить свой взор. Когда свидания подобного рода сделались известными, то никто, по всей вероятности, не воспользовался ими более графини де Курси. Многие, услышав, что мистер Поллисер приедет в замок, выражали свое изумление при таком успехе в этом отношении; другие, узнав, что леди Думбелло согласилась быть гостьей графини, изумлялись нисколько не меньше. Но когда сделалось известным, что мистер Поллисер и леди Думбелло будут в замке в одно время, то добрые друзья графини де Курси единодушно признали ее за весьма умную женщину. Для графини иметь в своем замке мистера Поллисера или леди Думбелло, было то же, что иметь перо в своей шляпе, а успеть залучить их обоих, составляло для нее верх торжества. Что касается до леди Думбелло, то она ничего особенного не выигрывала, потому собственно, что мистер Поллисер приехал в замок Курси только на две ночи и на один день, и в течение всего этого дня он просидел в кабинете за огромными синими книгами. Графиня де Курси не обращала ни малейшего внимания на такое препровождение времени. Синие книги и леди Думбелло были для нее решительно одно и то же. Мистер Поллисер находился в ее замке, и этого факта никто не мог отрицать, ни друг, ни недруг.
Мистер Поллисер проводил в замке Курси второй вечер, а так как он обещал встретиться с своими избирателями в Сильвербридже в час пополудни следующего дня, с целью объяснить им образ своих действий и политическое положение всего мира вообще, и как ему нельзя уже было воротиться из Сильвербриджа в замок Курси, то леди Думбелло должна была воспользоваться непродолжительным блеском солнечного света, доставляемого ей настоящими минутами. Никто, впрочем, не мог бы сказать, что она обнаруживала особенное расположение завладеть вниманием мистера Поллисера. Когда он вошел в гостиную, леди Думбелло сидела одна в большом низком стуле без ручек, так что ее платье сохраняло всю свою пышность, между тем как впалая полукруглая спинка стула доставляла для нее необходимую опору. Оставив столовую, она едва ли сказала три слова, но время проходило для нее нескучно. Леди Джулия снова атаковала графиню своими подробностями о помолвке Лили Дель и Кросби, так что Александрина, выведенная из себя, ушла на другой конец комнаты, нисколько не скрывая особенного участия, которое принимала в этом деле.
– Как бы я желала, чтобы они скорее обвенчались, – сказала графиня, – тогда бы мы ничего больше не услышали о них.
Все это леди Думбелло слышала и понимала, и все это имело для нее некоторый интерес. Она запоминала подобные вещи, изучая по ним различные личности, и с помощью этого изучения, располагала своим собственным поведением. Надо сказать, она вовсе не была праздна в это или подобное этому время, она выполняла то, что составляло для нее тяжелый труд. Она сидела молча и только отвечала немногими словами на выражения лести со стороны ее окружавших. Но вот отворилась дверь, и, когда мистер Поллисер вошел в гостиную, леди Думбелло слегка приподняла свою голову, и на лице ее показался самый слабый проблеск удовольствия. Она не сделала ни малейшей попытки заговорить с ним, мистер Поллисер подошел к столу, взял книгу, простоял на месте более четверти часа, а леди Думбелло не обнаруживала ни малейшего признака нетерпения. Вскоре вошел лорд Думбелло и тоже остановился у стола, но не взял книги. Даже и тогда душевное спокойствие леди Думбелло оставалось невозмутимым.
Плантаженет Поллисер пристально смотрел в книгу и, по всей вероятности, что-нибудь заучивал. Наконец, положив книгу на стол, выпил чашку чаю и заметил леди де Курси, что, по его мнению, до Сильвербриджа не более двенадцати миль.
– Я бы желала, чтобы вместо двенадцати было сто двенадцать, – сказала графиня.
– В таком случае я бы был принужден уехать отсюда ночью, – возразил мистер Поллисер.
– А если бы вместо ста двенадцати было тысяча двенадцать?
– Тогда я бы вовсе не приехал сюда, – отвечал мистер Поллисер. – Он вовсе не хотел быть нелюбезным и только высказал факт.
– Нынче молодые люди становятся настоящими медведями, – сказала графиня дочери своей Маргарите.
Мистер Поллисер пробыл в гостиной около часа, когда увидел себя стоявшим подле леди Думбелло, подле нее, и притом когда вблизи никого больше не было.
– Я никак не ожидал встретиться здесь с вами, – сказал он.
– А я не думала встретиться с вами, – отвечала леди Думбелло.
– Хотя, впрочем, вы и я находимся близко наших домов.
– Мой дом не близко отсюда.
– Я подразумеваю Пломстед, дом вашего отца.
– Да, некогда это был мой дом.
– Как бы я желал показать вам замок моего дяди. Прекрасное место, там есть несколько хороших картин.
– Я это слышала.
– Долго вы останетесь здесь?
– О, нет. После завтра я еду в Чешэйр. Лорд Думбелло всегда уезжает туда, когда начинается охота.
– Ах да, конечно. Какой счастливец! Никогда нет занятий. Я полагаю, избиратели его никогда не беспокоят.
– Я тоже полагаю.
После этого мистер Поллисер отошел, и леди Думбелло провела остальную часть вечера молча. Надобно думать, что они оба были вознаграждены десятью минутами симпатичного разговора за неудобство, которое испытывали по случаю приезда своего в замок Курси.
Но то, что кажется для нас невинным, рассматривалось строгими моралистами замка совершенно в другом свете.
– Клянусь Юпитером! – говорил высокопочтенный Джорж своему кузену, мистеру Грешаму. – Не знаю, как смотрит на это сам Думбелло.
– Мне кажется, что Думбелло смотрит на подобные вещи сквозь пальцы.
– И то сказать, есть люди, которые на все смотрят сквозь пальцы, – сказал Джорж, для которого подобного рода вещи, после женитьбы, служили предметом благоговейного ужаса.
– Она начинает немного выясняться, – говорила леди Клэндидлем леди де Курси, когда обе эти старухи сидели перед камином в одной из задних комнат замка. – Вы знаете, в тихом омуте черти водятся.
– Для меня нисколько не будет удивительно, если она убежит с ним, – заметила леди де Курси.
– Ну, он еще не так глуп, чтобы решиться на подобный поступок, – возразила леди Клэндидлем.
– Мне кажется мужчины больше всего делают глупости, – продолжала леди де Курси. – Если он и убежит с ней, то последствий никаких не будет. Я знаю джентльмена, который не станет сожалеть об этом. Если женщина может наскучить мужчине, так лорду Думбелло она страшно наскучила.
Как в этом, так и почти во всем другом, злая старуха предавалась злословию. Лорд Думбелло все еще гордился своей женой и любил ее, как мужчина может любить женщину, когда его любовь зависит от гордости.
В разговоре между мистером Поллисером и леди Думбелло ничего особенно опасного не было, но я не могу сказать того же самого о разговоре, происходившем в то же самое время между Кросби и леди Александриной. Она, как уже сказано, ушла явно рассерженная, когда леди Джулия возобновила свои нападения на бедную Лили, и не возвращалась к общему кружку в течение всего вечера. В замке Курси были две большие гостиные, соединявшиеся узкой комнатой, которую скорее можно бы назвать коридором, если бы она не освещалась двумя окнами, доходившими до самого пола, покрытого коврами, и не согревалась отдельным камином. Сюда-то и удалилась леди Александрина, за ней вскоре последовала и замужняя сестра ее Амелия.
– Эта женщина приводит меня в бешенство, – сказала Александрина, в то время, как они стояли вместе, поставив по одной ножке на каминную решетку.
– Но, душа моя, из всех гостей ты одна не должна позволять себе приходить в бешенство при разговоре об этом предмете.
– Тебе хорошо говорить это, Амелия.
– Вопрос в том, моя милая: что же намерен делать мистер Кросби?
– А почему я знаю?
– Если ты не знаешь, то благоразумнее было бы полагать, что он намерен жениться на этой девушке, и в таком случае…
– Что же в таком случае? Не хочешь ли ты быть другой леди Джулией? Какое мне дело до этой девушки?
– Я не думаю, чтобы тебе было какое-нибудь дело до нее, а если тебе нет никакого дела и до мистера Кросби, то и кончено, только в таком случае, Александрина…
– Ну что же в таком случае?
– Ты знаешь, Александрина, я не хочу тебе делать наставления. Скажи мне откровенно, действительно ли ты любишь его? Ведь ты и я всегда были добрыми друзьями.
И замужняя сестра обняла талию сестры, которая желала быть замужем.
– Он мне нравится.
– И он признавался тебе в любви?
– Что-то было в этом роде. Тише, он идет!
Кросби вышел из большой гостиной и присоединился к сестрам.
– Нас прогнала пустая болтовня леди Джулии, – сказала старшая сестра.
– Я никогда не встречал подобной женщины, – сказал Кросби.
– И мало найдется таких, – сказала Александрина.
Наступила пауза, продолжавшаяся минуты две. Леди Гезби размышляла в это время, хорошо ли она сделает, если уйдет и оставит сестру свою с мистером Кросби. Если бы знать положительно, что мистер Кросби женится на Александрине, то, само собою разумеется, благоразумно было бы предоставить ему случай выразить свое желание. Но если Александрина просто строила из себя дурочку, то необходимо было остаться.
«Мне кажется, для нее будет лучше, если я уйду», – сказала про себя старшая сестра и, повинуясь правилу, которое должно управлять всеми нашими действиями, удалилась и присоединилась к гостям.
– Не перейти ли нам в другую комнату? – спросил Кросби.
– Мне кажется и здесь хорошо, – отвечала Александрина.
– Я желал бы переговорить с вам, и очень серьезно.
– Разве вы не можете говорить здесь?
– Нет. Здесь беспрестанно ходят взад и вперед.
Леди Александрина без дальнейших возражений перешла в другую гостиную. Гостиная эта была также освещена, и в ней находилось до пяти лиц. Леди Розина сидела в углу и читала какое-то сочинение о втором пришествии Спасителя и о блаженной жизни праведных после Страшного суда, ее брат спал в кресле, какой-то молодой джентльмен с дамой играли в шахматы. Для Кросби и Александрины было достаточно места, чтобы сесть отдельно от других.
– Что же вы хотели сказать мне, мистер Кросби? Но, во-первых, я намерена повторить вопрос леди Джулии, как я уже предупредила вас: когда вы получили последнее письмо от мисс Дель?
– После того, что я рассказал вам, с вашей стороны жестоко предлагать подобный вопрос. Вы знаете, что я дал мисс Дель обещание жениться на ней.
– Знаю очень хорошо. Я не вижу причины, зачем вы привели меня сюда, чтобы сообщить мне то, что всем уже известно. При таком герольде, как леди Джулия, это совершенно излишне.
– Если вы намерены отвечать мне в этом тоне, я сейчас же кончу объяснение. Объявляя вам о моей помолвке, я в то же время объявил, что сердцем моим владеет другая женщина. Скажите, справедлив ли я в своем предположении, что вы знали, на кого я намекал?
– Нет, мистер Кросби, не знала. Я не ворожея и не могу так глубоко заглядывать в душу человека, как ваш друг леди Джулия.
– Александрина, я люблю вас. В настоящую минуту едва ли мне нужно говорить об этом.
– Едва ли, действительно, особливо теперь, когда вы обещали жениться на мисс Дель.
– Что касается до этого обещания, то, признаюсь, я действовал безрассудно, если хотите, более чем безрассудно. Вы не можете упрекать меня за это так сильно, как я сам упрекаю себя. Впрочем я решился не жениться на женщине, которой не люблю. (О, если бы Лили услышала эти слова!) Я не иначе могу отзываться о мисс Дель, как с самой прекрасной стороны, но в то же время я совершенно уверен, что, будучи ее мужем, не могу доставить ей счастья.
– Зачем же вы не подумали об этом прежде, чем сделали предложение? – спросила Александрина.
При этом в тоне ее голоса слышался самый легкий упрек.
– Мне бы следовало сделать это, но не знаю, едва ли вы можете винить меня так строго. Если бы вы, во время последней нашей встречи в Лондоне, были менее…
– Менее чего?
– Менее строги, – сказал Кросби, – тогда, быть может, ничего бы этого не случилось.
Леди Александрина не могла припомнить, когда она была строга, но, как будто вспомнив, сказала:
– Ах да, конечно, это была моя вина.
– Я приехал в Оллингтон с свободным сердцем и теперь нахожусь в затруднительном положении. Я говорю вам все, как было. Жениться на мисс Дель мне невозможно. С моей стороны было бы жестоко жениться на ней, зная, что сердце мое принадлежит другой. Я сказал вам, кто эта другая, теперь скажите, могу ли я надеяться на ответ?
– Ответ на что?
– Александрина, согласитесь ли вы быть моей женой?
Если бы цель Александрины состояла в том, чтобы довести его до прямого признания в любви и затем предложения руки, то, конечно, цель эта была теперь достигнута. Она имела такую веру в свою собственную способность и в способность матери устраивать житейские дела, что, принимая предложение, она нисколько не страшилась последствий, она вовсе не думала, что и с ней могут поступить точно так же, как поступили с Дель.
Она очень хорошо знала свое положение и его. Приняв его предложение, она в непродолжительном времени сделалась бы его женой, что бы там ни говорили против этого мисс Дель и все ее друзья. В этом отношении она решительно ничего не боялась. Несмотря на то, она не приняла сейчас же предложения. Хотя она и желала владеть этим призом, но женская натура останавливала ее от выражения согласия.
– Давно ли, мистер Кросби, – сказала она, – вы делали этот же самый вопрос мисс Дель?
– Александрина, я обещал вам рассказать все, и я рассказал. Если за это вы намерены наказать меня…
– Я сделаю еще один вопрос: много ли пройдет времени до той поры, как вы предложите этот вопрос другой девушке?
Кросби повернулся кругом, как будто намереваясь в гневе удалиться от нее, но, пройдя половину расстояния до дверей, воротился.
– Клянусь небом, – сказал он довольно сурово, – я должен получить ответ. Вы ничем не можете упрекнуть меня. Все сделанное мною дурное, я сделал чрез вас и для вас. Вы выслушали мое предложение, отвечайте же: намерены ли вы принять его?
– Мистер Кросби, вы меня изумляете. Если бы вы стали требовать от меня деньги или жизнь, мне кажется, и тогда вы не употребили бы такого повелительного тона.
– Скажите, более решительного.
– А если я откажусь от этой чести?
– Тогда я буду считать вас самой легкомысленной женщиной.
– Если же я приняла бы его?
– Я бы поклялся, что вы прекраснейшая, неоцененнейшая, очаровательнейшая из женщин.
– Конечно, мне приятнее заслужить о себе ваше хорошее мнение, нежели дурное, – сказала леди Александрина.
После этих слов тот и другая поняли, что дело было решено. Каждый раз, когда леди Александрине приходилось говорить о Лили, она всегда называла ее «бедная мисс Дель» и никогда не упрекала своего будущего мужа за эту маленькую проделку.
– Я сегодня же поговорю с мама, – сказала она, прощаясь с мистером Кросби в уединенном уголке, выбранном ими для своих объяснений.
Когда они вышли из этого уголка, глаза леди Джулии снова остановились на них, но Александрина уже не обращала более внимания на леди Джулию.
– Джорж, я не могу понять, что такое этот мистер Поллисер. Не следует ли его называть теперь лордом, если он должен сделаться герцогом? – Вопрос этот был предложен мистрис Джорж де Курси своему мужу, когда они пришли в спальню.
– Да, по смерти старика он будет герцогом Омниум. Мне кажется, я в жизнь свою не встречал такого тяжелого человека. Вот уж будет дрожать-то над своим имением.
– Пожалуйста, Джорж, объясни мне это. С моей стороны так глупо не понимать подобных вещей, я не смею открыть рот, боясь сделать какой-нибудь промах.
– В таком случае, моя милая, незачем и рот открывать. В свое время ты узнаешь все вещи подобного рода, и право, никто не заметит, что ты не понимаешь их, если ничего не станешь говорить.
– Но Джорж, я не хочу сидеть молча целый вечер, уж если нельзя ни о чем говорить, то я лучше соглашусь оставаться в этой комнате и читать какой-нибудь роман.
– Посмотри на леди Думбелло: она не любит много говорить.
– Леди Думбелло не может служить мне примером. Скажи же мне, пожалуйста, что такое этот мистер Поллисер?
– Племянник герцога. Будь он сыном герцога, его бы называли маркизом Сильвербридж.
– Значит, до смерти дяди он обыкновенный мистер?
– Да, весьма обыкновенный мистер.
– Как жаль его. Но скажи мне, Джорж: если у меня будет сын, если он вырастет и если…
– Ах какой вздор! когда он будет и когда он вырастет, тогда и станем говорить об этом, а теперь я хочу спать.
Глава XXIV ТЕЩА И ТЕСТЬ
На другое утро мистер Плантаженет Поллисер отправлялся до завтрака в путь, имевший политическую цель. Кусок булки и чашка кофе в пустой одинокой комнате доставили ему то или другое ему одному понятное удовольствие. Общий завтрак в замке Курси подавали в одиннадцать часов, в это время мистер Поллисер сидел уже в кабинете сильвербриджского мэра.
– Я должен уехать на поезде в три часа сорок пять минут, – говорил мистер Поллисер. – Кто же будет держать мою сторону?
– С своей стороны я скажу несколько слов, потом Грауди, который надеется, что его будут слушать. Грауди всегда твердо стоял за его сиятельство.
– Помните, что мы явимся в зал собрания ровно в час. У вас на дворе будет стоять кабриолет, чтобы отвезти меня на станцию железной дороги. В случае неудачи, я не хочу терять ни минуты. Я буду здесь через полтора часа. Нет, благодарю вас, утром я никогда не пью вина.
Между тем в замке Курси было более свободного времени. Ни графиня, ни леди Александрина, не спустились вниз к завтраку, впрочем, насчет их отсутствия никто из гостей не сделал особенного замечания. Завтрак в замке был утренним столом, за который гостям предоставлялось полное право являться и не являться. Леди Джулия явилась весьма угрюмою, Кросби сидел подле будущей своей невестки Маргариты, которая поставила уже себя в отношении к нему на самую дружескую ногу. Когда Кросби кончил чай, Маргарита прошептала ему на ухо:
– Мистер Кросби, если вы можете уделить полчаса времени, мама было бы очень приятно видеть вас в своей комнате.
Кросби объявил, что он с особенным удовольствием готов к ее услугам, он был чрезвычайно признателен, что его принимают уже в доме как зятя, в то же время он чувствовал, что попал в западню и что, поднимаясь наверх, в собственные апартаменты графини, прикладывал печать на свое собственное заточение.
Несмотря на то, он шел за леди Маргаритой с улыбающимся лицом и без малейшего принуждения в своих движениях.
– Мама, – сказала леди Маргарита, – я привела к вам мистера Кросби. Ах, Александрина! Я не знала, что ты здесь, а то бы я его предупредила.
Графиня и ее младшая дочь завтракали вместе в будуаре графини, они сидели в приятном дезабилье. Чайные чашки, из которых они пили, были сделаны из превосходного фарфора, серебряный чайник и сливочник отличались изящной отделкой. Остальные принадлежности завтрака состояли из кусочков французской булки, которым не было даже позволено отделить от себя маленьких крошек, и из бесконечно малого количества свежего масла. Если эта утренняя пища матери и дочери была до такой степени незначительна, то нельзя было не предполагать, что они имели намерение завтракать ранее обыкновенного. Графиня сидела в шелковом утреннем капоте, испещренном роскошными цветами, на леди Александрине надет был белый кисейный пеньюар, подпоясанный розовой лентой. Волоса ее, которые она обыкновенно носила длинными локонами, были распущены на плечи и, само собою разумеется, придавали ее наружности особенную прелесть. При входе Кросби графиня встала и подала ему руку, Александрина оставалась на месте и в ответ на приветствие только слегка кивнула головой.
– Я опять побегу вниз, – сказала Маргарита, – иначе бедной Амелии не справиться со всем хозяйством.
– Александрина рассказала мне все, – сказала графиня с самой сладкой улыбкой. – И я дала ей мое полное согласие. Мне кажется, что из вас будет прекрасная пара.
– Премного обязан вам, – сказал Кросби. – Я уверен в этом, я уверен, что леди Александрина будет для меня прекрасной подругой.
– Да, в этом и я не сомневаюсь. Она у меня добрая, умная девушка.
– Фи, мама, пожалуйста не повторяйте мне детской сказочки о двух башмаках.
– Я говорю правду, моя милая. Не будь ты умной девушкой, ты бы не сделала того, что делаешь теперь. Если бы ты была ветреница и безрассудная, если бы обращала внимание только на высокое звание, на богатство и на тому подобные вещи, ты бы, право, не согласилась выйти замуж за весьма обыкновенного человека, без всякого состояния. Я уверена, что мистер Кросби извинит меня за подобные выражения.
– Не беспокойтесь, графиня, – сказал Кросби, – я знаю, что не имею ни малейшего права смотреть так высоко.
– Прекрасно, мы не будем больше говорить об этом, – сказала графиня.
– И пожалуйста, не говорите, – сказала леди Александрина. – Это как-то отзывается проповедью.
– Прошу садиться, мистер Кросби, нам нужно с вами переговорить, Александрина, если хотите, сядет подле вас. Как тебе не стыдно, Александрина, если он просит об этом.
– Не беспокойтесь, мама, мне и здесь хорошо.
– Очень хорошо, моя милая, оставайся на своем месте. Она у меня откровенная девушка, мистер Кросби, с этим вы сами согласитесь, когда я скажу вам, что она передала мне все, о чем вы с ней вчера говорили. – Услышав это, Кросби немного изменился в лице, но не сказал ни слова. – Она говорила мне, – продолжала графиня, – о молоденькой леди в Оллингтоне. Какой вы шалун!
– Я был неблагоразумен, леди де Курси.
– Ну да, не больше этого. Да, вы были неблагоразумны! Легкомысленно развлекали себя и, может быть, завели маленькую интригу, потому что сердце молоденькой леди не так легко было выиграть, как вы желали. Теперь все это должно быть устроено как можно скорее. Я не хочу предлагать вам нескромные вопросы, но если вы оставили эту барышню с идеей, что вы намерены на ней жениться, то, вероятно, вы не замедлите разуверить ее.
– Разумеется, мама, он это сделает.
– Да, конечно, вы это сделаете, для Александрины будет большое утешение, когда она узнает, что все устроено. Вы слышите, что говорит леди Джулия почти ежечасно. Разумеется, Александрина и внимания не обращает на слова такой старухи, как леди Джулия, но, во всяком случае, для той и другой стороны будет гораздо спокойнее, когда будет положен конец всем толкам. Если граф услышит об этом, то вы знаете… – И графиня покачала головой, воображая, что этим жестом она лучше всего выразит, что сделал бы граф, если бы только задумал что-нибудь сделать.
Кросби не приготовился к конфиденциальной беседе с графиней насчет Лили, несмотря на то он пробормотал какое-то уверение, что не замедлит сообщить мисс Дель всю истину. Он не мог с точностью определить время, когда будет писать и кому писать – ей или ее матери, – но, во всяком случае, дал слово написать немедленно по возвращении в Лондон.
– Пожалуй, я сама напишу к мистрис Дель, если только через это легче может покончиться все дело, – сказала графиня.
Но с этим планом мистер Кросби решительно не согласился.
После этого сказано было несколько слов о графе.
– Я объяснюсь с ним сегодня до обеда, – сказала графиня, – а завтра утром вы сами с ним повидаетесь. Не думаю, чтобы он стал возражать, может быть, скажет – вы не принимайте, однако, этого на свой счет, – скажет, что Александрина могла бы составить себе лучшую партию. Во всяком случае, я уверена, что он не станет много противиться. Конечно, у вас будет разговор насчет денег и тому подобного.
Графиня удалилась, оставив дочь свою с мистером Кросби на полчаса. Когда прошли эти полчаса, Кросби готов был отдать все, что имел на свете, лишь бы воротить назад минувшие двадцать четыре часа своего существования. Положение его было безвыходное. Обмануть Лили Дель, без всякого сомнения, было в его власти, но обмануть леди Александрину де Курси не представлялось никакой возможности.
На следующее утро, в полдень, Кросби имел свидание с графом, свидание это было весьма неприятное. Кросби застал великого пэра стоявшим на ковре, спиной к камину, с руками опущенными в карманы панталон.
– Вы намерены жениться на моей дочери? – спросил граф. – Как видите, не совсем здоров, теперь я редко бываю здоров.
Последние слова были сказаны с ответ на приветствие Кросби. Кросби протянул графу свою руку, и притом так бесцеремонно, что граф принужден был вынуть из кармана свою руку и подать ее будущему зятю.
– Если ваше сиятельство не встретите препятствия. С ее позволения, я прошу вашего согласия.
– У вас ведь нет никакого состояния? У нее тоже нет, вероятно, вам это известно.
– Я имею несколько тысяч фунтов, полагаю, что столько же найдется и у нее.
– У нее найдется на кусок хлеба, чтобы не умереть обоим вам с голода. Это, впрочем, до меня не относится. Можете жениться на ней, если хотите, только, послушайте, я терпеть не могу дурачества. Сегодня поутру у меня была старуха, одна из тех, которые гостят в моем доме, и рассказала мне историю о какой-то другой девушке, из которой вы сделали дурочку. Мне нет дела, до какой степени вы поступили с ней неблагородно, но чтобы здесь ничего подобного не было. Если вы намерены сыграть подобную штуку со мной, то увидите, что сильно ошибались.
Кросби не нашелся даже что ответить на это и поспешил как можно скорее убраться из комнаты.
– Насчет денег вы лучше переговорите с Гезби, – сказал граф и после того перестал думать об этом предмете, воображая, без всякого сомнения, что вполне выполнил свой долг в отношении к дочери.
На другой день после этого Кросби должен был уехать. В последний вечер, незадолго до обеда, он встретился с леди Джулией, которая все утро и день провела в приготовлении ловушек, чтобы поймать его.
– Мистер Кросби, – сказала она, – позвольте мне сказать вам несколько слов! Правда ли это?
– Леди Джулия, я право не знаю, какая вам надобность вмешиваться в мои дела.
– Вы не знаете, сэр! Не вы очень хорошо знаете. Эта бедненькая девушка, у которой нет ни отца, ни брата, моя соседка, ее друзья также и мои друзья. Я считаю ее своим другом и, как старуха, имею полное право говорить в ее защиту. Правда ли, мистер Кросби, что вы намерены поступить с ней как негодяй?
– Леди Джулия, я положительно отказываюсь от всякого объяснения с вами.
– В таком случае я всем расскажу, какой вы негодяй, какой вы низкий человек, расскажу непременно, вы негодяй, низкий и пошлый глупец. Вы не стоите ее волоска – да, не стоите!
При этих словах Кросби убежал от леди Джулии наверх, между тем как миледи, остановившись у лестницы, провожала ретирующегося неприятеля громкими и выразительными словами.
– Мы положительно должны отделаться от этой женщины, – сказала слышавшая все это графиня, обращаясь к Маргарите. – Она нарушает спокойствие всего дома и позорит себя каждый день.
– Поутру она ходила зачем-то к папа.
– Немного, я думаю, из этого выиграла, – сказала графиня.
На следующее утро Кросби возвращался в Лондон. Перед самым отъездом из замка он получил от Лили Дель третье письмо. «Сегодня утром я была очень разочарована, – писала между прочим Лили Дель, – надеялась получить письмо, но не получила. Я знаю, что по приезде в Лондон вы будете исправнее, и потому не хочу бранить вас. Заметьте слово – бранить! Нет, я не буду вас бранить, хотя бы ничего не слышала от вас в течение месяца».
Кросби готов был отдать все на свете, если бы только мог вычеркнуть поездку в замок Курси из минувших событий своего существования.
Глава XXV АДОЛЬФ КРОСБИ ПРОВОДИТ ВЕЧЕР В СВОЕМ КЛУБЕ
Кросби по дороге из замка к ближайшей станции железной дороги, куда он ехал в тележке, нанятой в гостинице, не мог не вспомнить о том утре, когда, недели две тому назад он уезжал из Оллингтона; вспоминая об этом, он вполне сознавал себя негодяем. В это утро Александрина не вышла из дому, посмотреть на его отправление и уловить последний момент его удалявшейся фигуры. Так как он отправлялся в дорогу не очень рано, то леди Александрина сидела с ним за чайным столом, за этим столом сидели также и другие, и потому при прощании она только слегка улыбнулась ему и подала свою руку. Было уже решено, что Святки он должен провести в замке Курси, как было решено и то, что их должно провести в Оллингтоне.
Из всего семейства леди Амелия более других оказывала к нему расположения, и, быть может, из всех других ее расположение имело большее значение. Эта женщина не была одарена очень высоким умом и очень возвышенными чувствами. Она начала свою жизнь, опираясь на благородство своей крови и громко заявляя между своими близкими, что звание ее отца и происхождение матери возлагают на нее обязанность держаться как можно ближе своей среды. Несмотря на то, на тридцать четвертом году она вышла замуж за поверенного своего отца при обстоятельствах не совсем для нее благоприятных. В новой сфере своей жизни она выполняла свой долг с некоторым постоянством и с предпоставленной целью, и теперь, когда сестре ее предстояло выйти замуж, подобно ей, за человека, поставленного в обществе ниже ее, она приготовилась исполнять свой долг, как сестра и свояченица.
– Мы переедем в город в ноябре, и вы, конечно, не замедлите побывать у нас. Мы обедаем в семь часов, а по воскресеньям в два, за нашим столом для вас всегда будет место. Пожалуйста, приезжайте, без всякой церемонии. Я надеюсь, что вы и Мортимер сойдетесь друг с другом.
– В этом я совершенно уверен, – сказал Кросби.
Кросби, вступая в родство с этим благородным семейством, имел, однако же, более возвышенные надежды, чем одну дружескую связь с Мортимером Гезби. В чем состояли эти надежды, он сам не мог определить даже в то время, когда приблизился к их осуществлению. Само собою разумеется, леди де Курси обещала написать к своему старшему кузену, который был помощником статс-секретаря при ост-индском управлении, относительно предоставления Кросби высшего места в главном комитете, но Кросби, сообразив, какой от этого мог быть результат, пришел к тому заключению, что его шанс к повышению был довольно верен и без посредничества статс-секретаря. Теперь же, когда он принадлежал к этому благородному семейству, он едва ли знал, каких выгод ему следовало ожидать от подобного союза. Бывало, он говаривал самому себе, что иметь тещей графиню значило весьма многое, но теперь, хотя давнишнее желание обладать предметом еще не исполнилось, он начинал говорить себе, что предмет этот не стоил обладания.
В то время когда Кросби сидел в вагоне, с газетой в руке, он начинал действительно считать себя низким человеком. Леди Джулия говорила ему правду на лестнице в замке Курси, он признавался в этом самому себе снова и снова. Больше всего он сердился на себя за то, что, сделавшись низким человеком, он – чрез свою низость – ничего не выигрывал. Делая сравнение между Лили и Александриной, он снова признавался себе, что Лили будет прекраснейшей женой того мужчины, которого пошлет ей судьба. Что касается до Александрины, то он знал несамостоятельность ее характера. Без сомнения, она будет привязана к нему как жена и мать, будет верна своим обязанностям, но эта верность будет сопровождаться принуждением, неудовольствиями, сетованием на свою судьбу – словом, она будет другим экземпляром леди Амелии Гезби. Достаточно ли был богат этот приз, чтобы оправдать выигравшего его в его страшной низости? Лили Дель он любил и теперь в душе признавался, что мог бы любить ее во всю свою жизнь. Но в леди Александрине было ли хоть что-нибудь, за что можно было бы ее любить?
Решившись в течение первых четырех или пяти дней пребывания своего в замке покинуть Лили Дель, Кросби старался успокоить свою совесть приведением на память подвигов разных героев из разных романов. Он вспомнил о Лотарио, о Дон Жуане, о Ловеласе, говорил себе, что в свете никогда не было недостатка в подобных героях и что свет обходился с подобными героями весьма снисходительно: никогда не наказывал их как негодяев, а, напротив, ласкал их и называл шалунами. Почему же и ему не быть таким же шалуном, какими были другие? Женщинам всегда нравился характер Дон Жуана, и Дон Жуан всегда пользовался популярностью между мужчинами. При этом он назвал себе дюжину Лотариев новейшего времени, которые смело поднимали свою голову, хотя всем было известно, что одним женщинам они изменили, а других привели к дверям смерти, а может быть, и к самой смерти. Война и любовь имеют сходство между собою, и свет привык прощать воинам того или другого лагеря всякого рода преступления.
Кросби, совершив подвиг, увидел себя принужденным смотреть на него совсем с другой точки зрения. Характер Лотарио вдруг показался ему совершенно в другом свете, в таком, какой бы ему неприятно было видеть, если бы он принадлежал ему самому. Он начал чувствовать, что ему не было почти никакой возможности писать к Лили письмо, написать которое было положительно необходимо. Он находился в таком положении, что мысли его невольным образом останавливались на самоубийстве как на единственном средстве выйти из этого положения. Две недели тому назад он был счастливейшим человеком, все улыбалось ему, перед ним было все, чего только мог пожелать человек, а теперь, когда он был нареченным зятем графа и имел в виду верную, блестящую карьеру, он был самый несчастный, самый низкий человек в целом мире!
Переменив платье на своей квартире, Кросби отправился в клуб обедать. Конечно, в тот вечер он ничего не мог делать.
Письмо в Оллингтон должно быть написано немедленно, но он не мог отправить его раньше вечера следующего дня, поэтому не было особенной крайности садиться за работу в тот же вечер. Проходя по Пикадилли к северу Сент-Джемса, ему пришло на мысль, что было бы хорошо написать к Лили коротенькое письмецо, не говоря в нем ни слова правды, письмецо, из которого было бы видно, что связь между ними остается еще не прерванною, в котором бы ничего не говорилось об этой связи, но было бы понятно, что отсрочка окончания дела необходима. Потом он подумал, что было бы хорошо телеграфировать Бернарду или написать ему всю правду. Бернард, разумеется, отмстил бы за свою кузину, но Кросби нисколько не страшился его мщения. Леди Джулия сказала ему, что у Лили не было ни отца, ни брата, и этим самым обвиняла его в низкой трусости.
– Я бы желал, чтобы у нее была дюжина братьев, – говорил Кросби самому себе, но едва ли он мог дать себе отчет в подобном желании.
Кросби возвратился в Лондон в последний день октября, самые многолюдные улицы аристократической части Лондона в Вест-Энде были совершенно пусты, поэтому он счел за лучшее провести вечер в своем клубе, но, как нарочно, при входе в столовую он встретил там, стоявшего перед камином, одного из своих старых задушевных друзей. Фаулер Прат первый ввел его в клуб Себрэйта и много содействовал его ранней и успешной карьере в жизни. С того времени Кросби и Фаулер Прат жили в тесной дружбе, хотя в этой дружбе Прат всегда сохранял за собой некоторое влияние. Он был немногими годами старше Кросби и значительно превосходил его своими способностями. Прат был менее честолюбив, менее имел расположения блистать в свете и еще менее пользовался популярностью. Он имел небольшое состояние, на которое жил спокойно и скромно, вел холостую жизнь, был кроток и благоразумен. Первые годы своего пребывания в Лондоне Кросби жил вместе с Пратом и привык во многом следовать советам своего друга, в последнее же время, когда Кросби сам сделался несколько замечательным человеком, он находил удовольствие в обществе таких людей, как Дель, которые не превосходили его ни по уму, ни по летам. Впрочем, прежняя дружба между ним и Пратом нисколько не охладела, и теперь они встретились с полным радушием.
– Я думал, что ты все еще в Барсетшэйре, – сказал Прат.
– А я думал, что ты все еще в Швейцарии.
– Я был в Швейцарии.
– И я был в Барсетшэйре, – сказал Кросби, и друзья заказали себе обед.
– Так ты женишься? – спросил Прат, когда кончился обед и когда лакей унес сыр.
– Кто тебе сказал?
– Все равно, кто бы ни сказал, лишь бы сказана была правда.
– Но если это неправда?
– Я слышал еще в прошлом месяце, и мне выдавали это за истину – правда или нет?
– Да, кажется, правда, – отвечал Кросби почти нехотя.
– Скажи, пожалуйста, что это значит, что ты так говоришь о своей женитьбе? Должен ли я поздравить тебя или нет? Невеста, мне говорили, кузина Деля.
Кросби повернул свой стул от стола к камину и ни слова не ответил. С рюмкой хересу он смотрел на раскаленные уголья и размышлял, не лучше ли будет рассказать всю историю Прату. Никто лучше Прата не мог бы подать ему совета, и никто, насколько он знал своего друга, не был бы так изумлен подобной историей. Прат относительно женщин не был романтичен и никогда не обнаруживал особенно нежных чувств.
– Пойдем в курильную, и там я расскажу тебе все, – сказал Кросби.
Они вышли, и так как в курильной не было ни души, то Кросби представлялась полная возможность высказаться откровенно.
Тяжел был для него этот рассказ – тяжелее, чем он думал.
– Я попал в страшное затруднение, – начал Кросби и потом рассказал, как он влюбился в Лили, до какой степени он был опрометчив и безрассуден, как прекрасна Лили («Беспредельно добра и слишком хороша для такого человека, как я», – говорил Кросби), как она приняла его предложение и как потом он раскаивался в своем поступке…
– Я тебе сказывал еще прежде, – говорил он потом, – что я уже вполовину был помолвлен с леди Александриной.
Читатель, вероятно, догадается, что эта полупомолвка была чистейшая выдумка.
– Неужели ты хочешь сказать, что теперь окончательно помолвлен.
– Так точно.
– Значит, мисс Дель ты должен объявить, что переменил свое намерение?
– Знаю, что я поступил весьма скверно, – сказал Кросби.
– Действительно, нехорошо, – сказал его друг.
– Это одно из тех затруднений, в которые впадает человек почти бессознательно.
– Да, я тоже смотрю на это совершенно с той же точки зрения. Мужчина может ухаживать за девушкой, может, сколько я понимаю, обмануть ее ожидания, не сделав ей предложения выйти за него замуж, хотя все это совершенно не в моем вкусе. Но, клянусь Георгом, сделать предложение такой девушке в сентябре, прожить месяц в ее семействе в качестве нареченного жениха, потом в октябре хладнокровно переехать в другой дом и сделать предложение другой девушке более высокого происхождения…
– Но ты знаешь, что тут ничего нельзя было сделать.
– Кажется, что так. Каким же образом ты сообщишь это известие мисс Дель?
– И сам не знаю, – сказал Кросби, становившийся все более и более угрюмым.
– И ты окончательно решился жениться на дочери графа?
Кросби никогда еще не представлялась идея изменить Александрине вместо Лили, и теперь, подумавши об этом, он не видел никакой возможности к ее осуществлению.
– Да, – сказал он. – Я женюсь на леди Александрине, то есть женюсь, если только не успею перерезать этот узел и вместе с тем свое горло.
– Будь я на твоем месте, я бы перерезал только узел. Я бы не вынес этого. Что ты намерен сказать дяде мисс Дель?
– Я ни на волос не забочусь о дяде мисс Дель, – сказал Кросби. – Если бы он в эту минуту вошел в дверь, я бы сейчас же рассказал ему все, без…
При этих словах один из клубных лакеев отворил дверь курильной комнаты и, увидев Кросби подле камина, подошел к нему и подал визитную карточку. Кросби взял карточку и прочитал: «Мистер Дель, из Оллингтона».
– Джентльмен этот в приемной комнате, – сказал лакей.
В течение минуты Кросби оставался как пораженный громом. Только что выразил он, что не имеет ни малейшего предубеждения к встрече с мистером Делем, как джентльмен этот явился в клуб и ожидал его свидания.
– Кто это? – спросил Прат.
Кросби передал ему карточку.
– Фью-ю-ю-ю! – просвистал Прат.
– Ты сказал этому джентльмену, что я здесь? – спросил Кросби.
– Я сказал, сэр, что, вероятно, вы наверху.
– Прекрасно, – сказал Прат, – джентльмен подождет несколько минут.
Лакей вышел из комнаты.
– Теперь, Кросби, ты должен на что-нибудь решиться окончательно. Одною из этих двух девушек и всеми ее друзьями ты навсегда будешь считаться подлецом, они, без всякого сомнения, постараются отплатить тебе наказанием, какое попадет под руки. Решай теперь, которая из двух должна быть страдалицей.
Кросби был трус в душе. Мысль, что он может, даже теперь, в эту самую минуту, встретить сквайра в прежних к нему отношениях или по крайней мере не с вызовом, говорила в пользу Лили сильнее всех планов, которые до этой норы Кросби составлял в своем уме, чтобы покинуть ее. Он не боялся личного оскорбления, он бы не обиделся, если бы его отколотили, он только не смел встретиться с гневом рассерженного человека.
– На твоем месте, – сказал Прат. – Я бы не пошел к этому джентльмену.
– Что же стану я делать?
– Бежать из клуба. Только если ты это сделаешь, то тебе придется быть в бегах на всю жизнь.
– Прат, надо тебе сказать, что я ожидал от тебя более чем дружбы.
– Что же я могу сделать для тебя? Человек бывает иногда поставлен в такое положение, что посторонняя помощь ни к чему не поведет. Скажу тебе откровенно, что ты поступил весьма скверно. Я решительно не вижу, чем могу помочь тебе.
– Не повидаешься ли ты с ним?
– Конечно нет, если я не должен принимать на себя твоей роли.
– Прими какую хочешь роль, только скажи ему истину.
– В чем же заключается эта истина?
– Что я был прежде помолвлен с другой девушкой, и потом, когда я размыслил об этом, то убедился, что я ни под каким видом не могу жениться на мисс Дель. Я знаю, что поступил низко, но, Прат, разве тысячи людей не делали прежде подобных поступков?
– Я могу сказать только одно, что не считал бы себя несчастным, не имея кого-нибудь из этих тысяч в числе своих друзей.
– Ты, кажется, хочешь сказать, что намерен отступиться от меня? – спросил Кросби.
– Ничего подобного я не говорил. Но само собою разумеется, я ничего не приму на себя в твою защиту, потому что поведение твое не заслуживает никакой защиты. Если ты желаешь, то я повидаюсь с этим джентльменом и передам ему все, что ты хочешь.
В эту минуту воротился лакей с запиской к мистеру Кросби. Мистер Дель потребовал бумаги и конверт и отправил к Кросби следующее послание: «Намерены ли вы спуститься ко мне? Я знаю, что вы в здешнем доме».
– Ради бога, сходи к нему, – сказал Кросби. – Он знает очень хорошо, что я обманул его племянницу, что я рассчитывал получить от него какое-нибудь приданое. Он знает это все, как знает и то, что, когда он объявил мне, что она ничего не имеет…
– Клянусь честью, Кросби, я бы желал, чтобы ты нашел другого парламентера.
– Ах, ты меня не понимаешь, – сказал Кросби в агонии. – Ты полагаешь, что, говоря о приданом, я придумываю только повод к отказу. Нет, не думай этого. Он поймет, в чем дело. Мы объяснялись с ним об этом, и он знает, как страшно обманулся я в своих ожиданиях. Подождать ли тебя здесь или ты приедешь ко мне на квартиру? Или я поеду в Бофорт и там подожду тебя.
Наконец решено было, что Кросби должен уйти из этого клуба и дожидаться в другом клубе результатов свидания Прата.
– Так ты спустишься первым? – спросил Кросби.
– Да, лучше я спущусь, – сказал Прат, – а то, пожалуй, еще он увидит тебя, и тогда может выйти скандал.
При этих словах на лице Прата показалась саркастическая улыбка, которая взбесила Кросби и сильно побуждала его сказать своему другу, чтобы он не беспокоился принимать этого поручения, что Кросби сам устроит свои дела, но он был обессилен и морально уничтожен сознанием своей низости, он потерял всякую способность располагать собою, а тем более показывать свое влияние. Он начал сознавать факт, что за его поступок его следовало наказать – наказать морально, если не физически, – и что без стыда ему не представлялось никакой возможности держать свою голову прямо.
Прат взял записку, спустился в приемную и там нашел сквайра, который стоял так, что чрез открытую дверь мог видеть нижнюю часть лестницы, по которой Кросби должен был выйти из клуба. В виде меры первой предосторожности парламентер затворил дверь, потом поклонился мистеру Делю и предложил ему стул.
– Я хотел видеть мистера Кросби, – сказал сквайр.
– У меня в руках ваша записка к этому джентльмену, – отвечал Прат. – Он нашел за лучшее, чтобы я переговорил с вами, и действительно, при его обстоятельствах это будет лучше.
– Неужели он такой трус, что побоялся меня видеть?
– Бывают поступки, мистер Дель, после которых всякий человек становится трусом. Мой друг Кросби, я знаю, довольно храбр в обыкновенном светском смысле, но он оскорбил вас.
– Так, значит, это правда?
– Да, мистер Дель, к сожалению, правда.
– И вы этого человека называете своим другом! Мистер… я не знаю вашего имени.
– Прат, Фаулер Прат. Я знаю Кросби четырнадцать лет, знаю с тех пор, как он был еще мальчиком, не в моем характере, мистер Дель, бросить старого друга при каких бы то ни было обстоятельствах.
– Даже если бы он совершил убийство?
– О, нет, да он и не совершил убийства.
– Если слышанное мною правда, то этот человек хуже убийцы.
– Не знаю, мистер Дель, что вы слышали. Конечно, мистер Кросби весьма дурно поступил с вашей племянницей, мисс Дель, я слышал, что он хотел жениться на ней и даже сделал предложение.
– Предложение! Помилуйте, сэр, это дело решенное, весь округ знает об этом. Это так положительно, что тут не было никакой тайны. Клянусь честью, мистер Прат, я не могу понять этого. Если я не ошибаюсь, то всего две недели, как он оставил мой дом в Оллингтоне… да, не больше двух недель. Эта бедная девушка провожала его как нареченная невеста. Никак не больше двух недель! Я получил письмо от старого друга нашего семейства, который пишет, что Кросби намерен жениться на одной из дочерей лорда де Курси! Я тотчас же отправился в замок Курси и узнаю, что он уехал в Лондон. Я за ним сюда – и вы говорите, что это правда.
– К сожалению, мистер Дель, сущая правда.
– Не понимаю, решительно не понимаю. Я не в состоянии подумать, чтобы человек, который еще недавно сидел за моим столом, мог быть таким величайшим подлецом. Сознавался ли он в этом самому себе, когда находился в Оллингтоне?
– Нет, конечно нет. Леди Александрина была, мне кажется, старинным его другом, с ней, вероятно, он поссорился, а по приезде в замок Курси помирился, результат вам известен.
– И вы думаете, что этого достаточно для моей бедной Лили?
– Надеюсь, сэр, вы поймете, что я не защищаю мистера Кросби. Все это весьма грустно, да, весьма грустно. Я могу только сказать в его оправдание, что он не первый поступил так низко.
– И в этом заключается все его оправдание? И это все, что я должен сказать моей племяннице? Я должен сказать ей, что она обманута бездельником. Что же потом? Что ты не первая и не последняя! Мистер Прат, даю вам слово джентльмена, что я ничего не понимаю. Я пожил уже на свете, и поэтому меня изумляет подобный поступок более, чем бы следовало.
– Мистер Дель, я вполне вам сочувствую…
– Вы мне сочувствуете! Но что станется с моей племянницей? Неужели вы думаете, что я позволю состояться этой свадьбе, что я не расскажу всем де Курси и всему свету вообще, какой это человек, что я оставлю его без наказания? Неужели он думает, что этим дело и кончится?
– Не знаю, что он думает, я только прошу вас не вмешивать меня в это дело, не считать меня за его участника.
– Не можете ли вы передать ему, что я хочу его видеть самого?
– Не думаю, чтобы это привело к чему-нибудь хорошему.
– Ничего, вы явились сюда по его желанию, будьте же так добры, исполните и мою просьбу.
– Вы хотите его видеть сегодня, теперь?
– Да, сегодня, теперь, сию минуту.
– К сожалению, это невозможно, он ушел уже из клуба, теперь его здесь нет, он ушел, когда я явился к вам.
– Значит, он и трус, и подлец.
В ответ на это мистер Фаулер Прат только пожал плечами.
– Он трус и подлец. Не угодно ли вам передать вашему другу, что он трус и подлец… и вдобавок лжец.
– Если это так, то мисс Дель будет довольна, что брак ее с таким человеком не состоится.
– В этих словах заключается ваше утешение? Да, в настоящее время, быть может, оно и хорошо, но когда я был молодым человеком, я бы скорее отжег себе язык, чем позволил бы себе говорить в этом роде о подобном предмете. Непременно бы отжег. Доброй ночи, мистер Прат. Пожалуйста, скажите вашему другу, что он еще увидится с Делем, по крайней мере, как вы намекаете, дамы этой фамилии убедятся, что такой человек не достоин их общества.
Сквайр взял шляпу и вышел из клуба.
– Я бы не поступил таким образом, – сказал Прат про себя, – не поступил бы ни за какую красоту, ни за какие богатства и почести, которыми бы обладала женщина.
Глава XXVI ЛОРД ДЕ КУРСИ В НЕДРАХ СВОЕГО СЕМЕЙСТВА
Леди Джулии Дегест в течение жизни ее редко приходилось писать письма к оллингтонскому мистеру Делю, да к тому же она и не слишком его жаловала. Теперь же, когда она увидела, что происходило или, вернее сказать, что произошло в замке и семействе де Курси, она взяла в руки перо и села за письменный стол, воображая, что исполняет свой долг в отношении к ближнему.
«Любезный мистер Дель, – писала она, – полагаю, нет надобности скрывать, что мне известна помолвка вашей племянницы с мистером Кросби. Если это правда, то вменяю себе в обязанность сообщить вам в виде предостережения о том, как ведет себя здесь этот мистер Кросби.
Я не принадлежу к числу женщин, которые имеют обыкновение вмешиваться в чужие дела, и при обыкновенных обстоятельствах поведение мистера Кросби ничего бы для меня не значило, даже менее, чем ничего, но я поступаю с вами так, как бы желала, чтобы поступали и со мной. Дело в том, что мистер Кросби сделал предложение леди Александрине де Курси и получил ее согласие. Смею думать, что вы поверите, что я говорю это не без основания и что, ради бедной вашей племянницы, мне необходимо было познакомить вас с этой неприятной истиной.
Примите уверение в искренней к вам преданности Джулия Дегест.
Замок Курси, четверг».
Сквайр никогда не имел расположения к фамилии Дегест вообще, а к леди Джулии в особенности. Он обыкновенно называл ее старой пронырой, припоминая, вероятно, ее злобу и гордость в те давно минувшие дни, когда храбрый майор Дель бежал с леди Фанни. Получив это письмо, он после первого прочтения не хотел поверить ни одному в нем слову.
– Злая сплетница, – сказал он громко своему племяннику. – Посмотри, что пишет мне твоя тетка.
Бернард два раза прочитал письмо, во время чтения лицо его принимало более и более суровое и гневное выражение.
– Неужели ты веришь этому? – спросит сквайр.
– С нашей стороны было бы неблагоразумно оставить это без внимания.
– Как! И ты думал, что друг твой способен на подобные вещи?
– Это весьма возможно. Он страшно сердился, когда узнал, что Лили не имеет состояния.
– Боже мой, Бернард! И ты можешь говорить в этом роде?
– Я не говорю, что это истина, но, во всяком случае, нам не следует пренебрегать этим известием. Я съезжу в замок Курси и узнаю истину.
Сквайр решил наконец, что он поедет сам. Приехав в замок Курси, он узнал, что Кросби выехал оттуда часа за два до его приезда. Он спросил леди Джулию и узнал от нее, что Кросби действительно оставил дом в качестве нареченного мужа леди Александрины.
– Графиня, вероятно, согласится принять вас, если вы желаете ее видеть, – сказала леди Джулия.
Но сквайр этого не пожелал. Более того, сколько было необходимо, он не хотел разглашать о несчастном положении своей племянницы, и потому пустился в погоню за Кросби. Нам известно, каков был успех этой погони.
Леди Александрина и ее мать слышали, что мистер Дель приезжал в замок, но между ними ни слова не было сказано по этому предмету. Слышала о приезде мистера Деля и леди Амелия и решилась завести об этом речь.
– Ты разве не знаешь, как далеко зашел он в этой связи?
– Нет, да, в точности не знаю, – сказала Александрина.
– Я полагаю, он говорил ей что-нибудь на счет женитьбы?
– Кажется, говорил.
– Ах, боже! Это большое несчастье. Да что это за люди эти Дели? Вероятно, он говорил тебе об них?
– Нет, не говорил, так… немного. Должно быть, это хитрая, лукавая девушка! Жаль, что мужчины поступают подобным образом.
– Да, очень жаль, – сказала леди Амелия. – Я полагаю, что в этом отношении винить нужно больше его, чем ее. Ведь я правду говорю тебе.
– Но что же я могу сделать?
– Я не говорю, что ты можешь что-нибудь сделать, но все же тебе бы следовало знать.
– А я не знаю, да и ты не знаешь, и, право, я не вижу никакой пользы рассуждать об этом. Я знала его задолго прежде нее, и если она позволила ему одурачить себя, то вина не моя.
– Никто, душа моя, этого не говорит.
– Только ты, кажется, намерена прочитать мне проповедь. Что же могу я сделать для этой девушки? Дело в том, что он не любит ее и никогда не любил.
– В таком случае ему не следовало бы говорить, что он ее любит.
– Все это прекрасно, Амелия, но согласись, что люди не всегда делают то, что бы следовало. Я полагаю, что мистер Кросби не первый сделал предложение двум девушкам. Я не говорю, что это хорошо, но поправить дело не могу. Что касается до приезда мистера Деля сюда с объяснением горести своей племянницы, то это нелепо, в высшей степени нелепо. Это заставляет думать, что у них была ловушка, в которую хотели заманить мистера Кросби, и я убеждена, что ловушка эта была на самом деле.
– Надеюсь, что тут не будет ссоры.
– Ты знаешь, Амелия, в нынешнее время мужчины не дерутся на дуэлях.
– А ты помнишь, что сделал Франк Грешам мистеру Моффату, когда последний так низко поступил с бедной Огустой.
– Мистер Кросби не боится подобных вещей. Притом же я всегда такого мнения, что Франк был не прав, решительно не прав. И что хорошего – подраться на улице?
– Конечно, все же лучше было бы, если бы дело обошлось без ссоры. Признаюсь тебе, однако, вид этого дела мне очень не нравится. Ты видишь, что дядя узнал обо всем, он сам дал согласие на женитьбу, иначе бы он не приехал сюда.
– Для меня, Амелия, это решительно все равно.
– Нет, нет, душа моя. Мы скоро переедем в город, и я постараюсь как можно чаще видеться с мистером Кросби. Надеюсь, что свадьба ваша будет в скором времени.
– Он говорит, в феврале.
– Пожалуйста, не позволяй откладывать. Подобного рода вещи, ты знаешь, очень скользки.
– Вот уж этого-то я нисколько не боюсь, – сказала Александрина, вздернув головку.
– Разумеется, чего тут бояться, ты можешь быть уверена, что мы не спустим глаз с него. Мортимер будет как можно чаще приглашать его к обеду, и притом же теперь, когда отпуск его кончился, он не выедет из города. На Рождество он будет сюда, не правда ли?
– Непременно.
– Смотри же держи его крепче. Что касается до этих Делей, я бы на твоем месте была как можно осторожнее и никому бы не стала отзываться о них с невыгодной стороны. В твоем положении это было бы не совсем хорошо.
С этим советом леди Амелия прекратила разговор.
В тот самый день леди Джулия возвращалась домой. Ее прощание со всем семейством замка Курси было очень холодно, хотя о мистере Кросби и его оллингтонской невесте не было и помину. Александрина вовсе не показывалась при этом случае, она даже не говорила с своим врагом с того вечера, когда принуждена была удалиться из гостиной.
– Прощайте, – сказала графиня. – Вы были так добры, что приехали сюда и доставили нам величайшее удовольствие.
– Очень, очень благодарна вам. Доброе утро, – сказала леди Джулия, сделав величавый реверанс.
– Поклонитесь от меня вашему брату. Нам бы очень было приятно повидаться с ним, надеюсь, что он не пострадал от быка.
И леди Джулия удалилась.
– Как глупо я сделала, пригласив сюда эту женщину, – сказала графиня прежде, чем затворилась дверь за уезжавшей гостьей.
– В самом деле? – провизжала леди Джулия сквозь щель непритворенной двери.
Наступило довольно продолжительное молчание, потом послышался шепот и вслед за тем громкий смех.
– Ах мама! Что мы будем делать? – спросила леди Амелия.
– Что делать? – сказала Маргарита. – К чему этот вопрос? Пусть она хоть раз в жизни услышит истину.
– Милая леди Думбелло, что вы подумаете о нас? – спросила графиня, обращаясь к другой гостье, которая намеревалась тоже уехать. – Скажите, знавал ли кто прежде подобную женщину!
– Мне кажется, она очень мила, – сказала леди Думбелло, улыбаясь.
– Я не могу с вами согласиться, – сказала леди Клэндидлем.
– Впрочем, я уверена, что она имела в виду доброе дело. Она очень благотворительна, подает милостыню и прочее.
– Не знаю, – сказала Розина. – Я просила ее подписать что-нибудь на миссию к подавлению католицизма на западе Ирландии, и она отказала мне наотрез.
– Ну что, душа моя, готова ли? – спросил лорд Думбелло, войдя в гостиную.
Состоялись и вторые проводы, на этот раз графиня подождала, пока не затворились двери и не затихли шаги удалявшейся леди Думбелло.
– Заметили вы, – сказала графиня, обращаясь к леди Клэндидлем, – что с тех пор, как уехал мистер Поллисер, она больше не вздергивает носа?
– Да, заметила, – отвечала леди Клэндидлем. – Что касается до бедного Думбелло, то, по моему мнению, это самое слепое создание, которое мне случалось видеть в жизни.
– В будущем мае мы что-нибудь услышим новенькое, – сказала леди де Курси, выразительно покачав головой. – Но все же ей никогда не бывать герцогиней Омниум.
– Желала бы я знать, что скажет обо мне ваша мама, когда я завтра поеду отсюда, – говорила леди Клэндидлем, переходя с Маргаритой через зал.
– Она не скажет, что вы намерены убежать от мужа с каким-нибудь джентльменом, – сказала Маргарита.
– Уж разумеется не с графом, – сказала леди Клэндидлем. – Ха-ха-ха! Какие мы все добренькие, не правда ли? Слава богу, что никому не вредим.
Таким образом, гости один за другим разъехались, и семейству де Курси предоставлена была полная свобода наслаждаться блаженством семейной жизни. Эта жизнь, весьма естественно, не лишена была своих прелестей, особливо когда между чувствами матери и ее дочерей было так много общего. Без всякого сомнения, выпадали и не совсем приятные минуты, но это происходило преимущественно от телесных недугов графа.
– Когда твой отец заговорит со мной, – говорила мистрис Джорж своему мужу, – со мной делается такая дрожь, что я не в состоянии разинуть рта, чтобы ответить ему.
– Ты, пожалуйста, не потакай ему, – сказал Джорж. – Ведь он тебе ничего не может сделать. У тебя есть свои собственные деньги, а если мне суждено быть наследником, то это сделается без него.
– Он так и заскрипит зубами, когда увидит меня.
– Не обращай на это внимания, не укусит. Бывало, он скрежетал зубами и при встрече со мной, когда я приходил просить денег у него, это мне не нравилось, а теперь я и думать не хочу. Раз как-то бросил в меня книгой, да не попал.
– Если он бросит в меня, Джорж, то я тут же и упаду.
Для графини самые худшие минуты были те, когда ей приводилось иметь дело с мужем. Ей необходимо было видеться с ним ежедневно, необходимо было высказывать такие вещи, которых он терпеть не мог слушать, обращаться к нему с такими просьбами, которые заставляли его скрежетать зубами. Граф принадлежал к числу тех людей, которые не иначе могли жить, как на широкую ногу, и в то же время были страшно скупы даже на мелочные текущие расходы. Ему, конечно, следовало бы знать в это время, что мясник, булочник, мелочные торговцы и продавцы каменного угля никого даром не снабжают своими припасами, а между тем казалось, как будто он надеялся, что они обязаны делать это. После неудачных спекуляций в Ньюмаркете и Гомбурге он находился в довольно затруднительном положении, несмотря на то у него все-таки были средства, чтобы жить без ежедневной пытки: возлагаемые на самого себя страдания относительно денег происходили скорее от его характера, чем от нужды. Жена его вовсе не знала, действительно ли он был разорен или только показывает вид разоренного человека. В этом отношении она так привыкла к своему положению, что для сохранения своего счастья никогда не прибегала к финансовым соображениям. Одежда и пища всегда являлись к ней – включая в это бархатные платья, дорогие безделушки и повара, – и она была уверена, что такой порядок вещей сохранится вечно. Но все же ежедневные совещания с мужем становились для нее невыносимы. Всеми силами старалась она избегнуть их, и в случаях, когда дело касалось способов и средств, она позволяла им устраиваться самим собою, если только со стороны мужа не встречалось препятствия. Между тем граф требовал, чтобы она виделась с ним ежедневно в его кабинете, и графиня нередко признавалась любимой своей дочери Маргарите, что получасы, которые она проводила с мужем, скоро будут для нее смертью. «Иногда я чувствую, – говорила она, – что сойду с ума прежде, чем выйду из кабинета». Она упрекала себя, вероятно без всякой причины, в том, что многое переносила в этом отношении. В прежние дни граф постоянно находился в отсутствии, и графиня жаловалась на это. Подобно многим другим женщинам, она не знала, когда и в чем состояло ее благополучие. Она сетовала и представляла своему мужу различные доводы, что он большую часть времени должен посвящать своему очагу. По всей вероятности, доводы и убеждения ее сиятельства были не так сильны, постоянное пребывание в доме состоялось вследствие расстройства здоровья, и теперь графиня с горькими сожалениями вспоминала те счастливые дни, когда она была покинута, ревнива и сварлива! «Не попросить ли нам сэра Омикрона, чтобы он приказал ему отправиться в Германию на минеральные воды?» – говорила графиня Маргарите. Сэр Омикрон был знаменитый лондонский врач и мог, без всякого сомнения, оказать им эту услугу.
Однако приказания этого не было отдано, и отец семейства решился провести зиму в замке Курси. Гости, как я уже сказал, все уехали, и в доме, кроме семейства графа, никого не оставалось, когда ее сиятельство, в двенадцать часов утра, спустя несколько часов после визита мистера Деля, вошла в кабинет своего супруга. Граф всегда завтракал один, и после завтрака находил во французском романе и сигаре то утешение, какое могли еще доставлять ему эти невинные развлечения. Когда роман переставал возбуждать его и когда сигара теряла свой аромат, граф посылал за женой, а после нее являлся камердинер одевать его. «Ей хуже моего переносить капризы этого человека, – говорил камердинер своей собратии. – Мне еще можно отказаться от места, а ей нельзя».
– Лучше ли? Нет, нисколько не лучше, – сказал муж в ответ на женины осведомления о здоровье. – Мне никогда не будет лучше, пока вы будете держать этого повара.
– Но, отказав ему, где мы возьмем другого?
– Не мое же дело приискивать поваров. Я не знаю, где вы возьмете другого. В скором времени у вас вовсе не будет повара, я уверен в этом. Мне кажется, вы взяли в дом двух лишних людей, не сказав мне ни слова.
– При таком собрании гостей нам нужны были лишние люди. Пригласить сюда леди Думбелло – и не дать ей прислуги!
– Кто приглашал сюда леди Думбелло? Я не приглашал.
– Однако, мой друг, ты был доволен ее присутствием.
– Чтоб ей провалиться!
И затем наступила пауза. Графиня не противоречила и радовалась, что вопрос о прислуге был замят с помощью леди Думбелло.
– Взгляните-ка на это письмо от Порлокка, – сказал граф, передавая несчастной матери письмо от ее старшего сына.
Из всех ее детей он был одним из любимейших, но ей никогда не позволялось видеться с ним под кровлею своего дома.
– Иногда я думаю, что это величайший из бездельников, с которым мне когда-либо приводилось иметь дело, – сказал граф.
Графиня взяла письмо и прочитала его. Послание это не принадлежало к числу таких, какое отец с удовольствием мог бы получить от сына, но за неприятное свойство его содержания скорее можно винить отца, нежели сына. Автор письма говорил между прочим, что ему не доставляют с надлежащей пунктуальностью известную сумму, и что если он не получит ее, то вынужденным найдется предложить своему адвокату принять меры к взысканию путем суда и закона. Лорд де Курси воспользовался известной суммой денег насчет фамильного имения, чего он, однако ж, не мог сделать без соглашения с своим наследником, а как соглашения этого не состоялось, то он обязан был выплатить из приобретенной суммы старшему сыну определенную часть. Граф смотрел на подобную уплату как на добровольное пожертвование или вспомоществование, между тем как лорд Порлокк считал ее своею собственностью по закону. В этом письме лорд Порлокк не употреблял фраз, в которых выражалась бы сыновняя покорность и преданность. Оно начиналось следующими словами: «Лорд Порлокк сим извещает лорда де Курси», и проч.
– Я полагаю, что он должен получить свои деньги, иначе чем же он будет жить? – спросила графиня с лихорадочной дрожью.
– Чем жить! – прокричал граф. – Значит, вы оправдываете его и находите, что он должен писать к своему отцу подобные письма?
– Я только сожалею об этом, – отвечала она.
– Я сам не знаю, откуда взять денег. Что касается до него, то если бы он даже умер с голоду, я бы сказал только, что так ему и следует. Он служит позором моему имени и моему семейству. Сколько я знаю, он недолго проживет.
– Ах, де Курси! Не говорите об этом таким тоном.
– Каким же тоном я буду говорить? Если бы я сказал, что он составляет для меня единственное утешение, что он живет, как следует нобльмену, что он пользуется отличным здоровьем, что у него добрая жена и несколько законных детей, неужели вы бы этому поверили? Вы, женщины, все легкомысленны. От слов моих он не сделается хуже.
– Но он может исправиться.
– Исправиться! Ему за сорок лет, а когда я видел его в последний раз, он показался мне шестидесятилетним стариком. Ну что же, отвечайте на его письмо, а я не хочу.
– Что же сказать ему насчет денег?
– Почему он не напишет к Гезби на счет своих поганых денег? Зачем он меня беспокоит? У меня нет его денег. Спросите об них Гезби.
Наступила другая пауза, в течение которой графиня сложила письмо и положила в карман.
– Долго ли же Джорж будет оставаться здесь с своей женщиной? – спросил граф.
– Мне кажется, она никому здесь не мешает, – возразила графиня.
– Садясь обедать, я всегда думаю, что сажусь за стол вместе с своей горничной. В жизнь свою не видывал подобной женщины. Не могу понять, как он терпит ее! Впрочем, он, по-видимому, нисколько о ней не заботится.
– Эта связь делает его степенным.
– Степенным!
– Она скоро разрешится от бремени и поэтому должна оставаться здесь. Если Порлокк не женится, то вы знаете…
– Так, значит, он намерен поселиться здесь навсегда? Я вам вот что скажу. Этому не бывать. Ему лучше и легче, чем мне, держать на своих плечах и на плечах жены свой собственный дом и хозяйство, и это вы можете им сказать. Я не хочу, чтобы они были здесь. Слышите ли?
Наступила новая пауза.
– Слышите ли?! – прокричал граф.
– Да, разумеется слышу. Я только думала о том, что вы, вероятно, не захотите, чтобы я их выгнала из дому, особливо теперь, когда так скоро ожидается разрешение от бремени.
– Знаю, к чему это клонится, но этому не бывать. Не хочу, чтобы они были здесь, и если вы не скажете им этого, то я сам скажу.
В ответ на это леди де Курси обещала выразить им волю своего супруга, полагая, быть может, что способ этого выражения самим графом далеко не может подействовать благотворно, в такую особенную эпоху, какая в настоящее время наступала в жизни мистрис Джорж.
– Знаете ли вы, – сказал граф, переменив предмет разговора, – что сегодня приезжал сюда какой-то человек, который называл себя Делем?
Графиня отвечала утвердительно.
– Почему же вы скрываете это от меня?
И при этом начался тот скрежет зубов, который казался таким неприятным и страшным для мистрис Джорж.
– Потому что в этом я не видела никакой важности. Он приезжал повидаться с леди Джулией Дегест.
– Да, то есть он приезжал объясниться насчет этого Кросби?
– Надо так думать.
– И зачем вы позволили этой девчонке быть такой дурой? Вы увидите, что он сыграет какую-нибудь низкую штуку.
– О, никогда!
– Почему же она хочет выйти замуж за такого человека?
– Он настоящий джентльмен, и притом же имеет значение в обществе. Тут я не вижу ничего дурного. В настоящее время так трудно для девушки выйти замуж без денег.
– Значит, поэтому они должны выходить за кого ни попало. Сколько я вижу, так это замужество хуже, чем Амелии.
– Амелия, мой друг, вышла замуж очень хорошо.
– Гм! Вот уж ничего не вижу в этом хорошего. Напротив, по-моему, это чрезвычайно скверно, так скверно, что хуже этого ничего и быть не может. Впрочем, это ваше дело. Я никогда не вмешивался и не намерен вмешиваться в ваши дела.
– Я вполне уверена, что она будет счастлива, она так искренно привязана к этому молодому человеку.
– Искренно привязана к этому молодому человеку!
Тон голоса и манера, с которыми граф повторил эти слова, были таковы, что невольным образом составлялось мнение, что его сиятельство оказал бы блистательные успехи на сцене, если бы только внимание его было обращено на эту профессию.
– Я делаюсь болен, когда слышу подобные вещи. Она хочет замуж, так пусть же на себя и пеняет, я не могу этому помочь, только помните, чтобы здесь не вышло скандала насчет той, другой девушки. Если он из-за нее наделает мне хлопот, то клянусь… я буду ему хуже смерти. Когда же назначена свадьба?
– Говорят, в феврале.
– Чтобы при свадьбе не было каких-нибудь глупостей и издержек. Если она хочет выйти за клерка, так пусть и свадьба будет такая, какая бывает у клерков.
– Он еще до свадьбы получит место секретаря.
– Велика разница! Секретарь! А как вы думаете, что это за люди секретари? Нищие, которые являются никто не знает откуда! Я не хочу, чтобы были дурачества, слышите?
Графиня ответила, что слышит, и воспользовалась первой минутой, чтобы удалиться. Наступила очередь камердинера. После часовой службы он не раз повторял в лакейской, что старый хрыч расходился, точно сатана в аду.
Глава XXVII «КЛЯНУСЬ ЧЕСТЬЮ, Я ЭТОГО НЕ ПОНИМАЮ»
Между тем леди Александрина старалась представить себе как можно вернее все выгоды и невыгоды своего положения. Она не имела ни особенно нежных чувств, ни силы характера, ни возвышенных целей. Много раз она себя спрашивала, была ли настоящая жизнь ее достаточно счастлива, чтобы постоянное пребывание в ней могло удовлетворить ее желаниям, и каждый раз отвечала себе, что перемена на всякую другую жизнь была необходима. Нередко также советовалась она с собой насчет своего звания, которым немало гордилась, и всегда говорила себе, что не может понизить себя в свете без тяжелых мучений. Впрочем, в последнее время Александрина приучила себя к мысли, что гораздо более выигрывала, сделавшись женою такого человека, как Кросби, нежели оставаясь незамужней дочерью своего отца. В положении сестры ее Амелии было много такого, чему она не завидовала, но еще менее было завидного в положении сестры ее Розины. Дом Гезби не отличался таким великолепием, как замок Курси, но все же он не был таким скучным, не служил источником постоянных огорчений и сверх того составлял собственность ее сестры.
– Очень многие выходят замуж за подобных мужчин, – говорила она Маргарите.
– Да, разумеется. Большая, однако же, разница, когда мужчина имеет состояние.
Разумеется, тут большая разница. Кросби не имел состояния, не был даже так богат, как Гезби, не мог держать экипажа, не имел загородного дома, зато он был светский человек, пользовался в обществе большим уважением, чем Гезби, мог, по всей вероятности, занять высокое место в своей профессии, и вообще был видный мужчина в строгом смысле этого слова. Конечно, леди Александрина отдала бы преимущество джентльмену с пятью тысячами фунтов годового дохода, но как подобного джентльмена не оказывалось, то почему же бы ей не быть за мистером Кросби, чем вовсе не иметь мужа? Она не была влюблена в мистера Кросби, но надеялась, что может жить с ним комфортабельно, да и вообще быть замужем дело хорошее.
Александрина составила себе правила, по которым должна была исполнять свой долг в отношении к мужу. Ее сестра Амелия была полной госпожой в своем доме, управляя всем умеренно и сносно, доставляя таким управлением пользу своему мужу. Александрина боялась, что ей не позволят управлять, но что, во всяком случае, она попробует. Она употребит все усилия, чтобы доставить мужу спокойствие, будет в особенности стараться не раздражать его напоминанием ему о своем высоком происхождении. В этом отношении она будет весьма кроткою, если пойдут дети, она будет заботиться о них так, как будто отец их обыкновенный пастор или адвокат. Много думала она также о Лилиане Дель, задавала себе различные вопросы с целью убедить себя в высоких правилах относительно своего долга в этом случае. Виновата ли она в том, что отбивает мистера Кросби от Лилианы Дель? В ответ на этот вопрос Александрина спокойно уверяла себя, что она не виновата. Мистер Кросби ни под каким видом не женился бы на Лилиане Дель. Он не раз признавался ей в этом, и признавался самым торжественным образом. Поэтому она нисколько не вредила Лилиане Дель. Если в душе своей она и была убеждена, что преступление Кросби в измене Лилиане Дель представлялось не таким важным, каким бы оно представилось, если бы она сама не была дочерью графа, что ее звание до некоторой степени смягчало такое преступление, то она не решалась выразить на словах этого убеждения даже самой себе.
Александрина не пользовалась особенным расположением своих близких родных. «Я боюсь, что он мало думает о своих религиозных обязанностях. Мне сказывали, что молодые люди подобного рода редко думают об этом», – говорила Розина. «Я не виню тебя, – говорила Маргарита. – Ни под каким видом не виню. Признаться тебе, я думаю об этом браке гораздо менее, чем думала в то время, когда Амелия выходила замуж, но сама ни в каком случае этого бы не сделала». Отец Александрины объявил ей, что, по его мнению, она не ребенок и знает, что делает. Ее мать старавшаяся утешать и до некоторой степени поощрить ее, несмотря на то, постоянно твердила, что Александрина выходит замуж за человека без звания и без состояния. В поощрениях выражалось нравоучение, а ее утешения принимали вид увещаний: «Само собою разумеется, душа моя, ты не будешь богата, но я уверена, что будешь жить хорошо. Мистер Кросби может быть принят где угодно, тебе никогда не придется краснеть за него». При этом графиня намекала, что ее старшей замужней дочери приходилось стыдиться своего мужа. «Я бы желала, чтобы он имел возможность держать экипаж для тебя, но может статься, со временем и это будет».
Александрина нисколько не раскаивалась в своем поступке и решительно объявила отцу своему, что она уже не ребенок и знает, что делает.
В течение всего этого времени Лили Дель по-прежнему наслаждалась своим счастьем. Дня два замедления в получении ожидаемого письма от своего обожателя не нарушали ее спокойствия. Она обещала ему верить в искренность его любви и твердо решилась выполнять свое обещание. Нарушить его в это время ей не приходило и в голову. Она разочаровывалась, обманывалась в своих ожиданиях, когда почтальон не приносил ей письма, как обманывается землепашец, когда долго ожидаемый дождь не спадает с неба на иссохшую землю, но она нисколько не сердилась. Он объяснил это, говорила она про себя и потом уверяла Белл, что мужчины не в состоянии понять голода и жажды писем, которые испытывают женщины, находясь вдали от тех, кого любят.
Но вот в Малом доме услышали, что сквайр уехал из Оллингтона. В течение последних дней Бернард редко бывал у них, и об отъезде сквайра они узнали не от него, а от садовника Хопкинса.
– Уж, право, не знаю, как вам сказать, мисс Белл, куда уехал наш сквайр. Наш господин не имеет обыкновения говорить мне, куда отправляется, говорит только, когда едет за семенами или за чем-нибудь в этом роде.
– Однако он уехал совершенно внезапно, – сказала Белл.
– Против этого, мисс, я ничего не могу сказать. Да и почему бы ему не ехать внезапно, если вздумается? Знаю только, что он поехал в кабриолете на станцию железной дороги. Похороните меня живого, а больше этого я ничего не могу сказать.
– Я бы попробовала выпытать из него еще что-нибудь, – сказала Лили, удаляясь с сестрой своей от садовника. – Это такой угрюмый господин. Не знаю, уехал ли Бернард со своим дядей.
После этого ни та, ни другая сестра не думали больше об отъезде сквайра.
На другой день Бернард зашел в Малый дом, но ничего не мог сказать о причине отсутствия сквайра.
– Я знаю только, что он в Лондоне, – сказал Бернард.
– Надеюсь, он заедет к мистеру Кросби, – сказала Лили.
Но и на это Бернард не сказал ни слова. Он спросил Лили, что пишет ей Адольф? Лили отвечала таким спокойным тоном, какой только в состоянии была придать своему голосу, что в тот день не получала еще письма.
– Я рассержусь на него, если он не будет хорошим корреспондентом, – сказала мистрис Дель, оставаясь с Лили наедине.
– Нет, мама, вы не должны на него сердиться. Я не позволю вам сердиться на него. Помните, пожалуйста, что он мой жених, а не ваш.
– Но я не могу равнодушно смотреть, как ты поджидаешь почтальона.
– Я не буду поджидать его, если это наводит на вас дурные мысли относительно Адольфа. Я хочу, чтобы вы думали, что все его действия прекрасны.
На следующее утро почтальон принес письмо или, вернее сказать, записку, и Лили сразу увидела, что записка эта была от Кросби. Она поспешила перехватить ее у самого входа, так чтобы мать не могла заметить ни ее ожиданий, ни разочарования в случае неполучения письма.
– Благодарю тебя, Джен, – очень спокойно сказала она, когда запыхавшаяся девушка подбежала к ней с маленьким посланием в руках, и Лили удалилась в уединенный уголок, чтобы скрыть свое нетерпение.
Записка была так мала, что изумила Лили, но когда она распечатала ее, то изумление ее еще более увеличилось. В записке этой не было ни начала, ни конца, в ней не было ни приветствия, ни подписи, она заключала в себе только две строчки: «Завтра я напишу вам больше. Сегодня первый день моего приезда в Лондон. Дорога так утомила меня, что решительно не могу писать». Вот все ее содержание, и это было нацарапано на лоскутке бумаги. Что это значит, что он не назвал ее своей неоцененной Лили? Почему он не прибавил в конце уверения, что принадлежит ей на всю жизнь? Подобные выражения можно было бы, кажется, включить в записку одним размахом пера.
– А если бы он знал, – сказала Лили, – как я алчу и жажду его любви!
Прежде чем пойти к матери и сестре, Лили на несколько минут осталась одна, и эти минуты употребила на воспоминание своих обещаний.
«Я знаю, что все хорошо, – сказала она про себя. – Не так, как я, он думает об этих вещах. Он должен был бы пожертвовать на письмо последнюю минуту…»
И потом со спокойным, улыбающимся лицом она вошла в столовую.
– Ну, что он пишет? – спросила Белл.
– А что вы дадите, чтобы узнать, что он пишет?
– Я бы не дала и двух пенсов, – сказала Белл.
– Когда у тебя будет жених, то не знаю, согласишься ли ты показывать всякому его письма к тебе?
– Но если в письме заключаются какие-нибудь особенные лондонские новости, то, мне кажется, нам можно было бы узнать об них, – сказала мистрис Дель.
– А если, мама, в письме нет никаких новостей. Бедняжка, он только что приехал в Лондон, и притом же в это время года какие могут быть в Лондоне новости?
– Видел он дядю Кристофера?
– Едва ли, по крайней мере, он ничего не говорит об этом. Вот когда приедет дядя, тогда мы узнаем все новости. Лондонские новости занимают его больше, чем Адольф.
На этом и прекратился разговор о письме. До этого Лили по нескольку раз перечитывала за завтраком два прежних письма Адольфа, читая их про себя, она вслух произносила некоторые слова и так протяжно и выразительно, что ее мать могла бы тут же записать их. Теперь же Лили даже не показала письма, ее отсутствие, в течение которого она читала его, продолжалось не более двух минут. Мистрис Дель все это видела и знала, что дочь ее еще раз обманулась в своих ожиданиях.
Действительно, в этот день Лили была очень серьезна, но не показывала виду, что она огорчена. Вскоре после завтрака Белл отправилась в пасторский дом, мистрис Дель и младшая дочь остались дома и вместе сидели за каким-то шитьем.
– Мама, – сказала Лили, – когда я уеду в Лондон, то надеюсь, вы и я разлучимся не навсегда.
– Сердцами, душа моя, мы никогда не разлучимся.
– Ах, мама! Этого недостаточно для счастья, хотя, быть может, и весьма довольно для отстранения положительного несчастья. Мне бы хотелось постоянно видеть вас, обнимать вас и ласкать вас, как ласкаю теперь.
Лили подошла к матери и опустилась на колени на подножную подушку.
– Тебе, душа моя, и без меня будет кого ласкать и обнимать, и даже, может быть, многих других.
– Не думаете ли вы сказать, мама, что намерены бросить меня?
– Боже меня упаси, ангел мой. Это уже не матери, которые бросают детей своих. Но что мне-то останется, когда ты и Белл оставите меня одну?
– Нет, мама, мы никогда вас не оставим. В отношении к вам мы всегда останемся теми же, хотя и будем замужем. Я оставляю за собой право находиться здесь, сколько мне вздумается, а взамен этого вы получите право быть у меня сколько вам угодно. Его дом должен быть вашим родным очагом, а не каким-нибудь холодным местом, которое вы можете посещать от времени до времени, надевая лучшие наряды. Вот что я подразумеваю под словами: мы не должны разлучаться.
– Но, Лили…
– Что же, мама?
– Я нисколько не сомневаюсь, что мы будем счастливы вместе, ты и я.
– Вы, кажется, хотели сказать что-то другое.
– Только то, что твой дом будет его домом, и что в нем ты не будешь замечать пустоты и без меня. Замужество дочери всегда влечет за собой грустную разлуку.
– В самом деле, мама?
– По крайней мере, для меня это грустная разлука. Ты не подумай, что я желаю удержать тебя при себе. Весьма естественно вы должны обе выйти замуж и оставить меня. Я надеюсь, что тот, кому ты посвящаешь себя, будет любить и защищать тебя.
Сердце вдовы переполнилось материнской любовью, она отклонилась от Лили, чтобы скрыть свое лицо.
– Мама, мама, я бы не хотела уезжать от вас.
– Нет, Лили, не говори этого. Я не буду довольна жизнью, если не увижу замужем обеих моих дочерей. Мне кажется, это единственный жребий, который может доставить женщине покой и удовольствие. Я хочу, чтобы вы обе были замужем, иначе я была бы самым себялюбивым созданием.
– Белл устроится вблизи вас, вы будете чаще видеть ее и любить ее больше, чем меня.
– Я буду одинаково любить и тебя, и ее.
– Я бы желала, чтобы она тоже вышла замуж за лондонского жителя, тогда бы вы поехали с нами и находились бы вблизи нас. Знаете ли, мама, мне иногда думается, что вам не нравится здешнее место.
– Ваш дядя был так добр, что предоставил его нам.
– Я это знаю, и мы были очень счастливы здесь. Но если Белл оставит вас…
– Тогда и я уеду отсюда. Ваш дядя очень добр, но иногда я чувствую, что его доброта служит для меня бременем, нести которое у меня одной недостанет сил. И что тогда будет привязывать меня к здешнему месту?
Говоря это, мистрис Дель понимала, что «здешнее место» выходило за пределы дома, который она занимала по милости сквайра. Мог ли весь ее мир ограничиваться только этим местом? Каким образом будет она жить, если от нее возьмут обеих дочерей? Она почти уже убедилась, что дом Кросби не будет для нее родным очагом, не будет даже и временным пристанищем, ее визиты туда должны быть непременно того парадного свойства, на который намекала сама Лили. Объяснить все это Лили не представлялось никакой возможности. Она не хотела предрекать, что герой сердца ее дочери будет негостеприимным в отношении матери своей жены, но так и не иначе мистрис Дель понимала характер будущего своего зятя. Увы! ни та, ни другая не знали еще характера мистера Кросби, в противном случае они не стали бы не только говорить, но и думать о его гостеприимстве или негостеприимстве.
После полудня обе сестры снова сидели вместе, Лили была серьезнее обыкновенного. Из всех ее поступков нельзя было не заключить, что свадьба должна состояться в непродолжительном времени и что она приготовлялась разлучиться с домом.
– Скажи, пожалуйста, Белл, отчего это доктор Крофтс не навестит нас?
– Не прошло, мне кажется, и месяца, как он был у нас на вечере.
– Месяца! А было время, когда он являлся к нам почти каждый день.
– Да, когда мама была нездорова.
– Даже и после ее выздоровления. Впрочем, я не должна нарушать обещания, которое ты взяла с меня. О нем вовсе не следует говорить.
– Я ничего подобного не говорила. Ты знаешь, что было тогда на уме у меня, а что было у меня тогда на уме, то это же самое остается и теперь.
– Скоро ли будет на уме у тебя что-нибудь другое? Я бы желала, чтобы это случилось как можно скорее, право бы желала.
– Этого никогда не будет, Лили. Было время, когда я мечтала о докторе Крофтсе, но это была одна мечта. Я знаю это, потому что…
Белл хотела объяснить, что в убеждениях своих она непогрешительна и что с того памятного вечера она узнала, что может полюбить другого человека. Но этот другой человек был мистер Кросби, и потому она замолчала.
– Пусть бы он сам приехал, да расспросил тебя.
– Никогда он этого не сделает. Никогда он не сделает вопроса о вещах подобного рода, если я не подам к тому повода, а повода к этому от меня он никогда не дождется. Он до тех пор не подумает о женитьбе, пока не будет иметь состояния. У него есть достаточно твердости духа, чтобы переносить бедность без всякого сетования, но он не в состоянии будет переносить эту бедность вместе с женой. В этом я совершенно уверена.
– Посмотрим, посмотрим, – сказала Лили. – Для меня нисколько не покажется удивительным, если ты выйдешь замуж раньше меня. С своей стороны, я приготовилась ждать, пожалуй, хоть три года.
В тот вечер поздно сквайр возвратился в Оллингтон, Бернард ездил встретить его на станцию железной дороги. Сквайр телеграфировал своему племяннику, что приедет на последнем поезде, и больше этого ничего не было слышно от него с самого отъезда. Днем Бернард не видел никого из обитательниц Малого дома. Теперь ему не представлялось возможности обращаться с Белл с прежней непринужденностью, он не мог встречаться с ней, не начав разговора о предмете общего для них интереса, и при этом не мог говорить без особенной предусмотрительности. Он не знал еще самого себя, начав ухаживать за кузиной так легко, он считал это за самую обыкновенную вещь, все равно, приняли ли бы его предложение или нет. Теперь для него это уже не было более легкодоступным предметом. Не знаю, действительно ли в этом случае управляла его действиями искренняя, чистая любовь. Как бы то ни было, раз поставив себе цель, он с настойчивостью, свойственною всем Делям, решился достичь ее во что бы то ни стало. Он не допускал идеи отказаться от кузины и утешал себя тем, что ее нельзя привлечь к себе без некоторого труда и, быть может, без некоторого пожертвования временем.
Не было у Бернарда и расположения побеседовать с мистрис Дель или с Лили. Он боялся, что донос леди Джулии был справедлив, что в нем, во всяком случае, заключалась частица правды; находясь таким образом в некотором сомнении, он не мог с спокойной душой явиться в Малый дом. Ну, что ему придется делать, если Кросби действительно окажется виновным в той низости, в которой обвиняла его леди Джулия? Тридцать лет тому назад он вызвал бы его на дуэль и убил бы его, не дав ему прицелиться. В настоящее время подобный поступок невозможен, а между тем что скажет свет, если он оставит такое оскорбление без отмщения?
Дядя Бернарда по выходе из вагона с саквояжем в руке был мрачен, угрюм и молчалив. Он сел в кабриолет, не промолвив слова. На станции были посторонние люди, и потому Бернард считал неудобным приступить к расспросам, но когда кабриолет завернул за угол вокзала, он спросил: что нового?
Сквайр даже и теперь не хотел отвечать. Покачав головой, он отвернулся, как будто ему не нравилось, что его спрашивают.
– Видели ли вы его? – спросил Бернард.
– Нет, он не смел показаться мне.
– Значит, это правда?
– Правда? Да, сущая правда. Зачем ты привез сюда этого мерзавца? Ты всему виной.
– Нет, сэр, я не виню себя. Я не знал его за такого бездельника.
– Но прежде чем привести его сюда, ты должен был узнать, что это за человек. Бедная девушка! Что я ей скажу?
– Разве она еще не знает?
– Кажется, нет. Ты видел их?
– Я видел их вчера, и они еще ничего не знали, может статься, сегодня она получила письмо.
– Не думаю. Это такой гнусный трус, что побоится написать к ней. Трус, трус! Да и может ли человек найти в себе столько твердости духа, чтобы написать подобное письмо?
Мало-помалу сквайр разговорился и рассказал, как он виделся с леди Джулией, как отправился в Лондон и выследил Кросби до его клуба, где и узнал всю истицу от друга Кросби, Фаулера Прата.
– Трус убежал от меня, в то время как я разговаривал с его посланным, – говорил сквайр. – Это они уж вместе составили план, и я думаю, он был прав, а то я бы раскроил ему голову в клубе.
На другое утро Прат приходил к нему, в его гостиницу с извинением от Кросби.
– С извинением! Оно в моем кармане. Гнусная тварь, презренная гадина! Не могу этого понять. Клянусь честью, Бернард, этого я не понимаю. Мужчины, с тех пор как я короче их знал, кажется, совсем переменились. Для меня невозможно было бы написать такое письмо.
Он рассказал, как Прат принес письмо и объявил, что Кросби отклоняет от себя свидание.
– Джентльмен этот был столько добр, что убедил меня, что из нашего свидания не вышло бы ничего хорошего. Вы знаете, сказал я ему, не тронь смолы – не замараешься. Прат соглашался, что приятель его чернее смолы. Действительно, он ни одного слова не мог сказать в защиту своего друга.
– Я знаю Прата, это настоящий джентльмен, он не решится его извинить, за это я ручаюсь.
– Извинить его! Да кто и каким образом мог бы извинить его? Да найдутся ли слова, которые бы можно было привести в его извинение? – И сквайр в течение нескольких минут оставался безмолвным.
– Клянусь честью, Бернард, я все еще не могу прийти в себя, чтобы поверить этому. Это так ново для меня. Это заставляет меня думать, что свет совершенно извратился и что честному человеку не стоит больше жить в нем.
– И он дал слово жениться на другой?
– О, да, с полного согласия родителей. Дело уже решенное, и брачные условия, вероятно, теперь в руках какого-нибудь стряпчего. Решившись бросить ее, он должен был уехать отсюда. Я уверен даже, что он вовсе не был намерен жениться на ней. Он сделал предложение, собственно, для препровождения времени.
– Однако у него было желание оставаться здесь до самого конца отпуска.
– Не думаю. Если бы он увидел возможность и намерение с моей стороны дать ей приданое, быть может, тогда бы он и женился на ней. Но с той минуты, как я объявил ему, что Лили ничего не будет иметь, он выбросил из головы всякую идею о женитьбе на ней. Наконец мы приехали. Откровенно скажу, что в жизнь мою я ни разу не возвращался в свой собственный дом с таким растерзанным сердцем.
За ужином дядя и племянник сидели молча, сквайр обнаруживал свою горесть гораздо свободнее, чем можно бы ожидать от человека с его характером.
– Что скажу я им завтра поутру? – снова и снова повторял он. – Как мне сделать это? И если я скажу матери, то как она передаст это своей дочери?
– Неужели вы думаете, что он сам не напишет о своем намерении.
– Сколько я понимаю, не напишет. Прат, по крайней мере, говорил мне, что до вчерашнего вечера он ни к кому не писал. Я спросил о намерениях его подлого друга, и он отозвался незнанием, прибавив, что Кросби, вероятно, пишет об этом мне самому. Он подал мне письмо. Вот оно. – И сквайр швырнул его через стол. – Прочитай его и отдай мне назад. Он, кажется, думает, что этим дело и кончится.
Это было низкое, подлое письмо, не потому, чтобы в нем были употреблены дурные выражения или искажены были факты, но потому, что заключавшееся в нем объяснение само по себе было низко и подло. Есть поступки, которые не допускают никаких толкований и объяснений, преступления, в которых признаваться может не иначе как сделавшая их гадина, бывают обстоятельства, которые меняют человека и ставят его в уровень с пресмыкающимися. Большого труда стоило Кросби написать это письмо, когда он воротился домой после последнего свидания в тот вечер с Пратом. Он долго и угрюмо сидел в кресле на своей квартире, не будучи в состоянии взять в руки перо. Прат обещал прийти к нему утром в должность, и Кросби лег в постель, решившись написать письмо за своей конторкой. Прат явился на другой день, но Кросби не написал еще ни слова.
– Терпеть не могу подобных вещей, – сказал Прат. – Если ты хочешь, чтобы я отнес письмо, то пиши его сейчас же.
С внутренним стоном Кросби сел за стол, и на бумаге начали появляться слова. Вот эти слова: «Знаю, что не могу представить никаких извинений ни вам, ни ей. Но я поставлен в такие обстоятельства, что истина лучше всего. Я чувствую, что не мог бы доставить мисс Дель счастья, и потому, как благородный человек, считаю своею непременною обязанностью отказаться от чести, которую она и вы предложили мне».
Довольно, кажется, мы все знаем, из каких слов составляются подобные письма людьми, когда они чувствуют себя принужденными писать как твари.
– Как благородный человек! – повторил сквайр. – Клянусь честью джентльмена, Бернард, этого я не понимаю. Я не могу верить себе, чтобы человек, написавший это письмо, сидел когда-то за моим столом в качестве гостя.
– Что же мы сделаем с ним? – спросил Бернард, после непродолжительной паузы.
– Сделаем то же, что с крысой. Отколоти его тростью, когда попадет тебе под ногу, но берегись, главнее всего, чтобы он не забрался к тебе в дом. Теперь, впрочем, это уже слишком поздно.
– Этого, дядя, недостаточно.
– Не знаю, чего же еще более. Есть поступки, за которые человек осуждается вдвойне потому, что он прикрывает себя от открытого наказания свойством своей собственной подлости. Мы должны помнить имя Лили и сделать все, что только можно для ее утешения. Бедная, бедная девушка!
Снова наступило молчание, наконец сквайр встал и взял свою спальную свечу.
– Бернард, – сказал он, уходя, – рано поутру дай знать моей невестке, что я желаю видеть ее у себя, если она будет так добра и придет сюда после завтрака. Чтобы больше этого ничего не было сказано в Малом доме. Быть может, сегодня он писал туда.
Сквайр удалился, между тем как Бернард долго еще оставался в столовой, размышляя обо всем случившемся. Чего ожидает от него общество относительно Кросби? И что он должен сделать, когда встретится с Кросби в клубе?
Глава XXVIII СОВЕТ
Кросби, как нам уже известно, отправился в должность, в Вайтгол, на другое утро после побега своего из клуба Себрэйта, где он оставил оллингтонского сквайра в совещании с Фаулером Пратом. В тот вечер он еще раз виделся с Фаулером Пратом. Продолжение рассказа покажет, что происходило при этом свидании.
В должность он пришел довольно рано, зная, что ему предстояло написать два письма, которые в особенности не повиновались его перу. Одно из них, к сквайру, должен был взять его друг для передачи по принадлежности, другое письмо, и самое роковое, письмо к бедной Лили, составляло такой тяжелый труд, который он решительно не в состоянии был выполнить в течение целого дня. Письмо к сквайру он написал под влиянием некоторых угроз, оно, как мы уже видели, унизило его до степени пресмыкающегося.
По прибытии в Вайтгол он увидел, что его ожидали там другие заботы – заботы, которые доставили бы ему особенное удовольствие, если бы душа его была настроена к восприимчивости этого удовольствия. В приемном зале он заметил, что собравшиеся там курьеры оказывали ему уважение более обыкновенного. В главном комитете он всегда считался великим человеком, но как в величии, так и в уважении, отдаваемом этому величию, бывают своего рода оттенки, точное определение которых хотя и невозможно, но, несмотря на то, они для опытного взгляда становятся совершенно очевидными. Кросби прошел в свой кабинет, где на столе ожидали его два официальных письма. Первое из попавшихся ему под руку было небольшое, с надписью «секретно» и с адресом, написанным рукою его старого друга, Буттервела, бывшего секретаря комитета. «Я увижусь с вами сегодня поутру, почти вслед за получением вами этого письма, – говорилось в полуофициальной записке, – но считаю долгом прежде всех других поздравить вас с приобретением моих старых башмаков. Для вас они будут довольно свободны, хотя сначала и жали мне мозоли. Надо сказать, что они нуждаются в новых подошвах, и, может быть, придется немного приподнять каблуки, но вы найдете сами превосходного художника по этой части, который приведет их в порядок и придаст им фасон, в котором оказывался ощутительный недостаток во все время, пока они находились в моем обладании. Желаю вам от души наслаждаться ими, и проч. и проч.». После этого Кросби распечатал другое письмо, но оно уже не имело для него особенного интереса. Не прочитав еще, он уже угадывал его содержание. Совет комиссионеров с величайшим удовольствием предоставлял ему место секретаря, сделавшееся вакантным по случаю назначения мистера Буттервела в члены совета, письмо это было подписано самим Буттервелом.
Как бы был восхищен он этим приветствием по возвращении к служебным занятиям, если бы на сердце его в других отношениях не лежало тяжелой заботы. Размышляя об этом, он припоминал все чарующие прелести Лили. Он сознавался самому себе, как много превосходила она благородную дочь фамилии де Курси, с которой судьба определила ему сочетаться брачными узами, до какой степени отвергнутая невеста превосходила избранную им в грации, свежести, красоте, преданности и всех женских добродетелях! О, если бы только представилась ему какая-нибудь возможность исключить последние две недели из событий его существования! Но подобного рода недели неисключимы, даже если бы на это употреблено было несколько печальных лет, сопровождаемых скучными, тягостными усилиями.
В эту минуту ему казалось, как будто совершенно исчезли все те препятствия, которые страшили его, когда он думал жениться на Лили Дель. То, что было бы страшным при семи- или восьмистах фунтов годового дохода, сделалось бы очаровательным при доходе почти вдвое большем. Зачем судьба была так немилостива к нему?.. Зачем это повышение не состоялось неделями двумя раньше? Зачем не объявили ему об этом перед роковой поездкой в этот страшный замок? Он даже говорил себе, что, если бы факт этот был положительно известен ему до свидания Прата с мистером Делем, он послал бы к сквайру совсем другое письмо и выдержал бы гнев всего поколения де Курси. Но в этом случае он обманывал самого себя – и знал, что обманывал. Граф в его воображении представлялся таким существом, что даже мысль об измене леди Александрине казалась невозможною. Он мало беспокоился, задумав обмануть племянницу незначительного деревенского сквайра, но обмануть дочь графини – страшно и подумать.
Дом, полный ребятишек, в отдаленной части Лондона, принимал теперь вид совершенно различный от того, в каком он представлялся в то время, когда Кросби сидел в своей комнате в замке Курси в первый вечер своего приезда. Тогда от этого дома отзывалось чем-то могильным, как будто Кросби предстояло заживо похоронить себя в нем. Теперь же, когда этот дом сделался для него недосягаемым, он казался ему земным раем. Потом он представлял себе какой-то рай приготовит для него Александрина. Смотря в настоящую минуту сквозь увеличительные стекла, нельзя было не удивляться, какою безобразною представлялась леди Александрина, какою старою, до какой степени лишенною грации и прелести.
В течение первого часа Кросби ничего не делал. К нему приходили два младших чиновника и искренно его поздравляли. Кросби пользовался между сослуживцами популярностью, его повышение послужило поводом и к повышению других. Потом он встретился с двумя старшими чиновниками, которые тоже поздравили его, но без всякой искренности.
– По-моему, оно так и следует, – сказал один толстый старый джентльмен. – Мое время прошло, я это знаю. Я женился слишком рано, чтобы иметь возможность носить красивый мундир в молодости, и притом же я вовсе не был знаком ни с лордами, ни с семействами лордов.
Жало это было тем острее, что Кросби начинал решительно чувствовать, как бесполезны были теперь все связи, которые он составлял. Он получил повышение, потому что знал свое дело лучше всех других, влиятельный родственник леди де Курси не успел еще написать и записки по этому предмету.
В одиннадцать часов в кабинет Кросби вошел мистер Буттервел, и новый секретарь принужден был облечься в улыбки. Мистер Буттервел был приятной, красивой наружности мужчина лет пятидесяти, который никогда не выдумывал пороху и даже не делал подобной попытки. Он был чрезвычайно вежлив и услужлив перед великими мира сего и принимал на себя покровительственный вид перед низшими. Впрочем, даже в его покорности перед могучими было что-то искреннее и английское, в его любезности с ровными и низшими не обнаруживалось ни малейшей гордости. Он знал, что не был очень умен, и в то же время умел пользоваться умными. Он редко делал ошибки и боялся ступить кому-нибудь на ногу. Не имея врагов, он имел очень немного друзей, и поэтому мы смело можем сказать, что мистер Буттервел шел по дороге жизни весьма скромно. На тридцать пятом году он женился на одной даме с небольшим состоянием и теперь проводил приятную, легкую, улыбающуюся жизнь в небольшой вилле к Путни. Когда мистер Буттервел слышал – а это удавалось ему нередко – о затруднениях, с какими английский джентльмен должен зарабатывать насущный хлеб в своем отечестве, он оглядывался на свою собственную карьеру с особенным удовольствием. Он знал, что миру давал очень немного, а между тем получал от него щедро, и никто ему не завидовал.
«Такт, – говаривал про себя мистер Буттервел, прохаживаясь по ковровым дорожкам своей виллы. – Такт, такт и такт».
– Кросби, – сказал он с веселым лицом, войдя в кабинет, – от души поздравляю вас, чисто от души. Вы рано сделали большой шаг в жизни, впрочем, вы вполне этого заслуживаете, гораздо полнее, чем я заслуживал, когда меня назначили на это место.
– О, нет, – угрюмо сказал Кросби.
– А я говорю, о, да. Мы должны считать за особенное счастье, что имеем подобного человека, это я сказал всем комиссионерам.
– Чрезвычайно много вам обязан.
– Я давно знал об этой перемене. Сэр Рэфль Бофль говорил мне, что намерен перейти в управление сбора государственных доходов, там ему предложили две тысячи фунтов в год, первую же вакансию в нашем совете обещали мне.
– Жаль, что я не знал этого раньше, – сказал Кросби.
– От подобного незнания вы ничего не потеряли. Нет ничего приятнее, как получать сюрпризы! Кроме того, иногда и знаешь о чем-нибудь, да и не знаешь! Я не говорю, что не знал, напротив, знал за достоверное, но до вчерашнего дня не открывал ни одному живому существу. Иногда, кажется, что может быть вернее, а смотришь, и ошибешься в расчете. Ну, если бы сэр Рэфль не перешел в управление государственных доходов!
– Совершенно так, – сказал Кросби.
– Теперь все кончено. Вчера я заседал в совете и подписал вам предложение. Кажется, однако же, я больше теряю, чем выигрываю.
– Как! Получив триста фунтов стерлингов больше и меньше работы?
– Так, но не надо смотреть на интересы предмета. Секретарь все видит, и все ему известно. Правда, я начинаю стареть, и, следовательно, чем меньше работы, тем для меня лучше. Кстати, не приедете ли завтра в Путни? Мистрис Буттервел будет в восторге, увидев нового секретаря. В городе теперь нет никого, поэтому вы не можете иметь предлога к отказу.
Но у мистера Кросби нашелся такой предлог. При настоящем настроении его души ему не представлялось ни малейшей возможности сидеть за столом мистрис Буттервел и улыбаться. Таинственным, полуобъясняющим тоном он дал понять мистеру Буттервелу, что некоторые частные дела особенной важности заставляют его по необходимости оставаться в городе.
– В настоящее время, – заключил он, – я уже более не господин своего времени.
– Да-да, и в самом деле. Я совсем забыл поздравить вас. Так вы женитесь? Прекрасно, я очень рад, и надеюсь, что вы будете так же счастливы, как я.
– Благодарю вас, – сказал Кросби довольно угрюмо.
– На молоденькой барышне близь Гествика? Кажется, там или где-то около тех мест?
– Н-нет, – пробормотал Кросби, – эта барышня живет в Барсетшэйре.
– Я даже слышал ее имя. Кажется, ее зовут Белл, или Тэйт, или Балл?
– Нет, – сказал Кросби, призвав на помощь всю смелость. – Ее зовут де Курси.
– Одна из дочерей графа?
– Да.
– Извините, пожалуйста. Значит, я ослышался. Вы вступаете в близкое родство с весьма благородной фамилией, и, право, от души радуюсь вашему успеху в жизни.
После этого Буттервел искренно пожал ему руку, не выразив, однако, особенного одобрения, какое приготовился выразить, находясь при убеждении, что Кросби женится на Белл, Тэйт или Балл. Мистер Буттервел начал думать, что тут что-то кроется. Он слышал из самого верного источника, что Кросби сделал предложение племяннице одного сквайра, у которого гостил, близ Гествика, девушке без всякого состояния.
– Прекрасно, заседание у нас начнется в два часа, вы знаете и, без всякого сомнения, пожалуете к нам. Если до собрания у вас найдется свободное время, то я приготовлю бумаги, которые должен вам передать. Я ведь не был лордом Ильдоном, и потому они не составят вам тяжелого бремени.
Вслед за этим в кабинет Кросби вошел Фаулер Прат, и Кросби под его взорами написал письмо сквайру Делю.
Повышение не доставляло радости Кросби. Когда Прат удалился, он старался облегчить свое сердце. Он старался забыть и Лили, и ее горе и сосредоточить все мысли на своих успехах в жизни, но не мог. От добровольно принятых на себя хлопот нелегко отделаться. Человек, теряя тысячи фунтов стерлингов, чрез оплошность приятеля или чрез неблагоприятный поворот колеса фортуны может, если только он мужчина в строгом значении этого слова, бросить на пол свое горе и растоптать его ногами, он может это сделать, когда причиною горя бывает не его собственная глупость и в особенности когда оно не истекает из его эгоизма. Подобные случаи заставляют мужчин искать утешения в пьянстве, производят отсутствие всякой мысли, создают игроков и мотов, побуждают к самоубийству. Но каким образом Кросби мог бы уклониться от необходимости писать к Лили? Чтобы положить всему конец, оставалось только размозжить себе голову. Таков был результат размышлений, когда Кросби сидел и старался извлечь удовольствие из своего повышения.
Но Кросби не такой был человек, чтобы совершить самоубийство. Отдавая ему справедливость, я должен сказать, что он еще не был так малодушен. Он знал очень хорошо, что пуля не могла еще положить всему конец и что в нем было еще слишком много мужества, чтобы прибегнуть к свойственному одним только трусам способу выпутываться из затруднительного положения. Упавшее на него бремя должно быть вынесено. Но как его вынести? Таким образом, Кросби просидел до двух часов, забыв и мистера Буттервела, и официальные бумаги, он не трогался с места до тех пор, пока посланный не пригласил его в совет. Совет, когда Кросби вошел в него, не был таким советом, каким бы он должен быть по мнению публики. В зале совета стоял круглый стол, с несколькими на нем перьями, в отдаленном от дверей конце стояли покойные кожаные кресла. Сэр Рэфль Бофль оставлял своих сослуживцев и стоял к камину спиной, громко разговаривая. Сэр Рэфль любил побурлить, и совет необыкновенно радовался, что наконец от него отделался, а так как это было последнее его заседание, то члены кротко покорились его голосу. Мистер Буттервел стоял подле него и тихонько смеялся при его шутках. Маленький человек, никак не более пяти футов роста, с небольшими, но добрыми глазами и коротко остриженными волосами, стоял позади кресла и потирал себе руки, ожидая, когда удалится сэр Рэфль, чтобы можно было сесть и открыть заседание. Это был мистер Оптимист, новый председатель, о котором газета Daily Jupiter громко кричала, что нынешний председатель показал себя превосходные всех своих предместников, предоставив высшее место человеку собственно за его заслуги. Газета эта недели две тому назад напечатала весьма красноречивую статью, в которой подавала советы мистеру Оптимисту, и весьма естественно, она осталась очень довольною, когда узнала, что советы ее были приняты. Да и то сказать, разве послушный председатель не имеет права на похвалы тех властей, которым он повинуется?
Мистер Оптимист был трудолюбивый человек, с хорошими связями, человек, который всю свою жизнь служил общественному делу, и служил во всех отношениях честно. Он не умел кричать, как его предшественник, даже представлялся вопрос: в состоянии ли он будет управлять вверенной ему командой? В совете находился еще один член, майор Фиаско, недовольный, убитый горем, молчаливый человек, его посадили в главный комитет несколько лет тому назад, потому что во всех других местах в нем не встречалось особенной надобности. Это был человек, который, поступив в общественную службу и обладая весьма хорошими способностями и энергией, намеревался совершать великие дела, но по какому-то случаю ему, как говорится, не везло: совершая свое поприще, он постоянно сбивался с дороги. Он был еще в лучшей поре жизни, но уже всем было известно, что майору Фиаско ничего нельзя ожидать ни от общества, ни от правительства. Находились даже и такие, которые говорили, что майор Фиаско получал от общества щедрое вознаграждение, за которое ничего не давал обществу, что он четыре или пять раз в неделю, по четыре часа каждый раз, даром только занимал кресло, подписывал некоторые бумаги, читал или показывал вид, что читает газеты, но в сущности ничего не делал. С другой стороны, майор Фиаско считал себя глубоко обиженным человеком и проводил свою жизнь в размышлениях о своих обидах. В настоящее время он не верил никому и ничему. Он начал общественную жизнь, стараясь быть честным, и теперь всех окружавших его считал бесчестными. Только тогда он и испытывал некоторое удовольствие, когда какой-нибудь случай показывал ему, что тот или другой из его сослуживцев заботится о своих собственных интересах и для этого употребляет ложь и обман. «Пожалуйста, не говори мне, Буттервел, – говаривал он, потому что с мистером Буттервелем он поддерживал полуофициальную дружбу и в разговоре с ним всегда брал его за петлю сюртука. – Пожалуйста, не говори мне. Я знаю, что такое люди. Я насмотрелся на свет. Я смотрел на вещи открытыми глазами. Я знаю, что делает этот человек». И потом он рассказывал о проделке какого-нибудь чиновника, хорошо известного им обоим, не делая на него прямого доноса, но только стараясь доказать, что чиновник этот поступает бесчестно. Буттервел пожимал плечами, улыбался и говорил, что он не считает свет таким дурным, каким его находит Фиаско.
И действительно, Буттервел смотрел на все с лучшей стороны и веровал во многие вещи. Он веровал в свою Путнейскую виллу в этом мире, как веровал в приобретение виллы вроде Путнейской и в будущем мире, без испытания мученических страданий. Путнейская вилла, со всеми атрибутами комфорта, стояла у него на первом плане, и уже за ней – его обязанности к обществу. Таким-то образом мистер Буттервел располагал своими действиями, а так как он заботился, чтобы вилла была комфортабельна и для жены, и для него, и в особенности комфортабельна для его друзей, то, мне кажется, нет надобности осуждать его верования.
Мистер Оптимист веровал во все вообще, и в особенности в первого министра, в газету Daily Jupiter, в главный комитет и в самого себя. Он долго полагал, что все окружающее его близко к совершенству, а теперь, сделавшись председателем в главном комитете, был уверен, что все должно быть совершенством. В сэра Рэфля Бофля он никогда не веровал, и теперь, быть может, величайшая радость его жизни заключалась в том, что ему не придется больше слышать ненавистный голос этой страшной особы.
Вполне зная состав нового совета, нельзя не допустить, что Кросби предвидел выгодное и даже влиятельное положение в своей канцелярии. Некоторые чиновники, не колеблясь, говорили, что новый секретарь будет во всем действовать по-своему. Что касается до «старого Опта», то с ним нетрудно вести дело. Стоит только доложить ему, что такая-то и такая резолюция была его собственная, и он, без сомнения, поверит докладчику. Буттервел не любил работать и привык в течение многих лет выезжать на Кросби. Что касается до Фиаско, то он был циником на словах и совершенно равнодушным на деле. Если бы всему управлению угрожало какое-нибудь бедствие, Фиаско, не изменяя угрюмого выражения, в душе порадовался бы общему испугу и смятению.
– Поздравляю вас, Кросби, – сказал сэр Рэфль, стоя перед камином на ковре и ожидая, что новый секретарь подойдет к нему пожать руку.
Но сэр Рэфль оставлял комитет, и потому новый секретарь считал подобную любезность совершенно излишнею.
– Благодарю вас, сэр Рэфль, – сказал Кросби, не приближаясь к ковру.
– Мистер Кросби, от души поздравляю вас, – сказал мистер Оптимист. – Ваше повышение есть результат ваших собственных заслуг. Вы были избраны на высшую должность, исполнять которую вы теперь призваны, собственно, потому, что все признали вас самым способным человеком для отправления тяжелых обязанностей, соединенных с этой должностью. Гм-гм! Что касается до моего участия в рекомендации, которую мы все обязаны были представить государственному казначею, то долгом считаю заявить, что в этом отношении я нисколько не колебался, и мне кажется, могу сказать то же самое относительно других членов совета.
И мистер Оптимист посмотрел во все стороны, надеясь встретить взоры одобрения. Он сделал несколько шагов и искренно пожал руку мистеру Кросби. Фиаско тоже встал с своего места и прошептал Кросби на ухо, что тот необыкновенно хорошо устроил свое гнездышко, и потом снова сел.
– Да, относительно меня, смело можете сказать, – сказал Буттервел.
– Я говорил государственному казначею, – сказал сэр Рэфль весьма громким голосом и с большим авторитетом, – что если он желает иметь отличного человека на открывшуюся вакансию, то я могу назвать способного кандидата. Сэр Рэфль, – сказал он, – я хочу поддержать порядок в канцелярии и потому буду рад вашему мнению. В таком случае, господин канцлер, сказал я, место это должно принадлежать мистеру Кросби. Ну так и пусть оно принадлежит мистеру Кросби, сказал канцлер. И оно принадлежит теперь мистеру Кросби.
– Ваш друг Сарк тоже говорил об этом лорду Броку, – сказал Фиаско. Надо заметить, что граф Сарк был молодой нобльмен с большим влиянием, а лорд Брок – первый министр. – Вам следует благодарить лорда Сарка.
– Столько же следует благодарить его, сколько и моего лакея, – сказал сэр Рэфль.
– Премного обязан господам членам совета, – сказал Кросби серьезным тоном. – Обязан и лорду Сарку, а также и вашему лакею, сэр Рэфль, если только он принимал участие в моем повышении.
– Я ничего подобного не говорил, – сказал сэр Рэфль. – Я находил справедливым дать вам понять, что государственный казначей принял именно мое мнение, заявленное, разумеется, официально. Однако меня ждут в Сити, и потому, джентльмены, я должен пожелать вам доброго утра. Богс, готова ли моя карета?
При этом дежурный курьер открыл дверь, и великий сэр Рэфль Бофль окончательно удалился со сцены своих прежних трудов.
– Что касается до обязанностей вашей новой должности, – продолжал мистер Оптимист, ничем не обнаруживая удовольствия при отъезде своего неприятеля, ничем, кроме разве как увеличившимся блеском глаз и более удовлетворяющим тоном голоса, – вы увидите себя совершенно знакомым с ними.
– Это так, – сказал Буттервел.
– И я вполне уверен, что вы будете исполнять их, к чести самому себе, к удовольствию управления и на пользу общества. Мы всегда с особенным удовольствием будем принимать ваше мнение о предметах более или менее важных, что касается до внутренней дисциплины управления, мы убеждены, что спокойно можно оставить ее в ваших руках. В делах более серьезных вы будете, без всякого сомнения, советоваться с нами, и я совершенно уверен, что мы будем трудиться спокойно и с взаимным доверием.
После этого мистер Оптимист окинул взглядом своих собратий комиссионеров, занял свое кресло и, взяв в руки лежавшие перед ним бумаги, приступил к занятиям текущего дня.
Было около пяти часов, когда, при этом особенном случае, секретарь воротился из зала собрания за свой кабинет. Ни в то время, когда сэр Рэфль хвастался своим влиянием, и ни в то, когда мистер Оптимист держал свою речь, мистера Кросби не покидало тяжелое бремя, лежавшее на его плечах. Он не думал ни о том, ни о другом, а об одной только Лили Дель, и хотя оба эти джентльмена не угадывали его мыслей, но они заметили, что Кросби не был похож на себя.
– В жизнь свою не видел человека, который бы так мало радовался своему счастью, – сказал мистер Оптимист.
– У него что-нибудь есть на душе, – сказал Буттервел. – Кажется, он думает жениться.
– В таком случае неудивительно, что его ничто не радует, – сказал майор Фиаско, который сам был холостяк.
По приходе в кабинет Кросби схватил лист почтовой бумаги, как будто торопливость могла помочь ему написать письмо в Оллингтон. Но хотя бумага лежала перед ним, хотя перо было в его руке, письмо, однако ж, не писалось и не хотело писаться. Какими словами он должен был начать его? К кому следовало его писать? Каким образом объявить себя низким человеком, которым он сделался? Конверты из его отделения отправлялись на почту каждый вечер, вскоре после шести часов, а между тем к шести часам он не написал еще ни слова. «Я напишу у себя на квартире, ночью», – сказал он про себя и потом, оторвав лоскуток бумаги, набросал несколько строчек, которые получила Лили и которых она не хотела показать ни сестре, ни матери. Кросби воображал, что эти несколько строчек некоторым образом приготовят бедную девушку к ожидавшему ее удару, что они, по крайней мере, заставят ее подумать, что тут скрывается что-нибудь недоброе, но, воображая это, он не рассчитывал на постоянство ее натуры, не вспомнил об обещании, которое она дала ему, что ее ничто не принудит усомниться в нем. Кросби написал эти строчки и потом, взяв шляпу, пошел к Чэринг-Кроссу, по улице Сен-Мартин, к Семи углам и Блумсбери, и очутился в той части города, до которой ему не было никакого дела и в которой до этого раза он никогда не бывал. Он сам не знал, куда и зачем он шел. Он не знал, каким образом освободиться от тяжести, которая давила его. Ему казалось, что он с благодарностью променял бы свое положение на положение младшего чиновника в его отделении, лишь бы только этот чиновник не сделал такой измены доверию, в какой он сам был виновен.
В половине восьмого Кросби очутился в клубе Себрэйт и там обедал. Человек в состоянии обедать, хотя бы сердце его разрывалось на части. После обеда Кросби взял кеб и отправился домой, в улицу Маунт. Во время поездки он дал себе клятву не ложиться спать, пока не напишет письма и не снесет его на почту. Когда на листе почтовой бумаги показались первые слова, была уже полночь; несмотря на то, Кросби решился выполнить клятву. Около трех часов, при холодном лунном освещении, Кросби вышел из квартиры и опустил свое письмо в ближайший почтовый ящик.
Глава XXIX ДЖОН ИМС ВОЗВРАЩАЕТСЯ В БУРТОН-КPЕСЦЕНТ
Джон Имс и Кросби воротились в Лондон в один и тот же день. Не мешает припомнить, каким образом Имс оказал услугу лорду Дегесту при встрече последнего с быком и как велика была при этом случае благодарность лорда. Воспоминание об этом событии и сильное одобрение, которое он получил от матери и сестры за приобретение своею храбростью подобного друга, доставляли Имсу некоторое удовольствие в последние часы его пребывания под родным кровом. Но все-таки и для него были два несчастья, слишком серьезные, чтобы позволить ему испытывать что-нибудь близкое к совершенному счастью. Он, во-первых, оставлял Лили, которая должна была выйти замуж за ненавистного ему человека, во-вторых, он возвращался в Буртон-Кресцент, где ему предстояло встретиться с Амелией Ропер – Амелией взбешенной или влюбленной. Перспектива Амелии в ее бешенстве была страшна для него, но еще страшнее представлялась ему Амелия влюбленная. В письме своем он отклонил супружество, но что, если она не захочет принять во внимание все приводимые им затруднения и поведет его к алтарю наперекор его желанию!
По приезде в Лондон Джонни, взяв кеб и положив в него чемодан, едва мог собраться с духом, чтобы отдать извозчику приказание ехать в Буртон-Кресцент. «Не лучше ли мне ехать на ночь в какой-нибудь отель? – спросил он про себя. – Тогда я могу узнать от Кредля, что делается в их квартире». Как бы то ни было, он отдал приказание везти себя в Буртон-Кресцент и, отдавши однажды такое приказание, стыдился отменить его. По мере приближения к знакомым дверям сердце до такой степени замирало в нем, что его, можно сказать, почти не существовало. Когда извозчик спросил, не нужно ли постучать, Джонни не мог ответить, а когда служанка дома встретила его, он готов был убежать.
– Кто дома? – спросил он тихим голосом.
– Хозяйка дома, – отвечала девушка, – мисс Спрюс и мистрис Люпекс, мистер Люпекс снова запил, дома и мистер…
– А мисс Ропер здесь? – спросил он тоже в полголоса.
– О, да! Мисс модистка здесь, – отвечала девушка немилосердно громким голосом. – Она сейчас была в столовой, накрывала стол. – Мисс модистка!
При этих словах девушка открыла дверь столовой. Джонни Имс чувствовал, что ноги его подкашиваются.
Между тем мисс модистки не оказалось в столовой. Завидев приближающийся кеб с ее обожателем, она сочла за лучшее отступить от хозяйственных обязанностей и укрепиться за кистями, лентами и другими принадлежностями дамского туалета. Если бы она знала, до какой степени был слаб и труслив неприятель, с которым предстояло ей вступить в бой, она, по всей вероятности, приняла бы совсем другую тактику и выиграла бы победу, сделав только два-три удачных выстрела. Однако она этого не знала. Она считала весьма вероятным, что возьмет над ним верх и овладеет им, но ей и в голову не приходило, что ноги под ним так были слабы, что стоило бы только дунуть, и он бы упал. Только одни самые дурные и бездушные женщины знают, до какой степени простирается их власть над мужчинами, как, с другой стороны, только самые дурные и самые бессердечные мужчины знают, до какой степени простирается их власть над женщинами. Амелию далеко нельзя было считать хорошим образцом женского пола, но были женщины гораздо хуже ее.
– Ее тут нет, мистер Имс, вы увидите ее в гостиной, – сказала девушка. – Ей будет приятно снова с вами встретиться.
Но мистер Имс осторожно прошел мимо дверей гостиной, не заглянув даже в нее, и старался пробраться в свою комнату, не быв никем замеченным.
– Вот и теплая вода для вас, мистер Имс, – сказала девушка, войдя к Джонни через полчаса. – Обед подадут через десять минут. За обедом будут мистер Кредль и сын хозяйки.
Для Джонни Имса была еще возможность отобедать где-нибудь в трактире на улице Странд. Он мог уйти из дому, сказав, что отозван, и таким образом отдалить от себя минуту неприятной встречи. Он уже решился сделать это, и, конечно, сделал бы, если бы дверь гостиной не отворилась в то время, когда он находился на лестнице. Дверь отворилась, и он увидал себя лицом к лицу перед целым обществом. Первым вышел Кредль, ведя под руку, к сожалению я должен сказать, мистрис Люпекс, за ним следовала мисс Спрюс с молодым Ропером, Амелия и ее мать заключали шествие. О побеге теперь нельзя было думать, и бедный Имс бессознательно был увлечен за обществом. Все были рады видеть его, все горячо поздравляли его с возвращением, но он до такой степени растерялся, что даже не заметил, присоединялся ли голос Амелии к прочим голосам. Джонни уже сидел за столом, и перед ним стояла тарелка супу, когда увидел, что с одной стороны подле него сидела мистрис Ропер, а с другой – мистрис Люпекс. Последняя при входе в столовую отделилась от Кредля.
– При всякого рода обстоятельствах, быть может, гораздо лучше для нас обоих быть разъединенными, – сказала она. – Не правда ли, мистрис Ропер? Дело другое между нами, мистер Имс, от меня вам не может быть никакой опасности, особливо когда напротив сидит мисс Амелия.
Последние слова предполагалось прошептать Джонни Имсу на ухо. Джонни, однако же, ничего не ответил, он только вытер пот, выступивший на его лице. Напротив его действительно сидела Амелия и смотрела на него – та самая Амелия, которой он писал письмо, отклоняя от себя честь жениться на ней. По ее взглядам он не мог составить себе понятия, в каком настроении духа она находилась. Лицо ее было угрюмо, неодушевленно, казалось, она намеревалась просидеть весь обед молча. Легкая усмешка пробежала по ее лицу, когда она услышала шептание мистрис Люпекс, и при этом заметно было, что нос ее немного вздернулся, но она все-таки не сказала ни слова.
– Надеюсь, мистер Имс, вы приятно провели время между юными сельскими красавицами? – спросила мистрис Люпекс.
– Весьма приятно, благодарю вас, – отвечал Джонни.
– В настоящую осеннюю пору что может быть лучше сельской жизни. Что касается до меня, то я не привыкла оставаться в Лондоне после того, как выедет отсюда beau monde. Мы обыкновенно отправлялись в Броадстэйрс, очаровательное место, с элегантным обществом, но теперь…
И мистрис Люпекс покачала головой; сидевшие за столом сейчас же догадались, что она намекала на пороки мистера Люпекса.
– Я так вовсе не желаю выезжать из Лондона, – сказала мистрис Ропер. – Когда у женщины есть свой дом, свое хозяйство, то вряд ли она будет испытывать удовольствие вдали от того и другого.
Мистрис Ропер вовсе не думала упрекнуть мистрис Люпекс в том, что у нее нет ни дома, ни хозяйства, но мистрис Люпекс приняла эти слова на свой счет и сейчас же ощетинилась:
– Так говорят, мистрис Ропер, одни улитки. Конечно, иметь свой дом и свое хозяйство – вещь весьма хорошая, но не всегда, это зависит от обстоятельств. В последнее время мне больше нравится жить на квартире, но кто знает, может статься, я паду еще ниже, и тогда…
Мистрис Люпекс остановилась и, взглянув на мистера Кредля, кивнула ему головой.
– И тогда будете отдавать квартиры, – сказала мистрис Ропер. – Надеюсь, что вы будете более довольны своими жильцами, чем я некоторыми из своих. Джемима, подай картофелю мисс Спрюс. Мисс Спрюс, позвольте положить вам соусу. Здесь еще довольно, не беспокойтесь.
– Надеюсь, что буду довольна, – сказала мистрис Люпекс. – Но все-таки скажу, что Броадстэйрс – очаровательное местечко. Мистер Кредль, бывали вы когда-нибудь в Броад-стэйрсе?
– Никогда, мистрис Люпекс. На время отпуска я обыкновенно отправляюсь за границу. Через эти поездки больше знакомишься с светом. В июне прошлого года я был в Дьеппе и нашел это местечко весьма очаровательным, хотя оно и не многолюдно. В этом году отправляюсь в Остенде, только в декабре ехать в Остенде чересчур уже поздно. Предосадно, что на мою долю выпал декабрь, не правда ли, Джонни?
– Да, досадно, – отвечал Имс, – я лучше распорядился.
– И что же вы делали, мистер Имс? – спросила мистрис Люпекс с одной из своих очаровательных улыбок. – Впрочем, что бы там ни делали, вы, верно, не изменили красоте.
И мистрис Люпекс с выразительной улыбкой посмотрела на Амелию. Амелия, между тем, продолжая заниматься обедом, не отводила глаз своих с тарелки ни на мистрис Люпекс, ни на Джонни Имса.
– Ничего особенного не делал, – отвечал Имс. – Находился все время при матушке.
– А мы довольно весело проводили время. Не правда ли, мисс Амелия? – продолжала мистрис Люпекс. – Только от времени до времени на небо находят тучи, и огни за банкетом тускнеют. – Мистрис Люпекс, сказав это, приложила платок к глазам и зарыдала, все знали, что она снова намекала на беспорядочную жизнь своего мужа.
После обеда, когда дамы с молодым Ропером удалились, Имс и Кредль остались перед камином столовой за рюмкой вина или, пожалуй, за рюмкой джину с водой.
– Ну что, Кодль? Старый дружище, – сказал один из них.
– Ну, что Имс? – сказал другой.
– Что новенького в канцелярии? – спросил Имс.
– Моджридж просто с ума сходит. – Моджридж был второй чиновник в комнате Кредля. – Мы решились избегать его и не говорить с ним, разве только по службе. Впрочем, надобно тебе сказать, что у меня столько было дела дома, что я мало и думал о службе. Скажи, пожалуйста, что мне делать с этой женщиной?
– Что делать с ней? Как, что делать с ней?
– Да, что мне с ней делать? Каким образом распорядиться мне? Люпекс опять находится в припадке ревности.
– Так что же, полагаю, тут не твоя вина?
– Не знаю, как тебе сказать. Я люблю ее, в этом вся моя вина, и люблю ее страстно.
– Но, любезный мой Кодль, ты знаешь, что она жена этого человека.
– Конечно знаю. Я не защищаю себя. Знаю, что это нехорошо, но приятно, а вместе с тем и дурно. Что же станешь тут делать? Следуя правилам строгой нравственности, мне бы должно оставить эту квартиру, но, клянусь Георгом, я не вижу достаточного основания, да и к тому же не имел бы возможности расквитаться со старухой Ропер. Однако, любезный, кто подарил тебе золотую цепочку?
– Старинный друг нашего семейства… или, вернее сказать, человек, который знал моего отца.
– И он подарил тебе цепочку только потому, что знал твоего отца. Есть и часы при цепочке?
– Как же, вот и часы. Я тебе не совсем верно сказал. Тут, видишь ли, вышли хлопоты с быком. Сказать тебе правду, мне подарил эти часы и цепочку лорд Дегест, самый странный человек, какого ты, Кодль, не встречал во всю свою жизнь. На Рождество он будет здесь, и я должен у него обедать.
После этого была рассказана знакомая уже нам история о быке.
– Желал бы я найти в поле лорда при встрече его с бешеным быком, – сказал Кредль.
Со своей стороны мы позволяем себе усомниться в том, что едва ли бы мистер Кредль получил часы, даже если бы и исполнилось его желание.
– Так ты видишь, Джонни, – продолжал Кредль, обращаясь к предмету, в разговоре о котором всегда находил особенное удовольствие, – ведь я ни под каким видом не отвечаю за дурное поведение этого человека.
– Разве кто говорит, что ты отвечаешь?
– Нет, никто этого не говорит. Но мне кажется, есть люди, которые так думают. Когда он здесь, я почти не говорю с ней. Она же такая беспечная и ветреная, как и все женщины, берет меня за руку и делает другие подобные вещи, разумеется, это приводит его в бешенство, но клянусь тебе честью, я не думаю, что она замышляет что-нибудь дурное.
– Я тоже не думаю, – сказал Имс.
– Ну, да все равно, замышляет или нет, конечно, я бы от души желал, чтобы она не замышляла.
– А где он теперь?
– Между нами будь сказано, сегодня она ходила отыскивать его. Если он не даст ей денег, она не может оставаться здесь и, по той же причине, не в состоянии будет выехать отсюда. Если я сообщу тебе еще кое-что, ты, вероятно, никому не перескажешь?
– Разумеется, будь уверен.
– Я бы хотел, чтобы никто об этом не знал. Я дал ей в долг семь с половиной фунтов стерлингов. Вот поэтому-то я и не могу расквитаться со старухой Ропер.
– Сам виноват, не на что и жаловаться.
– Ну да, этого я ожидал от тебя. Я всегда говорил тебе, что ты не имеешь понятия о действительном романе. Полюбив женщину, я готов отдать ей фрак со своих плеч.
– Я бы сделал еще лучше, – сказал Джонни. – Я бы отдал ей сердце, вынув его из груди. Для любимой девушки я позволил бы разрубить себя на куски, но не сделал бы этого для женщины, которая замужем.
– Это, друг мой, дело вкуса. Так вот, видишь ли, сегодня она ходила к Люпексу в тот дом, где он работает, там у них происходила страшная сцена. Он хотел лишить себя жизни среди улицы, и она утверждает, что это все происходит от ревности. Подумай, какое время наступило для меня… постоянно, как говорится, стоишь на порохе. Он может прийти сюда каждую минуту. Но клянусь честью, я не могу покинуть ее. Если и я ее брошу, то у нее не будет ни одного друга в мире. А как поживает Л. Д.? Я вот что должен сказать, у тебя будут большие хлопоты с этой божественной Амелией.
– В самом деле?
– Клянусь Юпитером, будут. Но скажи, как проводил ты время с Л. Д.?
– Л. Д. выходит замуж за некоего Адольфа Кросби, – протяжно произнес бедный Джонни. – Пожалуйста, не будем больше говорить о ней.
– Фью-ю-ю! Оттого ты и невесел! Л. Д. выходит замуж за Кросби! Это тот самый, которого недавно сделали секретарем в генеральном комитете. Старый Рэфль, который был там председателем, перешел к нам, ты это знаешь. В генеральном комитете были большие перемены, Кросби получил место секретаря. Он служит счастливо, не правда ли?
– Ничего не знаю о его счастье. Это один из тех людей, которые заставляют ненавидеть себя с первого взгляда. Я имею некоторое предчувствие, что мне придется когда-нибудь поколотить его.
– Тоже и для тебя хорошее времечко. Значит, Амелии теперь нечего и беспокоиться.
– Я тебе вот что скажу, Кодль, я скорее заберусь на крышу и брошусь на мостовую, чем женюсь на Амелии Ропер.
– Говорил ты с ней о чем-нибудь после приезда?
– Ни слова.
– Ну так я тебе прямо скажу, что у тебя будут хлопоты. Амелия и Мэри, то есть мистрис Люпекс, большие друзья в настоящее время, часто рассуждали о тебе. Мери, то есть мистрис Люпекс, все передает мне. Будь осторожен, мой друг.
Имс не имел расположения продолжать этот, разговор и потому молча кончил свой грог. Кредль, чувствуя, что в его делах было нечто такое, чем он мог гордиться, вскоре возвратился к рассказу о своем весьма необыкновенном положении.
– Клянусь Юпитером, я не знаю человека, который бы находился в подобных обстоятельствах, – сказал он. – Она, конечно, рассчитывает на мою защиту, но что могу я сделать?
Наконец Кредль встал и объявил, что должен идти к дамам.
– Она такая нервная, что, если ее никто не занимает, она делается больна.
Имс заявил свое намерение отправиться на диван или в театр или прогуляться по улицам. Улыбки буртон-кресцентских красавиц потеряли для него всю свою прелесть.
– Они будут ждать тебя к чаю, ведь это первый вечер после приезда, – сказал Кредль.
– Могут ждать, сколько им угодно, у меня вовсе нет расположения. Я тебе вот что скажу, Кредль, я оставлю эту квартиру и буду жить сам по себе.
В это время он стоял уже в дверях столовой, но ему не позволено было так легко скрыться из дому. В коридоре стояла Джемима с треугольной записочкой в руке.
– От мисс Амелии, – сказала она. – Мисс Амелия в задней комнате.
Бедный Джонни взял записку и прочитал ее перед фонарем парадного входа:
«Неужели вы не намерены поговорить со мной в день вашего приезда? Не может этого быть, чтобы вы ушли из дому не повидавшись со мной. Я в задней комнате».
Прочитав эти слова, Джонни остановился в коридоре. Джемима, не понимая, почему молодой человек должен колебаться, когда предмет его любви приглашает его на свидание в задней комнате, снова прошептала ему довольно внятно:
– Мисс Амелия там одна, все прочие наверху, в гостиной!
Джонни принужден был снять шляпу и тихим шагом вошел в комнату позади столовой.
Каким образом предстояло ему поступить с неприятелем? Придется ли ему встретиться с Амелией взбешенной или Амелией влюбленной? Она показалась ему суровою и вызывающею на бой, когда он осмелился украдкой взглянуть на нее во время обеда, и теперь он ожидал, что она нападет на него с громкими упреками и угрозами. Но случилось совсем иначе. Когда Джонни вошел в комнату, Амелия, склонясь на каминную полку, стояла к нему спиной и в момент его прихода не сказала ни слова. Джонни пришел на середину комнаты и остановился там, ожидая, когда она заговорит.
– Затворите дверь! – сказала Амелия, взглянув на Джонни через плечо. – Полагаю, вы не захотите, чтобы служанка подслушала ваш разговор.
Джонни затворил дверь, Амелия продолжала стоять к нему спиной, облокотясь на каминную полку.
Казалось, что Джонни ничего не имел сказать, потому что оставался совершенно безмолвным.
– Ну, что же, мистер Имс! – сказала Амелия после продолжительной паузы, снова взглянув на него через плечо.
– Джемима доставила мне вашу записку, и потому я пришел сюда, – сказал Джонни.
– Неужели же мы так должны встретиться! – вскричала она, внезапно повернувшись к нему и отбросив на плечи свои длинные, черные волосы.
В этот момент она была хороша. У нее были большие и светлые глаза и прекрасные плечи. Для художника она могла бы послужить превосходной моделью при изображении Юдифи, но я сомневаюсь, чтобы мужчина, посмотрев ей в лицо, мог подумать, что она будет превосходной женой.
– О Джон! При такой любви, как наша, неужели мы должны так встретиться! – сказала она, всплеснув руками.
– Не знаю, что вы хотите сказать, – возразил Имс.
– Если вы женитесь на Л. Д. то так и скажите мне сразу. Будьте же мужчиной, сэр, и признайтесь.
– Нет, – отвечал Имс. – Я не женюсь на той леди, на которую вы намекаете.
– Честное слово?
– Я бы не хотел, чтобы о ней говорили. Я не думаю жениться на ней, и кажется, этого довольно.
– Неужели вы думаете, что я желаю говорить о ней? Какая мне надобность до Л. Д., если она и для вас не имеет никакого значения? Ах, Джонни, почему вы написали мне такое жестокое письмо?
При этом вопросе она склонилась на его плечо или, по крайней мере, сделала попытку склониться. Джонни Имс, за недостатком твердости духа, не оттолкнул ее, но опустил плечо свое так, что опора для нее была весьма непрочна, и Амелия принуждена была снова выпрямиться.
– Почему вы написали мне такое жестокое письмо? – повторила она.
– Потому, Амелия, что я нашел это за лучшее. Скажите сами, что может сделать мужчина с годовым доходом в девяносто фунтов стерлингов?
– Ваша мать дает вам от себя двадцать фунтов.
– Ну, что же можно сделать и со ста десятью фунтами?
– Ваше жалованье с каждым годом будет увеличиваться пятью фунтами, – возразила Амелия, имевшая, как видно, запас довольно верных сведений. – Мы можем жить здесь, вместе с мама, и вы только будете платить ей то, что вы платите теперь. Если вы искренни, Джонни, вам нет надобности думать так много о деньгах. Если бы вы любили меня так, как говорили мне…
Дальнейшие слова были прерваны слезами, и Амелия снова склонилась на плечо Джонни. Что ему оставалось делать? Говоря по правде, его единственным желанием было убежать, а между тем его рука, вовсе не согласовавшаяся с его желаниями, обвилась вокруг талии Амелии. В подобной борьбе, сколько преимуществ имеет женщина на своей стороне!
– О, Джонни! – сказала Амелия, лишь только почувствовала прикосновение его руки. – Ах боже мой! Какие у вас хорошенькие часы! – И она вынула из его кармана эту игрушку. – Купили?
– Нет, мне подарили.
– Джон Имс, неужели вам подарила их Л. Д.?
– Нет, нет, нет, – сказал Джонни, притопнув ногой.
– Ах, извините, пожалуйста, – сказала Амелия, пораженная на минуту его энергией. – Может статься, вам подарила их мама?
– Нет, это подарок одного мужчины. Пожалуйста, теперь не напоминайте мне больше о часах.
– Ни о чем не буду напоминать вам, Джонни, если вы скажете, что любите меня по-прежнему. Быть может, мне не следовало бы просить вас об этом, оно и неприлично, но что же стану я делать, когда вы овладели моим сердцем! Пойдемте наверх и напьемся вместе чаю.
Что оставалось делать Джонни? Он согласился идти наверх и пить вместе чай; ведя Амелию под руку к двери, он наклонился к ней и поцеловал ее. О, Джонни Имс! Но что станете делать, когда в подобной борьбе на стороне женщины так много преимуществ!
Глава XXX «РАЗВЕ ЭТО ОТ НЕГО?»
Я уже сказал, что Кросби написал и опустил в почтовый ящик роковое письмо в Оллингтон, теперь мы последуем за этим письмом к месту его назначения. На другое утро после возвращения сквайра в свой собственный дом, мистрис Кромп, почтмейстерша в Оллингтоне, получила пакет, адресованный на ее имя. Мистрис Кромп вскрыла этот пакет и нашла в нем письмо на имя мистрис Дель, с приложенной запиской, в которой просили немедленно передать письмо в собственные руки мистрис Дель.
– Это от жениха мисс Лили, – сказала мистрис Кромп, взглянув на почерк. – Что-нибудь особенное, иначе к чему такие предосторожности.
Не теряя ни минуты времени, мистрис Кромп надела шляпку и поплелась в Малый дом.
– Я должна лично видеть хозяйку дома, – сказала мистрис Кромп. – Мистрис Дель была вызвана в прихожую и там получила пакет. Лили сидела в столовой и видела, как пришла почтмейстерша, видела также, что почтмейстерша принесла какое-то письмо. С минуту времени она полагала, что письмо это адресовано ей и что старушка сама принесла его, собственно, из радушия. Но, услышав, что в переднюю вызвали мать, а не ее, Лили тотчас же удалилась в свою комнату и затворила дверь. Сердце говорило ей, что тут скрывается что-нибудь недоброе. Лили старалась разгадать, в чем именно заключается это недоброе, и не могла. Она надеялась, что обыкновенный почтальон принесет письмо, которое давно ожидает. Белл еще не было внизу, и Лили стояла у чайного стола одна, чувствуя, что тут было что-то для нее такое, чего она должна страшиться. Ее мать не вошла сейчас же в столовую, напротив, промедлив две-три минуты, снова удалилась наверх. Лили, оставаясь в столовой, то подходила к столу, то садилась на одно из двух кресел, и таким образом прошло минут десять, когда Белл вошла в комнату.
– Разве мама еще не сошла сверху? – спросила Белл.
– Белл, – сказала Лили вместо ответа, – что-то случилось нехорошее. Мама получила письмо.
– Случилось нехорошее! Что же могло случиться? Разве кто-нибудь захворал? От кого письмо?
С этим вопросом Белл хотела выйти из столовой и отыскать свою мать.
– Погоди, Белл, – сказала Лили. – Не ходи покуда к ней.
Я думаю, это письмо… от Адольфа.
– О, Лили! Зачем ты так думаешь?
– Я и сама не знаю, душа моя. Подожди немного. Что ты так странно смотришь на меня?
Лили старалась казаться спокойною, и старание ее было успешно.
– Ты меня так перепугала, – сказала Белл.
– Я сама перепугалась. Вчера он прислал мне одну строчку, а сегодня и того не прислал. Неужели с ним случилось какое-нибудь несчастье? Мистрис Кромп сама принесла письмо и отдала его мама, это так странно, не правда ли?
– И ты уверена, что письмо от него?
– Нет, я не говорила с ней. Теперь я пойду к ней. Ты, пожалуйста, не приходи. О, Белл! Не смотри такой печальной.
Лили поцеловала сестру и потом самыми тихими шагами подошла к спальне своей матери.
– Мама, могу ли я войти? – спросила она.
– О, дитя мое!
– Я знаю, что это от него, мама. Скажите сразу, в чем дело? Мистрис Дель прочитала письмо. С первого взгляда она угадала все его содержание и уже заранее знала о свойстве и обширности ожидавшей их горести. Это была горесть, не допускавшая даже надежды на утешение. Тот, кто написал это письмо, больше уже к ним не воротится. Удар был нанесен, предстояло перенести его. Внутри письма к ней самой находилась небольшая записочка на имя Лили. «Передайте ее по принадлежности, – говорил Кросби в письме своем, – если, впрочем, признаете это необходимым. Я нарочно не запечатал, чтобы вы могли прочитать сами». Мистрис Дель, однако же, не прочитала приложенной записки и теперь спрятала ее под носовой платок.
Не буду приводить здесь в подробности письма Кросби к мистрис Дель. Оно занимало четыре страницы почтовой бумаги и принадлежало к числу таких писем, что всякий человек, писавший нечто подобное, должен считать себя величайшим негодяем. «Я знаю, вы будете проклинать меня, – говорил Кросби, – и я вполне это заслуживаю. Знаю, что меня следует наказать за это, и я должен перенести наказание. Самым жестоким наказанием для меня будет служить уже то, что мне никогда больше не держать головы своей прямо». Дальше он говорил: «Мое единственное оправдание состоит в том, что я никогда бы не мог доставить ей счастья. Она воспитана как ангел, с чистыми мыслями, святыми надеждами, с верою во все доброе, возвышенное, благородное. Во всю мою жизнь я был окружен предметами низкими, чуждыми всякого благородства. Каким же образом мог жить я с ней или она со мной. Теперь я в этом убежден совершенно, моя вина заключается в том, что я не сознавал этого в то время, когда находился при ней. Я хочу высказаться вполне, – продолжал он к концу письма, – и потому должен сообщить вам, что я дал уже слово жениться на другой. О, я предвижу, до какой степени отравлены будут ваши чувства по прочтении этого известия, но не будут так отравлены, как мои теперь, когда я пишу об этом. Да, я дал слово жениться на другой, которая будет соответствовать мне, а я – ей. Конечно, вы не захотите, чтобы я отзывался дурно о той, которая должна быть для меня и самым близким, и самым дорогим созданием, с которым я могу соединить свою судьбу без внутреннего убеждения, что подобным соединением разрушу все свое счастье. Лилиана всегда будет первою в моих молитвах. Надеюсь, что, полюбив честного человека, она скоро забудет, что знала когда-то такого бесчестного, как Адольф Кросби».
Каково должно быть выражение его лица, когда он писал о себе эти слова при тусклом свете своей небольшой, одинокой лампы? Если бы он писал это письмо днем, в своей канцелярии, при людях, беспрестанно входящих и выходящих из его кабинета, он едва ли бы выразился о себе так откровенно. Он думал бы тогда, что написанные им о себе слова могут быть прочтены другими глазами, кроме тех, для которых они предназначались. Но в то время, когда он сидел один, в глубине ночи, и раскаивался в своем преступлении почти чистосердечно, он был уверен, что написанного им никто другой не прочитает. В этих словах, говорил он, должна заключаться истина. Теперь они были прочитаны той, кому были адресованы, перед матерью стояла дочь, ей предстояло выслушать свой приговор.
– Скажите мне все сразу, – повторила Лили.
Но какими словами могла мать передать ей содержание письма?
– Лили, – сказала она, встав с места и оставив оба письма на кушетке: из них адресованное на имя Лили было спрятано под носовым платком, а другое, прочитанное, лежало развернутым и на виду. Мистрис Дель взяла обе руки дочери в свои руки, посмотрела ей в лицо и сказала: – Лили, дитя мое!
Больше она ничего не могла сказать, рыдания заглушили ее слова.
– Разве это от него, мама? Могу я прочитать? Надеюсь, он…
– Да, это от мистера Кросби.
– Неужели он болен, мама? Не мучьте меня, скажите мне сразу. Если он болен, я поеду к нему.
– Нет, нет, моя милочка, он не болен. Но подожди… не читай еще. О, Лили! В этом письме заключаются дурные вести, весьма дурные вести.
– Мама, если он не в опасности, то я могу прочитать. Дурные вести относятся до него или только до меня?
В этот момент служанка постучала в дверь и, не дождавшись ответа, вполовину отворила ее:
– Извините, внизу мистер Бернард желает переговорить с вами.
– Мистер Бернард! Попроси мисс Белл принять его.
– Мисс Белл уже с ним, но он говорит, что ему непременно нужно видеться с вами.
Мистрис Дель чувствовала, что ей нельзя оставить Белл одну. Она не могла взять с собой письма и в то же время не могла оставить дочь свою при раскрытом письме.
– Я не могу с ним видеться, – сказала мистрис Дель. – Спроси, что ему угодно. Скажи, что в настоящую минуту я не могу спуститься вниз.
Служанка удалилась, и Бернард передал Белл свое поручение.
– Скажите, Бернард, что это значит? – спросила Белл. – Не случилось ли чего-нибудь дурного с мистером Кросби?
Бернард в немногих словах рассказал все и, понимая, почему его тетка не вышла к нему, отправился назад в Большой дом. Белл, пораженная таким известием, бессознательно села за стол и, положив на него локти, поддерживала руками свою голову.
«Это убьет ее, – говорила она. – Лили, моя бедная, милая, дорогая Лили! Это решительно убьет ее».
Мать между тем оставалась с дочерью, горестное известие еще не было сообщено.
– Мама, – сказала Лили, – что бы там ни было, но я должна знать это. Я начинаю угадывать истину. Вам больно передать ее. Позвольте. Могу ли я сама прочитать его?
Спокойствие Лили изумляло мистрис Дель. Нельзя было не думать, что Лили угадывала истину, иначе она не обнаруживала бы такой твердости духа, слезы в глазах ее как будто высохли.
– Ты можешь прочитать, но прежде я должна рассказать тебе его содержание. О дитя мое, родное мое дитя!
В это время Лили склонилась к постели, и ее мать остановилась перед ней и начала ее ласкать.
– В таком случае расскажите мне, – сказала она. – Впрочем, я знаю, в чем дело. На свободе, вдали от меня, он передумал о браке и находит, что это не должно быть так, как мы полагали. Я предлагала ему до отъезда взять назад свое слово, и теперь он убедился, что лучше принять предложение. Так ли это, мама?
Мистрис Дель ничего не сказала в ответ, но Лили понимала по выражению ее лица, что это совершенно так.
– Он мог бы написать мне самой, – сказала Лили с особенной гордостью. – Мама, пойдемте завтракать. Значит, мне он ничего не прислал?
– К тебе есть записка. Он просит, чтоб я ее прочитала, но я ее не распечатала. Вот она.
– Дайте ее мне, – сказала Лили почти сердито. – Позвольте мне прочитать его последние слова ко мне.
И Лили взяла записку из рук матери.
«Лили, – говорилось в записке, – ваша мать расскажет вам все. Прежде чем вы прочитаете эти немногие слова, вы узнаете, что доверялись человеку, не заслуживающему ни малейшего доверия. Я знаю, что вы будете презирать меня. Не смею даже просить у вас прощения, понадеюсь, что вы позволите мне молиться о вашем счастье. А. К.».
Лили прочитала эти слова, не изменяя своего положения. Потом она встала, подошла к стулу и села на него спиной к матери. Мистрис Дель тихонько пошла вслед за ней и стала позади стула, не смея говорить с несчастной дочерью. С запиской Кросби в руке Лили просидела минут пять, устремив взоры в открытое окно.
– Я не буду презирать его, я прощаю ему, – сказала она наконец, стараясь владеть своим голосом и почти не обнаруживая признаков, что не может успеть в своей попытке. – Мне больше нельзя писать к нему, но вы, мама, напишите и скажите ему, что я прощаю его. Теперь пойдемте завтракать.
Сказав это, Лили встала со стула.
Мистрис Дель боялась начать разговор: до такой степени было невозмутимо спокойствие Лили, до такой степени было строго и неподвижно выражение ее лица. Она не знала, каким образом выразить свое сожаление или сочувствие, в выражении сожаления, по-видимому, не представлялось ни малейшей надобности, не требовалось даже и сочувствия. Кроме того, она не могла понять всего, что говорила Лили. Что хотела она выразить фразой: «Я предлагала ему взять назад свое слово»? Неужели между ними до отъезда его поселилась ссора? В письме своем Кросби не намекал на это. А все-таки мистрис Дель не смела пуститься в расспросы.
– Ты на меня наводишь страх, Лили, – сказала мистрис Дель. – Твое спокойствие ужасает меня.
– Милая мама! – И бедная девушка улыбнулась, обняв свою мать. – Вам нет надобности бояться за мое спокойствие. Мне хорошо известна вся истина. Я несчастлива, очень несчастлива. Самые светлые, самые отрадные надежды моей жизни разрушились, мне уже никогда не видеть того, кого я люблю более целого мира!
Сердце бедной Лили переполнилось, и она зарыдала в объятиях матери.
Ни одного слова, выражавшего гнев, не было произнесено против виновника всего этого горя. Мистрис Дель чувствовала, что у нее недостает достаточной твердости, чтобы выразить свои гнев, а тем более не была способна на это бедная Лили. Она, впрочем, не прочитав его письма, не знала, до какой степени простиралась нанесенная обида.
– Дайте же мне его письмо, мама, – сказала она. – Ведь рано или поздно, но вы должны это сделать.
– Не теперь, Лили, подожди немного. Я все сказала тебе, все, что нужно тебе знать в настоящее время.
– Теперь, мама, непременно теперь. – И нежный серебристый голос Лили снова сделался суровым. – Я прочитаю его, и затем всему конец.
Мистрис Дель передала письмо, и Лили молча его прочитала. Мать хотя и стояла поодаль, но пристально следила за малейшим изменением в выражении лица своей дочери. Лили сидела на постели, поддерживая рукой свою голову, так как письмо лежало перед ней на подушке. Из ее глаз текли слезы, и от времени до времени она прекращала чтение, чтобы отереть глаза. Рыдания Лили были весьма внятны, но она довольно спокойно продолжала чтение, пока не дошла до той строки, где Кросби говорил, что дал слово жениться на другой. Мистрис Дель заметила при этом, что Лили вдруг остановилась и что по всем ее членам пробежала судорожная дрожь.
– Он поторопился, – сказала она почти шепотом, и потом кончила письмо. – Скажите ему, мама, что я не буду его презирать. Вы ему скажете это от меня, не правда ли?
С этим вопросом Лили встала с постели.
Мистрис Дель не хотела дать ей обещания. При настоящем настроении духа чувства ее против Кросби были такого свойства, что она сама не понимала их, не могла дать в них отчета. Она чувствовала, что в настоящую минуту могла бы броситься на него, как тигрица. Никогда еще она не питала к этому человеку такой злобы и ненависти, как теперь. В глазах ее он был убийцей, более чем убийцей. Он, как волк, прокрался в ее маленькое стадо и, вырвав из него овечку, сделал ее на всю жизнь калекой. Каким же образом могла мать простить подобное преступление или согласиться быть посредницей, через которую должно изречься слово прощения!
– Мама, вы должны это сделать, не напишете вы, я сама напишу. Помните, что я люблю его. Вы знаете, что значит полюбить мужчину. Он сделал меня несчастною, я еще и не знаю, до какой степени несчастною, но я любила и люблю его. В душе я убеждена, что он все еще любит меня, а при такой уверенности ненависть и злопамятность существовать не могут.
– Буду молиться, да поможет мне Бог простить этого человека, – сказала мистрис Дель.
– Во всяком случае, вы должны передать ему мои слова, непременно должны. Вы так и напишите, мама. Лили просит передать вам, что она простила вас и презирать вас не будет. Обещайте мне сделать это!
– Теперь, Лили, я ничего не могу обещать. Я подумаю об этом и постараюсь исполнить свой долг.
Лили снова села, держась руками за платье матери.
– Мама, – сказала она, пристально глядя в лицо матери, – теперь вы должны любить меня, а я должна любить вас. Теперь мы будем неразлучны. Я должна быть вашим другом и советником, быть для вас всем на свете, более чем когда-нибудь. Теперь я должна влюбиться в вас.
Лили снова улыбнулась, слезы на ее щеках почти высохли.
Наконец обе они спустились в столовую, из которой Белл не выходила. Мистрис Дель вошла первою, Лили следовала за ней и при самом входе как будто пряталась за матерью, но потом смело выступила вперед и, обняв руками Белл, крепко прижала ее к своей груди.
– Белл, – сказала она, – его уж нет.
– Лили, бедная Лили! – сказала Белл, рыдая.
– Его уж нет! Поговорим об этом после и узнаем, как нужно говорить о подобных вещах, не вдаваясь в глубокое горе. Сегодня мы не скажем об этом ни слова. Белл, мне страшно хочется пить, пожалуйста, дай мне чаю. – И Лили села за стол.
Чай был подан, и Лили его выпила. Не могу сказать, чтобы кто-нибудь из них разделил эту утреннюю трапезу с особенным удовольствием. Мать и две дочери сидели вместе, как сидели бы даже в то время, когда бы упала между ними страшная громовая стрела, о Кросби и его поступке не было и помину. Сейчас же после завтрака все вышли в другую комнату, где Лили, по обыкновению, села за акварельный рисунок. Мистрис Дель внимательно следила за ней, ей хотелось дать совет своей дочери поберечь себя, и в то же время она как-то отстранялась от разговора с нею. С четверть часа Лили, с кистью в руке, просидела за рисовальной доской и потом встала и убрала ее.
– Притворство ни к чему не ведет, – сказала она. – Я только порчу хорошее, завтра мне будет лучше. Пойду лучше прилягу, мама.
И Лили удалилась.
Вскоре после этого мистрис Дель, получив через Белл приглашение от сквайра, надела шляпу и отправилась в Большой дом.
– Я уже знаю все, что он хочет сообщить мне, – сказала она, – но все же сходить надобно. Нам необходимо вдвоем переговорить об этом.
Через лужайку, садовый мостик и по садовым дорожкам мистрис Дель пришла в приемную Большого дома.
– Мой брат в библиотеке? – спросила она, обращаясь к одной из служанок, и, постучав в дверь, вошла без доклада.
Сквайр встал с своего кресла и встретил невестку.
– Мэри, – сказал он, – полагаю вам все уже известно?
– Да, можете и вы прочитать вот это, – сказала мистрис Дель, передавая сквайру письмо Кросби. – Можно ли было и каким образом знать, что человек этот поступит до такой степени низко?
– И Лили все уже знает? – спросил сквайр. – В состоянии ли она перенести это?
– Переносит удивительно! Ее твердость изумляет меня. Она страшит меня: я знаю, что за этим последует реакция. Лили ни на минуту не падала духом. Что касается до меня, то мне кажется, что ее твердость сообщает мне силы переносить эту горесть.
После этого мистрис Дель рассказала сквайру все утреннее происшествие.
– Бедная девушка! – сказал сквайр. – Бедная девушка! Что бы нам сделать для нее? Не лучше ли будет на время увезти ее отсюда? Она кроткая, милая, добрая девушка и, право, заслуживает лучшей участи. Печаль и разочарование посещают нас всех, но они бывают вдвойне тяжелее, когда приходят так рано.
Мистрис Дель крайне изумляло обнаруживаемое сквайром сочувствие.
– В чем же должно состоять его наказание? – спросила она.
– В презрении, которое будут питать к нему мужчины и женщины, по крайней мере, те мужчины, в глазах которых уважение или презрение имеют значение. Другого наказания я не знаю. Надеюсь, вы не захотите, чтобы имя Лили упоминалось в суде?
– Конечно нет.
– А я не захочу, чтобы Бернард вызвал его на дуэль. Это ни к чему не поведет, в настоящее время можно спокойно не принять вызова.
– Вы не можете думать, что я этого желаю.
– Поэтому какое же может быть другое наказание? Решительно не знаю. Есть преступления, которые человек может совершать безнаказанно. Решительно не знаю. Я поехал в Лондон за ним, и он побоялся встретиться со мной. Ну что вы станете делать с какой-нибудь гадиной? Ведь только отстранитесь от нее, ни больше ни меньше.
Мистрис Дель в душе своей полагала, что самое лучшее наказание для Кросби состояло бы в том, если бы можно было переломать ему все кости. Не знаю, можно ли наклонность к подобного рода наказанию считать свойственною всем женщинам, но могу утвердительно сказать, что в настоящую минуту мистрис Дель имела эту наклонность. У нее не было желания, чтобы его вызвали на дуэль. К ее понятию о дуэли много примешивалось дурного и ничего справедливого. Она предчувствовала, что если бы Бернард оттузил как следует этого труса за его низость, за его трусость, то стала бы любить своего племянника больше, чем любила прежде. Бернард тоже считал весьма вероятным, что если от него ожидают, чтобы он прошелся бичом по спине человека, оскорбившего его кузину, то он не встретил бы непреодолимых препятствий к выполнению этого труда. Но труд подобного рода был для него неприятен во многих отношениях. Во-первых, он презирал идею произвести скандал в своем клубе, во-вторых, ему не хотелось предавать гласности имя кузины, и, наконец, он желал уклониться от всего, что носило бы на себе характер неблагопристойности. Низкий поступок сделан, и Бернард вполне был готов отвечать Кросби тем презрением, которое Кросби заслуживал, что же касается до его личности, то он приходил в отчаяние от одной мысли, что, может статься, общество, к которому он принадлежал, ожидало от него наказания или мести человеку, который так недавно был его другом. С другой стороны, Бернард не знал, где поймать Кросби и каким образом поступить с ним в случае его поимки. Бернард как нельзя более сожалел о своей кузине и в душе своей сознавал, что Кросби не должен от него отвертеться безнаказанно. Но каким же образом поступить ему с подобным человеком?
– Не хочет ли она куда-нибудь поехать? – снова спросил сквайр, всеми силами стараясь доставить утешение выражением своего великодушия. В этот момент он готов был назначить племяннице сто фунтов годового дохода, если бы только такое назначение могло доставить ей какое либо утешение.
– Для нее будет лучше остаться дома, – сказала мистрис Дель. – Бедняжка! Правда, на некоторое время она согласилась бы удалиться отсюда.
– Я тоже думаю, – заметил сквайр, и затем наступила пауза. – Не понимаю я этого, Мэри, клянусь честью, не понимаю. Для меня это такая удивительная вещь, как будто я поймал мошенника, вытащившего кошелек из моего кармана. В мое время, когда я был молод, ни один мужчина, поставленный на степень джентльмена, не решился бы на подобный поступок, никто бы не осмелился сделать подобную низость. А теперь всякий может безнаказанно поступать в этом роде. У него есть друг в Лондоне, который пришел ко мне и говорил об этом поступке как о деле весьма обыкновенном… Можешь войти, Бернард, бедной девушке уже все известно.
Бернард утешал свою тетку, как умел, обнаруживал глубокое сочувствие ее горю и вполовину выразил извинение в том, что ввел такого волка в ее стадо.
– В клубе нашем все были о нем весьма хорошего мнения, – говорил Бернард.
– Не знаю я ваших нынешних клубов, – сказал его дядя, – и не желаю знать, если общество подобного человека может быть терпимо после того, что он сделал.
– Не думаю, чтобы об этом узнали более пяти или шести человек, – заметил Бернард.
– Только-то! – воскликнул сквайр.
Так как имя Лили было тесно связано с именем Кросби, то он не мог выразить желания, чтобы гласность о низости последнего распространилась как можно шире. И все же он не мог не держаться идеи, что Кросби должен быть наказан презрением целого света. Ему казалось, что с этой поры и навсегда всякий человек, вступивший в разговор с Кросби, должен собственно за этот разговор считать себя опозоренным.
– Поцелуйте ее, – сказал он, когда мистрис Дель стала собираться домой, – передайте ей мою лучшую любовь. Если старый дядя может что-нибудь сделать для нее, то пусть она только скажет ему. Она встретила этого негодяя в моем доме, и я считаю себя в большом долгу у нее. Пусть она придет повидаться со мной. Для нее это будет гораздо лучше, чем сидеть дома и скучать. Да вот что, Мэри… – И сквайр прошептал ей на ухо: – Подумайте о том, что я говорил насчет Белл.
В течение всего наступившего дня имя Кросби ни разу не было упомянуто в Малом доме. Ни одна из сестер не выходила в сад, Белл большую часть времени сидела на софе, обняв талию Лили. У каждой из них было по книге, говорили они мало, и еще меньше того прочитали. Кто в состоянии описать мысли, толпившиеся в голове Лили при воспоминании часов, проведенных вместе с Кросби, его пламенных уверений в любви, его ласк, его беспредельной и непритворной радости? Все это было для нее в то время свято, а теперь всякая вещь, которая была тогда священною, покрывалась чрез поступок Кросби мрачною тенью. Несмотря на то, Лили, вспоминая о прошедшем, снова и снова говорила себе, что она простит его, мало того – что она простила его.
– И пусть он узнает об этом, – проговорила она вслух.
– Лили, милая Лили, – сказала Белл, – пожалуйста, перестань об этом думать, отведи свои мысли на что-нибудь другое.
– Что же стану я делать, если они меня не слушаются? – отвечала Лили.
Вот все, что было сказано в течение дня об этом грустном предмете.
Теперь все узнают об этом! Действительно, я не думаю, чтобы это не были самые горькие капли в чаше, которую девушке в подобных обстоятельствах предстояло осушить. Еще в начале дня Лили заметила, что горничной уже было известно, что ее барышне изменили. Горничная своими манерами старалась выразить сочувствие, но они выражали сожаление, и Лили готова была рассердиться, но вспомнила, что это так и быть должно, и потому улыбалась своей горничной и ласково с ней говорила. Что за беда? Через день, через два весь свет узнает об этом.
На другой день Лили, по совету матери, отправилась повидаться с дядей.
– Дитя мое, – сказал он, – ты не знаешь, как мне жаль тебя. Кровью обливается сердце мое, глядя на тебя.
– Дядя, – сказала Лили, – не вспоминайте об этом. Я только и прошу, не говорите об этом, разумеется, не говорите только мне.
– Нет, нет, не скажу ни слова. Подумать только, что в моем доме гостил такой величайший бездельник…
– Дядя! Дядя! Я не хочу, чтобы вы говорили подобные вещи! Я не хочу слышать ни от одного человеческого создания что-нибудь дурное о нем… ни слова! Помните это!
И глаза ее засверкали.
Дядя не возражал, взяв руку Лили, он крепко пожал ее, и затем Лили удалилась.
– Дели отличались постоянством, – говорил сквайр, прохаживаясь взад и вперед по террасе перед своим домом. – Всегда были постоянны!
Глава XXXI РАНЕНАЯ ЛАНЬ
Прошло почти два месяца, в Оллингтоне Святки были уже на дворе. Нельзя допустить, что в Большом и Малом оллингтонских домах предполагалось проводить праздники с шумным весельем. Рана, полученная Лилианой Дель, принадлежала к числу таких, от которых не скоро поправляются, все семейство ощущало на себе тяжесть, не допускавшую никакого веселья. Что касается до самой Лили, то надо сказать, что она со всею твердостью и терпением женщины переносила свое несчастье. В первую неделю она стояла, как дерево, которое сопротивляется ветру и которое скоро должно было раздробиться, потому что не хотело гнуться. В течение этой недели спокойствие Лили наводило страх на ее мать и сестру. Она выполняла все домашние обязанности, прогуливалась по деревне и в первое воскресенье показалась в церкви на своем месте. По вечерам Лили садилась за книгу, удерживая слезы, и выражала легкий гнев на мать и сестру, когда замечала, что они смотрели на нее с особенным беспокойством.
– Мама, пусть это останется так, как будто ничего не бывало, – сказала она.
– Ах, милая! Если бы это было возможно!
– Боже упаси, чтобы это было возможно в душе, – отвечала Лили, – но наружно это совершенно возможно. Я чувствую, что вы оказываете мне гораздо более нежности, чем бывало прежде, и это меня огорчает. Мне было бы несравненно лучше, если бы вы бранили меня за леность.
Но ее мать не могла обращаться с Лили так, как, может статься, обращалась бы с ней, если бы на нее, бедняжку, не обрушилось такое тяжелое горе. Она не могла оставить тех тревожных нежных взглядов, которые давали знать Лили, что на нее смотрят, как на смертельно раненную лань.
В конце первой недели Лили склонилась под бременем своей горести.
– Мне не хочется вставать, Белл, – сказала Лили однажды поутру. – Я нездорова. Я лучше полежу здесь одна. Пожалуйста, не делай из этого особенного шуму. Я малодушна до глупости и от этого захворала.
Мистрис Дель и Белл перепугались, у обеих побледнели лица, когда они вспомнили рассказы о несчастных девушках, умиравших от несчастий в любви, потухавших, как тухнут небольшие светильники, когда на них довольно сильно пахнёт ветерок. Но надобно сказать, Лили не была таким легким светильником, как не была и деревом, которое должно бы сломиться, потому что не хотело гнуться. Она согнулась, наконец, под напором сильного ветра и оставалась в этом положении в течение недели, потом встала, сохранив свою прямую грациозную форму, блестящий огонек в ее глазах не потух.
После этого она свободнее могла говорить с матерью о своей потере откровеннее и с верной оценкой постигшего ее несчастья, но в то же время с тою верою в свою твердость, которая делала мысль о разбитом сердце смешною.
– Я знаю, что могу перенести это, – говорила Лили, – и могу скоро достигнуть этого. Разумеется, я должна всегда любить его и испытывать то чувство, которое вы сами испытали, лишившись моего отца.
Мистрис Дель ничего не могла сказать в ответ на это. Она не могла высказать своего мнения относительно Кросби и объяснить Лили, что он недостоин ее любви. Любовь не знает оценок и не дарится каким-либо преимуществам, она не охладевает от дурных поступков, удары, как бы они ни были тяжелы, не убивают ее. Лили заявила, что она все еще любит человека, который так низко поступил с ней, и потому мистрис Дель должна была молчать. Та и другая вполне понимали друг друга, но по этому предмету они не могли свободно обмениваться своими мыслями.
– Обещайте мне, мама, что я никогда не наскучу вам, – сказала Лили.
– Мало найдется таких матерей, моя милая, которым бы наскучивали дети, как бы ни были они тяжелы для матерей.
– Этому я не совсем-то верю, особливо когда дети сделаются старыми девами. Я хочу также иметь, мама, свободу, свою собственную волю, если это будет возможно. Замужество Белл я буду считать товариществом и уж больше не буду исполнять того, что мне приказывают.
– Предостережение ведет к вооружению.
– Совершенно так, я не хочу напасть на вас врасплох. Еще год, другой, пока Белл не выйдет замуж, я намерена повиноваться, но согласитесь, что для кого бы то ни было нелепо повиноваться всю жизнь.
Все это мистрис Дель понимала вполне. В этом заключалось заявление со стороны Лили, что она любила однажды и больше уже никогда не в состоянии будет любить, что она сыграла свою игру, надеясь, как надеются и другие девушки выиграть мужа, она его не выиграла, и потому игра не должна повторяться. Лили высказала своей матери эти слова по-своему убеждению, но мистрис Дель ни под каким видом не хотела разделять этого убеждения. Она надеялась, что время залечит рану Лили и что дочь ее, по всей вероятности, будет еще наслаждаться блаженством счастливого брака. В душе своей она никак не хотела согласиться с тем планом, по которому судьба Лили должна считаться решенною. В действительности ей никогда не нравился Кросби в качестве будущего зятя, и она отдавала преимущество Джону Имсу, несмотря на его молодость, на его ребячество и малодушие. Могло еще случиться, что любовь Имса осчастливит Лили.
Между тем Лили, как я уже сказал, становилась более и более твердою в своих преднамерениях и начала новую жизнь без той грустной самоуверенности, что если она сделалась несчастнее других, то может позволить себе оставаться более праздною. Утром и вечером она молилась за него и ежедневно, почти ежечасно уверяла себя, что она все еще обязана, что все еще на ней лежит долг любить его. Но такой долг любви, без всякой возможности выразить свою любовь, долг весьма тяжелый.
– Мама, вы скажите мне, пожалуйста, когда будет день его свадьбы, – сказала Лили однажды утром. – Умоляю вас, не скрывайте от меня.
– День его свадьбы будет в феврале, – сказала мистрис Дель.
– Вы скажите мне именно тот день, когда она будет. Этот день не должен быть для меня днем обыкновенным. Но ради бога, мама, зачем вы принимаете такой печальный вид, поверьте, я не намерена разыгрывать из себя сумасшедшую. Я не убегу от вас и не явлюсь перед брачным алтарем, как привидение.
После этих слов, имевших шуточное значение, Лили заплакала и в ту же минуту спрятала лицо свое на груди матери. Прошла еще минута, и она успокоилась.
– Мама, поверьте мне, что я не несчастлива, – сказала Лили.
По истечении второй недели, мистрис Дель написала Кросби письмо:
«Полагаю (писала она), что долг вежливости требует, чтобы я уведомила вас о получении вашего письма. Не знаю, нужно ли говорить вам еще что-нибудь. Как женщине, мне не следует высказывать своего мнения относительно вашего поступка, но я уверена, что вам выскажет его ваша собственная совесть. Если нет, то надо думать, что в вашей груди, вместо сердца, лежит камень. Я обещала дочери моей написать вам от нее несколько слов. Лили просит передать вам, что она прощает и не презирает вас. Да простит вас Бог, и да возвратите вы себе Его любовь.
Мэри Дель.
Прошу вас не отвечать на это письмо ни мне, ни кому-либо из моих родственников».
Сквайр не писал ответа на полученное письмо и не принимал никаких мер к наказанию Кросби. Он говорил самому себе, что никакие меры к этому случаю неприменимы, и объяснял своему племяннику, что с подобным человеком следует поступить, как поступают с крысами.
– Мне не удастся встретиться с ним, – говорил он неоднократно. – А если встречусь, то нисколько не посовещусь ударить тростью по его голове, – разумеется, я не позволю себе такой глупости, чтобы преследовать его для этой цели.
А между тем старику было страшно досадно, что негодяй, так сильно оскорбивший его самого и его родных, должен остаться ненаказанным. Он не прощал Кросби. Ему не приходила в голову даже самая идея о прощении. Он возненавидел бы самого себя, если бы подумал только, что его можно убедить в необходимости простить подобное оскорбление.
– В этом поступке столько заключается подлости, столько низости, что, право, я не понимаю, – снова и снова повторял он своему племяннику.
Прогуливаясь по террасе, он часто углублялся в самого себя, стараясь угадать примет ли Бернард какие-нибудь меры к отмщению оскорбления его кузины. «Он прав, – говорил сквайр… Бернард совершенно прав. Но в молодости своей я бы этого не вытерпел. В былое время за такой поступок этого негодяя вызвали бы на дуэль. Человек был бы удовлетворен, зная, что он исполнил свой долг. Нет, нет, свет, как я вижу, совсем изменился». Действительно, свет изменился, но сквайр ни под каким видом не хотел сознаться самому себе, что в этой перемене были и некоторые улучшения.
Бернард тоже был сильно встревожен. Он нисколько не был прочь от дуэли, если бы дуэли в настоящее время были возможны. Он считал дуэль делом невозможным, а если и возможным, то не без скандала. А если ему не представлялось возможности подраться на дуэли, то каким же другим путем можно было наказать его? Не очевиден ли был факт, что для подобного преступления свет не постановил никакого наказания? Не во власти ли было человека, подобного Кросби, доставлять себе в течение двух-трех недель удовольствие насчет счастья девушки и потом бросить ее без всяких дурных для себя последствий? «После встречи с Кросби меня выключат из клуба, – говорил Бернард про себя, – а его не выключат». Кроме того, какое-то неопределенное чувство говорило в нем, что поступок этот доставлял Кросби некоторое торжество. Доставив себе удовольствие ухаживанием за такой девушкой, как Лили Дель, без всякой расплаты, обыкновенно сопровождающей подобное удовольствие, он многим будет представляться как человек, заслуживающий особенного внимания. Он провинился против всех Делей, а между тем все скорби, истекающие из его вины, должны упасть исключительно на Делей. Таковы были размышления Бернарда, когда он рассматривал все это дело, – размышления довольно грустные: он хотел отмстить, а между тем не видел к тому никаких способов. С своей стороны, мне кажется, Бернард сильно ошибался относительно точки зрения, с которой, по его мнению, друзья Кросби стали бы рассматривать его поступок. Правда, мужчины всегда будут легко трактовать о подобных предметах, допуская, что в любви, как на войне, все дозволительно, – будут даже с некоторою завистью говорить о счастье какого-нибудь отъявленного обманщика. Но я никогда не встречал человека, который бы думал в этом роде относительно самого себя. Собственные суждения Кросби насчет последствий, ожидавших его за его поступок, были гораздо правильнее составленных Бернардом Делем. Он считал такой поступок позволительным, пока предполагал совершить его, пока еще в его власти было оставить его не совершенным, но с минуты совершения этого поступка он представлялся ему в своем надлежащем свете. Он знал, что поступил как низкий негодяй, и знал, что другие люди будут считать его негодяем. Так считал уже его и друг его Фаулер Прат, который смотрел на женщин как на игрушки. Вместо того чтобы хвалиться своим поступком, он боялся намекнуть на какое-нибудь обстоятельство, имевшее связь с его женитьбой, боялся говорить о браке, как иной боится говорить о вещах, которые им украдены. Он уже замечал, что в клубе на него посматривают очень косо, и хотя его нельзя назвать трусом относительно его кожи и костей, но все же он испытывал неопределенный страх, что ему придется встретиться с Бернардом, нарочно для этой встречи вооруженным палкой. Сквайр и племянник его сильно ошибались, полагая, что Кросби оставался ненаказанным.
По мере приближения зимы Кросби убеждался более и более, что благородное семейство де Курси следит за ним весьма внимательно. Некоторых членов этой благородной фамилии он уже научился ненавидеть от чистого сердца. Высокопочтенный Джон приехал в Лондон в ноябре и самым наглым образом начал преследовать Кросби, требовал заказных обедов в клубе Себрэйта, целый вечер курил в квартире будущего своего зятя и даже занимал деньги в счет будущих благ, наконец, Кросби решил, что было бы благоразумно поссориться с высокопочтенным Джоном, и вследствие этого поссорился с ним, выгнав его из своей квартиры и сказав ему наотрез, что не хочет с ним иметь никакого дела.
– Вы точно так же поступите с ним, как я, – говорил Мортимер Гезби. – Я совестился семейства, но леди Амелия сказала мне, что это должно быть так, а не иначе.
И Кросби принял этот добрый совет Мортимера Гезби.
Между тем гостеприимство Гезби становилось для Кросби невыносимее нахальства высокопочтенного Джона. Казалось, что будущая невестка решилась не оставлять его одного. Мортимер получил приказание привозить Кросби каждое воскресенье, и Кросби находил, что ему следует отправляться в предместье Сент-Джон-Вуда наперекор его собственным желаниям. Он не мог вполне разобрать обстоятельств своего положения, почувствовал, что в этом положении он похож на петуха с обрезанными шпорами или на собаку с вырванными зубами. Он увидел себя послушным и кротким. Не раз признавался он самому себе, что боится леди Амелии и не менее того боится Мортимера. Кросби знал, что они следили за ним и что им известен был каждый его шаг. Они называли его Адольфом и сделали его ручным. Злополучный день одного из дней февраля прозвонил ему все уши. Леди Амелия ездила в город, приискивала мебель и по целым часам разговаривала о постелях и постельном белье. «Кухонные принадлежности я бы советовала взять у Том-кинса. У него эти вещи превосходные, и притом же он уступит десять процентов, если вы купите на чистые деньги, в чем, конечно, нечего и сомневаться!» Неужели он только для этого и пожертвовал Лилианой Дель? – неужели только для этого он и должен породниться с благородной фамилией де Курси?
Мортимер с минуты возвращения в Лондон приступил к составлению брачных условий и успел связать Кросби по рукам и ногам. Жизнь Кросби была застрахована, и полис находился в руках Мортимера. Небольшие собственные деньги Кросби уже были переданы Мортимеру для присоединения их к небольшим деньгам леди Александрины. Кросби казалось, что во всех распоряжениях проглядывало предположение, что он скоро должен умереть и что тогда леди Александрина получит порядочный годовой доход, совершенно достаточный, чтобы проживать в предместье Сент-Джон-Вуда. Между прочим, было постановлено, что Кросби не может тратить доходов ни с своего капитала, ни с капитала леди Александрины. Они должны были идти чрез отеческие руки Мортимера Кросби на уплату страховых. Умри он на другой день свадьбы, и тогда леди Александрина получит порядочную сумму денег, принять которую не побрезговала бы дочь графа. Шесть месяцев тому назад Кросби считал себя способным повернуть Мортимера Гезби вокруг своего пальца в разговоре о каком угодно предмете, при встрече с ним Гезби становился тогда покорнейшим слугою, считая Кросби за существо далеко его превосходное. Тогда Кросби очень свысока смотрел на Гезби, теперь же в руках этого человека Кросби казался совершенно бессильным.
Но, быть может, сама графиня становилась для Кросби предметом еще большого отвращения. Она беспрестанно писала ему маленькие записочки, в которых давала множество поручений, и вообще рассылала его по разным местам как лакея. Она надоедала ему советами, которые в тысячу раз были хуже всяких поручений, объясняла ему образ жизни, который должна вести леди Александрина, и постоянно твердила, что такой человек, как он, не мог бы быть принят в недра столь благородного семейства, не заплатив весьма дорого за такую неоцененную привилегию. Ее письма становились для него отвратительными, и он откладывал их в сторону, не распечатывая их иногда по целым дням. Кросби уже решился поссориться и с графиней в самом непродолжительном времени после женитьбы, он готов был отделаться от всего семейства, если бы это было возможно. А между тем он вступал в этот брак, собственно, с целью воспользоваться всеми выгодами, которые могли бы доставить ему родственные связи с де Курси! Сквайр и племянник его сильно ошибались, думая, что этот человек отделался от них без наказания. Они не согласились бы подвергнуть себя такой пытке, какую переносил Кросби.
Нам уже известно, что святки Кросби должен был провести в замке Курси. Отделаться от этого удовольствия ему не представлялось никакой возможности, но он решился во что бы то ни стало, чтобы визит его был самый непродолжительный. К несчастью, Рождество приходилось в понедельник, а в семействе де Курси все знали, что суббота в генеральном комитете считалась днем свободным от присутствия. Эти три дня принадлежали ему и семейству де Курси неотъемлемо; что же касается до дальнейшего срока, то он не замедлил предупредить леди Александрину, что начальники его – люди железные. «А вы знаете, что я еще должен взять отпуск в феврале, – сказал он таким тоном, в котором слышался вопль его души, – и потому дальше понедельника ни под каким видом не могу остаться». Если бы в замке де Курси что-нибудь привлекало его, то, мне кажется, он мог бы без всякого затруднения получить от мистера Оптимиста отпуск дней на семьи даже на десять. «Мы будем одни, – писала к Кросби графиня, – и вам представится случай познакомиться с образом нашей жизни гораздо короче, чем вам удавалось до этой поры». Это для Кросби было горче самой желчи. Но что же делать, в этом мире все более или менее дорогие удобства в жизни имеют свою цену, а когда люди, подобные Кросби, пожелают вступить в родство с благородной фамилией, они должны заплатить биржевую цену за ту вещь, которую покупают.
– Так в понедельник вы у нас обедаете, – сказал сквайр мистрис Дель в середине недели, предшествовавшей Святкам.
– Ну, не думаю, – отвечала мистрис Дель. – Мне кажется, будет лучше, если мы останемся дома.
В это время сквайр и его невестка находились в более дружеских отношениях, чем прежде, и потому, уважая ее чувства, сквайр принял этот ответ почти за шутку. Он начал настаивать на своем и успел.
– А мне так кажется, что вы ошибаетесь, – сказал он. – Я не думаю, чтобы таким образом мы встретили праздник весело. Для вас и ваших дочерей не может быть особенного веселья, все равно, будете ли вы кушать рождественский пудинг здесь или в Большом доме, но лучше было бы для нас всех сделать попытку. Мне кажется это совершенно справедливо. Так, по крайней мере, я смотрю на этот предмет.
– Я спрошу Лили, – сказала мистрис Дель.
– Спросите, спросите. Поцелуйте ее и скажите ей от меня, что наперекор всему день Рождества Христова должен быть и для нее днем радости. Мы отобедаем в три часа и вечер отдадим прислуге.
– Разумеется, мы пойдем, – сказала Лили. – Почему же не идти? Мы всегда проводили этот день в Большом доме. Как и в прошлом году, мы будем играть в жмурки со всеми Бойсами, если дядя пригласит их.
Но Бойсы при этом случае не были приглашены.
Лили, хотя и принимала веселый вид, в душе должна была страдать, и действительно страдала сильно. Если вам, читатель, случалось в мокрую погоду поскользнуться и попасть в водосточную канаву, то не находили ли вы, что сочувствие прохожих составляет самую худшую часть вашего неприятного положения? Не говорили ли вы в то время себе, что все бы ничего, если бы народ шел своей дорогой и не останавливался посмотреть на вас? А все-таки вы не можете винить тех, которые, останавливаясь, выражали свое сожаление, быть может, помогали вам очистить грязь и подавали запачканную шляпу. Вы сами, увидев падающего человека, не можете пройти мимо, как будто с ним ничего особенного не случилось. Так точно было и с Лили. Жители Оллингтона не могли смотреть на нее равнодушно. Они смотрели на нее с особенной нежностью, принимая ее за раненую лань, и этим только увеличивали боль ее раны. Старая мистрис Харп соболезновала ей, уверяя при этом, что она скоро поправится.
– Мистрис Харп, – говорила Лили. – Предмет этот мне неприятен.
И мистрис Харп не говорила больше об этом, но при каждой встрече показывала вид глубокого сожаления.
– Мисс Лили! – сказал однажды Хопкинс. – Мисс Лили! – И когда взглянул ей в лицо, в его старых глазах навернулись слезы. – Я с первого раза узнал, что это за человек. О, если бы я мог убить его!
– Хопкинс, как вы смеете? – спросила Лили. – Если вы скажете мне еще что-нибудь подобное, я пожалуюсь дяде.
Лили отвернулась от садовника, но потом в ту же минуту подбежала к нему и протянула ему свою ручку.
– Извините меня, Хопкинс, – сказала она, – я знаю, что вы добрый человек, и люблю вас за это.
– Не уйдет еще от меня, я ему сломлю грязную шею, – сказал про себя Хопкинс, уходя в противоположную сторону от Лили.
Перед самым Рождеством Лили вместе с сестрой была приглашена в пасторский дом. Во время визита Белл с одной из дочерей вышла из гостиной. Мистрис Бойс воспользовалась этим случаем, чтобы выразить свое сочувствие.
– Милая Лили, – сказала она, – не сочтите меня холодною, если я не говорю вам ни слова о вашей потере.
– Нет, нет, – сказала Лили довольно резко, как будто она хотела откинуться назад от пальца, который угрожал прикосновением к ее ране, – бывают вещи, о которых никогда не следует говорить.
– Да-да, правда, – сказала мистрис Бойс, но в течение нескольких минут никак не могла перейти на другой предмет и вместо того с грустной нежностью смотрела на Лили.
Не считаю за нужное говорить, каковы были страдания бедной Лили под такими взглядами, но Лили переносила их твердо, вполне сознавая, что мистрис Бойс не виновата в этом. Да и могла ли мистрис Бойс смотреть на нее иначе?
Наконец решено было, что Лили в день Рождества должна обедать в Большом доме и таким образом доказать оллингтонскому свету, что ее нельзя считать за девушку, которая под тяжестью постигшего ее несчастья должна оставаться в четырех стенах своего дома. Что Лили в этом отношении была благоразумна, тут, мне кажется, не может быть ни малейшего сомнения, но, когда после обедни Лили с матерью и сестрой переходила маленький садовый мостик, она отдала бы все на свете за одну возможность воротиться домой и лечь в постель, вместо того чтобы сесть за банкетный стол своего дяди.
Глава XXXII ГОСТИНИЦА ПОКИНСА В УЛИЦЕ ДЖЕРМЭН
Выставка откормленных животных в Лондоне состоялась в этом году двадцатого декабря, и я имею достоверные сведения, что один из быков, выставленных лордом Дегестом, был признан столичными мясниками за образец совершенства во всех отношениях. Нет сомнения, что спустя полстолетия мясники сделаются гораздо взыскательнее, и гествикский бык, если бы его можно было набальзамировать и представить на выставку, послужил бы только поводом к осмеянию агрономического невежества настоящего времени. Как бы то ни было, лорд Дегест принимал похвалы и от восторга находился в седьмом небе. В кругу мясников и людей, занимающихся откармливанием животных, он считал себя счастливейшим человеком, одни только эти люди и умели оценить труды его жизни, они одни считали его образцом нобльмена.
– Посмотрите-ка на этого молодца, – сказал он Имсу, указывая на быка, получившего приз. Имс после должности присоединился на выставке к своему патрону и любовался живым мясом при газовом освещении. – Не правда ли, что он похож на своего господина? Он прозван Ягненком.
– Ягненком, – сказал Джонни, который не успел еще хорошо ознакомиться с произведениями Гествика.
– Да, Ягненком. Это тот самый бык, который наделал нам хлопот. Точь-в-точь, как сам господин, и спереди, и сзади. Неужели вы не видите?
– Кажется, – отвечал Джонни, он хотя и пристально смотрел, но сходства не находил.
– Очень странно, – продолжал граф. – Но бык после того дня сделался такой тихий, такой тихий, что я уж и не знаю, с кем его сравнить. Тогда всему виною был красный носовой платок.
– Очень может быть, – заметил Джонни. – А может быть, и мухи.
– Мухи! – гневно воскликнул граф. – Вы полагаете, что он не привык к мухам? Вздор! Пойдемте домой. Я заказал обед к семи часам, а теперь половина седьмого. Зять мой, полковник Дель, тоже в Лондоне, он будет обедать вместе с нами.
С этими словами лорд Дегест взял Джонни под руку и повел по выставке, обращая его внимание на различных животных, далеко уступавших во всем его собственным.
Миновав Портман-сквэр, Гросвенор-сквэр и пройдя Пикадилли, они очутились в улице Джермэн. Во время этого перехода Джонни Имсу казалось чрезвычайно странным идти под руку с графом. Дома, в столичной жизни, его ежедневными собеседниками были Кредль и Амелия Ропер, мистрис Люпекс и мистрис Ропер. Разница была огромная, а между тем он находил, что ему так же легко беседовать с графом, как и с мистрис Люпекс.
– Вы, вероятно, знаете оллингтонских Делей, – сказал граф.
– Как же, знаю.
– Но, может статься, никогда не встречали полковника?
– Кажется, никогда.
– Большой руки чудак, живет довольно порядочно, а между тем ничего не делает. Он с сестрой моей живет в Торки, и, сколько мне известно, оба они не имеют никакого занятия. Он приехал в Лондон, чтобы встретиться со мной у наших стряпчих для подписания некоторых бумаг. Эта поездка для него наказание. Я старше его годом, а, право, для меня ничего бы не значило ездить сюда из Гествика хоть каждый день.
– Чтобы посмотреть на быка, – заметил Джонни.
– Клянусь Георгом, вы угадали, мистер Джонни! Сестра моя и Крофтс могут говорить, что им угодно, но когда человек проводит каждый день часов по восьми и девяти на чистом воздухе, то после этого ему, я думаю, захочется заснуть. Вот и гостиница Покинса – отличная гостиница, но не так впрочем хороша, как была при жизни старого Покинса. Проводите мистера Имса в его комнату.
Полковник Дель в лице имел большое сходство со своим братом, но был выше его ростом, сухощавее и на вид старше. Когда Имс вошел в общую гостиную, полковник сидел там один, и потому Джонни должен был принять на себя труд отрекомендоваться. Полковник не встал с места, но ласково поклонился молодому человеку:
– Мистер Имс? Я знал вашего отца в Гествике много-много лет тому назад.
Сказав это, полковник Дель вздохнул и снова повернулся к камину.
– Сегодня что-то очень холодно, – сказал Джонни, стараясь завязать разговор.
– В Лондоне всегда бывает холодно, – заметил полковник.
– Если бы вы побывали здесь в августе, вы бы этого не сказали.
– Избави боже побывать, – сказал полковник и снова вздохнул, не отводя глаз от камина.
Имс слышал о храбром подвиге Орландо Деля, когда он увез сестру лорда Дегеста, несмотря на страшные, непреодолимые преграды, и теперь, глядя на этого неустрашимого героя, подумал, что с того времени в нем произошла большая перемена. После этого ничего больше не было сказано до прихода графа.
Гостиница Покинса была весьма старинная во всех отношениях. Потомок Покинса стоял позади стула графа и, когда начался обед, сам снял крышку с суповой миски. Лорд Дегест не требовал особенного внимания к своей личности, но ему было бы досадно, если бы вовсе не оказывали внимания. Он сказал Покинсу несколько любезных слов, показав этим, что он не принимает Покинса за одного из лакеев. Получив приказание его сиятельства насчет вина, Покинс удалился.
– Он довольно сносно поддерживает это старое заведение, – сказал граф своему зятю, – правда, теперь далеко не то, что было лет тридцать тому назад, все как-то становится хуже и хуже.
– Я полагаю, – сказал полковник.
– Помню время, когда у старого Покинса бывал такой портвейн, какой я держу дома, или почти такой. Теперь у них не найдется такого вина.
– Я никогда не пью портвейна, – сказал полковник. – Вообще после обеда я редко пью что-нибудь, разве иногда немного негуса.
Граф ничего не сказал, но, наклонившись к тарелке, сделал самую красноречивую гримасу. Имс видел это и едва удержался от смеха. В половине десятого, когда за удалившимся полковником затворилась дверь, граф всплеснул руками и, передразнивая зятя, произнес: «Негус!» В это время Имс не мог удержаться и разразился смехом.
Обед был весьма скучный, так что Джонни до ухода полковника сожалел, что его принудили обедать в гостинице Покинса. Конечно, прекрасная вещь получить приглашение к графскому обеду, все предшествовавшие обстоятельства возвышали его в глазах сослуживцев, и это немало льстило его самолюбию, но, сидя за столом, на котором лежало четыре или пять яблок и стояла тарелка с орехами, и посматривая то на графа, который всеми силами старался держать глаза свои открытыми, то на полковника, для которого решительно было все равно, спят ли его собеседники или бодрствуют, Джонни признавался самому себе, что честь находиться за графским столом обходится ему слишком дорого. За чайным столом мистрис Ропер не бывало весело, но все же Джонни отдавал ему преимущество пред столом Покинса, в обществе двух скучных стариков, с которыми он не имел ничего общего для разговора. Раза два он покушался заговорить с полковником, во все глаза смотревшим на каминный огонь, но полковник отвечал односложными словами, так что очевидно было, что он вовсе не имел расположения беседовать. В послеобеденные часы полковник Дель находил удовольствие молчать, сложив руки на колена.
Граф, однако же, знал, что гости его скучают. В течение страшной борьбы с дремотой, в которой бог сна одержал над ним минут на двадцать решительную победу, совесть упрекала его, что он поступает с гостями своими весьма неделикатно. Он сердился на себя, старался не дремать и завести разговор, но зять не оказывал ему ни малейшей помощи в его усилиях, и даже Имс не сделал для него никакого пособия. Поэтому минут двадцать проведены были в самом сладком сне, граф проспал бы еще больше, но его разбудило одно из его сильных всхрапываний.
– Клянусь Георгом! – сказал он, вскочив на ноги и встав на ковер. – Выпьемте кофе!
После этого он более не спал.
– Дель, – сказала, он, – не хочешь ли рюмку вина?
– Ни капли, – отвечал полковник, отрицательно покачав головой, не отрывая глаз от камина.
– Джонни, наливайте свою рюмку.
Граф, узнав, что мистрис Имс не иначе называла сына своего, как Джонни, тоже начал употреблять это название.
– Я все время подливал, – сказал Имс и все-таки взялся за графин.
– Я рад, что для вас было хоть какое-нибудь развлечение, кажется, вы и Дель не слишком-то наговорились. Ведь я все время слушал вас.
– Ты все время спал, – сказал полковник.
– Это может служить извинением моему молчанию, – сказал граф. – Кстати, Дель, какого ты мнения об этом… Кросби?
– Какого я мнения?
Имс навострил уши, в один момент исчезла вся скука.
– Ему следовало бы переломать все кости, – продолжал граф.
– Непременно бы следовало, – сказал Имс, соскочив со стула и заговорив несколько громче, чем, может статься, было бы приличнее в присутствии старших. – Непременно бы следовало, милорд. Это самый гнусный бездельник, какого я еще не встречал в своей жизни. Желал бы я быть братом Лили Дель.
После этого он снова сел, вспомнив, что говорил в присутствии дяди Лили, отца Бернарда Деля, который должен для Лили занимать место брата.
Полковник отвернулся от камина и с удивлением посмотрел на молодого человека.
– Извините, сэр, – сказал Имс. – У меня вырвались эти слова, потому что я знаю мистрис Дель и ваших племянниц с тех пор, как начал себя помнить.
– В самом деле? – спросил полковник. – Но все же не следовало бы обращаться так свободно с именем молоденькой барышни. Впрочем, мистер Имс, я не обвиняю вас.
– Есть ли еще за что обвинять? – спросил граф. – Я уважаю в нем это чувство. Джонни, мой друг, если, к несчастью, придется мне встретиться с этим человеком, я ему выскажу свое мнение, я думаю, и вы сделаете то же самое.
Выслушав это, Джон Имс подмигнул графу и сделал движение головой, по направлению к полковнику, сидевшему к нему спиной. Граф ответил ему тем же жестом.
– Дегест, – сказал полковник, – я отправляюсь наверх, пора принять аррорут.
– Я позвоню, чтобы подали свечку, – сказал граф.
Полковник удалился, в это-то время, когда дверь затворилась, граф и произнес слово «негус», передразнивая полковника. Джонни разразился смехом и, подойдя к камину, занял кресло полковника.
– Конечно это прекрасно, – сказал граф, – но сам я бы не желал пить негус, а тем меньше принимать аррорут.
– Ведь от этого вреда не может быть.
– О, нет, что-то говорит о нем Покинс! Впрочем, здесь много всякого рода чудаков.
– Лакею, мне кажется, все равно приносить ему, что ни прикажет.
– Разумеется. Если бы он приказал принести ему александринского листу с английской солью, то, право, лакей не обнаружил бы ни малейшего удивления. Однако вы его затронули за живое, заговорив насчет этой бедной девушки.
– Неужели, милорд? Я говорил без всякого умысла.
– Ведь вы знаете, он отец Бернарда Деля, и тут сейчас рождается вопрос: накажет ли Бернард этого негодяя за его гнусный поступок? Кто-нибудь должен же наказать. Нельзя же позволить ему отвертеться даром. Кто-нибудь должен дать знать мистеру Кросби, каким сделался он подлецом.
– Я завтра же это сделаю, только боюсь…
– Нет, нет, нет! – вскричал граф. – Вам это вовсе не идет. Какое вам дело до этого? Вы человек посторонний, положим, что друг семейства, но этого недостаточно.
– Я тоже думаю, что недостаточно, – печально сказал Джонни.
– Мне кажется, лучше всего оставить это дело, как оно есть. Какая будет польза, если его отколотить? И притом же если мы христиане, то и должны поступать по-христиански.
– Какой он христианин?
– Правда-правда, будь я на месте Бернарда, я бы, по всей вероятности, забыл библейские уроки о кротости и милосердии.
– Знаете ли, милорд, по моему мнению, прибить его до полусмерти было бы делом чисто благородным. Бывают поступки, за которые не должно оставлять у человека живого места на всем теле.
– Чтобы вперед этого не делал!
– Да. Вы скажете, пожалуй, что и повесить человека дело неблагородное.
– Убийцу я бы всегда повесил, но несправедливо было бы вешать людей за кражу овец.
– Гораздо лучше повесить такого мерзавца, как Кросби, – сказал Имс.
– С этим я совершенно согласен. Если кто хочет войти в милость к этой молоденькой барышне, то чрез эту операцию ему представляется прекрасный случай.
Минуты на две Джонни оставался безмолвным.
– Нет, я этому не верю, – уныло сказал Джонни, казалось, уныние это наводило на него мысль, что, поколотив бывшего поклонника Лили, не войдешь к ней в милость.
– Правда, я мало знаком с сердцами молоденьких девушек, – сказал лорд Дегест, – но мне кажется, что это должно быть так. Я воображал, что для Лили Дель ничего в мире не доставило бы такого удовольствия, как известие, что его отколотили и что об этом сделалось известным всему свету.
Граф, заявив, что мало знаком с сердцами молоденьких девушек, сказал, без всякого сомнения, истину.
– Если бы я так же думал, – сказал Имс, – то завтра же отыскал бы его.
– Это зачем? Разве для вас не все равно: будет ли он побит или нет?
Наступила другая пауза, в течение которой Джонни едва не расплакался.
– Не хотите ли вы сказать, что влюблены в мисс Лили Дель?
– Не знаю, влюблен ли я в нее, – сказал Джонни, весь вспыхнув. Он решился рассказать своему другу всю истину. Портвейн Покинса как-то особенно располагал к откровенности. – Но знаю, милорд, что для нее я готов идти в огонь и воду. Я знал ее много лет прежде, чем он впервые ее увидел, и любил ее так, как ему никогда не любить. Когда я услышал, что она приняла его предложение, я готов был перерезать горло или себе, или ему.
– Вот оно что, – сказал граф.
– Это смешно, я знаю, – сказал Джонни. – Моего предложения она, разумеется, не приняла бы.
– Я не вижу причины этому.
– За душой у меня нет шиллинга.
– Да девушки и не думают об этом.
– И притом же я ни больше ни меньше как клерк в управлении сбора податей! А это такая ничтожная вещь.
– Да и тот ни больше ни меньше, как клерк, только в другом управлении.
Граф, живя в Гествике, вовсе не знал, что управление сбора податей находилось в Сити, а генеральный комитет – в Вайтголле и что их разделяла страшная бездна.
– О, да, – сказал Джонни, – только его управление – вещь совсем другого рода, и притом еще он такой франт, такой молодец.
– Клянусь Георгом, ничего этого я в нем не замечаю, – возразил граф.
– Нисколько не удивительно, что она приняла его предложение. Я возненавидел его с первой минуты, как его увидел, но это еще не может служить поводом к тому, что она должна тоже ненавидеть его. У него такие элегантные манеры, а девушкам это и нравится. На нее я никогда не сердился, а его так бы вот и прибил.
Говоря это, Джонни сделал движение, как будто намеревался применить слово к делу, если бы перед ним стоял Кросби.
– А вы ей делали предложение? – спросил граф.
– Нет, да и мог ли я сделать это, когда у меня самого нет куска хлеба?
– И вы даже не сказали ей… что влюблены в нее или что-нибудь в этом роде?
– Теперь она это знает, – отвечал Джонни. – Перед отъездом сюда, полагая, что она непременно выйдет за него, я пришел проститься с ней и, право, не мог не высказать, что было на душе.
– Мне кажется, мой милый друг, что вы должны быть премного обязаны Кросби, если вы намерены…
– Знаю, милорд, что вы хотите сказать. Я ему ни на волос не обязан. Я убежден, что все это убьет ее. Что касается до меня, то если бы я знал, что она примет…
Снова наступила пауза, граф видел, что на глаза Джонни выступали слезы.
– Кажется, я начинаю понимать, в чем дело, – сказал граф, – я могу дать вам хороший совет. На Рождество приезжайте-ка в Гествик провести со мной праздники.
– О, милорд!
– Пожалуйста, без милордства, а сделайте так, как я вам говорю. Да, кстати, леди Джулия дала мне поручение, чуть было не позабыл. Она лично хочет поблагодарить вас за подвиг в моем поле.
– Все это, милорд, чистейшие пустяки.
– Прекрасно, вы ей так и скажи́те. Даю вам честное слово, что она ненавидит Кросби не меньше вашего и готова бы, по вашему выражению, прибить его до полусмерти, да не знает, как это сделать. Вы приедете на Святки в Гествик, а оттуда побываете в Оллингтоне и откровенно расскажете там, что у вас на душе.
– Теперь я не в состоянии сказать ей слова.
– В таком случае объяснитесь со сквайром. Поезжайте к нему и смело расскажите ему, что думаете. Пожалуйста, не говорите мне об этих франтах, об этих молодцах. Кто честно поступает во всем, тот и молодец. Только такого человека я и признаю за молодца. Поезжайте прямо к старому Делю и скажите ему, что приехали от меня, из гествикского дома. Скажите ему, что если он подложит под котел тростинку, чтобы вскипятить его, то я подбавлю хворостину. Он поймет, что это значит.
– О, нет, милорд.
– А я говорю «да». – И граф, стоявший в это время на ковре перед камином, глубоко запустил руки в карманы своих панталон. – Я очень люблю эту девушку и готов сделать для нее многое. Спросите леди Джулию, не говорил ли я ей это задолго прежде, чем узнал, что вы смотрите на нее овечьими глазками. А теперь тем больше, ведь я у вас в долгу, мистер Джонни. Господь с вами! ведь я отлично знал вашего отца, и, сказать по правде, кажется, я-то и помог ему разориться. Он арендовал землю у меня, вы знаете, и это его разорило, тут нет и не может быть сомнения. Он столько же знал о какой-нибудь скотине, столько… сколько вон этот лакей. Проживи он до сегодня, и, право, не был бы умнее.
Джонни молчал, глаза его были полны слез. Да и что мог он сказать своему другу.
– Поедемте вместе со мной, – продолжал граф, – и вы увидите, что все будет устроено как нельзя лучше. Действительно, вы правы, ей в настоящее время нельзя говорить об этом. Но расскажите все ее дяде, а потом и матери. Главнее всего не думайте, что вы ее не стоите. Мужчина никогда не должен так думать. Поверьте, что в жизни ценят людей по их собственному достоинству. Если бы вы сделаны были из грязи, как этот Кросби, то, без сомнения, вас бы разгадали. Но ведь я не думаю, что вы сделаны из грязи.
– Не думаю и я.
– То-то же и есть. Вы можете, я полагаю, отправиться со мной послезавтра.
– Боюсь, что нельзя. Я уже был в отпуске.
– Так не хотите ли, я напишу старому Бофлю и попрошу его сделать это мне в особенное одолжение.
– Нет, – сказал Джонни, – не хочу. Завтра я посмотрю и дам вам знать. Во всяком случае я, могу приехать в субботу вечером, на почтовом поезде.
– Это не совсем будет комфортабельно. Нельзя ли поехать со мной? Теперь, доброй ночи, мой милый, помните, что если я что скажу, то и сделаю. Могу похвастаться, что от слова своего никогда еще не отрекался.
Сказав это, граф протянул левую руку и, посмотрев довольно величественно на молодого человека, правой рукой три раза провел по своей груди. Во все время небольшой этой сцены Джон Имс чувствовал себя настоящим графом.
– Не знаю, что сказать вам, милорд.
– Ничего не говорите… не нужно ни слова. Говорите лучше себе, что трус никогда не сыщет хорошей невесты. Доброй ночи, мой друг, доброй ночи. Завтра я дома не обедаю, но вы можете зайти ко мне часов в шесть и сказать, как вы решите насчет поездки.
Имс вышел из комнаты, не сказав больше ни слова, и вскоре очутился на холодном воздухе улицы Джермэн. Была лунная светлая ночь, тротуар лоснился и был чист, как ручка какой-нибудь леди. С той минуты, как он вошел в гостиницу Покинса, весь мир для него изменился. Неужели, в самом деле, возможная вещь, что Лили Дель может еще сделаться его женой? Действительно ли, что он, даже теперь, находился в таком положении, что смело мог идти к оллингтонскому сквайру и объяснить ему свои виды на его племянницу Лили? До какой степени можно было полагаться на слово графа Дегеста? Чтобы жениться на Лили Дель, необходимо иметь состояние. Двести или триста фунтов в год, это по самой крайней мере! Граф не дал ему понять, что в случае надобности за такой суммой не будет остановки. Несмотря на то, возвращаясь в Буртон-Кресцент, Джонни решил, что ему должно ехать в Гествик, должно повиноваться приказанию графа. Относительно самой Лили он чувствовал, что перед ней еще долго, долго нельзя будет высказаться.
– Ах, Джон, как вы запоздали, – сказала Амелия, вышмыгнув из задней комнаты, когда Джонни показался в приемной.
– Да, очень запоздал, – сказал Джонни и, взяв свечку, прошел мимо нее, не сказав ни слова.
Глава XXXIII «ПРИДЕТ ВРЕМЯ»
– Слышали ли вы, что молодой Имс гостит в гествикском господском доме?
Так как это были первые слова, которые сквайр сказал мистрис Дель, в то время, когда она с дочерями своими явилась в Большой дом, после обедни в первый день Рождества, то было довольно очевидно, что известие о приезде Джонни произвело на него некоторое впечатление.
– В гествикском господском доме! – сказала мистрис Дель. – Скажите пожалуйста! Слышала, Белл? В гору, в гору пошел мастер Джонни!
– Разве вы не помните, мама, – сказала Белл, – что он помог лорду Дегесту в его приключении с быком.
Лили, помнившая все фазисы последнего своего свидания с Джоном Имсом, ничего не сказала, но почувствовала в душе какую-то боль при одной мысли, что он так близко от нее и в такое время. Ей нравилось, что он приходил к ней проститься и рассказал все, что было на душе. После сцены в саду она уважала его больше прежнего. Но теперь она считала бы себя обиженною, если бы он явился к ней при таких обстоятельствах.
– Я никак не думал, что лорд Дегест выкажет так много признательности за такую пустую услугу, – сказал сквайр. – Как бы то ни было, завтра я еду к нему обедать.
– И повидаться с молодым Имсом? – спросила мистрис Дель.
– Да, в особенности повидаться с молодым Имсом. По крайней мере, он убедительно меня просил приехать и при этом объявил, что у него будет молодой человек, о котором идет речь.
– Бернард тоже едет?
– Нет, я не поеду, – отвечал Бернард. – Завтра я обедаю у вас.
В уме Лили мелькнула неясная идея, что в приглашении сквайра что-нибудь непременно должно относиться до нее. Но эта идея так же быстро исчезла, как и появилась, оставив за собою неприятное чувство. Бывают болезни, при которых страдает весь организм. Стоит только прикоснуться или даже показать вид, что вы намерены прикоснуться к пациенту, и он закричит от боли, как будто у него изранено все тело. То же самое бывает и с душевными болезнями. Такая скорбь, в какой находилась бедная Лили, производит в сердце боль во всех его частях и заставляет страдальца постоянно страшиться новых ран. Лили терпеливо несла свой крест, но тем не менее он тяготил ее при каждом повороте, потому собственно, что у нее доставало силы ходить под его тяжестью, как будто она не несла этого ига. Что бы ни случилось с ней самой, о чем бы ни говорили в ее присутствии, все имело некоторую связь с ее горьким положением. Так и теперь, ее дядя отправлялся повидаться с Джонни Имсом в доме лорда Дегеста, следовательно, там непременно будут говорить о ней, а разговор подобного рода был для нее убийствен.
Время после обеда прошло не очень весело. Пока люди находились в столовой, обед шел совершенно так, как идут и другие обеды, с тою только разницею, что если за столом сидят свои родные, то между ними допускается частица лицемерия. За обедом из смешанного общества люди могут употреблять в присутствии Ричарда и Вильяма те же самые слова, которые они употребили бы, если бы тут ни было ни Ричарда, ни Вильяма. В таком обществе никто не высказывает своих сокровенных мыслей. Но когда соберутся родные и близкие друзья, то разговор невольно становится сдержанным, пока не удалится прислуга.
– Мой отец был в Лондоне, – сказал Бернард после обеда. – Он стоял с лордом Дегестом в одной гостинице.
– Почему же вы не съездили повидаться с ним? – спросила мистрис Дель.
– И сам не знаю. Впрочем, кажется, и он этого не желал. В феврале думаю съездить в Торки. Недели через две я должен совсем уехать в Лондон.
После этого все молчали в течение нескольких минут. Если бы Бернард хотел сказать правду, он бы сознался, что у него вовсе не было расположения ехать в Лондон, потому собственно, что он еще не знал, как поступить ему при встрече с Кросби. Его размышления по этому предмету бросали некоторую тень на душу бедной Лили, заставляя ее ощущать, что ее рана снова раскрылась.
– Я хочу, чтобы он совсем оставил службу, – сказал сквайр твердо и несколько протяжно. – Было бы гораздо лучше для нас обоих, если он сделает это.
– Однако будет ли это благоразумно в его поре жизни, – возразила мистрис Дель, – и особливо когда он пошел так хорошо?
– Я думаю, что будет благоразумно. Если бы он был моим сыном, он должен был бы жить в имении, между людьми, которые впоследствии сделались бы его арендаторами, а отнюдь не оставаться в Лондоне, откуда того и смотри, что отправят в Индию. Как наследник этого места, он должен служить здесь, и этого, мне кажется, довольно.
– Только я здесь совсем изленюсь, – сказал Бернард.
– В этом сам будешь виноват. Если ты поступишь так, как я желал бы, то жизнь твоя не будет праздною.
Этими словами сквайр намекнул на предположенную женитьбу, но в присутствии Белл дальнейший разговор становился невозможным. Белл все поняла и молчала, приняв серьезное выражение, – на лице ее отразилась даже некоторая суровость.
– Но дело в том, – продолжала мистрис Дель вполголоса и, сообразив, что ей нужно говорить, – дело в том, что Бернард для вас не все равно, что родной сын.
– Почему же нет? – спросил сквайр. – Я даже предложил передать ему все имение, если он оставит службу.
– Вы не обязаны делать для него то, что обязаны были бы сделать для сына, а потому и он не обязан вам настолько, насколько был бы обязан своему отцу.
– Если вы хотите сказать, что я не могу приневоливать его, то я знаю это очень хорошо. Что касается денег, то я решился сделать для него все, что только должен сделать, по совести, отец для своего единственного сына.
– Надеюсь, вы не считаете меня неблагодарным, – сказал Бернард.
– Нет, совсем нет, но я считаю тебя беззаботным. Впрочем, больше я не стану говорить ни о том, ни о другом. Если ты женишься…
И сквайр остановился, сознавая, что в присутствии Белл дальше этого идти нельзя.
– Если он женится, – сказала мистрис Дель, – то, может быть, его жена захочет оставаться в своем доме.
– Почему же не в этом? – сердито сказал сквайр. – Разве он не достаточно велик? Для меня самого довольно одной комнаты, да я и ту отдам, если понадобится.
– Ну, это пустяки, – сказала мистрис Дель.
– Нет, не пустяки.
– Вы будете оллингтонским сквайром еще лет двадцать, – сказала мистрис Дель. – А пока вы сквайр, вы должны быть хозяином этого дома, по крайней мере, я так думаю.
Разговор о перспективе Бернарда этим и кончился.
– Мистрис Харп, полагаю, обедает сегодня у пастора? – спросил сквайр.
– Да, из церкви она отправилась туда, – сказала Белл, – я видела, что она пошла с мистрис Бойс.
– Она мне говорила, что зимой, после сумерек, никогда не будет обедать у них, – сказала мистрис Дель. – В последний раз, когда она возвращалась оттуда домой, какой-то мальчик затушил ей фонарь, и она сбилась с дороги. По правде сказать, она рассердилась на мистера Бойса за то, что он не пошел проводить ее.
– Она всегда и на всех сердится, – заметил сквайр. – В настоящее время она со мной не говорит. Отдавая как-то Джоллифу арендные деньги, она выразила надежду, что деньги эти меня успокоят, как будто она считает меня за какого-то зверя.
– Она так и считает, – сказал Бернард.
– Она очень стара, – сказала Белл.
– На вашем месте, дядя, – сказала Лили, – я бы позволила ей жить даром.
– Нет, моя милая, на моем месте ты бы этого не сделала. Сделав это, я поступил бы несправедливо. Почему же мистрис Харп должна жить даром – и, пожалуй, еще получать даром стол и одежду? Гораздо было бы благоразумнее с моей стороны выдавать ей ежегодно известную сумму денег, но и это было бы тоже несправедливо, потому что она не принадлежит к числу людей, которым нужно подавать милостыню, несправедливо было бы и с ее стороны принимать подаяние.
– Она не примет его, – сказала мистрис Дель.
– Не думаю и я, что примет. Но если бы и приняла, то, право, стала бы ворчать, что ей не дали вдвое больше. Если бы мистер Бойс и пошел провожать ее, она стала бы ворчать, что он идет слишком скоро.
– Ведь она уж очень стара? – повторила Белл.
– Однако это не дает ей никакого права говорить обо мне перед моими слугами с пренебрежением. Она не должна этого делать из уважения к самой себе.
По тону голоса сквайра заметно было, что это его оскорбляет.
Весьма длинный и весьма скучный был этот рождественский вечер, он укоренил в Бернарде идею, что с его стороны было бы в высшей степени нелепо оставить свою службу и привязаться к жизни в Оллингтоне. Женщины легче мужчин привыкают к длинным, скучным, без всяких занятий, часам, и поэтому мистрис Дель и ее дочери спокойно и терпеливо переносили скуку. В то время как Бернард зевал, потягивался, выходил из гостиной и опять входил в нее, они скромно сидели, слушая, как сквайр постановлял законы по пустым предметам, и от времени до времени делали возражения и противоречили, когда все единодушно сознавали в его доводах вопиющую несправедливость.
– Разумеется, вы знаете лучше моего, – говорил сквайр после подобных возражений.
– Вовсе не лучше, – отвечала мистрис Дель, – я даже могу сказать, что ничего не знаю об этом, но…
Таким образом протянулся весь вечер, и, когда сквайр в половине десятого остался один, он чувствовал, что день для него прошел недурно. Проведенное время вполне соответствовало его образу жизни, и лучшего он не ожидал. Он не рассчитывал на какие-нибудь особенные удовольствия, и если не был счастлив в этот вечер, то, во всяком случае, был очень доволен.
– Только подумать, что Джонни Имс гостит в гествикском доме! – сказала Белл по дороге к дому.
– Почему же ему и не гостить, – сказала Лили. – Конечно, я бы не желала быть на его месте, потому что леди Джулия такая сварливая старуха.
– И что это значит, что вашего дядю приглашают туда, в особенности для свидания с Джонни! – сказала мистрис Дель. – Разумеется, тут есть какая-нибудь причина.
Нам всем известно, что тут была особенная причина и что сердце бедной Лили не обманулось в своем таинственном предчувствии. Имс вечером после обеда в гостинице Покинса виделся с графом и объяснил ему, что раньше субботы он не может выехать из Лондона, но зато останется в Гествике до середы. Он должен быть в управлении в среду к двенадцати часам и, следовательно, на раннем поезде мог поспеть к этому времени.
– Очень хорошо, Джонни, – сказал граф своему молодому другу, держа в руке спальную свечу, потому что отправлялся наверх одеваться. – В таком случае я вот что скажу: я обдумал наше дело. Во вторник я приглашу Деля к обеду, и если он приедет, то объяснюсь с ним сам. Он деловой человек и сразу поймет меня. Если же он не приедет, тогда вы должны отправиться в Оллингтон и увидеться с ним во вторник же утром, или я сам к нему съезжу, смотря по тому, что будет лучше. Теперь же прошу меня не задерживать, я уж и то опоздал.
Имс и в уме не имел задерживать его, он сам торопился, полный удовольствия, что все устраивается для него удивительным образом. По приезде в Оллингтон он узнал, что сквайр принял предложение графа. Тут уже Джонни увидел, что отступление невозможно, да он вовсе и не думал отступать. Единственным и величайшим его желанием в жизни было называть Лили Дель своею женой. Джонни только побаивался сквайра, он думал, что сквайр отвергнет его предложение, еще, пожалуй, наговорит ему грубостей, и что графу будет крайне неприятно услышать и отказ, и оскорбления. Решено было, что граф за несколько минут до обеда пригласит сквайра в свой кабинет. Джонни чувствовал, что едва ли он в состоянии будет удержаться на месте, когда два старика после совещания явятся в гостиную.
Леди Джулия обошлась с ним очень хорошо, не важничала перед ним, напротив, старалась быть очень любезной. Брат рассказал ей всю историю, и она не менее его заботилась доставить Лили другого мужа вместо этого чудовища Кросби.
– Она еще очень счастлива, что избавилась от него, – говорила леди Джулия своему брату. – Очень счастлива.
Граф соглашался с этим, говоря, что, по его мнению, фаворит его Джонни будет для нее отличным мужем. Леди Джулия сомневалась только на счет согласия Лили.
– Во всяком случае, Теодор, он пока ничего не должен говорить ей.
– Разумеется, – отвечал граф, – не должен говорить по крайней мере с месяц.
– А по-моему, чтобы вернее был успех, то месяцев шесть по крайней мере.
– Сохрани боже! в это время ее подцепит кто-нибудь другой, – сказал граф.
В ответ на это леди Джулия только покачала головой.
Из церкви в день Рождества Джонни отправился к матери, там его приняли с большим почетом. Мистрис Имс сделала ему множество наставлений относительно его поведения за столом графа, касаясь даже малейших подробностей насчет сапог и белья. Но Джонни начинал убеждаться в гествикском доме, что люди не так резко отличаются в своих привычках и образе жизни, как некоторые полагают. Правда, манеры леди Джулии далеко не были одинаковы с манерами мистрис Ропер, но она точно так же приготовляла и разливала чай, как его приготовляли и разливали в Буртон-Кресценте, и Джонни на другое же утро увидел, что может есть яйца всмятку без малейшего дрожания в руках, несмотря на то что на рюмке, куда вставлялось яйцо, красовалась графская коронка. Накануне Рождества, в церкви, сидя на графской скамье, он чувствовал себя не на своем месте, ему казалось, что на него устремлены глаза всей конгрегации, но в день Рождества он уже не испытывал этого неудобства, ему так спокойно было на мягкой подушке, что он во время проповеди чуть не заснул. А когда Джонни по выходе из церкви вместе с графом приблизился к тем воротам, через которые граф перелезал не так давно в страшном испуге и изнеможении, когда он осмотрел живую изгородь, сквозь которую проскочил сам, утекая от быка, он чувствовал себя совершенно как дома, шутил и подтрунивал над сальто-мортале своего величавого спутника. Надо заметить, что молодые люди могут держать себя свободно и позволять себе шутки двояким образом – приятным и обидным. Если бы в натуре Джонни была наклонность к последнему, то граф сейчас же повернулся бы к нему спиной и положил бы конец неровной игре. В Джонни этого не было, потому-то он и нравился графу.
Наконец наступил вторник, а потом и час обеда, или, вернее, час, в который сквайр должен был явиться в гествикский дом. Имс, по условию с своим патроном, не раньше мог спуститься в гостиную, как по окончании свидания. Леди Джулии, как участнице в заговоре, предстояло принять сквайра, после чего лакей должен был пригласить его в кабинет графа. Надо было видеть и любоваться этими заговорщиками, когда между ними происходило совещание. Столько тут было и серьезного, и смешного.
– Ведь если он захочет, то сделается таким сердитым и упрямым, как старая дубина, – сказал граф, отзываясь о сквайре, – нам нужно стараться, чтобы как-нибудь не погладить его против шерсти.
– Не знаю, что мне делать и говорить ему, когда я сойду вниз, – сказал Джонни.
– Только поздороваться и больше ничего, – сказала леди Джулия.
– Я его попотчую добрым портвейном, который смягчит его сердце, – заметил граф. – А потом и посмотрим, каков-то он будет вечером.
Джонни Имс задрожал, когда коляска сквайра подкатилась к гествикскому дому. Сквайр – в полном неведении о заговоре – был встречен леди Джулией, минуты через две его пригласили в кабинет.
– С удовольствием, с удовольствием, – говорил сквайр, следуя за лакеем.
При входе сквайра, граф стоял посредине кабинета, его круглое, румяное лицо представляло картину радушия и веселья.
– Очень рад, что вы приехали, очень рад. Мне нужно с вами кое о чем поговорить.
Мистер Дель, далеко не так располагавший к себе, ни по сердцу, ни по обращению, каким был граф, пожал руку графа и слегка наклонил голову, показывая этим, что он готов слушать.
– Кажется, я сообщил вам, – продолжал граф, – что у меня в гостях молодой Джон Имс, – завтра он уезжает, в управлении без него не могут обойтись. Он славный малый, сколько могу судить, отличный молодой человек. Я его очень полюбил.
В ответ на это мистер Дель сказал весьма немного. Он сел и в общих выражениях заявил о своем расположении ко всему семейству Имса.
– Вы знаете, Дель, что я не мастер говорить и потому, чтобы не переливать из пустого в порожнее, обращаюсь прямо к делу. Само собою разумеется, мы все слышали об этом бездельнике Кросби и его поступке с вашей племянницей Лилианой.
– Это бездельник, без всякой примеси бездельник. Только чем меньше будем говорить об этом, тем лучше. Я бы не хотел, чтобы имя этой бедной девушки упоминалось с именем этого негодяя.
– Но, любезный мой сосед, в настоящую минуту я должен упомянуть его. Бедняжка! Я хотел что-нибудь сделать для ее утешения, и надеюсь, что сделаю. Знаете ли вы, что этот молодой человек был влюблен в нее еще до знакомства ее с Кросби?
– Как! Джон Имс!
– Да, Джон Имс. И право, я от души жалею, что он не овладел ее сердцем раньше этого мерзавца, которому вы позволяли гостить в своем доме.
– Что же делать, Дегест, в этом я не виноват.
– Нет, нет, нет! Такие люди водятся на свете, с одного взгляда не узнаешь их. Он был друг моего племянника, которого тоже винить нельзя. Жаль, очень жаль, что она с самого начала не знала чувств этого молодого человека.
– Может статься, она имела о нем совсем другие понятия, смотрела на него не так, как смотрите вы.
– Да, у этого молодого человека необыкновенно красивая наружность, он статен, плечист, с добрыми честными глазами и вдобавок обладает таким присутствием духа, какое встретишь не во всяком молодом человеке. В своих манерах он не похож на ученую обезьяну – словом, прекрасный молодой человек.
– Все это прекрасно, Дегест, только теперь поздно.
– Вовсе нет, напротив, самая пора. Не должно быть поздно! Нельзя же, чтобы девушка отказалась на всю жизнь от супружеского счастья потому только, что ее обманул какой-то негодяй.
– Правда, она немного погорюет. В настоящее время я сам знаю, нельзя ей объявить, что у нее есть другой обожатель. Придет время, Дель, придет время, свое время всегда приходит.
– Только ко мне и к вам оно никогда не придет, – сказал сквайр, и на сухих щеках его показалась едва уловимая улыбка.
История их жизни была почти одна и та же, тот и другой любил в свое время, тот и другой испытал разочарование, и затем тот и другой на всю жизнь остались холостыми.
– Но оно приходило, – сказал граф с особенным чувством. – Было время, когда и нас пригревало солнышко, наша жизнь не была совсем постылою. Во всяком случае, вы и ее мать рано или поздно должны же выдать ее замуж.
– Я не думал об этом.
– А я хочу, чтобы вы подумали. Я хочу расположить вас в пользу этого молодого человека и с этой целью намерен быть с вами откровенным. Надеюсь, вы за ней что-нибудь дадите?
– Не знаю, – отвечал сквайр, почти оскорбленный подобным вопросом.
– Все равно, дадите ли вы или нет, но я ему дам кое-что, – сказал граф. – Я бы не вмешался в это дело, если бы не имел намерения поставить себя в такое положение относительно его, которое оправдывает меня в предложение этого вопроса. – Говоря это граф, выпрямился во весь рост. – Если это дело состоится, то брак не будет дурным для вашей племянницы в денежном отношении. Мне приятно будет наградить его, но еще было бы приятнее, если бы она могла разделить с ним эту награду.
– Она должна быть премного вам обязана, – сказал сквайр.
– Она и была бы обязана, если бы узнала молодого Имса. Надеюсь, впрочем, придет время, когда она его узнает. Надеюсь также, что мы вместе желаем им счастья и что вы будете благодарить меня за то, что я помог им сделаться счастливыми. Не отправиться ли нам теперь к леди Джулии?
Граф чувствовал, что успех его был не полон, что его предложение было принято довольно холодно, он мало надеялся на приобретение успеха в течение дня даже с помощью лучшего портвейна.
– Полминуты, граф, – сказал сквайр. – Бывают дела, в которых я не способен к быстрым соображениям, к числу таких дел относится и это. Позвольте мне подумать, о чем вы говорили, и потом побывать у вас.
– Извольте, извольте.
– А теперь за ваше участие в этом деле, за ваше великодушие и доброе сердце позвольте выразить вам самую искреннюю благодарность.
Сквайр низко поклонился и последовал за графом.
Граф Дегест все-таки чувствовал, что совещание не увенчалось желаемым успехом. Судя по характеру сквайра и некоторым его странностям, с своей стороны мы можем сказать, что в деле подобного рода нельзя было рассчитывать на успех с первого раза. Он сам объявил, что в серьезных вопросах соображение ему не дается быстро. Как бы то ни было, граф был разочарован, но, если бы он мог читать в душе сквайра, его разочарование не было бы так сильно. Мистер Дель видел, что с ним поступают великодушно и что граф делал предложение собственно из особенного расположения к Джонни и Лили, но не в его натуре было соглашаться немедленно на всякого рода предложения. Поэтому он вошел в гостиную с холодным, спокойным лицом, заставлявшим Имса и леди Джулию полагать, что в кабинете ничего хорошего не сделано.
– Как ваше здоровье, сэр? – спросил Джонни, подходя к сквайру в величайшем смущении и выполняя заученную роль без всякого соображения.
– Как вы поживаете, Имс? – отвечал сквайр самым спокойным и холодным тоном голоса.
После этого до приглашения к столу ничего не было сказано.
– Дель, я знаю, вы пьете портвейн, – сказал граф, когда леди Джулия, после обеда вышла из столовой. – Если вы скажете, что такой портвейн вам не нравится, то после этого вы ничего в нем не смыслите.
– Да, этому вину лет двадцать, – сказал сквайр, отведав портвейн.
– Прибавьте еще десяток, мне удалось запастись им пораньше, его не починали лет тридцать. Мне приятно предложить его человеку, как вы, который узнал его с одного взгляда. Дело другое Джонни. Для него все равно.
– Нет, милорд, не все равно. Мне кажется, он чрезвычайно вкусен.
– Чрезвычайно вкусен! Вкусно и шампанское, и имбирное пиво, и шипучка – для тех, разумеется, кто любит такие напитки. Не думаете ли вы сказать, что можете узнавать вкус вина, когда у вас во рту пол-апельсина?
– Скоро и он войдет во вкус, – сказал сквайр.
– Двадцатилетний портвейн не придется ему по вкусу, когда ему самому не больше двадцати, – сказал граф, забывая, что для них самих шестидесятилетний портвейн будет иметь такой же удивительный вкус, какой и двадцатилетний имел для его фаворита. Доброе вино до некоторой степени расшевелило сердце старого сквайра, но все-таки с его стороны ничего не было сказано на счет брачного заговора. Граф заметил однако же, что мистер Дель был очень любезен и внимателен к молодому его другу, спрашивал его от времени до времени об образе его жизни и занятиях в управлении сбора податей.
– Работа трудная, – говорил Имс. – Сделаете маленькую подскобочку, и поднимется такая суматоха, пошлют за вами и смотрят на вас, как будто вы намеревались ограбить всю кассу, для них ничего не значит держать вас в присутствии до пяти часов.
– Много ли вы имеете времени для завтрака и для прочтения газет? – спросил граф.
– Не больше десяти минут. Газета во время присутствия побывает в двадцати руках, а это как раз приходится по десять минут на человека, что касается до завтрака, то мы довольствуемся сухарем, обмакнутым в чернила.
– Обмакнутым в чернила! Что это значит? – спросил сквайр.
– А это значит, что вы должны его кушать и в то же время писать.
– Я об вас все узнаю, – сказал граф. – Сэр Рэфль Бофль – мой товарищ.
– Не думаю, что он знает о моем существовании, – сказал Джонни. – А вы хорошо его знаете, лорд Дегест?
– Не видал его лет тридцать, но до того времени был с ним в хороших отношениях.
– Мы называем его Хофль-Скофль.
– Хофль-Скофль! Ха-ха-ха! Он всегда был таким, любит покричать, с большими претензиями, с пустой головой. Мне бы не следовало этого говорить в вашем присутствии, молодой человек. Перейдемте-ка в гостиную.
– Ну что же он сказал? – спросила леди Джулия вслед за отъездом сквайра. Скрытничать не представлялось надобности, и потому вопрос этот был сделан в присутствии Джонни.
– Ничего особенно хорошего, но ничего и дурного. Он подумает и потом повидается со мной. Не унывай, Джонни, и помни, что тебе не нуждаться в добром друге.
На другое утро в семь часов Джонни Имс возвращался в Лондон, а в полдень явился за своей конторкой, как будто по условию, в одно время с распределителем занятий по управлению сбора податей.
Глава XXXIV БИТВА
Я сказал, что Джонни Имс прибыл в свое управление пунктуально в двенадцать часов, но до этого случилось событие, которое должно занять на страницах нашей летописи почетное место, событие столь важное, что представляется существенная необходимость описать его во всей подробности.
Лорд Дегест, в разговорах своих с Имсом относительно настоящего положения Лили Дель, всегда отзывался о Кросби с сильным отвращением.
– Будь проклят этот злодей! – говорил граф, и при этом круглые глаза его загорались огнем.
Граф, конечно, употреблял эту фразу не для того только, чтобы сказать крупное словцо, но, произнося ее, он придавал ей полное значение и старался выразить ей, что Кросби своим поведением вполне заслуживал подобное осуждение, как наказание за самый низкий поступок.
– Ему бы следовало переломать все ребра, – сказал Джонни.
– Не знаю, что на это сказать, – отвечал граф. – В настоящее время телесные наказания вышли из моды. Я бы ни слова не сказал против этого, если бы его заменили каким-нибудь другим наказанием. Во всяком случае, мне кажется, что такой мерзавец, как Кросби, не должен оставаться безнаказанным.
– Он еще не ушел от наказания, – сказал Джонни.
– Пожалуйста, только вы не связывайтесь с ним, не сделайте из себя дурака, – заметил граф.
Уж если следовало кому отмстить жестоким образом за оскорбление, которое сделал Кросби, то мстителем должен быть Бернард Дель, племянник графа. Граф это знал, но при настоящих обстоятельствах не могло быть допущено никакое жестокое наказание. «Не так это делалось, когда я был молод», – говорил он про себя. Как бы то ни было, но по тону голоса графа Джонни заключал, что слова графа далеко не согласовались с его мыслями, и потому снова и снова повторял самому себе, что Кросби не ушел еще от наказания.
На Гествикской станции железной дороги Джонни взял место в вагоне первого класса, собственно потому, что его провожал лакей в ливрее графа Дегеста. Не будь этого провожатого, он занял бы место подешевле. Малодушие, не правда ли? Но скажите, не сделали бы вы то же самое, будучи на его месте? Совершенно ли вы уверены, что не сделали бы этого, хотя вы вдвое его старше? Вдобавок к этой глупости Джонни Имс подарил еще лакею полкроны.
– Надеемся, мистер Джон, скоро снова вас видеть, – сказал лакей, понимавший, по-видимому, что мистер Имс становился в своем роде господином в гествикском доме.
Джонни заснул в вагоне и не просыпался до Барчестерской станции, от которой отделялась ветвь железной дороги.
– Придется, сэр, подождать барчестерский поезд, – сказал кондуктор, – они всегда опаздывают.
Джонни снова заснул, но через несколько минут его разбудил пассажир, торопливо вошедший в вагон. Поезд побочной линии железной дороги пришел наконец в то самое время, когда кондукторы главной линии решили, что пассажиры их не могут ждать больше. Пересаживание мужчин, женщин и переноска поклажи совершилась поэтому весьма торопливо, так что занявшие новые места едва успели осмотреться. В вагоне Джонни, в котором до этой поры кроме него сидела еще какая-то старушка, первым вошел старый джентльмен с весьма красным лицом. Остановись в дверях вагона, он шибко бранил всех и все, за то, что его торопили.
– Сэр, вы распоряжаетесь как дома, – сказал голос позади старого джентльмена, прогнавший весь сон у Джонни и заставивший его выпрямиться.
– Я вовсе не дома, – отвечал старик, – это я знаю и потому-то не хочу переломать себе ноги.
– Торопитесь, сэр, – сказал кондуктор.
– Я и то тороплюсь, – отвечал старик, заняв угол, ближайший к выходу, напротив старушки.
Потом Имс ясно увидел, что первый из говоривших пассажиров был Кросби и что он садился в тот же вагон.
Кросби с самого начала не рассмотрел никого, кроме старого джентльмена и старушки, и тотчас же занял угловое другое место. Взволнованный торопливостью, он несколько времени возился с своим зонтиком и саквояжем. Поезд уже был на полном ходу, когда Кросби заметил, что против него сидит Джон Имс, между тем как Имс инстинктивно поджал свои ноги, чтобы не коснуться до него. Он чувствовал, что лицо его раскраснелось, и, сказать надо правду, на лбу у него выступил пот. Случай был великолепный – во-первых, потому, что ставил Джонни совершенно неожиданно в самое затруднительное положение, а во-вторых, представлял ему возможность осуществить свое желание. Как он должен держать себя в ту минуту, когда смертельный враг узнает его, и что он должен сделать потом?
Нужно ли объяснять читателям, что Кросби тоже провел первые дни Рождества в семействе знакомого графа и что теперь тоже возвращался к должности. В одном отношении он был счастливее бедного Имса, потому что наслаждался улыбками своей невесты. Александрина и графиня порхали около него, обходились с ним как с мебелью, принадлежавшею благородному дому де Курси, и в этом качестве он посвящен был в домашние тайны этой знаменитой фамилии. Два лакея, нанятые для прислуживания леди Думбелло, уже исчезли. Шампанское перестало литься рекой. Леди Розина вышла из своего уединения и постоянно читала Кросби проповеди. Леди Маргарита давала ему некоторые уроки в экономии. Высокопочтенный Джон, несмотря на недавнюю ссору, успел занять у него пять гиней. Высокопочтенный Джорж обещался приехать к своей сестре на май месяц. Граф пользовался привилегией тестя и называл Кросби глупцом. Леди Александрина беспрестанно и довольно язвительным тоном приказывала ему делать то одно, то другое, а графиня объясняла ему, что его долг, в весьма естественном порядке вещей, повиноваться каждому слову Александрины. Таковы были рождественские наслаждения для Кросби, и теперь, удаляясь от этих наслаждений, он встречается, лицом к лицу, в вагоне железной дороги с Джонни Имсом.
Взгляды соседей встретились, и Кросби сделал легкое наклонение головы. Имс не ответил на это, и вместо поклона пристально начал смотреть в лицо Кросби. Кросби сразу понял, что они не должны знать друг друга, и был очень этим доволен. Между множеством затруднений, в которых находился Кросби, вражда Джона Имса не тревожила его. Он не показал ни малейшего смущения, тогда как наш молодой друг был сам не свой. Кросби открыл саквояж, вынул книгу и вскоре углубился в нее, как будто против него сидел совершенно незнакомый человек. Не могу сказать, чтобы Кросби мыслями своими не отрывался от чтения, много было предметов, о которых он находил невозможным не подумать, но ни одна его дума не относилась до Джона Имса, так что, когда поезд остановился в Подингтоне, Кросби почти забыл о нем, а выйдя из вагона с мешком в руке, считал себя совершенно свободным от дальнейшего беспокойства.
Не то было с Джонни Имсом. С каждым моментом в голове его все более и более прибывали мысли о том, что он должен делать теперь, когда случай привел его в такое близкое соприкосновение с врагом. Джонни изнемогал под бременем своих дум, а между тем, когда поезд остановился, он ничего еще положительного не решил. С той минуты, как Кросби расположился против него, лицо его покрылось потом, его члены отказывались повиноваться ему. Случай такой великолепный, а он так мало чувствовал уверенности в себе, что, казалось, не сумеет воспользоваться им надлежащим образом. Раза два или три он покушался было вцепиться в грудь Кросби в вагоне, но его удерживала от этого мысль, что его осудит и общество, и полиция, если только он сделает подобную вещь в присутствии старой леди.
Но когда Кросби повернулся к нему спиной и начал выходить из вагона, Джонни увидел, что ему решительно необходимо что-нибудь сделать. После того, что он говорил о настоятельной необходимости поколотить этого человека, ему не следовало выпускать его из рук. Всякого другого рода позор был бы сносен для Кросби. Опасаясь поэтому, что его враг ускользнет от него, он побежал за ним и в тот момент, когда Кросби обернулся лицом к вагонам, с бешенством налетел на него.
– Гнусный мерзавец! – вскрикнул Джонни. – Низкий подлец! – И с этими словами схватил его за грудь, готовый уничтожить его.
Толпа на дебаркадере была незначительная, но все же достаточное число респектабельных лиц сделались зрителями и свидетелями этой сцены. Изумленный донельзя внезапным нападением, Кросби отступил шага на два, чему, впрочем, много содействовало самое нападение. Он старался освободить свою грудь от руки Имса, но решительно не мог. Он успел, однако ж, отпарировать несколько положительных ударов, и в этом отношении обязан скорее неловкости Имса, чем своим усилиям. С большим трудом мог он выговорить «полиция», и, само собою разумеется, в ту же минуту раздался на дебаркадере призыв блюстителей порядка. Минуты через три три полисмена с шестью носильщиками овладели нашим бедным другом Джонни, но это овладение состоялось не так быстро, как желал мистер Кросби. Окружавшие, пораженные внезапностью, позволили сражавшимся упасть на книжную лавочку мистера Смита, и там Имс положил своего врага между газетами, а сам от избытка своей энергии очутился между обрушившимися на него грудами дешевых романов в желтеньких обложках, во время падения Джонни успел-таки нанести кулаком своим весьма верный удар в правый глаз Кросби, – удар, говоривший за себя, таким образом цель была достигнута: Кросби получил на первый раз приличное возмездие.
– Гнусный бездельник, мерзавец, подлец! – кричал Джонни остатками своего голоса, в то время, как полиция его отрывала. – Если бы вы только знали… что он… сделал!
Между тем полиция окончательно им завладела.
Само собой разумеется, что первое проявление сочувствия публики было на стороне Кросби. На него напали, и нападение сделано Имсом. В груди британцев столько кроется крепкой любви к благоустроенному порядку, что достаточно было одних этих фактов, чтобы привести еще двадцать человек в помощь трем полисменам и шести носильщикам, так что если бы Джонни и желал, то не представлялось никакой возможности уйти. Впрочем, он этого и не желал. В минуты ареста его сокрушала только одна печаль. Ему казалось, что нападение на Кросби сделано было напрасно. Ему представился случай, и он не умел воспользоваться им, как бы следовало. Он оставался в совершенном неведении насчет счастливого удара и того важного факта, что глаз его неприятеля уже распух и закрылся, и что еще через час он сделается черным, как его шляпа.
– Это отъяв… ленный бездель… ник! – восклицал Имс, когда полисмены оттаскивали его в сторону. – Вы не знаете, что он сделал.
– Что он сделал, мы не знаем, – сказал старший констебль, – но мы знаем, что сделали вы. Послушай, Бушерс, где же тот джентльмен? Пусть и он идет с нами.
Другой полисмен и два или три носильщика подняли Кросби с груды газет и повели его за Джонни; кондуктор поезда, знавший Кросби и знавший также, что Кросби приехал из замка Курси, счел за нужное проводить его. За ними последовало несколько любопытных, и в том числе какой-то услужливый медик, предлагавший Кросби немедленно поставить пиявки. Если бы Кросби позволили действовать по своему желанию, он бы преспокойно уехал, предоставив полное право и Джонни сделать то же самое. С ним приключилась большая беда, но он ни под каким видом не мог смягчить этой беды, предоставив законному преследованию и наказанию человека, который напал на него и нанес ему удар. Ему желательнее всего было, чтобы об этом как можно меньше говорили. Какая ему польза из того, что Джонни Имса возьмут под арест и потом полицейский судья сделает ему строгий выговор? Это ни на волос не уменьшит его бедствия. Если бы ему удалось отпарировать удар, если бы вместо полученного фонаря он сам мог поставить фонарь своему врагу, тогда в клубе своем он посмеялся бы над этим происшествием, и его низкий поступок, быть может, несколько смягчился бы успехом в битве. Но ему не было суждено такого счастья. Теперь он принужден был подумать и решить, что ему делать.
– Мы посадим его под арест вот в эту комнату, – сказал Бушерс, прикасаясь к полям своей шляпы.
Через кондуктора на дебаркадере сделалось известным, что Кросби в некотором роде большой человек, частый гость замка Курси, занимает место и пользуется известностью в высших сферах столичного общества.
– Судьи будут в Паккинтоне в непродолжительном времени, сэр, а до того он будет содержаться под арестом.
В это время на сцену явился какой-то джентльмен, облеченный большой властью, и расспросил о причинах шума и беспорядка, это был суровый чиновник, на лице которого лежала по-видимому тяжесть всей железной дороги и всех паровозов, чиновник, при появлении которого курильщики бросали сигары, а носильщики опускали руки, прекращая испрашивание незаконных подачек и прибавок, – человек большой, с видной осанкой, с скорой походкой, в хорошо выглаженной шляпе. Эхо был смотритель дебаркадера, в распоряжении которого находились полисмены.
– Потрудитесь войти в мою комнату, мистер Кросби, – сказал он. – Стобс, приведи ко мне того человека.
И прежде, чем Кросби успел составить в голове своей план относительно дальнейшего образа действий, он, сопровождаемый кондуктором, увидел себя в комнате смотрителя, вслед за ним два полисмена ввели туда же Джонни Имса.
– Что это все значит? – спросил смотритель, не снимая шляпы, он знал, как много личное его достоинство было обязано этому наряду. Обращаясь к виновному, он не замедлил нахмуриться самым суровым образом: – Мистер Кросби, мне очень жаль, что вы подверглись такому зверству на моем дебаркадере.
– Вы не знаете, что он сделал, – сказал Джонни. – Это гнуснейший бездельник. Он…
Джонни остановился. Он думал было сказать смотрителю, что этот гнуснейший бездельник сокрушил сердце молоденькой девушки, но раздумал: ему не хотелось упоминать имя Лили Дель в таком месте и при таких обстоятельствах.
– Вы знаете, мистер Кросби, что это за человек? – спросил смотритель.
– О, да, – отвечал Кросби, глаз которого начинал уже синеть. – Это клерк в управлении сбора податей, его зовут Имс. Но позвольте вас просить оставить это дело.
Смотритель, однако же, немедленно записал в свою памятную книжку «управление сбора податей – Имс».
– Нет, мы не можем допускать таких беспорядков на нашем дебаркадере. Я доведу об этом до сведения директоров. Вы сделали, мистер Имс, самый неблагоприличный поступок, самый неблагоприличный.
В это время Джонни заметил, что глаз Кросби находился в таком состоянии, которое самым удовлетворительным образом доказывало, что поездка его не прошла даром, и вследствие этого он ободрился. Джонни нисколько не заботился ни о донесении смотрителя, ни о полисменах, он видел только, что самое дело говорило в его пользу. Цель его была поколотить Кросби, и теперь, глядя в лицо своего врага, он сознавался в своей душе, что Провидение было к нему весьма милостиво.
– Это ваше мнение, – сказал Джонни.
– Так, сэр, это мое мнение, – отвечал смотритель. – И я уж знаю, как представить это дело вашим начальникам, молодой человек.
– Вы ровно ничего не знаете, – сказал Имс. – И не думаю, что вы что-нибудь узнаете. С первой минуты, как я увидел этого бездельника в вагоне, я решился отколотить его, и, как видите, отколотил. Жаль, что в вагоне сидела дама, а то бы там ему досталось еще больше.
– Мистер Кросби, мне кажется, было бы гораздо лучше представить его полицейскому судье.
Кросби не согласился на это. Он уверял смотрителя, что знает сам, как распорядиться этим делом, чего, однако же, он вовсе не знал. Не позволит ли смотритель одному из служителей железной дороги нанять кеб для него и отыскать его багаж? Кросби торопился домой, боясь еще раз сделаться предметом наглости мистера Имса.
– Могу вам сказать, что наглость мистера Имса этим еще не кончилась. Весь Лондон услышит о ней и узнает о ее причине. Если у вас есть совесть, то вам совестно будет показать свое лицо.
Несчастный человек! Кто может сказать, что наказание не постигло его? В настоящее время он должен прятаться дома с подбитым глазом, с внутренним сознанием, что его прибил клерк из управления сбора податей, а в будущем он обязан был жениться на леди Александрине де Курси!
Не имея надобности выходить больше на дебаркадер, Кросби, почти крадучись, пробрался в кеб, куда два услужливых носильщика принесли его багаж. Но во всем этом мало было целительного бальзама для его уязвленной гордости. Отдавая приказание везти его в улицу Моунт, он чувствовал, что погубил себя, сделав шаг в жизни, который вводил его в родство с семейством графа де Курси. Куда бы он ни посмотрел, нигде не видел утешения.
– Будь проклят этот мерзавец! – сказал он вслух в своем кебе, но хотя звуки этого проклятия относились к Имсу, но в душе он проклинал самого себя.
Джонни Имсу позволено было выйти на дебаркадер и там отыскать свой саквояж. Один молодой носильщик подошел к нему и почти дружески сказал:
– Ловко, очень ловко поднесли вы ему в самый последний момент. Но только, сэр, вам бы следовало распорядиться с ним с самого начала. К чему вам было вцепиться ему в грудь?
Было четверть двенадцатого, но, несмотря на то, Имс явился в должность аккуратно к двенадцати.
Глава XXXV VAE VICTIS
В тот день Кросби должен был явиться по двум приглашениям, по одному, весьма естественному, – в должность к своим занятиям, по другому, которое тоже теперь весьма часто становилось естественным, к обеду в Сент-Джонс-Вуд к леди Амелии Гезби. Взглянув в зеркало, он сразу убедился, что не представлялось никакой возможности исполнить ни того, ни другого.
– Ах боже мой, мистер Кросби, что это у вас? – спросила хозяйка дома, увидев подбитый глаз.
– Видите ли что, – отвечал Кросби, – несчастный случай, при котором я подшиб себе глаз. Скажите, чем бы лучше всего помочь этому горю!
– Ах, боже! Несчастный случай! – сказала хозяйка, знавшая очень хорошо, что в этом несчастье участвовал кулак другого человека. – Говорят, самое лучшее – это сырое мясо. Но в таком случае вы должны беспрестанно прикладывать его целое утро.
Все другое – только не пиявки, которые надолго оставляют по себе следы, и поэтому Кросби провел большую часть утра в прикладывании сырого мяса к подбитому глазу.
Между тем ему необходимо было написать две записки – одну к мистеру Буттервелу в комитет, другую – к своей будущей свояченице. Он сознавал, что безрассудно было бы скрывать свойство постигшей его катастрофы, так как некоторые из сопровождавших ее обстоятельств, по всей вероятности, сделаются известными. Если он скажет, что споткнулся об угольный ящик или каминную решетку, упал и расшиб себе лицо, то многие сочтут это за выдумку и станут доискиваться причин подобной выдумки. Поэтому он составил свои записки из фраз, не обязывавших его излагать подробности. Буттервелу он сказал, что попал в неприятную историю или, вернее, в ссору, из которой вышел с значительным повреждением в своей физиономии. Он намеревался явиться в должность на другой день, все равно, будет ли это прилично или нет, но, ради приличия, он находил необходимым оставить за собой половину присутственного времени. Леди Амелии он тоже написал, что с ним повстречалось несчастье, сопровождавшееся небольшим ушибом. «Опасного нет ничего, страдает только моя наружность, так что на этот день необходимо остаться дома. В воскресенье я буду у вас непременно. Пусть Гезби не беспокоится приезжать ко мне, тем более что завтра я целый день не буду дома».
Гезби так часто беспокоился приезжать в улицу Моунт, где квартировал Кросби, и в улицу Одли, где находился комитет, в котором служил Кросби, в улицы, расположенные в столь неприятно близком соседстве одна от другой, что Кросби нарочно поместил последние слова, чтобы избавиться от посещения. Отправив записки, Кросби отдал приказание говорить, что его нет дома ни для кого, он боялся, что Гезби заедет к нему после своих занятий и всецело увезет его в Сент-Джонс-Вуд.
Сырое мясо, компрессы из примочки и холодной воды, прикладываемые к подбитому глазу в течение всей ночи, не в состоянии были вывести этого страшного темно-синего пятна к десяти часам следующего утра.
– Опухоль опала, мистер Кросби, совсем почти опала, – говорила хозяйка дома, дотрагиваясь пальцем до пораженного места, – но синяк так скоро не проходит, уж вы извините. Нельзя ли вам остаться дома еще на денек?
– Да пройдет ли он через день, мистрис Филлипс?
Мистрис Филлипс не решалась дать утвердительного ответа.
– Перед тем как пройти, на нем еще появятся багровые полосы с желтоватым отливом, – отвечала мистрис Филлипс, казалось, что она была жена кулачного бойца: до такой степени хорошо она знала свойство синяков после подбития глаза.
– Значит, не пройдет и до завтра, – сказал Кросби, показывая веселый вид, между тем как в душе у него происходила страшная пытка.
– Пройдет дня через три, да и после того будет заживать постепенно. Пиявки… не знаю, чтобы они приносили когда-нибудь пользу.
Кросби и второй день пробыл дома, на третий он решился, во что бы то ни стало отправиться с синими и желтыми пятнами под подбитым глазом. В одной из утренних газет того дня он прочитал описание всего приключения. В ней говорилось, каким образом мистер К., который служит в генеральном комитете и который в скором времени должен привести к брачному алтарю прекрасную дочь графа де К., сделался предметом наглого нападения на дебаркадере железной дороги, а вследствие этого должен оставаться безвыходно в своей квартире. Дальше говорилось, что виновный, как полагают, осмелился иметь виды на ту же самую леди и за эту дерзость получил в ответ презрение со стороны каждого члена упомянутого благородного семейства. «Утешительно, однако же, знать, – говорила газета, – что мистер К. вполне отмстил за себя, и так отпорол молодого человека, что тот не в состоянии встать с постели».
Прочитав это, Кросби увидел, что ему необходимо показаться немедленно и объяснить истину настолько, насколько общество узнало бы ее без его объяснения. Поэтому на третий день Кросби надел шляпу и перчатки и отправился в должность, хотя для подбитого глаза и не наступил период багровых полос с желтоватым отливом. Переход по коридору через курьерскую в его кабинет было делом весьма неприятным. Само собой разумеется, что все смотрели на него, как, разумеется, и то, что ему не удалась попытка показать вид, что он на это не обращает внимания.
– Боггс, – сказал Кросби одному из курьеров, – посмотри, не здесь ли мистер Буттервел!
Через несколько минут, как и ожидал Кросби, мистер Буттервел вошел в его кабинет.
– Клянусь честью, это вещь серьезная, – сказал мистер Буттервел, взглянув на подбитый глаз своего сослуживца. – На вашем месте я бы не вышел.
– Конечно неприятно, – сказал Кросби. – Но нельзя же все сидеть дома. Вы знаете, что если человек день-другой не покажется, где нужно, про него сейчас же распустят страшные истории.
– Но ради бога скажите, как это случилось? В газетах пишут, что вы до полусмерти прибили человека, который сыграл над вами такую шутку.
– Газеты по обыкновению лгут. Я до него не дотронулся.
– Неужели? Ну уж извините, после такого удара по лицу я переломал бы ему все ребра.
– Явились полисмены, и дело кончилось. Не позволят же заводить шум и драку на дебаркадере, ведь это не в Салисберийском поле. Да и притом, кто может сказать заранее, что он может или не может отделать своего противника?
– Разумеется, это только и можно сказать после того, как сам поколотишь или тебя поколотят. Но что это за человек и что такое говорится в газетах насчет презрения к нему со стороны благородной фамилии?
– Все это ложь, и больше ничего. Он ни души не видел из фамилии де Курси.
– Значит, правда-то там, где дело касается другой девушки, не так ли, Кросби? Я ведь знал, что при настоящей помолвке вы находились в каком-то затруднительном положении.
– Не знаю, из-за чего и почему он разыграл из себя такого зверя. Вы, верно, что-нибудь слышали о моих оллингтонских знакомых?
– О, да, слышал.
– Как перед Богом, у меня на уме не было ничего дурного против них.
– Молодой человек тоже был знаком с ними? О, теперь я все понимаю! Он просто хочет занять ваше место. Как видно, он недурно принялся за дело. Что же вы намерены с ним делать?
– Ничего.
– Ничего! Очень странно! Я бы представил его судьям.
– Дело в том, Буттервел, я обязан пощадить имя той девушки. Я знаю, что поступил весьма дурно.
– Да, да, мне кажется, что очень дурно.
Мистер Буттервел произнес эти слова весьма решительным тоном, как будто он не намерен был допустить ни малейшего извинения в этом поступке и во всяком случае скрывать свое мнение. Кросби осуждал себя в деле своей женитьбы и с тем вместе заботился, чтобы другие, услышав от него самого подобное обвинение, сказали бы что-нибудь в его оправдание. Ведь приятелю нетрудно сказать, что подобные интрижки весьма обыкновенны и что в жизни нередко случается поступать неосмотрительно, даже опрометчиво. Он надеялся на такую благосклонность со стороны Фаулера Прата, но надеялся тщетно. Буттервел был добрый, снисходительный человек, старался всякому угодить и никогда не принимал на себя обязанности читать морали, а все-таки и Буттервел ни слова не сказал в утешение Кросби. Кросби не имел на своей стороне ни одного человека, который бы смотрел сквозь пальцы на его проступок, считал бы это не проступком, но безрассудным увлечением, не имел никого, кроме членов семейства де Курси, которые совершенно овладели им и, как говорится, ели его живого.
– Теперь дела этого не поправить, – сказал Кросби. – Что касается до человека, который сделал на меня такое зверское нападение, он знает, что за ее юбками его никто не тронет. Я решительно ничего не могу сделать без того, чтобы не упоминать ее имени.
– Да, я понимаю, – сказал Буттервел. – Неприятно, весьма неприятно. Не знаю, могу ли я что-нибудь сделать для вас. Будете вы сегодня в совете?
– Непременно, – отвечал Кросби, становясь более и более опечаленным.
Острый его слух говорил ему, что он потерял к себе всякое уважение Буттервела, по крайней мере на некоторое время. Буттервел хотя и занимал высшую должность, но по привычке всегда обходился с Кросби как с человеком, которого должно уважать. Кросби пользовался и умел пользоваться, как в комитете, так и в обществе, почетом, гораздо выше того, на которое он по своему положению имел законное право. Теперь он был низведен с своего пьедестала. Никто лучше Буттервела не видел этого. Он шел по одному направлению с обществом, замечая почти инстинктивно, какое направление намеревалось взять общество. «Такт, такт и такт», – говорил он про себя, прогуливаясь по тропинкам путнейской виллы. Кросби теперь секретарь, тогда как несколько месяцев тому назад был обыкновенным клерком, несмотря на то инстинкт мистера Буттервела говорил ему, что Кросби пал. Поэтому у него не было ни малейшего расположения выразить сочувствие к человеку, которого постигло несчастье, оставляя секретарский кабинет, он знал заранее, что много пройдет времени до той поры, когда он снова заглянет в него.
Под влиянием досады Кросби решился действовать с этой минуты, заглушив в себе всякую совесть. Он решился показаться в совет с таким равнодушием к своему подбитому глазу, каким только мог располагать, и, если ему скажут что-нибудь, он приготовился ответить. Он решился идти в клуб и разразить свой гнев над тем, кто обнаружит к нему хотя малейшее пренебрежение. Он не мог выместить свою досаду на Джонни Имсе и хотел выместить ее на других. Не для того он приобрел видное положение в обществе и сохранял его в течение нескольких лет, чтобы позволить уничтожить себя потому только, что сделал ошибку. Если общество, к которому он принадлежал, намерено объявить ему войну, он готов был вступить в бой немедленно. Что касается до Буттервела – Буттервела неспособного, Буттервела несносного, Буттервела, который при всяком затруднении в течении многих лет прибегал к нему за советом, – он даст ему понять, каково быть таким вероломным в отношении к тому, кого он считал своим другом. Он решился показать всем членам совета, что пренебрегает ими и держит их в своих руках. Предназначая себе таким образом план будущего образа своих действий, он ввел в него пункта два относительно членов благородного семейства де Курси. Он решился показать им, что вовсе не намерен быть их покорнейшим слугою. Он решился высказаться перед ними откровенно, и если после этой откровенности они захотят разорвать «брачный союз», то могут это сделать, горевать он не станет. В то время как он, облокотясь на ручку кресла, размышлял об этом, в голове его блеснула мысль, – мысль, создавшая ему воздушный замок, мечту, осуществление которой казалось ему возможным, в этом замке он видел себя стоящим на коленях перед Лили Дель, выпрашивающим у нее прощение и умоляющим снова принять его в ее сердце.
– Мистер Кросби явился сегодня, – сказал мистер Буттервел мистеру Оптимисту.
– Явился? – спросил мистер Оптимист весьма серьезно, ему уже известен был весь скандал на дебаркадере железной дороги.
– Страшным образом обезобразили его.
– Очень неприятно слышать. Это так… так… так. Если бы это был кто-нибудь из клерков, мы бы должны были сказать ему, что он срамит наш комитет.
– Чем же виноват человек, если ему поставят фонарь? Ведь не сам же он подбил себе глаз, – сказал майор Фиаско.
– Я знаю, что он не сам себе подбил глаз, – продолжал мистер Оптимист, – но, мне кажется, в его положении он должен бы держаться как можно дальше от всякого скандала.
– Он бы от души это сделал, если бы представлялась возможность, – сказал майор. – Я думаю, ему точно так же не хотелось бы ходить с подбитым глазам, как и мне, как и всякому другому.
– Не знаю, мне никто не подшибет глаза, – сказал мистер Оптимист.
– Скажите лучше, никто еще не подшибал, – заметил майор.
– И надеюсь, никогда не подшибут, – сказал мистер Буттервел.
В это время наступил час общего собрания, и в зал совета вошел мистер Кросби.
– Мы очень сожалели, услышав о вашем несчастье, – сказал Оптимист весьма серьезно.
– Я думаю, вдвое меньше, чем я сожалел, – сказал Кросби со смехом. – Чрезвычайная гадость иметь подбитый глаз, другой может принять меня за кулачного бойца.
– Притом еще за кулачного бойца, который не выиграл боя, – сказал Фиаско.
– Не знаю, чтобы тут была большая разница, – возразил Кросби. – Вообще подобная вещь неприятна, и, пожалуйста, не будемте говорить об этом.
Мистер Оптимист был однако же того мнения, что он должен был, по обязанности своей, поговорить об этом. Как бы то ни было, он был председательствующий в Совете, а мистер Кросби ни больше ни меньше как его секретарь. Смотря на их относительные положения, разве ему не следовало сделать замечания за такую неблагопристойность? Неужели Рэфль Бофль не сказал бы ни слова, если бы мистер Буттервел, будучи секретарем, явился в должность с подбитым глазом? Он желал выказать права председателя во всей их полноте, но, несмотря на то, он чувствовал большое замешательство и не имел никакой возможности приискать приличные выражения.
– Гм, да, хорошо, приступимте же к делу, – сказал он, удерживая, однако же, за собою право возвратиться к подбитому глазу секретаря немедленно после окончания обыкновенных занятий Совета.
Но когда обыкновенные занятия Совета кончились, секретарь удалился из зала собрания, не дав председателю ни минуты времени собраться с мыслями и начать разговор о подбитом глазе.
Возвратясь в свой кабинет, Кросби застал там Мортимера Гезби.
– Любезный мой, – сказал Гезби, – да ведь это прескверная вещь.
– Чрезвычайно скверная, – отвечал Кросби. – Такая скверная, что я ни с кем не хочу говорить о ней.
– Леди Амелия страшно беспокоится.
Гезби жену свою всегда называл леди Амелией, даже в то время, когда говорил о ней с ее братьями и сестрами. Ни под каким видом он не позволял себе называть дочь графа христианским ее именем, хотя эта дочь была его законная жена.
– Она думает, что вы больны.
– Нет, не болен, но, как видите, обезображен.
– Но за то вы его порядочно побили?
– И не думал, – с досадой сказал Кросби. – Я пальцем его не тронул. Пожалуйста, не верьте вы всему, что читаете в газетах.
– Разумеется. Да, например, можно ли поверить, что говорится в них насчет его видов на леди Александрину? Это чистейшая ложь.
– Не верьте ничему, кроме разве того, что мне подбили глаз.
– Ну, это видимое дело. Леди Амелия полагает, что вам будет гораздо спокойнее, если вы сегодня приедете к нам. Конечно, вам не следовало бы выезжать, но леди Амелия так снисходительна, что с ней вам нечего стесняться.
– Благодарю покорно, я приеду в воскресенье.
– Но вы знаете, что леди Александрина с беспокойством будет ждать письма от своей сестры, притом же леди Амелия убедительнейше просит вас приехать.
– Благодарю-благодарю, приеду, только не сегодня.
– Почему же?
– Просто потому, что дома мне будет лучше!
– Уж может ли быть лучше дома? У нас найдется все, что нужно. А вы знаете, леди Амелия невзыскательна.
Сырое мясо, компрессы из холодной воды и какая-нибудь примочка – вот все, что невзыскательная леди Амелия могла ему предоставить.
– Нет, сегодня я не хочу ее беспокоить, – сказал Кросби.
– Клянусь честью, вы дурно поступаете. До замка Курси и, следовательно, до слуха графини дойдут всякого рода истории, и вы не знаете, какой вред может произойти от этого. Леди Амелия полагает, что лучше всего написать туда и объяснить, но она не может этого сделать, пока не услышит чего-нибудь от вас самих.
– Послушайте, Гезби, мне решительно все равно, какие бы истории ни дошли до замка Курси.
– Но если что-нибудь услышит граф и оскорбится?
– И пусть как знает, так и отделывается от этого оскорбления.
– Любезный друг, ведь говорить подобные вещи – чистейшее сумасбродство.
– Да что же, по вашему мнению, может сделать мне граф? Неужели вы думаете, что я вечно должен бояться графа де Курси потому только, что женюсь на его дочери? Сегодня я сам напишу леди Александрине, вы можете сказать это ее сестре. Если глаз мой пройдет, то в воскресенье я буду к обеду.
– Значит, вы не будете и в церкви?
– Неужели вы еще хотите, чтобы я с таким лицом явился в церковь?
Мистер Мортимер утих и, возвратясь домой, объявил жене своей, что Кросби совсем выходит из повиновения.
– Дело в том, душа моя, он стыдится самого себя и потому берет на себя подобную смелость.
– Глупо было с его стороны встречаться с этим молодым человеком, весьма глупо, в воскресенье я ему выскажу это. Если он намерен важничать передо мной, то я ему дам понять, что он очень ошибается. Он должен помнить, что его поведение должно иметь весьма важное значение для всей нашей фамилии.
– Само собою разумеется, – сказал мистер Гезби.
С наступлением воскресенья наступил и период багровых полос с желтыми оттенками: следы меткого удара далеко еще не исчезли. Сослуживцы Кросби привыкли уже к ненормальному состоянию его физиономии, но сам Кросби, несмотря на свою решимость отправиться в клуб, нигде еще не показывался. В церковь, конечно, он не пошел, но в пять часов явился в дом мистера Гезби. По воскресеньям Гезби и леди Амелия обедали в пять часов, держась идеи, что, поступая таким образом, соблюдали праздник гораздо лучше, нежели обедая в семь часов. Если соблюдение праздника состоит в том, чтобы раньше лечь спать, то, конечно, они были правы. Для поварихи этот ранний обед имел свои удобства в том отношении, что извинял ее в непосещении церкви во время вечерней службы, а приготовление детского и людского обеда извиняло ее в непосещении церкви во время обедни. Такое стремление к благочестию, происходящее от неприятного к нему пути, весьма обыкновенно у людей, подобных леди Амелии. Если бы она обедала в час и кушала холодные блюда, другой точно так же думал бы, что она достойна некоторой похвалы.
– Боже мой! Ведь это весьма неприятно, Адольф, не правда ли? – Это были первые слова леди Амелии, которыми она встретила Кросби.
– Да, Амелия, весьма неприятно, – отвечал Кросби. Он всегда называл ее Амелией, потому собственно, что она называла его Адольфом, – самому Гезби крайне не нравилась подобная фамильярность. Леди Амелия была старше Кросби и потому предоставляла себе право называть его как вздумается, тогда как он должен был бы помнить огромную разницу в их звании. – Весьма неприятно, Амелия, – сказал Кросби. – Прошу вас, сделайте для меня одно одолжение!
– Какое, Адольф?
– Не говорить об этом ни слова. Подбитый глаз, без всякого сомнения, вещь скверная, я много на это досадовал, сочувствие же друзей моих только увеличивает досаду. В пятницу Гезби уже выразил сожаление всего семейства, и если это повторится, то мне остается умереть.
– Дядя Дольф, неужели ты умрешь от подбитого глаза? – спросил маленький де Курси Гезби – старшая надежда графской фамилии.
– Нет, мой герой, – отвечал Кросби, взяв мальчика на руки, – от этого не умирают. Большой беды от подбитого глаза не бывает, тебе не раз придется испытать это самому, прежде чем оставишь школу. Неприятно только то, что люди любят много говорить об этом.
– Тетя Дина не будет любить тебя за такой страшный глаз.
– Прекрасно, Адольф, – сказала леди Амелия, – я не скажу ни слова, сожалею, что участие мое сделалось причиной досады для вас в настоящую минуту, но все же, согласитесь сами, другому очень трудно, почти невозможно не сказать ни слова о подобном предмете. Я получила письмо от мама.
– Надеюсь леди де Курси в добром здоровье.
– Совершенно здорова, благодарю вас, но, само собою разумеется, она очень встревожена этим происшествием. Она прочитала, что было написано в газетах, и для Мортимера, как стряпчего нашей фамилии, может статься, необходимо иметь более подробные сведения.
– Ни к чему они не поведут, – сказал Адольф.
– Я сам такого мнения, что это совершенно лишнее, – сказал Гезби.
– Быть может, весьма быть может. Но согласитесь, Мортимер, что мама при подобных обстоятельствах пожелает узнать все факты этого случая.
– С этим я согласен, – сказал Гезби.
– В таком случае вот вам эти факты. Когда я вышел из вагона, какой-то человек, которого я где-то видел, напал на меня и, прежде чем подоспела полиция, подбил мне глаз. Довольно вам этого?
В эту минуту объявили, что обед на столе.
– Не угодно ли вам взять леди Амелию, – сказал Гезби.
– Печальное событие, очень печальное, – сказала леди Амелия, покачав головой. – Я боюсь, что оно будет для моей сестры большим огорчением.
– Вы, верно, одного мнения с маленьким де Курси, что тетя Дина не будет любить меня за такой страшный глаз?
– Право, я ничего тут не вижу смешного, – сказала леди Амелия.
Этим кончился разговор о подбитом глазе, в течение обеда о нем не было и помину.
Не было об этом разговора в течение обеда, но по выражению лица Амелии нельзя было не заключить, что ей крайне не нравилось поведение будущего ее зятя. Она была очень радушна, упрашивала Кросби кушать, но при этом все-таки не могла обойтись без намеков на свое неприятное положение. Она говорила, что зажаренный плюмпуддинг понравится ему, но не рекомендовала пить портвейн после обеда.
– Мортимер, ты бы лучше велел подать лафиту, – заметила она. – Адольфу нельзя пить вина, которое горячит.
– Благодарю вас, – сказал Кросби. – Я лучше выпью грогу, если Гезби даст его мне.
– Грогу! – повторила леди Амелия с видом крайнего изумления.
Кросби, по правде сказать, никогда не пил грог, но он решился бы попросить чистого джину, если бы леди Амелия продлила свою заботливость.
После этих воскресных обедов хозяйка дома никогда не уходила в гостиную, ей подавали чайный прибор на тот же самый стол, на котором обедали. Это была тоже в своем роде необходимая мера к соблюдению благочестия и к освящению первого дня недели. Когда гостила Розина и когда со стола убирались бутылки, перед ней, по обыкновению, являлось несколько книг религиозного содержания. Во время своего первого и довольно продолжительного посещения она выпросила себе привилегию читать после обеда проповеди, но как при этих случаях леди Амелия и мистер Гезби отправлялись спать и как единственный в доме лакей тоже обнаружил однажды расположение ко сну, то чтение проповедей было оставлено. Впоследствии хозяин дома во время посещений своей невестки должен быть проводить эти вечера в ее присутствии и, за неимением другого развлечения, искать его в одном из душеспасительных сочинений. На этот раз леди Розина находилась в деревне, и потому стол оставался пустым.
– Что же я напишу моей маме? – спросила леди Амелия, когда со стола убрали наконец и чайный прибор.
– Засвидетельствуйте ей от меня глубочайшее почтение, – сказал Кросби.
Очевидно было как для мужа, так и для жены, что Кросби приготовился к восстанию против высших властей. Наступило молчание, продолжавшееся минут десять. Для развлечения Кросби начал играть с маленьким де Курси, прозвав его Дикси.
– Мама, он называет меня Дикси. Разве я Дикси? А вы так Кросс, за это тетя Дина не будет вас любить.
– Адольф, пожалуйста, не давайте мальчику ваших прозваний, мне это очень не нравится. Мне кажется, что этим самым вы хотите набросить темное пятно на настоящую фамилию.
– Ну, я не думаю, что Кросби делает это с таким умыслом, – сказал мистер Гезби.
– Я назвал его Дикси без всякого умысла.
– Во всяком случае, это мне не нравится. Поверьте, Адольф, что я несколько дорожу своей фамилией, как дорожит этим и мой муж.
– Даже очень дорожу, – сказал мистер Гезби.
– Не меньше вашего и я дорожу своей фамилией, – возразил Кросби. – Это весьма естественно для каждого. Один из моих предков пришел сюда с Вильгельмом Завоевателем. Сколько я знаю, так он был поваренком в палатке короля.
– Поваренком! – сказал молодой де Курси.
– Да, мой милый, поваренком. Ведь этим-то путем множество из наших старинных фамилий и сделались известными. Предки этих фамилий были или поварами, или дворецкими при королях, или, пожалуй, еще чем-нибудь хуже.
– Неужели же вы свою фамилию считаете неблагородною?
– Нет. Я вам скажу, как это было. Король пожелал, чтобы предок мой отравил с полдюжины придворных, которые хотели распоряжаться по своему, но предок мой сказал: «Нет, господин король, я повар, а не палач». За это его сменили и заставили мыть посуду, и в то время как всех других слуг называли баронами и лордами, его называли просто Куки, поваренком. Впоследствии прозвание это постепенно изменялось и наконец остановилось на настоящей моей фамилии – Кросби.
Мистер Гезби сидел, как пораженный громом, лицо леди Амелии приняло мрачное выражение. Не очевидно ли было, что уж, которого де Курси хотели отогреть на груди своей, становился ядовитой змеей и готовился ужалить всех членов этой благородной фамилии? Разговор не вязался в тот вечер, и Кросби вскоре после истории о поваренке отправился домой.
Глава XXXVI ТОРЖЕСТВУЮЩИЙ ГЕРОЙ
Джон Имс прибыл в свое управление ровно в полдень и, подойдя к своей конторке, не знал, на чем он стоит – на ногах или на голове. Все утро было для него продолжительным, глубоким возбуждением и вместе с тем до некоторой степени торжеством. Он вовсе не знал, какие могли быть результаты сцены на дебаркадере. Возьмут ли его в суд и там посадят под арест? Что заговорят об этом в управлении? Вызовет ли его Кросби на дуэль, и если вызовет, то в состоянии ли он будет выйти победителем, стреляясь из пистолетов? Что скажет лорд Дегест, лорд Дегест, который особенно предостерегал его не принимать на себя обязанности мстителя за оскорбление Лили? Что скажет о его поступке вся фамилия Делей? А главнее всего, что скажет и подумает сама Лили? Несмотря на то, чувство торжества было преобладающим, и теперь, в этот промежуток времени, он начинал с удовольствием припоминать испытанное им ощущение, когда кулак его заехал в глаз Кросби.
В первый день присутствия в управлении ничего не было слышно об этом происшествии, а сам он никому не рассказывал. В его отделении было известно, что он ездил провести первые дни Рождества с лордом Дегестом, и вследствие этого ему оказывали особенное внимание. Кроме того, отдавая Джонни Имсу полную справедливость, я должен сказать, что он постепенно приобретал уважение от своих начальников. Он знал свое дело и исполнял его с уверенностью в своих силах и способностях, а также с совершенным равнодушием к недовольным взглядам, которые от времени до времени бросали на него начальствующие лица. Сделавшись самостоятельным в своем официальном поведении и сохраняя права свои, он пользовался между сослуживцами популярностью. Словом, Джонни Имс вышел из поры юношества и вступил в права мужчины, наделав, конечно, в минувший период своего существования множество глупостей, которые, однако же, нисколько не мешали умевшим понимать его характер составить убеждение, что из него выйдет хороший человек.
В первый день присутствия много было расспросов о его веселье в праздники, но по этому предмету он не имел сказать многого. Действительно, праздники были бы для него более чем обыкновенны, если бы не имелось в виду весьма важной цели, принудившей его отправиться в провинцию, и если бы не обстоятельство, которым кончилась его поездка. Ни об одном из этих предметов Джонни не имел расположения говорить откровенно. Возвращаясь, однако же, с Кредлем в Буртон-Кресцент, он рассказал ему о встрече своей с Кросби.
– И ты прибил его на станции железной дороги? – спросил Кредль с видом удовольствия и недоверия.
– Прибил. Если бы этого я не сделал на станции, то не знаю, где бы привелось мне сделать. Я сказал, что прибью его, и прибил при первой встрече.
После этого во всей подробности было рассказано о встрече, о подбитом глазе, о полиции и смотрителе дебаркадера.
– Не знаю, что из этого выйдет? – спросил наш герой.
– Передаст это дело в руки какого-нибудь приятеля, без всякого сомнения, как сделал это я, передав свое дело с Люпексом Фишеру. И клянусь тебе честью, Джонни, с ним у меня скоро опять будет история. Вчера он опять неистовствовал, поверишь ли…
– Он просто дурак.
– Но я бы тебе не советовал встречаться с этим дураком, когда он находится в припадке бешенства. Вчера весь вечер я положительно должен был просидеть в своей комнате. Матушка Ропер говорила, что если бы я остался в гостиной, то необходимость заставила бы ее послать за полисменом. Что же мог я сделать? Я приказал затопить камин в моей комнате…
– И потом лег спать?
– Нет, я долго сидел, думая, что Мэри понадобится увидеть меня. Наконец она принесла мне записку. Ведь ты знаешь, Мэри так неосторожна. Если бы он нашел лоскуток бумаги, исписанный ее рукой, последствия были бы ужасны, клянусь честью, ужасны. А кто может поручиться, что Джемима не расскажет ему?
– Что же Мэри писала тебе?
– Все пустяки, мастер Джонни. Боясь дурных последствий, я озаботился отнести записку в управление.
Находясь под влиянием ощущений от своих собственных приключений, Джонни Имс не обращал особенного внимания на приключения своего приятеля.
– По мне все равно, – сказал Джонни. – Передаст ли Кросби дело свое какому-нибудь приятелю или сам отправится к полицейскому судье.
– Поверь, что передаст приятелю, – сказал Кредль, с видом человека вполне опытного в делах подобного рода, – и я полагаю, что посредником своим ты выберешь меня. Вести дело судебным порядком – неприятнейшая вещь, но я не такой человек, чтобы отступиться от друга. Я буду защищать тебя всеми силами.
– Благодарю тебя, – сказал Имс. – Не думаю только, что мне придется иметь надобность в твоих услугах.
– Во всяком случае, тебе надобно иметь наготове доброго человека.
– Я напишу к одному приятелю в провинцию и попрошу его совета, этот приятель постарше и поопытнее нас обоих.
– Клянусь Юпитером, дружище, подумай прежде. Не дай твоим врагам распустить молву, что ты трус. Клянусь честью, пусть обо мне говорят, что хотят, только не это.
– Я и этого не боюсь, – сказал Имс с некоторой досадой в голосе, – в настоящее время мало обращают внимания на трусость, особливо когда дело коснется дуэли.
После этого Кредль снова перевел разговор на мистрис Люпекс и на свое собственное исключительное положение, а так как Имс не думал просить у приятеля дальнейших советов по своим делам, то и слушал он его молча всю дорогу до Буртон-Кресцента.
– Надеюсь, вы нашли благородного графа в добром здоровье, – сказала мистрис Ропер, как скоро жильцы ее сели за стол.
– Я нашел благородного графа в отличном здоровье, благодарю вас, – отвечал Джонни.
Надо заметить, что все жильцы мистрис Ропер и сама она ясно понимали, что положение Имса совершенно изменилось с тех пор, как он удостоился дружбы лорда Дегеста. Мистрис Люпекс, всегда садившаяся за обедом подле Джонни, с целью защитить себя, как она выражалась, от опасного соседа Кредля, обращалась с ним особенно любезно. Мисс Спрюс не иначе называла его, как «сэр». Мистрис Ропер первому ему подавала кушанье и обращала внимание на его блюда, Амелия менее прежнего рассчитывала на обладание его сердцем и любовью. Конечно, не должно полагать, что Амелия решилась оставить это дело без боя и позволить неприятелю спокойно удалиться с места битвы со всеми своими силами, она не видела необходимости оказывать ему уважение, это было бы несовместно с совершенным равенством, которое должно сопровождать всякий сердечный союз.
– Что ни говорите, а я считаю за большую привилегию находиться на дружеской ноге с такими людьми, как граф Дегест, – сказала мистрис Люпекс. – Когда я была в девушках, я была в весьма интимных отношениях…
– Вы теперь не в девушках, и потому лучше бы вам не говорить об этом, – сказал Люпекс.
Мистер Люпекс, спустившись с подмостков, на которых расписывал декорации, заходил в этот день в небольшую лавочку по соседству с Дрюрилэнским театром.
– Друг мой, вам бы не следовало показывать себя зверем перед обществом мистрис Ропер. Если, увлеченная чувствами, которых в настоящее время невозможно описать, я оставила прекрасный круг своего знакомства и вышла за вас замуж, вам не нужно бы напоминать мне перед целым светом, что я должна сожалеть о многом, весьма многом.
И мистрис Люпекс, положив ножик и вилку, поднесла к глазам носовой платок.
– Это одно из удовольствий, которое доставляется мужу во время обеда, не правда ли? – спросил Люпекс, обращаясь к мисс Спрюс. – Такого рода удовольствий у меня множество, и вы не можете представить себе, до какой степени они восхищают меня.
– Кого Бог соединил, тех человек не разлучит, – сказала мисс Спрюс, – что касается до меня, то вы знаете, что я старуха.
Эти слова набросили тень на обеденный стол, и уже больше ничего не было сказано насчет блестящей карьеры Джонни Имса. В течение вечера Амелия услышала о происшествии на станции железной дороги и сразу увидела, что может применить его к своим собственным целям.
– Джон, – прошептала она своей жертве, выбрав случай, когда в гостиной не было никого из посторонних. – Правду ли я слышала, что вы хотите выйти на дуэль? Я требую от вас, чтобы вы сказали мне истину.
– Вздор, – сказал Джонни.
– Нет, не вздор. Вы не знаете, не можете понять моих чувств при одной мысли о подобном предположении. Ах, Джон! у вас жестокое сердце.
– У меня совсем не жестокое сердце, и я не намерен выходить на дуэль.
– Но правда ли, что вы побили мистера Кросби на станции железной дороги?
– Это правда, я прибил его.
– О, Джон, не хочу сказать, что вы поступили дурно, напротив, я уважаю вас за этот поступок. Ничего не может быть ужаснее, как обмануть молоденькую девушку и бросить ее, завладев ее сердцем, особливо когда он дал ей обещание просто на словах или, может статься, даже и письменно. – Джонни вспомнил при этом о той страшной, глупой, несчастной записке, которую он написал. – И если бедная девушка не может иметь права взыскивать за нарушение данного ей обещания, то что же она будет делать?
– Девушка, которая захотела бы требовать взыскания, не заслуживает этого права.
– Ну, я этого не знаю. Знаю только, что когда девушка будет находиться в таком положении, то за нее вступятся ее родственники или друзья. Полагаю поэтому, что и мисс Лили Дель не захочет искать судебным порядком за нарушение данного ей обещания.
Употребление имени Лили Дель в таком месте отзывалось в ушах бедного Имса святотатством.
– Ничего не могу сказать о намерениях девушки, о которой вы говорите, – отвечал Джонни. – Но, зная друзей ее, я не думаю, чтобы от подобного процесса пострадала ее честь.
– Конечно, все это хорошо относительно мисс Лили Дель… – начала Амелия и потом остановилась. Она подумала, что неблагоразумно было бы так круто прибегать к угрозам, по крайней мере, она считала неблагоразумным, пока есть еще возможность одержать победу без угроз. – Ведь она-то и была ваша Лили Дель. Не подумайте, что я ревную ее. Для вас она была ни более ни менее как подруга вашего детства. Не правда ли, Джонни?
Джонни топнул ногой и соскочил с места:
– Вы знаете, что я терпеть не могу пустой болтовни о подругах детства. Вы заставите меня дать клятву, что я больше никогда не загляну в эту комнату.
– Джонни!
– Да, да. Мне это страшно опротивело. А что касается до этой мистрис Люпекс…
– Если только в этом заключается все, чему вы научились в гостях у какого-то лорда, то, мне кажется, лучше бы вам оставаться дома с вашими близкими друзьями.
– Разумеется, лучше оставаться дома с друзьями, такими, например, как мистрис Люпекс, которой я не могу терпеть.
Сказав это, Джонни почти выбежал из дому, обошел вокруг Буртонского сквера, вышел на Новую дорогу к Реджент-парку и во все время прогулки думал о Лили Дель и о своей трусости перед Амелией Ропер.
На другой день, в час по полудни, Джонни получил через курьера приглашение пожаловать в зал Совета.
– Вас желает видеть сэр Рэфль Бофль.
– Желает меня видеть! Зачем? – спросил Джонни, обращаясь к курьеру с видом крайнего изумления.
– Не могу знать, мистер Имс. Сэр Рэфль Бофль только и сказал, что желают вас видеть.
Подобное приглашение в официальной жизни всегда поражает сердце молодого человека особенным страхом, хотя молодые люди возвращаются после таких свиданий живы и невредимы и обыкновенно с сарказмом отзываются о старых джентльменах, с которыми виделись. Индейский петух считается господином на птичьем дворе и своим величием наводит страх на мелкую птицу. Судья на скамье, председатель в огромной комнате за отдаленным концом длинного стола, или полисмен с круглым фонарем на поясе, все они внушают страх с помощью аксессуаров, сообщающих им известную долю величия. Но каким ничтожным становится полисмен в своем доме, и как мало думают о сэре Рэфле Бофле, когда он дремлет после обеда в своих старых туфлях! Я хорошо припоминаю овладевший мною ужас, при виде разгневанного прекрасного старого джентльмена, давно уже отошедшего к праотцам, когда он, медленно потирая одну руку о другую, глядел в потолок и слегка покачивал головой, как будто теряясь в соображениях о моих проступках! У меня вдруг разболелся желудок, я не чувствовал ног под собой, они дрожали, как будто их кто-нибудь подшиб. Этот поднятый кверху взор до такой степени обезоружил меня, что я решительно онемел, не мог произнести слова в свое оправдание. Мне кажется, что старый джентльмен едва ли сознавал всю обширность своего могущества.
Однажды беспечный юноша, которому поручено было отправить пачку писем, адресованных на имя короля, прошений и тому подобных бумаг, которые, следуя официальным путем, остановились бы в руках дежурного лорда-секретаря, отправил эти бумаги не туда, куда следовало, – в Виндзор, быть может, тогда как двор находился в Лондоне, или в Сент-Джемский дворец, когда королевская фамилия была в Виндзоре. Его потребовали в зал совета, великий муж, заседавший в главе членов совета, встал с своего кресла, воздел руки к небу и два раза воскликнул: «Не туда отправлена сумка! не туда отправлена сумка!» Молодой человек не знал, как выбраться из зала совета, он лишился всякой возможности заниматься делом и не ранее мог приступить к своим занятиям, как после шестимесячного отпуска, в течение которого укреплял свои силы ромом с ослиным молоком. В этом случае особенное повторение слова имело такое могущество, на какое официальный магнат никогда не рассчитывал. Анекдот существует, по преданию, но мне кажется, что обстоятельство это случилось в царствование Георга Третьего.
Джон Имс довольно свободно подсмеивался над настоящим председателем в совете управления сбора податей и называл его старым Хофлем-Скофлем и другими сатирическими именами, но теперь, когда его приглашали в совет, он, наперекор сатирическим своим наклонностям, почувствовал небольшую слабость в суставах своих ног. Он знал, что его требуют для объяснений по делу на станции железной дороги. Ему сейчас же представилось, что существуют правила, по которым всякий клерк, употребивший в дело свои кулаки в публичном месте, должен быть исключен из службы. Правил исключения из службы было много, как много было и проступков, которые влекли за собой подобное наказание. Джонни хотел сообразить одно из таких постановлений, но время не ждало, и потому он встал, посмотрел на своих сослуживцев и отправился за курьером в зал собрания.
– Зачем это старый Скофль потребовал к себе Джонни, – сказал один клерк.
– Вероятно, по поводу его схватки с Кросби, – отвечал другой. – Совет ничего не может сделать ему за это.
– Не может? – возразил первый. – А молодой Аутонэйтс из-за чего должен был выйти в отставку, как не из-за драки в погребке, несмотря на то, что его кузен, сэр Констант Аутонэйтс, сделал для него все, что только можно было сделать.
– Это был самый безалаберный человек.
– Но все же мне бы не хотелось быть в башмаках Джонни Имса. Кросби – секретарь генерального комитета, где Скофль, до поступления в наше управление, был председателем, нет никакого сомнения, что они друг с другом в хороших отношениях. Не будет удивительно, если Имса заставят просить извинения.
– Джонни этого не сделает.
Между тем Джонни Имс стоял перед могущественной особой Рэфля Бофля, который заседал в большом дубовом кресле у конца длинного стола в весьма обширной комнате, поодаль от него сидел один из секретарских помощников. За столом сидел еще один член совета, он читал и подписывал бумаги, не обращая ни малейшего внимания на происходившее вокруг него. Помощник секретаря заметил, что сэр Рэфль был недоволен таким отсутствием внимания со стороны своего сослуживца, Имс ничего этого не видел.
– Мистер Имс? – спросил сэр Рэфль, стараясь придать своему голосу особенную суровость и глядя на виновного сквозь очки в золотой оправе, которые для этого случая он нарочно надел на свой огромный нос. – Это мистер Имс?
– Да, – отвечал помощник секретаря. – Это Имс.
– Гм! – И затем последовала пауза. – Подойдите поближе, мистер Имс.
Джонни приблизился, сделав несколько неслышимых шагов по турецкому ковру.
– Позвольте, кажется, он во втором классе? Да, так. Знаете ли, мистер Имс, я получил письмо от секретаря директоров общества железной дороги Грэт-Вестерн, в котором изложены обстоятельства, не делающие вам чести, если только письмо во всех отношениях верно.
– Вчера, сэр, я там попал в историю.
– Попали в историю! Кажется, что вы попали в весьма скверную историю, и мне предстоит обязанность объявить директорам компании Грэт-Вестерн, что с вами будет поступлено по всей строгости законов.
– Этого я нисколько не боюсь, сэр, – сказал Джонни, которого последние слова председателя привели в нормальное состояние.
– Нисколько этого не боитесь, сэр! – сказал сэр Рэфль или, вернее, прокричал эти слова. – С своей стороны я полагаю, что сэр Рэфль чересчур разгорячился, и слова его потеряли эффект, которого бы он достиг, употребив тон более мягкий. Быть может тут недоставало того величия в позе и драматизма в голосе, которые произвели такое действие в анекдоте о сумке с королевскими письмами. Как бы то ни было, Джонни слегка ощетинился и после этого чувствовал себя гораздо лучше, чем прежде. – Вы нисколько не боитесь, сэр, если вас приведут в уголовный суд и накажут как преступника за оскорбление, сделанное на публичном дебаркадере! Вы нисколько не боитесь! Что вы этим хотите сказать, сэр?
– Я хочу сказать, что судья, по всей вероятности, не припишет этому делу серьезного значения, и Кросби не посмеет протестовать.
– Мистер Кросби должен протестовать, молодой человек. Неужели вы думаете, что нарушение порядка и спокойствия в столице должно пройти безнаказанно потому только, что он не желает преследовать его путем закона? Мне кажется, вы еще очень неопытны, молодой человек.
– Быть может, сэр, – отвечал Джонни.
– Да, очень неопытны, очень неопытны. И знаете ли, сэр, что если полицейский судья публичным образом накажет вас за такой позорный поступок, то членам нашего совета придется разрешить вопрос: можете ли вы быть терпимы на службе в здешнем управлении?
Джонни посмотрел на другого члена совета, но тот не сводил глаз своих с бумаг.
– Мистер Имс весьма хороший чиновник, – произнес помощник секретаря таким тихим голосом, который был слышен только для Имса. – Один из лучших молодых людей, которых мы имеем, – прибавил он тем же голосом.
– Ну, да, так очень хорошо. Я вам вот что скажу, мистер Имс, надеюсь, что это будет для вас уроком, весьма серьезным уроком.
Помощник секретаря откинулся назад в своем кресле, так чтобы быть позади головы сэра Рэфля и в то же время уловить взгляд другого члена совета. Другой член совета оторвался от бумаг и слегка улыбнулся, помощник секретаря ответил улыбкой, Имс заметил это и тоже улыбнулся.
– Каких можно ожидать дальнейших последствий от нарушения порядка, в чем вы оказываетесь виновным, в настоящее время я не умею сказать, – продолжал сэр Рэфль. – Теперь вы можете идти.
И Джонни воротился на место, не вынеся с собой из зала собрания впечатления, которое бы увеличивало уважение к особе председателя.
На другой день один из товарищей Джонни показал ему с особенной радостью статью, в которой объявлялось публике, что Кросби до такой степени избил молодого человека, что тот и в настоящую минуту не может встать с постели. Это обстоятельство возбудило сильный гнев в Джонни, он начал ходить по обширной комнате своего управления, не обращая внимания ни на помощников секретарей, ни на старших чиновников, ни на все другие чиновнические власти, осуждая недобросовестность публичной прессы и заявляя свое мнение, что гораздо лучше жить у варваров, чем в государстве, где дозволяют распространять такую дерзкую ложь.
– Веришь ли, Фишер, он пальцем меня не тронул, я даже не думаю, что у него было на уме дотронуться до меня, клянусь честью, он до меня не дотронулся.
– Но, Джонни, с твоей стороны, также довольно дерзко иметь виды на дочь графа де Курси, – сказал Фишер.
– Я в жизнь свою не видел ни одной из них.
– Он теперь все между аристократами, – сказал другой, – я полагаю, что если ты женишься, то не меньше, как на дочери виконта.
– Что же тут станешь делать, когда негодяй издатель помещает в своей газете подобные вещи? Прибили! высекли! Хофль-Скофль назвал меня преступником, какое же дать название этому человеку. – И Джонни швырнул газету в противоположный конец комнаты.
– Напиши на него хороший пасквиль, – сказал Фишер.
– Особливо за его выдумку, что ты хотел жениться на дочери графа, – сказал другой.
– В жизнь свою не слышал подобного скандала, – прибавил третий. – Еще смел сказать, что дочь графа не хотела и смотреть на тебя.
Тем не менее в управлении все сознавали, что Джонни Имс становился между ними передовым человеком, с которым каждый из них с удовольствием готов был сблизиться. Скандалезная история на станции железной дороги нисколько не повредила Джонни, даже в мнении высших должностных лиц. Известно было, что Кросби заслужил, чтобы его поколотили, и Джонни Имс поколотил его. Сэр Рэфль Бофль сколько угодно мог говорить о полицейском судье, о преступлениях, но все служащие в управлении сбора податей знали очень хорошо, что Имс вышел из этого дела как честный человек, с поднятой головой и правой ногой вперед.
– Плюньте вы на эту газету, – сказал рассудительный старший чиновник. – Ведь не он вас, а вы его прибили, ну и смейтесь над газетой.
– Вы бы ничего не написали редактору?
– Ни за что в свете. Я думаю, кроме осла, никто не захочет защищать себя перед газетой: напишите им какую угодно истину, и они все-таки сумеют обратить ее в смешное.
Поэтому Джонни отказался от идеи написать к редактору письмо, выразив в нем все свое негодование, но в то же время считал себя обязанным объяснить все это дело лорду Дегесту. История случилась после выезда его из дома графа, и, следовательно, все относившееся до нее должно составлять такой интерес для его доб рого друга, что он не хотел позволить графу удовлетвориться искаженными в газете фактами. Поэтому, прежде чем кончилось присутствие, Джонни написал следующее письмо:
«Управление сбора податей, 29 декабря 186*.
Милорд…»
Джонни долго думал над тем, как должно ему обратиться к графу, к которому никогда еще не писал. Он написал сначала «любезный милорд», но сейчас же зачеркнул и взял другой лист бумаги, ему показалось, что такой приступ чересчур фамильярен.
«Милорд.
Так как вы весьма добры ко мне, то я вменяю себе в обязанность сообщить вам о моем приключении на станции железной дороги, по приезде из Гествика в Лондон. Бездельник Кросби попал на Барчестерской станции в один со мною вагон и всю дорогу до Лондона сидел против меня.
Ни я ему, ни он мне не сказал ни слова, но когда поезд остановился у Подингтонской станции, я подумал, что мне нельзя позволить ему ускользнуть от меня, поэтому я… не могу сказать, что я отколотил его, как бы мне хотелось, во всяком случае, я сделал попытку и подбил ему глаз – поставил ему отличный фонарь. Нас окружила полиция, и положение мое было далеко не приятное. Я знаю, вы будете думать, что я поступил нехорошо, быть может, оно и так, но что же мог я сделать, когда он целых два часа просидел против меня с таким видом, как будто считал себя самым лучшим человеком в Лондоне!
В газете напечатали прегнусную статью по этому поводу, в которой, между прочим, говорится, что будто меня так „высекли“, что я не в состоянии пошевелиться. Это отвратительная ложь, как и все остальное в статье. Кросби до меня не дотронулся. Впрочем, с ним легче было справляться, чем с быком: он очень спокойно выдержал эту операцию. Я должен, однако же, признаться, что все еще он получил гораздо меньше, чем заслуживал.
Ваш приятель сэр Р. Б. призывал меня сегодня и объявил, что я преступник. Я не обратил на это никакого внимания: он мог назвать меня, пожалуй, хоть убийцею или ночным вором, я беспокоюсь только об одном, что вы будете сердиться на меня, а больше всего боюсь гнева известной вам особы – в Оллингтоне.
Имею честь быть, милорд, вашим преданнейшим и покорнейшим слугою
Джон Имс».– Я знал, что он сделает это при первом удобном случае, – сказал граф. Прочитав письмо, он вышел из кабинета, потирая руки от удовольствия, и потом засунул большие пальцы в карманы жилета. – Я знал, из чего он выткан, – продолжал он говорить про себя, восхищаясь доблестью своего любимца. – Я сам бы это сделал, если бы встретился с ним.
– Как ты думаешь, – сказал граф, обращаясь к леди Джулии, пришедши в столовую. – Джонни Имс встретился с Кросби и отличным образом приколотил его.
– Неужели! – сказала леди Джулия, положив на стол газету и очки, засверкавшие глаза ее выражали скорее удовольствие, чем негодование на такой нечестивый поступок.
– Да-да, приколотил. Я знал заранее, что он сделает это при первой встрече.
– Приколотил! Действительно приколотил!
– Отправил его к леди Александрине с двумя фонарями.
– С двумя фонарями! Какой негодный! А ему не досталось?
– Ни царапинки.
– Что же с ним сделают?
– Ничего. Кросби не захочет быть дураком, чтобы начать историю. Человек, сделав такую подлость, какую сделал Кросби, не имеет права рассчитывать на покровительство законов. На него безнаказанно может опуститься чья угодно рука. Он не может показать своего лица, не может защищать себя, отвечать на вопросы относительно своего поступка. Есть преступления, до которых закон касается, но которые так сильно возмущают общественное чувство, что всякий может принять на себя обязанность наказания за них. Его отколотили, опозорили, и этот позор останется при нем на всю жизнь.
– Напиши, пожалуйста, Джонни, что я надеюсь, что он здоров, – сказала леди Джулия. Старая леди не могла положительно поздравить Джонни с победой, но и эти слова были равносильны с поздравлением.
Зато граф поздравил его и выразил полное свое одобрение.
«Я полагаю, – писал он к Джонни, – что сделал бы то же самое в твои лета и при подобных обстоятельствах, душевно радуюсь, что пришлось справляться легче, нежели с быком. Я совершенно уверен, что ты не нуждался в посторонней помощи, вступив в бой с мистером Кросби. Что касается до оллингтонской особы, то сколько понимаю я подобные вещи, мне кажется, она простит тебя». (Вопрос еще, действительно ли граф понимал подобные вещи). В постскриптуме граф прибавил: «Когда будешь писать ко мне, и надеюсь, что это будет в скором времени, то начинай письмо: „Любезный лорд Дегест“, – это будет вернее».
Глава XXXVII СЕТОВАНИЯ СТАРИКА
– Подумали ли вы, о чем я говорил вам, Белл? – спросил Бернард своей кузине однажды утром.
– Подумала ли я, Бернард? Зачем же мне думать? Я даже надеялась, что вы сами забыли об этом.
– Нет, – сказал Бернард. – Я не так легкомыслен на счет этого. Для меня это не значит одно и то же, что купить лошадь, от которой я бы мог отказаться без всякого сожаления, если бы животное оказалось не по моему карману. Я не говорил вам о моей любви, пока не уверился в самом себе, а раз уверившись, я вовсе не способен измениться.
– А между тем хотите, чтобы я изменила себе.
– Да, я бы хотел. Если ваше сердце еще свободно, то, конечно, оно должно изменить себе, прежде чем вы полюбите кого бы ни было. Подобной перемены нельзя не ожидать. Но раз полюбивши, трудно изменить себе.
– Я еще никого не любила.
– Следовательно, я имею право надеяться. Я ждал дольше, чем бы следовало, ждал потому, что не мог принудить себя оставить вас в покое, не поговорив еще раз об этом, мне не хотелось казаться вам докучливым…
– И не казались бы, стоило только поверить моим словам.
– Нет, это не потому, что я не верю вам. Я не мальчик и не какой-нибудь глупец, чтобы льстить себя несбыточной надеждой, что вы влюблены в меня. Я совершенно вам верю. Но все же не позволяю себе думать, что ваше мнение не переменится.
– Не переменится.
– Не знаю, говорили ли вам об этом деле ваш дядя или ваша мать?
– Это ни к чему не поведет, хотя бы они и говорили.
Действительно, ее мать говорила с ней, но Белл решительно сказала, что подобный разговор ни к чему не поведет. Если ее кузен не мог одержать победы с помощью своего собственного искусства, то, зная характер Белл, он мог быть вполне уверен, что никакое искусство других не в состоянии сделать его победителем.
– Нас всех сильно огорчило несчастье, постигшее бедную Лили, – продолжал Бернард.
– И потому, что ее обманул человек, которого она любила, а вы хотите, чтобы я поправила это дело, выйдя замуж за человека, которого… – И Белл остановилась. – Милый Бернард, не принуждайте меня употреблять такие слова, которые могут показаться вам неприятными.
– Что может быть неприятнее тех слов, которые вы уже произнесли. Во всяком случае, Белл, вы должны меня выслушать.
И Бернард рассказал ей, как бы было желательно, относительно всего, что касалось до семейства Делей, чтобы она превозмогла себя и приняла его предложение. Это было бы полезно для всех родных, говорил Бернард, особливо для Лили, к которой дядя в настоящее время так благоволит. По словам Бернарда, сквайр до такой степени искренно желал этого брака, что готов был сделать все, что бы от него ни потребовалось, в противном случае он бы имел извинительный повод к выражению своего неудовольствия.
Белл, которую просили выслушать, выслушала все очень терпеливо. Но когда ее кузен кончил, ее ответ был очень короток.
– Все, что бы дядя ни сказал, что бы он ни подумал или ни сделал, не может изменить настоящего дела, – сказала она.
– Значит, вы нисколько не хотите и думать о счастье других?
– Чтобы упрочить счастье других, я не хочу выходить за человека, которого не люблю, я знаю, по крайней мере, что не должна этого делать. Притом же я не верю, что этим браком могу упрочить чье-либо счастье, а тем более ваше.
После этого Бернард увидел, что затруднения на его пути были очень велики.
– Я уеду и не возвращусь до будущей осени, – сказал он дяде.
– Если б ты бросил свою службу и оставался здесь, Белл не была бы так непреклонна.
– Этого я не могу сделать, сэр. Я не могу рисковать благополучием моей жизни на такой шанс.
После этого дядя вознегодовал и на него, и на племянницу. В досаде своей он решился идти еще раз к невестке, и каким-то непонятным образом решил, что ему будет очень кстати рассердиться и на нее, если бы она отказалась помочь ему своим материнским влиянием.
– И почему бы им не сойтись друг с другом? – говорил он сам себе.
Предложение лорда Дегеста касательно молодого Имса было очень великодушно. Сквайр объявил тогда, что не может вдруг выразить своего мнения, но, обдумав слова лорда, он был вполне готов залечить семейную рану предложенным средством, если только подобное излечение возможно. Этого, однако ж, теперь нельзя было сделать. Придет время, и сквайру казалось, что оно должно прийти очень скоро, может статься весною, когда наступят хорошие дни, длинные вечера, тогда он согласился бы оказать графу Дегесту содействие в устройстве этого нового брака. Кросби они решительно отказал от приданого, и, по случаю этого отказа, его совесть не совсем была спокойна. Но если бы удалось склонить Лили полюбить другого молодого человека, то он был бы более щедр. Лили получила бы тогда в приданое свою долю, как получила бы ее родная его дочь. А имея намерение сделать так много для обитателей Малого дома, не вправе ли он ожидать, чтобы обитатели эти сделали что-нибудь и для него. Размышляя таким образом, он еще раз отправился к невестке объяснить свои виды, хотя бы при этом случае пришлось обменяться жесткими выражениями. Что касается собственно до него, то он мало заботился о жестких выражениях. Он почти постоянно был такого мнения, что людские речи должны быть всегда и жестки и обидны. Он никогда не надеялся услышать от людей что-нибудь ласковое, нежное, да и не сумел бы оценить этого, если бы и привелось услышать. Сквайр встретил мистрис Дель в саду и повел ее в собственную свою комнату, чувствуя, что там ему представлялось более шансов, нежели у нее на дому. С своей стороны мистрис Дель, питая давнишнее отвращение к наставлениям, которые ей часто делались в этой комнате, старалась избегнуть свидания, но не удалось.
– Я таки виделся с Джоном Имсом в гествикском доме, – сказал сквайр еще в саду.
– Ах да, ну как он поживает там? Я не могу себе представить, что бедный Джонни проводит праздники с графом и его сестрой. В каких отношениях он к ним и как они с ним обращаются?
– Могу уверить вас, что он там как дома.
– В самом деле? В таком случае это послужит ему в пользу. Он премилый молодой человек, только такой неловкий.
– Мне он вовсе не показался неловким. Вы увидите, Мэри, что он пойдет хорошо, пойдет лучше своего отца.
– Сердечно желаю ему всякого успеха.
После этого мистрис Дель хотела было уйти, но сквайр взял ее в плен и повел свою пленницу в дом.
– Мэри, – сказал он, как скоро уговорил ее присесть, – пора бы порешить дело между моим племянником и племянницей.
– Боюсь, что тут нечего будет решать.
– Что вы хотите этим сказать, разве то, что вы не одобряете этого брака?
– Совсем нет, говоря собственно о себе, я вполне его одобряю, но мое одобрение совсем не идет к делу.
– Извините, оно очень идет и должно идти. Разумеется, я не говорю, что в настоящее время можно кого-нибудь принудить вступить в брак.
– Надеюсь.
– Я никогда не говорил о таком принуждении относительно Белл, никогда не думал об этом, но тем не менее я полагаю, что желания всего семейства должны бы иметь большой вес в глазах хорошо воспитанной девушки.
– Не знаю, хорошо ли воспитана Белл, но для нее в деле подобного рода ничьи желания не могут иметь особенного веса, со своей стороны я даже не решилась бы выразить такого желания. Вам, конечно, могу сказать, что я была бы совершенно счастлива, если бы она могла смотреть на своего кузена, как вы того желаете.
– Вы хотите сказать, что боитесь заявить ей свое желание?
– Я боюсь поступить несправедливо.
– Я не вижу никакой несправедливости, а потому сам переговорю с ней.
– Делайте как хотите, мистер Дель, я не могу вам препятствовать. Я думаю, что вы поступите несправедливо, поставив ее в затруднительное положение, и очень боюсь, что ее ответ не будет для вас удовлетворителен. Если вы хотите выразить ей ваше мнение, то выразите. Все-таки я буду думать, что вы поступаете нехорошо, вот и все тут.
Когда мистрис Дель произносила эти слова, голос и выражение лица ее были суровы, она не могла запретить дяде выразить свое мнение племяннице, но ей очень не нравилась мысль о вмешательстве его в сердечные дела ее дочери. Сквайр встал и начал ходить по комнате, стараясь успокоиться, чтобы иметь возможность отвечать рассудительно и без гнева.
– Можно ли мне уйти теперь? – спросила мистрис Дель.
– Можно ли вам уйти? Конечно можно, если вы желаете. Если вы находите стеснительным для себя разговор о благополучии ваших дочерей, на которых я стараюсь смотреть как на моих собственных дочерей – хотя, сколько мне известно, их никогда не учили любить меня как отца, – если вы считаете мою заботу о их благополучии неуместным вмешательством, то, конечно, можете уйти.
– Я не имела намерения огорчить вас, мистер Дель.
– Огорчить меня! Кому какое дело, огорчаюсь ли я или нет. У меня нет своих детей, и потому я считаю обязанностью в жизни устроить своих племянников и племянниц. Я буду старый дурак, если стану надеяться, что взамен этого они будут любить меня, я хочу выразить свое желание, а мне говорят, что я мешаюсь не в свои дела и поступаю дурно! Горько, очень горько, я хорошо знаю, что их научили не любить меня, а все-таки стараюсь выполнить мой долг в отношении к ним.
– Мистер Дель, ваше обвинение несправедливо: их никто не учил не любить вас. Я думаю, они обе любили и уважали вас как родного дядю, но все же эта любовь и уважение не дают вам права располагать их руками.
– Да кто же хочет располагать их руками?
– Бывают обстоятельства, в которые, мне кажется, никакой дядя, никакой родитель не должны вмешиваться, и из всех таких обстоятельств настоящее есть самое главное. Если и после этого вы решитесь высказать ей свое желание, то, разумеется, можете.
– Мало будет пользы в том, особливо если вы восстановили ее против меня.
– Мистер Дель, вы не имеете права говорить мне такие вещи, и в этом случае вы более чем несправедливы. Если вы думаете, что я восстановила моих дочерей против вас, то гораздо будет лучше оставить совсем Оллингтон. Я находилась в таких обстоятельствах, которые затруднили возможность исполнить мой долг в отношении детей, но я старалась исполнять этот долг, оставляя в стороне все мои личные желания. Я совершенно убеждена, однако же, что с моей стороны было бы неблагоразумно дозволить им оставаться здесь, после вашего упрека, что я научила их смотреть на вас неблагоприятно. Я решительно не потерплю, чтобы мне говорили подобные вещи.
Все это мистрис Дель высказала решительно, голосом, выражающим чувство нанесенного ей оскорбления, это заставило сквайра понять, что она говорила серьезно.
– Разве не правда, – сказал он, оправдываясь, – что во всем, касающемся до ваших дочерей, вы всегда смотрели на меня с подозрением?
– Нет, не правда. – И потом мистрис Дель старалась поправить свою ошибку, чувствуя, что в последних словах сквайра было несколько истины. Уж никак не с подозрением, – сказала она. – Но если мы зашли так далеко, то я объясню вам мои истинные чувства. В материальном отношении вы многое можете сделать для моих дочерей, да и многое сделали.
– И желаю сделать еще более, – сказал сквайр.
– Я уверена. Но из-за этого я не могу вам уступить моего места, места матери, заменяющей им в то же время и отца. Они мои дети, а не ваши. Если бы я даже согласилась дозволить вам действовать в качестве опекуна и самого близкого покровителя, они бы и тогда не согласились на подобную сделку, этого вы не можете назвать подозрением.
– Но могу назвать ревностью.
– А разве мать не должна ревновать к любви своих детей?
Во все это время сквайр ходил по комнате взад и вперед, засунув руки в карманы панталон. И когда мистрис Дель выговорила последние слова, он все еще молча продолжал свою прогулку.
– Может быть, и к лучшему, что вы наконец высказались, – сказал он.
– Ваше обвинение сделало это необходимым.
– Я не имел намерения вас обвинять, не имею его и теперь, но я думаю, что вы и прежде поступали, и в настоящее время поступаете со мной жестоко, очень жестоко. Я старался сделать ваших детей и самих вас участницами со мною в том благосостоянии, какое выпало на мою долю. Я старался увеличить удобства вашей жизни и счастье ваших дочерей. Я забочусь не менее вашего о том, чтобы упрочить их будущее благополучие. Вы бы очень несправедливо поступили, если бы отказались от всего, что делается в их пользу, и мне кажется, что взамен этого вам не следовало бы жалеть о привязанности и повиновении, которые обыкновенно идут вслед за такими добрыми услугами.
– Мистер Дель, я ничего не жалею и не жалела.
– Я огорчен, я очень огорчен, – продолжал сквайр. – Мистрис Дель была удивлена видом его страдания гораздо более, чем необыкновенною горячностью его слов. – То, что вы сказали, мне уже давно известно. Хотя я и чувствовал, что это так было, но, признаюсь, ваша откровенность меня крайне огорчила.
– Разве только потому, что я сказала, что мои дети должны всегда оставаться моими?
– О, вы сказали более. Вы и ваши дети жили здесь, близехонько от меня – уж сколько лет! – и во все эти годы у вас не явилось ко мне ни одного доброго чувства. Неужели вы думаете, что я не вижу, не слышу, не чувствую? Не думаете ли вы, что я одурел и ничего не понимаю? Что до вас самих, вы бы никогда не вступили в этот дом, если бы не считали себя вынужденною сделать это ради приличия. Я нахожу, что все это так и быть должно. Хоть у меня и нет собственных детей, на мне все-таки лежат родительские обязанности в отношении к моим племянницам, и за это-то мне говорят, что я не вправе ожидать ни любви, ни расположения, ни послушания. Знаю, Мэри, что я вас задерживаю здесь против вашего желания. Не стану вас долее удерживать. – И он сделал знак, что она может уйти.
Вставая со своего места, мистрис Дель чувствовала, что ее сердце смягчилось к нему. В последнее время он был очень ласков к ее детям, и эти ласки имели даже сходство с нежностью любви, которой он никогда не обнаруживал. Участь Лили, казалось, смягчила его суровость, и он старался быть как можно более мягким и в словах и в обращении. Теперь же сквайр говорил так, как будто при всей своей любви к этим девочкам он любил их напрасно. Без всякого сомнения, он был неприятным соседом для своей невестки, заставляя ее беспрестанно чувствовать, что для нее он никогда бы не разжал руки. Нет сомнения, что он был движим бессознательным желанием подрыться под ее власть над ее собственными детьми. Нет также никакого сомнения, что он всегда косился на нее с первого дня ее замужества. Она живо чувствовала все это с того времени, как узнала его, и еще живее после неудачи в усилиях своих жить с ним на дружеской ноге, усилиях, которые она делала в течение первых двух лет пребывания своего в Малом доме. Но тем не менее, несмотря ни на что, ее сердце в настоящую минуту скорбело за него. Она одержала над ним победу, вполне сохранив за собою позицию для защиты детей, но теперь, когда он жаловался, что он был разбит в этом состязании, сердце мистрис Дель обливалось кровью.
– Брат, – сказала она и, говоря это, подала ему обе руки, – может быть, мы до сих пор не так понимали друг друга, как бы следовало.
– Я старался, – отвечал старик, – я старался… – И он остановился, или от избытка чувства, или не находя слов, которые бы надлежащим образом выразили его мысль.
– Постараемся снова понять друг друга надлежащим образом, постараемся оба!
– Как! Начинать это снова, когда стукнуло почти семьдесят лет! Нет, Мэри, для меня нет более начинаний. Это, впрочем, нисколько не относится к девушкам. Пока я жив, пусть они владеют моим домом. Если выйдут они замуж, я сделаю для них все, что могу. Я полагаю, что Бернард серьезно занят своим предложением, и если Белл послушает его, то всегда будет принята здесь как владетельница Оллингтона. А что вы сказали, то ни к чему не поведет… начинания для меня совершенно невозможны.
После этого мистрис Дель одна прошла домой через сад. Сквайр обдуманно сказал ей, что ее дети, а не она, могли пользоваться домом, в котором жили, по день его смерти. Он решительно отказался от предложенного ею более искреннего расположения. Он заставил ее понять, что они должны смотреть друг на друга как неприятели, но в какой бы степени она ни была для него неприятелем, он дозволял ей пользоваться его щедротами, потому что желал выполнять свою обязанность в отношении к племянницам.
Глава XXXVIII ПОСЫЛАЮТ ЗА ДОКТОРОМ КРОФТСОМ
Мистрис Дель недолго просидела в своей гостиной, когда ей принесли известие, которое на время отвлекло ее внимание от мысли о переезде.
– Мама, – сказала Белл, входя в комнату, – я начинаю серьезно думать, что у Джен скарлатина.
Горничной Джен нездоровилось уже два дня, но до сих пор не подозревали ничего серьезного в ее болезни. Мистрис Дель вскочила с места.
– Кто теперь при ней? – спросила она.
Из ответа Белл оказалось, что как она, так и Лили были при девушке, и что Лили находилась там в настоящую минуту. При этом ответе мистрис Дель поспешила наверх, и в доме поднялась суматоха. Не с большим через час явился сельский аптекарь и с тем вместе врач, и он выразил мнение, что девушка действительно больна скарлатиной. Мистрис Дель, не довольствуясь этим, отправила мальчика в Гествик за доктором Крофтсом, она много лет лично поддерживала оппозицию против медицинской репутации аптекаря и положительно приказала обеим дочерям своим не навещать более бедную Джен. У нее была уже скарлатина и, следовательно, сама она могла поступать как ей угодно. Вслед за тем нанята была сиделка.
Все это изменило на несколько часов течение мыслей мистрис Дель, и не ранее как вечером она могла возвратиться к утреннему разговору, только тогда и перед тем, как ложиться спать, обитательницы Малого дома держали открытый военный совет по этому предмету. Оказалось, что доктора Крофтса не было в Гествике, но им объявили, что он приедет в Оллингтон рано поутру. Мистрис Дель почти решила, что болезнь ее любимой горничной вовсе не скарлатина, но тем не менее нисколько не смягчила своего приказания насчет приближения дочерей к постели больной служанки.
– Чем скорее уедем отсюда, тем лучше, – сказала Белл, которая, пуще матери, противилась проявлению всякого деспотизма со стороны дяди. При разбирательстве по ниточке всего, что происходило между ними, сватовство Бернарда не могло не всплыть наружу. Белл молчала о предложении, сделанном ее кузеном, пока было возможно, но коль скоро дядя начал настаивать на этом предмете перед мистрис Дель, Белл не было уже возможности долее молчать.
– Мама, вы, вероятно, не хотите, чтобы я вышла за него, скажите? – говорила она, когда мать в словах своих обнаружила некоторое расположение к Бернарду.
В ответ на это мистрис Дель с одушевлением уверяла, что у нее вовсе не было подобного желания, а Лили, которая все еще держалась веры в доктора Крофтса, была одушевлена одинаково с матерью. Всем им особенно неприятна была мысль, что дядя их решается вмешиваться в их виды, и вмешиваться вследствие денежного пособия, которое они от него получали. Тем более было неприятно, что он осмелился даже навязывать свое мнение насчет их замужества. Они уверяли друг друга, что дядя их не может иметь никакого права противиться какому бы то ни было браку, в который они захотели бы вступить, лишь бы на этот брак было изъявлено согласие матери. Бедный старый сквайр был прав, утверждая, что на него смотрели с подозрением. На него действительно так смотрели. Впрочем, он сам был тому виною, стараясь расположить к себе дочерей, не считая за нужное приобрести расположение матери.
Девушки бессознательно чувствовали, что попытка со стороны дяди распоряжаться ими была сделана, и потому мужественно восстали против этой попытки. Они были не виноваты, что их заставляли жить в доме дяди, что принуждали ездить на его поля и отчасти есть его хлеб. И они ели этот хлеб, и жили в его доме, и показывали вид признательности. Сквайр был добр на свой лад, и они сознавали его доброту, но из этого еще не следовало, чтобы они уступили хотя на одну йоту в преданности, которою, как дети, были обязаны матери. Когда мистрис Дель рассказала им и объяснила значение слов, употребленных дядей в то утро, они выразили сожаление, что он был так огорчен, но тем не менее уверяли мать, что причиною его огорчения была не она, а он сам.
– Уедемте отсюда теперь же, – сказала Белл.
– Да, моя милая, легко это сказать, но каково исполнить.
– Конечно, так, мама, иначе нас давно бы здесь не было. По моему мнению, нужно приступить к делу немедленно. Ясно, дядя полагает, что, оставаясь здесь, мы предоставляем ему некоторое право распоряжаться нами. Я не говорю, что он не должен так думать. Может быть, это и естественно. Может быть, что принимая его милости, мы должны покоряться ему. А если так, то этого совершенно достаточно для нашего удаления.
– Нельзя ли нам платить ему аренду за дом, – сказала Лили. – Как это делает мистрис Харп? А вы бы желали, мама, остаться здесь, если бы это было возможно?
– В том-то и дело, Лили, что это невозможно. Нам надо выбрать дом поменьше этого и такой, который бы не требовал издержек на сад. Если б даже мы платили за этот дом умеренную аренду, у нас все-таки недостанет средств, чтобы жить здесь.
– Даже если б мы питались одним чаем и тостами? – спросила Лили, смеясь.
– Мне бы не хотелось, чтобы вы, мои милые, питались одним чаем с тостами, мне бы самой такая пища показалась диетой.
– Никогда, мама, – сказала Лили. – Что касается до меня, то признаюсь, я бы довольствовалась бараньими котлетами, только не думаю, чтобы вам нравились такие простонародные блюда.
– Во всяком случае, нам невозможно оставаться здесь, – сказала Белл. – Дядя Кристофер не согласится взять арендных денег от мама, а если б и согласился, мы бы не сумели распорядиться с другими потребностями после такой перемены. Нет, нам надо отказаться от милого старого Малого дома.
– В самом деле, милый старый дом, – сказала Лили, вспоминая при этих словах более о последних сценах в саду, когда Кросби гостил у них в осенние месяцы, нежели о прежних радостях своего детства.
– Но все еще не знаю, хорошо ли я поступлю, переехав в другое место, – сказала мистрис Дель, с сомнением.
– Хорошо-хорошо, – сказали обе девушки в один голос, – вы будете правы, мама, это не подлежит никакому сомнению. Если бы нам удалось найти какой-нибудь коттедж или даже квартиру, то все будет лучше, чем оставаться здесь, зная мнения дяди Кристофера.
– Это его очень огорчит, – сказала мистрис Дель.
Но даже и этот последний аргумент нисколько не подействовал на девушек. Они очень будут сожалеть, что дядя огорчится, будут всячески стараться доказать ему, что они всегда питали к нему привязанность. Если он вздумает говорить с ними, то они постараются объяснить ему, что их мнения в отношении его были совершенно дружелюбные, но что им нельзя оставаться в Оллинштоне, не увеличив этим бремя признательности и зная притом, что он ожидал от них уплаты, которой они не в состоянии выполнить.
– Остаться здесь – значило бы тянуть из его кармана, – сказала Белл, – значило бы преднамеренно отнимать от него то, на что он имеет, по его мнению, полное право.
И так было решено известить дядю о намерении Делей оставить Оллингтонский Малый дом.
Потом возник вопрос о их новом жилище. Мистрис Дель хорошо понимала, что ее средства во всяком случае лучше средств мистрис Имс, а потому имела основание полагать, что ей возможно будет держать свое хозяйство в Гествике.
– Уж если ехать, то поедем в Гествик, – сказала она.
– Там мы будем гулять с Мэри Имс вместо Сюзан Бойс, – сказала Лили. – Впрочем, тут нет большой разницы.
– Мы выигрываем столько же, сколько проигрываем, – сказала Белл.
– К тому же там приятно будет иметь магазины под рукой, – сказала Лили с иронией.
– Да, особливо когда не будет денег на покупки, – заметила Белл.
– Кроме того, мы будем видеть более общества, – сказала Лили. – Карета леди Джулии приезжает в город два раза в неделю, а девицы Гроффен разъезжают очень парадно. В целом, мы будем в большом выигрыше, жаль только, что не будет старого сада. Мама, я право думаю, что умру с горя, расставшись с Хопкинсом, что до него самого, то я положительно разочаруюсь всем человечеством, если он перенесет нашу разлуку.
Что ни говорите, а в их решении было много грустного, мистрис Дель казалось, что она очень дурно распоряжается относительно дочерей, допуская их испытывать голод, нужду и огорчения по собственной своей ошибке. Ей было хорошо известно, какое тяжелое бремя горести лежало на сердце Лили, хотя Лили и старалась прикрыть свои чувства легкими шутками. Когда Лили говорила о разочаровании в человечестве, мистрис Дель едва удерживалась от наружного содрогания, которое бы обнаружило ее сокровенные мысли. Она, мать этих двух созданий, решалась удалить их из уютного дома, от прелести газонов и садов и увезти в какой-нибудь темный закоулок провинциального городка. Из-за чего? – только из-за того, что сама не могла ужиться с деверем. Справедливо ли она поступала, отказываясь от всех выгод, которыми дети ее пользовались в Оллингтоне, выгод, которые получали они из совершенно законного источника, – отказываясь от этих выгод только потому, что ее собственные чувства были уязвлены? При всех будущих лишениях в удобстве, при неуютности и неряшестве нового жилища, куда она намеревалась переместить их, не станет ли она беспрестанно укорять себя в том, что довела их до такого положения своею ложною спесью? А между тем, по ее понятиям, другого выбора не представлялось. Теперь она уже не могла учить своих дочерей покоряться во всем желаниям их дяди. Она уже не могла вразумить Белл, что было бы хорошо, если бы она вышла замуж за Бернарда, потому собственно, что это было задушевным желанием сквайра. Она зашла так далеко, что возвращение становилось невозможным.
– Я думаю, нам придется переехать к Благовещению? – спросила Белл, которая более других заботилась о безотлагательном отъезде. – А если так, то не лучше ли будет известить дядю Кристофера теперь же?
– Не думаю, что нам удастся приискать дом к тому времени.
– Можно переехать к кому-нибудь на время, – продолжала Белл. – Вы знаете, что в Гествике нет недостатка в квартирах.
Звук слова «квартиры» неприятно прозвучал в ушах мистрис Дель.
– Уж если переезжать, то переезжать немедленно, – сказала Лили. – Не стоит останавливаться из-за того, каким порядком должен совершиться переезд.
– Ваш дядя сильно огорчится, – сказала мистрис Дель.
– Но он не может сказать, что виною тому были вы, – возразила Белл.
Таким образом, было решено, что сквайр должен получить необходимое извещение безотлагательно и что старый Малый дом должно оставить навсегда. С материальной точки зрения это было огромное падение – из оллингтонского Малого дома вдруг переехать в какой-нибудь переулок в Гествике. В Оллингтоне они были сельскими жителями, поставленными, по одному уже месту своего пребывания, на один уровень с самим владельцем и другими владельцами, но в Гествике они становились незаметными даже между обыкновенными городскими жителями. Они будут стоять наравне с Имсами, а Гроффенсы будут смотреть на них свысока. Они едва ли осмелятся еще раз посетить гествикский господский дом, потому собственно, что не могли надеяться на визит леди Джулии в Гествике. Мистрис Бойс, без сомнения, станет им покровительствовать, и они уже предвидели соболезнование со стороны мистрис Харп. В самом деле, такой поступок с их стороны имел значение равносильное с сознанием своей недостаточности, высказанным во всеуслышание всех своих знакомых.
Мне нельзя допустить моих читателей до предположения, что обитательницы Малого дома были равнодушны ко всем этим соображениям. Иные женщины сильного ума, с высоко настроенными философскими стремлениями действительно оставались бы равнодушными к подобным вещам, но мистрис Дель не имела этого свойства, как не имели его и ее дочери. Блага сего мира и в их глазах имели свое значение, и они умели ценить привилегию стоять в общественной жизни несколькими ступеньками выше своих знакомых. Они были неспособны пренебрегать теми выгодами, которые до сих пор представлял им случай. Они не могли радоваться ожидавшей их впереди сравнительной бедности, но в то же время не могли они и купить за предложенную цену того довольства и тех удобств, которые хотели теперь покинуть.
– Не лучше ли будет, мама, если вы сами напишете дяде? – спросила одна из сестер.
На это мистрис Дель не согласилась, на том основании, что затруднялась написать письмо, которое было бы вполне вразумительно, а потому положила лучше увидеться с сквайром на следующее утро.
– Это свидание будет ужасно, – сказала она, – но не будет продолжительно. Я не столько боюсь того, что он будет говорить в ту минуту, сколько горьких упреков в выражении его лица, когда впоследствии придется мне с ним встретиться.
Итак, на следующее утро она опять пробралась в кабинет сквайра, но на этот раз без приглашения.
– Мистер Дель, – начала она, приступая к делу несколько конфузясь и скороговоркой. – Я обдумала наш вчерашний разговор и пришла к такому заключению, которое полагаю необходимым сообщить вам без малейшего отлагательства.
Сквайр тоже обдумывал о том, что произошло между ними вчера, и много перестрадал в это время, но его думы не имели в себе ни горечи, ни гнева. Думы его были не так жестки, как его слова. При всей доброте своей он не умел обнаруживать тех мягких чувств, которые наполняли его сердце. Ему хотелось любить детей своего брата, быть ими любимым, и даже за отсутствием ответной любви он желал быть им полезным. Ему не приходило на мысль сердиться на мистрис Дель после вчерашнего свидания. Разговор шел неприятным образом, да он и не ждал, чтобы для него делалось что-нибудь приятное. Ему и в голову не приходило, что произнесенные тогда слова могли огорчить обитательниц Малого дома. В его понятиях Малый дом должен служить им жилищем точно так же, как Большой дом служил ему самому. Отдавая ему справедливость, надо сознаться, что малейший намек на то, что они пользовались домом по его благодеянию, был далек от его мыслей. Мистрис Харп, которая жила в своем коттедже за половину настоящей цены, почти ежедневно жаловалась на него, но ему никогда и в мысль не приходило возвышать арендную плату, как не приходило на мысль и того, что, не возвышая этой платы, он оказывал старухе особенную милость. Люди всегда казались ему недовольными, неблагодарными, неприятными, и потому он не мог надеяться, что мистрис Харп или его невестка поступят с ним лучше, нежели как с ним вообще поступали.
– Я буду весьма счастлив, – сказал он, – особливо если это имеет отношение к выходу Белл замуж за своего кузена.
– Мистер Дель, об этом не может быть и речи. Я бы не желала огорчать вас этими словами, если б не была уверена, но я так хорошо знаю свою дочь.
– В таком случае, Мэри, предоставим это времени.
– Разумеется, только никакой промежуток времени не может заставить Белл переменить свое мнение. Но оставим этот предмет, мистер Дель, я должна сообщить вам нечто другое: мы решились выехать из Малого дома.
– Вы решились на что-о? – спросил сквайр, глядя на невестку во все глаза.
– Мы решились выехать из Малого дома.
– Выехать из Малого дома! – сказал он, повторяя ее слова. – И куда же вы намерены выехать?
– Думаем переехать в Гествик.
– А почему?
– О, это так трудно объяснить. Я прошу вас принять факт, как я его передаю, не спрашивая о причинах, из которых он сложился.
– Но это невозможно, Мэри. В таком деле, как настоящее, я должен требовать объяснения причин, я должен сказать вам, что, по моему мнению, вы не исполните вашего долга к своим дочерям, приведя в исполнение такое намерение, – разве только побудительные причины к тому в самом деле очень сильны.
– Они очень сильны, – сказала мистрис Дель и остановилась.
– Ничего не понимаю, – сказал сквайр, – не могу принудить себя к мысли, что вы говорите серьезно. Разве вам неудобно в Малом доме?
– Мы имеем в нем удобств гораздо более, чем можно рассчитывать на них при наших средствах.
– Я всегда думал, что вы отлично распоряжались вашими деньгами. Вы никогда не входите в долги.
– Правда, я никогда не вхожу в долги, но речь не о долгах. Дело в том, мистер Дель, мы не имеем права жить в Малом доме, не платя за него аренды, не можем жить там, если бы и платили ее.
– Да кто вам говорит об аренде? – спросил сквайр, вскакивая со стула. – Кто-нибудь оболгал меня за углом?
Его еще не озарил ни один луч истины. Ни малейшей идеи не приходило ему в голову, что родственники считали необходимым оставить его дом вследствие слов, им самим произнесенных. Он никогда не считал себя в каком-либо отношении особенно великодушным к ним, но находил весьма бессмысленным оставить дом, в котором они жили, даже и в таком случае, если бы его негодование против них было сильно и горячо.
– Мэри, – сказал он, – я должен требовать объяснения всему этому. Что касается до вашего отъезда, то это совершенно невозможно. Где же вам может быть лучше или, по крайней мере, так же хорошо, как здесь? Вы хотите переехать в Гествик, но какая там может быть жизнь для ваших дочерей? Я все это отвергаю как вещь несбыточную, и, во всяком случае, я должен знать, что вас понудило решиться на такую меру. Скажите мне чистосердечно – не наговорили ли вам чего-нибудь дурного обо мне?
Мистрис Дель приготовилась встретить сопротивление и упреки, но в словах сквайра выражалась такая решимость, его манеры обнаруживали столько умения господствовать над другими, что она тотчас поняла всю трудность своего положения. Она начала бояться что у нее не станет сил выполнить свое намерение.
– Уверяю вас, мистер Дель, что это совершенно не так.
– Так в чем же дело?
– Я знаю, что всякая попытка объяснить вам его только рассердит вас, и вы будете мне противоречить.
– Что я рассержусь – это весьма вероятно.
– И все же я не могу изменить моего намерения. Поверьте, я стараюсь только поступить справедливо в отношении вас и моих детей.
– На меня не обращайте внимания, ваша обязанность думать о детях.
– Конечно так, и, исполняя это, они во всем со мною согласны.
Приводя такие аргументы, мистрис Дель обнаружила свою слабость, и сквайр не замедлил воспользоваться ею.
– На вас лежит обязанность в отношении к детям, – сказал он, – но это еще не значит, что ваша обязанность состоит в том, чтобы дозволить им действовать по минутной прихоти. Мне понятно, что они могут увлечься какими-нибудь романтическими пустяками, но увлечение с вашей стороны совершенно непонятно.
– Вот в чем вся истина, мистер Дель. Вы полагаете, что мои дети обязаны вам таким повиновением, которое принадлежит одному отцу или матери, а до тех пор, пока они будут оставаться здесь, ежедневно получая из рук ваших столько милостей, может быть, с вашей стороны и естественно считать за собою такое право в этом несчастном деле относительно Белл…
– Я ничего подобного не говорил, – сказал сквайр, перебивая ее.
– Правда, вы этого не говорили. И не думайте, что я жалуюсь на вас, я не желаю, чтобы вы так думали. Но я чувствую, что это так, а они чувствуют одинаково со мною, поэтому мы решились выехать.
Мистрис Дель, оканчивая эти слова, была вполне убеждена, что очень плохо рассказала свою историю, но она сознавалась, что не была в состоянии рассказать ее, как бы следовало. Главною ее целью было дать понять деверю, что она непременно оставит дом, но дать понять при возможно меньшем огорчении. Она не беспокоилась о том, что сквайр сочтет ее глупою, лишь бы ей удалось достичь цели так, чтобы по возвращении домой она могла сказать своим дочерям, что дело покончено. Но сквайр, судя по его словам и приемам, казался вовсе не расположенным предоставить ей этого права.
– Из всех предложений, какие мне когда-либо приходилось слышать, – сказал он, – это самое безрассудное. Его можно понимать так, что вы слишком горды, чтобы занимать дом, принадлежащий брату вашего мужа, и потому хотите подвергнуть себя и детей ваших всем неудобствам ограниченного дохода. Если бы дело касалось одних вас, я бы не считал себя вправе делать возражений, но я вменяю себе в обязанность сказать вам, что в отношении детей все знающие вас будут думать, что вы поступили безрассудно. Весьма естественно, что они должны жить в этом доме. Малый дом никогда не отдавался в аренду. И сколько мне известно, за него никогда не брали платы с самого дня его построения. Он всегда отдавался какому-нибудь члену семейства, который имел право на это. Я всегда считал ваше пребывание в нем столь же твердым и постоянным, как и мое в этом доме. Ссора между мною и вашими детьми была бы для меня большим несчастьем, хотя, может быть, для них это ничего не значит. Но если бы и была ссора, то я все-таки не вижу достаточной причины к их переезду. Позвольте вас просить передумать об этом предмете.
В некоторых случаях сквайр умел принимать на себя повелительный вид, и в настоящем он принял его. Мистрис Дель знала, что может отвечать ему только повторением своего намерения, а между тем была не в состоянии дать сквайру удовлетворительного ответа.
– Я знаю, что вы очень расположены к моим детям, – сказала она.
– Ничего больше не стану говорить об этом, – отвечал сквайр.
Он думал в эту минуту не о Малом доме, но о полном пользовании, которое он желал передать старшей дочери, всеми правами, какие должны принадлежать владетельнице Оллингтона, думал также и о средствах, какими надеялся поправить расстроенное состояние Лили. Дальнейшие слова не имели бы особенного значения, и потому мистрис Дель удалилась, чувствуя полную неудачу. Тотчас по ее уходе сквайр встал, надел пальто, взял шляпу и трость и вышел на террасу. Он вышел для того, чтобы дать своим мыслям более свободы и чтобы предаться тому спокойствию и утешению, которое обиженный находит в размышлениях о своей обиде. Сквайр уверял себя, что с ним поступают очень жестоко, что он начал сомневаться в самом себе и своих душевных побуждениях. Отчего все окружающие так сильно не любили его, избегали его и ставили преграды его усилиям упрочить их благополучие? Он предлагал своему племяннику все права сына, требуя взамен этого, чтобы он согласился постоянно жить в доме, который должен был сделаться его собственным домом. Но племянник отказался. «Значит, ему неприятно жить со мной», – сказал старик с горечью. Он был готов наградить своих племянниц щедрее, чем награждались дочери Оллингтонского Дома своими отцами, а они отвергают его доброе расположение, открыто говоря, что не хотят быть ему обязанными. Он стал тихо ходить по террасе, с глубокой грустью размышляя обо всем этом. Живо представляя себе все обиды свои, он не мог найти того утешения, которое истекает из самых обид, не мог потому, что в мыслях своих он скорее обвинял самого себя, что он создан для того, чтобы его ненавидели, доказывал самому себе, что было бы хорошо, если бы он умер и если бы его позабыли навсегда, и чтобы остающиеся Дели могли иметь лучший шанс на счастливую жизнь; когда он разбирал таким образом в собственной груди все эти обстоятельства, волновавшие его мысли мало-помалу успокоились, и хотя он все еще был раздосадован, но в то же время чувствовал расположение к тем, которые более всего обижали его, и все-таки положительно был не способен воспроизвести наружно словами или выполнить знаками свои мысли и чувства.
Время подходило к концу года, но погода все еще стояла теплая и ясная. Воздух был скорее влажен, нежели холоден, луга и поля все еще сохраняли яркие оттенки свежей зелени. В то время как сквайр прогуливался по террасе, к нему подошел Хопкинс и, дотронувшись до шляпы, заметил, что денька через два надо ждать мороза.
– Я тоже думаю, – сказал сквайр.
– Надо будет поставить каменщика к дымовым трубам малого виноградника, сэр, прежде чем будет возможно безопасно начать топку.
– Какого виноградника? – спросил сквайр сердито.
– Да виноградника в том саду, сэр. По настоящему, еще в прошлом году надо было сделать исправления. – Это Хопкинс сказал только для того, чтобы упрекнуть своего господина за его каприз касательно дымовых труб в винограднике мистрис Дель, он с большим благоразумием не беспокоил своего господина в прошлую зиму, но считал необходимым напомнить ему об этом теперь. – Я не могу приступить к топке, пока трубы не будут исправлены. Это верно.
– Так не топи, – сказал сквайр.
Надо знать, что виноград в теплице, о которой идет речь, был особенного сорта и составлял славу сада Малого дома. Его всегда выгоняли искусственною теплотой, хотя и не так рано, как в теплицах Большого дома, и Хопкинс был поставлен в большое недоразумение.
– Он никогда не вызреет, сэр, не вызреет, хоть жди целый год.
– Так пусть его не зреет, – сказал сквайр, прохаживаясь.
Хопкинс никак не мог этого понять. В обыкновенном настроении духа сквайр весьма неохотно допускал упущения в делах подобного рода, тем более не позволял себе делать таких упущений во всем, что относилось до Малого дома. Поэтому-то Хопкинс и стоял теперь подле террасы с приподнятой шляпой и почесывая в голове. «Между ними что-нибудь не ладно», – сказал он самому себе с оттенком глубокой печали на лице.
Но когда сквайр дошел до конца террасы и вступил на дорожку, которая вела кругом дома, он остановился и подозвал к себе Хопкинса.
– Сделай что нужно в дымовых трубах, – сказал сквайр.
– Слушаю, сэр, очень хорошо, сэр. И всего-то придется переложить несколько кирпичей, на эту зиму больше ничего не надо.
– Уж если делать, так делать хорошо, приведи все в надлежащий порядок, – сказал сквайр и удалился.
Глава XXXIX ДОКТОРУ КРОФТСУ ОТКАЗЫВАЮТ
– Слышал ты новости, мой друг, из Малого дома? – спросила мистрис Бойс своего мужа спустя дня два или три после известного визита мистрис Дель.
Был час пополудни, и приходский пастор воротился домой после отправления треб, чтобы разделить трапезу с женой и детьми.
– Какие новости? – спросил мистер Бойс, он никаких новостей не слышал.
– Мистрис Дель с дочерьми оставляет Малый дом, они хотят переселиться в Гествик.
– Как, мистрис Дель уезжает!? Пустяки! – сказал пастор. – Да что ей за нужда ехать в Гествик? Она не платит ни одного шиллинга аренды за дом.
– Могу тебя уверить, мой друг, что это правда. Я только что теперь была у мистрис Харп, а она слышала это от самой мистрис Дель. Мистрис Харп говорит, что в жизнь свою не была до такой степени удивлена. Должно быть, вышла ссора, это всего вернее.
Мистер Бойс сидел молча, снимая перед обедом свои грязные башмаки. Такого важного известия, касающегося общественной жизни в его приходе, уже давно не доходило до него, и он едва верил столь неожиданной новости.
– Мистрис Харп говорит, что, по словам мистрис Дель, ничто, по-видимому, не может изменить ее намерения.
– И говорила, почему?
– Да не совсем. Но мистрис Харп говорила, что она поняла, как будто между нею и сквайром произошла размолвка. Оно и не могло быть иначе. Вероятно, тут дело касалось этого Кросби.
– Они будут очень нуждаться в деньгах, – сказал мистер Бойс, надевая туфли.
– Я то же самое говорила мистрис Харп. Эти девушки вовсе не были приучены к настоящей бережливости. Что с ними будет, право, не знаю, и мистрис Бойс, выражая свое сочувствие к дорогим друзьям, значительно успокоилась перспективой их будущей бедности. Это всегда так случается, мистрис Бойс была нисколько не хуже своих ближних.
– Ничего, еще, Бог даст, помирятся, – сказал мистер Бойс, на которого эта перемена в житейских делах подействовала так сильно, что он сомневался в ее возможности.
– Вряд ли, – сказала мистрис Бойс. – Мне что-то не верится. И он и она – люди очень упрямые. Мне всегда казалось, что эти прогулки верхом, подарки девицам шляпок и нарядов для верховой езды не доведут до добра. С ними обходились, как будто с дочерями сквайра, а они все-таки не его дочери.
– Да оно почти одно и то же.
– А теперь мы видим разницу, – сказала предусмотрительная мистрис Бойс. – Я часто говорила милой мистрис Дель, что она действует неблагоразумно, вот и выходит моя правда. Впрочем, я все-таки по-прежнему буду посещать их.
– Само собою разумеется.
– Какая перемена! Какая перемена! Это будет страшным ударом для бедненькой Лили, особливо после потери прекрасного жениха и прочего другого.
После обеда, когда мистер Бойс отправился по своим занятиям, тот же предмет был разбираем между мистрис Бойс и ее дочерями, причем мать старалась внушить своим детям, что достоинство мистрис Дель нисколько от этого не пострадает, что она останется все такою же леди, как и прежде, даже если б ей пришлось жить в закопченной лачуге в Гествике, из этого наставления девицы Бойс ясно поняли, что мистрис Дель, Белл и Лили были, так сказать, накануне падения в обществе и что с ними должно обходиться сообразно с их положением.
Все это, однако же, доказывает, что мистрис Дель не подчинилась доводам сквайра, хотя и не была в состоянии их опровергнуть. Возвратясь домой, она сознавала себя почти побежденной, и говорила с детьми с видом и тоном женщины, которая едва понимала прямую свою обязанность. Но дочери мистрис Дель не были свидетельницами обращения сквайра при этом случае, не слышали его слов и потому не могли согласиться на оставление своего намерения потому только, что оно не нравилось сквайру. Поэтому они убедили мать на новые решения, так что на другое утро мистрис Дель написала письмо своему деверю, в котором говорила, что она передумала обо всем им сказанном и решительно считает себя обязанною оставить Малый дом. Сквайр не ответил на это письмо, и потому она сообщила свои намерения мистрис Харп, полагая за лучшее не делать из этого тайны.
– Как жалко, что ваша невестка хочет нас оставить, – сказал мистер Бойс сквайру в тот же вечер.
– Кто вам это сказал? – спросил сквайр таким тоном, который показывал, что ему вовсе не нравится предмет, избранный пастором для разговора.
– Мне говорила мистрис Бойс, а ей, кажется, сообщила мистрис Харп.
– Лучше бы мистрис Харп занялась своими делами, а не распускала пустых толков.
Сквайр ничего больше не сказал, а мистер Бойс чувствовал, что сквайр обошелся с ним грубо.
Доктор Крофтс приезжал в Оллингтон и объявил как неоспоримый факт, что болезнь была скарлатина. Недаром сельские врачи обижаются на недоверчивость к их приговорам. Городские врачи всегда подтверждают все, сказанное сельскими.
– Нет никакого сомнения, что это скарлатина, – сказал доктор Крофтс. – впрочем, все симптомы болезни благоприятны.
Но как ни были благоприятны симптомы болезни, ее последствия были весьма нехороши для других. Дня через два Лили почувствовала себя нездоровою. Она хотела скрыть это, боясь попасть на попечение доктора как больная, но ее усилия были бесполезны, и на следующее утро узнали, что она заболела тоже скарлатиной. Доктор Крофтс уверял, что болезнь имеет вид самый благоприятный. Погода стояла холодная. Присутствие болезни в доме требовало только от всех большой осторожности и немедленного обращения к врачу за советом. Доктор Крофтс просил мистрис Дель успокоиться, но при этом настоятельно требовал, чтобы сестры не были вместе.
– Да нельзя ли вам отправить Белл в Гествик к мистрис Имс? – спросил он.
Но Белл протестовала против этой меры, и ее с трудом удалили из спальни матери, куда Лили, как больная, была переведена.
– Если вы позволите мне быть откровенным, – сказал Крофтс, обращаясь к Белл на второй день после того, как болезнь Лили выяснилась, – вы нехорошо делаете, оставаясь здесь.
– Я ни в каком случае не оставлю мама, когда у нее столько хлопот, – сказала Белл.
– Но если и вы заболеете, тогда прибавится еще больше хлопот.
– Я никак не могу этого сделать, – отвечала Белл. – Если меня увезут в Гествик, я буду так беспокоиться, что пешком приду назад, лишь только представится к тому удобная минута.
– Мне кажется, вашей матушке будет спокойнее без вас.
– А мне кажется, что ей будет спокойнее, когда я останусь при ней. Мне постоянно не нравилось, когда говорили, что такая-то женщина бежала от болезни, а когда поступает таким образом сестра или дочь, то это невыносимо.
Итак, Белл осталась, хотя и не получила дозволения видеться с сестрой, она только оставалась подле комнаты, занимаемой больною, и исполняла разные услуги, в которых оказывалась крайняя необходимость.
И вдруг сколько невзгод обрушилось на обитательниц Малого дома! Не поодиночке посетили их несчастья, а целою массою. Едва прошло два месяца с тех пор, как они получили ужасные известия касательно Кросби, известия, которые уже сами по себе были достаточны, чтобы лечь на все семейство тяжелым камнем, и к этим несчастьям начали прививаться другие – одно за другим. Вопреки предсказанию доктора, Лили заболела серьезно, и через несколько дней у нее обнаружился бред. Она беспрестанно твердила матери о Кросби, говоря о нем, как говорила во время минувшей осени. Но и в самом бреду она помнила, что они решились оставить свое настоящее жилище, она два раза спрашивала доктора, готова ли их квартира в Гествике.
При таких-то обстоятельствах доктор Крофтс впервые услышал о их намерении. В эти дни худшего состояния болезни Лили он приезжал в Оллингтон ежедневно и однажды оставался ночевать. За все эти хлопоты он ни под каким видом не хотел принять платы, да он ее и никогда не принимал от мистрис Дель.
– Лучше бы вам не ездить так часто, – сказала Белл однажды вечером, когда они вместе стояли у камина в гостиной и когда Крофтс только что вышел из комнаты больной, – вы обременяете нас своею обязательностью.
В этот день был перелом болезни Лили, и он мог объявить мистрис Дель, что больная, по его мнению, вне всякой опасности.
– Правда, мои визиты скоро совсем не будут нужны: самое худшее миновалось.
– О, как приятно это слышать! Она будет обязана вам жизнью, но за всем тем…
– О нет, скарлатина нынче совсем не такая страшная болезнь, как бывало прежде.
– Так зачем же вам было посвящать ей так много своего времени? Я страшусь при одной мысли о той потере для вас, в которой мы были причиной.
– Лошадь моя потеряла больше, чем я, – сказал доктор, смеясь. – Мои пациенты в Гествике не так многочисленны. – При этом доктор вместо того, чтобы уехать, сел на стул. – Так это верно, что вы оставляете этот дом?
– Совершенно верно. Мы переедем в конце марта, если только позволит состояние здоровья Лили.
Сказав это, Белл тоже села, и они долго смотрели на пылавший в камине огонь, не говоря ни слова.
– Скажите, Белл, какая этому причина? – спросил, наконец, доктор Крофтс. – Впрочем, я не знаю, вправе ли я делать подобные вопросы?
– Вы вправе спрашивать обо всем, что до нас касается, – отвечала Белл. – Наш дядя очень добр, более чем добр, он великодушен. Но, по-видимому, он воображает, что это дает ему право вмешиваться в дела нашей мама. Это нам не нравится, и потому мы уезжаем.
Доктор продолжал сидеть по одну сторону камина, а Белл продолжала сидеть против него. Но разговор как-то не вязался.
– Неприятное известие, – сказал доктор, после некоторого молчания.
– Но зато, когда кто из нас захворает, вам недалеко будет ездить.
– Да, понимаю. Это значит, что я не выразил удовольствия, что вы будете находиться вблизи от меня, но признаюсь, это меня нисколько не радует. Я не могу примириться с мыслию, что вы можете жить где-нибудь, кроме Оллингтона. В Гествике Дели будут совсем не на своем месте.
– Зачем же так думать о Делях?
– Что делать! Это, конечно, вроде деспотического закона noblesse oblige. Мне кажется, вы не должны оставлять Оллингтона, пока не потребуют того какие-нибудь важные обстоятельства.
– В том-то и дело, что этого требуют весьма важные обстоятельства.
– О, это другое дело!
И доктор снова предался молчанию.
– Разве вы никогда не замечали, что мама наша здесь несчастлива, – сказала Белл после довольно продолжительной паузы. – Что касается до меня самой, то я никогда этого не замечала, а теперь мне все ясно.
– Теперь и я понял, поняв, по крайней мере, на что вы намекаете. Она была стеснена в жизни, но примите в расчет, как часто подобное стеснение бывает непременным условием жизни. И все-таки я не думаю, что для вашей матушки это обстоятельство было побудительной причиной к вашему переезду.
– Нет, это делается собственно из-за нас. Стеснение, как вы его называете, огорчает и нас, потому-то мама в настоящем случае и руководствуется им. Дядя щедр для нее в отношении денег, но в других отношениях, как, например, в деле чувства, он очень скуп.
– Белл… – сказал доктор и остановился.
Белл взглянула на него, но не отвечала. Доктор постоянно называл ее по имени, и они всегда смотрели один на другого как на тесных друзей. В настоящую минуту Белл все забыла, кроме этого, и находила удовольствие сидеть и слушать его.
– Я хочу сделать вам вопрос, который, может быть, мне бы не следовало делать, но, пользуясь правом давнишнего знакомства, я говорю с вами, как с сестрою.
– Спрашивайте, что вам угодно, – сказала Белл.
– Не вышло ли тут чего-нибудь из-за вашего кузена Бернарда?
– Из-за Бернарда! – сказала Белл.
Уже стемнело. А так как у них не было другого света, кроме доставляемого камином, то Белл была уверена, что Крофтс не мог разглядеть румянца, покрывшего ее лицо, когда имя кузена было упомянуто. Впрочем, если бы в этот момент вдруг разлился дневной свет по всей комнате, то Крофтс вряд ли бы заметил этот румянец, потому что глаза его были пристально устремлены на огонь в камине.
– Да, из-за Бернарда! Не знаю, могу ли я спрашивать об этом?
– Право, не знаю, – отвечала Белл, произнося слова, которые принимали двоякий смысл.
– В Гествике разнесся слух, что вы и он…
– Этот слух неоснователен, – сказала Белл, и сказала совершенно несправедливо. – Если он опять повторится, то, пожалуйста, не верьте ему. Удивляюсь, к чему люди выдумывают подобные вещи.
– Это была бы прекрасная партия, все ваши родные, вероятно, порадовались бы ей.
– Что вы хотите сказать, доктор Крофтс? Как ненавистны для меня слова «прекрасная партия»! В них заключается более людской зависти и злобы, чем во всех прочих словах, взятых вместе. Вам бы тоже хотелось, чтобы я вышла за кузена собственно потому, что тогда я жила бы в Большом доме и ездила в карете. Я знаю, что вы нам друг, но мне не нравится такая дружба.
– Мне кажется, что вы меня не так поняли, Белл. Я хочу сказать, что это была бы прекрасная партия в таком только случае, если бы вы любили друг друга.
– Нет, я вас совершенно понимаю. Конечно, партия была бы хорошая, если бы мы любили друг друга. То же самое можно сказать, если бы я любила нашего мясника или булочника. Вы хотите сказать, что состояние Бернарда может служить достаточным поводом, чтобы любить его.
– Не думаю, чтобы в словах моих заключался подобный смысл.
– В таком случае в них не было никакого смысла.
После этих слов наступило молчание, во время которого доктор Крофтс встал с намерением удалиться.
– Вы меня ужасно разбранили, – сказал он с легкой улыбкою. – Впрочем я того заслуживаю за вмешательство…
– Нет, вовсе не за вмешательство.
– За что бы там ни было, во всяком случае, вы должны простить меня перед отъездом.
– Я вас не прощу до тех пор, пока вы не раскаетесь в ваших грехах и дурных помышлениях. Вы скоро сделаетесь таким же злым, как доктор Гроффен.
– Неужели?
– Но все же я прощаю вас, вы самый великодушный человек в мире.
– Ну да, конечно. Итак, прощайте!
– Однако, доктор Крофтс, вы не должны полагать, что другие не менее вас преданы земным благам. Вы, кажется, не очень хлопочете о деньгах…
– Напротив, очень хлопочу о них.
– Если бы это была правда, то вы не стали бы ездить сюда даром каждый день.
– Деньги меня весьма интересуют. Я некогда был очень несчастлив, за неимением случаев нажить деньги. Деньги – лучший друг человека.
– О, доктор Крофтс!
– Лучший друг, какого только может приобрести человек, разумеется, приобретая честным образом. Женщина едва ли в состоянии представить себе всю горесть, которую испытывает мужчина от недостатка подобного друга.
– Конечно, всякому приятно приобретать деньги честным трудом, чтобы иметь возможность жить приличным образом, а для вас это совершенно возможно.
– Ну, это зависит от понятия человека о приличии.
– Что до меня, то мои понятия об этом всегда были скромны, я всегда как-то приспособлялась в жизни к свиному хлевушку, разумеется, чистенькому хлевушку, с чистенькой, свежей соломкой для постилки. Мне кажется, что, сделав из меня леди, сделали большую ошибку. Право, так.
– А по-моему, далеко не так, – сказал Крофтс.
– Это потому, что вы меня худо еще знаете. Переодевание три раза в день не доставляет мне никакого удовольствия. Часто я это делаю по одной привычке, вследствие образа жизни, к которому нас приучили. Но когда мы переедем в Гествик, я намерена изменить это, и если вы когда-нибудь вечером зайдете к нам на чашку чаю, то увидите меня в том же кофейном платье, какое было на мне поутру, за исключением разве таких случаев, когда утренние занятия загрязнят кофейное платье. Ах, доктор Крофтс, вам придется ехать под гествикскими ильмами в совершенной темноте.
– Темнота ничего не значит для меня, – сказал Крофтс; казалось, что он не совсем еще решился уехать.
– А я так не люблю потемок, – сказала Белл, – я позвоню, чтобы подали свечей.
Но Крофтс удержал ее в то время, когда она протянула уже руку к колокольчику:
– Подождите, Белл. Вам не понадобятся свечи до моего отъезда, и вы не рассердитесь на меня, если пробуду еще несколько минут, ведь вы сами знаете, что дома я буду один-одинешенек.
– Рассердиться на вас, если вы пробудете еще несколько минут?
– Да, вы или должны рассердиться на это, или, если не рассердитесь, доставить мне несколько минут истинного счастья.
Доктор Крофтс все еще держал Белл за руку, которую он поймал, помешав ей взять колокольчик и позвать служанку.
– Что вы хотите сказать? – спросила Белл. – Вы знаете, что мы так всегда рады вашему появлению у нас в доме, как майским цветкам. Вы всегда были для нас самым дорогим гостем, в особенности теперь, когда у нас столько хлопот… Во всяком случае, вы никогда не можете сказать, что я вас прогоняла.
– Вы думаете, что не скажу? – спросил Крофтс, не выпуская ее руки.
Во все это время он не вставал со стула, тогда как Белл стояла перед ним, – стояла между ним и огнем. Белл хотя и занимала такое положение, но не обращала особенного внимания ни на слова его, ни на действия. Они находились друг к другу в самых дружеских отношениях, и хотя Лили частенько подсмеивалась над сестрой и говорила, что она влюблена в доктора Крофтса, но Белл давным-давно приучила себя к мысли, что между ними не существовало ничего подобного этому чувству.
– Вы думаете, что никогда не скажу? А что, если бы такой бедняк, как я, попросил руки, в которой вы отказали такому богатому человеку, как ваш кузен Бернард?
Белл моментально отдернула руку и сделала шага два назад через каминный ковер. Она сделала это движение, как будто ее вдруг оскорбили или как будто мужчина произнес перед ней такие слова, с которыми не имел права обращаться к ней при каких бы то ни было обстоятельствах.
– Вот видите, я так и думал, – сказал Крофтс. – Теперь я могу уехать… и буду знать, что меня прогнали.
– Перестаньте, доктор Крофтс Вы говорите совершенный вздор и как будто нарочно хотите вывести меня из терпения.
– Действительно, вздор. Я не имею никакого права говорить вам это, а тем менее теперь, когда нахожусь в вашем доме по обязанности. Простите меня, Белл. – В это время он тоже стоял, но не сделал ни шагу от своей стороны камина. – Простите ли вы меня до моего отъезда?
– В чем же мне простить вас? – спросила она.
– В том, что я осмелился полюбить вас, что я люблю вас с того времени, как вы себя помните, наконец, в том, что люблю вас более всего на свете. За это, я знаю, вы должны простить меня, но простите ли вы мне в том, что я вам все это высказал?
Доктор Крофтс не намерен был сделать ей предложение, а Белл с своей стороны вовсе этого не ожидала, она еще не совсем разъяснила себе значение его слов и, конечно, никогда не задавала себе вопроса, что следовало отвечать ей на эти слова. Бывают случаи, когда любящие существа являются под такой легко угадываемой маской, что при первом откровенно сказанном слове любви обнаруживаются все самые сокровенные чувства, и обнаруживаются, не подавая другой стороне ни малейшего повода к удивлению. Это обыкновенно всегда так бывает, когда влюбленный не считает себя старинным другом и когда его знакомство началось еще очень недавно. Так это было в деле любви Кросби и Лили Дель. Когда Кросби явился к Лили и сделал ей предложение, он исполнил это с совершенным спокойствием и самосознанием, потому что почти был уверен, что предложения этого ждали. Лили хотя и сконфузилась в первую минуту, но была совершенно готова с своим ответом. Она уже любила его всем сердцем, была счастлива в его присутствии, пленялась его красивой наружностью, восхищалась его остротами и подстраивала свой слух под звуки его голоса. Словом, все было подготовлено и все ожидали этого исхода. Если бы он не сделал предложения, то Лили была бы вправе считать себя обиженною, – хотя, увы, увы! обиды были впереди, и какие тяжелые обиды! Бывают, впрочем, и другие случаи, в которых любящие не могут выясниться подобным образом, не преодолев сначала больших затруднений, а когда и выяснятся, то не могут надеяться на немедленный ответ в свою пользу. А ведь как должно быть обидно старым друзьям, что на них-то именно и падает вся тяжесть таких затруднений. Крофтс был так близко знаком с семейством Делей, что многие полагали весьма вероятным женитьбу его на которой-нибудь из сестер. Так думала сама мистрис Дель, и даже надеялась. Лили тоже думала и положительно надеялась. Правда, эти думы и надежды несколько поблекли, но все-таки их прежнее существование клонилось в пользу доктора Крофтса. И теперь, когда доктор до некоторой степени высказался, Белл отступила от него и не верила, что он говорил серьезно.
Весьма вероятно, что она любила его больше всякого другого мужчины на свете, а все же, когда он заговорил ей о своей любви, она не могла принудить себя понять его.
– Я не понимаю, доктор Крофтс, что вы хотите сказать, право, не понимаю, – сказала она.
– Я хотел просить вас сделаться моею женою, кажется, это очень понятно. Но, пожалуйста, не затрудняйтесь объявить мне положительный отказ. Я думал об этом сегодня, ехавши сюда. Вообще во время моих частых поездок сюда в последнее время я очень мало думал о чем-нибудь другом и вместе с тем говорил самому себе, что не имел на это права. У меня даже нет такого дома, в котором бы вы могли жить приличным образом.
– Доктор Крофтс, если бы я вас любила… если бы я желала выйти за вас… – И тут она остановилась.
– Но вы не любите меня и не хотите выйти за меня?
– Нет, не знаю. Я думаю, что нет. Во всяком случае, деньги не имеют тут никакого значения.
– Ведь я не тот мясник и не тот булочник, которого вы могли бы любить?
– Нет, – сказала Белл и прекратила дальнейшее объяснение, не потому, что хотела, чтобы весь ответ ее выразился в этом отрицании, а потому, что не умела совладеть с другими словами.
– Я знал, что это так и будет, – сказал доктор. – Очень боюсь, что те, которые примут на себя труд анализировать образ действия этого любовника и его способ ведения любовной интриги, подумают, что он был очень неспособен на такое дело. Дамы скажут, что у него недоставало ума. Я, однако ж, склонен думать, что он вел себя так же хорошо, как ведут себя мужчины в подобных обстоятельствах, и что вообще он был нисколько не хуже многих других любовников. Возьмем, например, смелого любовника, который сшибает предмет своего обожания, как птичку, такой любовник, в случае промаха по своей птичке, проклял бы себя, стал бы клятвенно уверять, что его ружье испорчено, принял бы вид, как будто ожидает светопреставления. А вот и робкий любовник, который жмурит глаза при выстреле, который с той минуты, как надел охотничьи сапоги, заранее был уверен, что ему ничего не удастся убить, и который, слушая от своих приятелей громкие поздравления с полем, не в состоянии поверить самому себе, что ему удалось зашибить хорошенькую птичку благодаря собственному своему искусству и ловкости. Скромный охотник не бросает этой хорошенькой птички в телегу, боясь, что она затеряется в общей груде дичи, но кладет ее на грудь и бережно несет домой, она одна дороже ему сотни птиц, которых убивают другие.
Доктор Крофтс принадлежал к числу робких охотников и при выстреле так зажмурил глаза, что совершенно не знал, попал ли он в птичку, в которую целил, или нет. А так как тут не случилось никого, кто бы мог поздравить его, то он был совершенно уверен, что птичка, даже не подраненая, перелетела на другое поле. «Нет» было единственное слово, которым Белл отвечала на косвенный вопрос доктора, а слово «нет» далеко не успокоительно для любящих. Впрочем, и в слове «нет», сказанном Белл, было нечто, заставлявшее его думать, что птичка была бы подстрелена, если б он не совсем растерялся.
– Теперь я отправлюсь, – сказал Крофтс и остановился в ожидании ответа, но ответа не было. – Теперь вы поймете, на что я намекал, говоря, что меня выгонят.
– Вас… никто не гонит. – Говоря эти слова, Белл чуть не заплакала.
– Во всяком случае, мне пора ехать, не правда ли? Пожалуйста, Белл, не подумайте, что эта маленькая сцена может помешать мне являться к постели вашей больной сестры. Я приеду завтра, и вы едва ли узнаете во мне того же человека. – С этими словами Крофтс в потемках протянул ей руку.
– Прощайте, – сказала она, подавая руку.
Крофтс крепко сжал ее, но Белл не могла решиться отвечать на пожатие, хотя и желала того. Ее рука оставалась безжизненною в его руке.
– Прощайте, мой милый друг, – сказал доктор.
– Прощайте, – сказала Белл.
И доктор Крофтс удалился.
Белл оставалась неподвижною, пока не услышала, что наружная дверь затворилась за Крофтсом, тогда она тихо прокралась в свою спальню и села перед камином. По принятому обычаю ее мать должна была оставаться при Лили, пока внизу не будет подан чай, в эти дни болезни обедали обыкновенно рано. Белл знала поэтому, что у нее оставалось около полчаса времени, в течение которого она могла спокойно посидеть и подумать.
Какие же естественнее всего могли быть ее первые думы, что она безжалостно отказала человеку, который, как известно, был очень хорош, любил ее страстно и к которому она всегда питала чистейшую дружбу? Нет, не такие были ее думы, они не имели никакого отношения к этому отказу. Думы ее унеслись к годам давно прошедшим и остановились на светлых тихих днях, в которые она мечтала, что была любима им и что сама его любит. О, как часто с тех пор она упрекала себя за эти дни и приучала себя думать, что ее мечты были чересчур уже смелы. И вот она дождалась всего этого. Единственный человек, который ей нравился, любил ее. Тут она вспомнила один день, в который почти гордилась тем, что Кросби восхищался ею, день, в который она была почти уверена, что пленила его, при этом воспоминании она покраснела и два раза ударила ногою по полу. «Милая, дорогая Лили! – сказала она про себя. – Бедная Лили!» Впрочем чувство, которое вызвало ее думы о сестре, не имело ни какой связи с тем чувством, которое навело Кросби на ее мысли.
И этот человек любил ее во все это время, такой бесценный, несравненный человек, который был столько же верен, сколько другой вероломен, у которого душа столько же была чиста, сколько у другого грязна. Улыбка не сбегала с ее лица в то время, когда она, размышляя об этом, сидела и смотрела в огонь. Ее любил человек, которого любовь стоила того, чтобы владеть ею. Она сама еще не знала, отказала ли ему или приняла его предложение. Она еще не сделала себе вопроса: как должно было поступить ей? Об этом необходимо надо много и много подумать, но необходимость эта не представлялась еще настоятельною. В настоящую минуту, по крайней мере, Белл могла быть спокойна и торжествовать, и она сидела торжествующая, пока старая няня не пришла сказать, что внизу ее ожидает мама.
Глава XL ПРИГОТОВЛЕНИЯ К СВАДЬБЕ
Четырнадцатое февраля было окончательно назначено днем, в который мистер Кросби должен был сделаться счастливейшим человеком. Сначала был назначен более отдаленный срок, именно двадцать седьмое или двадцать восьмое число, чтобы март начался для молодых супругов новою эрою, но леди Амелию до такой степени напугало поведение Кросби в один из предшествовавших воскресных вечеров, что она дала графине понять, что в деле этом не должно быть допущено ни малейшего отлагательства. «Он не посовестится решиться на всякого рода поступок», – говорила леди Амелия в одном из своих писем, быть может, обнаруживая этим менее уверенности в могущество своего высокого сана, чем можно было бы ожидать. Графиня соглашалась с нею, и когда Кросби получил от тещи своей весьма любезное послание, в котором излагались все причины, почему четырнадцатое февраля считалось более удобным, чем двадцать восьмое, он не мог придумать причины, почему бы ему не сделаться счастливым двумя неделями ранее условленного времени. Впрочем, первым его душевным движением было не уступать никаким требованиям, более или менее клонившимся к нарушению сделанных условий. Но какую извлечет он пользу из упрямства? Какая будет польза, по крайней мере, из того, что они поссорятся именно в это время? Кросби надеялся, что чем скорее женится, тем легче ему будет освободиться от деспотизма семейства де Курси. Когда леди Александрина будет принадлежать ему, он заставит ее понять, что намерен быть вполне ее господином. И если бы, приводя эту мысль в исполнение, потребовалось совсем отделиться от всех де Курси, такое отделение должно совершиться. В настоящем случае он соглашался уступить им, по крайней мере, только в этом деле. Итак, четырнадцатое февраля было назначено днем бракосочетания.
На второй неделе января Александрина приехала похлопотать о своих вещах, или, выражаясь более благородным языком, запастись приличными свадебными принадлежностями. Так как ей не представлялось никакой возможности сделать все это одной, даже под наблюдением и с помощью сестры своей, то леди де Курси должна была тоже приехать в столицу. Леди Александрина приехала, однако же, прежде и, ожидая приезда графини, оставалась у сестры в Сент-Джонс-Вуде. Графиня до сих пор никогда не соглашалась воспользоваться гостеприимством своего зятя и постоянно помещалась в холодном, неуютном доме в Портман-сквэре, доме, который уже много лет служил фамильным городским жилищем де Курси и который графиня охотно и давно бы променяла на какое-нибудь помещение по другую сторону улицы Оксфорд, но граф был непреклонен, его клубы и разные места, которые ему случалось посещать, находились на правой стороне этой улицы, да и к чему было переменять старое семейное жилище? Поэтому графине надлежало приехать в Портман-сквэр, тем более что при этом случае ее вовсе не пригласили в Сент-Джонс-Вуд.
– Как вы думаете, не лучше ли нам пригласить… – говорил мистер Гезби своей жене, почти с трепетом возобновляя это предложение.
– Не думаю, мой друг, – отвечала леди Амелия. – Мама не очень разборчива, при том же есть некоторые безделицы, вы знаете…
– Ну да, конечно, – сказал мистер Гезби, и разговор на этом прекратился. Он бы с удовольствием оказал гостеприимство своей теще, во время ее пребывания в столице, но ее присутствие в его доме было бы невыносимо для него все время ее пребывания.
С неделю Александрина оставалась под кровом мистера Гезби и в продолжение всего этого времени наслаждалась лицезрением своего жениха. Само собою разумеется, Кросби дали понять, что он должен был всякий день обедать у Гезби и там же проводить все вечера, отказаться от этого удовольствия при настоящих обстоятельствах не было никакой возможности. Да и то сказать, в эти счастливые минуты ему некуда было девать свое время. Несмотря на смелую решимость и твердое намерение не лишать себя удовольствия посещать общество даже после поражения в недавнем бою, он не очень усердно посещал свой клуб, и хотя Лондон снова уже наполнился народом, но Кросби выходил из дому не так часто, как бывало прежде. Предстоявший брак, при всей своей блистательности, нисколько по-видимому не увеличивал его популярности, напротив, общество, т. е. его общество, начинало смотреть на него с некоторою холодностью, поэтому ежедневное посещение Сент-Джонс-Вуда не имело для него той скуки, которою постоянно отличалось это место.
Для молодой четы наняли помещение в весьма модной улице, примыкающей к Кэйкватер-роад и называемой Принсесс-Ройяль-Кресцент. Дом был совершенно новый, а улица, еще недост роенная, имела сильный запах извести и вообще была загромождена лесами и мусором, но тем не менее она была признана весьма удобною и самою приличною местностью. С одного конца Кресцента можно было видеть угол Гайд-Парка, а другой конец примыкал к весьма красивой террасе дома, в котором обитали посланник из Южной Америки, несколько банкирских старших приказчиков и какой-то пэр королевства. Нам известно, до какой степени неприятно звучит название улицы Бэйкар, и как еще неприятнее для слуха порядочного человека – Фиц-Рой-сквэр, хотя дома в этих частях города и прочные, и теплые, и поместительные. Дом в Принсесс-Ройяль-Кресценте, конечно, не был особенно прочен, потому что в нынешнее время прочно построенные дома не оплачивают затраченного капитала. Вряд ли он был и тепел, потому что, надо признаться, он еще не был совершенно окончен, что же касается до его величины и поместительности, то гостиная хотя была великолепная и занимала почти всю ширину дома за исключением угла, отрезанного для лестницы, но в других помещениях он был очень сжат.
– Не имея собственного капитала, нельзя удовлетворить всех своих желаний, – сказала графиня, когда Кросби сделал замечание, увидев при осмотре дома, что чулан под кухонной лестницей был назначен ему уборною.
При возбуждении вопроса о найме дома для молодых леди Амелии очень хотелось, чтобы местность была поближе к Сент-Джонс-Вуду, но в этом Кросби отказал наотрез.
– Мне кажется, вам не нравится Сент-Джонс-Вуд, – сказала леди Амелия довольно сурово, думая испугать Кросби и принудить его признаться, что он не имел к этой местности ни малейшего предубеждения.
Но Кросби на этом не ловился.
– Нет, не нравится, – отвечал он. – Я всегда ненавидел его. Я вполне убежден, что если бы мне пришлось жить здесь против моего желания, то я бы перерезал себе горло по прошествии первых шести месяцев.
При этом леди Амелия приняла важный вид и выразила сожаление, что ее дом так ненавистен ему.
– Нет, – сказал он. – Собственно ваш дом мне очень нравится, и я всегда с особенным удовольствием провожу в нем время. Я только говорю о действии, которое произвела бы на меня здешняя местность, если бы мне пришлось поселиться здесь.
Леди Амелия обладала достаточным умом, чтобы понять, в чем дело, но, принимая живейшее участие в интересах сестры, она продолжала оказывать будущему зятю особенное внимание, и потому спорный пункт о Сент-Джонс-Вуде оставлен был без всяких последствий.
Самому Кросби хотелось поселиться в одном из новых скверов Пимлико, близ моста Вокзала и близ реки, его более побуждало к тому огромное расстояние между этою местностью и северною частью города, где жила леди Амелия, но на это ни под каким видом не соглашалась и леди Александрина. Дело другое, если бы им удалось попасть в Итон-сквэр или в одну из улиц, примыкавших к Итон-сквэру, даже если бы удалось прилепиться где-нибудь на окраине Белгравии, – невеста тогда была бы совершенно счастлива. Сначала леди Александрине именно то и предлагали, чего она желала, но ее географические сведения о Пимлико были весьма несовершенны, и потому она чуть-чуть не впала в роковую ошибку. Хорошо еще, что в это дело вмешался добрый друг. «Ради самого неба, моя милая, не дозволяй ему завозить себя дальше Экльстон-сквэра!» – было восклицание, которым поразила леди Александрину верная ее подруга, замужняя сестра. Предостереженная таким образом Александрина сделалась непоколебимою и окончательно решила, что местом нового их жительства должен быть Принсесс-Ройяль-Кресцент, откуда с одного конца был виден угол Гайд-парка.
Мебель заказывалась преимущественно под наблюдением и опытностью леди Амелии. Кросби довольствовался уверением, что она во всяком случае сумеет приобрести все нужное дешевле, нежели удалось бы купить ему самому, и что вообще он не имел вкуса в деле подобного рода. Несмотря на то, он уже начинал чувствовать, что становился жертвою деспотизма и что его прибрали к рукам. Он не мог принять надлежащего участия в покупке кроватей и стульев, а потому и передал все дело партии де Курси. Этому была и другая причина, до сих пор еще не упомянутая. Потребные на покупку мебели деньги доставлялись мистером Мортимером Гезби. С честным, но непонятным рвением к семейству де Курси, Гезби успел все деньги, принадлежащие Кросби, употребить в пользу леди Александрины. Он хлопотал для нее, собирая тут, распределяя там, и так связал нареченного мужа ее свадебным контрактом, как будто будущее благосостояние собственных его детей зависело от действительности его трудов. И за все это ему не приходилось получить ни одного пенни, а также извлечь какие-нибудь выгоды настоящие или будущие. Все это происходило от его усердия, его преданности к графской короне, прикрывавшей герб лорда де Курси. По его понятиям, граф и все принадлежавшее к его титулу имели полное право на подобное усердие. Такова была теория, в которой воспитался Гезби; руководствуясь ею, он иногда бессознательно предавался унижению. Лично он терпеть не мог лорда де Курси, который обходился с ним весьма грубо. Он знал, что граф был бессердечный, злой, дурной человек, но, как граф, он имел право на услуги мистера Гезби, которыми обыкновенный человек ни под каким видом не мог бы воспользоваться.
Пристроив таким образом все доступные суммы на обеспечение, по-видимому, ожидаемого вдовства леди Александрины, мистер Гезби сам доставил деньги на устройство нового хозяйства.
– Вы можете уплачивать мне полтораста фунтов в год из четырех процентов, пока не покроется весь долг, – сказал он Кросби, и Кросби должен был согласиться.
До настоящей поры Кросби хотя и вел в Лондоне жизнь модного джентльмена, но никому и никогда не был еще должен. И вот ему представлялась перспектива долгов. Впрочем, и то сказать, когда чиновник, занимающий должность в какой-нибудь общественной конторе, женится на дочери графа, то нельзя же ему ожидать, что все пойдет по его желанию.
Леди Амелия купила обыкновенную мебель, постели, ковры на лестницу, умывальники и кухонную посуду. Гезби приобрел отлично дешево обеденный стол и буфет. Но что касается до украшений, относящихся к гостиной, это должна была решить сама леди Александрина. По гардеробной части графиня намеревалась помочь своим советом, по этим предметам нельзя было посылать счеты к мистеру Гезби, чтобы он уплатил их из четырех процентов, приписав всю сумму к долгу жениха. Подвенечное приданое должно было приготовить на средства самих де Курси, а потому необходимость заставила графиню явиться на сцену.
– У меня чтобы не было векселей! Слышите? – проворчал граф, проскрежетав по другим зубам одним своим особенно черным и безобразным зубом. – Чтобы не было векселей по этому делу!
А между тем чистых денег не давал. При таких-то обстоятельствах графине и представилась необходимость самой явиться на сцену. Мистер Гезби во время своего недавнего посещения замка Курси по деловым отношениям получил двусмысленный намек, что счеты модисток можно очень удобно пришпилить к счетам мебельщиков, торговцев посудою и тому подобным. Графиня, делая этот намек, старалась внушить своему зятю, что с недавнего времени мода изменилась и что подобные меры считались совершенно позволительными между людьми, действительно живущими в большом свете. Но Гезби был человек с ясным взглядом на вещи, человек честный, он хорошо знал графиню. Ему очевидно было, что в настоящем случае нельзя прибегнуть к подобной мере. Поэтому графиня не стала предлагать дальнейших советов и решилась сама отправиться в Лондон.
Приятно было видеть, как леди Амелия и Александрина сидели среди огромного склада ковров и расспрашивали четырех приказчиков, которые показывали им товар, – видеть их, когда они склоняли друг к другу головки и шептались, вероятно, о том, как бы выторговать лишних два пенса на ярд и за это наделать продавцам как можно больше хлопот. Приятно было видеть это потому, что они отлично умели управлять своими огромными кринолинами, проходя между огромными свертками ковров, и потому еще, что они вполне наслаждались и принимали уважение со стороны приказчиков, как дань, неотъемлемо им принадлежащую. Но не так было приятно видеть мистера Кросби, который торопился в должность, которому не было предоставлено никакого права участвовать в выборе покупаемых предметов и на которого приказчики смотрели как на человека совершенно лишнего. Сестрицы условились быть в магазине в половине одиннадцатого, так чтобы Кросби можно было явиться в должность к одиннадцати или немного позже. Но прежде чем они оставили дом Гезби, уже пробило одиннадцать, и очевидно было, что полчаса времени на выбор ковров далеко не достаточно. Полосы великолепных, ярких цветов развертывались перед ними на целые мили, а потом, когда попадали рисунки, по их мнению подходящие, то кусок развертывали взад и вперед до тех пор, пока им покрывался целый зал. Кросби пожалел приказчиков, таскавших с места на место огромные груды товара, между тем как леди Амелия сидела так спокойно, как будто ей вменялось в обязанность пересмотреть каждый ярд всех товаров в магазине. «Покажите мне еще раз вон тот кусок, что внизу». И приказчики снова принимались за работу, снова передвигали целые горы. «Нет, моя милая, зеленый цвет очень не прочен, он полиняет, лишь только на него прольется кипяток». Приказчик улыбался невыразимо сладко и уверял, что собственно этот зеленый цвет никогда не полиняет. Но леди Амелия не обращала на него внимания, и ковер, из-за которого передвинута была целая гора, сделался частью другой горы.
– Вот этот бы годился, – говорила Александрина, засматриваясь на великолепный пунцовый фон, по которому извивались желтые реки, унося в своих струях бесчисленное множество синих цветов. Говоря это, она грациозно склонила голову на одну сторону и с сомнением глядела на ковер.
Леди Амелия тыкала в него своим зонтиком, как бы желая узнать его прочность и в то же время прошептала, что на желтых цветах скоро выказывается грязь.
Кросби посмотрел на часы и простонал.
– Самый превосходный ковер, миледи, и самого новейшего рисунка. Не далее как в прошлом месяце мы доставили четыреста пятьдесят ярдов этого самого ковра в замок герцогини Саут-Вельской. Вы его нигде не найдете, потому что он еще не поступал в магазины.
Леди Амелия еще его потыкала, потом встала и прошлась по нем. Леди Александрина еще немного склонила голову на сторону.
– Пять фунтов и три шиллинга? – спросила леди Амелия.
– О, нет, миледи, пять и семь, дешевле этого вы не найдете ни в каком магазине. Поверьте, что эта краска самим обошлась по два пенса дороже на ярд.
– Ну, а сколько уступки? – спросила леди Амелия.
– Два с половиною процента, миледи.
– О, нет, ни за что, – сказала леди Амелия. – При расплате чистыми деньгами я всегда беру пять процентов, деньги сейчас же, понимаете.
Приказчик объяснил, что вопрос должен поступить на решение хозяина, у них уж так заведено: уступка два с половиною процента. Кросби, смотревший вовсе это время в окно, сказал, что ему решительно невозможно долее ждать.
– Ну как вам нравится, Адольф? – спросила Александрина.
– Что нравится?
– Этот ковер. Вот этот, видите?
– О, нравится ли мне ковер? Мне что-то очень не нравятся эти желтые полосы, и кажется, он чересчур красен. По моему мнению, коричневый фон с мелким рисунком был бы гораздо лучше. Впрочем, поверьте, мне совершенно все равно.
– Разумеется, ему все равно, – сказала леди Амелия.
После того совещания обеих леди продолжались еще минут пять, и ковер был выбран с известною уступкою.
– Теперь поговорим о прикамином коврике, – сказала леди Амелия.
Но тут Кросби решительно не вытерпел и объявил, что ему необходимо отправиться в должность.
– Я ведь вам не нужен, вы сами выберете коврик, – сказал он.
– Пожалуй, что и так, – заметила леди Амелия.
Но ясно было видно, что Александрине не понравилась необходимость, через которую она лишалась своего проводника.
То же самое повторилось и в улице Оксфорд при покупке стульев и диванов, и Кросби уже начинал желать, чтобы все кончилось как можно скорее, даже если бы ему пришлось одеваться в чулане под кухонной лестницей. Он приучился ненавидеть все принадлежащее к дому в Сент-Джонс-Вуде. Его стали уже ознакомлять с маленькими семейными экономиями, о которых до настоящей поры он вовсе не знал и которые сделались ему ненавистны, когда объяснили их значение. Ему старались внушить, что эти сбережения существенно необходимы именно у людей, поставленных в его положение, у людей, которым приходилось при ограниченных способах поддерживать приличный вид во всем, что относилось до модного света. Обильный забор провизии у мясника и бесконечные счеты за стирку белья при полутора тысячах дохода дозволительны только для тех, которые редко выезжали в свет и которые могли сесть на первого встречного извозчика, когда им приходилось выезжать. Но леди Александрине предстояли некоторые обязанности, а потому строжайшая экономия должна составлять в хозяйстве одно из главных условий. Захотела ли бы Лили Дель иметь карету, конечно, наемную, но представляющую вид собственной, в ущерб мужниных бифштексов и чистого белья? Этот вопрос и подобные ему нередко задавал себе Кросби.
Но тем не менее он старался любить Александрину, или, вернее сказать, старался уверить себя, что он ее любит. Если б ему удалось только удалить ее от партии де Курси, а тем более от отрасли этой партии – Гезби, он бы отучил ее от всего этого.
Он бы приучил ее торжественно сидеть в наемном кебе и запасать провизию щедрою рукою. Приучить ее! когда ей минуло за тридцать лет и когда она получила такое элегантное воспитание! Уж не намерен ли он запретить ей видеться с ее родными, ездить в Сент-Джонс-Вуд, переписываться с графиней и леди Маргаритой? Приучить ее! Как бы не так! Неужели он еще не знал, что араба как ни вымывай, а из него все-таки не выйдет белого? Да если бы он и обладал всеми способностями для такого дела, то и тогда бы ему не удалось, а он был совершенно на это неспособен! Но кто же пожалеет о нем? Лили, которую он мог бы лелеять на груди своей, никогда бы не была и не могла бы быть для него тем, чем становилась леди Александрина.
Наконец наступило время приезда графини в город, и Александрина переселилась в Портман-сквэр. Кросби почувствовал большое облегчение, потому что это обстоятельство избавляло его от ежедневных скучных путешествий на северо-запад Лондона. Можно сказать, что он положительно ненавидел этот открытый для всех ветров угол близ церкви, который ему приходилось огибать, идучи к жилищу Гезби, и что ему ненавистен был фонарь, который освещал дорогу к уличной двери Гезби, ненавистна самая дверь. Дверь эта как бы пряталась в стене, она выходила на узкую дорожку, пересекающую так называемый садик, или передний двор, на котором стояли два железные ящика для гераней, окрашенные под мрамор, и статуя нагой женщины на пьедестале. Во всем Лондоне, казалось Кросби, не было места, такого холодного, как небольшой клочок мостовой перед этой дверью. И тут-то, на этом клочке, нередко заставляли его ждать пять, десять, даже пятнадцать минут, как он уверял, хотя я совершенно расположен думать, что такая задержка никогда не превышала трех минут, потребных для лакея Ричарда, чтобы скинуть с себя рабочий костюм и облечься в парадный наряд. Куда как было бы хорошо, если бы двери отворялись перед нами с помощью средств, и самых легких и самых натуральных! Не так давно мне самому пришлось простоять несколько минут у величавого подъезда, в то время, когда я начинал уже терять терпение, пришла хорошенькая девушка и отворила дверь. Действительно, это была прехорошенькая девушка, хотя ее руки, лицо и передник ясно говорили, что она занималась чисткою камина.
– Ах боже мой, – сказала она, – ведь у нас принимают по средам; если бы вы пожаловали в тот день, вам отворил бы дверь швейцар в парадной ливрее.
Уголком передника она приняла мою карточку, точно также как принял бы ее швейцар, но что бы было с этой девушкой, если бы слова ее подслушала хозяйка дома?
Кросби ненавидел дом в Сент-Джонс-Вуде, и потому приезд графини служил для него отрадным явлением, Портман-сквэр был доступнее, графиня не станет, подобно этим Гезби, навязываться ему с своим гостеприимством. В первый визит в Портман-сквэр его проводили в большую семейную столовую, которая была в задней половине дома. Само собой разумеется, передние окна были занавешены, чтобы показать, что семейства де Курси не было в Лондоне. Кросби простоял в этой комнате около четверти часа до появления графини во всем ее величии. Кажется, ему ни разу еще не удавалось видеть ее такою великолепною. Широкое платье ее зашумело в широких дверях, как бы требуя еще большого простора, на ней были какая-то удивительная шляпка и шелковая мантилья, едва ли не шире ее юбок. Подходя к Кросби, она откинула назад свою голову, так что Кросби сразу почувствовал, что его окружила приятная, но вместе с тем далеко не лестная для его самолюбия атмосфера. В былые дни графиня ему нравилась, потому что в своем обращении старалась более или менее льстить ему. В своих беседах с нею он мог чувствовать, что сообщал ей столько же, сколько получал, и что графиня это хорошо понимала. Во всех фазах их знакомства Кросби удерживал за собой первенство, а потому и самое знакомство имело свою приятность. Графиня была любезная, приятная женщина, ее звание и положение в обществе делали дом ее привлекательным, поэтому-то Кросби и старался озарять ее тем светом, которым сам обладал. Почему бы, кажется, измениться отношениям между ними в то время, когда представлялся случай к еще большему сближению? Кросби замечал эту перемену и с горьким упреком сознавал, что эта женщина начинала над ним господствовать. Прежде, как друг графини, он в ее глазах был великим человеком, в самых пустых словах, в ничего не выражающих взглядах она признавала его власть, а теперь, как зять, он должен сделаться маленьким человечком, таким, каким был Мортимер Гезби.
– Милый Адольф! – сказала она, взяв его за обе руки. – Недалек уже тот день, не правда ли?
– Очень недалек, ваша правда, – сказал Кросби.
– Да, очень, очень недалек. Надеюсь, что вы чувствуете себя счастливейшим человеком!
– О, да, без всякого сомнения.
– Иначе и быть не может. Положительно говорю, что иначе этого и быть не может. Леди Александрина обладает всем, что только может пожелать муж от жены. Я не говорю уже о ее положении в свете, хотя вы не можете не ценить тех выгод, которые она приносит вам и в этом отношении.
Кросби пробормотал что-то о полном своем убеждении относительно выигрыша в эту лотерею, но так пробормотал, что до слуха графини не дошло надлежащее значение слов, в которых выражалась принужденная признательность.
– Я не знаю человека, который бы мог быть счастливее вас, – продолжала графиня. – Надеюсь, моя милая дочь убедится, что вы умеете ценить это счастье. Она мне кажется чрезвычайно утомленною. Вы позволили ей делать все покупки, но они, как видно, ей не по силам.
– Да, правда, ей было много хлопот.
– Она так мало еще привыкла к подобным занятиям! Впрочем, с другой стороны, ей необходимо самой позаботиться обо всем.
– Мне казалось, что ей нравились все эти хлопоты, – сказал Кросби.
– Надеюсь, что ей всегда будет нравиться исполнение своей обязанности. Мы сейчас едем к m-me Мильфранк посмотреть шелковые материи, не желаете ли и вы прогуляться с нами?
В эту самую минуту в столовую вошла Александрина и показалась во всех отношениях стереотипным изданием своей матери. Обе они были высокого роста, обе были довольно грациозны и обе обладали каким-то особенным видом, который почти соответствовал красоте. Что касается до графини, то ее лицо, при внимательном рассматривании, носило, как и должно, следы перезрелого возраста, но она так хорошо им умела управлять, что внимательное рассмотрение становилось совершенно невозможным, судя по летам, ее наружность была очень хороша. Немного больше этого можно сказать и о дочери графини.
– О нет, мама, – сказала Александрина, услышав последние слова матери. – В магазине он совершенно бесполезный человек. Ему все нравится и ничего не нравится. Не правда ли, Адольф?
– Нет. Я люблю все дешевое и не люблю все дорогое.
– В таком случае, мы и подавно не возьмем нас с собою к m-me Мильфранк, – сказала Александрина.
– Да там ему нечего и делать, душа моя, – сказала графиня, вспомнив, быть может, о намеке, который недавно сделала мистеру Гезби относительно счетов.
На этот раз Кросби удалось отделаться от прогулки обещанием явиться в Портман-сквэре вечером после обеда.
– Кстати, Адольф, – сказала графиня, когда Кросби посадил ее в наемную карету, стоявшую у подъезда. – Не зайдете ли вы к Ламберту на Лидгэт-хилл. У него четыре месяца лежит мой браслет. Будьте так добры, милый Адольф, возьмите его, если можно, и привезите с собой вечером.
Кросби, идя в должность, дал себе клятву не исполнить приказания графини.
– Вот еще! Пойду я в Сити за ее побрякушками!
А между тем в пять часов, когда вышел из должности, Кросби все-таки отправился туда. Он оправдывал себя тем, что ему вовсе нечего делать и что в настоящее время улыбки тещи все-таки лучше нахмуренных бровей. Итак, он зашел к Ламберту и узнал, что браслет отослан в замок Курси еще месяца два тому назад.
После этого Кросби обедал в своем клубе у Себрэйта. Он обедал один и на этот раз не испытывал того наслаждения, какое доставляла некогда поставленная перед ним полубутылка хересу. От времени до времени к нему подходили знакомые и обменивались с ним несколькими словами, двое или трое из них поздравляли его с предстоящим браком, но клуб уже утратил свою прежнюю привлекательность. Кросби не становился более посередине прикаминного ковра, не позволял себе свободно обращаться с речью то к одному лицу, то к другому, без всякого разбора, и громко сообщать при этом последние новости. Как ясно усматривается при этом уничтожение спеси, нравственное падение человека, как бы ни было трудно его возвышение, и как бы ни было легко его падение. Где тот человек, который может вынести подобное падение, не обнаружив его ни в лице, ни в голосе, ни в походке, ни в движении каждого своего члена. Кросби сознавал свое падение и обнаруживал это даже в приемах, с которыми кушал баранью котлету.
В половине девятого Кросби был уже в Портман-сквэре и застал тещу и невесту подле скромного каминного огня, в небольшой гостиной, принадлежавшей к задней половине дома. Мебель гостиной покрыта была небелеными чехлами, все окружающее в ней производило то холодное, неприятное чувство, которое ощущается при входе в необитаемые комнаты. По дороге из клуба в Портман-сквэр Кросби углубился в серьезные размышления. Жизнь, какую он вел до сих пор, для него миновала. Он перестал уже быть баловнем клуба, ему не станут более потворствовать как человеку, которому все удовольствия в жизни доставались без всяких с его стороны усилий. Такому счастью его, длившемуся несколько лет, суждено теперь кончиться. И что же приобретал он взамен того, чего лишался? Он мог, конечно, оставаться победителем в своем комитете, обладая для победы большими способностями в сравнении с своими сослуживцами, но подобная победа едва ли могла удовлетворить его. Кросби размышлял и о том, нельзя ли ему сделаться счастливым в своем доме, нельзя ли из Александрины, по удалении ее от матери, сделать такую жену, которую бы мог любить искренно. Ничто не смягчает так чувства человека, как неудачи, и ничто не заставляет его так заботливо обращаться к мысли о своем семейном быте, как толчки, получаемые вне дома. Кросби изменил Лили Дель, потому что внешний его мир казался слишком блестящим, чтобы отказаться от его блеска. Он решился заменить ее Александриной, потому что внешний его мир стал казаться ему невыносимо тяжелым. Увы, увы! Человеку не так-то легко раскаяться в своих прегрешениях и омыться дочиста от пятен этих прегрешений.
Когда Кросби вошел в комнату, обе леди, как я уже сказал, сидели перед камином. Кросби тотчас заметил, что графиня не в духе. В самом деле, между графиней и ее дочерью произошла маленькая размолвка по предмету приданого, и Александрина положительно объявила матери, что уж ежели выходить ей замуж, то она не иначе выйдет, как получив все необходимое и приличное дочери графа. Напрасно мать старалась объяснить, употребляя при этом изворотливые фразы, что в настоящем случае за недостаток приличия скорее должно обвинять плебея-мужа, нежели благородного родителя. Александрина была непоколебима и отстаивала свои права, давая графине понять, что если на ее заказы относительно гардероба не последует согласия, то она воротится в Курси девицей и приготовится вести одинокую жизнь вместе с Розиной.
– Милая моя, – сказала графиня плачевным голосом. – Ты не можешь представить себе, что мне придется вытерпеть от твоего отца. Да и к тому же ты можешь получить все эти вещи впоследствии.
– Папа не имеет никакого права поступать со мною таким образом. Если он сам не хочет наградить меня деньгами, так пусть отдаст мне то, что принадлежит по праву.
– Ах, моя милая, это вина мистера Гезби.
– Мне все равно, чья бы ни была вина. Во всяком случае, она не моя. Я не допущу, чтобы он сказал мне, – под словом «он» подразумевался Адольф Кросби, – что ему пришлось заплатить за мои свадебные наряды.
– Разумеется, нет.
– И за наряды, и за вещи, которые мне необходимы немедленно. Лучше объявить ему теперь же, что свадьбу должно отложить.
Само собой разумеется, что Александрина поставила на своем, между тем как графиня, с материнскою преданностью, почти равною преданности пеликана, намекала, что граф ведь больше ничего не может сделать, как только убить ее. Вещи были заказаны именно так, как было угодно Александрине, и графиня приказала послать счеты к мистеру Гезби. При этом случае мать выказала много самоотвержения, тогда как со стороны дочери ничего подобного не проявилось, и потому графиня была очень сердита на Александрину.
Кросби, взяв стул, поместился между ними и с особенным юмором рассказал историю о браслете.
– Ваша память, миледи, вероятно, изменила вам в этом случае, – сказал он, улыбаясь.
– Моя память еще очень хороша, – отвечала графиня, – очень хороша. Если Твичь получила браслет и мне о том не сказала, так тут уж не моя вина.
Твичь была горничная графини. Видя положение дела, Кросби более не упоминал о браслете.
Минуты две спустя он протянул руку, желая взять руку Александрины. До свадьбы оставалась неделя или две, а потому подобное выражение любви было дозволительно даже в присутствии невестиной матери. Ему удалось однако же поймать только пальчики невесты, но из них он не встретил нежного ответа. «Перестаньте», – сказала леди Александрина, отдергивая руку; тон, которым она выговорила это слово, неприятно отозвался в ушах Кросби. Он тотчас же вспомнил сцену, случившуюся однажды вечером у мостика в Оллингтоне, вспомнил он и голос Лили, и слова Лили, и нежность ее, которыми она отвечала на его ласки.
– Ведь они знают, моя милая, – сказала графиня, – как я устала. Когда же это подадут они чай!
Кросби признал за нужное позвонить и, возвратясь на место, отодвинул свой стул подальше от своей возлюбленной.
Спустя немного явился и чай, его подала помощница ключницы, которая, по-видимому, не очень позаботилась придать своей наружности более приличный вид, так что Кросби подумал, что он тут совершенно лишний. Но это была ошибка с его стороны. Так как он становился уже членом семейства де Курси, то о подобных пустяках более не заботились. Два или три месяца тому назад, графиня упала бы в обморок при одной мысли о появлении такой прислуги, с таким подносом перед мистером Кросби. Теперь же она не обратила на это ни малейшего внимания. Принятый в недра семейства де Курси, Кросби имел уже право на некоторые льготы и на том же основании подвергался некоторым неудобствам и стеснениям. В маленьком хозяйстве мистрис Дель никогда не выказывалось претензии на великолепие, но зато никогда не было и грязи. И об этом вспоминал Кросби, держа в руках чашку чаю.
Он скоро, однако ж, отправился. Когда он встал перед уходом, Александрина тоже встала и вместо поцелуя дозволила ему коснуться носом до своей щеки.
– Спокойной ночи, Адольф, – сказала графиня, протягивая ему руку. – Ах, подождите минуточку, я хотела вас попросить о чем-то. Впрочем, все равно, ведь завтра вы зайдете, отправляясь в должность.
Глава XLI ДОМАШНИЕ ХЛОПОТЫ
В то самое время, когда Кросби бесполезно осведомлялся у Ламберта о браслете леди де Курси, Джон Имс входил в уличную дверь квартиры мистрис Ропер, в Буртон-Кресценте.
– О, Джон, где мистер Кредль? – Это были первые слова, которыми встретила его божественная Амелия. Надо заметить, что в обыденной жизни, Амелия мало заботилась о том, где находился мистер Кредль.
– Где Кредль? – спросил Имс, повторив вопрос. – Право, не знаю. Мы вместе пришли в должность, но с тех пор я не видел его. Вы знаете, мы сидим в разных комнатах.
– Джон! – И Амелия остановилась.
– Разве что-нибудь случилось? – спросил Джон.
– Джон, эта женщина ушла и бросила мужа. И всего вернее, то есть так же верно, как вас зовут Джон Имс, этот сумасброд ушел вместе с ней.
– Как, Кодль? Я этому не верю.
– Она вышла из этого дома в два часа пополудни и после того не возвращалась.
Прошло всего четыре часа, а такое отсутствие из дому среди белого дня служило еще весьма слабым доказательством, на основании которого можно было бы обвинять замужнюю женщину в побеге с любовником.
Амелия чувствовала это и потому продолжала объяснять:
– Сам он там, наверху в гостиной, и представляет собою олицетворенное отчаяние.
– Кто! Кредль?
– Нет, Люпекс, он немного выпил, кажется, но сильно горюет. Он условился видеться здесь с женой в четыре часа, и когда пришел, ее уже не было. Он бросился наверх в свою комнату и теперь говорит, что она разломала шкатулку и унесла все его деньги.
– Которых у него никогда не бывало.
– Напротив, третьего дня он заплатил небольшую сумму моей маме.
– Это служит лучшим доказательством, что сегодня он не мог иметь денег.
– Во всяком случае, она унесла с собой такие вещи, которых не взяла бы, отправляясь за покупками или зачем-нибудь в этом роде, я сама ходила наверх и сама все видела. У нее были три кольца, недорогие, правда, но, вероятно, она надела их все зараз или просто положила в карман.
– Кредль никогда не согласится бежать с ней подобным образом, хотя, может статься, он и сумасброд…
– Настоящий сумасброд, вы это знаете, я никогда еще не видала такого повесы в отношении к женщинам.
– Все же он никогда не позволит себе сделаться участником в краже каких-нибудь безделушек или денег ее мужа. Я положительно уверен, что он нспособен на подобные вещи.
При этом Имс стал припоминать все обстоятельства дня, и вспомнил, что действительно не видал Кодля с самого утра. Этот общественный деятель имел привычку заходить в комнату Имса около средины дня и уничтожать там порцию хлеба, сыру и пива, вместо бисквитов, обмакнутых в чернила, как утверждал однажды Джонни. Но собственно в этот день Кредль не приходил.
– Ни за что не поверю, чтобы он был такой дурак, – сказал Джонни.
– Однако ж, это так, – сказала Амелия. – Вот уж и обедать пора, а где он? Были у него деньги, Джонни?
Допрашиваемый таким образом, Джонни открыл тайну, доверенную ему приятелем, которую никакие другие обстоятельства не могли б вызвать из его груди.
– Она заняла у него двадцать фунтов, около двух недель тому назад. Впрочем, она и до того еще была ему должна.
– Ах, какой он простофиля! – воскликнула Амелия. – А сам вот уж два месяца, как не платит мама ни одного шиллинга.
– Может быть, его-то деньги и получила ваша мама от Люпекса третьего дня. А если так, то для нее одно и то же, понимаете.
– Что же нам теперь делать? – спросила Амелия, подвигаясь по лестнице впереди своего поклонника. – О Джон, что-то будет со мною, если и вы когда-нибудь поступите подобным образом? Что я буду делать, если вы убежите с другою леди?
– Люпекс не ушел еще отсюда? – спросил Имс, совершенно не зная, что отвечать на вопрос, так близко касавшийся его личности.
– Впрочем, для вас это все равно, – продолжала Амелия, – сердца, однажды соединенные, никогда не должны быть разъединены, не правда ли? – И она повисла на его руке в то самое время, когда они достигли гостиной.
– Сердца и стрелы – все пустяки, – сказал Джонни, – по-моему, лучше никогда не жениться. Здравствуйте, мистер Люпекс. Что с вами случилось?
Мистер Люпекс сидел на стуле, посреди комнаты, закинув голову за спинку стула. В его позе виден был человек, удрученный безутешным горем, голова его, по-видимому, готова была свалиться и покатиться по полу, следуя направлению, которую бы ей назначил ее владелец. Руки его висели вдоль задних ножек стула, так что пальцы почти касались пола, мисс Спрюс сидела в одном углу комнаты, сложив руки на коленях, а мистрис Ропер стояла на прикаминном коврике, крайне разгневанная и с весьма суровым выражением. Гнев распространялся не на одну мистрис Люпекс. Мистрис Ропер очень надоел и мистер Люпекс, и она нисколько не стала бы горевать, если бы и он тоже убежал, оставив за собою столько своего имущества, сколько было бы необходимо на уплату долга за квартиру.
Мистер Люпекс не шевельнулся, когда к нему отнесся Джонни Имс, но в голове его заметно было какое-то судорожное движение, означавшее, что прибывший в гостиную только увеличил припадок агонии. Стул задрожал под ним, пальцы вытянулись еще ближе к полу и тоже задрожали.
– Мистер Люпекс, мы сейчас садимся обедать, – сказала мистрис Ропер, – мистер Имс, где ваш друг, мистер Кредль?
– Право, не знаю, – отвечал Джонни.
– А я так знаю! – сказал Люпекс, выпрямляясь во весь рост и в то же время опрокидывая стул, который еще так недавно его поддерживал. – Изменник! нарушитель семейного счастья! Я все знаю! Где бы он ни был теперь, эта вероломная женщина в его объятиях. О, если бы он был здесь!
Выразив это желание, Люпекс произвел такое движение руками, которое, кажется, означало, что если бы этот несчастный молодой человек был в настоящем обществе, то он разорвал бы его на клочки, сложил бы их вместе, плотно бы притиснул их и потом швырнул бы чрез бесконечное пространство в царство князя тьмы.
– Изменник! – снова воскликнул он, кончив страшные жесты. – Коварный изменник! Подлый изменник! Она тоже! – Потом вспомнив об этом более нежном субъекте, Люпекс приготовился упасть на стул в новом припадке, но, увидев, что стул лежит на полу, он поднял его, снова закинул голову за спинку и снова вытянул пальцы до самого ковра.
– Джемс, – сказала мистрис Ропер своему сыну, который в эту минуту вошел в комнату, – не лучше ли тебе посидеть с мистером Люпексом, пока мы обедаем. Пойдемте, мисс Спрюс, я очень жалею, что вас должны беспокоить подобные вещи.
– Ах, мне все равно, – сказала мисс Спрюс, приготовляясь выйти из комнаты. – Ведь я старуха.
– Должны беспокоить, – сказал Люпекс, вставая со стула, может быть не имея ни малейшего расположения оставаться наверху в то время, когда обед, за который рано или поздно пришлось бы заплатить, будет уничтожен без его присутствия. – Должны беспокоить! О, я как нельзя более сожалею, что мои несчастья должны беспокоить других. Что касается до мисс Спрюс, то я взираю на ее личность с глубочайшим уважением.
– Пожалуйста, не обращайте на меня внимания, ведь я старуха, вы знаете, – сказала мисс Спрюс.
– Нет! клянусь небом, я обращаю большое внимание! – воскликнул Люпекс и поспешил схватить руку мисс Спрюс. – Я всегда буду смотреть на старость, как имеющую права…
Но особые права, которыми мистер Люпекс хотел наделить старость, остались неизвестными для обитателей дома мистрис Ропер, потому что в этот самый момент отворилась дверь, и в комнату вошел мистер Кредль.
– Вот молодец! – сказал Имс. – Изволь-ка оправдываться.
Кредль, входя в дом, слышал шум, но не разобрал по этому шуму, что в гостиной бушевал мистер Люпекс. Увидев лицо этого джентльмена, он сделал легкое движение назад.
– Клянусь честью… – начал было он, но ему не удалось докончить своей речи.
Люпекс, опустив руку уважаемой им леди, в один момент налетел на молодого человека, и Кредль задрожал в его руках как осиновый лист, впрочем, не совсем как осиновый лист, потому что последний во время дрожания не является с закрытыми глазами, разинутым ртом и высунутым языком.
– Перестаньте, – сказал Имс, подбежав на помощь к другу. – Это никуда не годится, мистер Люпекс. Вы немножко выпили. Лучше подождите до завтрашнего утра и тогда объяснитесь с Кредлем.
– До завтрашнего утра? Ехидна! – вскричал Люпекс, не выпуская из рук своей жертвы и в то же время глядя через плечо на Имса. Кого он называл ехидной, определить было трудно. – В состоянии ли он возвратить мне жену мою? В состоянии ли он возвратить мне мою честь?
– Кля… я… я… нусь…
Но в эту минуту бедный мистер Кредль тщетно старался клятвою доказать свою невинность и представлять свою честь порукою в своей непорочности относительно мистрис Люпекс.
Люпекс все еще держал своего врага за галстук, хотя Имсу и удалось схватить его за руку и воспрепятствовать движениям его и приступу к новой атаке.
– Джемима, Джемима, Джемима! – кричала мистрис Ропер. – Беги за полицией, беги, беги за полицией!
Амелия, однако же, обладавшая большим присутствием духа, чем ее мать, остановила Джемиму в то время, когда последняя пробиралась к одному из окон, выходящих на улицу.
– Останься на своем месте, – сказала Амелия. – Они сейчас успокоятся.
И действительно, Амелия была права. Призвать полицию, когда в доме шум, то же самое что позвать пожарных, когда в кухонной трубе загорится сажа. В подобных случаях с соблюдением осторожности саже дают время прогореть без участия пожарных. Я расположен думать, что в настоящем случае прибытие полиции не принесло бы существенной пользы ни той, ни другой стороне.
– Клянусь честью… я ничего о ней не знаю… – Это были первые слова, которые в состоянии был выговорить Кредль, когда Люпекс по настоянию Имса ослабил галстук.
Люпекс обратился к мисс Спрюс с язвительной улыбкой:
– Вы слышите его слова! Этого хищника домашнего блаженства. Ха-ха! Говори мне, куда ты отвез мою жену?
– Если бы вы мне подарили английский банк, я и тогда сказал бы: ничего не знаю, – отвечал Кредль.
– И я убеждена, что он ничего не знает, – сказала мистрис Ропер, подозрение которой против Кредля начинало уменьшаться.
Но с уменьшением подозрений уменьшалось к нему и ее уважение. То же самое было и с мисс Спрюс, и с Амелией, и с Джемимой. Сначала все они считали его страшным глупцом за побег с мистрис Люпекс, а теперь начинали считать его жалким созданием, потому что он этого не сделал. Если бы он совершил такую вопиющую глупость, его бы считали интересным глупцом, а теперь, когда все подозревали, что он знал о мистрис Люпекс нисколько не больше того, что знали они сами, Кредль становился в их глазах тем же глупцом, только без всякого интереса.
– Конечно, он ничего не знает, – сказал Имс.
– Не больше моего, – сказала Амелия.
– Самая наружность доказывает его невинность, – сказала мистрис Ропер.
– Совершенная правда, – сказала мисс Спрюс.
Люпекс повертывался то к одной, то к другой даме, когда они защищали подозреваемого им человека, и потрясал головою при каждом произнесенном уверении.
– А если он не знает, так кто же может знать? – спросил Люпекс. – Разве я не видел, что творилось между ними в течение последних трех месяцев. Есть ли какой-нибудь смысл в предположении, чтобы такое создание, какова жена моя, всю свою жизнь наслаждавшаяся всеми удобствами, могла убежать от меня в обеденное время, унеся с собою все мое имущество и все свои драгоценности, и чтобы к этому побегу никто ее не подстрекал, никто не помогал ей? Может ли такой человек, как я, поверить подобной сказке?
Произнося эту речь, мистер Люпекс ходил взад и вперед по комнате и при самом заключении с ожесточением швырнул на пол носовой платок.
– Я знаю, как мне следует поступить, мистрис Ропер, – сказал он. – Знаю, какие должно принять меры. Завтра же утром поручу это дело моему стряпчему.
Сказав это, Люпекс поднял платок и спустился в столовую.
– Ты и в самом деле ничего не знаешь? – спросил Имс своего приятеля, взбежав наверх вымыть руки и обменяться с Кодлем парою слов.
– О ком… О Мэри? Я не знаю, где она, если ты спрашиваешь о ней.
– Разумеется о ней! Другого вопроса тут и быть не может, и что тебя заставляет называть ее Мэри?
– Это нехорошо, признаюсь, нехорошо! Но ты знаешь, что слово иногда само собой сорвется с языка.
– Сорвется! Знаешь ли, что, любезный? Ведь ты готовишь себе неприятную историю, и из-за чего? Этот сумасброд, пожалуй, притянет тебя в полицию за кражу его вещей.
– Но, Джонни…
– Да я все знаю. Разумеется, ты их не украл, да и нечего было украсть. Но если ты будешь продолжать называть ее Мэри, то увидишь, что он к тебе привяжется. Мужчины не называют чужих жен таким образом.
– Разумеется, между нами была дружба, – сказал Кредл, которому как-то нравилось смотреть на этот предмет с своей точки зрения.
– Ну да, сначала ты был в дружбе с ней, а потом она выманила у тебя деньги, вот тебе и начало и конец. Если ты будешь продолжать показывать свою дружбу, у тебя выманят еще больше денег, ты делаешь из себя настоящего осла, вот и все тут.
– А ты кого сделал из себя в отношении этой девчонки? Бывают, мистер Джонни, ослы похуже меня.
Так как Имс не имел готового ответа против подобного отпора, то он оставил свою комнату и сошел вниз, за ним вскоре последовал и Кредль, так что через несколько минут все постояльцы мистрис Ропер обедали за ее гостеприимным столом.
Тотчас после обеда Люпекс ушел, и разговор в верхнем этаже о побеге мистрис Люпекс сделался общим.
– На его месте я бы не стала и беспокоиться о ней: пусть ее живет, как знает, – сказала Амелия.
– Ну да, и потом иметь удовольствие платить по ее векселям, – заметил брат Амелии.
– Уж лучше иметь дело с ее векселями, нежели с ней самой, – сказал Имс.
– По моему мнению, она угнетенная женщина, – сказал Кредль. – Если бы она имела мужем такого человека, которого могла бы уважать и любить, это была бы очаровательная женщина.
– Она нисколько не лучше его, – сказала мистрис Ропер.
– В этом я не могу согласиться с вами, мистрис Ропер, – продолжал защитник мистрис Люпекс. – Может быть, я понимаю ее положение лучше всех вас, и…
– Вот именно это-то и нехорошо, мистер Кредль, – сказала мистрис Ропер. При этом хозяйка дома с достоинством матери и строгостью женщины высказала свое мнение. – Подобных-то вещей и не следует знать такому молодому человеку, как вы. Что может быть общего между замужнею женщиною и вами и какое вам дело понимать ее положение? Когда у вас будет своя жена, если вам суждено иметь ее, то узнаете, что у вас будет достаточно хлопот и без вмешательства посторонних. Я уверена, что относительно побега мистрис Люпекс вы невинны, как агнец, то есть что вы не принимали в нем никакого участия, но вы навлекли на себя все эти неприятности, собственно, чрез вмешательство в дело, до вас вовсе не касающееся, ведь этот человек чуть-чуть не задушил вас. И кто тому виною, если вы притворяетесь влюбленным в эту женщину, которая по своим летам могла быть вашею матерью? Что бы сказала ваша мама, если б увидела, как вы с ней обходитесь?
– Ха-ха-ха! – прохохотал Кредль.
– Конечно, все это для вас очень смешно, но я не люблю таких глупостей. Когда я вижу молодого человека, который влюблен в молодую девушку, я питаю к нему уважение. – Тут она посмотрела на Джонни Имса. – Да, я уважаю его, хотя он, может быть, иногда делает такие вещи, которых бы и не следовало делать. Почти все они так поступают. Но, видя такого молодого человека, как вы, мистер Кредль, который волочится за старою замужнею женщиною, забывающею всякие приличия, волочится потому только, что она это дозволяет, было бы еще за кем! А то ведь это все равно что надеть юбку на старую метлу! Когда я вижу подобные вещи, говорю я, мне становится дурно, вот вам вся моя правда. Я это называю неприличным, неблагородным, не правда ли, мисс Спрюс?
– Я тут ничего не понимаю, – сказала леди, к которой относились слова. – Но, во всяком случае, молодому джентльмену следовало бы больше помалкивать, пока не пришло время говорить, вы извините, мистер Кредль.
– Не понимаю, почему у замужних женщин бывает страсть, чтобы за ними, кроме своего мужа, ухаживали еще другие, – сказала Амелия.
– Это не всегда бывает, – сказал Джонни Имс.
Спустя около часа после этого разговора при уличной двери прозвенел колокольчик, и вслед за тем пронзительный визг Джемимы возвестил всем, что наступила какая-то критическая минута.
Амелия, вскочив с места, раскрыла дверь, внизу лестницы послышался шорох женского платья.
– Боже мой! как вы нас перепугали всех! – сказала Джемима. – Мы все думали, что вы сбежали.
– Это мистрис Люпекс, – сказала Амелия.
И спустя еще две минуты угнетенная леди вошла в комнату.
– Ну, мои милые, – сказала она весело, – надеюсь, что я не заставила вас ждать себя к обеду.
– Мы вовсе вас не ждали, – сказала мистрис Ропер весьма серьезно.
– А где же мой Орсин? Разве он не дома обедал? Мистер Кредль, сделайте одолжение, примите мою шаль, впрочем, нет, вы лучше оставьте. Народ нынче такой взыскательный, не так ли, мисс Спрюс? Пожалуйста, примите вы, мистер Имс, для других это покажется безопаснее. Не правда ли, мисс Амелия?
– Совершенно так, – сказала Амелия.
Мистрис Люпекс догадалась, что с этой стороны ей нечего было ждать помощи.
Имс встал, чтобы принять шаль, и мистрис Люпекс продолжала:
– Итак, Орсин не обедал дома? Вероятно, задержали в театре. А я целый день думала, как будет забавно, когда он узнает, что его птичка улетела.
– Он обедал дома, – сказала мистрис Ропер, – и ваше отсутствие ему очень не понравилось. Могу вас уверить, ничего забавного тут не было.
– Неужели не было? Я расположена думать, что этому человеку было бы приятно видеть меня прицепленною к его петлице. Я встретилась с несколькими друзьями – друзьями женского пола, мистер Кредль, хотя две из них были с своими мужьями, – из нас составилась компания, и мы отправились в Гэмтон-Корт. Значит, мой джентльмен опять ушел! Вот мне и досталось – не разгуливай! Не так ли, мисс Спрюс?
Ложась спать в эту ночь, мистрис Ропер решилась во что бы то ни стало отделаться как можно скорее от своих семейных постояльцев.
Глава XLII БОЛЕЗНЬ ЛИЛИ
Лили была хорошего сложения, и ее выздоровление не сопровождалось ни возвращением болезни, ни продолжительною слабостью, тем не менее ей не позволяли вставать с постели несколько дней после того, как горячка совсем миновала. Во все это время доктор Крофтс приезжал каждый день. Напрасно мистрис Дель умоляла его не делать этого, напрасно говорила ему, что чувствует себя обязанною не принимать более визитов его, когда надобность в них совершенно окончилась. Крофтс отвечал ей или шутками, или вовсе ничего не отвечал, а все-таки продолжал ездить ежедневно и почти всегда в тот же самый час, именно когда вечерело, так что ему было возможно просидеть четверть часа в сумерках и потом возвращаться в Гествик впотьмах. В это время Белл получила разрешение входить в комнату сестры, она всегда встречалась с доктором Крофтсом у постели Лили и никогда не оставалась с ним наедине после того дня, когда он нерешительно признался ей в любви и когда она так же нерешительно отказала ему в принятии его предложения. Она виделась с ним наедине только на лестнице или в гостиной, но не оставалась с ним разговаривать по старой своей привычке, о любви уже не было и помину.
Белл никому не говорила о предложении Крофтса. Лили, по всей вероятности, тотчас рассказала бы все своей матери и сестре, но ей не приводилось и испытать такого положения, в каком находилась Белл во время признания доктора в любви. Что бы ни было говорено с нею, во всяком случае, она после свидания непременно рассказала бы об этом без всякой утайки. Она бы объявила, любит или нет того человека, могла ли его любить, и дала бы ему ответ верный и определительный. Белл этого не сделала и отвечала доктору если и верно, то неопределительно. А между тем, когда Белл удалилась и стала размышлять о случившемся, она была счастлива, довольна и почти торжествовала. Она не задавала себе вопроса, следует ли ожидать от доктора Крофтса дальнейших объяснений, не зная, в чем могли состоять эти объяснения, а все-таки была счастлива.
В это время Лили сделалась капризною, резкою в словах, позволяла себе маленькие причуды по праву выздоравливающей, в виде возмездия за прежние страдания и лишения. Она притворялась, что очень беспокоится насчет своего обеда, и уверяла, что в такой-то день выйдет на воздух, пусть себе доктор Крофтс повелевает как знает.
– Он старый дикарь, вот и все тут, – говорила она сестре в один вечер после его отъезда, – и право, нисколько не лучше других.
– Кто же эти другие? – спросила Белл. – Во всяком случае, он вовсе не стар.
– Ты знаешь, что я хочу сказать. Он такой же брюзга, как доктор Гроффен, воображает, что все обязаны исполнять его приказания. Разумеется, ты за него заступишься.
– Не мешало бы и тебе заступиться за него после всего, что он для нас сделал.
– И я заступлюсь, без всякого сомнения, перед всеми, кроме тебя. Я ужасно как люблю подтрунить над ним перед тобой.
– Лили, Лили!
– Да, люблю. Из тебя так трудно вызвать искру огня, и поэтому, когда узнаешь место, где находится кремень, так вот так и хочется вырубить огня. Что он этим хотел сказать, что мне нельзя будет встать в воскресенье? Не беспокойтесь, я встану, если мне захочется.
– Но если мама попросит тебя этого поделать?
– О, мама не захочет этого, если он не станет вмешиваться и приказывать. О, Белл, какой он будет тиран, когда женится.
– Неужели?
– И как бы ты была покорна, если бы сделалась его женой! Тысячу раз жаль, что вы не влюблены друг в друга, то есть если ты еще не влюблена.
– Лили, помнится, ты дала обещание не говорить мне об этом.
– Да, правда, но это было давно, с тех пор обстоятельства переменились… весь мир переменился. – При этих словах голос Лили задрожал и отозвался грустью. – Я чувствую, как будто мне должно быть позволено говорить, о чем вздумается.
– Говори, говори, что хочешь, душа моя.
– Ведь ты знаешь, Белл, у меня не осталось ничего собственного, о чем бы стоило поговорить.
– Сделай милость, Лили, душа моя, не говори ты этого.
– Но это, правда, Белл, и почему же мне не говорить? Неужели ты думаешь, что я не говорю этого самой себе, когда бываю одна, когда задумаюсь и потом все думаю и думаю. Ты не должна скупиться, тебе как будто жаль этого, а почему бы мне иногда и не поговорить об этом?
– Для тебя я ничего не пожалею, только мне думается, что это останется навсегда так.
– Спроси себя, Белл, как бы это было с тобой на моем месте. Впрочем, иногда мне кажется, что ты судишь обо мне совсем иначе, чем о себе.
– Правда твоя, потому что я знаю, что ты гораздо лучше меня.
– Я не настолько лучше, чтобы быть способной забыть все прошедшее. Я знаю, что никогда не буду в состоянии сделать это. Я обо всем передумала, я приняла неизменное решение.
– Лили, Лили! Умоляю тебя, не говори этого.
– А я говорю, и что же? Ведь я не очень грустила и не впала в меланхолию, не правда ли, Белл? Мне кажется, что я заслуживаю некоторое одобрение, а между тем ты не даешь мне никакого права в свете.
– Какого же ты желаешь от меня права?
– Говорить о докторе Крофтсе.
– Лили, ты злая, злая тиранка. – И Белл наклонилась к ней на грудь и целовала ее, скрывая свое лицо в вечернем сумраке.
После этого для Лили не оставалось более сомнения, что Белл была неравнодушна к доктору Крофтсу.
– Ведь ты слышала, что он говорил, дорогая моя, – сказала мистрис Дель на следующий день, когда после отъезда доктора Крофтса все три находились в комнате больной. Мистрис Дель стояла по одну сторону постели, а Белл по другую, между тем как Лили нападала на обеих. – Завтра тебе можно встать на часок или на два, но он думает, что лучше не выходить из комнаты.
– Что же из этого выйдет хорошего, мама? Мне так надоело смотреть на одни и те же обои. Это такие скучные обои. Все считаешь да пересчитываешь узор. Не понимаю вашего терпения, как вы можете жить здесь!
– Как видишь, я привыкла.
– К подобного рода вещам я никогда бы не привыкла, все считаешь, считаешь и считаешь. Сказать ли вам, что бы мне хотелось сделать, и я убеждена, что это будет самое лучшее.
– Что же именно? – спросила Белл.
– А вот что: встать завтра утром в девять часов и отправиться в церковь, как будто со мной ничего не бывало. Потом, когда доктор Крофтс приедет вечером, вы ему скажете, что я ушла в школу.
– Этого бы я не советовала, – сказала мистрис Дель.
– Он был бы приведен в самое приятное изумление, убедясь, что я не умерла до вечера, как бы это следовало по правилам медицины, он был бы поставлен в совершенный тупик.
– Это было бы весьма неблагодарно с нашей стороны, боюсь, чтобы не сказать чего-нибудь больше, – заметила Белл.
– Совсем нет, нисколько. Пусть он не приезжает, если ему не понравится. Впрочем, я не верю, что он ездит сюда для того, чтобы лечить меня. Вы делаете, мама, очень хорошо, что смотрите на его визиты именно с этой точки зрения, но я уверяю, что правда на моей стороне. И знаете ли, что я намерена сделать? Я представлюсь, что мне стало хуже, иначе бедненький лишится своего единственного счастья.
– Пусть ее говорит, что хочет, пока не выздоровеет, – сказала, смеясь, мистрис Дель.
Уже почти стемнело, и мистрис Дель не заметила, как рука Белл проскользнула под одеяло и поймала руку сестры.
– Моя правда, мама, – продолжала Лили, – пусть Белл скажет, что это неправда. Я бы, так и быть, простила ему, что он держит меня в постели, лишь бы он заставил ее влюбиться в себя.
– Она уже выговорила себе право, мама, – сказала Белл, – говорить что вздумается, пока не выздоровеет.
– Я намерена всегда говорить, что мне вздумается, и намерена всегда пользоваться этим правом.
В следующее воскресенье Лили встала, но не выходила из спальни матери. Она сидела в том полураспашном наряде, который так идет выздоравливающим, в первый раз вставшим с постели, когда приехал доктор Крофтс. Там, в спальне, она скушала маленький кусочек жареной баранины и назвала свою мать скупою старухой, потому что ей не позволили скушать больше, там она выпила полрюмки портвейну, утверждая, что вино было кислое, гораздо хуже докторской микстуры, и там же, хотя это было воскресенье, она вполне насладилась последним часом дня, читая очаровательный новый роман, который только что появился в свет, вызвав целый ряд рецензий со стороны молодой и старой читающей публики.
– Мне кажется, Белл, она поступила совершенно справедливо, приняв его предложение, – сказала Лили, закрывая книгу, потому что становилось уже темно.
– Тут и не могло быть иначе, – сказала Белл. – В романах все идет отлично, все сходит с рук, поэтому-то я их и не люблю. Они уж слишком приторны.
– А я потому-то и люблю их, что они слишком приторны. В проповеди, например, говорится не о том, что вы есть на самом деле, а о том, чем вы должны быть; в романах говорится не о том, чего вы должны достигать, а о том, чего бы желали достичь.
– Уж если это так, то я охотнее воротилась бы к старой школе и желала бы видеть героиню романа настоящею героиней, которая идет пешком всю дорогу от Эдинбурга до Лондона и попадает в руки разбойников или которая ухаживает за раненым героем и в то же время описывает битву, глядя из окна. Правда, все это нам наскучило, но уж если иметь перед собой картину жизни, так пусть же это будет картина действительной жизни.
– Нет, Белл, нет! – сказала Лили. – Иногда действительная жизнь бывает очень грустна.
Белл в одну минуту очутилась на полу у ног сестры своей, целовала ее руки, обнимала колена и умоляла, чтобы Лили перестала смотреть на жизнь с такою горечью.
В то утро Лили удалось уговорить сестру рассказать все, что говорил ей доктор Крофтс, и все, что говорила она. Белл намеревалась все высказать, но когда дошла до последней части своей исповеди, ее рассказ начал сильно хромать.
– Мне кажется, я ничего не сказала, – говорила Белл.
– Но молчание всегда означает знак согласия. Он, верно, так и понял, – возразила Лили.
– Нет, он ничего не понял, мое молчание не могло выражать согласия, в этом я уверена. Да и сам он не мог подумать об этом.
– Однако ж ты не имела намерения отказать ему?
– Кажется, имела. Впрочем, я сама не знаю, какое было мое намерение, и потому я показала скорее вид отрицания, нежели согласия. Если я и не сказала «нет», то мое лицо выражало это слово.
– А теперь ты не откажешь ему? – спросила Лили.
– Не знаю, – отвечала Белл. – Не знаю почему, но мне кажется, что потребуются годы, чтобы я на что-нибудь решилась, а он другого предложения не сделает.
Белл все еще была у ног своей сестры, умоляя ее от всей души стараться залечить свою рану, когда вошла мистрис Дель и объявила о приезде доктора.
– Я уйду, – сказала Белл.
– Это зачем? – возразила Лили. – Он просто приехал с утренним визитом, и нет надобности уходить отсюда.
– Извините, доктор Крофтс, вам теперь нет надобности стоять передо мною с часами в руках, теперь я не позволю вам дотронуться до моей руки, и если протяну ее к вам, то, собственно, для одного приветствия. – И Лили протянула ему руку. – По языку моему вы узнаете не больше того, что пришлось бы вам узнать от здорового.
– Поверьте, что я нисколько не забочусь о вашем языке.
– Верю, совершенно верю, только смотрите, доктор, чтобы он не наделал вам хлопот в одно прекрасное утро. Кажется, говорить-то я могу, если мне хочется, не так ли, мама?
– Я полагаю, душа моя, что доктор Крофтс знает это лучше меня.
– Не думаю, есть вещи, которые как-то особенно тяжело даются джентльменам. Однако вы должны присесть, доктор Крофтс, быть как дома и в то же время не забывать известных условий приличия, прежде всего вы должны понять, что вы здесь более уже не господин. Я встала с постели, и господствование ваше кончилось.
– Вот вам образец признательности за добрые дела, – сказала мистрис Дель.
– Да кто же бывает признателен доктору? Он только для того вылечивает, чтобы торжествовать над другим врачом и говорить, проходя мимо какого-нибудь доктора Гроффена: «Вот если бы туда пригласили вас, она была бы теперь в могиле или, по крайней мере, прохворала бы целый год!» Не правда ли? Ведь вы прыгаете от радости, когда пациенты доктора Гроффена умирают?
– Разумеется прыгаю, да еще, как на базарной площади, чтобы все могли видеть, – сказал доктор.
– Ах, Лили, как можешь ты говорить такие ужасные вещи? – спросила сестра.
После этого доктор уселся перед камином. Завязался разговор о предметах немедицинских или только полумедицинских, не относящихся, впрочем, к настоящему случаю. Переходя с одного предмета на другой, разговор коснулся и мистрис Имс и Джонни Имса. Дня два-три тому назад Крофтс рассказал мистрис Дель о происшествии на станции железной дороги, о котором она до той поры ничего не слышала. Мистрис Дель, удостоверившись, что молодой Имс отличнейшим образом приколотил Кросби, не могла удержаться от выражения некоторой похвалы.
– Милый юноша, – сказала она почти невольно. – Милый юноша! Это он сделал по особенной честности своей души! – Мистрис Дель тут же отдала строгое приказание доктору, – приказание совершенно ненужное, чтобы Лили об этом происшествии не говорили ни слова.
– Вчера я был в гествикском господском доме, – сказал доктор, – и граф ни о чем больше не хотел говорить, как только о мистере Джонни. По его словам, в целом мире нет молодого человека лучше его.
При этом мистрис Дель тронула его ногой, боясь, что он распространится о доблестях Джонни.
– Я очень рада, – сказала Лили. – Я всегда говорила, что рано или поздно, но узнают, чего Джонни стоит.
– Леди Джулия тоже к нему расположена, – сказал доктор.
– В самом деле! Что если бы тут составилась партия!
– Лили, можно ли говорить такие нелепости?
– Позвольте, позвольте, как он будет нам приходиться тогда? Да, он, конечно, будет дядей Бернарду и зятем дяде Кристоферу, как это странно, не правда ли?
– Да, довольно странно, – сказала мистрис Дель.
– Надеюсь, что он будет ласков к Бернарду. Не так ли, Белл? И как вы думаете, доктор Крофтс, будет ли он продолжать свою службу в управлении сбора податей?
– Покуда еще я ничего решительно не слыхал.
В этом роде продолжался разговор о Джонни Имсе.
– Шутки в сторону, – сказала Лили. – Я очень рада, что лорд Дегест принял в нем участие. Не потому, чтобы я считала графа лучше кого-либо другого, но потому, что это указывает, что люди начинают открывать и оценивать достоинства Джонни. Я всегда говорила тем, кто смеялся над ним, что увидят, как он поднимется.
Все эти слова глубоко запали в душу мистрис Дель. Если бы только – когда-нибудь, не теперь – ее милая дочь могла полюбить этого нового молодого героя! Но не будет ли последний геройский подвиг его противодействовать всякой возможности подобной любви.
– Теперь мне можно и отправиться, – сказал доктор, вставая со стула.
В это время Белл не было в комнате, но мистрис Дель все еще оставалась там.
– Нет, извините, вам нельзя торопиться, особливо сегодня, – сказала Лили.
– Почему особливо сегодня?
– Потому что это ваш последний вечер. Присядьте, доктор Крофтс. Я намерена вам произнести маленькую речь. Я ее готовила целое утро, и вы должны предоставить мне случай произнести ее.
– Я приеду послезавтра и лучше тогда ее услышу.
– А я хочу, сэр, чтобы вы услышали ее теперь же. Неужели мне не станут повиноваться при первом вступлении моем на мой собственный трон! Милый, добрый доктор Крофтс, как и чем благодарить мне вас за все, что вы сделали?
– Как нам всем благодарить его? – спросила мистрис Дель.
– Я терпеть не могу благодарностей, – сказал доктор. – Для меня один ласковый взгляд дороже всех благодарностей, а в этом доме на мою долю выпало таких взглядов немало.
– Вы можете быть уверены во всегдашнем нашем сердечном расположении, – сказала мистрис Дель.
– Да будет над вами милость Господня! – сказал он, приготовляясь идти.
– Но я еще не произнесла своей речи, – сказала Лили. – И сказать ли правду, мама, вы должны удалиться, иначе мне не удастся сказать ее как следует. С моей стороны очень неприлично, не правда ли, выгонять вас, но это будет только на три минуты.
Мистрис Дель, сказав несколько шутливых слов, вышла из комнаты, но, выходя, она была не совсем спокойна. Следовало ли ей уходить, предоставляя Лили полную свободу говорить доктору Крофтсу, что придет в голову? До сих пор она никогда не сомневалась в своих дочерях, не сомневалась в их благоразумии, потому-то с ее стороны и было весьма естественно удалиться, когда ее попросили. Спускаясь, однако же, с лестницы, она впала в сомнение: хорошо ли она поступила?
– Доктор Крофтс, – сказала Лили, как скоро они остались одни. – Сядьте вот здесь, ко мне поближе. Я хочу сделать вам вопрос. Что вы говорили Белл недавно вечером, когда оставались с ней в гостиной?
С минуту доктор сидел, не отвечая, и Лили, внимательно следившая за ним, могла видеть при свете камина, что он не ожидал такого вопроса: он почти вздрогнул, когда его сделали.
– Что я говорил? – протяжно повторил Крофтс слова Лили. – Я спросил ее, может ли она полюбить меня и сделаться моей женою?
– Какой же она вам сделала ответ?
– Какой она мне сделала ответ? Она просто отказала мне.
– Нет-нет-нет, не верьте ей, доктор. Это не так, мне кажется, не так. Помните, однако, я вам ничего не говорю от ее имени. Она не высказала мне своих мыслей, но если вы истинно ее любите, то надо быть сумасшедшей, чтобы отказать вам.
– Лили, я ее истинно люблю, это совершеннейшая правда.
– В таком случае обратитесь к ней еще раз. Теперь я говорю в свою собственную пользу. Мне невыгодно будет потерять такого брата, каким были бы вы. Я так искренно люблю вас, что не могу лишиться вас. А она, я уверена, она полюбит вас. Вы знаете ее натуру, знаете, как она молчалива и как не любит говорить о себе. Она в одном только призналась мне, что вы говорили ей и что неожиданность поразила ее. Не испытать ли нам еще один шанс? Я знаю, как безрассудно с моей стороны делать такие вопросы, но, по-моему, правда лучше всего.
– Еще один шанс?
– Знаю, что вы хотите сказать, и думаю, что она достойна быть вашей женою. Я уверена, что она вполне достойна. Вы не станете на меня ябедничать, не так ли, доктор!
– Ни за что!
– И вы сделаете еще попытку?
– Да, попытаюсь.
– Помоги вам Бог, добрый брат мой! Надеюсь, да, надеюсь, что вы будете мне братом.
В то время как доктор протянул к ней руку, чтобы проститься, Лили приподняла к нему свое лицо, и он, наклонясь, поцеловал ее в лоб.
– Попросите мама прийти ко мне, – были последние слова Лили, когда доктор выходил из двери.
– Ну что, милая, сказала ли ты свою речь? – спросила мистрис Дель.
– Да, мама.
– Надеюсь, что это была благоразумная речь.
– Надеюсь, мама. Но она так меня утомила, что я сейчас лягу в постель. Я думаю, мало бы вышло пользы, если бы я отправилась сегодня в школу?
И мистрис Дель, в заботливости своей поправить вред от чрезмерного усилия дочери, прекратила дальнейшие расспросы о прощальной речи.
Возвращаясь домой, доктор Крофтс не очень наслаждался торжеством счастливого любовника. «Может быть, она и права, – говорил он про себя, – во всяком случае, я спрошу еще раз». Но это «нет», которое Белл произнесла и повторила, все еще неприятно звучало в его ушах. Есть такие мужчины, над ушами которых сделайте хоть целый залп из слова «нет», они все-таки не поймут в нем настоящего отказа, а есть и другие, которым слово это, однажды произнесенное, хотя бы шепотом, служит неизменным приговором высшего судилища.
Глава XLIII ФИ, ФИ!
Не угодно ли читателю припомнить любовь – впрочем, нет, не любовь: это слово так неправильно употребляют иногда, что оно не бывает в состоянии пробудить воспоминания читателя, – так не любовь, а скорее любезности между леди Думбелло и мистером Плантаженетом Поллисером? Эти любезности, происходившие в замке Курси, были совершенно открыты во всем своем безобразии перед взорами публики, и надо признаться, что если взоры публики были оскорблены, то оскорбление было весьма легкое.
Во всяком случае, взоры публики были оскорблены, и люди, с особенною строгостью следившие за своею нравственностью, говорили весьма странные вещи. Сама леди де Курси говорила весьма странные вещи, покачивала головой и от времени до времени роняла таинственные слова, между тем как леди Клэндидлем объяснялась гораздо откровеннее: она прямо высказывала свое мнение, что леди Думбелло убежит до мая месяца. Обе они соглашались, что для лорда Думбелло в потере жены своей ничего не будет дурного, но весьма уныло покачивали головами, когда говорили о бедном Плантаженете Поллисере. Что касается до судьбы графини, той самой графини, которую обе они почти боготворили во время ее пребывания в замке Курси, об ней ни чуть не беспокоились.
Мистер Поллисер, должно допустить, был немного неблагоразумен, конечно, в таком случае неблагоразумен, если, только зная о носившихся слухах, позволил себе вскоре после визита замку Курси, сделать поездку в Шропшейр, в резиденцию леди Хартльтон, где граф и графиня Думбелло предполагали провести зимний сезон и куда Плантаженет намеревался побывать еще раз в феврале. Харльтонские обитатели просили его об этом весьма убедительно, сила убедительности в особенности проявлялась со стороны лорда Думбелло. Из этого нельзя не заключить, что до харльтонских обитателей не дошли еще носившиеся слухи.
Мистер Плантаженет Поллисер провел Рождество с своим дядей, герцогом Омниумом, в замке Гатерум. Вернее сказать, мистер Плантаженет приехал в замок в первый день Рождества, вечером, к самому обеду, а поутру второго дня уехал. Это вполне согласовалось с правилами его жизни, и люди, более или менее связанные с интересами Омниума, всегда восхищались проявлением этого неподдельного, чисто английского родственного чувства между дядей и племянником. Беседа между ними в подобных случаях всегда отличалась особенною краткостью. Герцог, протягивая правую руку, улыбался и говорил:
– Ну что, Плантаженет, полагаю, очень занят?
Герцог был единственным живым существом, который называл его в лицо Плантаженетом, хотя были десятки людей, которые втихомолку, за его спиной, называли его просто Планте Поль. Да, герцог был единственным живым существом, называвшим его Плантаженетом. Будем надеяться, что это всегда так бывало и что тут не допускались утонченные исключения, опасные по своему свойству и неуместные по своим обстоятельствам.
– Ну что, Плантаженет, – сказал герцог при настоящем случае, – полагаю, очень занят?
– Да, герцог, – отвечал мистер Поллисер. – Когда человек попадет под ярмо, ему трудно высвободиться из-под него.
Герцог вспомнил, что его племянник сделал точно такое же замечание и в Рождество прошлого года.
– Кстати, – продолжал герцог, – мне хотелось сказать тебе несколько слов до твоего отъезда.
Такое предложение со стороны герцога было большим отступлением от принятых им правил, но племянник, само собою разумеется, вменял себе в обязанность повиноваться приказаниям дяди.
– Я увижусь с вами завтра до обеда, – сказал Плантаженет.
– Пожалуйста, – сказал герцог. – Я не задержу тебя больше пяти минут.
И на другой день в шесть часов вечера дядя и племянник сидели глаз на глаз в кабинете первого.
– Не думаю, чтобы тут было что-нибудь серьезное, – начал герцог, – но между некоторыми людьми идут толки о тебе и леди Думбелло.
– Клянусь честью, эти люди очень добры.
И мистер Поллисер привел себе на память факт – это действительно был факт, – что много лет тому назад между некоторыми людьми тоже шли толки о его дяде и мачехе леди Думбелло.
– Да, довольно добры, не правда ли? Ты, кажется, приехал сюда прямо из Хартльбири?
Хартльбири была резиденция маркиза Хартльтона.
– Именно так, и в феврале намерен опять туда ехать.
– Очень жаль, очень жаль. Я говорю это не потому, что хочу вмешиваться в твои дела, ты, конечно, согласишься, что я никогда этого не делал.
– Нет, никогда, – сказал племянник, утешая себя внутренним убеждением, что никакое подобного рода вмешательство со стороны его дяди не могло быть возможным.
– Но в этом случае было бы хорошо для меня, и еще лучше для тебя, если бы ты ездил в Хартльбири как можно реже. Ты сказал, что хочешь ехать туда, и, без всякого сомнения, поедешь. Но на твоем месте я остался бы там не более как на день или на два.
Мистер Плантаженет Поллисер приобрел все в мире от дяди. Чрез влияние дяди он заседал в парламенте и получал на содержание по нескольку тысяч фунтов стерлингов, отпуск которых завтра же мог быть остановлен по одному слову его дяди. Он был наследником дяди, герцогский титул, с принадлежавшими к нему богатствами, должен был непременно перейти к племяннику, если только дядя не женится и Бог не благословит его сыном. Герцог не сделал еще завещания о своем огромном состоянии, по всей вероятности, он мог прожить еще лет двадцать или более, весьма могло случиться, что он женится и сделается отцом. Положительно можно сказать, что не было человека, который бы так зависел от другого человека, как Плантаженет Поллисер от своего дяди, и не менее положительно можно сказать, что не было отца или дяди, которые бы так мало вмешивались в дела своих наследников. Несмотря на то, племянник сейчас почувствовал себя обиженным чрез этот намек на его частную жизнь и сейчас же решился ни под каким видом не подчиняться подобному надзору.
– Не знаю, долго ли я пробуду там, – сказал он, – но во всяком случае людская молва не может, мне кажется, иметь какое-нибудь влияние на продолжительность моего визита.
– Так, совершенно так, но может статься, на него должна иметь влияние моя просьба.
Говоря это, герцог казался зверьком.
– Вы не станете просить меня обращать внимание на слухи, не имеющие никакого основания.
– Я ничего не говорю об их основании, я даже нисколько не желаю вмешиваться в твой образ жизни.
Этим замечанием герцог хотел дать понять племяннику, что последний имеет право увезти жену всякого другого джентльмена, но не имел ни малейшего права подать даже повод подумать о том, что намерен увезти жену лорда Думбелло.
– Дело в том, Плантаженет, уже много лет, как я нахожусь в дружеских отношениях с этим семейством. Число друзей у меня небольшое, и, по всей вероятности, я никогда не увеличу его. Но тех друзей, которых имею, я хочу сохранить, и потому тебе нетрудно понять, что при той молве, о которой я упомянул, мне было бы неприятно ездить в Хартльбири, как неприятно было бы моим хартльбирийским друзьям ездить сюда.
Герцог не мог объясниться яснее этого, и мистер Поллисер, конечно, понял его вполне. Нельзя было ожидать, что давнишние дружеские отношения между двумя фамилиями будут по-прежнему сопровождаться приятными удовольствиями, одна уже молва о других отношениях могла совершенно нарушить удовольствия прежних.
– Вот все, что я хотел сказать тебе.
– Это нелепейшая клевета, – сказал мистер Поллисер.
– Я согласен с этим. Клеветы всегда отличаются нелепостью, но что станете делать? Пословица говорится: на чужой роток не накинешь платок.
И герцог посмотрел, как будто ему хотелось, чтобы разговор считали законченным и чтобы его оставили одного.
– Но мы можем не обращать на это внимания, – сказал племянник с большим безрассудством.
– Ты можешь, а я всегда считал себя неспособным на это. Притом же, мне кажется, я не заслужил еще такой репутации, чтобы быть предметом людских сплетен. Ты думаешь, может быть, что я прошу многого, нет! Да ты, верно, согласишься, что до настоящего времени я давал много и взамен того ничего не требовал. Надеюсь, в этом случае, ты сделаешь для меня одолжение.
Видя в словах дяди угрозу, мистер Плантаженет Поллисер оставил комнату. В словах герцога заключался следующий смысл: если ты будешь волочиться за леди Думбелло, я прекращу тебе выдачу восьми тысяч в год. При следующих выборах в Силвербридже я поставлю тебе оппозицию, я сделаю духовное завещание и отниму у тебя Мачин и Хорис – очаровательное местечко в Шюрри, пользование которым уже было предоставлено мистеру Поллисеру в случае его женитьбы, – отниму Литтльбирийское поместье в Йоркшейре и огромное имение в Шотландии. Из моих личных капиталов, заключающихся в наличных деньгах, акциях, закладных и банковых билетах, ты не получишь ни шиллинга. Наконец, если мне вздумается, то, может статься, я сделаю тебя просто мистером Поллисером, с маленьким кузеном во главе твоей фамилии.
Мистер Поллисер понимал всю обширность этой угрозы и, размышляя о ней, признавался самому себе, что он не чувствовал ни малейшего влечения к леди Думбелло. Между ними ни разу не было разговора задушевнее того, образчик которого читатель уже видел. Леди Думбелло для него ровно ничего не значила. Но теперь, когда дело это поставили перед ним в новом свете, не следует ли ему как джентльмену влюбиться в такую очаровательную женщину, имя которой уже было связано с его именем? Нам всем известен анекдот, как духовник во время исповеди учил конюха натирать салом зубы лошадям. «Никогда этого не делывал, – сказал конюх, – а теперь попробую». В настоящем случае герцог играл роль духовника, а мистер Поллисер не прошла еще ночь, как сделался таким же смышленым учеником, каким был конюх. Что касается до угрозы, то с его стороны, как Поллисера и Плантаженета, было бы дурно обращать на это внимание. Герцог ни за что не женится. Из всех людей в мире он, по всей вероятности, был самый последний, чтобы изменить положение, в котором находился, во всем остальном мистер Поллисер намерен был пользоваться безусловной свободой. Поэтому в начале февраля он поехал в Хартльбири, решившись оказывать леди Думбелло всевозможное внимание.
Между множеством гостей в Хартльбири он встретил лорда Порлокка, невзрачного, больного, износившегося человека, с отцовскою суровостью во взгляде, но без отцовского выражения зверства в губах.
– Итак, ваша сестра выходит замуж? – спросил мистер Поллисер.
– Да, никто не станет удивляться тому, что они делают, когда представят себе жизнь, которую ведет их отец.
– А я хотел было поздравить вас.
– Напрасно.
– Я встречал его в Курси, и он мне понравился.
В Курси мистер Поллисер не удостоил даже своим разговором мистера Кросби, впрочем, по принятому обыкновению в его общественной жизни, он почти никого не удостаивал своими разговорами.
– В самом деле? – спросил лорд Порлокк. – Для счастья сестры надеюсь, что он не бездельник. Каким образом человек решился сделать предложение моему отцу выдать за него одну из дочерей, решительно не понимаю. А как вам показалась моя мать?
– Особенно дурного ничего в ней не заметил.
– Я все думаю, что рано или поздно он убьет ее.
Разговор на этом закончился.
Мистер Поллисер сам примечал – да он и не мог не примечать, если смотрел на нее, – что леди Думбелло, когда он подходил к ней, как будто оживала, в эти минуты в ней проявлялась необыкновенная энергия. Когда кто-нибудь обращался к ней, она улыбалась, но ее обыкновенная улыбка не имела никакого выражения, была безжизненна и холодна, как свинец, нисколько не льстила самолюбию того, кому она предназначалась. Весьма многие женщины улыбаются, отвечая на сделанные им вопросы, и большая часть из них, улыбаясь, доставляют этим удовольствие. Это такая обыкновенная вещь, что о ней никто и не думает. Лесть может нравиться, но она ничего не выражает. Общее впечатление улыбки сообщает идею, что женщина старалась показаться приятною, в чем состоит ее прямая обязанность, приятною, насколько в состоянии выразить эта улыбка. Во всяком случае, этим самым она приносила обществу свою малую дань. В течение вечера она повторит это приношение, быть может, не одну сотню раз. Никто не замечает, никто не знает, что она льстила кому-нибудь, она сама этого не знает, а свет между тем называет ее приятной женщиной. Леди Думбелло вовсе не придает прелести своим обычным улыбкам. Они холодны, бессмысленны, не сопровождаются выразительным взглядом, не показывают даже, что относятся к какому-нибудь отдельному лицу. Они дарились вообще всем окружавшим ее, и все окружавшие, соглашаясь с ее большими притязаниями, принимали их за дань, совершенно достаточную для всего собрания. Но когда к ней подходил мистер Поллисер, она делала самое легкое, едва уловимое движение и позволяла взорам своим на минуту останавливаться на его лице. Потом, когда он замечал, что в воздухе немного холодно, леди Думбелло улыбалась ему, как будто подтверждая этой улыбкой истину его замечания. Все это мистер Поллисер научился наблюдать, благодаря уроку, который он получил от своего недальновидного дяди.
Несмотря на то, в течение первой недели своего пребывания в Хартльбири он не сказал ни одного нежного слова, ограничиваясь только замечаниями насчет погоды. Правда, иногда он заговаривал об адресе, по случаю открытия парламента, о приближении дня этого открытия, о том, что речь его должна быть основана на статистике, что у него в голове одни только цифры да деловые бумаги, говорил, что у него огромная корреспонденция, так что день часто оказывался недостаточно длинным для всех его целей. Он чувствовал, что интимная связь, которую старался завязать, много теряла от труженической рутины его жизни, но все же ему хотелось бы что-нибудь сделать до отъезда из Хартльбири, ему хотелось показать особенное свойство своего внимания. Он хотел сказать ей что-нибудь такое, что бы открыло ей тайну его сердца. Он решался на это изо дня в день. А между тем день проходил за днем, и он ничего не говорил. Ему казалось, что лорд Думбелло обращался с ним холоднее прежнего, мешал его разговорам с женой и при этом хмурился, но, по его словам, он мало обращал внимания на холодные и сердитые взгляды лорда Думбелло.
– Когда вы переедете в город? – спросил он однажды вечером, обращаясь к леди Думбелло.
– Вероятно, в апреле. Раньше этого, я думаю, мы не оставим Хартльбири.
– Конечно. Вы проведете здесь сезон весенней охоты?
– Да, лорд Думбелло всегда проводит здесь весь март. Иногда на день, на два уезжает в Лондон.
– Как это мило! А я, вы знаете, в четверг должен быть в Лондоне.
– По случаю открытия парламентских заседаний?
– Совершенно так. Если бы вы знали, какая скука, а делать нечего, надобно ехать.
– Если это входит в круг обязанностей человека, то, мне кажется, он должен быть там.
– К сожалению, так, человек должен повиноваться внушениям долга.
При этом мистер Поллисер окинул взглядом всю комнату, и ему показалось, что на него были устремлены глаза лорда Думбелло. Как хотите, а труд был тяжелый. По правде сказать, мистер Поллисер не знал, с чего начать. Что ему нужно было говорить ей? Каким образом начать разговор, который бы кончился объяснением в нежных чувствах? Леди Думбелло была, бесспорно, очень хороша, и в глазах мистера Поллисера казалась очень интересною, но, хоть убейте, он не знал, как начать разговор и что сказать для нее особенное. Связь с такой женщиной, как леди Думбелло, – разумеется, связь платоническая, невинная, но тем не менее истинная, – сообщила бы особенную прелесть его жизни, которая, при настоящих обстоятельствах, была довольна суха. Благодаря молве, которая дошла до него через его дядю, он узнал, что леди Думбелло неравнодушна к нему. И действительно, она так смотрела, как будто он ей нравился, но каким образом сделать первый приступ? Он вполне изучил науку изумлять палату общин и поднимать тревогу в британской нации посредством своих громадных и точных статистических познаний, но что ему сказать хорошенькой женщине?
– Так в апреле вы наверно будете в Лондоне?
Это было при другом случае.
– О, да, я думаю.
– И опять в Карльстонских садах?
– Да, лорд Думбелло нанял тот же дом.
– В самом деле? Какой великолепный дом! Надеюсь, мне будет позволено заглядывать туда от времени до времени.
– Конечно, только я знаю, что вы будете очень заняты.
– Кроме субботы и воскресенья.
– Я всегда принимаю по воскресеньям, – сказала леди Думбелло.
Мистер Поллисер сознавал, что тут вовсе не проглядывало особенного расположения. Позволение заглядывать от времени до времени, доступное для всех других знакомых, ровно ничего не значило, но все же для него такое удовольствие имело такую важность, какой он ожидал при настоящем случае. Поллисер оглянулся и опять увидел, что взоры лорда Думбелло были очень мрачны. Он начал сомневаться, что загородный дом, где все так постоянно на глазах друг у друга, едва ли может служить лучшим в мире местом для подобного маневра. Леди Думбелло была очень хороша, и он любил смотреть на нее, но ему никак не удавалось приискать предмета, которым бы можно было заинтересовать ее в хартльбирийской гостиной. Позже вечером он начал говорить ей что-то насчет сахарных пошлин и потом увидел, что лучше было бы не начинать. Ему оставался один только день, но этот день необходимо было посвятить приготовлению парламентской речи. Лучше отложить до Лондона, там это пойдет гораздо легче. В лондонских салонах, наполненных народом, дело пойдет гораздо легче, и притом же лорд Думбелло не станет торчать перед ним и глазеть на него. Леди Думбелло благосклонно выслушала сентенцию о сахарных пошлинах и попросила определить наибольшую их величину. Это все-таки ближе подходило к настоящему разговору, но выбор предмета был неудачен и не мог, в его руках, быть заменен другим более нежным, потому он решился отложить свои действия до лондонской весны, которая должна была помочь ему, и, сделав это, он чувствовал, что облегчил себя на некоторое время от тяжелого бремени.
– Прощайте, леди Думбелло, – сказал он на другой вечер. – Завтра рано утром я уезжаю.
– Прощайте, мистер Поллисер.
Говоря это, она улыбнулась так очаровательно, но все-таки не научилась еще называть его запросто Плантаженетом. Мистер Поллисер отправился в Лондон и тотчас принялся за дело. Тщательно составленная, предлинная речь сошла с рук с большой для него честью – с похвалой того спокойного и неизменившегося свойства, которое как-то особенно идет к подобным людям. Речь была почтенная, скучная и верная. Люди слушали ее или, нахлобучив шляпы на глаза, дремали, показывая вид, что слушают. На другое утро «Daily Jupiter» напечатал о ней передовую статью, которая, однако же, по прочтении наводила на читателя сомнение, следует ли мистера Поллисера считать великим знатоком финансовой науки или нет. Мистер Поллисер, говорила газета, мог сделаться лучезарным светилом для денежного мира, блестящею славою для банкирских интересов. Но в этих делах, легко могло случиться, что он оказался бы блудящим огнем, слепым вожатым, человеком, которого можно считать весьма респектабельным, но не глубокого ума. Кто же поэтому в настоящее время, решится рисковать доверием к себе, объявив положительно, что мистер Поллисер понимал или не понимал свой предмет? Читая газеты, мы остаемся недовольны всеми известиями, которые может доставить нам вселенная и человеческий ум, мы требуем от них того, чего могли бы требовать, если бы ежедневные листки являлись к нам из мира бесплотных духов. Заключение из этого такое, что газеты принимают на себя вид, как будто они действительно приходят из мира духов, но предсказания их бывают весьма сомнительны, как это бывало с искони века.
Плантаженет Поллисер хотя и остался доволен этой статьей, чувствовал, однако же, в то время, когда сидел в своих комнатах в Альбани, что для полноты счастья ему чего-то недоставало. Настоящий род его жизни был очень хорош. Честолюбие – вещь великолепная, а ему, как Плантаженету и будущему пэру государства, следовало избрать политику своей профессией. Нельзя ли ему проводить часок другой в тени с Амариллой? Не скучна ли, не тяжела ли его настоящая жизнь? С той минуты, как ему объявили, что леди Думбелло улыбалась ему, он гораздо больше думал о ее улыбках, чем следовало бы для пользы статистики. Казалось, что в его организм ввели новую вену и что кровь переливалась в нем в тех местах, где прежде вовсе ее не было. Если бы он увидел леди Думбелло прежде лорда Думбелло, не мог ли бы он жениться на ней? О! если бы это так случилось и если бы она была просто мисс Гранти или леди Гризельда Гранти, смотря по обстоятельствам, ему казалось, что тогда он мог бы объясняться с ней гораздо свободнее. В настоящее же время задача эта казалась для него чрезвычайно трудною, хотя он и слышал о людях из его среды, которые всю свою жизнь занимались подобными проделками. С своей стороны, я полагаю, что закоснелые грешники многочисленнее обыкновенных.
В то время как он сидел в своей квартире, к нему пришел некто мистер Фотергилл. Мистер Фотергилл был джентльмен, заведовавший делами дяди мистера Поллисера – умный человек, знавший очень хорошо, с которой стороны намазывается масло на кусок хлеба. Мистер Фотергилл весьма естественно старался сблизиться с наследником, но стоять на стороне своего патрона было главною обязанностью в его жизни, в эту обязанность он не позволил вмешиваться ничему и никому. При настоящем случае мистер Фотергилл был очень любезен, поздравлял будущего, по всей вероятности, своего патрона с сильной речью и предсказывал ему политическое могущество с большею уверенностью, чем газеты, которые явились или, пожалуй, не явились из бесплотного мира духов Мистер Фотергилл пришел сказать несколько слов по серьезному делу. Так как все деньги мистера Поллисера проходили через руки мистера Фотергилла и так как влияние на выборах в пользу мистера Поллисера приобреталось с помощью того же мистера Фотергилла, то ему нередко приводилось заходить для объяснений. Сказав несколько слов по необходимым делам, он говорил еще столько же слов, которые оказывались необходимыми и нет, смотря по обстоятельствам.
– Мистер Поллисер, – сказал он. – Удивляюсь я, почему вы не подумаете о женитьбе. Надеюсь, вы извините меня.
Мистер Поллисер далеко не был расположен к извинению, не вставая с кресла, он выпрямился и принял позу, которою предполагалось обнаружить первые признаки оскорбленного достоинства. Довольно замечательно, однако, в эту минуту он действительно думал о женитьбе. Что было бы с ним, если бы он знал прекрасную Гризельду, прежде чем состоялся союз ее с Думбелло? Женился ли бы он на ней? Был ли бы он счастлив, если бы женился на ней? Само собою разумеется, что теперь хотя он и чувствовал себя влюбленным в леди Думбелло, но не мог жениться на ней, тем более, что эта леди, к несчастью, имела законного мужа, хотя он и думал о женитьбе, но ему крайне не понравилось, что с этим же самым предметом так грубо обращаются прямо к нему, и еще кто? ни больше, ни меньше как агент его дяди. Мистер Фотергилл, как умный и проницательный человек, сейчас же заметил признаки оскорбленного достоинства. Но, по правде сказать, он не обратил на это большого внимания, по всей вероятности, он имел поручения, которые занимали его более всего другого.
– Надеюсь, мистер Поллисер, вы извините, я говорю это потому, что боюсь некоторого… некоторого, так сказать, уменьшения в добром согласии между вами и вашим дядей, а что-нибудь подобное такой вероятности было бы до крайности жалко.
– Я, по крайней мере, ничего не знаю о подобной вероятности.
Мистер Поллисер сказал это с особенным достоинством, но на последнем слове подумал, не солгал ли он при этом случае.
– Быть может, весьма быть может. Я надеюсь, что вовсе нет подобной вероятности. Но вы знаете, что герцог весьма решительный человек, особливо когда захочет поставить на своем, и к тому же он так много имеет в своей власти.
– Меня, однако, мистер Фотергилл, он не имеет в своей власти.
– Нет, нет, нет! В нашем государстве ни один человек не имеет власти над другим, как это можно! Но все же вам известно, мистер Поллисер, даром не пройдет тому, кто прогневит его, вы согласны с этим?
– Я первый не хотел бы прогневить его, это очень естественно. Я, впрочем, такой человек, что никого не хотел бы прогневить.
– Совершенно справедливо, особливо герцога, в руках у которого все его состояние. Решительно все, потому что не сегодня так завтра он может жениться, если ему вздумается. Наконец он вел такую примерную жизнь; по правде вам сказать, я не видал человека, который бы в его лета обладал таким крепким здоровьем.
– Приятно слышать.
– Я уверен в этом, мистер Поллисер. А если бы он разгневался?
– Я постарался бы перенести его гнев.
– Так, конечно так, вы бы и сделали это. Но, по-моему, не мешало бы не доводить его до гнева, особливо когда во многом от него зависишь.
– Мистер Фотергилл, уж не дядя ли подослал вас ко мне?
– О, нет, положительно нет, ничего подобного не было. Он как-то на днях проронил несколько слов, которые заставили меня подумать, что он не совсем… не совсем… спокоен относительно вас. Мне давно уже известно, что ему приятно было бы иметь перед глазами прямого наследника своему состоянию. Однажды утром, не знаю, насколько мои догадки могут быть основательны, но мне показалась, что у него было намерение сделать большие перемены в настоящих своих семейных распоряжениях. Он не сделал их, вероятно, это была одна фантазия. Вы только подумайте, мистер Поллисер, что может сделать одно слово его! А если он раз скажет слово, то никогда от него не отступится.
Сказав это, мистер Фотергилл удалился.
Мистер Поллисер понимал все это превосходно. Мистер Фотергилл не в первый раз являлся к нему с подобными советами – советами, давать которые лично от себя мистер Фотергилл не имел никакого права. Поллисер всегда принимал такие советы с видом полуоскорбленного достоинства, желая показать, что мистер Фотергилл ему надоедает. Между тем он знал, где советы брали начало, и хотя в подобных случаях давал себе слово не следовать им, но обыкновенно, каким-то особенным образом мистер Поллисер в большей или меньшей степени старался согласовать свои поступки с советами мистера Фотергилла. Действительно, одно слово герцога могло сделать весьма многое! Мистер Поллисер относительно леди Думбелло будет действовать по внушению своего собственного рассудка. Тем не менее, однако же, не представлялось ни малейшего сомнения, что одно слово герцога в состоянии сделать очень и очень многое!
Мы, как посвященные в эту тайну, знаем, до какой степени мистер Поллисер успел уже в своей преступной страсти до отъезда из Хартльбири. Другие, может быть и менее нас сведущие, приписывали ему похвалу за гораздо больший успех. Так леди Клэндидлем, в письме своем к леди де Курси, написанном вслед за отъездом мистера Поллисера, сообщала, что, узнав о предположенном утреннем отъезде этого джентльмена, она с полною уверенностью надеялась услышать за завтраком о побеге леди Думбелло. Судя по тону письма, казалось, что дальнейшее пребывание леди Думбелло в залах предков ее мужа лишило ее заранее вкушаемого удовольствия. «Я, однако же, совершенно убеждена, – писала леди Клэндидлем, – что это не может продлиться дальше весны. Я не видывала человека до такой степени ослепленного, как мистер Поллисер. Во все время своего пребывания здесь, он не оставлял ее ни на минуту. Это может дозволить только одна леди Хартльтон. Впрочем, вы знаете, на свете ничего нет приятнее доброй старинной семейной дружбы».
Глава XLIV ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ В ОЛЛИНГТОНЕ
До болезни Лили вынудила у матери обещание и в период своего выздоровления часто обращалась к нему, напоминая матери, что обещание было сделано и должно быть исполнено. Лили требовала, чтобы ей объявили день, в который Кросби будет венчаться. Было уже всем известно, что свадьба должна состояться в феврале. Но для Лили этого было недостаточно. Она должна была знать день свадьбы.
Вместе с приближением назначенного срока, и вместе с тем как Лили укреплялась и уже совершенно вышла из-под власти медика, в Малом доме чаще и чаще говорили о свадьбе Кросби и леди Александрины. Мистрис Дель и Белл вовсе не хотели, чтобы свадьба эта была предметом их разговора, но Лили сама наводила на него. Она часто начинала говорить об этом, в шутку называя себя покинутой девочкой, какую описывают в детских рассказах, и потом говорила об этом деле как о предмете, имевшем для нее весьма важный интерес. Во время этих разговоров спокойствие и твердость духа часто изменяли ей, грустные слова или печальный тон обнаруживали всю тяжесть бремени, лежавшего у нее на сердце. Мистрис Дель и Белл охотно бы оставили этот предмет, но Лили этого не позволяла. Им не позволялось сказать слова в порицание Кросби, в отношении к которому, по их мнению, самое жестокое порицание не было бы еще достаточно, они принуждены были выслушивать все извинения его поступка, какие только Лили придумывала, они не смели представить ей доводов, до какой степени были напрасны все эти извинения.
В самом деле, в эти дни Лили господствовала в Малом доме как царица. Несчастье и болезнь, почти одновременно постигшие ее, предоставляли ей такую власть, которой никто из окружавших ее не мог сопротивляться. Никто не говорил об этом, но все понимали, даже горничная Джен и кухарка, все сознавали, что с некоторого времени Лили повелевает ими. Это была добрая, милая, любящая и отважная царица, поэтому никто не думал восставать против нее, только похвалы Кросби с ее стороны весьма неприятно отзывались в ушах ее подданных. День свадьбы наконец был назначен, и вести об этом достигли Оллингтона. Четырнадцатого февраля Кросби должен был сделаться счастливейшим человеком. Дели узнали об этом только двенадцатого, и они, право, согласились бы никогда не узнавать, если бы это было возможно. Вечером узнала и Лили.
В течение этих дней Белл виделась с дядей почти ежедневно. Визиты ее делались под предлогом доставления сведений о состоянии здоровья Лили, но в сущности тут скрывался другой умысел: так как семейство Делей намеревалось оставить Малый дом в конце марта, то необходимо было заявить сквайру, что в сердцах их не было ни малейшей вражды к нему. Об отъезде не говорилось ни слова, разумеется, с их стороны. А дело между тем подвигалось вперед, и сквайр знал об этом. Доктор Крофтс вел уже переговоры о найме небольшого меблированного домика в Гествике. Грустно было это для сквайра, очень грустно. Когда Хопкинс заговорил было об этом предмете, сквайр резко приказал верному садовнику придержать свой язык, дав ему понять, что подобные вещи не должны быть предметом разговора между зависевшими от него жителями Оллингтона, пока об них не объявлено еще официально. Во время визитов Белл он никогда не намекал на этот предмет. Белл была главной виновницей – тем, что отказалась выйти замуж за кузена, отказалась даже выслушать разумные советы по этой части. Сквайр чувствовал, что ему нельзя заводить речи об этом, мистрис Дель положительно объявила, что вмешательство его не может быть допущено, и притом же он, может статься, знал, что всякая речь по этому предмету, особливо речь с его стороны, ни к чему не поведет. Разговор поэтому сосредоточивался обыкновенно на Кросби, и тон, с каким упоминалось о нем в Большом доме, весьма резко отличался от тона, употребляемого в присутствии Лили.
– Он будет несчастный человек, – сказал сквайр, объявив о дне свадьбы Кросби.
– Я не желаю ему несчастья, – сказала Белл. – Но все же думаю, что поступок его с нами едва ли может пройти безнаказанно.
– Он положительно будет несчастный человек. Он не получит за ней ничего, а она будет требовать всего, что только может доставить богатство. Мне кажется, что она еще старше его. Не понимаю этого. Решительно не понимаю, каким образом человек может быть таким подлым и глупым. Поцелуй Лили за меня. Завтра или послезавтра я повидаюсь с ней. Слава богу, что она от него избавилась, хотя теперь не следует еще говорить ей об этом.
Утро четырнадцатого февраля наступило для обитательниц Малого дома, как наступает утро тех особенных дней, которых долго ожидают и которые должны надолго оставаться в памяти. Оно принесло с собой сильный, жестокий мороз, угрюмый, кусающийся мороз, такой мороз, который разрывает чугунные водопроводные трубы, который сжимает, сковывает землю и делает ее твердою как гранит. Лили, хотя и царице в доме, не позволено еще было переселиться в свою комнату, она занимала просторную постель в спальне матери, а мать спала на маленькой постели Лили.
– Мама, – сказала Лили, – воображаю, как им будет холодно!
Мать сообщила о жестоком морозе, и это были первые слова Лили.
– Я думаю, что и сердца их будут также холодны, – сказала мистрис Дель.
Не следовало бы ей говорить этого. Она нарушила постановленное в доме правило – не говорить ни слова, которое могло бы быть перетолковано во враждебном смысле для Кросби и его невесты. Но чувства матери были взволнованы, и она не могла удержаться.
– Почему же их сердца должны быть холодны? Ах, мама! Это ужасная вещь. Мама, я хочу, чтобы вы пожелали им счастья.
Прошло минуты две прежде, чем мистрис Дель собралась с духом, чтобы ответить:
– Почему не пожелать! Желаю.
– Я так желаю от всей моей души, – сказала Лили.
В это время Лили завтракала наверху, но в течение утра спускалась в гостиную.
– Пожалуйста, хорошенько закутывайся, когда спускаешься вниз, – сказала Белл, стоя у подноса, на котором принесла чай и поджаренный тост. – Холод сегодня, как ты называешь, вполне сердитый.
– Я бы назвала его веселым, – сказала Лили, – если бы могла выйти из дому. Помнишь, какие ты читала лекции за разный вздор, который я говорила в тот день, когда он приехал?
– Разве это было, душа моя?
– Неужели ты не помнишь, когда я называла его пустым человеком? О боже! Таким он показался. Тут была моя ошибка, во всем я одна виновата – я это видела с самого начала.
Белл на момент отвернула лицо свое в сторону и слегка топнула ногой. Для нее труднее было, чем для матери, удержаться от гнева, она сделала это движение не с тем, чтобы воздержаться, но чтобы скрыть его.
– Понимаю, Белл. Я знаю, что значит это движение, напрасно ты делаешь это. Поди сюда, Белл, дай мне поучить тебя христианскому терпению и любви. Ты знаешь, ведь я отличный учитель, не правда ли?
– Я бы желала поучиться этому, – сказала Белл. – Бывают обстоятельства, при которых то, что мы называем христианским терпением и любовью, для меня становится совершенно недоступным.
– Вот видишь ли, когда нога твоя делает подобное движение, она поступает не по-христиански, и ты должна держать ее в покое. Этим движением выражается гнев против него – и за что? За то, что он сделал открытие, хотя и слишком поздно, что он не будет счастлив, то есть что я и он не были бы счастливы, если бы брак наш состоялся.
– Сделай милость, Лили, не подвергай такой пытке мою ногу.
– Нет, ее надо подвергнуть, как надо подвергнуть пытке и твои взгляды, и твой голос. Он поступил весьма безрассудно, влюбившись в меня. Весьма безрассудно поступила и я, позволив ему влюбиться в меня, нисколько не подумав, вдруг, внезапно. Я так возгордилась, так была счастлива его предложением, что сразу отдалась ему, не дав ему даже подумать об этом. Все это сделалось в неделю, в две. Можно ли было ожидать после этого, что мы будем принадлежать друг другу вечно?
– А почему же и нет? Лили, это пустяки. Впрочем, перестанем лучше говорить об этом.
– Извините! Я об этом-то и хочу говорить. Это было совершенно так, как я сказала, а если так, то вы не должны ненавидеть его, потому что он поступил, как мог поступить только благородный человек, увидев свою ошибку.
– Как! Через неделю сделать предложение другой!
– Белл, тут была весьма старинная дружба, ты этого не должна забывать. Впрочем, я говорю о его поступке со мной, а не о поступке…
При этом Лили пришло на мысль, что, может быть, в этот самый момент другая девушка получила уже имя, которым она так недавно еще гордилась, в полной надежде, что сама будет носить его.
– Белл, – сказала она, внезапно закончив свою прежнюю мысль, – в котором часу бывают свадьбы в Лондоне?
– Я думаю, во все возможные часы… во всякое время, но не позже двенадцати. Они принадлежат к большому свету и, вероятно, будут венчаться поздно.
– Значит, ты думаешь, что она теперь еще не мистрис Кросби?
– Леди Александрина Кросби, – сказала Белл, содрогаясь.
– Да, да, я совсем забыла. Так бы мне хотелось увидеть ее. Я принимаю в ней самое живое участие. Желала бы я знать, какой у нее цвет волос. Я представляю ее себе женщиной вроде Юноны – высокого роста, красавицей. Я уверена, что она не такая курносая, как я. Знаешь ли, что хотелось бы мне, только это невозможная вещь: быть крестной матерью его первого ребенка.
– Перестань, Лили.
– Право, хотела бы. Но разве ты не слышала, как я сказала, что это невозможно? Не поеду же я в Лондон просить ее об этом.
У нее для крестных отцов и матерей будут всякого рода гранды и пэры. Хотела бы я знать, на что похожи эти знаменитости.
– Не думаю, что между ними и обыкновенными людьми есть какая-нибудь разница. Посмотри на леди Джулию.
– О, это не важная персона. Ведь недостаточно одного титула. Разве ты не помнишь, как он говорил нам, что Поллисер должен сделаться одним из величайших грандов. Я полагаю, что многие желают нравиться им. Он обыкновенно говорил, что так долго обращался между людьми этого рода, что отделиться от них было бы для него весьма трудно. Я не в состоянии была бы сделать что-нибудь подобное, не так ли?
– Для меня ничего нет несноснее подобного этому, как ты выражаешься.
– Для тебя, быть может, а для меня так нет. Ты только подумай, сколько дела и труда у них. Он часто говорил мне об этом. У них в руках управление всем государством, и за это они получают такое скудное вознаграждение.
– Тем хуже для государства.
– Отчего же? Государство наше, по-видимому, процветает. Да что тут говорить с тобой, ты настоящая радикалка. Посмотришь, так из тебя никогда не выйдет порядочной леди.
– Я и не гонюсь за этим, я лучше бы желала быть благородной женщиной.
– Белл, моя милая, неоцененно благороднейшая Белл! Ты самая прекраснейшая леди, каких я еще не знавала. Если бы я была мужчиной, Белл, ты для меня была бы той самой девушкой, которой бы я стала поклоняться, которую бы я боготворила.
– Только ты не мужчина, и поэтому для меня нет никакой пользы.
– А все же ты не должна давать воли своей ножке, ни под каким видом не должна. Кто-то сказал, что все делается к лучшему, и я расположена этому верить.
– У меня, напротив, иногда бывает расположение верить, что многое делается к худшему.
– Это потому, что ты радикалка. Знаешь ли, Белл, я бы встала теперь, только боюсь – такой страшный холод.
– У нас отличный огонь в камине, – сказала Белл.
– Да, я вижу. Но этот огонь не греет меня со всех сторон, как постель. Желала бы я знать минуту, в которую их будут венчать. Теперь еще нет и половины одиннадцатого.
– Ничего нет удивительного, если теперь уже все кончилось.
– Все кончилось! Какие неприятные слова! Все кончилось, и ничто в мире не в состоянии этого исправить. А что, если после этого он будет несчастлив?
– Он должен покориться своей участи, – сказала Белл, представляя себе заранее, что его участь будет весьма незавидная.
– Конечно, должен покориться. Так я встану теперь. – И Лили сделала первый шаг в холодный свет за пределами ее постели. – Мы все должны покориться нашей участи. Я решила, что свадьба кончится в половине двенадцатого.
В половине двенадцатого Лили сидела в большом кресле у ярко пылавшего огня в камине гостиной, перед ней стоял маленький столик, и на столе лежал какой-то роман. В течение всего утра она ни разу не раскрыла книги, долго сидела совершенно молча, с закрытыми глазами и с часами в руках.
– Мама, – сказала она наконец, – теперь все кончилось, я уверена.
– Что же такое кончилось, душа моя?
– Эта леди сделалась его женой. Надеюсь, Бог благословит их, и молю Его, чтобы они были счастливы!
Тон безыскусственной торжественности, с которым произнесены были эти слова, заставили вздрогнуть и мистрис Дель, и Белл.
– Надеюсь и я, что они будут счастливы, – сказала мистрис Дель. – Теперь, Лили, не лучше ли будет никогда больше не говорить об этом и стараться всеми силами думать о других предметах.
– Но, мама, если я не могу. Легко сказать это, а разве можно по произволу управлять своими думами.
– При некотором усилии можно давать им какое угодно направление.
– В том-то и дело, что я неспособна на усилия. Да и то сказать, к чему мне делать эти усилия. Для меня кажется весьма естественным думать о нем, и я, право, не вижу в этом ничего дурного. Принимая в каком-нибудь лице самое живое участие, вы не можете бросить его вдруг, совершенно внезапно.
Снова наступило молчание, прошло несколько минут, когда Лили взяла лежавший перед ней роман. Она старалась сделать то усилие, о котором говорила мать, и старалась совершенно напрасно.
– Послушай, Белл, – сказала она, – я никогда не встречала такой дряни.
Это была величайшая неблагодарность со стороны Лили, потому что книгу эту отрекомендовала ей Белл. Все книги становятся такими скучными! Мне кажется, я лучше еще раз прочитаю «Странствия Пилигрима».
– А что ты скажешь насчет «Робинзона Крузе»? – спросила Белл.
– Или на счет «Павла и Виргинии»? – подхватила Лили. – Нет, уж лучше опять за «Пилигрима». Я ничего не понимаю в нем, а поэтому-то он мне и нравится.
– Я так терпеть не могу книг, в которых ничего не понимаю, – сказала Белл. – Я люблю такие книги, которые чисты, как текущая вода, все значение которых можно видеть с одного взгляда.
– Подобная способность видеть так быстро значение должно немного зависеть от читателя, не так ли? – спросила мистрис Дель.
– Я подразумеваю, что читатель должен быть с некоторым смыслом, – возразила Белл.
– А надобно заметить, что большая часть читателей не имеют никакого смысла, – сказала Лили. – А между тем они все-таки что-нибудь да извлекают из чтения. Мистрис Кромп, например, вечно сидит за Апокалипсисом и почти выучила его наизусть, она не в состоянии растолковать себе ни одной строчки, но при всем том усвоила себе какое-то неясное, туманное, неопределенное понятие об истине. Ей нравится это чтение, потому что оно слишком хорошо и в то же время далеко недоступно для ее понятий, вот почему и мне самой нравится «Странствия Пилигрима»!
Белл подала эту книгу.
– Только не теперь, – сказала Лили. – Так и быть, я прочитаю этот роман, тем более если ты говоришь, что он такой прекрасный. Мама, а вы знаете, где они проведут медовый месяц?
– Не знаю, душа моя.
– Он часто говорил мне о поездке на озера.
Наступила другая пауза, в течение которой Белл заметила, что лицо ее матери становилось мрачнее и мрачнее.
– Однако я не хочу больше думать об этом, – продолжала Лили. – Займусь чем-нибудь другим. Не думаю, чтобы это было так тяжело, если бы я была все время здорова.
– Само собою разумеется, моя милая.
– Теперь я скоро опять буду здорова. Ах, позвольте, мне советовали прочитать «Историю французской революции» Кар-лэйля, кажется, я начну ее теперь. – Прочитать эту книгу советовал Кросби, мистрис Дель и Белл знали об этом очень хорошо. – Впрочем нужно отложить на время, пока не получу ее из другого дома.
– Джен сходит туда и принесет, если ты хочешь, – сказала мистрис Дель.
– Мне принесет ее Белл, когда пойдет туда после полдня! Ты принесешь, Белл? А я покуда займусь вот этой историей. – И глаза Лили снова устремились на страницы лежавшей перед ней книги. – Мама, я вам вот что скажу: в настоящий день вы должны иметь некоторое снисхождение ко мне и, когда он пройдет, я больше не буду дурачиться.
– Никто, моя милая, и не думает, что ты дурачишься.
– Никто, кроме меня. Не странно ли, Белл, что это случилось в Валентинов день? Нет ничего удивительного, что они нарочно выбрали этот день. Боже мой! Как часто мечтала я, что в этот день получу письмо от него, письмо, в котором он назовет меня своей Валентиной. Теперь… теперь у него другая Ва… лен… ти… на.
Лили произнесла последнее слово раздельно, не будучи в силах совладать с собой, раздались судорожные рыдания, Лили упала на грудь матери, казалось, что сердце бедненькой разорвется на части. Но все-таки сердце ее не разорвалось, она все еще была тверда в своей решимости бороться со скорбью и побороть ее. Сама она говорила себе, что для нее не было бы это так тяжело, если бы болезнь не произвела в ней расслабления.
– Лили, моя милая, моя бедная, моя несчастная дочь.
– Мама, зачем вы это говорите?
И Лили с болезненным усилием старалась оправиться от истерического припадка, который совершенно ею овладел.
– Я не хочу, чтобы меня считали бедною, а особливо несчастною. Лучше я буду вашею милою Лили. Я бы желала только, чтобы вы побили меня, вместо того чтобы сожалеть о мне, когда я становлюсь такой глупою. Большую делают ошибку, оказывая сожаление к людям, когда они строят из себя дураков. На, Белл, возьми твою глупую книгу, я не хочу смотреть на нее. Мне кажется, это она и наделала все.
И Лили оттолкнула от себя книгу. После этой маленькой сцены в тот день не было сказано слова о Кросби и его невесте, предметами разговора сделалась перспектива нового жилища их в Гествике.
– Находиться поближе к доктору Крофтсу будет большим для нас спокойствием, не правда ли, Белл?
– Не знаю, – отвечала Белл.
– Я скажу даже почему – если мы будем хворать, то ему не придется проезжать такую страшную даль.
– Мне кажется, это спокойствие скорее послужит в его пользу, – сказала Белл, с задумчивым видом.
Вечером явился первый том «Французской революции», и Лили занялась чтением с похвальным прилежанием, в восемь часов мистрис Дель потребовала, чтобы Лили, несмотря на дарованные ей привилегии, безусловно легла спать.
– Знаете ли, мне на волос не верится, чтобы этот король мог быть таким дурным человеком, – заметила Лили.
– А я так совершенно верю, – сказала Белл.
– Ну да, потому что ты радикалка. Я никогда не поверю, что бывают короли хуже прочих людей. Что касается до Карла Первого, то он был почти лучшим человеком в истории.
Это был старинный спорный предмет, при настоящем случае Лили, как больной, дозволено было оставаться при своем убеждении без всяких возражений.
Глава XLV ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ В ЛОНДОНЕ
В Лондоне четырнадцатое февраля было так же мрачно и холодно и так же напоминало собою суровость зимы, как и в Оллингтоне, и, может статься, по суровости своей было еще мрачнее и печальнее. Несмотря на то, леди Александрина имела такой блестящий, такой радостный вид, какой только мог придать ей подвенечный наряд, в то время, когда она выпрыгнула из кареты и вошла в Сент-Джемскую церковь в одиннадцать часов утра этого дня.
На окончательном совещании было решено, что обряд бракосочетания должен состояться в Лондоне. Правда, много представлялось причин, по которым было бы несравненно удобнее совершить этот обряд в замке Курси. Во-первых, вся фамилия де Курси собралась бы в загородной резиденции своих предков и поэтому могла бы присутствовать при церемониале, не навлекая на себя излишних хлопот или издержек. Во-вторых, замок согревался бы теплотою жизни, и отрада родного очага сообщила бы некоторую прелесть выбытию из дома одной из дочерей. В-третьих, тут были арендаторы и слуги, была обстановка, при которой нельзя было не ощущать, особливо со стороны Кросби, всего блеска такой величественной свадьбы. Наконец, все соглашались, даже сама леди де Курси, что дом в Портмен-сквэре был весьма холоден, что свадьба там будет самая холодная, что там вовсе не представлялось возможности придать ей необходимый блеск и великолепие, и, кроме того, об ней не появилось бы в столбцах газеты «Morning Post» фешенебельной рекламы. Другое удобство свадьбы в провинции состояло в том, что там находился граф, между тем как не было никакой вероятности, что он отправится в Лондон, чтобы присутствовать при церемонии.
Граф был весьма страшен в эти дни, и Александрина, по мере того как становилась более и более откровенною в объяснениях с своим будущим мужем, отзывалась о нем как о чудовище, избежать которого в житейских делах только и было возможно с помощью хитрости или умения пользоваться благоприятными обстоятельствами. Кросби с своей стороны нередко замечал, что не обращает внимания на это чудовище, особливо имея в виду возможность навсегда отделаться от его зверского господства.
– Он не приедет ко мне в наш новый дом, – говорил он своей подруге с некоторою нежностью.
Но леди Александрина восставала против такого воззрения на этот предмет. Чудовище, о котором шла речь, не только было ее родителем, но и благородным пэром, и потому она ни под каким видом не могла согласиться с распоряжениями, которые бы могли подвергнуть опасности их будущие связи с графом и вообще с аристократическим миром. Правда, отец ее был чудовище и своею чудовищностью мог быть страшен только для находящихся вблизи его, и, следовательно, не лучше ли было бы находиться вблизи графа, который считался чудовищем, чем удалиться от всякого другого графа? Из этого Кросби по необходимости выводил заключение, что чудовище должно быть терпимо.
Несмотря на то, великим было бы подвигом отделаться от него при этом счастливом событии. Он позволял себе говорить весьма страшные вещи, столь страшные, что являлся вопрос: мог ли их вытерпеть жених? С того времени как граф услышал о приключении Кросби на станции железной дороги, он постоянно с демонской радостью напоминал о побоях, нанесенных его будущему зятю. Леди де Курси, принимая сторону Кросби и доказывая, что партия как нельзя лучше соответствует ее дочери, решалась иногда заявлять своему мужу, что Кросби человек фешенебельный, и тогда граф с самой отвратительной улыбкой задавал вопрос: а улучшилась ли его фешенебельность после приключения с ним в Паддингтоне? Кросби, которому, конечно, ничего этого не сообщали, предпочитал венчание в провинции, но графиня и Александрина знали дело лучше.
Граф строжайшим образом воспретил всякого рода издержки, графиня же воспрещение это толковала по своему, подразумевая под ним только одни лишние, ненужные издержки.
– Выдать дочь замуж без всяких издержек, – это непостижимая вещь для кого бы то ни было, – замечала графиня старшей своей дочери.
– Я бы и сама по возможности воздержалась от многих расходов, – отвечала леди Амелия. – Знаете, мама, тут есть обстоятельства, о которых другому не хотелось бы и говорить в настоящее время. Например, история с этой девушкой, а потом скандал на станции железной дороги. Я сама такого мнения, что чем скромнее будет свадьба – тем лучше.
Здравый смысл леди Амелии не допускал возражений, как признавалась ее мать. С другой стороны, если устроить свадьбу скромненько, то самая скромность не будет ли опаснее попытки на шумное великолепие.
– Тут, главное, вы избавитесь от расходов, – сказала Амелия.
Таким образом было решено свадьбе быть скромной.
Кросби весьма охотно соглашался на это, хотя ему очень не понравились тон и манеры, с которыми графиня объяснила ему свой взгляд на этот предмет.
– Не нахожу за нужное говорить вам, Адольф, – сказала она, – до какой степени я довольна этим браком. Моя милая дочь сознает, что может быть счастлива с вами, чего же больше могу я желать? Я объявила ей и Амелии, что я не честолюбива, и потому позволила им действовать, как им нравится.
– И я надеюсь, они в этом не стесняются, – сказал Кросби.
– Надеюсь и я, но несмотря на то, не знаю, вполне ли вы поняли меня?
– Вполне понял, леди де Курси. Если бы Александрина выходила замуж за старшего сына маркиза, вы имели бы более длинную процессию к брачному алтарю, чем та, которая необходима теперь, когда она выходит замуж за меня.
– Вы как-то странно смотрите на это, Адольф.
– Если мы понимаем друг друга, то ничего не может быть странного. Могу вас уверить, что для меня не нужно никакой процессии. Я совершенно буду доволен, если мы пойдем с Александриной рука в руку, как Дарби и Джоана, и пусть какой-нибудь клерк передаст мне ее во всегдашнее владение.
С своей стороны мы желаем сказать, что Кросби остался бы гораздо довольнее, если бы ему позволено было идти по улице, не имея на руке своей постороннего бремени. Но для подобной льготы не представлялось ни малейшей возможности.
Леди Амелия и мистер Гезби давно уже сделали открытие, что сердце Кросби отравлено горечью и что сам он начинал сильно раскаиваться, Гезби решился даже заметить жене своей, что его благородная свояченица готовила для себя самую жалкую жизнь.
– Ничего, привыкнет, бог даст, успокоится и будет счастлива, – отвечала леди Амелия, припоминая, быть может, свое собственное положение.
– Не знаю, мой друг, только он не принадлежит к числу людей спокойных. Его взгляд, его наружный вид, все его манеры говорят мне, что для женщины он будет очень тяжел.
– Но теперь дело зашло так далеко, что никакая перемена невозможна, – отвечала леди Амелия.
– И то правда.
– Притом же я знаю сестру свою очень хорошо, она не захочет и слышать об этом. Во всяком случае, я уверена, они сойдутся, попривыкну в друг к другу.
Мистер Гезби, основываясь на своем собственном опыте, не смел питать такой большой надежды. Свой домашний быт ему нравился, потому что он был расчетливый человек, и, сделав правильно расчеты, он ожидал от них и получал выгоды. Не без успеха он проводил таким образом всю свою жизнь. Жена была господствующим лицом в его доме, она всеми повелевала и всем распоряжалась, мистер Гезби знал это очень хорошо, но никакое усилие со стороны его жены, если бы она и пожелала сделать подобное усилие, не могло принудить его истрачивать более двух третей своего дохода. Знала это и жена его и, соображаясь со средствами, щеголяла, как говорится, своими парусами, в этом отношении она вполне согласовалась с мужем. Но от подобного благоразумия, подобного щегольства и подобного согласия легче ли было Кросби и леди Александрине?
– Во всяком случае, теперь это слишком поздно, – сказала леди Амелия, заключая этим разговор.
Несмотря на то, с наступлением последней минуты все-таки сделана была попытка блеснуть. Кому неизвестна та перемена, которая совершается за небольшим званым обедом новобрачной четы, то старание заменить блюдо жареной рыбы или кусок баранины вкусным бульоном, сочными, но, к несчастью, холодными котлетами, прозрачно-красным желе или нежно-розовым кремом, заказанным в минуты затронутого честолюбия, в ближайшей кондитерской.
– С нашей кухаркой и горничной Сарой мы не можем дать обеда.
Мистер Гезби объявил, что у него нет и не было подобной идеи.
– Если вздумают приехать и разделить с нами кусок баранины Фипс и Даундли, я душевно буду рад, не приедут – тем лучше. Ты можешь, впрочем, пригласить сестру Фипса, собственно для того, чтобы кто-нибудь вошел с тобой в гостиную.
– Лучше, если я войду одна, тогда, по крайней мере, я могу читать… – или спать, прибавим мы с своей стороны.
При этом мистер Гезби объяснил своей супруге, что она таким образом покажется совершенно одинокою, не имеющею ни одной подруги, и потому приглашение сестры Фипса необходимо. Потом последовало составление обеденной программы, в которую, под влиянием агонии честолюбия включены были и стоящие лишних издержек желе. Тот и другая были вполне убеждены, что хороший кусок баранины понравился бы всем лучше всяких кондитерских лакомств. Если бы котлеты не разносились наемным человеком, если бы скромную баранину с горячим картофелем подавала Сара, мисс Фипс не стала бы с каким-то особенным жеманством процеживать слова сквозь зубы, когда с ней разговаривал молодой Даундли. Они были бы гораздо веселее.
– Еще кусочек баранины, Фипс, от какого местечка вам лучше нравится?
Как приятно звучат эти слова! Но нам всем известно, что это невозможно. Один мой приятель хотел было сделать это, а все-таки обед его не обошелся без пирожного и цветного крема из кондитерской. Так это было и на свадьбе Кросби.
Невеста должна ехать из церкви в парадной карете и, конечно, сделать кучеру и лакеям свадебные подарки. Таким образом дело росло и росло, но не доходило до размеров истинного блеска и только выказывало попытку сделать хорошее празднество. Хорошо приготовленные риссоли – блюдо прекрасное. Свадебный пир, когда все приготовлено как следует, дело превосходное. Но боже избави нас задавать такие пиры. Мы должны стараться всячески избегать и в свадьбах, и в обедах, и во всех житейских делах судорожных попыток, производимых наперекор очевидному приличию, с внутренним убеждением в неудаче.
В день свадьбы Кросби при невесте находились подруги и был устроен завтрак. При этой оказии Маргарита и Розина приехали в Лондон, куда прибыла также и их первая кузина, некто мисс Грешам, отец которой жил в том же графстве. Мистер Грешам женат был на сестре лорда де Курси, а потому потребовались и его услуги. Он выписан был для передачи невесты, потому что граф, как значилось в газетной статейке, был задержан в замке Курси своим старинным наследственным врагом – подагрой. Приискали и четвертую подругу, и таким образом составился рой, хотя и не так большой, какой в настоящее время вообще признается необходимым. У церкви были только три или четыре кареты, но эти три или четыре составляли нечто. В воздухе было так страшно холодно, что дамские платья из светлых шелковых материй принимали неприятный вид и как нельзя яснее показывали свою несоответственность времени года. Девицы должны быть очень молоды, чтобы казаться хорошенькими в светлых нарядах в морозное утро, а свадебные подруги леди Александрины были далеко не первой молодости. Нос у леди Розины был положительно красный. Леди Маргарита казалась холоднее зимы и, по-видимому, была очень сердита. Мисс Грешам была угрюма, неподвижна, безжизненна; высокопочтенная мисс О'Фляэрти, занимавшая четвертое место, выражала сильное неудовольствие, что ее пригласили разыгрывать роль в такой жалкой пьесе.
Обряд бракосочетания совершился как следует, Кросби выносил душевную пытку с терпением и мужеством. Монгомери Доббс и Фаулер Прат были его шаферами и этим самым доставляли ему некоторую уверенность, что не весь еще мир покинул его, что он не отдался еще связанный по рукам и по ногам семейству де Курси, с тем чтобы они делали с ним что угодно. Мысль об этом постоянно сокрушала его, эта мысль и еще другая, весьма близкая к первой, и именно: что если ему положительно удастся восстать против всего, что относится до фамилии де Курси, он увидит себя совершенно одиноким человеком.
– Да, поеду, – говорил Фаулер Прат Монгомери Доббсу. – Я всегда стараюсь держаться старых друзей. Кросби сначала поступил как негодяй, а потом как дурак, он знает, что я такого мнения, но все же я не вижу, чтобы за это следовало его бросить. Он просил меня, и я поеду.
– Поеду и я, – сказал Монгомери Доббс, в полной уверенности, что поступает весьма благоразумно, согласуясь с действиями Фаулера Прата, и притом же он помнил, что все-таки Кросби женится на дочери графа.
После венчания был завтрак, за которым графиня присутствовала с подобающим ее сану величием. Она не поехала в церковь в том предположении, без всякого сомнения, что за банкетом гораздо лучше обнаружит и поддержит свой юмор, если не рискнет подвергнуть себя в церкви приступу ревматического припадка. В одном конце стола сидел мистер Грешам, который принял на себя обязанность провозгласить в свое время приличный тост и произнести необходимый спич. Тут же находился и высокопарный Джон, позволявший себе различные, скандального свойства выходки насчет сестры и нового зятя, позволявший себе это, собственно, потому, что ему не дали за столом более видного и почетного места. Впрочем, это обстоятельство надо приписать леди Александрине, которая положительно не хотела, чтобы на брата ее возложили обязанность мистера Грешама. Высокопочтенный Джорж не пожаловал, потому что графиня не заблагорассудила послать жене его особого приглашения.
– Мэри у меня неразвязна, незнакома с различными требованиями общества, – говорил Джорж. – Но все-таки она мне жена. Она обладает такими достоинствами, каких не имеют другие. Вы знаете пословицу: хочешь полюбить меня – полюби мою собаку. Поэтому самому он остался в замке Курси, и, как мне кажется, поступил благоразумно.
Александрина желала уехать до завтрака, и Кросби нисколько этому не противоречил, но графиня объявила своей дочери, что если она не подождет завтрака, то его не подадут вовсе, пиршества не будет никакого, а будет обыкновенная свадьба. Если бы еще было большое собрание, то отъезд жениха и невесты мог остаться незамеченным, но графиня чувствовала, что при таком собрании, как настоящее, ничто, кроме присутствия обреченной жертвы, не могло придать пиршеству существенного блеска. Поэтому Кросби и леди Александрина Кросби выслушали спич мистера Грешама, в котором он предсказывал молодой чете такое громадное количество счастья и благополучия, какое ни под каким видом не могло быть совместимо с обыкновенными обстоятельствами человеческой жизни. Молодой друг его Кросби, познакомиться с которым он считал за особенное удовольствие, был известен уже, как один из возвышающихся столпов государства. Посвятит ли он свою будущую карьеру парламенту или исключительно высшим сферам государственного управления, во всяком случае карьера эта будет великая, благородная и сопровождаемая полным успехом. Что касается его молодой племянницы, занявшей теперь в жизни положение, которое служит украшением и блеском для всякой молодой женщины, она не могла поступить лучше этого. Гения она предпочла богатству, так говорил мистер Грешам, и, конечно, получит за это надлежащую награду. Что касается до получения надлежащей награды за все то, чему бы она ни отдавала предпочтение, мистер Грешам, без всякого сомнения, был совершенно прав. В этом отношении я сам не имею ни малейшего сомнения. Кросби выразил свою благодарность, произнеся такую речь, какой не произнесли бы при настоящем случае девять человек из десяти, и затем пиршество окончилось! Говорить после речи Кросби никому не позволялось, и через полчаса новобрачные мчались уже в почтовой карете к станции железной дороги в Фолькстон, – это место было избрано для медового месяца. Сначала предполагалось, что поездка в Фолькстон будет только первой станцией путешествия в Париж, но Париж и все другие заграничные путешествия постепенно были откладываемы до другого времени.
– Я вовсе не думаю о Франции, мы так часто бывали там, – говорила Александрина.
Она желала бы съездить в Неаполь, но Кросби дал ей понять на первом слове, что о поездке в Неаполь и воображать нельзя. Он должен теперь думать об одних только деньгах. С первого шага в новой своей карьере он должен сберегать каждый шиллинг, лишь бы только представилась возможность к подобному сбережению. Такой взгляд на жизнь не встретил со стороны фамилии де Курси ни малейшей оппозиции, напротив, леди Амелия объясняла сестре своей, что им следует проводить медовый месяц, стараясь истрачивать денег не более того, сколько бы понадобилось на расходы в обыденном хозяйстве. Правда, без некоторых вещей обойтись невозможно, – вещей, стоящих довольно дорого. Молодая должна взять с собой нарядно одетую горничную. Квартира в фолькстонском отеле должна состоять из больших комнат, и притом в бельэтаже. На все время пребывания в Фолькстоне должна быть нанята карета, несмотря на то, нужно сберегать каждый шиллинг, трата которого не будет бросаться в глаза внешнему миру. О, боже, избави нас от положения тех людей, которые, при малых средствах, стараются казаться богачами!
С помощью небольшой взятки Кросби успел получить для себя и для жены удобное отделение в вагоне. Подобрав как следует пышный наряд леди Александрины и заняв место против нее, Кросби вспомнил, что ему никогда еще не приводилось находиться с ней наедине. Ему часто случалось танцевать вместе с ней, оставаться при ней на несколько минут в антрактах французской кадрили, он ухаживал за ней в многолюдных гостиных и однажды выбрал минуту в замке Курси объявить свое желание жениться на ней, несмотря на обещание, которое дано было Лилиане Дель, но он никогда не прогуливался с ней, как с Лили, по целым часам, никогда не говорил ей о правительстве, о политике, о книгах, никогда и она не говорила с ним о поэзии, о религии и обязанностях женщины, об удобствах и неудобствах жизни. Он знал леди Александрину лет шесть или семь, и в то же время не знал ее, и может статься, не узнает так, как узнал Лили Дель в течение каких-нибудь двух месяцев.
И теперь, когда она сделалась его женой, о чем бы ему с ней поговорить? Оба они вступили в союз, который должен обратить их на всю жизнь в одно тело и в одну душу. Друг для друга они должны быть все и во всем. Но каким же образом начать ему свое новое поприще, свою новую жизнь? Прямо против него сидела она, жена его, кость от его кости, о чем бы начать с ней разговор? Заняв свое место и укутав свои и ее колени и ноги прекрасным меховым пледом с малиновым убором, он невольно подумал, как несравненно было бы легче начать разговор с Лили. Лили вся бы обратилась в слух, во внимание и приготовилась бы со всею быстротою отвечать на его вопросы, развивать какую бы то ни было идею. В этом отношении Лили была бы настоящею женою – женою, которая с быстротою переносилась бы умственною деятельностью своею в умственную сферу своего мужа. Начни он говорить о своей должности, о службе, и Лили была бы готова слушать его, рассуждать, между тем как Александрина ни разу еще не спросила его об официальной его жизни. Задумай он какой-нибудь план об удовольствиях на завтрашний день, и Лили приняла бы его с горячностью, Александрину не занимали такие пустяки.
– Хорошо ли вам, покойно ли? – спросил он наконец.
– О да, очень хорошо, благодарю вас. Кстати, где мой дорожный туалет?
И этот вопрос был сделан с некоторой досадой.
– Он под вами. Не хотите ли поставить его под ноги?
– Нет, исцарапается. Я боялась, что если бы взяла его Анна, то могла бы потерять.
Снова наступило молчание, и снова Кросби задумался о том, что бы такое еще сказать своей жене.
Мы все знаем совет, данный нам в старину относительно того, что должно делать при подобных обстоятельствах, и кого можно так вполне оправдать за следование этому совету, как не новобрачного мужа? Поэтому Кросби протянул свою руку к ее рукам и привлек ее к себе.
– Не изомните моей шляпки, – сказала она, почувствовав толчок вагона, в то время когда Кросби поцеловал ее.
Не думаю, чтобы он поцеловал ее еще раз, пока не доставил благополучно ее и ее шляпку в Фолькстон. Ах! как часто целовал бы он Лили, как мила была бы ее шляпка к концу дороги и как очаровательно-счастлива казалась бы она, когда бы вздумала побранить его за то, что он помял ее шляпку! Но Александрина только и думала о своей шляпке и далеко не заботилась о выражении счастья.
Таким образом они сидели молча, пока поезд не подбежал к тоннелю.
– Как я ненавижу эти тоннели, – сказала Александрина.
Кросби вполовину намеревался снова протянуть свою руку, под влиянием какой-то ошибочной идеи, что тоннель доставлял ему для этого удобный случай. Вся дорога представляла собой один беспрерывный случай, если бы он желал им воспользоваться, но жена его ненавидела тоннели, и потому Кросби отдернул свою руку. Маленькие пальчики Лили были бы во всякое время готовы к прикосновению к его руке. Он подумал об этом, он не мог не подумать об этом.
В саквояже у него лежал номер газеты «Times». Александрина тоже имела при себе какой-то роман. Не рассердится ли она, если он вынет газету и займется чтением? Дорога тянулась чрезвычайно медленно, до Фолькстона оставался еще час езды. «Times» не выходил из головы у него, но он решился оставить его в покое, до тех пор, пока жена не начнет чтения первая. Леди Александрина тоже вспомнила про свой роман, но она от природы была терпеливее Кросби и притом полагала, что в подобной поездке всякое чтение могло быть неприлично, поэтому она сидела спокойно, устремив глаза свои на решетку над головою мужа.
Наконец, ему сделалось невыносимо, он решился, во что бы то ни стало, вступить в разговор, разумеется самый нежный и в то же время серьезный.
– Александрина, – сказал он, настроив голос свой на нежно-серьезный тон, хотя слух Александрины далеко не был доступен для такого настроения, – Александрина, шаг, который вы и я сделали сегодня, шаг весьма важный.
– Да, действительно, – сказала она.
– Надеюсь, мы успеем доставить счастье друг другу.
– Да, я надеюсь, что успеем.
– Непременно успеем, если оба станем серьезно думать об этом и помнить, что это наш главный долг.
– Да, я полагаю. Надеюсь только, что наш дом не будет холоден. Он совершенно новый, и я так часто подвержена простудам. Амелия говорит, что мы найдем его очень холодным, она всегда была против того, чтобы мы переехали туда.
– Дом будет очень хорош, – сказал Кросби, и Александрина заметила в голосе его тон господина.
– Я только говорю вам то, что сказывала мне Амелия.
Если бы Лили была женой его и если бы он заговорил с ней о предстоящей для них жизни и взаимных друг к другу обязанностях, о, как бы оживила она эту тему! Она упала бы перед ним на пол вагона на колени и, глядя ему в лицо, обещала бы делать с своей стороны все, что только может быть лучшего. И с какою горячею решимостью она дала бы в душе своей клятву исполнить свое обещание. Теперь он думал о всем этом, хотя и знал, что ему об этом не должно было думать. Наконец он вынул «Times»; увидев это, Александрина раскрыла свой роман.
Кросби вынул газету, но не мог сосредоточить своих мыслей на политических известиях. Не сделал ли он страшнейшей ошибки? Какую пользу принесет ему в жизни это подобие женщины, сидевшее против него? Не постигло ли его величайшее наказание и не заслужил ли он этого наказания? Действительно, его постигло величайшее наказание. Он не только женился на женщине, неспособной понимать высшие обязанности супружеской жизни, но сам был способен оценивать все достоинство женщины, которая их понимала. Он был бы счастлив с Лили Дель, и потому мы можем догадываться, что его несчастье с леди Александриной должно быть еще больше. Есть мужчины, которые, женившись на таком создании, как леди Александрина де Курси, приобрели бы субъект, всего лучше соответствующий им, как, например, сделал подобное приобретение Мортимер Гезби, женившись на ее сестре. Мисс Гризельда Грантли, сделавшаяся леди Думбелло, хотя несколько холоднее и несколько умнее леди Александрины, принадлежала к тому же разряду. Женившись на ней, лорд Думбелло приобрел желаемый субъект, если только злые люди позволят ему сохранить этот предмет. По поводу этой-то неудачи Кросби и был так сильно опечален, он видел и одобрял лучшую дорогу к жизни, а между тем сам же выбрал для себя дорогу несравненно худшую. В течение той недели в замке Курси, – недели, которая проведена была там вслед за вторым визитом в Оллингтон, он добровольно решил, что более способен к дурному пути, нежели к хорошему. Теперь этот путь лежал перед ним, и ему оставалось только следовать по нему.
Было очень холодно, когда новобрачные достигли Фолькстона, леди Александрина дрожала, садясь в карету, имевшую вид собственного экипажа, которую прислали в ее распоряжение на станцию железной дороги.
– Мы найдем хороший огонь в гостиной отеля, – сказал Кросби.
– Надеюсь, – сказала Александрина, – не в одной гостиной, я думаю, и в спальне.
Молодой муж чувствовал себя оскорбленным, но сам не знал, почему он чувствовал себя обиженным, и с трудом принудил себя выполнить все те маленькие церемонии, отсутствие которых было бы замечено всяким. Он, однако же, сделал свое дело, собрал все платки и шали, ласково разговаривал с Анной и обращал особенное внимание на дорожный туалет.
– В котором часу хотите вы обедать? – спросил он, приготовляясь оставить ее в спальне одну с Анной.
– В котором вам угодно, только теперь, сейчас же, я хочу чаю и хлеба с маслом.
Кросби отправился в гостиную, приказал подать чаю и хлеба с маслом, заказал обед и потом стал спиной к камину, чтобы немного подумать о своей будущей карьере.
Это был человек, который давным-давно решился, что его жизнь должна сопровождаться постоянным успехом. Кажется, все мужчины решали бы подобным образом, если бы только это зависело от одной решимости. Но, сколько мне известно, большинство мужчин не делает такой решимости, напротив, многие решают, что они будут безуспешны. Кросби, однако же, рассчитывал на успех и сделал уже многое для достижения цели. Он составил себе имя и приобрел некоторую известность. И все это, как он признавался самому себе, разлучалось с ним. Он прямо смотрел на свое положение и смело говорил себе, что модный свет нужно покинуть, но ему оставался еще официальный мир. Он все еще мог господствовать над мистером Оптимистом и делать покорного раба из Буттервела. Здесь теперь должна сосредоточиваться вся его жизнь, он должен стараться посвятить себя всецело одной этой сфере. Что касается жены и дома своего, он будет искать в нем завтрака и, может быть, обеда. Он будет иметь комфортабельное кресло и, если Александрине суждено сделаться матерью, постарается любить детей своих, но, главнее всего, никогда не будет думать о Лили. После этого он простоял и продумал о ней еще полчаса.
– Извините, сэр, миледи желает знать, к какому времени вы заказали обед?
– К семи часам, Анна.
– Миледи говорит, она очень устала и хочет прилечь до обеда.
– Очень хорошо, Анна. Я приду в ее комнату, когда наступит время одеваться. Надеюсь, что внизу тебе отведено удобное помещение?
После этого Кросби вышел на набережную прогуляться по ней во мраке холодного зимнего вечера.
Глава XLVI ДЖОН ИМС В ДОЛЖНОСТИ
Мистер Кросби и его жена отправились на медовый месяц в Фолькстон в половине февраля, а в исходе марта возвратились уже в Лондон. В течение этих шести недель ничего особенно интересного для нашей истории не случилось, если можно только допустить, что прогулки новобрачной четы по морскому прибрежью имеют особенный интерес. Относительно этих прогулок я одно могу сказать, что Кросби чрезвычайно обрадовался, когда они кончились. Задавать себе праздники – труд тяжелый, а задавать себе праздники без всякого занятия – еще тяжелее. В исходе марта новобрачные прибыли в новый свой дом, и, будем надеяться, леди Александрина не нашла его очень холодным.
В течение этого времени Лили окончательно поправилась от своей болезни. Болезнь не возвращалась, и вообще ничего такого не случилось, что могло бы возбудить новые опасения насчет Лили. Несмотря на то, доктор Крофтс выразил мнение, что было бы несвоевременно перевезти ее в новый дом, в день Благовещения. Март вообще считается месяцем неблагоприятным для больных, и потому с некоторым сожалением со стороны мистрис Дель, с весьма сильным нетерпением со стороны Белл и с убедительными доводами от самой Лили выпрошено было позволение сквайра провести в его доме апрель. О том, как принял сквайр это прошение и как согласился он с убеждениями доктора, мы расскажем в самом непродолжительном времени.
Между тем Джонни Имс продолжал в Лондоне свою карьеру без особенного удовольствия для самого себя и для леди, считавшей себя избранной царицей его сердца. Действительно, мисс Амелия Ропер становилась очень сердитою, раздражительной и в раздражительности своей продолжала разыгрывать роль, которая клонилась к тому, чтобы заварить в Буртон-Кресценте страшный кипяток. Она начала кокетничать с мистером Кредлем, не только в глазах Джонни Имса, но и в глазах мистрис Люпекс. Джонни это крайне не нравилось, – безрассудный юноша! Более всего на свете он заботился о том, чтобы отделаться от Амелии и ее притязаний, беспокоился до такой степени, что в минуты мрачного расположения грозил самому себе разными трагическими окончаниями карьеры своей в Лондоне. Он хотел поступить в солдаты, хотел уехать в Австралию, хотел всадить пулю в лоб, наконец, хотел «объясниться» с Амелией, сказать ей, что она мегера, выразить все свое отвращение к ней, потом бежать в Оллингтон и броситься к ногам Лили. Амелия была отравою его жизни. Несмотря на то, кокетство ее с Кредлем не нравилось ему, и он до такой степени был глуп, что решился даже высказать Кредлю свое неудовольствие.
– Разумеется, какое мне дело до нее, – сказал он. – Только мне кажется, что ты делаешь из себя большого глупца.
– Ведь я думал, что ты хочешь от нее отделаться.
– Для меня она ровно ничего не значит, но только, ты знаешь…
– Что же такое знаю я? – спросил Кредль.
– Тебе бы тоже не понравилось, если бы я стал ухаживать за той замужней женщиной. Вот и все тут. Уж не думаешь ли ты жениться на ней?
– На ком? На Амелии?
– Да, на Амелии.
– Избави меня боже!
– В таком случае на твоем месте я бы оставил ее в покое, она только дурачит тебя.
Совет Имса был очень хорош, и его взгляд на действия Амелии весьма правилен, но относительно своей роли в этой пьесе он держал себя безрассудно. Мисс Ропер, без всякого сомнения, желала возбудить в нем ревность. Мисс Ропер, при всем своем искусстве, не могла вынудить из него в течение недели нежного слова, а между тем его беспокоили нежные слова, сказанные Амелией Кредлю или Кредлем Амелии. В таком положении находилось это дело, не должны ли мы признаться, что Джонни Имс все еще боролся с неопытностью и безрассудством юношеского возраста?
Люпексы в это время все еще держались в Кресценте, несмотря на многократные предложения выехать. Мистрис Ропер, хотя и постоянно выражала готовность свою отказаться от долга Люпексов, но была жадна до денег, что, впрочем, весьма естественно. А так как каждое предложение выехать на другую квартиру сопровождалось требованием уплаты долга и затем незначительным его погашением, то дело тянулось и переезд откладывался с недели на неделю, в начале апреля мистер и мистрис Люпекс все еще были постояльцами в доме мистрис Ропер.
Со времени своей рождественской поездки и из последующей переписки с лордом Дегестом Имс не имел никаких известий из Оллингтона. В письмах матери ему сообщалось, что из гествикского господского дома ей часто присылали дичь, а из этого Джонни выводил заключение, что граф не забыл его. Но о Лили он не слышал ничего, кроме разве молвы, которая в это время сделалась общею, что Дели из Малого дома намерены переехать в Гествик. На первой поре он счел это известие благоприятным для себя, полагая, что Лили, удаленная от величия Оллингтона, по всей вероятности, будет для него доступнее, но в последнее время он отказался от этой надежды и уже говорил себе, что его друг в господском доме бросил всякую мысль о браке его с Лили. Прошло три месяца со времени его последней поездки в Гествик. Пять месяцев прошло после того, как Кросби отказался от Лили. Как бы, кажется, не забыть в пять месяцев такого негодяя, как Кросби! Как бы, кажется, не достаточно для сквайра трех месяцев, чтобы принять какие-нибудь меры! Очевидно, что для него не было никакого основания питать надежду в Оллингтоне, и теперь самая лучшая пора отправиться в Австралию. Джонни решился положительно уехать в Австралию, но до отъезда ему хотелось непременно поколотить Кредля, за то что он осмелился вмешиваться в его дела с Амелией Ропер. Таково было настроение Джонни в течение первой недели апреля.
Но вот приходит к нему письмо от графа, которое вдруг произвело большую перемену во всех чувствах Джонни, которое заставило его считать Австралию за мечту, и даже послужило поводом к возобновлению дружеских отношений с Кредлем. Граф ни за что в мире не хотел терять из виду интересов своего друга в Оллингтоне, а тем более, что интересы эти поддерживались в настоящее время союзником, которого в деле подобного рода должно было считать могущественнее самого графа. Сквайр дал полное свое согласие на брак Лили с Джонни Имсом.
Содержание письма графа было следующее:
«Гествикский господский дом.
7 апреля 18…
Любезный мой Джонни, я говорил, чтобы ты писал ко мне, а ты этого не сделал. Хорошо, что я вижусь с твоей матушкой, а то, право, можно было бы подумать, что ты более не существуешь. Молодой человек всегда должен писать письма, когда его об этом просят. (Имс чувствовал, что он не заслужил этого упрека, он не писал к своему покровителю собственно потому, что не хотел наскучить ему своими письмами. „Клянусь Юпитером, я буду писать ему каждую неделю, пока не надоем ему“, – сказал Джонни самому себе, прочитав такое наставление об обязанностях молодого человека.)
Теперь мне предстоит рассказать тебе предлинную историю, гораздо было бы лучше, если бы ты приехал сюда: я бы избавился тогда от лишнего труда, с другой стороны, заставить тебя ждать – тоже нехорошо, ты стал бы считать меня недобрым человеком. Недавно мне случилось встретиться с мистером Делем, который объявил мне, что будет очень рад, если одна молодая особа надумает выслушать одного моего молодого друга. Я спросил его при этом о мнении его насчет приданого молодой особы, и он выразил готовность выдавать ей при жизни своей по сто фунтов стерлингов в год, а при смерти отказать по духовному завещанию четыре тысячи фунтов.
Я заявил ему, что с своей стороны тоже не прочь выдавать молодому человеку по сто фунтов в год, но так как двести фунтов, при твоем жалованье, не совсем-то достаточно, чтобы начинать семейную жизнь, то я обещал полтораста фунтов. По должности своей ты скоро получишь повышение, и тогда с пятьюстами фунтов можно будет жить довольно порядочно, особенно когда тебе не предстоит надобности застраховывать свою жизнь. Я бы на твоем месте, на первых порах, поселился бы где-нибудь поблизости Блюмсбири-сквэра, потому что там, как мне сказывали, ты можешь получить дом почти даром. Да и то сказать, стоит ли гоняться за модой? На осень ты можешь привезти жену свою сюда, а сам между тем поохотишься. Я уверен, что она не позволит тебе спать под деревьями.
Теперь ты должен смотреть в оба на молодую особу. Ты, конечно, поймешь, что ей не сказано еще ни слова об этом, а если и сказано, то без моего ведома. Довольно уже того, что сквайр на твоей стороне. Нельзя ли тебе устроить так, чтобы приехать сюда на Пасху? Передай старому Бофлю мой поклон и скажи ему, что ты мне нужен. Если хочешь, я напишу ему. Когда-то я знавал его, хотя не могу сказать, что я когда-нибудь любил его. Здравый рассудок говорит, что ты ничего не поделаешь с мисс Лили, не повидавшись с ней, пожалуй, если хочешь, заведи переписку с ней, только это всегда казалось мне последним делом. Лучше, гораздо лучше приехать сюда и начать ухаживать за ней правильным образом, как бывало в старину. Не считаю за нужное говорить тебе, что леди Джулия будет в восторге от твоего приезда. После подвига на станции железной дороги ты сделался ее первым фаворитом. Она думает об этом несравненно больше, чем о подвиге.
Итак, любезный друг, теперь тебе известно все, я составлю о тебе самое дурное понятие, если ты в скором времени не ответишь на это письмо.
Твой искренний друг Дегест».Когда Имс прочитал это письмо, сидя за своей конторкой, изумление его и восторг так были велики, что он решительно не знал, где находился или что следовало ему делать. Возможно ли, что дядя Лили не только согласился на брак, но обещал еще дать своей племяннице весьма хорошее состояние? В течение нескольких минут Джонни казалось, что все препятствия к его счастью устранены и что между ним и тем блаженством, о котором до этой поры он едва осмеливался мечтать, не существовало никакой преграды. Потом, подумав о щедрости графа, он чуть не заплакал. Он увидел, что не может успокоить свой ум для того, чтобы мыслить, и свою руку, чтобы писать. Он не знал, справедливо ли было бы с его стороны принять от какого бы то ни было живого человека денежное вспомоществование, он даже считал себя обязанным отклонить предложение графа. Что касается денег сквайра, он знал, что принять их можно. Все, что приходит под видом приданого молодой женщины, может быть принято всяким мужчиной.
Само собою он хотел отвечать графу, и отвечать немедленно. Он решился исполнить это, не выходя из должности. Его покровитель и друг не должен иметь повода к дальнейшему его обвинению подобного рода. Потом он снова обратился к незаслуженному упреку, который сделали ему по поводу его молчания, – как будто размышление об этом было самым главным и важным предметом при настоящем положении обстоятельств. Мало-помалу, однако же, он успел сосредоточить свои мысли на существенном вопросе – примет ли Лили его предложение? Осуществление его истинного счастья совершенно зависело от ее расположения, – при одной мысли об этом, Джонни снова терялся в своих думах, в его сердце снова возникали тяжелые предчувствия. Его тяготили не только обыкновенные сомнения, свойственные всякому влюбленному молодому человеку, сомнения, соединенные с боязнью, обыкновенной у скромного и застенчивого юноши, – но и мысль о том, что поступок его с Кросби будет служить для него немалой преградой. Может статься, он не совсем понимал то, что выстрадала Лили, но считал вероятным, что ей нанесены были раны, которых не в состоянии были излечить даже последние пять месяцев. Возможно ли, чтобы она позволила ему залечить эти раны? Во время этих размышлений он чувствовал себя совершенно уничтоженным своей застенчивостью и убеждением в том, что он недостоин такого беспредельного счастья. Да и что же, в самом деле, предлагал он взамен предоставления ему такой девушки, как Лилиана Дель?
В этот день коронная служба, мне кажется, также ровно ничего не получила от Джонни Имса взамен выдаваемого ему жалованья. Впрочем, надо сказать правду, до этого времени подобная замена со стороны Джонни был так соразмерна, что, к величайшей досаде и зависти Кредля, Фишера и других непосредственных сослуживцев и товарищей, повышение Джонни по должности было во всем управлении сбора податей делом несомненным. Предназначенное ему место, по носившейся молве, принадлежало к числу тех, которые в мире гражданской службы считаются настоящим раем. Ему предстояло, как гласила та же молва, сделаться частным секретарем первого комиссионера в управлении. Эта перемена предоставляла ему возможность оставить большую, не покрытую коврами комнату, в которой он сидел за одной конторкой с другим человеком, к которому он чувствовал себя привязанным постыдным образом, как должны чувствовать себя две собаки на одной своре. Эта комната представляла собою нечто вроде медвежьей ямы, в которой сидело от двенадцати до четырнадцати человек. Каждый день около часу пополудни в ней являлись оловянные кружки, придававшие ей вид далеко не аристократический. Старшина комнаты, некто мистер Лов, который имел ее, как все допускали, в непосредственном своем заведывании, был клерк старинного покроя, угрюмый, тяжелый, нечестолюбивый, проживавший в отдаленном конце Эйлинтона и за пределами управления, не известный никому из своей меньшей братии. Все вообще сослуживцы его были такого мнения, что он сообщал этой комнате весьма дурной тон. Часто и очень часто производил в этой комнате большое волнение официальный фат, в своем роде главный клерк, по имени Киссин, гораздо выше по должности и моложе по летам, чем джентльмен, о котором мы сейчас упомянули. Он опрометью выскакивал из своей собственной соседней комнаты, почти бегал, а не ходил, со вздернутым носом, всегда принимал на себя вид, как будто есть какой-нибудь повод бояться, что вся гражданская служба приближается к неминуемой гибели, и всегда употреблял грубые слова, переносить которые немногие из сидевших в большой комнате находили себя способными. Волосы у него всегда причесывались торчком, глаза всегда были выпучены, он обыкновенно носил при себе регистратурную книгу, засунув в нее палец. Книга эта была ему не по силам, подходя к тому или другому клерку, он не клал ее на конторку, а как-то швырял и через это сделался для всех ненавистным. Вследствие какой-то старинной размолвки, он и мистер Лов не говорили друг с другом, а по этой причине, при каждом случае, когда открывалась ошибка в книге, обвиняемый в этом молодой человек просил мистера Киссина обратиться к его неприятелю.
– Ничего я не знаю, – говорил мистер Лов, не отводя лица от конторки.
– Я представлю об этом в совет, – отвечал мистер Киссин и с огромной книгой исчезал из комнаты.
Иногда мистер Киссин действительно представлял об этом в совет, и туда обыкновенно требовали мистера Лова и двух или трех молодых людей из его отделения. Конечно, никогда это не влекло за собой серьезных последствий. Виновные клерки получали замечания. Один комиссионер отводил мистера Лова в одну сторону и что-то говорил ему, другой отводил мистера Киссина в другую сторону и тоже что-то говорил. После того комиссионеры, оставшись одни, начинали смеяться и говорили, что мистер Киссин мелочный человек и что Лов всегда будет брать над ним верх. Впрочем, подобные вещи творились в более мирные дни, до поступления в совет сэра Рэфля Бофля.
Все это на первых порах забавляло Джонни Имса, но в последнее время становилось скучным. Он не любил мистера Киссина, не любил и огромной его книги, с помощью которой мистер Киссин всегда старался уличить его в каком-нибудь серьезном промахе, ему надоели выходки его товарищей, возбуждавшие вражду между Киссином и Ловом. Когда помощник секретаря впервые сообщил Джонни намерение сэра Рэфля Бофля взять его к себе частным секретарем, когда он вспомнил уютную комнату, покрытую коврами, кожаное кресло, письменный отдельный стол, которые в случае такой перемены перейдут в полное его распоряжение, когда он вспомнил также и о том, что жалованье его увеличится на сто фунтов стерлингов и что при этом открывалась дорога к дальнейшему повышению, радость его была беспредельна. Но тут встречались своего рода неприятности, уменьшавшие восторг молодого человека. Настоящий частный секретарь, который был частным секретарем и при бывшем первом комиссионере, покидал этот земной рай единственно потому, что не мог выносить голоса сэра Рэфля. Носилась молва, что сэр Рэфль Бофль требовал от своего секретаря более того, что входило в круг его служебных обязанностей, требовал, чтобы секретарь служил и умел прислуживаться, так что Имс начал сомневаться в способностях своих занять это место.
– Почему же выбор пал на меня? – спросил Джонни помощника секретаря.
– Мы вместе совещались об этом, и мне кажется, что он отдает вам преимущество пред всеми другими, которых ему представляли.
– Однако он поступил со мной довольно строго по делу на станции железной дороги.
– Я думаю, после того он слышал еще что-нибудь по этому делу и переменил свое мнение, мне кажется, что он получил письмо от вашего друга, графа Дегеста.
– В самом деле! – сказал Джонни, начиная понимать, что значит иметь графа своим другом. С самого начала знакомства своего с этим нобльменом Джонни всячески старался не упоминать имени графа в своем управлении, а между тем почти каждый день слышал намеки, что факт этот известен всем и имел немаловажное значение.
– Но он такой грубый, – сказал Джонни.
– Вы смиритесь с этим, – отвечал помощник секретаря. – Он громко лает, но не кусает, а ведь сто фунтов в год чего-нибудь да стоят.
В эту минуту Имс смотрел на жизнь вообще с мрачной точки зрения, и в случае предложения ему нового места, намерен был отказаться от него. Джонни не получал еще письма от графа, но теперь, когда он сидел перед открытым письмом, лежавшим в ящике под его конторкой, – чтобы можно было читать его, откинувшись к спинке стула, – он начал смотреть на вещи вообще совсем с другой точки зрения. Во-первых, мужу Лилианы Дель следовало иметь отдельную комнату с коврами и креслами, во-вторых, сто фунтов в год добавочного содержания сразу увеличат сумму, назначенную ему графом. Но можно ли будет получить отпуск на Пасху? При изъявлении согласия быть частным секретарем сэра Рэфля, он должен выговорить это условие.
В этот момент дверь большой комнаты отворилась, и мистер Киссин заковылял по комнате ускоренными маленькими шагами. Он прямо подбежал к конторке Имса, швырнул на нее огромную книгу, прежде чем Джонни успел задвинуть ящик, содержавший в себе драгоценное письмо.
– Что у вас в ящике, мистер Имс?
– Частное письмо, мистер Киссин.
– Гм! частное письмо! – сказал мистер Киссин, чувствуя сильное убеждение, что в ящике был спрятан какой-нибудь роман, но не смел выразить своего убеждения. – Я целую половину утра, мистер Имс, смотрел вот на этот адрес в адмиралтейство, а вы поставили его под буквой S!
Товарищи Имса, прислушиваясь к тону мистера Киссина, готовы были подумать, что за открытую в книге ошибку погибнет все управление сбора податей.
– Это значит Соммерсет-гауз, где помещается адмиралтейство, – отвечал Джонни.
– Что вы мне говорите, Соммерсет-гауз! Половина учреждений в Лондоне…
– Обратитесь лучше к мистеру Лову, – сказал Джонни. – Все это сделано по его указанию.
Мистер Киссин посмотрел на мистера Лова, мистер Лов пристально смотрел на свою конторку.
– Мистер Лов знает все, что относится к заголовкам, – продолжал Джонни Имс. – В управлении он главный регистратор.
– Нет, мистер Имс, вовсе не я, – сказал мистер Лов, который любил Джонни Имса и от всей души ненавидел мистера Киссина. – Впрочем, я уверен, что в этой комнате все сокращенные адреса надписываются вообще очень хорошо, вольно же другим не понимать этого по начальным буквам.
– Мистер Имс, – начал мистер Киссин, не отнимая пальца от горького упрека неправильно употребленной буквы S и начиная орацию, которая должна была послужить назиданием для всех присутствовавших и уничтожить мистера Лова, – мистер Имс, если вы не знаете, что адмиралтейство начинается с буквы А, а не с буквы S, вам бы следовало поучиться этому до поступления в наше управление. Соммерсет-гауз не есть особое учреждение, – сказав это, он окинул взглядом всю комнату и повторил последние слова, показывая вид, что было бы весьма полезно заучить их наизусть, – не есть учреждение: государственное казначейство есть учреждение, министерство внутренних дел – учреждение, ост-индский комитет – учреждение…
– Нет, мистер Киссин, не учреждение, – сказал молодой клерк в отдаленном конце комнаты.
– Вы знаете очень хорошо, о чем идет речь. Ост-индский комитет есть учреждение.
– Там нет совета, сэр.
– Все равно, дело в том, каким образом джентльмен, который пробыл на службе три месяца, – не говорю уже три года, – может принимать Соммерсет-гауз за правительственное учреждение? Это превышает мои понятия. Если вас неправильно учили…
– Об этом мы узнаем после, – сказал Имс. – Мистер Лов напишет особую записку.
– Ничего я не стану писать, – сказал мистер Лов.
– Если вам не умели передать правила… – снова начал мистер Киссин, бросая украдкою взгляд на мистера Лова, но в это время дверь отворилась и вошел курьер с приказанием, чтобы Джонни предстал пред лицо действительно великого человека. – Мистер Имс, вас требует сэр Рэфль. – При этих словах Джонни моментально вскочил с места, оставив мистера Киссина с громадной книгой стеречь его конторку. Чем окончилась битва и как бушевала она в большой комнате, нам нельзя было дослушать, мы по необходимости должны были последовать за нашим героем в кабинет сэра Рэфля Бофля.
– А, Имс! Да, – сказал сэр Рэфль Бофль, отводя от конторки свой взгляд при входе молодого человека, – пожалуйста, подождите полминуты. – И великий человек снова углубился в бумаги, как будто боясь, что малейшая медленность во всем, что он делал, могла иметь гибельные последствия для нации в обширном значении этого слова. – Ах да, Имс! Хорошо! – снова сказал он, оттолкнув от себя подписанные бумаги. – Говорят, вы прекрасно знаете свое дело.
– Немного знаю, – сказал Имс.
– Гм? Да, немного знаете. Если вы поступите ко мне, вам придется знать его не немного, а все. Вы должны знать его как свои пять пальцев. Слышали вы, что Фиц-Говард оставляет меня?
– Слышал, сэр.
– Превосходный молодой человек, хотя не совсем… Впрочем, не стоит об этом говорить. Труд показался ему не по силам, и он переводится на прежнее место. Правда ли, что лорд Дегест вам друг?
– Да, действительно, он мне друг. Он всегда был добр ко мне.
– Гм! Хорошо. Я знаю графа много лет, очень много лет: одно время я был с ним в большой дружбе. Может статься, вам случалось слышать от него мое имя?
– Слышал, сэр Рэфль.
– Да, одно время мы были с ним в дружбе, но, знаете, эти вещи непрочны. Он сделался деревенской крысой, а я – городской. Ха-ха-ха! Можете сказать ему это. Он не рассердится?
– О, нет, никогда, – сказал Имс.
– Смотрите же, скажите, когда увидитесь с ним. Граф такой человек, к которому я всегда имел большое уважение, могу сказать, почтение. Итак, Имс, что вы скажете насчет принятия места Фиц-Говарда? Работы много. Я должен сказать вам это по совести. Работы, без всякого сомнения, будет очень много. В делах нашего управления я принимаю гораздо больше участия, чем мои предместники, я не хочу сказать, что меня перевели сюда, потому что здесь нужен человек именно с таким участием. – Голос сэра Рэфля становился все громче и громче, и Имс начинал уже думать, что Фиц-Говард поступил благоразумно. – Я намерен исполнять мой долг и буду требовать того же исполнения от моего частного секретаря. Но, мистер Имс, я никогда не забываю человека. Хорош ли он или худ, но я никогда его не забуду. Полагаю, вы не любите запаздывать?
– То есть поздно приходить в должность? О нет, ни под каким видом.
– Совсем не то, – оставаться здесь до поздней поры. Часов до шести, до семи, если понадобится, прикладывать свое плечо к колесу, когда телега завязнет в грязи. Вот это-то я и делал всю свою жизнь. Они знали очень хорошо, что я за человек. Они всегда назначали мне тяжелые дороги. Если бы в гражданской службе платили по часам, то мне кажется, я получал бы в ней больше всякого другого человека. Если вы займете вакантное кресло в соседней комнате, вы увидите, что это не шуточное дело. Я должен объявить вам это по совести.
– Я могу трудиться, как и всякий другой, – отвечал Имс.
– Прекрасно, прекрасно. Не оставляйте этого правила, и я не оставлю вас. Для меня будет большое удовольствие иметь своим сотрудником друга моего старого друга Дегеста. Вы скажите ему это. Теперь вы можете сейчас надеть на себя сбрую. Не забудьте, я человек аккуратный, весьма аккуратный, и потому вы тоже должны быть аккуратны.
Сэр Рэфль после этих слов сделал вид, как будто ему желательно было, чтобы его оставили.
– Сэр Рэфль, – сказал Джонни, – я хочу просить у вас одной милости.
– Какой же именно?
– О Пасхе мне необходимо отлучиться недели на две или на три. Мне нужно уехать отсюда дней через десять.
– Отлучиться на три недели о Пасхе, когда только что начнутся парламентские работы! Для частного секретаря это невозможно.
– Но мне, сэр Рэфль, до крайности необходимо.
– И не говорите, Имс, невозможно и невозможно.
– Для меня это вопрос жизни и смерти.
– Вопрос жизни и смерти! Что же у вас за дело?
При всем своем величии и политическом значении, сэр Рэфль входил в положение маленьких людей.
– Пока я ничего не могу сказать, я еще сам не уверен.
– В таком случае нечего и говорить о пустяках. Мне никакой не представляется возможности уволить своего секретаря в это время. Не могу, решительно не могу. Самая служба того не позволяет. Вам не полагается отпуска в эту пору года. Частные секретари обыкновенно увольняются в отпуск осенью.
– Я буду просить об отпуске и осенью, но…
– Нельзя и думать, мистер Имс, положительно нельзя.
Джонни Имс подумал при этом, что в такой крайности ему приходится выстрелить из большой пушки. Он не любил стрелять из этого орудия, но бывают случаи, говорил он про себя, когда действие большим орудием оказывается необходимым.
– Сегодня поутру я получил письмо от лорда Дегеста, в котором он убедительно просит меня приехать на Пасху, не для гулянья, но по делу, – прибавил Джонни. – Если встретится какое-нибудь затруднение, он должен будет писать к вам.
– Писать ко мне, – сказал сэр Рэфль, который не любил, чтобы в управлении обращались с ним фамильярно, хотя бы это было со стороны графа.
– Само собою разумеется, я не стану просить его об этом. Но, сэр Рэфль, если бы я остался на прежнем месте, – и Джонни кивнул головой на большую комнату, из которой пришел, – я бы имел полное право на отпуск в апреле месяце. А так как это дело весьма важно и для меня и для графа…
– В чем же оно заключается? – спросил сэр Рэфль.
– Извините, сэр, это секрет.
При этом сэр Рэфль вышел из терпения, он чувствовал, что с ним торгуются. Да и то сказать, молодому человеку делают предложение занять место частного секретаря, а он соглашается принять его не иначе, как на известных условиях.
– Извольте отправиться к Фиц-Говарду. Не могу же я терять из-за таких пустяков целый день.
– Значит, мне можно будет уехать на Пасху?
– Не знаю. Посмотрим. Только теперь, пожалуйста, кончите это.
Джонни Имс отправился в комнату Фиц-Говарда, где и принял от этого джентльмена поздравление с новым назначением.
– Я думаю, он будет звонить за вами, как за лакеем, каждую минуту, он всегда звонит вон в тот колокольчик. Он будет кричать вам, так что вы оглохнете. С приглашениями на обеды вы должны распроститься, дела хотя и немного, но он не позволит вам уйти. Мне кажется, его никто не просит на обед, потому что он всегда сидит до семи часов. Вам придется писать всякого рода ложь о больших людях. Когда Рафферти будет в отсутствии по его частным делам, сэр Рэфль попросит вас принести ему туфли.
Рафферти был курьер первого комиссионера.
Не должно забывать, однако же, что это говорил увольняемый и раздражительный частный секретарь.
– Если человек не покажет себя способным подавать туфли, его не попросят об этом, – сказал Джонни самому себе и в то же время постановил твердое решение насчет туфель сэра Рэфля Бофля.
Глава XLVII НОВЫЙ ЧАСТНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
«Управление сбора податей 8 апреля, 18*.
Любезный лорд Дегест.
Не знаю, как и что отвечать на ваше письмо, оно так любезно, более чем любезно. Не знаю также, как оправдать себя в том, что я не писал вам прежде. Я должен объяснить это нежеланием беспокоить вас своими письмами. Мне казалось, что этим самым я употребил бы во зло ваше ко мне расположение. Во всяком случае, это произошло не от того, что я не вспоминал о вас. Теперь к делу, и прежде всего о деньгах, т. е. о вашем предложении. Решительно не знаю, что сказать вам об этом, не показавшись дураком. Решительно не знаю, что мне следует делать, и конечно, могу только положиться на вас, что вы не пожелаете мне худого. Я всегда был такого убеждения, что мужчина не должен принимать денежных подарков, кроме разве от отца или лиц, заменяющих отца. Сумма, которую вы упомянули, так велика, что лучше было бы, по крайней мере я бы лучше желал, чтобы вы ее не называли. Уж если вам угодно быть таким великодушным, то не лучше ли будет назначить мне что-нибудь в вашем духовном завещании?»
– Так и есть. Это для того, чтобы всегда желать моей смерти, – сказал лорд Дегест, остановившись на этом месте письма, которое читал вслух своей сестре.
– Я уверена, что он подобного не сделает, – сказала леди Джулия. – Да и к тому же ты, верно, проживешь еще лет двадцать пять.
– Скажите пятьдесят, это вернее, – возразил граф и начал продолжать чтение письма.
«Впрочем, все это зависит так много от другой особы, что едва ли даже стоит говорить об этом. Само собой разумеется, я много обязан мистеру Делю, премного обязан, и нахожу, что в отношении своей племянницы он поступил весьма благородно. Будет ли из этого какая-нибудь польза для меня – дело другое. Во всяком случае, я принимаю ваше великодушное приглашение на Пасху, но не знаю, удастся ли мне им воспользоваться. Я должен сказать вам, что сэр Рэфль Бофль сделал меня своим частным секретарем, и за это я приобретаю сто фунтов стерлингов в год. Он говорит, что некогда был вашим приятелем, и, по-видимому, всегда относится о вас с большим удовольствием. Вы поймете, что все это значит. Он всегда посылает вам поклоны, о которых, я полагаю, вы вовсе не заботитесь. Я должен поступить к нему с завтрашнего дня, и сколько слышал я, работы будет много».
– В этом нет сомнения, – сказал граф. – Жаль беднягу!
– А я так думала, что частным секретарям совсем нечего делать, – сказала леди Джулия.
– Я, однако, не желал бы быть частным секретарем у сэра Рэфля. Впрочем, Джонни еще молод, да и сто фунтов в год чего-нибудь да стоят. Ах, как мы все ненавидели этого человека! Его голос всегда отзывался, как звон разбитого колокола. Бедный Джонни!
И затем граф кончил письмо.
«Я сказал ему, что на Пасху должен получить отпуск, и он сначала объявил, что это невозможно. Но я постараюсь настоять на своем. Я не остался бы даже и в таком случае, если бы меня сделали частным секретарем государственного канцлера, да признаться сказать, я не вижу особенной пользы в том, если бы и остался.
Передайте от меня искреннее мое почтение леди Джулии и скажите ей, что я беспредельно ей обязан. Не могу выразить вам своей благодарности. Прошу вас, добрейший лорд Дегест, верить в преданность вашего
Джона Имса».Было уже поздно, когда Имс кончил письмо. Он готовился к выходу из большой комнаты и к передаче конторки и бумаг своему преемнику. В половине шестого подошел Кодль и заявил, что они вместе пойдут домой.
– Как, ты еще здесь? – спросил Имс. – Я думал, что ты всегда уходишь в четыре часа.
Кредль на этот раз запоздал, собственно, для того, чтобы отправиться домой вместе с новым частным секретарем. Имс, однако же, этого не желал. У него столько было своего дела, что ему хотелось бы подумать наедине, хотелось бы прогуляться без спутника.
– Да, но сегодня накопилось много дела. Кстати, Джонни, поздравляю тебя, от души поздравляю.
– Благодарю, друг.
– Вещь отличная. Сто фунтов стерлингов в год сразу! И какой хорошенький кабинетик! Этот Бофль никогда не подойдет к тебе близко. Целый день он делает из себя настоящего зверя. Впрочем, Джонни, я всегда знал, что из тебя выйдет что-нибудь более обыкновенного. Я всегда это говорил.
– Тут нет ничего необыкновенного, одно только Фиц говорит, что старый Хофль-Скофль необыкновенно несносный человек.
– Не слушай ты этого Фица. Это из зависти. Ты сумеешь повести дела по-своему. Ты скоро будешь готов?
– Не совсем скоро. Ты не жди меня, Кодль.
– О, я подожду. Это ничего не значит. Когда мы останемся вместе, так для нас и обед оставят. Впрочем, стоит ли говорить об этом? Для тебя я готов сделать больше.
– Я намерен проработать до восьми часов, пошлю отсюда за котлетой, – сказал Джонни. – Кроме того, мне нужно кое-куда зайти.
Кредль чуть не заплакал. Минуты две или три он сидел молча, стараясь подавить душевное волнение, и все-таки, когда заговорил, волнение его обнаружилось.
– Ах, Джонни, – сказал он, – я знаю, что это значит. Ты хочешь бросить меня, потому что получил новое назначение. А я всегда был привязан к тебе, всегда и во всем. Не правда ли?
– Пожалуйста, Кодль, не строй из себя дурака.
– Всегда был привязан. Если бы меня сделали частным секретарем, я бы остался тем же самым, что и был. Ты бы не заметил во мне никакой перемены.
– Какой ты чудак! К чему говорить, что я переменился, потому только, что я хочу сегодня обедать в Сити?
– Нет, потому что ты не хочешь идти домой вместе со мной, как бывало прежде. Я вовсе не такой чудак, как ты думаешь, я все вижу. Но, Джонни… впрочем, теперь я не должен называть тебя Джонни.
– Не будь, пожалуйста, таким отъ-яв-лен-ным…
Джонни встал и начал ходить по комнате.
– Пойдем, – сказал он, – не хочу оставаться, все равно, где бы ни обедать. – Джонни засуетился около своей шляпы и перчаток, не дав Кредлю времени опомниться. – Я тебе вот что скажу, Кодль, все это отвратительно.
– Но как бы ты стал себя чувствовать, – простонал Кредль, который, после знаменитой победы на станции железной дороги, никак не мог поставить себя на одну ногу со своим другом. Если бы ему удалось побить Люпекса, как Джонни побил Кросби, тогда они были бы равны между собою, представляли бы собою пару героев. Но Кредль этого еще не сделал. Он никогда не считал себя трусом, но находил, что обстоятельства ему не благоприятствуют. – Как бы ты стал себя чувствовать, если бы друг, которого ты любил лучше всякого другого в свете, повернулся к тебе спиной?
– Я ни к кому не повертывался спиной, ты, может статься, судишь так потому, что я скоро иду. Послушай, мой друг, перестань говорить такие пустяки. Я терпеть не могу подобных вещей. Ты никогда не должен полагать, что человек хочет важничать, подожди сначала, когда он заважничает. Я думаю, что мне не ужиться со старым Скофлем, может быть, останусь при нем месяца на два. Едва ли найдется человек, который в состоянии перенести все то, что о нем рассказывают.
После этого Кредль постепенно становился довольным и веселым, в течение прогулки он старался льстить Джонни, и льстил, как умел. Со своей стороны Джонни, хотя и говорил, что «терпеть не может подобных вещей», но лесть ему нравилась. Когда Кредль сказал ему, что Фиц-Говард не стоит его мизинца, Джонни был убежден, что это правда. – А что касается до башмаков, – говорил Кредль, – то не думаю, чтобы он позволил себе попросить тебя об этом, разве уж в большой торопливости или что-нибудь в этом роде.
– Послушай, Джонни, – продолжал Кредль, когда они вошли в одну из улиц, соседних с Буртон-Кресцентом. – Ты знаешь, что я ни под каким видом, ни за что в мире не решился бы оскорбить тебя.
– Верю, Кредль, верю, – сказал Имс, продолжая идти, между тем как спутник его обнаруживал расположение остановиться.
– Ты посмотри сюда, если я обидел тебя относительно Амелии Ропер, то даю тебе обещание никогда не говорить с ней.
– Будь проклята эта Амелия Ропер! – сказал Имс, остановясь и остановив Кредля.
Восклицание это было сделано громким и сердитым голосом, обратившим на себя внимание прохожих. Джонни поступил весьма дурно, ему не следовало вовсе произносить проклятия, не следовало направлять его на человеческое существо, а тем более разражаться им над женщиной, которую любил! Однако он сделал это, и я не могу продолжать моей истории, не сделав ему замечания.
Кредль взглянул на него и испугался.
– Я хочу сказать, что в этом деле готов сделать все, что тебе угодно.
– В таком случае, пожалуйста, никогда не напоминай мне ее имени. А что касается до разговоров с ней, то можешь говорить с ней сколько душе угодно.
– О, я этого не знал. Мне показалось как-то на днях, что тебе это не нравится.
– Я тогда был дурак, записной дурак. Всю жизнь свою я был дураком. Амелия Ропер. Посмотри сюда, Кредль: если сегодня вечером она будет льнуть к тебе, в чем нет ни малейшего сомнения, потому что в настоящее время она постоянно играет в эту игру, то ничего, дай ей полную свободу. На меня не обращай внимания, я буду проводить время с мистрис Люпекс или мисс Спрюс.
– А как потом я разделаюсь с мистрис Люпекс? Она страшно сердится, когда Амелия заговорит со мной. Ты, Джонни, не знаешь, какая это ревнивая женщина.
В этом разговоре Кредль чувствовал себя совершенно на своем месте, он чувствовал себя равным всякому человеку. Правда, что Имс поколотил одного господина, а ему этого еще не удалось, правда, что Имс, сделавшись частным секретарем, занял высокое место в общественной жизни, но что касается до интриги, сопровождаемой опасностями, таинственностью, интриги, объемлющей всю жизнь, всепоглощающей, – разве в деле подобного рода он не герой? Он дорого, очень дорого поплатился, и карманом, и спокойствием, за одно удовольствие быть в интимных отношениях с мистрис Люпекс, но в то же время ему и в голову не приходило, что он платит за это слишком дорого. Есть удовольствия, которые всякому человеку покажутся дорогими, но тем не менее они могут стоить своей цены. Как бы то ни было, поднимаясь по лестнице дома мистрис Ропер, Кредль решился во что бы то ни стало угодить своему приятелю. Интрига через это могла сделаться еще таинственнее, еще более всеобъемлющей, и в то же время менее опасною, потому что мистер Люпекс не будет иметь никакого повода к огорчению.
В этот день за столом мистрис Ропер находились все ее квартиранты, мистер Люпекс редко принимал участие в ее гостеприимном столе, но при этом случае присутствовал и, мало того, по голосу и вообще по всем своим приемам казался в самом отличном настроении духа. В гостиной Кредль сообщил всей компании о счастье, которое выпало на долю его друга, и вследствие этого сообщения Джонни сделался до некоторой степени предметом более чем обыкновенного внимания.
– Вот как! – сказала мистрис Ропер. – Порадуется же ваша матушка, когда услышит об этом. Я всегда говорила, что вы встанете на ноги.
– Хорошее и идет к хорошему, – заметила мисс Спрюс.
– Ах, мистер Имс! – воскликнула мистрис Люпекс, с кокетливым восторгом. – Желаю вам радости от глубины моей души. Это такое элегантное назначение.
– Примите, пожалуйста, руку истинного и бескорыстного друга, – сказал Люпекс.
И Джонни принял эту руку, хотя она была очень грязна и перепачкана в краске.
Амелия стояла в стороне и взглядом, или вернее сказать, рядом взглядов, передавала поздравления. Теперь, неужели же и теперь ты не будешь моим? – говорили эти взгляды, – теперь, когда тебя окружают и богатство и почести? И потом, перед уходом в столовую, она прошептала ему: «О Джон! Я так счастлива, так невыразимо счастлива!»
– Надоела! – сказал Джонни голосом довольно громким, чтобы достичь до слуха счастливой леди. Потом он обошел вокруг комнаты и подал мисс Спрюс свою руку. Амелия, спускаясь вниз одна, решилась во что бы то ни стало вырвать его сердце. Она вырывала его уже несколько дней сряду и изумлялась своему успеху. Ясно было, что кокетство ее с Кредлем раздражало Имса, и потому она решилась продолжать эту игру.
– Ах, мистер Кредль, – сказала она, заняв подле него место, – я люблю таких друзей, которые не изменяются. Я ненавижу ваши возвышения. Они так часто кружат голову.
– Я бы желал испытать это на себе, – сказал Кредль.
– Ну, не думаю, чтобы с вами произошла какая-нибудь перемена, решительно не думаю. Вероятно, скоро и для вас наступит это время. Ведь это сделал граф, тот самый, которого бык хотел поднять на рога. С тех пор как мы узнали этого графа, мы земли не слышим под собой. – И Амелия вздернула голову и потом хитро улыбнулась, так улыбнулась, что, на взгляд Кредля, это было весьма мило. В то же время он заметил, что мистрис Люпекс смотрела на него из-за другой стороны стола, и конечно, не мог вполне насладиться благами, посланными ему богами.
Когда дамы вышли из столовой, Люпекс и другие два молодых человека придвинули к камину стулья и каждый приготовил себе умеренную порцию грога. Имс сделал было небольшую попытку удалиться, но Люпекс своими уверениями в дружбе, своими просьбами разделить с ними время принудил Имса, слабого характером и боявшегося нарекания за чванство, остаться на месте.
– Итак, мистер Имс, за ваше здоровье, – сказал Люпекс, поднимая горячий стакан грогу. – Желаю вам много и много лет наслаждаться вашим официальным благоденствием.
– Благодарю вас, – сказал Имс. – Хоть я не очень понимаю это благоденствие, но во всяком случае чрезвычайно вам признателен.
– Да, сэр, когда я вижу молодого человека ваших лет, начинающего подниматься в свете, я знаю, что его усилия увенчаются успехом. Вы только обратите внимание ваше на меня, мистер Имс. Мистер Кредль, за ваше здоровье, и пусть всякое недружелюбное чувство утонет на дне этой чаши. Посмотрите на меня, мистер Имс: я никогда не поднимался в свете, не сделал ничего хорошего на свете и никогда не сделаю.
– Полноте, мистер Люпекс, не говорите этого.
– Нет, буду говорить. Всю жизнь свою тереблю черта за рога, и все-таки не удалось еще покрепче ухватиться. А сказать ли вам отчего? Оттого, что в молодые года не представлялось ни одного порядочного случая отличиться. Если б мне удалось, например, написать портрет какого-нибудь великана, этакой так сказать звезды, когда я был ваших лет, какого-нибудь вельможи, как вашего друга сэра Рэфля.
– Уж и звезды! – сказал Кредль.
– Однако ж он порядочно известен в свете, не так ли?.. Или лорда Дерби, или мистера Спурджона – вы меня понимаете? Если бы мне выпал такой случай в молодости, я бы не занимался мелкими работишками, не писал бы кулис на второстепенных театрах по стольку-то за квадратный ярд. Вам теперь выпал случай, но мне он никогда не выпадал. – И при этом мистер Люпекс порешил первую порцию грога.
– А чудная вещь наша жизнь, – продолжал Люпекс и хотя не приступал смело к приготовлению другого стакана пуншу, но начал постепенно, как будто по инстинкту, дотрагиваться до предметов, необходимых для этой операции. – Да, весьма чудная вещь. Молодые люди, запомните, я не отрицаю, что успех в жизни зависит от хорошего поведения, – положительно это так, и все-таки часто ли хорошее поведение бывает причиной успеха? Был ли бы я там, если бы меня взял за руку какой-нибудь великан в то время, когда я употреблял все усилия, чтобы сделаться артистом? Тогда бы я пил лафит и шампанское вместо обыкновенного тодди, носил бы манжеты не хуже всякого другого, кто любил и кто теперь не узнает меня, когда случится встретиться на улице. Да, мне не было случая, никогда не было!
– Ведь и теперь не поздно, мистер Люпекс, – сказал Имс.
– Нет, поздно, мистер Имс, поздно. – В это время мистер Люпекс уж успел завладеть бутылкой с джином. – Теперь уж слишком поздно. Игра кончилась, пари проиграно, талант потух… Я в этом уверен, я никогда не сомневался в моих способностях, ни на минуту. Можно во всякое время найти людей, которые наживают тысячи фунтов стерлингов в год своими палитрами, у которых нет той верности взгляда в рисунке, каким я обладаю, или такого чувства в расположении красок. Я бы мог назвать их, да не хочу.
– А почему бы вам не сделать попытки еще раз? – спросил Имс.
– Если бы я написал прекрасную картину, какая когда-либо пленяла человеческий глаз, кто придет посмотреть на нее? Кто бы имел достаточную уверенность во мне и приехал бы сюда в такую даль и глушь, чтобы удостовериться в истине? Нет, Имс, я знаю свое положение и свои дела, знаю свои слабости. Теперь я не в состоянии проработать одного дня, не будучи уверен в том, что к вечеру получу известное число шиллингов. Вот до чего доходит человек, когда не благоприятствуют ему обстоятельства.
– А мне казалось, что декорационные живописцы всегда наживают отличные денежки?
– Не знаю, что вы хотите выразить словами «отличные денежки», мистер Кредль. Какая тут нажива?! Впрочем, я не жалуюсь. Знаю, кому за все я обязан, если мне суждено размозжить себе голову, поверьте, не стану никого обвинять несправедливо. Если вы последуете моему совету… – И тут он обратился к Имсу: – Ради бога, не женитесь слишком рано!
– Напротив, я полагаю, что лучше жениться в молодости, – сказал Имс.
– Вы меня не поняли, – продолжал Люпекс. – Я вовсе не говорю о мистрис Люпекс. Я всегда смотрел на нее, как на обворожительную женщину.
– Слушайте, слушайте, слушайте! – сказал Кредль, ударяя по столу.
– Это совершенная правда, – сказал Имс.
– И когда я предостерегаю вас от женитьбы, вы не должны толковать мои слова в противную сторону. Я никогда и никому не жаловался на нее и не буду жаловаться. Если муж не заступится за свою жену, за кого же ему заступаться? Я никого не виню, кроме самого себя. Но не могу не сказать, что на мою долю никогда не выпадало благоприятного случая, никогда, никогда. – Повторив это слово три раза, губы его прильнули к краю стакана.
В эту минуту дверь столовой растворилась и мистрис Люпекс просунула в нее свою голову.
– Люпекс, – сказала она, – что ты делаешь?
– Да, мой друг. Не могу сказать утвердительно, чтобы что-нибудь делал в настоящую минуту. Я подал этим молодым джентльменам небольшой совет.
– Мистер Кредль, вы меня удивляете. И вы, мистер Имс, вы тоже меня удивляете – при вашем положении в свете! Люпекс, пойдемте сейчас наверх. – С этим она вошла в комнату и завладела бутылкою джина.
– Ах, мистер Кредль, пожалуйте сюда, – самым веселым голосом сказала Амелия, как только мужчины появились вверху. – Я больше получаса жду вас. Я приготовила вам небольшую загадку. – И она пропустила его к стулу, стоявшему между ней и стеной.
Кредль почти испугался своего счастья, садясь на предлагаемое место, однако он сел и вскоре увидел себя защищенным от всякого физического нападения силою и шириною кринолина мисс Ропер.
– Скажите пожалуйста, какая перемена! – сказала мистрис Люпекс громко.
Джонни стоял близко к ней и шепнул ей на ухо.
– Перемены иногда бывают очень приятны! Вы как думаете? Я, по крайней мере, в этом совершенно убежден.
Глава XLVIII НЕМЕЗИДА
Кросби наконец успокоился в безмятежной существенности супружеской жизни и начинал уже думать, что позор, преследовавший его, частью по случаю его поступка с мисс Дель, но более всего вследствие побоев, полученных им от Джонни Имса, стал стушевываться. Ему не удалось еще принять прежний тон жизни, он не питал еще надежды на это, но все-таки мог посещать свой клуб без особенного затруднения. Он мог говорить прежним голосом и действовать в своем управлении с прежним авторитетом. Он мог рассказывать своим друзьям, даже с некоторою степенью удовольствия в звуках своего голоса, что леди Александрина будет очень рада видеть их у себя. Ему было довольно комфортабельно дома, после обеда, сидя в креслах с газетою и в туфлях. Ему было хорошо, так, по крайней мере, говорил он жене своей.
В сущности же скука была непреодолимая. Кросби, когда приходилось поразмыслить ему о своем положении, не мог не сознаться в том, что жизнь, какую он вел, была смертельно скучна. Хотя он и ходил в клуб без всякого стеснения, но там уже никто не приглашал его присоединиться к обеду. Все понимали, что он непременно обедает дома, да он и действительно обедал дома, когда не было неприятных причин, тому препятствовавших. Уже он хозяйничал в своем доме около трех недель и был с женою на нескольких свадебных обедах, которые преимущественно давали друзья фамилии де Курси. За исключением этих случаев, вечера свои он всегда проводил дома и, с тех пор как женился, ни разу не обедал в гостях без жены. Он старался уверить себя, что его поведение в этом отношении было следствием собственной решимости, но тем не менее он чувствовал, что больше ничего ему не оставалось делать. Никто не приглашал его в театр. Никто не просил его провести вместе вечерок. Мужчины никогда не спрашивали его, почему он не играет в вист. После должности он обыкновенно отправлялся к Себрэйту, ходил с полчаса по комнате, заговаривал то с тем, то с другим. Никто не оказывал к нему нерасположения. А между тем он понимал, что все совершенно изменилось, и он решился, с некоторым благоразумием, примириться со своим новым бытом.
Леди Александрина тоже находила свою жизнь довольно скучною, в ней проявлялась наклонность к сварливости. Она иногда говорила мужу, что ее никуда не возят и не водят, и когда Кросби предлагал прогулку, леди Александрина говорила, что прогулка по улицам не нравится ей.
– Так я не понимаю, где же вы можете гулять, – отвечал он ей однажды.
Она не говорила, что ей нравится верховая езда и что парки очень приличное место для подобных прогулок, но Кросби понял из ее выражения то, чего она не сказала. «Я все для нее сделаю, – говорил он сам себе, – но не хочу разорять себя».
– Амелия заедет за мною прокатиться, – сказала она в другой раз.
– Ах, – отвечал он, – это будет очень приятно.
– Нет, не будет ничего приятного, – сказала Александрина. – Амелия всегда так занята покупками и так страшно торгуется с продавцами. Во всяком случае, это лучше, нежели вечно сидеть дома и никуда не выходить.
Они завтракали в определенное время, в половине десятого, но, в сущности, Александрина никак не могла оставить своей комнаты ранее десяти. Аккуратно в половине одиннадцатого Кросби отправлялся в должность. Возвращался домой он в шесть часов и проводил почти целый час перед обедом в церемонии переодевания. По крайней мере, он отправлялся в свою уборную, обменявшись несколькими словами с женой, и оставался там, швыряя в сторону разные предметы, обтачивал ногти, перечитывал всякую бумажонку, какая попадалась ему под руки, и убивал таким образом час времени. Он ожидал, что обед будет подан ровно в семь часов, и начинал сердиться, если его заставляли ждать сверх этого срока. После обеда Кросби выпивал рюмку вина вместе с женою, а другую – наедине, глядел на разгоревшийся уголь и задумывался над прошедшим. Подумавши, он отправлялся наверх, выпивал чашку кофе, а потом чашку чаю, прочитывал газету, перелистывал попавшуюся под руку книгу, закрывал лицо, когда приходилось зевать, и вообще делал вид, что чтение было очень занимательно. У леди Александрины не было ни знаков, ни слов для выражения своей привязанности. Она никогда не садилась к нему на колени, никогда к нему не ласкалась. Она никогда не показывала, что на долю ее выпало счастье находиться вблизи его. Оба они думали, что любят друг друга, оба так думали, но любви между ними не было, не было ни сочувствия, ни теплоты. Самая атмосфера, окружавшая их, была холодна, так холодна, что никакой огонь не мог разогреть ее.
В чем же была бы разница, если бы вместо леди Александрины сидела при нем в качестве жены Лили Дель? Он часто уверял себя, что с тою или другою жизнь была бы все равно одна и та же, что он сделался с некоторого времени неспособным к семейной жизни и что надо как-нибудь отделаться от этой неспособности. Но, хотя он в одно время уверял себя в этом полувысказанными думами, он тут же выражал другими думами, что Лили озарила бы весь дом своим блеском, что, если бы он привез ее к своему очагу, на него светило бы солнце каждое утро и каждый вечер. Несмотря на все это, он старался выполнять свои обязанности и помнил, что возбуждение официальной жизни было для него всегда доступно. С одиннадцати часов утра и до пяти пополудни он занимал место, которое заставляло других смотреть на него, по необходимости, с уважением и обращаться к нему с почтением. В этом отношении он был счастливее своей жены, у нее не было должности, которая могла бы служить ей прикрытием от всяких невзгод.
– Да, – говорила жена Кросби сестре своей Амелии, – все это прекрасно, я не смотрю даже на то, что наш дом очень сыр, но мне так надоедает это одиночество.
– Иначе и не может быть с женщинами, которые вышли замуж за должностных людей.
– О, я не жалуюсь, разумеется, я хорошо понимала, на что решилась. Я думаю, что скука пройдет, когда все съедутся в Лондон.
– Не думаю, что сезон после Рождества сделает в этом отношении большую разницу, – сказала Амелия. – Конечно, Лондон веселее в мае. Ты увидишь, что в будущем году тебе не будет так скучно, а может статься, к тому времени у тебя будет ребенок.
– Пустяки! – воскликнула Александрина. – Я не хочу иметь ребенка, да я и не думаю, что он у меня будет.
– А мне кажется, не мешает постоянно думать об этом.
Леди Александрина, хотя и не была энергического темперамента, не могла, однако же, не признаться самой себе, что сделала ошибку. Она решилась выйти за Кросби, потому что Кросби обращался в модном свете, а теперь ее уверяли, что лондонский сезон не сделает для нее никакой разницы – лондонский сезон, который если и не доставлял удовольствия, то всегда приносил с собой оживленных гостей. Она соблазнилась замужеством потому, что ей казалось, что, будучи замужней женщиной, она могла наслаждаться обществом с большим непринуждением, чем девушка, находящаяся под надзором матери или гувернантки, что она будет более свободна в своих действиях, а теперь ей говорят, что надо ожидать ребенка, который доставит ей занятие и удовольствие. В замке Курси, конечно, бывало и скучно, но все-таки было бы лучше этого.
Когда Кросби вернулся домой, после этого маленького разговора насчет ребенка, жена сообщила ему, что в будущее воскресенье они будут обедать у Гезби. Услышав это, он с досадой замотал головой. Он понимал, однако же, что не имеет права сетовать, потому что его только раз брали в Сент-Джонс-Вуд, с тех пор как он вернулся домой после свадебной поездки. Тут была, впрочем, одна статья, на которую он считал себя вправе поворчать.
– И с какой стати в воскресенье?
– Потому что Амелия пригласила меня именно в воскресенье. А если просят в воскресенье, то нельзя же сказать, что мы будем в понедельник.
– Это воскресенье для меня ужасно! А в котором часу?
– Она говорила, в половине шестого.
– Боже милостивый! Что же мы будем делать целый вечер?
– С вашей стороны, Адольф, очень нелюбезно относиться так о моих родных.
– Полноте, милая, это шутка, будто вы не говорили то же самое раз двадцать! Вы чаще, чем я, и с большею горечью выражали свое неудовольствие, когда вам приходилось отправляться туда. Вы знаете, что я люблю вашу сестру, и Гезби в своем роде славный малый, только после трех-четырех часов в его обществе всегда начинаешь чувствовать себя усталым.
– Все же не может быть скучнее, чем… – и леди Александрина не кончила своей речи.
– Дома, по крайней мере, можно читать, – сказал Кросби.
– Нельзя же вечно читать. Во всяком случае, я дала за вас слово. Если вы хотите отказаться, то напишите объяснение.
Когда наступило воскресенье, то, само собой разумеется, Кросби отправился в Сент-Джонс-Вуд, и ровно в половине шестого стоял уже у входа в дом, который был ему так ненавистен. Одно из первых намерений, принятых им, когда он имел в виду женитьбу, было весьма враждебного свойства к дому Гезби. Он решился видеться с ним как можно реже. Он хотел освободить себя от этой связи. Он никогда не искал союза с этой отраслью фамилии де Курси. А теперь дело приняло такой оборот, что только с этой отраслью и был он в союзе. Он только и слышал, что о Гезби. Амелия и Александрина были неразлучны. И вот его тащат теперь на воскресный обед, он хорошо понимал, что его будут частенько таскать туда и что он никак не сумеет отделаться. Он уже задолжал Мортимеру Гезби, он знал, что все его семейные дела попали в руки этого стряпчего и что не было никакой возможности вырвать их из этих рук. Его дом был вполне снабжен всем необходимым, и он знал, что деньги уже за все были уплачены, но сам он не заплатил ни одного шиллинга, Мортимер Гезби взял на себя все уплаты.
– Поди к своей мама и тетеньке, де Курси, – сказал после обеда этот стряпчий вертевшемуся около него ребенку, и Кросби остался наедине с зятем своей жены, с этого момента начинались пытки в Сент-Джонс-Вуде, которых Кросби так страшился.
Со своей свояченицей он еще мог говорить, помня всегда, что она дочь графа. Но с Гезби у них не было ничего общего. К тому же он чувствовал, что Гезби, обходившийся с ним до этой поры с уважением, теперь совершенно утратил это чувство. По понятиям стряпчего, Кросби вращался когда-то в большом свете, но это уже миновало. В настоящее время, по оценке этого же стряпчего, Кросби был просто секретарем присутственного места, человеком, который был у него в долгу. Оба они женаты на родных сестрах, и он не видел, почему блеск зажиточного стряпчего должен тускнуть перед блеском гражданского чиновника, который далеко не был в таких счастливых обстоятельствах. Все это было совершенно понятно им обоим.
– От Курси получили самые страшные вести, – сказал стряпчий, как скоро малютка удалился.
– Как! Что там случилось?
– Порлокк женился, знаете, на той женщине.
– Пустяки!
– Уверяю вас. Старая леди нашла себя вынужденною сообщить мне об этом, она ужасно сокрушается. По моему мнению, это еще не самое худшее. Всему свету известно, что Порлокк шел по пути погибели. Он хочет начать дело с отцом – за какие-то недоплаты его доли – и грозит предоставить дело судебному разбирательству, если ему не заплатят деньги.
– Но точно ли ему должны?
– Да, должны. Около двух тысяч фунтов стерлингов. Вероятно, мне опять придется заплатить. Но уверяю честью, что я не вижу, откуда их взять, право, не вижу. Туда и сюда я заплатил за вас больше тысячи четырехсот фунтов.
– Тысячи четырехсот фунтов!
– Да, так, на меблирование и страхование, да по счету нашей фирмы за свадебный контракт. Счет этот еще не заплачен, это, впрочем, все равно. Нынче даром ведь не женятся.
– У вас, однако, есть обеспечение.
– Ну да, конечно есть. Но теперь бы надо наличных денег. Наша фирма так много ссудила на имение де Курси, что не желает идти дальше, а поэтому-то и понадобится взять это на себя. Придется им всем ехать за границу, этим дело и кончится. Между графом и Джоржем была страшная сцена. Джорж вышел из себя и сказал графу, что он виноват в женитьбе Порлокка. Дело кончилось тем, что Джоржа и его жену проводили за дверь.
– У него есть собственные деньги.
– Есть, но он не хочет их тратить. Того и смотри, что приедет сюда и сядет нам на шею. Я решился не просить его остановиться у меня и вам тоже советую. Если он раз войдет в дом, то его не скоро выживешь.
– Я чувствую к нему совершенное отвращение.
– Да, нехороший человек. Такой же точно и Джон. Порлокк был немного лучше, да совершенно промотался. Нечего сказать, семейка.
Вот каково семейство, для которого Кросби изменил Лили Дель! Под влиянием честолюбия его единственною целью было сделаться зятем графа, и чтобы достигнуть этой цели, неизбежно было сделаться подлецом. Достигая ее, он прошел путь всевозможной грязи и позора. Он женился на женщине, которую не любил. Он ежечасно вспоминал о девушке, которую прежде любил, которой не мог позабыть и которую он так обидел, что никакие обстоятельства не могли быть приняты в уважение к возобновлению прежних отношений. Этот стряпчий, который сидел перед ним, толкуя о своих тысячах с отвратительным беспокойством, свойственным только подобным людям, – и он составил точно такую же партию, с тою только разницею, что, составляя ее, знал, что делал. Он получил от этой женитьбы все ожидаемое. А что получил Кросби?
– Да, дрянной народец, дрянной, – говорил он с горечью.
– Мужчины, да, – сказал Гезби весьма хладнокровно.
– Гм! – сказал Кросби.
Гезби совершенно ясно понял, что, по мнению его приятеля, и женщины оказывались не совсем тем, чем бы следовало, но этим он не оскорблялся, хотя тут и допускалась частица оскорбления в отношении его жены.
– Графиня женщина благонамеренная, – сказал Гезби. – Жизнь ее была трудная, очень трудная. Мне приходилось слышать, как граф ругает ее, он употреблял такие выражения, которых испугался бы поденщик, – уверяю вас. Но он скоро умрет, и тогда ей будет спокойно. Она имеет три тысячи вдовьей премии.
«Он скоро умрет, и тогда ей будет спокойно!» – это один из фазисов семейной жизни. Разбирая эти слова, Кросби вспомнил обещание Лили, данное во время прогулки по полям, делать для него все на свете. Он вспомнил ее поцелуи, прикосновение ее пальчиков, серебристый веселый голосок, шорох ее платья, когда она ластилась к нему. После этого он невольно подумал, не умереть ли ему, чтобы Александрине тоже было спокойно. Она и ее мать жили бы где-нибудь в Германии, в Баден-Бадене, как нельзя спокойнее, получая вдовьи премии.
Сквайр в Оллингтоне, мистрис Дель и леди Джулия Дегест были до этой поры и в настоящее время крайне неспокойны, что Кросби не подвергся еще никакому наказанию, что его не постигло еще мщение за его великое прегрешение. Как они мало понимали истину! Если бы его стали преследовать законом, если бы его приговорили к тюремному заключению с тяжкою работою на двенадцать месяцев, то и тогда наказание его не было бы так жестоко. Тогда бы он, по крайней мере, избавился от леди Александрины.
– Джорж с женой приедут в Лондон, не пригласить ли нам их к себе на недельку-другую? – спросила его жена, как скоро они уселись в извозчичьей карете при возвращении домой.
– Нет! – заревел Кросби. – Ничего подобного не будет!
После этого не было сказано ни слова о приглашении до самого дома. Возвратясь домой, Александрина сослалась на головную боль и тотчас ушла в свою комнату. Кросби бросился в кресло перед остатком каминного огня и решился отделаться от всего семейства де Курси. Что же касается жены, то она, как жена, должна ему повиноваться или оставить его в покое и дать ему полную свободу. Доход их состоял из тысячи двухсот фунтов стерлингов. Превосходная была бы вещь, если бы ему удалось отделить себе шестьсот фунтов и воротиться к прежнему образу жизни. Конечно, нельзя было ожидать всех удобств прежней жизни, прежнего уважения и почтения общества. Все-таки он мог наслаждаться роскошным клубным обедом. Несвязанные вечера могли бы опять принадлежать ему вместе со свободой проводить их, как вздумается. Он знал многих, которые жили врозь от своих жен. При этом Кросби вспомнил, как безобразна была Александрина во весь этот вечер в своей мишурной коронке с поддельными камнями и вдобавок с насморком, от которого ее нос раскраснелся. Со времени замужества на нее напало, сверх того, какое-то постоянное, неприятное неряшество. Да, нельзя было скрыть – она весьма нехороша. Высказав все это самому себе, он отправился спать. Я сам расположен думать, что наказание его было достаточно жестокое.
На другое утро его жена все еще жаловалась на головную боль, так что ему пришлось завтракать одному. После положительного отказа на ее предложение пригласить брата они мало разговаривали.
– Моя голова ужасно трещит, пусть Сара принесет мне чаю и тост, если это не сделает для вас разницы.
Для Кросби было совершенно все равно, и он позавтракал один с таким наслаждением, каким почти никогда не сопровождались его завтраки.
Ему стало ясно, что настоящее удовольствие его жизни должно истекать из служебных занятий. Есть люди, которым трудно жить на свете без какого-нибудь источника ежедневного комфорта, к числу таких людей принадлежал и Кросби. Он едва ли был бы в состоянии переносить жизнь, если б в ней не было страниц, на которых он мог бы остановить свой взор с удовольствием. Ему всегда нравились его занятия, и он решил теперь, что они заменят ему все прочее. Но чтобы достигнуть этого, необходимо было предоставить ему большую свободу. По принятым правилам в месте его служения, секретарю вменялось в непременную обязанность получать приказания комиссионеров и делать по ним исполнения; предшественник Кросби строго соблюдал этот порядок вещей. Но Кросби сделал гораздо более и возымел честолюбие прибрать весь совет под руки. Он льстил себя мыслию, что ему известны и их и свои обязанности лучше, нежели им, и что с небольшою хитростью он будет управлять ими. Во всем этом не было ничего невозможного, если б не случилось скандала на Паддингтонской станции, но, как всем нам известно, господствующий петух на задворках должен всегда господствовать. Если он один только раз выпачкает в грязи свои крылья, то хотя и будет иметь вид петуха, которого постигло несчастье, никакой другой петух уже не станет иметь к нему уважения. Мистер Оптимист и мистер Буттервел очень хорошо знали, что их секретаря поколотили, и потому не могли уже доверяться такому человеку.
– А, кстати, Кросби, – сказал Буттервел, входя в его комнату, вскоре после его прихода в должность, в тот самый день, когда он завтракал один, – я хочу сказать вам несколько слов. – И Буттервел воротился и притворил дверь, которая была открыта.
Кросби недолго думал, он тотчас угадал свойство предстоящего разговора.
– Знаете ли… – начал Буттервел.
– Не лучше ли вам будет присесть? – сказал Кросби, садясь сам при этих словах. Уж если быть состязанию, то он за себя постоит. При этом случае он покажет более присутствия духа, чем на платформе железной дороги. Буттервел сел и чувствовал при этом, что само движение отняло у него несколько власти. Когда человек собирается сделать выговор другому, он должен дышать собственною атмосферою.
– Я не желаю придираться, – начал Буттервел.
– Надеюсь, что я не подал к тому повода, – сказал Кросби.
– Да я и не говорю этого. Но мы в совете полагаем…
– Позвольте, позвольте, Буттервел. Если вы хотите сказать что-нибудь неприятное, так уж лучше пусть оно выскажется в совете. Тогда это будет не так неприятно, уверяю вас.
– Но все, что происходит в собрании членов совета, должно иметь официальное значение.
– Это для меня все равно. Я скорей предпочту эту форму, нежели другую.
– Вот дело в чем. Мы полагаем, что вы берете на себя слишком много. Конечно, если тут и есть ошибка, то она не может служить упреком для вас, потому что это происходит от вашего усердия к делу.
– А если я не стану делать, так кто же станет? – спросил Кросби.
– Совет в состоянии исполнить все, до него касающееся. Полноте, Кросби, мы много лет знаем друг друга, и я вовсе не желаю с вами ссориться. Я потому так говорю вам, что вам же будет неприятно, если дело это примет официальный вид. Оптимист не имеет обыкновения сердиться, но вчера он был просто рассержен. Вам лучше выслушать меня и заниматься своим делом немного потише.
Кросби, однако же, не имел расположения спокойно получать выговоры. Он чувствовал себя обиженным и готов был вступить в бой с встречным и поперечным.
– Я исполнял свои обязанности по силе разумения, мистер Буттервел, – сказал он, – и кажется, всегда удовлетворительно. Назовите мне человека, который может указать на незнание мною дела. Если я трудился более чем следовало, так это оттого, что другие не выполняли своих обязанностей, как должно.
При этих словах лицо Кросби омрачилось, и комиссионер заметил, что секретарь не на шутку разгневался.
– О! Очень хорошо, – сказал Буттервел, вставая со стула. – При таких обстоятельствах мне предстоит только передать дело председателю, и он сообщит вам свое мнение в совете. Мне кажется, вы поступаете неблагоразумно, право, так. Что касается меня лично, то я руководился дружественным расположением, – сказав это, мистер Буттервел удалился.
После полудня того же дня, между двумя и тремя часами, Кросби, по обыкновению, пригласили в совет. Это делалось ежедневно, и он обыкновенно занимался там около часа с двумя из трех членов, подкрепивших силы свои рюмкою хереса и бисквитом. В настоящем случае точно так же принялись за обычный труд, но Кросби не мог не заметить, что взаимные их отношения изменились. Все три члена находились налицо. Председатель отдавал свои приказания важным, надутым голосом, который при хорошем расположении духа не был ему свойствен. Майор Фиаско почти ничего не говорил, но в его взгляде отражался луч самодовольного сарказма. Дела совета шли худо, и он радовался. Мистер Буттервел был замечательно учтив в обхождении и более обыкновенного развязен. По окончании занятий в мистере Оптимисте обнаружились признаки какого-то беспокойства, он то вставал, то опять садился, перебирал кучу бумаг, которые лежали перед ним, и заглядывал в них через очки. Наконец он выбрал одну из них, снял очки, откинулся в кресле и начал маленькую речь.
– Мистер Кросби, – сказал он, – всем нам очень приятно, очень приятно видеть ваше усердие и деятельность на служебном поприще.
– Благодарю вас, сэр, – сказал Кросби, – я люблю службу.
– Так, совершенно так, мы все это чувствуем. Но мы думаем, что вы – если б я сказал, – принимаете на себя слишком много, то, может быть, я сказал бы более, чем мы намерены выразить.
– Не говорите более того, что намерены сказать, мистер Оптимист. – При этих словах глаза Кросби слегка осветились блеском минутного торжества, то же самое было заметно и в глазах майора Фиаско.
– Нет-нет, – сказал мистер Оптимист, – я скорее недоскажу, а не скажу лишнего такому отличному чиновнику, как вы. Но вы, вероятно, понимаете, что я хочу выразить?
– Не знаю, точно ли я вас понимаю, сэр. Если я не принял на себя лишнего, что же я сделал такое, чего не следовало бы делать?
– Во многих случаях вы отдаете приказания, на которые следовало бы вам предварительно получить разрешение. Вот один пример. – И отложенная бумага явилась на сцену.
В этом случае секретарь был очевидно виноват по буквальному смыслу закона, и он не мог найти оправдания, даже основывая это оправдание на существенной необходимости.
– Если вам угодно, чтобы я вперед ограничивался положительными инструкциями, я исполню это, но мне кажется, что вы сами найдете это неудобным.
– Так будет гораздо лучше, – сказал мистер Оптимист.
– Очень хорошо, – сказал мистер Кросби. – Будет исполнено. – И он тут же решился сделаться по возможности неприятным трем джентльменам, собравшимся в этой комнате. Он мог сделаться очень неприятным, но эта неприятность в такой же мере могла отразиться на нем самом, как и на них.
Теперь все у него пошло неладно. И где было искать утешения? По пути домой он зашел к Себрэйту, но у него не было слов для предметов обыденного разговора. Он пошел домой, где жена его хотя и встала, но все еще жаловалась на головную боль.
– Я во весь день не выходила из дому, – сказала она, – а от этого голова еще больше разболелась.
– Я, право, не знаю, как этому помочь, когда вы не хотите ходить пешком, – сказал он.
После этого они более не говорили до самого обеда.
Если бы сквайр в Оллингтоне знал все это, он бы мог, я полагаю, довольствоваться наказанием, которое постигло Кросби.
Глава XLIX ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ОТЪЕЗДУ
– Мама, прочитайте-ка это письмо.
Это говорила старшая дочь мистрис Дель, когда они все три сидели в гостиной Малого дома. Мистрис Дель взяла письмо и прочитала его с большим вниманием, потом вложила в конверт и возвратила Белл.
– Ну что же, это хорошее письмо, и как мне кажется, в нем высказывается истина.
– Да, мама, в нем высказывается немного больше истины. Как вы говорите, оно очень хорошо написано. Он всегда пишет хорошо, когда бывает затронут за живое. Но все-таки…
– Все-таки что, моя милая?
– В этом письме проглядывает больше ума, чем сердца.
– Если так, то ему легче будет перенести страдания, то есть если ты окончательно решила это дело.
– Да, я окончательно решила, и право, не думаю, что он будет страдать. По всей вероятности, он не принял бы на себя труда написать подобное письмо, если бы у него не было этого желания.
– Я совершенно уверена, что у него есть желание, и желание самое искреннее, я уверена также и в том, что он сильно обманется в своих ожиданиях.
– Как он обманулся бы, если бы не удались ему какие-нибудь другие предприятия, – кажется, ясно.
Письмо было от кузена Белл, Бернарда, и заключало в себе самые сильные убеждения, какие только в состоянии он был придумать в пользу искательства ее руки. Бернард Дель более способен был сильнее выразить эти слова посредством письма, чем живой изустной речью. Это был человек, способный делать все превосходно, когда на обсуждение дела ему предоставлялось весьма немного времени, но он не обладал силой страсти, вызывающей человека на красноречие, для выпрошения того, что он желает приобрести. Его письмо при настоящем случае было длинно и довольно убедительно. Если в нем мало выражалось страстной любви, зато много было приятной лести. Он говорил Белл, как выгоден был бы брак их для обоих семейств, он уверял, что отсутствие еще более усилило в нем чувство привязанности, он без хвастовства ссылался на свое прошедшее поприще в жизни, как на лучшее ручательство за его будущее поведение, он объяснял, что, если брак этот состоится, то не представится тогда ни малейшей надобности касаться вопроса об оставлении Малого дома ее матерью и сестрою Лили, и, наконец, сказал ей, что любовь к ней становилась всепоглощающим чувством его существования. Если бы письмо это было написано с тем, чтобы получить от какого-нибудь третьего лица благоприятное мнение насчет его сватовства, оно было бы действительно весьма хорошим письмом, но в нем не было ни слова, которое могло бы пошевелить сердце такой девушки, как Белл Дель.
– Ты отвечай ему ласковее, – сказала мистрис Дель.
– Так ласково, как я уж и не знаю, – сказала Белл. – Я бы желала, мама, чтобы это письмо написали вы.
– Мне кажется, это не идет. Это, я полагаю, послужит ему поводом к новой попытке.
Мистрис Дель знала очень хорошо, – как знала несколько месяцев тому назад, – что искательство Бернарда безнадежно. Она была уверена, – хотя об этом не было между ними разговора, – что если доктор Крофтс вздумает прийти еще раз и попросит руку ее дочери, то ему не будет отказано. Из двух этих мужчин ей, конечно, больше всего нравился доктор Крофтс, впрочем, ей нравились оба, и она не могла не припомнить, что один, в материальном отношении, представлял собою весьма бедную партию, между тем как другой во всех отношениях был превосходен. Мистрис Дель ни под каким видом не хотела сказать слова, чтобы повлиять на дочь, да она, впрочем, и знала, что на нее никакие слова не могли бы произвести влияния, все же она не могла отстранить от себя некоторого сожаления при мысли, что это так и быть должно.
– Я знаю, мама, чего бы вы пожелали, – сказала Белл.
– У меня одно желание, моя милая, это чтобы ты была счастлива. Да сохранит тебя Господь от участи, которая постигла Лили! Советуя тебе отвечать кузену как можно ласковее, я хотела этим сказать только одно, что за свое благородство он вполне заслуживает ласкового ответа.
– Будьте уверены, мама, я употреблю для этого все мои усилия, однако вы знаете, что говорит одна леди на сцене: как трудно вытащить жало из этого слова «нет».
Сказав это, Белл вышла немного прогуляться, и по возвращении вынула свой письменный ящик и написала письмо. Оно было твердо и решительно. Что касается до той остроты, которая должна была вытащить жало «из этого едкого, язвительного слова: нет», она и не думала о ней. «Всего лучше пусть и он поймет, что я тоже серьезна», – сказала она про себя, и в этом настроении духа написала письмо.
«Прошу вас, не позволяйте себе думать, что в моих словах нет дружеского расположения к вам, – прибавила она в постскриптуме. – Я знаю, как вы добры, и знаю всю цену того, от чего отказываюсь, но в этом важном вопросе я вменяю себе в непременную обязанность высказать вам одну правду».
Между сквайром и мистрис Дель решено было, что переезд из Малого дома в Гествик не должен состояться раньше первого мая. Когда ему дали понять, что, по мнению доктора Крофтса, безрассудно было бы перевезти Лили из Малого дома в марте месяце, он употреблял все свое красноречие, чтобы принудить мистрис Дель отказаться от своего намерения. Сквайр говорил ей, что он всегда считал этот дом принадлежащим по праву кому-нибудь из фамилии Делей, кроме его самого, что в нем всегда так жили и что ни один из оллингтонских сквайров минувшего времени не брал за этот дом арендных денег.
– Тут не делается милости, вовсе никакой, – сказал он своим обычным резким, суровым тоном.
– Напротив, тут есть милость, большое великодушие, – отвечала вдова. – И я никогда не гордилась принимать ее, но когда я говорю вам, что мы надеемся быть счастливее в Гествике, вы не захотите нас удерживать. Лили получила в этом доме тяжелый удар, а Белл чувствует, что поступает совершенно наперекор вашим желаниям, – желаниям, в которых тоже выражается так много великодушия!
– Не стоит больше говорить об этом. Все это может еще устроиться, если только вы останетесь здесь.
Но мистрис Дель знала, что «все это» никогда не устроится, и потому настаивала на своем. Притом же она едва ли бы осмелилась сказать дочерям, что покорилась просьбам сквайра. Разговор этот происходил в то самое время, когда сквайр вел переговоры с графом насчет приданого Лили и, конечно, ему было тяжело подобное упрямство со стороны родственников в тот момент, когда об них заботились с таким великодушием. Впрочем, во время убеждений своих относительно Малого дома, он ничего не сказал о Лили или о ее будущих видах.
Они предполагали выехать первого мая, и уже одна неделя апреля прошла. После свидания, о котором мы сейчас упомянули, сквайр не говорил мистрис Дель ни слова по этому делу. Разъединение семейств было для него и досадно, и больно, – на отказ мистрис Дель он смотрел не иначе, как на выражение неблагодарности. По его мнению, он исполнял свой долг в отношении к ним, исполнял более чем долг, и теперь они говорят ему, что оставляют дом его потому собственно, что не могут более переносить тягости оказываемых им одолжений. В сущности же он не понимал их, а они не понимали его. Он был суров в своем обхождении и любил иногда обнаруживать свое господство, вовсе не сознавая, что его положение хотя и давало ему все привилегии близкого и дорогого друга, но не давало, однако, власти отца или мужа. В деле предполагаемой женитьбы Бернарда он говорил так, как будто Белл должна была сообразоваться с его желаниями, прежде чем откажет своему кузену. Он позволил себе сделать выговор мистрис Дель, и этим самым нанес ее дочерям оскорбление, простить которое они находили в то время совершенно невозможным.
Впрочем, едва ли и они были более довольны настоящим порядком вещей, чем сквайр: и теперь, когда наступило время разъединения, они, не имея возможности отказаться от своей решимости, чувствовали, что поступали с сквайром жестоко. Когда у них составилась эта решимость, даже когда составлялась она, сквайр был холоден к ним и суров. Несчастье Лили смягчало его, как смягчало и одиночество, которое предстояло ему испытывать по отъезде Делей. Тяжело было ему такое обращение с ним в то время, когда он для всех их делал все лучшее! Они также чувствовали это, хотя и не знали, как далеко простирались услуги, которые он старался оказать им. В то время как они сидели у камина, составляя планы своего удаления, сердца их были ожесточены против него, и они решились во что бы то ни стало защищать свою независимость. Но теперь, когда наступило время действовать, они сознавали, что сетования на него уже в значительной мере утихли. Это набрасывало на все предметы грустную тень, несмотря на то они продолжали свою работу.
Кто не знает, как страшны бывают приготовления к переезду из одного дома в другой, какое является бесчисленное множество вещей и вещиц, которые требуют укладывания, упаковки, как невыразимо неприятен период упаковки, какой жалкий и неряшливый вид принимают все принадлежности дома в этом беспорядке! В настоящее время люди, которые понимают свет и имеют деньги, соразмерные с такими понятиями, изучили способ избегать подобных неприятностей и поручать этот труд другим за известную плату. Оставив посуду в буфетах, книги на полках, вино в погребах, занавеси на своих местах, понимающее свет семейство отправляется недели на две в Брайтон. К концу этого времени посуда преспокойно переставится в другие буфеты, книги в другие шкафы, вино в другие погреба, занавеси повесятся на другие места, все, все приведется в надлежащий порядок. Мистрис Дель и ее дочери не имели ни малейшего понятия об этом способе передвижения. Пригласить деревенского плотника для наполнения ящиков, которые он сам же сделал, – вот все, что знали они о посторонней помощи, кроме своих двух служанок. Каждой вещи предстояло перейти через руки того или другого члена семейства, предвидя всю трудность этой работы, они начали ее гораздо ранее, чем было необходимо, – так что при первом приступе сделалось уже очевидным, что им приведется провести скучную, тяжелую, беспокойную неделю среди ящиков и сундуков, в виду беспорядочно расставленной мебели.
Прежде всего отдано было приказание, чтобы Лили ничего не делала. Она была больна, и, следовательно, ее нужно было поберечь и дать ей покой. Но вскоре приказание это было нарушено, и Лили трудилась усерднее матери и сестры. Действительно, едва ли ее можно было считать больше за больную, и она не хотела, чтобы с ней обходились как с больной. Она сама чувствовала, что настоящее постоянное занятие могло спасти ее от тяжелой необходимости оглядываться назад на несчастное прошедшее, и вследствие этого составила себе идею, что чем тяжелее будут занятия, тем для нее лучше. Снимая книги с полок, складывая белье, вынимая из старых комодов и шкафов давно забытые предметы домашнего хозяйства, она находила невыразимое удовольствие и была так весела, как в былое счастливое время. Она разговаривала за работой, с разгоревшимися щечками и смеющимися глазками останавливалась среди пыльного скарба и окружавшего ее хаоса, в эти минуты ее мать начинала думать, что на душе Лили по-прежнему хорошо и спокойно. Но потом в другие минуты, когда приходила реакция, ей казалось, что тут ничего не было хорошего. Лили не могла сидеть спокойно у камина, спокойно заниматься каким-нибудь рукодельем и спокойно о чем-нибудь разговаривать. Нет еще, не могла. Несмотря на то, ей было хорошо, – хорошо было и на душе у нее. Она говорила себе, что победит свое несчастье, – как говорила во время болезни, что несчастье не должно убить ее, – и теперь действительно старалась победить его. Она говорила себе, что свет не должен быть потерян для нее потому только, что у нее разрушились самые отрадные надежды. Рана была глубока и мучительна, но тело пациентки было крепко и здорово, кровь – чиста. Врач, знакомый с болезнями подобного рода, после продолжительного наблюдения ее симптомов непременно объявил бы, что излечение вероятно. Врачом Лили была мать, которая наблюдала за больной с величайшим вниманием, хотя от времени до времени она и впадала в сомнение, но постоянно питала надежду, укреплявшуюся с каждым днем все более и более, что дитя ее еще будет жить и будет вспоминать об обманутой любви спокойно.
Никто не должен говорить ей об этом, – вот условие, которое Лили постановила, не требуя его буквально от своих друзей и знакомых, но показывая разными знаками, что в этом заключалось ее требование. Правда, она сказала дяде несколько слов по этому предмету, и дядя исполнил ее требование с безусловным повиновением. Она вышла в свой маленький свет очень скоро после того, как известия об измене Кросби достигли ее, – сначала показалась в церкви, потом между деревенскими обитателями, решившись держать себя, как будто ее вовсе не сокрушало постигшее несчастье. Деревенские обитатели понимали это, слушали ее и отвечали ей, не позволяя себе завести запрещенный разговор.
– Господь с тобой, – сказала мистрис Кромп, местная почтмейстерша, а мистрис Кромп, как полагали, имела самый сварливый характер во всем Оллингтоне. – Как посмотрю на тебя, мисс Лили, так и кажется, что ты самая хорошенькая девушка в здешних краях.
– А вы самая сердитая старушка, – отвечала Лили, с веселым смехом протягивая почтмейстерше руку.
– Такой была я всегда, – говорила мистрис Кромп. – Такой и останусь.
И Лили заходила в коттедж и расспрашивала больную старуху о ее немощах. С мистрис Харп было то же самое. Мистрис Харп после той первой встречи, о которой было упомянуто, ласкала Лили, но ни слова не говорила о ее несчастиях. Когда Лили пришла к мистрис Бойс во второй раз, что было сделано весьма смело, мистрис Бойс начала было выражать свое сожаление.
– Милая моя Лили, все мы созданы такими несчастными… – С этими словами мистрис Бойс подсела к Лили и стала смотреть ей прямо в лицо, но Лили, с легким румянцем на щеке, быстро повернулась к одной из дочерей мистрис Бойс и в момент изорвала выраженное сожаление на мелкие клочки.
– Минни, – сказала она довольно громко и почти с детским восторгом, – как вы думаете, что сделал вчера Тартар? Я в жизнь свою не смеялась так много!
И потом Лили рассказала презабавную историю о весьма уродливом терьере, принадлежавшем сквайру. После этого даже мистрис Бойс не делала дальнейшей попытки. Мистрис Дель и Белл обе понимали, что это непременно должно быть правилом, – правилом даже для них. Лили говорила об этом предмете иногда с ними обеими, иногда с одной из них, начиная одиноким словом, выражавшим грустную покорность своей участи, и потом продолжала до тех пор, пока не высказывались все чувства, тяготившие и волновавшие ее грудь, но разговор этот никогда не начинали ни мать, ни сестра. Теперь же, в эти деятельные дни упаковки, подобный предмет разговора как будто был совершенно изгнан.
– Мама, – сказала она, стоя на верхней ступеньке лестницы, на которой она доставала из шкафа и подавала вниз стеклянную и чайную посуду, – уверены ли вы, что вещи эти наши? Мне кажется, что некоторые принадлежат здешнему дому?
– В этом бокале, по крайней мере, я уверена, потому что он принадлежал моей матери до моего замужества.
– Ах, боже мой! Ну что бы я сделала, если бы разбила его? Когда я беру в руки какую-нибудь ценную вещь, мне так и хочется бросить ее и разбить вдребезги. Ах, мама! Я чуть-чуть его не уронила, впрочем, вы сами виноваты.
– Если ты не будешь беречься, то и сама упадешь. Пожалуйста, держись за что-нибудь.
– Белл, вот и чернильница, о которой ты плакала целых три года.
– Вовсе я о ней не плакала, но кто бы мог ее туда поставить?
– Лови ее! – сказала Лили, бросив чернильницу на груду ковров.
В эту минуту послышались в прихожей чьи-то шаги, и вслед за тем через раскрытую дверь вошел сквайр.
– Так вы все за работой? – спросил он.
– За работой, – отвечала мистрис Дель голосом, в котором отзывался стыд. – Уж если что задумано, то чем скорее это кончится, тем лучше.
– Грустно, очень грустно, – сказал сквайр. – Впрочем, я пришел сюда не за тем, чтобы говорить об этом. Я привез вам записку от леди Джулии Дегест, и сам получил такую же записку от графа. Они просят нас приехать после Светлого воскресенья и погостить у них с недельку.
Мистрис Дель и ее дочери, когда им объявили это неожиданное приглашение, остались неподвижно на своих местах и с минуту не могли вымолвить слова. Приехать и погостить недельку в гествикском господском доме! Приехать всем семейством! До этой поры сношения между гествикским и оллингтонским Малым домом ограничивались одними утренними визитами. Мистрис Дель никогда не обедала там и в последнее время отправляла с визитами одних дочерей. Однажды только Белл обедала там с дядей своим, сквайром, как обедала однажды и Лили с дядей Орландо. Даже и это было очень давно, когда они только что начали показываться в люди и смотрели на этот случай с чувством детского торжества и благоговения. Теперь же, когда они собирались занять в Гествике скромный уголок, между ними было решено, что визиты в гествикский господский дом могут быть прекращены. Мистрис Имс никогда туда не ездит, а они собирались поставить себя на один уровень с мистрис Имс. Теперь, в минуту нисхождения в жизни, их всех приглашают приехать на неделю в гествикский господский дом! Если бы королева прислала лорда камергера просить их приехать в Виндзорский замок, то едва ли бы такая неожиданность изумила их больше, чем эта. Белл, когда вошел дядя, сидела на свернутом ковре и теперь снова заняла то же самое место. Лили стояла на верхней ступеньке лестницы, а мистрис Дель стояла внизу и одной рукой держалась за платье Лили. Сквайр передал приглашение весьма отрывисто, впрочем, это был такой человек, который ничего не умел передавать иначе, как отрывисто, без всяких приготовлений.
– Приглашает нас всех! – сказала мистрис Дель. – Как же нужно понимать слово «всех»?
И она, распечатав записку, стала читать ее, не меняя своего положения у лестницы.
– Позвольте мне посмотреть, мама, – сказала Лили.
И записка поступила в руки ее. Если бы мистрис Дель сообразила, в чем дело, она бы придержала записку в руках, но все это было так внезапно, так неожиданно, что всякие соображения были невозможны.
«Любезная мистрис Дель (так начиналась записка).
Посылаю вам это в письме, которое брат мой пишет к мистеру Делю. Мы в особенности желаем, чтобы вы и ваши дочери приехали к нам на недельку, начиная с семнадцатого числа настоящего месяца. Принимая во внимание наши родственные связи, нам бы следовало видеться с вами гораздо чаще, чем это делалось в прошедшие годы, и, разумеется, виноваты в этом мы одни. Впрочем, как говорит пословица, никогда не поздно исправиться, и я надеюсь, что вы примете мое признание с тем чувством искренности, с которым оно выражено, и что приезд к нам будет служить доказательством вашего расположения.
Я приму все меры, чтобы ваши дети не скучали у нас в доме, я к обеим им питаю искреннее уважение.
Нелишним считаю сообщить вам, что на этой же самой неделе у нас будет гостить Джон Имс. Мой брат без души от него, он считает его лучшим молодым человеком из нынешней молодежи. Со своей стороны, я должна признаться, что это один из моих героев.
Душевно вам преданная Джулия Дегест».
Лили, стоя на лестнице, читала письмо очень внимательно. Сквайр между тем обменивался словами с невесткой и племянницей. Никто не мог видеть лица Лили, обращенного к окну, оно было обращено к окну и в то время, когда она сказала:
– Мама, тут нечего и думать, мы не должны туда ехать, решительно не должны.
– Почему же не должны? – спросил сквайр.
– Со всем семейством! – сказала мистрис Дель.
– Они этого-то и желают, – сказал сквайр.
– Я бы желала лучше всего остаться дома на целую неделю, – сказала Лили. – Пусть мама и Белл едут одни.
– Это невозможно, – сказал сквайр. – Леди Джулия особенно желает, чтобы вы были ее гостьей.
Дело устроено было весьма дурно. Намек в записке леди Джулии на Джонни Имса сразу объяснил Лили все замыслы и до такой степени открыл ей глаза, что даже соединенное влияние фамилий Деля и де Гэста не могло завлечь ее в гествикский господский дом.
– Отчего невозможно? – спросила Лили. – Чтобы всем семейством отправиться туда, об этом нечего и думать, но для Белл это будет прекрасно.
– Ничего хорошего я тут не вижу, – сказала Белл.
– Будьте поснисходительнее в этом случае, – заметил сквайр, обращаясь к Белл. – Леди Джулия имеет для вас в виду много хорошего. Но, моя милочка… – И сквайр снова обратился к Лили с тем особенным вниманием и расположением, которое он в это время постоянно оказывал ей и которое, наконец, становилось для Лили приторным. – Но, моя милочка, почему же ты не хочешь ехать туда? Перемена сцены всегда бывает приятна, а такая перемена, как эта, еще может принести тебе пользу, особливо теперь, когда ты начинаешь поправляться. Мэри, пожалуйста, уговорите их.
Мистрис Дель ничего не сказала, она снова читала записку. Лили спустилась с лестницы, подошла прямо к дяде, взяла его за руку и отвела к одному из окон.
– Дядя, – сказала она, – не сердитесь на меня. Я не могу ехать. – И с этими словами она приподняла свое личико, чтобы поцеловать его.
Сквайр наклонился и поцеловал Лили, не выпуская ее руки. Он взглянул на это личико и прочитал на нем все. Он узнал, почему Лили не могла, или вернее, почему она сама полагала, что ей нельзя ехать.
– Не можешь, моя милая? – спросил сквайр.
– Нет, дядя. Это весьма мило, весьма любезно, но я не могу ехать. Я не гожусь для того, чтобы ездить куда бы то ни было.
– Но, друг мой, ты должна преодолеть это чувство. Ты должна побороться с ним.
– Я борюсь и надеюсь побороть его, но не могу сделать этого сразу. Во всяком случае, ехать туда я не могу. Передайте леди Джулии мое глубочайшее почтение и не позвольте ей сердиться на меня. Может быть, поедет Белл.
Какая польза из того, что поедет туда Белл? Какая польза сквайру нарушать свои привычки визитом, который сам по себе будет ему скучен, если нельзя представить туда главной виновницы этого визита? Граф и сестра придумали приглашение собственно с намерением дать Лили и Имсу возможность встретиться. По-видимому, Лили была тверда в своей решимости отказаться от этого приглашения, а если так, то не лучше ли совсем отменить этот план? Ему было очень досадно, а между тем он не сердился на Лили. В последнее время все и во всем сопротивлялись ему. Все его семейные предначертания не исполнялись, но все же он редко позволял себе сердиться. Он до такой степени привык к тому, чтобы все делалось ему наперекор, что никогда не мог рассчитывать на успех. В деле доставления Лили другого жениха он вызвался действовать не по своему побуждению. Его вызвал на это сосед-граф, и он принял вызов с большим великодушием. Он был вынужден сделать попытку со всем усердием и искренним желанием успеха, но как в этом, так и во всех его собственных планах он сейчас же встречал сопротивление и неудачу.
– Я предоставляю вам переговорить об этом между собою, – сказал сквайр. – Но, Мэри, прежде чем пошлете ответ, повидайтесь со мной. Если вы теперь же придете ко мне, то Ральф после обеда отнесет обе записки.
Сказав это, сквайр оставил Малый дом и пошел обратно в свои одинокие хоромы.
– Лили, милая, – сказала мистрис Дель, лишь только уличные двери затворились за сквайром, – в этом приглашении выражается особенное расположение к тебе, особенное расположение.
– Я знаю, мама, вы должны ехать к леди Джулии и должны сказать ей, что я знаю это. Вы должны передать ей всю мою любовь. И действительно, я ее люблю теперь. Но…
– Неужели ты не хочешь ехать, Лили? – спросила мистрис Дель умоляющим голосом.
– Нет, мама, я решительно не поеду.
И Лили вышла из столовой, в течение последовавшего часа ни мать, ни сестра не решались прийти в ее комнату.
Глава L МИСТРИС ДЕЛЬ БЛАГОДАРИТ ЗА ОСОБЕННОЕ ВНИМАНИЕ
В этот день в Малом доме обедали довольно рано, это вошло уже в обыкновение с тех пор, как начались сборы и упаковки. После обеда мистрис Дель шла через сады к другому дому с запиской в руке. В записке этой она говорила леди Джулии, с выражением искреннейших благодарностей, что Лили, после болезни своей, не может еще выезжать так скоро и что она сама обязана оставаться при Лили. Она объяснила также, что в доме делаются приготовления к переезду и что поэтому она не может принять приглашения. Что касается другой ее дочери, – говорила мистрис Дель, – то она с особенным удовольствием отправится в гествикский дом с своим дядей. Потом, не запечатывая этой записки, мистрис Дель понесла ее к сквайру на его решение, согласовалось ли оно или нет с его видами. Могло случиться, что он и не захочет ехать к лорду Дегесту с одною Белл.
– Предоставьте это мне, – сказал сквайр. – Конечно, если не встречаете препятствий.
– О, никаких!
– Я сейчас же скажу вам, Мэри, прямую истину. Я поеду сам с этой запиской и увижу графа. Потом я отклоню приглашение или приму его, смотря по тому, чем кончится наше свидание. А я бы желал, чтобы Лили поехала.
– Бедненькая! Она не может.
– Желал бы, чтоб она могла, очень желал бы, желал бы от всей души.
В то время как он повторял свое желание, в его голосе отзывалось столько искренности, что сердце мистрис Дель вдруг сделалось особенно мягким и нежным.
– Дело в том, – сказала мистрис Дель, – она не может ехать туда собственно из-за встречи с Джонни Имсом.
– Я это знаю, – отвечал сквайр, – я понимаю. Но этой-то встречи мы и желаем. Почему бы ей не провести недельку в одном доме с благородным молодым человеком, которого мы все любим?
– Тут есть причины, почему она этого не хочет.
– Конечно, есть, те же самые причины, которые побуждают нас привезти ее туда. Может статься, лучше будет рассказать вам все. Лорд Дегест принял молодого человека под свое особенное покровительство и хочет женить его. Он обещал назначить ему хороший годовой доход, на который молодой Имс спокойно проживет всю жизнь.
– Это весьма великодушно, я от чистого сердца радуюсь за Джонни.
– Его повысили по службе.
– Вот как! Значит, у него дела идут хорошо.
– Дела его идут отлично. Он теперь частный секретарь у своего главного начальника. И вот что, Мэри, если этот брак устроится, то, чтобы Лили не была с пустыми руками, я условился определить ей сто фунтов в год, ей и детям ее, если она примет предложение Имса. Теперь вы знаете все. Я не хотел говорить, но теперь нахожу не лишним, чтобы дать вам средства судить об этом. Первый жених был бездельник. Этот – честный молодой человек. Не будет ли хорошим, добрым делом пробудить в ней расположение к Имсу! Сколько я заметил, то он, до появления между нами того негодяя, всегда ей нравился, она любила его.
– Она всегда любила его, как друга.
– Лучшего друга она никогда не получит.
Мистрис Дель задумалась. Каждое слово сквайра заключало в себе истину. Это было бы желаемым и верным средством к заживлению ран, это была судьба для Лили, лучше которой нельзя и желать, лишь бы только исполнение ее было возможно. Мистрис Дель твердо была убеждена, что если бы дочь ее согласилась принять предложение Имса, то через год, много через два, заживление ран было бы несомненное. Тогда Кросби был бы забыт или вспоминаем без всякого сожаления, и Лили сделалась бы госпожой счастливого дома. Но есть положения, которых невозможно достичь, хотя бы на пути к достижению их не встречалось никакого физического или материального препятствия. К числу их принадлежит взгляд, который душа бросает на предмет, служащий источником ее скорби. Если бы сердце состояло из вещества, которое можно было бы ковать, и если бы чувства можно было подчинять какому-нибудь контролю, то кто бы позволил себе терзаться превратностями счастья, которым подвергается иногда чувство любви? Смерть не вызывала бы глубокой печали, неблагодарность потеряла бы свое язвительное жало, обманутая любовь нанесла бы оскорбления сильнее того, которое испытывается при обыденных житейских обстоятельствах. В том-то и дело, что сердце наше сделано не из ковкого металла и наши чувства не допускают никакого контроля.
– Для нее это невозможно, – сказала мистрис Дель. – Я боюсь, что невозможно. Слишком еще рано.
– Шесть месяцев, – возразил сквайр.
– Для этого нужны не месяцы, а годы, – сказала мистрис Дель.
– Тогда она утратит свою молодость.
– Да, все это он сделал своей изменой. Но что сделано, того не переделаешь. Она и теперь еще любит его так же нежно, как любила и прежде.
Сквайр пробормотал вполголоса несколько крепких словечек, несколько невольных восклицаний против Кросби, невольных и вместе с тем весьма неприличных. Мистрис Дель слышала эти восклицания и нисколько не оскорбилась ни их неприличием, ни жаром.
– Но вы можете понять, – сказала она, – что она не в состоянии принудить себя ехать туда.
Сквайр ударил кулаком по столу и повторил свои восклицания. Если бы он знал, до какой степени неприятною становилась леди Александрина, он, быть может, не был бы так сильно взволнован. Если бы он мог заметить и понять тот свет, в каком Кросби смотрел теперь на свой союз с фамилией де Курси, мне кажется, он извлек бы из этого некоторое утешение. Люди, которые оскорбляют нас, редко остаются не наказанными за свои оскорбления, но мы так часто считаем себя неудовлетворенными, не зная, что мщение уже совершилось!
– Так вы сами хотите ехать в Гествик? – спросила мистрис Дель.
– Я свезу вашу записку, – сказал сквайр, – и завтра пришлю вам ответ. Граф поступил так великодушно, что вполне заслуживает всевозможного внимания. Я лучше расскажу ему всю правду, и потом, смотря по обстоятельствам, поеду погостить или нет. Особенной надобности ехать туда я не вижу. Что я буду делать в гествикском доме? Я думал, что если мы соберемся там все, то это могло бы устранить некоторые затруднения.
Мистрис Дель встала, чтобы удалиться, но не могла уйти, не выразив благодарности за все, что он предполагал для них сделать. Она знала очень хорошо, какой смысл заключался в словах сквайра относительно устранения некоторых затруднений. Сквайр предполагал, что если бы они прожили неделю в гествикском доме, то идея бежать из Оллингтона, по всей вероятности, была бы оставлена. Мистрис Дель казалось теперь, как будто сквайр за такое намерение сыпал ей на голову раскаленные угли. Она начинала стыдиться образа своих действий и убеждаться, что, взамен благодеяний, которые он делал для ее дочерей, ей следовало бы примириться с его суровостью. Если бы ее не страшили упреки дочерей, она даже теперь отказалась бы от своего намерения.
– Не знаю, что мне сказать вам за ваше великодушие.
– Не говорите ничего, – ни за мое великодушие, ни за мое недобродушие, – а оставайтесь лучше на месте, и будем жить по-христиански, будем стараться думать друг о друге доброе, а не дурное.
Это были добрые, великодушные слова, обнаруживавшие в себе дух любви и терпения, но они были высказаны жестким несимпатичным голосом, и сквайр, произнося их, угрюмо смотрел на каминный огонь. По правде сказать, сквайру стало стыдно за теплоту своих слов.
– По крайней мере, я ни в каком случае не буду думать дурно, – отвечала мистрис Дель, подавая руку. Теперь было слишком уже поздно покинуть проект переезда и вместо того остаться в Малом доме, но, проходя через сад, она признавалась себе, что раскаивается в своем поступке.
В эти дни холодной ранней весны, вход с полянки в дом чрез стекольчатую дверь не был еще открыт, так что необходимо было обойти кругом через огород на дорогу, и уже оттуда в уличную дверь или же в соседнюю дверь, через кухню. Мистрис Дель выбрала теперь этот последний вход, и в то время как она выходила из кухни, к ней, почти на цыпочках, подошла Лили и остановила ее. На лице Лили была улыбка, когда, в знак предостережения, она подняла палец, и никто бы не подумал, посмотрев на нее, что она сама обеспокоена.
– Мама, – прошептала она, указывая на дверь гостиной, – не ходите туда, пойдемте в вашу комнату.
– Кто там? Где Белл? – И мистрис Дель пошла в свою комнату, как ей приказывали. – Но кто же там? – повторила она.
– Он!
– Кто он?
– Ах, мама, как вы недогадливы! Само собою разумеется, что там доктор Крофтс. Он там почти с час. Не знаю, на что он сядет: там нет ни одного стула, кроме груды старых ковров. Весь пол заставлен посудой, и Белл такая замарашка. Она надела ваш старый клетчатый передник, и когда доктор вошел, она завертывала кочерги в серую бумагу. Я думаю, ей в жизнь свою не случалось попадать в такой просак. Скажу наверное, что ему не удастся поцеловать ее руки.
– Ах, Лили, как тебе не стыдно!
– Право, он там, уверяю вас, если только не выскочил в окно или не вылетел в трубу.
– Зачем же ты оставила их?
– Он встретил меня в коридоре и поздоровался со мной серьезно-пресерьезно. – «Войдите, – сказала я, – и посмотрите, как Белл упаковывает каминные щипцы и кочерги». «Я войду, – отвечал он, – но вы за мной не идите». Он был такой серьезный, что, наверное, думал об этом всю дорогу.
– Почему же ему и не быть серьезным?
– Совсем нет, ему не следует так серьезничать, мама, неужели вы не радуетесь? Я так очень, очень рада. Мы будем жить вместе одни – вы и я, а она будет так близко от нас! Я уверена, что он готов остаться там навсегда, пока не войдет кто-нибудь зачем-нибудь. Я так устала, глядя все в окно и дожидаясь вас. Быть может, он помогает ей укладывать вещи. Как вы думаете: не войти ли нам, или это будет не хорошо?
– Лили, пожалуйста, не торопись делать заключений, ты можешь ошибиться.
– Правда, мама, – сказала Лили, положив свою руку в руку матери, – совершенная правда.
– Милая моя, прости меня, – сказала мать, догадываясь, что сделанное замечание в настоящую минуту было очень жестоко.
– Ничего, мама, – сказала Лили, – вы хорошо делаете, когда напоминаете мне… хорошо, когда мы бываем с вами одни. Но бог даст, я не ошиблась, и Белл будет счастлива. Тут большая разница, одно делалось второпях, а другое – с большою обдуманностью. Однако они, пожалуй, никогда не выйдут из гостиной. Пойдемте, мама, только дверь уж отворите вы.
Мистрис Дель отворила дверь, сделав дверной ручкой маленькое предуведомление. Крофтс не выскочил из окна и не вылетел в трубу, но спокойно сидел посредине комнаты на пустом ящике, а против него на груде ковров сидела Белл. На ней все еще надет был старый клетчатый передник. В каком состоянии были ее руки, я не могу сказать, но, полагаю, что доктор ничего особенного на них не нашел.
– Здравствуйте, доктор, – сказала мистрис Дель, стараясь говорить обычным своим голосом и принять вид, как будто в визите его ничего важного не замечает. – Я только что пришла из Большого дома.
– Мама, – сказала Белл, соскакивая с груды ковров, – вы больше не должны называть его доктором.
– Не должна? Разве кто-нибудь его разжаловал?
– О, мама, вы понимаете, – сказала Белл.
– Я понимаю, – сказала Лили, подходя к доктору и подставляя ему свою щечку для поцелуя. – Он должен быть моим братом, и с этой минуты я заявляю свои права на него. Надеюсь, что он будет делать для нас все и ни одной минуты времени не станет называть своею собственной.
– Мистрис Дель, – сказал доктор, – Белл согласилась, чтобы это так и было, если согласитесь и вы.
– Тут не могло быть большого сомнения, – отвечала мистрис Дель.
– Мы не будем богаты… – начал доктор.
– Я презираю богатство, – сказала Белл, – я терпеть не могу даже говорить об этом, и мне кажется, это не в характере женщины.
– Белл была всегда фанатиком в похвалу нищеты, – сказала мистрис Дель.
– Нет, у меня нет этого фанатизма. Я очень люблю трудовые деньги. Я сама бы хотела зарабатывать их, но не знаю каким образом.
– Ухаживай за больными, как это делают в Америке, – сказала Лили.
И затем они все отправились в другую комнату, расположились около камина, и вскоре между ними завязался такой одушевленный интимный разговор, как будто они давным-давно составляли одно семейство. Событие, несмотря на его многозначительность, и именно в том, что молоденькая леди, довольно замечательной красоты и, как известно, хорошего происхождения, получила предложение вступить в брак и изъявила на это согласие, – событие это было принято весьма спокойно и даже весьма обыкновенно. Как заметно отличалось оно от того события, когда Кросби сделал свое предложение! Лили с самого начала поставлена была на пьедестал, пьедестал, который мог быть опасным, но который, во всяком случае, был очень высок. Какой прекрасной речью встречен был Кросби! Как сильно чувствовали все принимавшие участие в этом событии, что заря счастья для Малого дома занялась, чувствовали, правда, с некоторым страхом, но в то же время и с внутренним торжеством! Событие было так велико, что заставляло Лили теряться в восторге и удивлении! Теперь же, в настоящем событии, ничего не было великого, нечему было удивляться. Никто, кроме разве Крофтса, не испытывал особенного торжества, но все были очень счастливы, и все были уверены в безопасности своего счастья. Еще не так давно одна из них была так грубо низвергнута с пьедестала изменою своего поклонника, но теперь никто не боялся за измену со стороны этого нового поклонника. Белл до такой степени была уверена в своей судьбе, как будто бы она уже находилась в своем скромном собственном доме в Гествике. Мистрис Дель смотрела на доктора, как на родного сына, словом, все четверо сгруппировались вокруг камина, как будто они составляли одно семейство.
Белл, однако же, не сидела подле своего жениха. Когда Лили приняла предложение Кросби, она, по-видимому, думала, что никогда не может быть достаточно близка к нему. Она нисколько не стыдилась своей любви и постоянно выражала ее, нежно лаская его рукой, склонялась на его руку, смотрела ему в лицо, как будто она беспрерывно желала иметь какое-нибудь осязаемое уверение в его присутствии. Не так было с Белл. Она была счастлива тем, что любила и была любима, но не требовала видимых выражений любви. Я не думаю даже, что она была бы слишком огорчена, если бы Крофтсу вдруг понадобилось уехать в Индию и воротиться назад до женитьбы. Дело кончено, и этого было для нее совершенно достаточно. С другой же стороны, когда он говорил о необходимости безотлагательной женитьбы, Белл не видела в этом никакого затруднения. Так как ее мать намеревалась переехать на новое место жительства, то, может статься, было бы лучше устроить новое помещение сообразно с потребностями двух лиц, вместо трех. И так они разговаривали о стульях и столах, коврах и принадлежностях кухни, в самом неромантичном, семейном, практическом духе! Значительная часть мебели в доме, который они предполагали оставить, принадлежала сквайру, или Дому, как они обыкновенно выражались. Более старые и массивные вещи, предметы из такого материала, какой в состоянии выдержать полстолетия, находились в Малом доме с того времени, как они в него въехали. Поэтому возбужден был вопрос о покупке новой мебели для дома в Гествике, – вопрос, не лишенный значения для владетельницы такого умеренного дохода, какой принадлежал мистрис Дель. Первые два месяца им предстояло прожить в меблированной наемной квартире или гостинице, сложив в кладовую у кого-нибудь из знакомых все свои пожитки. При таких обстоятельствах не лучше ли было бы устроить свадьбу Белл так, чтобы вопрос о наемной квартире ни под каким видом не усложнял ее надобностей? Это было последнее предложение доктора Крофтса, которое он решился сделать, пользуясь поощрением своих собеседниц.
– Едва ли это будет возможно, – сказала мистрис Дель. – Нам остается пробыть здесь только три недели, и притом же при таком хаосе во всем доме!
– Джеймс ведь шутит, – сказала Белл.
– Вовсе не шучу, – сказал доктор.
– Почему же не послать за мистером Бойсом и не отнести ее на подушке позади вас? – спросила Лили. – Это всего лучше идет к таким первобытным людям, как вы и Белл. Во всяком случае, Белл, я желаю, чтобы ты выехала из этого дома замужнею.
– Я не думаю, чтобы это составило большую разницу, – сказала Белл.
– А подожди ты до лета, и мы бы устроили отличный бал на нашей полянке. Выйти замуж в наемной квартире – как-то звучит неприятно, не правда ли, мама?
– Я не вижу тут ничего необыкновенного, – возразила Белл.
– Ну, я всегда буду называть тебя Обыкновенной Дамой.
После этого пили чай, а после чая доктор Крофтс сел на лошадь и поскакал в Гествик.
– Ну что же, теперь мне можно говорить о нем? – спросила Лили, лишь только уличная дверь затворилась за спиною доктора.
– Нет, нельзя.
– Как будто я не знала этого давным-давно! Согласись, не тяжело ли было переносить все твои выговоры, которые ты делала мне с такой постоянной суровостью, и неужели в ответ на это я не имела права сказать ни одного слова!
– Я что-то не припомню этой суровости, – сказала мистрис Дель.
– А я не припомню молчания Лили, – добавила Белл.
– Но теперь все кончено, – сказала Лили. – И я счастлива, совершенно счастлива. Белл, я в жизнь свою не испытывала такого удовольствия!
– Я тоже, – сказала мать. – Поистине могу сказать, что благодарю Бога за это благодеяние!
Глава LI ДЖОН ИМС ДЕЛАЕТ ТАКИЕ ВЕЩИ, КОТОРЫХ НЕ СЛЕДОВАЛО БЫ ДЕЛАТЬ
Джон Имс успел-таки сторговаться с сэром Рэфлем Бофлем. Он принял должность частного секретаря с тем определительно-выраженным условием, что ему в конце апреля будет дан двухнедельный отпуск. Заключив это условие, Джонни простился с мистером Левом, для которого действительно эта разлука была очень тяжела, опорожнил в большой комнате несколько прощальных кружек портеру, за которыми выражено было множество желаний успешно познакомиться с длиной и шириной ноги старого Хофля, произнес последнюю насмешку над мистером Киссином при встрече с этим джентльменом, торопливо бежавшим по коридору с огромной книгой в обеих руках, и наконец занял место в спокойном кресле, которое Фиц-Говард принужден был оставить.
– Пожалуйста, никому не говори, – сказал Фиц. – Я намерен совсем оставить эту службу. Отец мой позволит мне служить здесь не иначе, как в должности младшего секретаря.
– Отец твой, верно, пустой человек? – спросил Имс.
– Ничего этого не знаю, – отвечал Фиц-Говард. – Знаю только, что он сильно заботится об интересах нашей фамилии. При следующих выборах мой кузен будет депутатом от Сент-Бонгэя, и мне тогда не будет надобности оставаться здесь.
– Само собой разумеется, – сказал Имс. – Будь у меня кузен членом парламента, кто бы заставил меня служить в другом месте, кроме Вайтголла!
– То-то и есть, – сказал Фиц-Говард. – Эта комната во всех отношениях прекрасная, но страшная скука ходить в Сити каждый день. И притом же не всякому понравится, чтобы его каждую минуту призывали по звонку, как лакея. Я говорю это не с тем, чтобы обескуражить тебя.
– Напротив, для меня это весьма полезно, – сказал Имс. – Ведь я никогда не был очень разборчив.
И таким образом молодые люди расстались. Имс принял хорошенькое кресло и вместе с ним опасность получить приглашение от сэра Рэфля Бофля подавать ему башмаки, между тем как Фиц-Говард занял вакантную конторку в большой комнате, где и должен был оставаться до тех пор, пока один из членов его семейства не поступит в парламент в качестве депутата от местечка Сент-Бонгэя.
Хотя Имс и подшутил над Фиц-Говардом и подсмеялся над Киссином, но занял новое кресло не без некоторых серьезных размышлений. Он знал, что его карьера в Лондоне до настоящей поры не принадлежала к числу таких, на которую можно было бы посмотреть с чувством самоуважения. Он жил с друзьями, которых не уважал, он был ленив, а иногда и хуже, чем ленив, наконец он позволил себе оказывать притворную любовь к женщине, к которой не питал ни малейшего расположения и которая успела выманить у него несколько нелепых обещаний, постоянно тревоживших его и тяготивших. Заняв кресло и разложив перед собой записки сэра Рэфля, он почти с ужасом вспомнил о мужчинах и женщинах в Буртон-Кресценте. Прошло уже три года с тех пор, как он впервые узнал Кредля, и только теперь с содроганием подумал, какое это жалкое было создание, которое он выбрал себе в задушевные друзья. Он не мог извинить себя за то, за что мы бы извинили его. Он не мог сказать себе, что его принудили обстоятельства избрать такого друга, не дав ему времени познакомиться с условиями, необходимыми для подобного выбора. Он прожил с этим человеком три года в самой тесной дружбе и только теперь узнал свойство его характера. Кредль тремя годами был старше его. «Я не брошу его, – сказал Джонни самому себе. – Хотя это жалкое, ничтожное создание». Он вспомнил также о Люпексах, о мисс Спрюс и мистрис Ропер и старался представить себе, что сделала бы Лили Дель, если бы увидела себя между подобными людьми. Впрочем, ей не представлялось ни малейшей возможности увидеть себя между ними. Пригласить ее в гостиную мистрис Ропер было бы то же самое, что попросить ее выпить что-нибудь за прилавком водочного погребка. Если судьба готовила ему счастье называть Лили своей женой, то необходимость требовала изменить свой образ жизни.
Он сбросил уже с себя ветреное юношество, как змея сбрасывает свою шкуру. К нему пришли многие чувства и сведения, свойственные возмужалому возрасту, и он уже начал сознавать, что будущий образ его жизни должен быть для него делом весьма серьезного рода. Подобная мысль не приходила ему в голову, когда он впервые поселился в Лондоне. Мне кажется, что в этом отношении отцы и матери молодого поколения очень мало понимают о внутреннем свойстве молодых людей, о которых они так много заботятся. Они приписывают им такое множество прекрасных качеств, что невозможно их иметь, и потом отрицают дурные, которыми дети уже обладают! От мальчиков они ожидают благоразумия взрослых мужчин, – того благоразумия, которое составляет плод размышления, но не хотят отдать справедливости той силе мысли, которая одна в состоянии выработать хорошее поведение. Молодые люди вообще наклонны к размышлениям, наклоннее даже взрослых, но размышления их не всегда бывают плодотворны. И опять, так мало еще сделано для развлечения молодых людей, отправляемых в Лондон на девятнадцатом или двадцатом году с предоставлением им полной свободы. Возможно ли, чтобы какая-нибудь мать стала ожидать, что ее сын должен просиживать вечер за вечером в мрачной комнате, пить дурной чай и читать хорошие книги? А между тем они ожидают этого, – те самые матери, которые так много говорят о беспечности юности! Вы, матери, которые из года в год видите сыновей своих пущенными на произвол в море жизни и которые с такою заботливостью являетесь с добрым советом, с фланелевыми фуфайками, с назидательными книжками и зубными порошками, – неужели вам никогда не приходит на мысль, что надобно позаботиться также о доставлении молодым людям развлечений, танцев, вечеров, удовольствий женского общества? Ваши сыновья должны иметь эти удовольствия, и если вы не доставите их, то сыновья отыщут сами, но будут ли отысканные удовольствия согласоваться с вашим вкусом? Если бы я был матерью и отправлял бы своих юношей в Лондон, я прежде всего подумал бы о приискании таких домов с хорошенькими девушками, где бы они могли покуртизанить в порядочном обществе.
Бедный Джон Имс был помещен в такой дом, где по необходимости должен был куртизанить в дурном обществе, и теперь он знал, что это было совершенно так. До отъезда Имса в Гествик оставалось только два дня, и он, разобрав кипу записок сэра Рэфля, положил непременно объявить мистрис Ропер, что по возвращении в Лондон его больше уже не увидят в Буртон-Кресценте. Он хотел нарушить все обязательства, и если за такое нарушение пришлось бы заплатить штраф, он готов был сделать это по возможности без всяких споров. Он признавался самому себе, что в отношении к Амелии он вел себя весьма дурно, и теперь ему ясно было, что прежде чем осмелиться говорить с Лили Дель, ему следовало в этом случае поставить себя на приличную ногу.
В то время как Джонни пришел к окончательному заключению по этому предмету, раздался колокольчик, который всегда стоял на столе сэра Рэфля Бофля, и вслед за тем мистера Имса попросили пожаловать в кабинет великого человека.
– Ах да, – сказал сэр Рэфль, откинувшись к спинке своего кресла и растянувшись в нем после понесенных великих трудов, – ах да, позвольте! Кажется, послезавтра вы выезжаете из города?
– Точно так, сэр Рэфль, послезавтра.
– Гм! Досадно, очень досадно. Впрочем, в подобных случаях я никогда не думаю о себе, – никогда не думал и надеюсь, никогда не буду думать. Вы отправляетесь к моему старинному другу Дегесту.
Имса всегда разбирал гнев, когда его новый патрон, сэр Бофль, начинал говорить о своей старинной дружбе с графом, и потому никогда не давал ему повода распространяться об этом предмете.
– Я еду в Гествик, – сказал он.
– Ах да, в гествикский господский дом? Не помнится, чтобы я когда-нибудь бывал там. Нет сомнения, что бывал, но подобные вещи скоро забываются.
– Я никогда не слышал, чтобы лорд Дегест говорил об этом.
– О, конечно нет. Почему же его память должна быть лучше моей! Скажите ему, пожалуйста, что мне очень приятно было бы возобновить наши прежние дружеские отношения. Я бы не прочь прокатиться к нему на денек или на два в скучное время года, – так в сентябре или октябре. Участие, которое мы оба принимаем в вас, можно приписать стечению обстоятельств, не правда ли?
– Будьте уверены, я скажу ему.
– Пожалуйста. Он один из наших самых независимейших нобльменов, и я питаю к нему высокое уважение. Позвольте, я, кажется, звонил в колокольчик? Что мне нужно было! Кажется, я не звонил?
– Вы не звонили.
– Ах да, знаю. Я собираюсь уйти, и мне нужны… пожалуйста, прикажите Рафферти принести мне… мои сапоги. – При этом Джонни позвонил в колокольчик, – не в маленький колокольчик, который служил украшением чернильницы, но в другой, – особенный, в который всегда звонил сам Рэфль Бофль. – Завтра я не буду здесь, – продолжал сэр Рэфль. – Будьте так добры, отправьте мои письма по принадлежности, и если что получится из государственного казначейства, я знаю, что государственный канцлер что-нибудь напишет, то в таком случае пришлите мне его письмо с нарочным.
– Вот и Рафферти, – сказал Имс, решившись никогда не марать своих губ приказаниями насчет сапог сэра Рэфля.
– Гм! Ах да, Рафферти, принеси мои сапоги.
– Не имеете ли сказать еще чего-нибудь? – спросил Имс.
– Нет, ничего особенного. Надеюсь, вы позаботитесь оставить все в надлежащем порядке?
– Непременно, все будет в порядке.
И Имс удалился, не желая присутствовать при свидании сэра Рэфля с своими сапогами.
– Нет, он не годится, – говорил сэр Рэфль самому себе. – Вовсе не годится. Он не расторопен… в нем вовсе нет покорности. На этом месте не такой должен быть человек. Удивляюсь, что понудило графа взять его под свое покровительство.
Вскоре после этого маленького эпизода Имс оставил свой кабинет и один отправился в Буртон-Кресцент. Он чувствовал, что одержал победу в кабинете сэра Рэфля, но для одержания такой победы не представлялось особенных затруднений. Ему предстояла еще одна битва, из которой выйти победителем было бы великим подвигом. Амелия Ропер была для него страшнее всякого главного комиссионера. В его колчане была только одна прочная стрела, на которую он мог понадеяться в случае, если бы представилась необходимость нанести своему врагу смертельную рану. В течение последней недели Амелия страшно кокетничала с Кредлем, в наказание своему прежнему обожателю за его равнодушие. Он не хотел, если будет возможно, принести Кредля в жертву своему самолюбию, но так как ему должно было во что бы то ни стало одержать победу, и если худшее могло кончиться не иначе как худшим, то он должен был употребить такое оружие, какое предоставляли ему судьба и шансы войны.
При входе в столовую он застал там мистрис Ропер и немедленно приступил к делу.
– Мистрис Ропер, – сказал Джонни, – я намерен послезавтра ехать за город.
– Да, мистер Имс, мы это знаем. Вы отправляетесь погостить в благородный дом графа Дегеста.
– Я не знаю ничего насчет благородства самого дома, но еду в провинцию на две недели. Когда я ворочусь…
– Когда вы воротитесь, мистер Имс, то я надеюсь, что найдете в вашей комнате гораздо больше комфорта. Я знаю, что в ней недостает много для такого джентльмена, как вы, я думала об этом давно…
– Но, мистрис Ропер, я не намерен больше возвращаться сюда. Вот это-то я и хотел вам сказать.
– Не намерены возвратиться в Кресцент!
– Нет, мистрис Ропер. Вы знаете, для молодого человека необходимы передвижения, а я так долго был постоянным вашим жильцом.
– Куда же вы думаете переехать, мистер Имс?
– Покуда еще и сам не знаю. Это будет зависеть от того, что я сделаю… от того, что мне скажут мои друзья в провинции. Вы не подумайте, мистрис Ропер, что я хочу поссориться с вами.
– Это все наделали Люпексы, это они виноваты! – сказала мистрис Ропер в глубоком унынии.
– Напрасно так думаете, мистрис Ропер, тут никто не виноват.
– Я уж это знаю, вас винить я не смею, мистер Имс. Они сделали этот дом неприличным для всякого порядочного молодого джентльмена. Я давно все это видела, для одинокой женщины, мистер Имс, это очень тяжело.
– Но, мистрис Ропер, уверяю вас, что Люпексы не имеют никакого отношения к моему выезду отсюда.
– Имеют-имеют, я все понимаю! Но что могла я сделать, мистер Имс? В течение последних шести месяцев я каждую неделю просила их очистить квартиру, но чем больше просила, тем они сильнее упорствовали. Остается одно – послать за полисменом и поднять суматоху в доме…
– Мистрис Ропер, ведь я не жаловался вам на Люпексов?
– Вы бы не выехали отсюда без всякой причины. Уж не задумали ли вы жениться, мистер Имс?
– Ничего еще не знаю.
– Вы можете сказать мне, смело можете. Я никому не передам, ни слова. Относительно Амелии я не виновата, решительно не виновата.
– Кто же говорит, что тут виноват кто-нибудь?
– Я все вижу, мистер Имс. Конечно, не мое дело вмешиваться. Если бы она вам понравилась, то могу сказать, что из нее вышла бы такая добрая жена, какую можно пожелать всякому порядочному человеку, и кроме того, она в состоянии выработать несколько фунтов стерлингов больше, чем большая часть девушек. Вы можете понимать чувства матери, если тут и должно бы быть чему-нибудь, то я не могла же повредить этому, могла ли я, согласитесь сами?
– Дело в том, что тут не должно быть ничего.
– Я твердила ей это в течение нескольких месяцев. Я не намерена говорить что-либо в ваше обвинение, но во всяком случае молодым людям следует быть весьма обстоятельными, непременно следует. – Джонни не хотел намекнуть безутешной матери, что и молодым женщинам тоже следовало бы быть обстоятельным, он только подумал об этом. – Мистер Имс, ведь я совсем не желала, чтобы она приехала сюда, – сколько раз ей говорила это! Но что может сделать мать? Ведь нельзя же ее было выгнать на улицу!
При этом мистрис Ропер поднесла к глазам передник и начала горько плакать.
– Очень сожалею, что если я был причиной хотя частицы вашего горя, – сказал Джонни.
– Нет, вашей вины тут нет, – продолжала бедная женщина, у которой вместе со слезами вырывались наружу ее искренние чувства, высказывалась вся ее женская натура. – Нет тут и моей вины. Увидев, как она держит себя, я знала, к чему это приведет, и я высказала ей свое мнение. Я знала, что вам не понравятся ее причуды.
– Мистрис Ропер, и к ней, и к вам я всегда питал особенное уважение.
– Однако вы на ней не женитесь. Я долгое время говорила ей это, просила ее не делать глупостей – на коленях просила, – но она не хотела послушаться меня. Она никогда бы не послушалась. Она всегда была такая своенравная, такая упрямая, что я лучше бы желала иметь ее подальше от себя, чем при себе. Впрочем, мистер Имс, она хорошая хозяйка в доме, это верно, не найдется пары рук, которые бы работали так скоро и ловко, но все же мои слова, мои советы не послужили в пользу.
– Не думаю, однако, что это послужило вам во вред.
– Как еще послужило-то! В огромный вред! Дом мой утратил всякую респектабельность, особливо из-за этих Люпексов. Мисс Спрюс живет у меня девять лет – она тоже с тех самых пор, как я сняла этот дом, – объявила мне сегодня, что намерена уехать в провинцию. А из-за чего? Из-за той же причины, по которой и вы уезжаете. Я понимаю эту причину, я вижу ее. Мой дом не так респектабелен, как бы ему следовало быть, и ваша мама, узнав все, что делается в нем, имела бы полное право сердиться на меня. Поверьте, мистер Имс, я хотела заслужить уважение.
– Мисс Спрюс, вероятно, передумает.
– Вы не знаете, что я должна была переносить во все это время. Никто не платит мне, то есть не платит исправно… кроме нее и вас. Мисс Спрюс так аккуратна, как английский банк.
– Боюсь, что и я не был очень исправен, мистрис Ропер.
– Ах нет, вы были очень исправны. Я не обращала внимания, если при расчете, в конце четверти года, останется за вами какой-нибудь фунт или два, в полной уверенности, что со временем вы их заплатите. Мясник, например. Он не хуже моего понимает жильцов, если деньги верные, он подождет, но не захочет ждать от таких, как Люпенсы, у которых вовсе нет денег. А Кредль, поверите ли, ведь он мне должен двадцать восемь фунтов!
– Двадцать восемь фунтов?
– Да, мистер Имс, двадцать восемь фунтов! Он глупец. Это Люпексы вытянули из него денежки. Я это знаю. Он не говорит об уплате и выезде. Того и смотри, что останусь с ним да с Люпексами на руках, и тогда явятся ко мне долговые приставы и продадут до последней соломинки в доме. Не скажешь им «продавать нельзя».
И мистрис Ропер опустилась в старое кресло, покрытое волосяной материей, и вполне предалась своей тяжелой печали.
– Я думаю идти наверх и приготовиться к обеду, – сказал Имс.
– Так вы должны выехать, когда воротитесь? – спросила мистрис Ропер.
– Да, кажется, непременно должен. Я предупреждаю вас за месяц, считая от сего дня, и, разумеется, я вам заплачу за этот месяц.
– О, я не хочу брать лишнего, положительно не хочу. Надеюсь, что вы оставите ваши вещи. Вы можете получить их, когда вам угодно. Если Чомпенд узнает, что вы и мисс Спрюс уезжаете, он в ту же минуту потребует деньги.
Чомпенд был мясник. Имс, однако же, ничего не ответил на этот плачевный довод. Позволит ли он или нет своим старым сапогам оставаться в Буртон-Кресценте на неделю или на две, это должно было зависеть от того, как приняла бы его Амелия Ропер в тот вечер.
Когда Имс спустился в гостиную, там была одна только мисс Спрюс.
– Прекрасный день, мисс Спрюс, – сказал он.
– Да, мистер Имс, для Лондона день прекрасный, но, как вы думаете, ведь в провинции, где-нибудь в деревне, воздух несравненно лучше?
– А мне так лучше в городе, – сказал Джонни, желая замолвить доброе словцо в пользу бедной мистрис Ропер.
– Вы, мистер Имс, человек молодой, а я ни больше ни меньше как старуха, это разница, – сказала мисс Спрюс.
– Небольшая, – заметил Джонни, стараясь быть любезным. – Вы, точно так же как и я, не хотите быть скучной.
– Я хочу быть почтенной, мистер Имс. Я, мистер Имс, всегда была почтенною.
Слова эти старуха произнесла почти шепотом, с беспокойством глядя на дверь, чтобы она как-нибудь не открылась для любопытствующих ушей.
– Я уверен, что мистрис Ропер весьма почтенная леди.
– Да, мистрис Ропер почтенная леди, мистер Имс, но тут есть некоторые… Тс!
И старушка Спрюс поднесла к губам палец. Дверь отворилась, и в гостиную не вошла, а вплыла мистрис Люпекс.
– Как поживаете, мисс Спрюс? Вы всегда являетесь первой. Это, верно, для того, чтобы заручиться молодым джентльменом. Что новенького в городе, мистер Имс? В настоящем вашем положении вы, без сомнения, слышите все новости.
– Сэр Рэфль Бофль завел новые туфли. Не знаю, верно ли это, но догадываюсь по времени, которое он употребил, чтобы надеть их.
– Ах! Вы шутите. Это всегда делают джентльмены, когда они хоть немного поднимутся в свете. Тогда им кажется, что женщины не стоят того, чтобы с ними разговаривать, – можно только шутить да делать насмешки.
– Я с большим удовольствием расположен разговаривать с вами, мистрис Люпекс, нежели с сэром Рэфлем Бофлем.
– Вы можете говорить, что вам угодно, но, поверьте, мы, женщины, очень хорошо понимаем, что означают подобные комплименты, не правда ли, мисс Спрюс? Женщина, пробывшая пять лет замужем, не может рассчитывать на особенное внимание со стороны молодых людей. Хотя я была молода, когда выходила замуж, то есть молода по летам, но я видела слишком многое и испытала слишком многое, чтобы быть молодою по сердцу.
Мистрис Люпекс сказала последнюю фразу почти шепотом, но мисс Спрюс слышала ее и еще более убедилась, что Буртон-Кресцент ни под каким видом нельзя назвать респектабельным.
– Не знаю, каковы были вы тогда, мистрис Люпекс, – сказал Имс, – но вы довольно еще молоды и теперь.
– Мистер Имс, я продала бы остатки моей молодости по дешевой цене, по самой дешевой цене, если бы только была уверена…
– В чем же, мистрис Люпекс?
– В искренней и нераздельной привязанности той особы, которую я полюбила. В этом заключается все необходимое для счастья женщины.
– Неужели мистер Люпекс…
– Люпекс! Но… оставимте это. Мне бы не следовало изменять себе выражением моих чувств. А вот и друг ваш, мистер Кредль. Знаете ли, я часто удивляюсь тому, что вы находите в этом человеке, за что бы можно было любить его?
Мисс Спрюс все видела, слышала все и положительно решилась удалиться в две маленькие комнатки в Дульвиче.
До обеда между Амелией и Имсом почти не было сказано слова. Амелия по-прежнему кокетничала с Кредлем, и Джонни видел, что эта стрела, в случае надобности, будет довольно надежным оружием. Мистрис Ропер сидела уже за столом на обычном своем месте, Имс легко мог заметить на ее лице следы слез. Бедная женщина! В жизни мало найдется положений тяжелее твоего! Постоянно бороться с людьми из-за денег, которых они не могут заплатить, желать респектабельности и сознаваться, что это была бы роскошь, недоступная по ее средствам, допускать до такой степени позор в своем доме ради прибыли, потом не получить ее и убедиться, что попытка эта довела до разорения! Как много есть таких мистрис Ропер, которые из года в год падают, гибнут, и никто не знает, куда они деваются! Иным кажется, как будто они видят их от времени до времени на перекрестках улиц в измятых шляпках и истасканных платьях, с рваными остатками старых шалей на плечах, но с таким выражением, как будто в них еще осталось слабое воспоминание о давно минувшей респектабельности. С озабоченным лицом они озираются во все стороны и смотрят вдаль, как бы отыскивая на улицах других постояльцев. Где они достают себе кусок насущного хлеба и жалкую чашку жиденького чаю, даже с рюмочкой джину, если Провидению угодно бывает даровать им такую роскошь? Мистрис Ропер живо представляла себе такое состояние, и теперь бедная женщина страшилась, что, с помощью Люпексов, приближалась к нему. В настоящем случае она молча нарезала куски говядины и с апатическим беспристрастием подала их хорошим гостям, которые хотели оставить ее, и дурным, которые хотели остаться при ней. Да и то сказать, была ли теперь какая-нибудь польза оказывать внимание и расположение одному из нахлебников и нерасположение другому? Пусть кушает на здоровье поданную баранину и тот, кто заплатит за нее, и тот, кто не заплатит. После тех угроз, которые привелось выслушать от Чомпенда, ей совсем не хотелось разрезать и раздавать куски баранины, взятой от него на книжку.
Читатель, быть может, припомнит маленькую комнатку позади столовой. В этой комнате состоялось описанное уже нами на предшествовавших страницах нежное свидание между Амелией и Джонни Имсом. В этой комнате постоянно происходили все свидания в заведении мистрис Ропер. Отдельная комнатка для свиданий и интимных объяснений необходима во всяком домашнем быту смешанного свойства. Если мужчина живет с своей женой один, он может видеться и иметь с ней интимные объяснения, где ему угодно. Для сыновей и дочери, даже взрослых, едва ли надобна подобная комната, хотя она и не была бы лишнею, если дочери помышляют о замужестве и при этом еще одарены расположением к полной независимости. Но когда состав семейства становится более сложным, когда в него введен будет лишний молодой человек, или переедет на постоянное жительство тетка, или, наконец, когда в простоту домашнего быта вмешаются дети от первой жены, лишняя и отдельная комната становится необходимостью. Не имея такой комнатки, ни одна женщина не решится принять к себе жильцов, такая точно комнатка была и в доме мистрис Ропер, весьма небольшая и не совсем чистая, но все же довольно удобная, – сейчас же позади столовой и напротив кухонной лестницы. В эту-то комнатку и потребовали Амелию вскоре после обеда. Амелия только что расположилась между мистрис Люпекс и мисс Спрюс, приготовясь вступить в битву с первой за то, что она оставалась, а с последней за то, что выезжала, когда ее позвала служанка.
– Мисс… мисс… пш-ш-шш!
Амелия оглянулась и увидела красную руку, которая ее манила.
– Он там, – сказала Джемима, когда Амелия подошла к ней, – и непременно хочет вас видеть.
– Кто же из них? – спросила Амелия шепотом.
– Ну кто? Разумеется, мистер Имс. К другому-то вы, пожалуйста, не ходите и ничего не говорите с ним, мисс Амелия, он нехороший человек, – право, нехороший.
Амелия с минуту постояла на площадке лестницы, размышляя, хорошо ли будет отправиться на свидание или отклонить его. У нее было две цели, или, вернее сказать, ее цель имела двоякое свойство. Она, весьма естественно, хотела, во-первых, довести Имса до отчаяния, а во-вторых, с помощью усиленного кокетства, завлечь Кредля, если окажется невозможным довести Имса до отчаяния. В главных основаниях она соглашалась с критическим взглядом Джемимы, но далеко не могла допустить идеи, что в Кредле вовсе не было ничего хорошего. Если возможно завладеть Имсом, то и пусть Имс будет ее жертвой, в случае же неудачи – пусть будет наготове другая жертва. Бедная девушка! Такое решение не обошлось ей без душевной пытки. Она имела сердце и всею силою его любила Джонни Имса. Но свет был жесток в отношении к ней, он немилосердно преследовал ее повсюду, угрожая ей, как угрожал и теперь, отнять у нее те немногие радости, которыми она наслаждалась. Девушка, поставленная в такие обстоятельства, не всегда может следовать внушениям своего сердца. При настоящем случае она почти решилась не видеться с Имсом, рассчитывая еще более усилить в нем отчаяние своим отказом и вспомнив также, что Кредль был дома и узнает об этом.
– Он ждет вас, мисс. Что же вы не спускаетесь вниз? – И Джемима щипнула свою молодую госпожу.
– Иду, иду, – сказала Амелия и мерными шагами начала спускаться с лестницы.
– Вот она, мистер Имс, – сказала служанка, и Джонни увидел себя наедине с предметом своей мнимой любви.
– Вы посылали за мной, мистер Имс, – сказала Амелия, слегка кивнув головой и отвернув от него свое лицо. – Я была занята наверху, но подумала, что было бы неучтиво не спуститься к вам, когда вы нарочно прислали за мной.
– Да, мисс Ропер, мне вас очень нужно видеть.
– Скажите пожалуйста! – воскликнула Амелия, и Джонни Имс вполне понял, что восклицание это вызвано было тем обстоятельством, что он назвал ее при настоящем случае не по имени, а по фамилии.
– Перед обедом я виделся с вашей матушкой и объявил ей, что послезавтра я уезжаю.
– Мы все знаем это, и конечно, к графу! – И Амелия еще раз кивнула.
– Я объявил ей также, что намерен не возвращаться в Буртон-Кресцент.
– Как! Вы совсем хотите оставить этот дом!
– Да, совсем. Вы знаете, молодой человек должен от времени до времени иметь перемены.
– Куда же вы уезжаете, Джон?
– Я еще и сам не знаю.
– Говорите мне правду, Джон, вы намерены жениться? Вы намерены… жениться на… на той, которую бросил Кросби? Я требую от вас немедленного ответа. Вы на ней хотите жениться?
Джонни заранее решил не сердиться на Амелию, что бы она ни сказала, но когда она сделала такой вопрос насчет «той, которую бросил Кросби», он находил весьма трудным удержаться от гнева.
– Я намерен говорить с вами о нас одних, и больше ни о ком, – отвечал Джонни.
– Это вовсе не ответ на мой вопрос. Вы не имеете права поступать таким образом со всякой девушкой, о, Джон!
И Амелия посмотрела на него, как будто не зная, броситься ли на него и осыпать его поцелуями или налететь на него и вырвать ему клок волос.
– Я знаю, что я вел себя не так, как бы следовало, – сказал Джонни.
– О, Джон! – повторила Амелия, покачав головой. – Значит, вы хотите сказать мне, что женитесь на ней?
– Ничего подобного я не хочу сказать. Я только и хочу сказать, что намерен выехать из Буртон-Кресцента.
– Джон Имс, подумали ли вы, что делаете! Отвечайте мне: получала ли я обещание от вас, положительное обещание, неоднократно, или нет?
– Я ничего не знаю насчет положительного обещания…
– Прекрасно! Я считала вас за джентльмена, который не откажется от своего слова. Я так думала. Я никогда не думала, что вы поставите одну молодую особу в необходимость представить письмо к ней, как доказательство, что она требует одного только права! Вы этого не знаете! И это после всего, что было между нами! Джон Имс!
И Джонни снова показалось, как будто она хотела налететь на него.
– Я знаю, что вел себя нехорошо. Что же еще больше могу я сказать?
– Что еще больше вы можете сказать? О, Джон! И вы предлагаете мне этот вопрос! Если бы вы были благородный человек, вы бы нашли что сказать. Но должно быть, вы все, частные секретари, преданы обману. Я презираю вас, да, положительно презираю.
– Это, однако, нисколько не мешает нам пожать руку друг другу и расстаться навсегда. Кажется, это будет самое лучшее. Конечно, неприятно переносить презрение, но иногда без этого не обойтись.
И Джонни протянул свою руку.
– Неужели же этим и должно все кончиться?
– Да, я так полагаю. Ведь сами же вы говорите, что презираете меня?
– Вы не должны упрекать бедную девушку за резкое слово, – особенно когда она страдает, как страдаю я!.. Если бы вы только подумали об этом, подумали о том, чего я ожидала!
Амелия заплакала и, казалось, хотела упасть в объятия Джонни.
– Лучше высказать правду, не так ли? – спросил Джонни.
– Но тут вовсе нет правды.
– Напротив, совершеннейшая правда. Я ничего не мог сделать, я погубил бы и себя, и вас, и мы оба были бы несчастны.
– Я была бы счастлива, очень счастлива.
В этот момент слезы бедной девушки были непритворны и слова ее – безыскусственны.
– Этого не может быть, Амелия. Итак, мы простимся?
– Прощайте, – сказала Амелия и, говоря, склонилась к Джонни.
– Я надеюсь, вы будете счастливы с другим, – сказал Джонни и потом, обвив рукой ее талию, поцеловал ее, – чего, конечно, ему бы не следовало делать.
Когда кончилось свидание, Джонни вышел прогуляться и во время прогулки через скверы – Вобсон-сквэр, Россель-сквэр и Бедфорд-сквэр – к самому сердцу Лондона чувствовал в своем собственном сердце восторг, торжество. Наконец он выпутался из затруднительного положения и теперь готов был смело предложить любовь свою Лили.
Глава LII ПЕРВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ГЭСТВИKСКОГО МОСТИКА
По прибытии Джонни Имса в дом графа Дегеста его встретила леди Джулия.
– Любезный мистер Имс! Не могу выразить вам, как я рада вас видеть.
После этого она всегда называла его Джоном и во все время его отпуска обращалась с ним необыкновенно ласково. Нет никакого сомнения, что такое расположение к Джонни со стороны леди Джулии образовалось вследствие его подвига с быком, – нельзя также сомневаться и в том, что чувство это было следствием надежды, что молодой человек будет мужем Лили Дель, но я, с своей стороны, полагаю, что нанесенные Кросби побои были самой могущественной причиной этого расположения и любви. Особы, – особливо скромные и рассудительные старые особы, как леди Джулия Дегест, – всегда держатся мирных теорий и ненавидят всякого рода насилие. Леди Джулия непременно осудила бы того, кто осмелился бы посоветовать Имсу сделать нападение на Кросби, несмотря на то, подвиги храбрости всегда бывают дороги для женского сердца, и женщина, как бы она ни была стара и рассудительна, понимает и оценивает всю справедливость, которая может быть оказана посредством хорошей потасовки. Леди Джулия, если бы ее вызвали на разговор об этом предмете раньше, без всякого сомнения, сказала бы Имсу, что он сделает важный проступок, поколотив мистера Кросби, но дело было сделано, и леди Джулия полюбила за это Джонни Имса.
– Идите, пожалуйста, наверх, Виккерс проводит вас в вашу комнату, брата моего вы найдете где-нибудь вблизи дома, стоит только выйти, я видела его с полчаса тому назад.
Джонни, однако же, приятнее было занять кресло перед камином и побеседовать с хозяйкой дома, и потому ни тот, ни другая не оставляли своих мест.
– Итак, вы получили место частного секретаря, – нравится ли вам ваша новая обязанность?
– Обязанность мне нравится. Я люблю трудиться, но откровенно вам скажу, леди Джулия, мне не нравится сэр Рэфль. Впрочем, мне не следовало бы говорить этого, потому что он такой задушевный друг вашего брата.
– Задушевный друг Теодора! Сэр Рэфль Бофль!
Леди Джулия выпрямилась и приняла серьезный вид, ей, как видно, очень, очень не понравилось известие, что граф Дегест имеет такого задушевного друга.
– По крайней мере, он на дню раза по четыре говорит мне это. В будущем сентябре он непременно хочет приехать сюда.
– Неужели он говорил вам это?
– В самом деле. Вы не поверите, какой он забавный! И опять же голос его звучит как треснувший колокол, – самый неприятный голос, какой едва ли вы слышали в своей жизни. При нем всегда надо быть настороже, а то сейчас же заставит сделать что-нибудь такое, что… что вовсе не прилично для джентльмена. Вы понимаете… то, что должен делать курьер.
– Уж не слишком ли вы боитесь за свое достоинство?
– Вовсе нет. Если лорд Дегест попросит меня подать ему башмаки, я сбегаю за ними в Гествик и ничего не подумаю об этом, я знаю, что он мне друг, он имеет право послать меня, но я отнюдь не намерен делать подобных вещей для сэра Рэфля Бофля.
– Подавать ему башмаки!
– Да, Фиц-Говард подавал, наконец и ему не понравилось.
– Какой это Фиц-Говард? Не племянник ли герцогини Сент Бонгэй?
– Племянник, или кузен, или что-нибудь в этом роде.
– Ах, боже мой! – сказала леди Джулия. – Какой ужасный человек!
В этом роде происходила беседа между Джонни и графиней. За обедом в тот раз никого не было, кроме графа, его сестры и их гостя. Граф встретил Джонни с величайшим радушием и беспрестанно выражал свое удовольствие, похлопывая молодого друга своего по спине и отпуская шутки довольно смешные, хотя и не совсем остроумные.
– Ну что, Джон, не поколотил ли еще кого-нибудь?
– Покуда никого.
– Не привез ли с собой колпака, чтобы спать в парке на траве?
– Нет, но я привез великолепную трость для быка, – сказал Джонни.
– Да, мой друг, – шутки в сторону, – сказал граф. – Придется продать его, а это меня сильно огорчает. Не знаю, что с ним сделалось: после того случая с ним просто невозможно справиться, недавно сшиб с ног Дарвеля! Скверно, очень скверно! Однако тебе надо одеться. Помнишь, каким ты пришел к обеду в тот день? Никогда я не забуду, как Крофтс выпучил глаза! Впрочем, отправляйся – до обеда остается всего двадцать минут, – а для вас, лондонцев, нужен по крайней мере час.
– Как частный секретарь, он имеет право на некоторое снисхождение, – сказала леди Джулия.
– И в самом деле! Я совсем позабыл. Сделайте одолжение, мистер частный секретарь, сегодня не задумывайтесь долго над великолепием вашего шейного банта, потому что за обедом, кроме нас, никого не будет. Этот случай представится вам завтра.
После этого Джонни был сдан на руки камердинеру и аккуратно через двадцать минут снова явился в гостиную.
Как скоро леди Джулия оставила их после обеда, граф приступил к объяснению своего плана предстоявшей кампании.
– Завтра приедет сюда сквайр со старшей племянницей, с сестрой вашей мисс Лили.
– Как? С Белл?
– Да, с Белл, если ее зовут Белл. Она тоже прехорошенькая девушка, даже не лучше ли своей сестры.
– Ну, об этом надобно подумать.
– Разумеется, кому что нравится. Они приедут сюда дня на три, на четыре. Леди Джулия приглашала мистрис Дель и Лили. Ах да, будет ли еще позволено мне называть ее просто по имени?
– Вот еще! Я бы желал иметь власть давать вам позволения.
– Так с завтрашнего дня начнется битва, которую ты должен выиграть. Мать и младшая сестра не приедут. Леди Джулия говорит, что это так и быть должно, что Лили, услышав о твоем приезде, не захочет приехать сюда. Не понимаю этого! В мое время молодые девицы как нельзя охотнее ездили туда, где надеялись встретиться со своими поклонниками, и право, через это они нисколько не были хуже нынешних девиц.
– Лили, верно, не потому не хочет приехать сюда, – сказал Имс.
– Так говорит леди Джулия, а она, сколько мне известно, никогда не ошибается в делах подобного рода. Она говорит, что гораздо больше можно иметь шансов, если ты будешь ездить туда, чем оставаться здесь, в одном доме с ней. Если бы я вздумал ухаживать за какой-нибудь девушкой, то, разумеется, приятнее было бы, если бы она была поближе ко мне, находилась бы со мной в одном доме. Мне кажется, лучше этого ничего не может быть в мире. У нас составились бы танцы и тому подобное. Но что же делать? Я не мог заставить ее приехать сюда.
– Кто же говорит об этом! Разумеется, не могли.
– Леди Джулия полагает, что в этом ничего еще нет дурного. Ты должен съездить туда, и постарайся, если можно, склонить мать на свою сторону. Я говорю, как понимаю, ты, пожалуйста, не сердись на меня.
– Можете быть уверены, что никогда не рассержусь.
– Я полагаю, что она все еще любит этого Кросби. Конечно, после его низкого поступка она не может любить его очень нежно, это в натуральном порядке вещей, – но она, я знаю, затрудняется признаться, что любит тебя лучше, чем любила его. Вот это-то признание и нужно вынудить.
– Я хочу, чтобы она призналась, что согласна быть моей женой… со временем.
– А если она согласится, так ты будешь требовать, чтобы время это не было отдаленным, не так ли? Я убежден, что ты уговоришь ее. Бедная девушка! Зачем ей сокрушать свое сердце, когда такой молодец, как ты, с большою радостью готов сделать ее счастливою женщиной?
В этом роде граф говорил Имсу, пока последний почти совсем убедился, что на его пути исчезли все затруднения. «Возможное ли дело, – спрашивал Джонни самого себя, ложась спать, – что через две недели Лили Дель согласится видеть во мне своего будущего мужа?» Потом он вспомнил день, в который Кросби с двумя дочерями мистрис Дель приезжал в дом его матери, когда Джонни, в душе своей, переполненной горечью, дал себе клятву считать Кросби вечным врагом. После того дела приняли у Джонни благоприятный оборот, и он перестал уже питать к Кросби сильную злобу. На платформе Паддингтонской станции он покончил с ним все расчеты. Джонни чувствовал, что, если Лили примет его предложение, он в состоянии будет пожать руку Кросби. Этот эпизод в его жизни и в жизни Лили был очень грустный, но он приучил бы себя смотреть на прошедшее без сожаления, лишь бы только Лили убедилась, что судьба, наконец, наделила ее лучшим из двух ее поклонников.
– Я боюсь, что она не в состоянии будет забыть его, – говорил Джонни графу.
– Напротив, – отвечал граф, – она будет рада забыть его, если ты сумеешь принудить ее начать эту попытку. Само собой разумеется, сначала это было очень больно и обидно – весь свет узнал об этом, но, бедная девушка, – не убивать же ей себя во всю свою жизнь из-за этого! Если ты будешь действовать с некоторою уверенностью, то я нисколько не сомневаюсь в твоем успехе. На твоей стороне все – и сквайр, и мать, и вообще все и всё.
Слыша такие слова, мог ли Джонни не надеяться и не быть уверенным? В то время как он уютно сидел перед камином своей спальни, он решил, что все будет так, как сказано графом. Но на другое утро, когда он встал и дрожал после холодной ванны, в нем уже не было той уверенности. «Разумеется, я пойду к ней, – говорил он самому себе. – И откровенно расскажу ей все, но я заранее знаю, что она ответит: она скажет, что не может позабыть его». И в чувствах его уже не было такого дружелюбия к Кросби, как накануне.
В первый день по приезде Джонни не сделал визита в Малый дом. Положено было, что лучше сначала встретить сквайра и Белл и отложить этот визит до другого дня.
– Поезжай, когда хочешь, – сказал граф, – пока ты здесь, к твоим услугам всегда готов карий жеребчик.
– Я схожу повидаться с матерью, – сказал Джонни, – только сегодня жеребца не возьму. Если позволите взять его завтра, я поеду в Оллингтон.
И Джонни отправился в Гествик пешком.
Он знал каждый клочок земли, по которой шел, помнил все изгороди, ворота и поля с самого раннего своего детства. И теперь, проходя мимо знакомых мест, он не мог не оглянуться назад и припомнить те мысли, которые занимали его во время ранних прогулок. На одной из страниц этого рассказа я уже заметил, что прогулки возмужалого человека не сопровождаются таким множеством дум и размышлений, как прогулки мальчика. Джонни еще в ранней поре своей жизни приучен был к мысли, что свет будет суров к нему, что он должен надеяться на свои собственные усилия и что эти усилия, к сожалению, не будут поддерживаться обширностью его дарований. Не знаю, чтобы кто-нибудь говорил ему, что он лишен дарований, но он, частью от своей собственной скромности и частью, без всякого сомнения, от излишней недоверчивости к нему матери, усвоил понятие, что он не так остр и способен, как другие мальчики. Способности развились в нем уже гораздо позже, чем у многих молодых людей. Он не рос в теплице, прислонясь к стене, обращенной к солнцу. До открытия места в управлении сбора податей ему представлялись самые скромные карьеры, да и теми он не сумел воспользоваться. Он хотел сделаться помощником учителя в коммерческом училище, находившемся не в весьма цветущем состоянии, но, к несчастью, оказался слабым в арифметике. Открывался случай поступить в кожевенные кладовые господ Базеля и Нигскина, но эти джентльмены требовали платы, а всякая плата подобного рода была не по силам его матери. Вдова Имс со слезами упрашивала городского стряпчего подать Джонни руку помощи и сделать из него писца, но стряпчий нашел, что мистер Джонни Имс туповат. В течение тех дней, скучных, ничего не приносивших, ничего не обещавших дней, в которые Джонни скитался по Гествикским полям, что составляло его единственное развлечение, и сочинял стихи в честь Лили Дель, которых ничей глаз, кроме его самого, не видел, он считал себя бременем, задаром тяготившим землю. Никто, по-видимому, не нуждался в нем. Мать заботилась пристроить его куда-нибудь, но эти заботы казались ему только желанием от него отделаться. По целым часам он строил воздушные замки, мечтая об удивительных успехах в жизни, и среди этих замков и успехов Лили Дель всегда занимала место на первом плане. Из месяца в месяц он носил в своем воображении ту же самую историю и оставался доволен таким идеальным счастьем. Не обладай он этой способностью, какое бы утешение мог он найти в своей жизни? Бывают юноши, которые находят удовольствие в занятиях, которые углубляются в книги и отдыхают среди произведений своего ума, с Джонни этого не было. Он не любил заниматься. Прочитать роман было для него в те дни тяжелым трудом, стихов он читал мало, но он запоминал все прочитанное. Он создал для себя свой собственный роман, хотя на вид был юноша весьма неромантичный, он бродил по Гествикским лесам со множеством дум, которых не знали даже самые близкие его приятели. Все это припомнил он теперь, когда медленно шел к своему родному старому дому, он шел очень медленно, пробираясь околицей, через леса, по узкой тропинке, которая вела к деревянному пешеходному мостику, перекинутому через небольшой ручеек. Джонни остановился у середины доски, служившей перилами, и стер на этом месте образовавшийся мох. Тут до сих пор сохранилось грубо вырезанное слово «Лили». Он вырезал это слово, будучи еще ребенком.
«Не пойдет ли она со мной прогуляться сюда и не позволит ли показать ей это слово», – сказал он самому себе.
Потом он вынул перочинный ножик, очистил буквы и, облокотясь на доску, начал смотреть на струившуюся внизу воду. Как прекрасно пошли его дела! Как удивительно прекрасно! И к чему все это послужит, если Лили не будет женой его? В те дни, когда он стоял на этом мостике и вырезал имя любимой девочки, все, по-видимому, смотрели на него, как на тяжелое бремя, так и сам он смотрел на себя. Теперь ему многие завидовали, многие уважали его, подавали руку, – люди, занимающие в обществе весьма почетные места. В свои старинные прогулки, приближаясь к Гествикскому господскому дому, – всегда, впрочем, держась от него поодаль, из боязни, что сердитый старый лорд увидит его и разбранит, – он вовсе не мечтал, что с этим сердитым старым лордом будет находиться в дружеских отношениях, что он будет поверять этому лорду все свои мысли и чувства более, чем всякому другому живому существу, а между тем это было так на самом деле. Сердитый старый лорд объявил, что денежный дар должен принадлежать ему, все равно, выйдет ли за него Лили Дель или нет.
– Дело это кончено, – сказал лорд, вынув из кармана пачку известных бумаг, – получай с них дивиденды, когда придет время.
Когда Джонни стал отказываться (при настоящих обстоятельствах ему ничего не оставалось больше делать, как только отказаться), сердитый лорд довольно грубо приказал ему молчать, прибавив, что по возвращении в Лондон его заставят подавать сапоги Рэфлю Бофлю. Таким образом разговор быстро перешел на сэра Рэфля, над которым они смеялись от души. Если он приедет сюда в сентябре, мистер Джонни, или в каком-нибудь другом месяце, ты смело можешь надеть мне на голову дурацкий колпак. Как не помнить! Как не удивляться тому, что люди делают из себя таких пошлых глупцов? Все это передумал Джонни, облокотясь на перила пешеходного мостика. Он припомнил каждое слово, припомнил множество слов, ранних слов, сказанных годы тому назад, наводивших на него уныние относительно перспективы его жизни. Все его друзья и знакомые как будто сговорились в предсказаниях ему, что дорога в свет для него закрыта и что он никогда не будет в силах заработать себе хлеб. Теперь же он находился в самых благоприятных обстоятельствах, находился в числе людей, которых свет решился беречь и лелеять. И к чему послужит все это, если Лили не согласится разделить его счастья? Когда он вырезывал это имя, его любовь к Лили была одной лишь идеей. Теперь идея эта обратилась в действительность, и по всей вероятности, в действительность самую тяжелую, самую убийственную. Если это так, если таков должен быть результат его сватовства, то прежние дни его, дни мечтаний и грез, не были ли лучше настоящих его дней, дней успеха?
Был час пополудни, когда он вошел в дом матери и застал ее и сестру свою во встревоженном и озабоченном состоянии.
– Неужели ты не знаешь, Джон, что мы едем сегодня на обед к лорду Дегесту? – спросила мать после первых объятий и приветствий.
Но Джонни решительно не знал, ему не говорили об этом ни граф, ни леди Джулия.
– Как же! Едем, – продолжала мистрис Имс. – Это так любезно с их стороны. – Но, Джон, много уже лет, как я не бывала в их доме, и теперь чувствую какую-то неловкость. Вскоре после замужества я раз обедала там и после того никогда не бывала.
– Это сделано не графом, а леди Джулией, я так думаю, – сказала Мэри Имс.
– Это великодушнейшая женщина в мире, – сказал Джонни.
– В самом деле?! А все говорят, что она такая сварливая.
– Говорят потому, что не знают ее. Если бы меня спросили, которая из знакомых мне женщин добрее всех, я бы, нисколько не задумываясь, сказала – леди Джулия Дегест.
– Да, потому что они тебя любят, – заметила мать. – Ты спас жизнь милорда, благодаря Провидению.
– Это ничего не значит. Вы спросите доктора Крофтса. Он знает их так же хорошо, как я.
– Доктор Крофтс женится на Белл Дель, – сказала Мэри, и разговор о совершенствах леди Джулии и уважении, которое внушал к себе граф, принял совсем другое направление.
– Крофтс женится на Белл! – воскликнул Джонни, с унынием подумав о счастье доктора, предложение которого было принято так скоро, тогда как он домогался того же самого с постоянством Иакова.
– Да, – сказала Мэри, – говорят, что она отказала своему кузену Бернарду и что поэтому сквайр отнимает у них дом. Ты знаешь, ведь они переезжают в Гествик?
– Это я знаю, но не верю, что сквайр отнимает у них дом.
– Зачем же им переезжать? Зачем им оставлять такое очаровательное место?
– За которое они ничего не платили! – прибавила мистрис Имс.
– Я не знаю, почему они выезжают, но уверен, что сквайр их не гонит и во всяком случае не станет их стеснять из-за отказа Бернарду.
Сквайр вызвался содействовать Джонни в его искательстве, и потому Джонни старался защитить его.
– Он весьма суровый человек, – сказала мистрис Имс. – И говорят, что после несчастья Лили он начал обходиться с ними еще грубее, но, сколько мне известно, Лили тут не виновата.
– Бедная Лили! – сказала Мэри. – Мне ее жаль. На ее месте я бы не знала, как показаться мне в люди, право бы, не знала.
– Почему же ей не показываться? – спросил Джонни сердитым тоном. – Чего ей стыдиться? Я не могу понять того недоброжелательства, которое женщины питают друг к другу.
– Тут вовсе нет недоброжелательства, ты напрасно говоришь подобные вещи, – сказала Мэри в свою защиту. – Во всяком случае для девушки весьма неприятно быть обманутой. Всему свету известно, что она была за него помолвлена.
– Всему свету известно также…
Джонни не хотел договорить, что всему свету известно также, что Кросби за его подлость получил славную потасовку. Он не хотел говорить об этом даже перед матерью и сестрой. Всему свету было известно это, всему свету, который интересовался этим делом, кроме самой Лили Дель. Никто еще не говорил Лили Дель о происшествии на паддингтонской станции железной дороги, и Джонни радовался за скромность своих друзей.
– Конечно, ведь ты ее защитник, – сказала Мэри. – Я ничего дурного не сказала и не думала говорить. Разумеется, это было несчастье.
– А мне кажется величайшим счастьем для нее, что она не вышла замуж за такого мерзавца, как…
– О, Джон! – воскликнула мистрис Имс.
– Извините, мама. Я, впрочем, не считаю за брань, назвав подобного человека мерзавцем. Не стоит, право, говорить о нем. Мне ненавистно даже само имя его. Я возненавидел его с первого раза, как увидел, и по его наружности угадывал, что он негодяй. Я не верю ни одному слову, что сквайр сердится на них из-за него, напротив, мне положительно известно, что он вовсе не сердится. Итак, Белл выходит замуж за доктора Крофтса!
– Тут нет ни малейшего сомнения, – сказала Мэри. – Говорят, что Бернард Дель отправляется со своим полком.
После этого Джонни объяснил матери, в чем состоят обязанности частного секретаря, и свое намерение оставить дом мистрис Ропер.
– Полагаю, для тебя подобный дом неприличен? – спросила мистрис Имс.
– По правде сказать, особенно неприличного не нахожу. Там есть люди… Впрочем, мама, вы не подумайте, что повышение по службе заставляет меня важничать. Я не хочу жить лучше того, как мы жили в доме мистрис Ропер, но она приняла к себе людей, которые очень неприятны. Там, например, живут мистер и мистрис Люпексы.
И Джонни сделал коротенькое описание их жизни, но ни слова не сказал об Амелии Ропер. Амелия Ропер не показывалась в Гествике, чего он боялся одно время, и потому при настоящем случае не считал за нужное знакомить свою мать с этим эпизодом своей жизни.
По возвращении в дом графа Дегеста Джонни узнал, что туда приехали уже мистер Дель и его племянница. Они сидели с леди Джулией в утренней гостиной, лорд Дегест стоял у камина и о чем-то говорил. Очутясь между ними, Имс ощущал чрезвычайно неловкое положение, как будто все знали, что его выписали из Лондона нарочно для объяснения в любви, да и действительно все об этом знали. Белл, хотя ей никто не говорил, была уверена в этом наравне с другими.
– А вот и принц матадоров, – сказал граф.
– Нет, милорд, этот титул принадлежит вам, я только ваш первый помощник.
Джонни старался казаться веселым, но его взгляды обнаруживали застенчивость, так что, подавая сквайру руку, он должен был сделать усилие, чтобы взглянуть в лицо старика.
– Очень рад вас видеть, Джон, – сказал сквайр, – очень рад.
– Я тоже очень рада, – сказала Белл. – Нам приятно было слышать о вашем повышении на службе.
– Надеюсь, мистрис Дель в добром здравии, – сказал Джонни, – и Лили?
Последнее слово произнесено было с очевидным для всех усилием.
– Моя сестра была очень нездорова, больна скарлатиной, но поправилась очень быстро, и теперь почти совсем здорова. Она будет очень рада вас видеть, если вы придете к нам.
– Да, я буду у вас непременно, – сказал Джонни.
– Неугодно ли, мисс Дель, я покажу вам вашу комнату? – сказала леди Джулия.
Разговор был прерван, и вместе с тем исчезла в Джонни вся неловкость.
Глава LIII СЛОВООХОТЛИВЫЙ ХОПКИНС
Сквайру было объявлено, что его племянница Белл приняла предложение доктора Крофтса, и он обнаружил род согласия в таком семейственном распоряжении, сказав, что если это так, то он ничего не может возразить против доктора Крофтса. Он сказал это меланхолическим тоном голоса, с выражением подавленной печали, которая сделалась теперь почти обыкновенным, всегдашним его выражением. Он только с мистрис Дель и говорил по этому предмету.
– Я желал, чтобы это было совсем иначе, как это вам хорошо известно. У меня были семейные причины подобного желания. Но теперь, конечно, я ничего не могу сказать против этого. Доктор Крофтс, как муж ее, всегда радушно будет принят в моем доме.
Мистрис Дель, ожидавшая гораздо худшего, начала благодарить его за добродушие и между прочим сказала, что ей было бы приятнее видеть свою дочь замужем за своим кузеном.
– Но в деле подобного рода решение должно быть предоставлено исключительно девушке, вы согласны с этим?
– Я ничего не могу сказать против нее, – повторил сквайр.
После этого мистрис Дель оставила его и сообщила своей дочери, что дядя принял известие весьма благосклонно.
– Ты была его фавориткой. Теперь место это займет Лили, – сказала мистрис Дель.
– Я нисколько об этом не забочусь, или лучше сказать, я забочусь об этом очень много и полагаю, что такая перемена будет во всех отношениях к лучшему. А так как я, такая негодная, уеду от вас, и Лили, такая прекрасная, останется дома, то мне становится жаль, что вы переедете из Малого дома.
Мистрис Дель тоже становилось жаль, но теперь она ничего не могла сказать.
– А ты думаешь, что Лили останется дома? – спросила она.
– Да, мама, я уверена в этом.
– Она всегда любила Джона Имса, который пошел теперь так хорошо.
– Это ничего не значит, мама. Она все еще любит его, очень любит. У нее своего рода любовь, но любовь довольно сильная: я уверена, она никогда не произносит его имени без внутренних воспоминаний и мечтаний. Если бы Джонни сделал предложение раньше Кросби, тогда ничего бы подобного с ней не было. Но теперь она не в состоянии переломить себя. Ее будет удерживать гордость, даже и в таком случае, если бы сердце и вытеснило прежнюю любовь. После того что я говорила прежде, мне бы не следовало говорить теперь подобные вещи, но, во всяком случае, я желала бы, чтобы вы не уезжали отсюда. Дядя Кристофер сделался заметно мягче против прежнего, а так как я была виновницей и имею расположение…
– Теперь, душа моя, слишком поздно.
– Тем более, что ни у вас, ни у меня недостанет настолько твердости духа, чтобы предложить это Лили, – сказала Белл.
На другое утро сквайр прислал за своей невесткой, как это бывало всегда, когда представлялась необходимость объясниться или посоветоваться по какому-нибудь серьезному делу. Это было хорошо известно той и другой стороне, и потому подобную присылку нельзя было принять за недостаток учтивости со стороны мистера Деля.
– Мэри, – сказал сквайр, когда мистрис Дель заняла кресло в его кабинете, – я намерен сделать для Белл совершенно то же самое, что вызвался сделать для Лили. Когда-то я намеревался сделать больше, но тогда все перешло бы в карман Бернарда, теперь же я не хочу делать между ними различия. Каждая из них будет получать по сто фунтов в год, – то есть когда они выйдут замуж. Скажите-ка Крофтсу, чтобы он побывал у меня.
– Мистер Дель, он вовсе этого не ожидал: он не надеялся получить за ней и пенни.
– Тем лучше для него, и, полагаю, тем лучше для нее. Вероятно, он не рассердится, если Белл принесет в его дом некоторое вспомоществование.
– Мы об этом никогда не думали, никто из нас не думал. Предложение ваше так неожиданно, что я не знаю, как выразить мою благодарность.
– Не нужно никаких благодарностей. Если вы хотите отплатить мне… Впрочем, я только делаю то, что считаю своим долгом, и не имею ни малейшего права просить отплаты, как милости.
– Но, мистер Дель, чем мы можем отплатить вам?
– Останьтесь в Малом доме.
Говоря эти слова, он как будто снова был сердит, как будто снова предписывал законы им, как будто говорил о долге, который лежал на мистрис Дель в отношении к нему. Его голос по-прежнему был груб, его лицо по-прежнему приняло суровое выражение. Он сказал, что просит отплаты, как милости, но едва ли найдется человек, который просил бы милости таким повелительным тоном: «Останьтесь в Малом доме!» После того он повернулся к столу, как будто больше не о чем было и говорить.
Мистрис Дель только теперь начинала понимать его сердце и настоящий характер. Оказывая милость, он казался любящим, забывающим обиды, прося милости, становился суровым. Впрочем, он не умел просить, он умел только требовать.
– Мы почти совсем упаковали свои вещи, – начала мистрис Дель.
– Хорошо-хорошо. Я ничего не говорю об этом. Распаковать вещи легче, чем упаковать. Но… оставим об этом. Белл сегодня поедет со мной в гествикский дом. К двум часам пусть приходит сюда. К вам придет Гримс и возьмет ее картонку.
– Хорошо.
– И пожалуйста, пока не говорите ей ничего о деньгах. Мне не хотелось бы этого, вы понимаете. Но когда увидите Крофтса, скажите ему, чтобы он побывал у меня. Да лучше пусть он не медлит, если задумал, чем скорее, тем лучше.
Легко можно понять, что мистрис Дель не исполнила просьбы, заключавшейся в словах сквайра насчет денег. Для нее не было никакой возможности воротиться к дочерям и не передать результата утреннего свидания с их дядей. Сто фунтов в год в скромном хозяйстве доктора делали большую разницу между обилием и недостатком, между скромным довольством и продолжительной нуждой. Само собой разумеется, она рассказала им все, но при этом дала понять Белл, что она должна держать себя так, как будто еще ей ничего не известно.
– Нет, я его поблагодарю сейчас же, – сказала Белл. – Скажу ему, что вовсе этого не ожидала, и без всякой гордости принимаю его дар.
– Ради бога, душа моя, только не теперь. Рассказав вам это, я некоторым образом нарушила обещание, и нарушила только потому, что не умею ничего скрывать от вас. Притом же он очень огорчен! Хотя он ничего не говорил, но видно было, что сердце его разрывалось на части, когда ему приходила на мысль неудача выдать тебя за Бернарда.
Мистрис Дель рассказала также о просьбе сквайра и о том, как он ее выразил.
– Тон его голоса вызвал у меня слезы. Я начинаю даже сожалеть о нашем переезде.
– Но, мама, – сказала Лили, – какую составит для него разницу наш переезд? Вы знаете, что наше присутствие вблизи его всегда было в тягость ему. Он никогда не нуждался в нас. Ему хотелось, чтобы здесь была Белл, когда думал, что Белл выйдет замуж за его любимца.
– Лили, будь снисходительнее.
– Я не думаю не быть снисходительной. Разве Бернард не любимец его? Я всегда любила Бернарда и всегда считала лучшей чертой в характере дяди Кристофера его особенное расположение к Бернарду. Я знала, что это было бесполезно. Я знала это, понимала все… я видела, что тут был другой. Но все же Бернард – его любимец, лучший любимец.
– Он любит вас всех, но любит по-своему, – сказала мистрис Дель.
– А любит ли он вас? Вот в чем вопрос, – сказала Лили. – Мы можем простить ему все его неприятные поступки в отношении к нам, все его грубые слова, потому что он считает нас за детей. Сто фунтов стерлингов, которые он дарит Белл, не доставят комфорта в этом доме, если он будет господствовать над вами. Если сосед обходится по-соседски, то близкое соседство очень приятно. Но дядя Кристофер никогда не обходился по-соседски. Он всегда хотел быть для нас более чем дядей, на том основании, что в отношении к вам мог быть менее чем братом. Белл и я всегда чувствовали, что отношения его на таких условиях не заслуживают уважения.
– Я так начинаю чувствовать, что мы сами были несправедливы, – сказала мистрис Дель. – Но, по правде сказать, мне никогда не приводилось видеть, чтобы он принимал это дело так близко к своему сердцу.
По уходе Белл, мистрис Дель и Лили вовсе не имели расположения продолжать с особенной энергией работу, которой были заняты в течение нескольких предшествовавших дней. В этой работе, при начале упаковки вещей, была жизнь и возбуждение, но теперь она сделалась утомительною, скучною, неприятною. Впрочем, уже так много было сделано, что оставалось только окончательно завязать узлы, закрепить ящики и прибрать разную утварь, которая не ранее могла быть упакована, как в минуту отъезда. Сквайр сказал, что распаковать вещи гораздо легче, чем упаковать, и мистрис Дель, проходя между корзинами и ящиками, начинала размышлять, до какой степени было бы приятно, если бы вздумалось расстановить и уложить все вещи на прежние места. Она ни слова не сказала об этом Лили, в свою очередь, и Лили, какие бы там ни были мысли ее по этому предмету, не сделала своей матери ни малейшего намека.
– Мне кажется, Хопкинс больше всех других будет сожалеть о нашем отъезде, – сказала Лили. – Хопкинсу некого будет бранить.
В этот самый момент Хопкинс появился у окна гостиной и сделал знак, что ему нужно войти.
– Обойди кругом, – сказала Лили. – Теперь еще слишком холодно, чтоб открывать окно. Мне всегда нравится приглашать его в дом, перед стульями и столами он кажется каким-то ягненком, – а может статься, и ковры производят на него подобное действие. На садовых дорожках он страшный тиран, а в теплицах готов истормошить всякого!
При входе в гостиную Хопкинс своей наружностью и манерами оправдывал до некоторой степени слова Лили. Ни в том, ни в другом отношении он не был изящен и, по-видимому, оказывал стульям и столам уважение, которого они как будто ожидали от него.
– Так вы решительно собираетесь, мама? – спросил он, глядя прямо в ноги мистрис Дель.
Так как мистрис Дель не нашлась что ответить, то за нее ответила Лили:
– Да, Хопкинс, мы уезжаем через несколько дней. Надеюсь, мы будем видеться в Гествике?
– Гм! – продолжал Хопкинс. – Значит, вы уезжаете! Я никак не думал, мисс, что дело дойдет до этого, никак не думал, да и не следовало думать, не мое дело и говорить об этом.
– Ты знаешь, Хопкинс, что переселения необходимы для людей, – сказала мистрис Дель, употребив тот же самый довод, который Имс привел в оправдание своего выезда из дома мистрис Ропер.
– Так, мама, совершенно так, не мое дело рассуждать об этом, но я вот что скажу: я живу у сквайра с ребячества, то есть всю свою жизнь, с тех пор как родился, как вам известно, мистрис Дель, и с тех пор много дурного попадалось на глаза, но хуже этого ничего не видел.
– Перестань, Хопкинс.
– Хуже всего, мама, право, хуже всего! Это убьет нашего сквайра! Тут нет никакого сомнения. Это просто будет смертью старику.
– Хопкинс, ты начинаешь говорить пустяки, – сказала Лили.
– Очень хорошо, мисс. Я не говорю, что это не пустяки, только вы увидите. Вот и мистер Бернард, он тоже уехал и, по всем рассказам, мало думает о здешнем месте. Говорят, он отправляется в Индию. Мисс Белл выходит замуж, это прекрасно, почему же и не выйти? Да почему бы и вам не выйти, мисс Лили?
– Подожди, Хопкинс, может статься, выйду и я.
– Мисс Лили, не было еще такого дня, как настоящий, и я вот что скажу: я отдал бы все деньги тому, кто омрачит его.
Эти слова, высказанные Хопкинсом с особенным одушевлением, были совершенно непонятны для Лили и мистрис Дель, которая задрожала, выслушав их, и не сказала ни слова, чтобы вызвать объяснение.
– Впрочем, – продолжал Хопкинс, – все это может быть, ведь вы, как и все прочие, в руках Провидения.
– Совершенно так, Хопкинс.
– Зачем же ваша мама хочет уехать отсюда? Ведь замуж она не выходит. Здесь, значит, дом, здесь она, здесь и сквайр: зачем же ей-то уезжать? Это, как хотите, не к добру. Точно как ломка какая идет, как будто никому не было ничего хорошего. Я никогда не уезжал и терпеть этого не могу.
– Что же делать, Хопкинс, – сказала мистрис Дель. – Теперь это решено и, я боюсь, не может быть перерешено.
– Решено! Гм! Скажите мне это: неужели вы думаете, мистрис Дель, что он долго проживет здесь один, не имея ни души, кому бы сказать сердитое словцо, кроме разве меня да Дингльса, а Джолиф хуже всякого – страшно сердит сам. Разумеется, ему этого не вынести. Если вы уедете, мистрис Дель, мистер Бернард будет здесь сквайром меньше чем через год. Он приедет из Индии, вот что!
– Не думаю, Хопкинс, чтобы это огорчило так моего деверя.
– Ах, мама, вы не знаете его, не знаете, как я, не знаете всех его капризов и причуд. Я знаю его, как старую яблоню, которую растил сорок лет. В этих старых деревьях много есть червоточины, – многие говорят, что они даром только занимают место, но я знаю, где течет сок, где покажется цвет, где будет самое сладкое яблоко. Не следует раньше времени убивать старые деревья, если хорошо с ними обходиться, так они все будут жить.
– Надеюсь, что Бог продлит жизнь нашему родственнику, – сказала мистрис Дель.
– В таком случае, мама, не торопитесь уезжать в Гествик. Вы знаете, Дели ничего не любят делать торопливо. Не мое дело, мама, и говорить об этом. Я пришел сюда только за тем, чтобы узнать, какие цветы желаете взять с собой из теплицы.
– Никаких, Хопкинс, благодарю тебя, – сказала мистрис Дель.
– Он сам приказал мне отобрать самые лучшие, и я должен исполнить приказание.
Говоря это, Хопкинс сделал головой движение, которым намекал на сквайра.
– У нас нет места для них, – сказала Лили.
– Я должен прислать, мисс, хоть несколько горшков, все-таки будет веселее. Я думаю, там будет очень скучно. И опять хоть бы доктор – у него нет того, что можно бы назвать настоящим садом, – а так, маленький палисадник позади дома.
– Во всяком случае, мы не хотим разорять это дорогое старое место, – сказала Лили.
– Стоит ли об этом беспокоиться? Сквайр будет так огорчен, что пустит в сад овец или просто велит разорить его. Увидите, если он не велит. Что касается здешнего дома, то он запустеет, когда вы уедете. Вы не думайте, что он отдаст его в аренду чужим людям! Сквайр ни за что этого не сделает.
– Ах боже, боже! – воскликнула мистрис Дель, как скоро Хопкинс удалился.
– Что с вами, мама? Он добрый старик, и, конечно, слова его не должны вас огорчать.
– Право, не знаешь, что делать. Я не хотела быть эгоисткой, но, мне кажется, мы делаем самую эгоистическую вещь в мире.
– Нет, мама, тут нисколько нет эгоизма. Кроме того, не вы это затеяли, а мы.
– Знаешь ли, Лили, я тоже разделяю чувство насчет нарушения старого образа жизни, о котором говорит Хопкинс. Я думала, что буду радоваться, покинув это место, а теперь, когда наступило время покидать, мне становится страшно.
– Вы хотите сказать, что раскаиваетесь?
Мистрис Дель не отвечала сразу, она боялась употребить слова, от которых нельзя было отказаться. Наконец она сказала:
– Да, Лили, кажется, я раскаиваюсь. Я думаю, мы сделали нехорошо.
– В таком случае что же нам мешает переделать? – сказала Лили.
В тот день собрание за обедом в гествикском господском доме было не очень блестящее, все же граф употреблял все свои усилия, чтобы гости были довольны и веселы. Но веселье что-то не прививалось к его дому, который, как мы уже видели, был резиденцией, далеко не похожей по своему свойству на резиденцию другого графа в замке Курси. Леди де Курси во всяком случае умела принимать и угощать гостей, хотя выполнение этого труда возбуждало трудные вопросы в ее домашнем быту. Леди Джулия не понимала этого, но зато от леди Джулии никогда не требовали отчета в издержках на наем лишней прислуги, ее не спрашивали по два раза в неделю, какой ч… заплатит по винному погребу? Относительно лорда Дегеста и леди Джулии, они были очень довольны и рады гостям, но относительно гостей, я должен допустить, что им было скучно. От собравшихся гостей за обедом графа нельзя было ожидать особенного одушевления. Сквайр был человек, который редко посещал собрания и вовсе не умел занимать стол, полный гостей. При настоящем случае он сидел подле леди Джулии, и от времени до времени обращался к ней с немногими словами о состоянии сельского хозяйства. Мистрис Имс страшно боялась всех вообще и графа в особенности, подле которого сидела, и беспрестанно величала его «милордом», обнаруживая своим голосом, что ее тревожат даже звуки этого голоса. Мистер и мистрис Бойс тоже были за столом, сам он сидел по другую сторону леди Джулии, а жена его – по другую сторону графа. Мистрис Бойс всеми силами старалась показать свою непринужденность и говорила, быть может, больше других, но этим самым страшно надоела графу, так что на другой день он сказал Джонни Имсу, что эта гостья хуже быка. Священник кушал с аппетитом, но между тем прежде и после затрапезной молитвы говорил очень мало. Он был тяжелый, умный, но скучный человек, который занят был собой и своими соображениями.
– Чудесное было тушеное мясо, – сказал он по возвращении домой. – Почему у нас не могут приготовить точно так же?
– Потому что мы не платим нашей поварихе шестидесяти фунтов в год, – отвечала мистрис Бойс.
– Женщина, которой платят шестнадцать фунтов, точно так же сумеет приготовить блюдо, как и женщина, которой платят шестьдесят, стоит только поучиться, – сказал муж.
Сам граф обладал некоторого рода веселостью. Он был прост и откровенен, что делало его приятным собеседником вдвоем, но не в обществе. Джон Имс видел в нем самого веселого старика его времени, старика с наивностью ребенка, с постоянным расположением шутить. Но этот дух, хотя и обнаруживался перед Джонни Имсом, вовсе был неуместен в присутствии матери Имса и его сестры, в присутствии оллингтонских – сквайра, его племянницы, пастора и его жены. Граф был скорее стеснен и далеко не занимателен за своим столом. Доктор Крофтс, состоявший тоже в числе избранных, занимал место, принадлежавшее ему теперь по праву, подле Белл Дель, и без всякого сомнения, был очень счастлив, но и нареченная чета мало сообщала веселости. Джон Имс сидел между сестрой и священником и был очень недоволен своим местом. Имея напротив себя счастливую чету, он завидовал блаженству доктора и вследствие отсутствия Лили воображал себя несчастным.
Вообще обед был очень скучный, как и все подобные обеды в гествикском господском доме. Бывают дома, в которых, в обыденном их состоянии, хозяйство ведется нельзя сказать, чтобы скудно, неудовлетворительно, в которых жизнь проходит довольно весело, но которые не могут давать званых обедов и даже никогда не позволяют себе делать этой попытки. Хозяева таких домов знают это и боятся обеда, который решаются дать, как боятся его друзья, которым он дается. Они знают, что приготовляют для своих гостей вечер невыносимой скуки и что самим придется переносить долгие часы тяжелой пытки. Знают они это и все-таки делают. К чему же этот длинный стол, этот огромный запас хрусталя, ножей и вилок, если их никогда не употреблять? Подобный-то вопрос и производит все это бедствие и некоторые другие, тесно с ним связанные. При настоящем случае были, впрочем, некоторые извинения. Сквайр и его племянница были приглашены по особенному случаю, так что их присутствие оказывалось необходимым. Доктор нисколько не вредил собранию. Поводом к приглашению мистрис Имс и ее дочери было, весьма естественно, расположение к Джонни Имсу. Вся ошибка заключалась в приглашении священника и его жены. Им не было никакой надобности быть за обедом графа, не было никакого основания к их приглашению, кроме разве того, что обед был званый. Мистер и мистрис Бойс, как лишние гости, стесняли всех и разрывали дружеский кружок. Леди Джулия поняла, что сделала ошибку, лишь только послала к ним записку.
В тот вечер не было сказано ничего, что имело бы связь с нашей историей. Не было сказано ничего, относившегося до чего-нибудь. Главная цель графа Дегеста состояла в том, чтобы сблизить сквайра с молодым Имсом, но на таких скучных собраниях люди никогда не сходятся. Хотя они близехонько друг от друга попивают портвейн, но в уме и чувствах разделены, как полюсы. Когда за мистрис Имс приехала наемная гествикская коляска, а за мистером и мистрис Бойс – их собственный фаэтон, все почувствовали большое облегчение, но скука уже так сильно овладела оставшимися, что реакция в тот вечер была невозможна. Сквайр зевал, граф тоже зевал, и этим заключился вечер.
Глава LIV ВТОРОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ГЕСТВИКСКОГО МОСТИКА
Белл объявила, что ее сестра будет весьма рада увидеть Джонни Имса в Оллингтоне, и Джонни ответил, что не замедлит туда съездить. После этих обоюдных заявлений Джонни на следующее утро после званого обеда, за завтраком, свободно мог говорить о своем визите в оллингтонский Малый дом.
– А мы, Дель, покатаемся немного и посмотрим, что делается на моей земле, – сказал граф и приказал оседлать лошадей, но сквайр предпочел прогулку пешком, и таким образом после завтрака они удалились.
Джонни до отъезда имел намерение поговорить с Белл и поэтому желал, чтобы она хотя на полчаса присоединилась к нему, но или леди Джулия была слишком строга в исполнении обязанностей хозяйки дома, или же, что всего вероятнее, Белл избегала встречи. Случая для этого свидания не представлялось, хотя Джонни целое утро просидел в гостиной.
– Вы лучше подождите завтрака, – сказала ему леди Джулия около двенадцати часов, но Джонни отказался и в течение следующих полутора часов переходил из комнаты в комнату. В течение этого времени он много думал о том, ехать ли ему в Оллингтон верхом или идти пешком. Если Лили подаст ему какую-нибудь надежду, он поехал бы назад торжествующим, как фельдмаршал. Лошадь тогда доставила бы ему удовольствие. Но если она не подаст ему ни малейшей надежды, если в то утро ему суждено получить совершенный отказ, тогда лошадь, при его печали, была бы для него чудовищем. При таких обстоятельствах ему оставалось отправиться туда через поля, останавливаться, где ему вздумается отдохнуть, бежать бегом, если бы это понадобилось. «Притом же она не то, что другие девушки, – думал он про себя. – Она не обратит внимания на сапоги, если они и будут немного замараны». Поэтому он решился идти пешком.
– Действуй смелее, – говорил ему граф. – Клянусь Георгом, чего тебе бояться тут? Тому больше и дается, кто больше просит. С застенчивостью ничего не выиграешь.
Каким образом граф знал столь многое, не имея никаких доказательств в успехах своих по этой части, я решительно не умею сказать. Имс принимал это за дельный совет и согласно ему решился действовать.
«Тут никакая решимость не поможет, – говорил он про себя, переходя одно из соседних полей. – Когда наступит решительная минута, я знаю, что буду дрожать перед ней, и знаю также, что она заметит это, не думаю, однако, что такое обстоятельство произведет в ней перемену».
В последний раз он видел ее на поляне позади Малого дома, в то самое время, когда страсть ее к Кросби была в самом разгаре. Имс пришел туда под влиянием безрассудного желания признаться ей в своей безнадежной любви, и она ответила ему, что любит мистера Кросби больше всего в целом мире. Действительно, в то время она так и любила его, но, несмотря на то, ответ ее показался ему жестоким. Зато и сам он был жесток. Он сказал ей, что ненавидит Кросби, назвал его «этим человеком» и дал слово, что никакие причины не принудят его войти «в дом этого человека». После того он ушел в мрачном настроении духа, пожелав Кросби всякого зла. Не замечательно ли в самом деле, что все невзгоды, о которых он подумал в ту минуту, обрушились на Кросби! Кросби потерял любовь! Он показал себя таким негодяем, что неприятно было произносить его имя! Его позорным образом поколотили! Но какая в том польза, если его образ все еще был дорог для сердца Лили?
– Я сказал ей тогда, что люблю ее, – говорил Джонни самому себе. – Хотя тогда я не имел права говорить ей этого. Во всяком случае, я имею право сказать ей то же самое теперь.
Подходя к Оллингтону, он не захотел идти через деревню к лицевому фасаду Малого дома, по улице, пересекавшей главную дорогу, но повернул в ворота церковной ограды, вышел на террасу сквайра и по окраине Большого дома пробрался в сад. Здесь он встретился с Хопкинсом.
– Как! Неужели это мистер Имс? – спросил садовник. – Мистер Джон, могу ли я осмелиться? – И Хопкинс протянул весьма грязную руку, которую Имс, разумеется, взял, вовсе не зная причины этой новой приязни.
– Я иду в Малый дом и выбрал себе эту дорогу.
– Так, так, эту ли дорогу, ту ли дорогу выберете вы, мистер Джон, всегда милости просим. Завидую вам, завидую вам больше, чем кому-либо завидовал. Если бы я мог схватить его за шиворот, я поступил бы с ним, как с гадиной, право, так! Он был настоящая гадина! Это говорил я всегда. Я всегда ненавидел его, мне он сделался противен с первого раза. Он смотрел на людей, как будто они не христиане, – не правда ли, мистер Джон?
– Я сам не очень любил его, Хопкинс.
– Уж вы-то, разумеется, не любили. Да и кто его любил? Только она, бедненькая барышня! Но теперь ей будет лучше, мистер Джон, гораздо лучше! Он был противный жених, не то что вы. Скажите-ка мне, мистер Джон, вы таки его порядочно… того… когда встретились с ним? Я слышал, что порядочно… два фонаря подставили, все рыло в крови!
И Хопкинс, несмотря на немолодые уже годы, выпрямился и принял боевую позу.
Имс перешел через маленький мостик, который, по-видимому, быстро клонился к разрушению, теперь, когда почти совсем кончались дни его употребления, к нему уже не прикасалась услужливая рука плотника, за мостиком Джонни остановился у того места, где в последний раз простился с Лили. Он оглянулся кругом, как будто надеясь увидеть ее тут, но в саду не видно было ни одной души, не слышно было ни одного звука. С каждым шагом, приближавшим его к той, которую искал, он становился более и более уверенным в безнадежности своих поисков. Никогда она не любила его, зачем же он осмеливается надеяться, что она полюбит его теперь? Он воротился бы назад, если бы не дал другим обещания, которое должен был исполнить. Он дал слово сделать это и должен был сдержать свое слово. Но все же он не смел надеяться на успех. В этом настроении духа Джонни тихо переходил поляну Малого дома.
– Ах боже мой! Сюда идет Джон Имс, – сказала мистрис Дель, увидев его из окна гостиной.
– Мама, пожалуйста, не уходите.
– Не знаю, может статься, будет лучше, если я уйду.
– Нет, мама, нет. К чему это поведет? Ровно ни к чему. Я люблю его как друга. Но все же это ничего не значит. Пусть он войдет сюда, мы будем ласковы, но вы, пожалуйста, не уходите, не оставляйте нас. Я знала, что он придет, и буду очень рада его видеть.
Мистрис Дель вышла в другую комнату, чтобы впустить гостя в стекольчатую дверь.
– У нас страшный хаос, Джон, не правда ли?
– Так вы действительно хотите переехать в Гествик?
– Кажется, действительно. Впрочем, сказать ли вам по секрету… только смотрите, это секрет, вы никому не говорите в гествикском доме, даже Белл этого не знает, мы вполовину уже решили распаковать все вещи и остаться на месте.
Имс до такой степени углублен был в свое собственное положение и так вполне занят трудностью задачи, которую следовало разрешить, что не мог принять известия мистрис Дель с тем вниманием, которого оно заслуживало.
– Распаковать все снова! – сказал он. – Это будет очень хлопотливо. Лили дома, мистрис Дель?
– Дома, она в соседней комнате. Пойдемте туда со мной вместе.
Джонни последовал за мистрис Дель и вскоре увидел себя в присутствии обожаемого предмета.
– Здравствуйте, Джон, как вы поживаете?
– Как вы поживаете, Лили?
Нам, впрочем, известно, как начинаются подобные встречи. Каждый желает казаться другому внимательным и нежным, каждый по-своему, но ни тот ни другой не знают, как выразить нежность в этом первом приветствии.
– Вы гостите в гествикском доме? – спросила Лили.
– Да, я пробуду там несколько дней. Вчера приехали туда ваш дядя и Белл.
– А слышали ли вы новость о Белл? – спросила мистрис Дель.
– О, как же! Мне сообщила ее Мэри. Я рад от души. Я всегда любил доктора Крофтса. Я не поздравил ее, полагая, что это еще секрет. Впрочем, вчера был там Крофтс, и если это секрет, то он не очень заботился о его сохранении.
– Нет, тут нет секрета, – сказала мистрис Дель, – подобные вещи я не люблю держать в секрете.
Говоря это, она вспомнила о помолвке Кросби, о которой рассказывалось всем вместе и каждому порознь, вспомнила и о последствиях, сопровождавших помолвку.
– Скоро будет свадьба? – спросил Джонни.
– Да, мы думаем, впрочем, ничего еще не решено.
– Это было так смешно, – сказала Лили. – Джемс, два года собиравшийся сделать предложение, хотел на другой же день кончить все дело!
– Нет, Лили, зачем говорить неправду!
– Ну что же, мама! Это так или почти так и было. Он думал, что все это можно сделать в одну неделю. Ах, Джон, мы очень счастливы. Я не знаю лучше человека, которого бы желала иметь своим братом. Я очень рада, что вы его любите, очень рада. Надеюсь, что вы всегда будете друзьями.
В этих словах выражалась небольшая нежность, как признавался Джон самому себе.
– Я уверен, что будем, если это ему нравится… то есть если мне случится видеться с ним. Для него я готов делать все, что могу, если он переедет в Лондон. Не правда ли, мистрис Дель, прекрасная была бы вещь, если бы он устроился в Лондоне?
– Нет, Джон, это была бы весьма дурная вещь. Да едва ли он и сам захочет увезти от меня мою дочь.
Мистрис Дель говорила о своей старшей дочери, но уже один намек на этот увоз вызвал на лицо Джонни Имса яркий румянец, заставил его вспыхнуть до корней волос и на минуту отнял у него способность говорить.
– А вы думаете, что в Лондоне он будет иметь лучшую карьеру? – спросила Лили под влиянием большого присутствия духа.
Она показала этим недостаток благоразумия при выражении желания, чтобы мать не оставляла их одних, мистрис Дель сама поняла это в скором времени. Дело должно было решиться само собою, и решению этому не могли помешать никакие предупредительные меры, вроде того как, например, вынужденное присутствие мистрис Дель. Мистрис Дель понимала это, кроме того, она чувствовала, что Джонни имеет право на предоставление ему случая для защиты его собственного дела. Могло быть, что подобный случай ничего бы не доставил ему, тем не менее он имел право на него, выразив свое желание. Как бы то ни было, мистрис Дель не смела встать и выйти из комнаты. Лили просила ее не делать этого, а в настоящий период их жизни все просьбы, все требования Лили были священны. Несколько времени они продолжали говорить о Крофтсе и потом, когда предмет этот истощился, обратились к своему вероятному, или, как теперь оказывалось, невероятному, переезду в Гествик.
– Не слишком ли будет опрометчиво, мама, сказать, что мы не поедем, – заметила Лили. – Не дальше как вчера вы только намекнули на это. Дело в том, Джон, вчера зашел к нам Хопкинс и разговорился с самым удивительным красноречием. Из нас никто не осмелился возражать Хопкинсу. Он заставил нас расплакаться, до такой степени он был патетичен.
– Он и со мной разговаривал, – сказал Джон, – когда я проходил через сад сквайра.
– О чем же он говорил с вами? – спросила мистрис Дель.
– И сам не знаю, так, о чем-то весьма обыкновенном.
Джон, однако же, помнил очень хорошо все, что говорил ему садовник. Знала ли Лили о встрече его с Кросби? И если знала, то в каком свете смотрела на нее?
Таким образом они просидели с час времени, а между тем Имс ни на дюйм не приблизился к делу. Он дал себе слово не выходить из Малого дома, не сделав предложения Лили быть его женой. Ему казалось, что, не исполнив этого, он будет виноват перед графом в обмане. Лорд Дегест открыл ему двери своего дома, пригласил к себе всех Делей и принес себя в жертву на алтарь скучного званого обеда, не говоря уже о более легкой жертве, принесенной им в денежном отношении собственно для того, чтобы облегчить ему успех в его предприятии. При таких обстоятельствах Джонни был слишком честен, чтобы не сделать этого, какие бы затруднения ни представлялись на его пути.
Джон просидел в гостиной с час, а мистрис Дель продолжала оставаться со своей дочерью. Не встать ли ему и не попросить ли Лили надеть шляпку и выйти с ним в сад? При этой мысли он действительно встал и взял свою шляпу.
– Пойду обратно в Гествик, – сказал он.
– Вы очень добры, Джон, что пошли пешком так далеко, чтобы повидаться с нами.
– Я всегда любил ходить, – отвечал Джонни. – Граф хотел, чтобы я поехал верхом, но в такой знакомой местности, как эта, я предпочитаю прогулку пешком.
– Не хотите ли рюмку вина на дорогу?
– О нет, благодарю. Я думаю пуститься через поля сквайра и выйти на дорогу у белых ворот. Тропинка тут совсем сухая.
– Да, правда, – сказала мистрис Дель.
– Лили, не желаете ли вы прогуляться со мной до этого мест а?
При этой просьбе мистрис Дель бросила на дочь умоляющий взгляд.
– Пройдемтесь, пожалуйста, – продолжал Джонни. – Сегодня же такой прекрасный день для прогулки.
Предлагаемая тропинка пересекала то самое поле, на которое Лили уводила Кросби, чтобы предложить ему позволение отказаться от своего обязательства. Возможно ли ей идти на эти места с другим обожателем?
– Нет, Джон, – сказала она. – Сегодня я не могу. Я чувствую усталость и лучше не пойду.
– Это для тебя необходимо, – сказала мистрис Дель.
– Мама, я не вижу особенной необходимости, притом же мне придется идти назад одной.
– Я провожу вас назад, – сказал Джонни.
– Вот это прекрасно, а потом я вас опять провожу. Нет, Джон, действительно, к прогулке сегодня у меня вовсе нет расположения.
При этом Джонни снова положил свою шляпу.
– Лили… – сказал он и остановился.
Мистрис Дель отошла к окну и стала спиной к дочери и гостю.
– Лили, я пришел сюда, собственно, за тем, чтобы переговорить с вами, мало того, чтобы видеться с вами, я нарочно приехал из Лондона.
– В самом деле, Джон?
– Уверяю вас. Вы хорошо знаете все, что я намерен высказать вам. Я любил вас прежде, чем он увиделся с вами, и теперь, когда он изменил вам, я люблю вас сильнее прежнего. Милая Лили! – И он протянул ей руку.
– Нет, Джон, нет, – отвечала Лили.
– Неужели это «нет» будет вечно?
– Как же это может быть иначе? Ведь вы не захотите жениться на мне, если я люблю другого.
– Но он изменил вам. Он женился на другой.
– Я не могу переменить себя потому только, что он переменился. Если вы так снисходительны ко мне, то оставьте этот разговор.
– Но вы, Лили, так неснисходительны ко мне!
– Нет, неправда. Я всегда была и желаю быть снисходительной ко всем! Джон, вот вам моя рука. Это рука друга, который вас любит и будет любить. Милый Джон! Я готова сделать для вас все, решительно все, кроме этого.
– Я прошу только одного, – сказал Джонни, не отпуская руки Лили и глядя немного в сторону.
– Нет, и не просите. Разве моя неудача в жизни не хуже вашей? Разве я меньше вашего разочарована? Я не могла получить желаемого предмета, хотя исполнение желаний моего сердца было, по-видимому, так близко. Я не могу иметь того предмета, но я знаю, что есть еще другие предметы, и не позволю себе унывать и сокрушаться.
– Вы тверже меня, – сказал Джон.
– Не тверже, но увереннее. Постарайтесь сделаться таким же уверенным, как я, и вы тоже будете тверды. Не так ли это, мама?
– Я желаю, чтобы это было иначе, желаю, чтобы было иначе! Если ты можешь подать ему какую-нибудь надежду…
– Мама!
– Скажите мне, что я могу приехать через несколько времени… через год.
– Я не могу и этого сделать. Собственно, за этим вам не стоит приезжать. Помните, что я однажды сказала вам в саду? Я сказала, что люблю его больше всего света. То же самое скажу вам и теперь: люблю его больше всего света. Могу ли я после этого подать вам какую-нибудь надежду?
– Но, Лили, это не будет же навсегда.
– Навсегда! Почему бы ему не принадлежать мне, точно так же, как и ей, навсегда? Джон, если вы понимаете, что значит любить, вы больше ничего не скажете. Я говорила с вами об этом откровеннее, чем с кем-либо другим, откровеннее даже, чем с мама, потому что мне хотелось, чтобы вы поняли мои чувства. Я поступила бы бесчестно в моих собственных глазах, допустив любовь к другому человеку после… после… словом, я смотрю на себя, как будто я за ним замужем. Помните, я не обвиняю его. Мужчины смотрят на подобные вещи совершенно иначе.
Лили не отнимала руки своей и, произнося последнюю речь, сидела в старом кресле, сосредоточив взгляд свой в одной точке на полу. Она говорила тихим голосом, медленно, почти с затруднением, но, несмотря на то, каждое слово произносилось так ясно, так отчетливо, что Имсу и мистрис Дель нельзя было бы не запомнить их. После такого признания Имсу казалось невозможным продолжать свое домогательство. Для мистрис Дель это были страшные слова, намекавшие на всегдашнее вдовство и указывавшие на страдания далеко обширнее тех, которые она предвидела. Лили говорила правду, что никогда и никому не высказывалась так откровенно, как Джонни Имсу, никогда не делала попытки выяснить свои чувства. «Я поступила бы бесчестно в моих собственных глазах, позволив себе полюбить другого!» Это были страшные слова, и с тем вместе удобопонятные. Мистрис Дель догадалась, что Имс поторопился, что граф и сквайр приступили к излечению раны слишком скоро после ее нанесения, что для полного выздоровления ее дочери требовалось время и время. Но попытка была сделана, Лили принудили произнести слова, забыть которые трудно было бы ей самой.
– Я знал, что это так будет, – сказал Джонни.
– Да! Вы знали это, потому что ваше сердце понимает мое. И вы не будете сердиться на меня, не скажете мне таких обидных, таких жестоких слов, какие вы однажды позволили себе. Джонни! Мы будем вспоминать друг друга, будем молиться друг за друга и… всегда любить друг друга. При встрече будем радоваться, что видим друг друга. Милее и дороже вас не будет у меня другого друга. Вы так верны, так благородны! Когда вы женитесь, я скажу вашей жене, какое беспредельное благословение даровал ей Бог.
– Вам никогда этого не придется сделать.
– Непременно придется. Я понимаю, что вы хотите сказать, и все-таки придется.
– Прощайте, мистрис Дель, – сказал Джонни.
– Прощайте, Джонни. Не будь она в таком состоянии, вы имели бы на своей стороне все мои лучшие желания в этом деле. Я всегда любила вас, как сына, как сына и буду любить.
И мистрис Дель поцеловала его в щеку.
– Я тоже буду любить, – сказала Лили, снова подав ему руку. Джонни с унынием посмотрел ей в лицо, как будто он надеялся, что и Лили поцелует его, пожал, потом поцеловал ее руку и, не сказав ни слова, взял шляпу и вышел из комнаты.
– Бедняжка! – сказала мистрис Дель.
– Им не следовало бы позволять ему идти сюда, – заметила Лили. – Впрочем, они не понимают. Они воображают, что я лишилась игрушки, и, побуждаемые своим добродушием, хотят подарить мне другую.
Вскоре после того Лили ушла в свою комнату и просидела там несколько часов.
Джонни вышел через уличную дверь и повернул на кладбище, а оттуда в поле, по которому приглашал Лили прогуляться. Он не раньше начал размышлять о свидании с Лили, как оставив за собою довольно далеко дом сквайра. Проходя между надмогильными памятниками, он перед одним остановился и прочитал на нем надпись, как будто она была для него интересна.
С минуту он простоял у церковной башни, любовался ее часами, потом вынул свои карманные часы и сверил их с башенными. Он бессознательно старался отстранить от своих мыслей события последней сцены, и минут на пять, на десять ему это удалось. Он вспомнил своего начальника, сэра Рэфля Бофля, вспомнил его письма и не мог удержаться от внутреннего смеха, представив себе фигуру курьера Рафферти, подающего башмаки. Более полумили прошел он от кладбища, прежде чем решился остановиться и сказать себе, что испытал неудачу в достижении главной цели своей жизни.
Да, он испытал неудачу, с горькими упреками он признавался самому себе, что испытал неудачу теперь и навсегда. Он говорил самому себе, что навязывал Лили в ее горести свою грубую любовь, и упрекал себя в том, что поступил не только глупо, но и невеликодушно. Его друг граф, в шутках своих, называл его победоносным героем и до такой степени вскружил ему голову, что он нисколько не сомневался в успехе своего искательства. Теперь же, когда он убедился, что успех невозможен, он почти возненавидел графа за то, что он довел его до такого состояния. Вот вам и победоносный герой! Ну, как ему явиться теперь в гествикский дом со своим унынием, с своим отчаянием? Все знали, зачем он отправился в оллингтонский Малый дом, и все должны узнать теперь о его неудаче. Каким образом позволил он себе сделаться таким глупцом, пускаясь на подобное предприятие в глазах такого множества зрителей. Не доказывало ли это самое, что он рассчитывал на полный успех, что он думал воротиться с торжеством, но отнюдь не с более вероятным позором? Он позволил другим одурачить себя и потом сам до такой степени одурачил себя, что теперь надежда и счастье рушились для него навсегда. Как бы ему убежать отсюда немедленно, воротиться в Лондон? Но как это сделать, не сказав никому слова? Вот мысли, которые столпились с самого начала в его голове.
Джонни перешел дорогу в конце имения сквайра, где Оллингтонский приход отделяется от прихода аббата Геста, в котором стоит дом графа, и взял направление вдоль кустарника, окаймлявшего поле, на котором они встретились с быком, к густому лесу, позади парка, да, хорошо, что он не поехал верхом. Обратная поездка его по большой дороге, при настоящих обстоятельствах, была для него почти невозможна, он даже считал невозможным возвращение свое в дом графа. Сумеет ли он держать себя с обыкновенным спокойствием в глазах двух стариков? Не лучше ли ему отправиться в дом матери, послать оттуда записку к графу и уехать в Лондон? Размышляя таким образом и все еще не сделав окончательного решения, он пошел по лесу, спустился по отлогости холма, обращенной к городу, и снова очутился на пешеходном мостике, перекинутом через небольшой ручей. Он остановился на нем, закрыв рукой вырезанные буквы, чтобы они не бросались в глаза. «Какой был я осел, всегда и во всем»! – сказал он самому себе.
Джонни вспоминал теперь не только свое последнее разочарование, но и всю свою прошедшую жизнь. Он вспомнил о своем ребячестве, о той отсталости с его стороны в переходе в мужество, которая лишила его возможности предложить Лили любовь свою, прежде чем она попала в когти этого ненавистного Кросби. Подумав об этом, он дал себе слово еще раз поколотить Кросби при первой с ним встрече, но так поколотить, чтобы отправить его на тот свет, если это окажется возможным и если его самого не попросят последовать за ним. Не жестоко ли в самом деле для них обоих, для Лили и для него, переносить такое наказание из-за низости этого человека? Простояв таким образом на мосту с четверть часа, Джонни вынул из кармана ножик и глубокими грубыми надрезами в дереве сгладил с перил имя Лили.
Едва только кончил он эту работу и все еще смотрел на воду, уносившую стружки, как услышал, что кто-то тихо подошел к нему, обернувшись назад, он увидел на мостике леди Джулию. Она была подле него и успела заметить его рукоделье.
– Не обидела ли она вас? – спросила леди Джулия.
– Ах, леди Джулия!
– Не обидела ли она вас чем-нибудь?
– Она отказала мне, и теперь все кончено.
– Она могла вам отказать, но из этого еще не следует, что все кончено. Мне очень жаль, что вы срезали ее имя. Уж не думаете ли вы вырезать его и из вашего сердца?
– Никогда. Я бы хотел, если бы это было возможно, но в том-то и дело, что невозможно.
– Берегите его как величайшее сокровище. В последующие годы вашей жизни оно будет для вас источником радости, а не печали. Любить искренно, хотя бы вы и любили тщетно, будет для вас утешением даже в то время, когда вы достигнете моих лет. Это будет значить, что вы имеете сердце.
– Не знаю. Я не желал бы иметь его.
– И вот еще что, теперь я понимаю ее чувства, я всегда думала, что вы рано приступаете к делу. Придет время, когда она гораздо лучше размыслит о ваших желаниях.
– Нет, нет, никогда. Теперь я начинаю узнавать ее.
– Если вы будете постоянны в своей любви, вы получите ее. Подумайте, как молода еще она и как молоды вы оба. Пройдет год, много два, вы одержите победу над ней, и тогда скажете мне, что я была добрая старуха для вас обоих.
– Нет, леди Джулия, не видать ее мне больше!
При этих словах по щекам Джонни Имса покатились слезы, он горько заплакал в присутствии доброй старухи. Она так кстати явилась к нему на помощь в минуты его глубокой печали. Леди Джулия невольным образом сделалась свидетельницей его слез, и потому он мог передать ей всю повесть своей скорби, в это время леди Джулия спокойно привела его к дому.
Глава LV ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ НЕ ОПРАВДАЛИСЬ
Читатели, может быть, припомнят, что молва предсказывала страшные вещи, которым предстояло случиться между фамилиями Хартльтон и Омниум. Леди Думбелло улыбалась каждый раз, когда с ней заговаривал мистер Плантаженет Поллисер. Мистер Поллисер признавался самому себе, что ему недостаточно одной политики и что для полноты его счастья необходима любовь. Лорд Думбелло сильно хмурился, когда глаза его останавливались на высокой фигуре наследника герцога, и сам герцог – этот потентат, обыкновенно столь могущественный в своем молчании, – сам герцог заговорил. Леди де Курси и леди Клэндидлем были положительно убеждены, что дело окончательно устроено. Поэтому я буду совершенно прав, если скажу, что в обществе открыто говорили о любви, непозволительной любви, между мистером Поллисер и леди Думбелло.
Общественные толки и молва пробрались в тот респектабельный сельский приход, в котором родилась леди Думбелло и из которого была взята в великолепные палаты, украшаемые в настоящее время ее присутствием. Молва достигла до пломстедского епископства, где все еще жил архидиакон Грантли, отец леди Думбелло, достигла до барчестерского деканства, где жили ее тетка и дед. Бесполезно было бы сообщать, чьи злые языки распространили такую молву в этих духовных местах, но нельзя не намекнуть, что замок Курси находился в недальнем расстоянии от Барчестера и что леди де Курси не привыкла скрывать своего дара слова.
Это была ужасная молва. И для какой матери подобная молва, относившаяся прямо к ее дочери, не должна быть ужасна? Она не могла звучать в ушах всякой другой матери страшнее, чем в ушах мистрис Грантли. Леди Думбелло, дочь, могла предаться свету вполне, но мистрис Грантли была предана ему только вполовину. Другая половина ее характера, ее привычек и ее желаний была посвящена предметам без сомнения прекрасным, – религии, человеколюбию и искреннему прямодушию. Правду надо сказать, что обстоятельства ее жизни принуждали ее служить Богу и мамону и что поэтому она восхищалась браком своей дочери с наследником маркиза, она восхищалась аристократическим возвышением своего детища, хотя и продолжала раздавать собственноручно Библии и катехизисы детям рабочих в пломстедском епископстве. Когда Гризельда сделалась леди Думбелло, мать боялась до некоторой степени, что ее дитя не в состоянии будет выполнить все требования нового своего положения, но дитя оказалось способным не только выполнить эти требования, но и достичь такой страшной высоты, такого громадного успеха, который доставлял матери большой восторг, а с тем вместе и большую боязнь. Ей отрадно было думать, что Гризельда была великою даже между дочерями маркизов, но в то же время она трепетала от одной мысли, как смертельно должно быть падение с подобной высоты, если только суждено быть падению!
Мистрис Грантли никогда, однако же, не мечтала о подобном падении! Она говорила архидиакону, и говорила довольно часто, что религиозные правила Гризельды были слишком твердо укоренены в ней, чтобы поколебать их внешними мирскими соблазнами, быть может, этим самым она хотела выразить свое убеждение, что учению пломстедского епископства дано такое прочное основание, что его не в состоянии поколебать всякое будущее учение Хартльбири. При таком убеждении, само собою разумеется, ей ни под каким видом не могла прийти в голову идея о побеге дочери из мужнина дома, она не допускала в своей дочери наклонности к тем порокам, в которые впадают иногда аристократические леди, не получившие столь прочного воспитания в правилах нравственности, служа сама так усердно, в одно и то же время, и Богу, и мамону, она никак не могла допустить, что дочь ее станет наслаждаться всеми удовольствиями света, не подумав о более возвышенных удовольствиях, о небесном блаженстве. И вдруг до нее доходит эта молва! Архидиакон сообщает ей хриплым шепотом, что ему советуют обратить внимание на эту молву, что слух, будто Гризельда намерена бросить мужа, носится по всему свету.
– Ничто в мире не заставит меня поверить этому, – сказала мистрис Грантли.
После того она сидела в гостиной и трепетала за дочь. Мистрис Арабин, жена декана, ходила по приходу и по секрету рассказывала ту же самую историю, прибавляя, что слышала это от мистрис Пруди, жены епископа.
– Эта женщина лжет, как отец лжи, – говорила мистрис Грантли, и трепетала еще больше, приготовляя свою работу для прихода, она думала об одной только дочери.
К чему приведет вся ее жизнь, к чему приведет все прошедшее в ее жизни, если это должно случиться? Она не хотела этому верить, а между тем трепетала еще более при мысли об экзальтации своей дочери и припоминала, что подобные вещи случались в том обществе, к которому Гризельда теперь принадлежала. О, не лучше ли было бы, если бы они не поднимали так высоко свои головы! С этой мыслью она одна бродила между надгробными памятниками соседнего кладбища и остановилась перед могилой, в которой лежало тело ее другой дочери. Неужели судьба этой дочери была счастливее!
Весьма немного говорено было по этому предмету между ней и архидиаконом, а между тем они, по-видимому, соглашались, что необходимо принять какие-нибудь меры. Он отправился в Лондон, виделся с дочерью, но не решился, однако, намекнуть ей об этом. Лорд Думбелло был сердит и весьма несообщителен. Как архидиакон, так и мистрис Грантли находили, что в доме их дочери для них не было комфорта, а так как они держали себя довольно гордо, то редко посещали своего зятя и не требовали от него особенного радушия. Однако он не мог не заметить, что в доме в Чарльстон-Гарденс было что-то не совсем ладно. Лорд Думбелло не был любезен с женой, в молчании, а не в словах прислуги было что-то угрюмое, оправдывавшее молву, которая достигла и до него.
– Он бывает там чаще, чем бы следовало, – сказал архидиакон. – Во всяком случае, я уверен в том, что эти посещения не нравятся Думбелло.
– Я напишу ей, – сказала мистрис Грантли. – Все-таки я ей мать: непременно напишу. Быть может, она и не знает, что говорят о ней люди.
И мистрис Грантли написала следующее:
«Пломстед, апреля, 186…
Милая моя Гризельда, иногда мне приходит на мысль, что ты до такой степени удалена от меня, что я едва ли имею право принимать участие в повседневных делах твоей жизни, и я знаю, что ты не имеешь возможности обращаться ко мне за советом или сочувствием, что, конечно, ты делала бы, выйдя замуж за джентльмена из нашей среды. Но я совершенно уверена, что мое дитя не забывает своей матери, оглядываясь на прошедшее, вспоминает ее нежную любовь, и что она позволит мне побеседовать с ней и подать помощь в трудные минуты жизни, как я подала бы ее всякому другому детищу, которого любила и лелеяла. Молю Бога, чтобы опасения мои относительно близости к тебе таких минут не имели никакого основания. Если же я не ошибаюсь, то, надеюсь, ты простишь мне мою заботливость.
До нас, более чем с одной стороны, дошли слухи, что…
О, Гризельда! Я решительно не знаю, какими словами скрыть от тебя и в то же время объяснить то, что должна написать. Говорят, что ты вступила в интимные отношения с мистером Поллисером, племянником герцога, и что муж твой сильно оскорблен. Может статься, лучше высказать тебе все откровенно, не считая за нужное предупреждать тебя, что я этому не верю. Говорят, будто бы ты намерена совершенно отдаться под покровительство мистера Поллисера. Милое дитя мое, ты можешь представить себе, с какою пыткою в душе я пишу эти слова, какую страшную пытку должна была перенести, прежде чем допустила мысль, на которую навели меня эти слова. Об этом открыто говорят в Барчестере, и твой отец, который был недавно в Лондоне и видел тебя, чувствует себя не в состоянии сказать мне что-нибудь успокоительное.
Я не скажу ни слова о том бедствии в светском отношении, которое постигнет тебя в случае твоего разрыва с мужем. Я уверена, что ты сама можешь видеть последствия столь ужасного поступка так же ясно, как я могу их представить тебе. Ты убьешь отца и сведешь в могилу мать, но еще не это я главнее всего хочу поставить на вид.
Ты оскорбишь твоего Бога самым тяжелым грехом, в какой только может впасть женщина, ты низвергнешь себя в бездну позора, раскаяние в котором перед Богом почти невозможно, прощение за который от мужа безнадежно.
Я не верю этому, мое милое, мое дорогое дитя, моя единственная дочь, я не верю тому, что говорили мне. Но как мать, я не могла оставить эту клевету без внимания. Если ты напишешь мне и скажешь, что это неправда, ты успокоишь меня, ты снова сделаешь меня счастливою, хотя, быть может, и упрекнешь меня за мое подозрение.
Поверь, что во всякое время и при всех обстоятельствах я останусь, как и всегда оставалась, твоею любящею матерью
Сузанна Грантли».Обратимся теперь к мистеру Поллисеру, который сидит в своей квартире в Альбани и размышляет о своей любви. Он получил предостережение от герцога, получил предостережение от агента герцога, и, наперекор сильному чувству независимости, начинал страшиться. Он рисковал всеми тысячами годового дохода и, может быть, всем, от чего зависело его положение в обществе. Несмотря, однако же, на страх, он решился поставить на своем. Статистика становилась для него сухой материей, а любовь – очаровательной. Статистика, думал он, будет иметь свою прелесть, если в нее вмешается любовь. Самая мысль о любви леди Думбелло, по-видимому, сообщала его жизни горечь, от которой он не знал, как отделаться. Правда, он еще не наслаждался истинным блаженством любви, его разговоры с леди Думбелло не были горячее тех, которые мы привели на этих страницах, но его воображение работало неутомимо, и теперь, когда леди Думбелло окончательно переехала в свой дом в Чарльстон-Гарденс, он решился признаться в своей страсти при первом удобном случае. Для него было очевидно, что свет ожидал от него этого поступка и что свет начинал уже обвинять его в медленности его действий.
С того времени, как начался сезон, он только раз был в Чарльстон-Гарденс, и при этом разе леди Думбелло удостоила его самой очаровательной улыбкой. Но ему удалось пробыть с ней наедине полминуты, и в эту полминуту он только и успел выразить свое предположение, что она останется теперь в Лондоне на весь сезон.
– О, да, – отвечала она, – мы не уедем до июля.
Поллисер тоже, из-за своей статистики, не мог уехать раньше июля. Поэтому ему предстояли два, если не три, месяца, в течение которых он мог маневрировать, заявить свои намерения и приготовиться к будущим событиям своей жизни. Однажды утром, когда он решился сказать леди Думбелло первое слово любви, и сказать его в тот же самый вечер в гостиной леди де Курси, где, он знал, леди Думбелло непременно его встретит, ему подали письмо. Поллисер узнал почерк, а по почерку и самое содержание письма. Оно было от агента герцога, мистера Фотергилла, который сообщал, что ему открыт у банкира кредит на известную сумму, но что относительно этого кредита на будущую четверть года герцог изъявил намерение отдать своему агенту особые приказания. Мистер Фотергилл больше ничего не писал, но Поллисер понял все. От такого известия вокруг сердца Поллисера оледенела кровь, но, несмотря на то, он решился сдержать свое слово быть на вечере у леди де Курси.
В то же самое утро получила письмо и леди Думбелло. Она читала его во время туалета, и одевавшие ее горничные не находили ни малейшего повода к подозрению, чтобы письмо взволновало ее сиятельство. Ее сиятельство редко волновалась, хотя и была весьма взыскательна во время одевания. Она внимательно прочитала письмо, и в то время как горничные убирали ей голову, углубилась в думы о тех известиях, которые заключались в письме. Она ни на кого не рассердилась, никого не благодарила. Она не чувствовала особенной любви к участвовавшим в этом деле. В ее сердце не отозвалось: «О, мой друг и муж!», или «О, мой обожатель!», или «О, моя мать! Друг моего детства!». Но она знала, что полученное известие заслуживало того, чтобы подумать о нем, и задумалась.
– Поклонитесь от меня лорду Думбелло, – сказала она, когда туалетные операции кончились, – и скажите ему, что я буду очень рада его видеть, если он пожалует ко мне во время завтрака.
– Слушаем, миледи.
И вслед за тем принесен был ответ, что его сиятельство изволит пожаловать.
– Густав, – сказала леди Думбелло, спокойно расположась в своем кресле, – я получила письмо от матери, которое ты должен прочитать. – И леди Думбелло передала мужу письмо. – Не знаю, что я сделала, чтобы заслужить такое подозрение с ее стороны, впрочем, она живет в провинции, и, вероятно, ее ввели в заблуждение какие-нибудь злые люди. Во всяком случае, ты должен прочитать его и сказать, что мне нужно делать.
Из этого мы можем заключить, что возможность для мистера Поллисера потерпеть крушение на этой скале была весьма отдаленна и что он, наперекор самому себе, избавлялся от гнева своего дяди. Лорд Думбелло взял письмо и прочитал его весьма медленно, обратясь во время чтения, по привычке, спиной к камину. Он читал очень медленно, и жена его, хотя и не смотрела ему прямо в лицо, но видела, как он краснел, волновался и выходил из себя. Она догадывалась, что скоро ей не получить ответа. Леди Думбелло уже замечала, что в последние три месяца обращение мужа совершенно изменилось, он сделался грубее к ней, когда они были одни, и менее внимателен, когда бывали в обществе, но она не жаловалась, ни одним словом не обнаружила ему, что замечает в нем перемену. Она знала причину такой перемены и после долгих размышлений решилась выжидать, когда причина эта разъяснится сама собою. Она говорила самой себе, что не сделала ни одного поступка, не сказала ни одного слова, которые бы оправдывали подозрение, и потому не хотела делать никакой перемены в образе своей жизни, не хотела даже показывать виду, что ей известно это подозрение. Но теперь, имея в руках письмо матери, она могла вызвать его на объяснение, не дав ему, впрочем, понять, что она знала, что он ее ревновал. Письмо матери было для нее величайшей помощью. Оно оправдывало настоящую сцену и давало ей возможность выиграть сражение по своему желанию. Что касается до побега с каким-нибудь Поллисером и отказа от того положения в обществе, которое она занимала, да что ей за надобность? О, она крепко держалась его! Ее мать, допуская опасения с этой стороны, обнаружила только незнание твердости характера своей дочери.
– Ну что, Густав? – наконец сказала она. – Ты скажи мне, что я должна отвечать на это или не должна вовсе отвечать.
Но Густав не приготовил еще никакого совета. Он снова развернул письмо и снова прочитал его, между тем как леди Думбелло налила себе чашку чаю.
– Это весьма серьезное дело, – сказал он.
– Да, серьезное. Если бы оно не было серьезно, я не получила бы от матери такого письма. Приди оно от кого-нибудь другого, я бы тебя не потревожила, разумеется, от кого-нибудь настолько же близкого к тебе, как и ко мне. Во всяком случае, ты не можешь сказать, что я поступила неблагоразумно.
– Неблагоразумно! Напротив, как нельзя благоразумнее, ты должна была сообщить мне об этом, ты должна говорить мне все. Будь они прокляты!
К кому относилось это проклятие, лорд Думбелло не объяснил.
– Для меня неприятнее всякого другого тревожить тебя, – сказала жена. – В последнее время я замечала…
– Разве он тебе говорил что-нибудь?
– Кто, Поллисер? Ни слова!
– Он ничего в этом роде не намекал?
– Никогда. Если бы он сделал это, поверь, я дала бы тебе понять, что его никогда не нужно впускать в мою гостиную.
Лорд Думбелло снова принялся читать письмо или, по крайней мере, показал вид, что снова читает его.
– Советы твоей матери весьма благонамеренны.
– О да, никто не говорит против этого. Она только немного безрассудна, что поверила этим сплетням, безрассудна потому, что принудила меня огорчить тебя.
– Ничего, это нисколько меня не огорчает. Клянусь Юпитером, нисколько. Но откровенно признаюсь тебе, Гризельда, об этом говорили другие, и действительно я считал себя несчастным. Теперь тебе все известно.
– Разве я была причиной твоего несчастья?
– Нет-нет, не ты. Не будь строга ко мне, когда я сказал тебе всю правду. Глупцы и негодяи распускали молву, которая огорчала меня. Они могут теперь распускать ее, пока не приберет их дьявол, но меня больше они не огорчат. Поцелуй меня, мой друг.
И лорд Думбелло протянул руки и обнял ее.
– Напиши поласковее своей матери и попроси ее приехать к нам в мае, хоть на недельку. Это будет самая лучшая вещь, тогда она все поймет. Однако двенадцать часов. До свидания.
Леди Думбелло убедилась, что победа была на ее стороне и что письмо матери было для нее драгоценно. Но так как объяснения по письму окончились, то она не считала за нужное еще раз прочитать его. Она спокойно скушала свой завтрак, читая французский журнал мод, потом села за письменный стол и написала следующий ответ:
«Неоцененная мама́!
Я признала за лучшее немедленно показать ваше письмо лорду Думбелло. Он сказал, что люди всегда были и будут наклонны к злословию, и, по-видимому, полагает, что остановить распространение этой молвы невозможно. Что касается до вас, то он нисколько не сердится, а напротив, просит вас и папа́ приехать к нам на недельку в конце будущего месяца. Пожалуйста, приезжайте, 23 числа у нас будет большой званый обед. К нам пожалует его высочество, и я уверена, моему папа́ будет приятно его увидеть. Заметили ли вы, что эти слишком высокие шляпки выходят из моды? Мне никогда они не нравились, имея сношения с Парижем, я распорядилась, чтобы их отменили. Надеюсь, вам ничто не помешает приехать сюда.
Преданная вам дочь, Г. Думбелло».Мистрис Грантли с минуты получения ответа полагала, что своими подозрениями обидела дочь. В этом ответе не было ни слова, которое опровергало бы клевету, значит, дочь ее виновата и не хочет оправдаться. Кроме того, в ответном письме было что-то особенное, производившее досаду и раздражение, хотя мистрис Грантли не могла объяснить себе причины этого чувства. Мистрис Грантли в письме к дочери излила почти всю свою душу, в полученном же ответе не было заметно даже малейшей частички души. При согласовании отношений к Богу и мамону, согласовании, которое мистрис Грантли с таким успехом вводила в воспитание своей дочери, этот орган почти вовсе не требовался, и он увял, или, вернее сказать, омертвел, собственно потому, что его никогда не употребляли.
– Я думаю, мы не поедем? – спросила мистрис Грантли, обращаясь к мужу.
– Разумеется, нет. Если ты хочешь съездить в Лондон, то я найму для тебя квартиру. Что касается до его высочества… При всем моем уважении к его высочеству, я вовсе не имею желания встретиться с ним за столом Думбелло.
Этим разговором и решился вопрос по поводу приглашения обитателей пломстэдского епископства в Лондон.
Куда же отправился Думбелло, так поспешно оставив жену свою в двенадцать часов? Не в парк, не в парламент и даже не в клуб. Он поехал прямо к лучшему ювелиру и купил у него великолепное колье, весьма редкое и интересное, состоявшее из трех рядов блестящих зеленых камней, оправленных в чистое золото, – колье, которое по весу и величине могло равняться с кирасой, украшенной драгоценными каменьями. В то время, когда леди Думбелло снова сидела за туалетом, приготовляясь к вечеру, муж ее поднес ей этот подарок, как знак возобновленного доверия, леди Думбелло, пересчитывая блестящие камни, торжествовала в душе, говоря самой себе, что она превосходно разыграла свои карты.
Но в то время как она считала эти камни, доставленные ей полным примирением с мужем, бедный Плантаженет Поллисер остался в совершенном неведении. О, если бы ему позволили посмотреть письмо мистрис Грантли, ответ на это письмо и подарок лорда Думбелло! Но все это было недоступно для него, и он, с сердцем, переполненным чувством ожидаемой любви, и с невольным трепетом от представлявшегося впереди разорения, покатил в своей карете в дом леди де Курси. После долгих размышлений он пришел к обыкновенному заключению: чему быть, тому не миновать, то следует сделать теперь. Он хотел признаться в любви и согласовать свое будущее с тем приемом, который будет оказан его признанию.
Когда он приехал к леди де Курси, комнаты были уже полны гостей. Это был первый бал зимнего сезона, и в Портман-сквэре собрался весь модный свет. Леди де Курси улыбалась, как будто муж ее находил особенное удовольствие давать балы, как будто положение старшего сына ее было самое счастливое, как будто интересы де Курси находились в отличном состоянии. Позади ее была леди Маргарита, кроткая в лице и озлобленная в душе, немного подальше от них стояла леди Розина, примирившаяся с блеском и тщеславием модного света, потому что бал назначен был без танцев. Были тут и замужние дочери леди де Курси, старавшиеся выказать свое достоинство, опираясь на несомненность своего происхождения. Был, конечно, и Гезби, счастливый в сознании своих родственных связей с графом. Кросби тоже находился в одной из гостиных, хотя и дал себе клятву никогда не ездить на балы графини и вдобавок навсегда отделиться от этого семейства. Но если бы он действительно отделился, что же тогда осталось бы для него? Поэтому-то он и приехал и теперь стоял в углу, одинокий и угрюмый, развлекая себя мыслью, что все в мире суета. Да, для суетного человека все будет суета, для человека без сердца и души все будет казаться бессердечным и бездушным.
Леди Думбелло находилась в одной из небольших внутренних комнат, она сидела на кушетке, которую ей предложили в первые минуты приезда и которой она не оставляла до самого отъезда. От времени до времени к ней подходили весьма благородные и весьма высокие особы, приходили, чтобы сказать ей одно слово и получить в ответ другое. Леди Думбелло не любила разговаривать, иногда только позволяла себе разговориться с мистером Поллисером.
Леди Думбелло знала, что мистер Поллисер непременно встретится с ней на этом балу. Он объявил это заранее и с особенною заботливостью спросил ее, намерена ли она принять приглашение графини.
– По всей вероятности, я буду, – сказала она, и несмотря на письмо матери и на подарок мужа, решилась сдержать свое слово.
Если бы мистер Поллисер «забылся», она нашлась бы, что сказать ему, как нашлась, что сказать мужу при получении письма. Забыться! Она была уверена, что мистер Поллисер уже несколько месяцев собирается забыться.
Он пришел к ней и стал перед ней, глядя на свои невыразимые. В его невыразимых не было, однако, ничего особенного, чтобы обратить на себя внимание леди Думбелло. Он не вздыхал, не устремлял на нее глаз, не старался придать им вида двух солнц в небесной тверди над ее главой, не бил себя в грудь, не рвал волос на голове. Мистер Поллисер воспитался в школе, которая учит восхищаться не иначе, как с самым невозмутимым спокойствием, и которая никогда не позволяет своим ученикам увлекаться чем-либо возвышенным или смешным. Он стоял и смотрел на свои невыразимые, но смотрел так прилично, что леди Думбелло не могла сказать, что он «забылся».
На кушетке оставалось пустое место подле леди Думбелло, и Поллисер раза два в Хартльбири занимал такое место. При настоящем случае он не мог этого сделать, не измяв ее платья. Она умела бы занять на кушетке еще больше пустого места, как умела бы и очистить его, если бы захотела. И так он стоял перед ней, леди Думбелло улыбнулась. Но что это была за улыбка! Холодная, как смерть, бездушная, ничего не говорящая, отвратительная в своей ничего не выражающей грации. Я ненавижу принужденные, заученные улыбки! Эта улыбка произвела в мистере Поллисере сильное смущение, но он не анализировал ее и продолжал свои действия.
– Леди Думбелло, – сказал он едва слышным голосом, – я с нетерпением ждал встречи с вами в здешнем доме.
– В самом деле? Да-да, я помню, вы спрашивали, приеду ли я сюда.
– Я спрашивал. Гм… леди Думбелло! – И он припомнил все те уроки, которые учили его избегать величественного и смешного. Но он еще не забылся, и леди Думбелло снова улыбнулась. – Леди Думбелло, мы живем в обществе, в котором так трудно выбрать минуту, когда бы можно было поговорить.
Мистер Поллисер полагал, что леди Думбелло отодвинет свое платье, но она этого не сделала.
– Не знаю, – отвечала она, – мне кажется, другому не часто встречается и надобность сказать очень многое.
– Ах, нет, не часто, это быть может… но когда встретится эта надобность! Как ненавижу я комнаты, битком набитые народом!
А между тем в Хартльбири он решил, что удобнейшим местом для его действий будут гостиные какого-нибудь большого лондонского дома.
– Скажите, пожалуйста, неужели, кроме этих балов, вы ничего больше не желаете?
– У меня много желаний, но признаюсь, я очень люблю большие собрания.
Мистер Поллисер оглянулся кругом, и ему показалось, что за ним никто не наблюдает. Он сообразил, что должно ему делать, и решился сделать это. В нем не было того присутствия духа, которое доставляет некоторым мужчинам возможность, нисколько не задумываясь, объясняться в любви и увозить своих Дульциней, но он обладал тем мужеством, при котором сделался бы презренным в своих собственных глазах, если бы не исполнил того, на что так торжественно решился. Он предпочитал исполнить это сидя, но так как в месте ему было отказано, то он должен был стоять.
– Гризельда, – сказал он, и надо допустить, что он принял тон весьма удачный. Слово «Гризельда» нежно прозвучало в ушах леди Думбелло, прозвучало, как мелкий дождь на мягкой поверхности, и не отозвалось в посторонних ушах. – Гризельда!
– Мистер Поллисер! – сказала Гризельда, и хотя она не сделала сцены, хотя только просто взглянула на него, но Поллисер увидел, что попал впросак.
– Неужели я не могу называть вас Гризельдой?
– Конечно не можете. Потрудитесь, пожалуйста, посмотреть, здесь ли мои люди.
Поллисер с минуту простоял, не зная, что делать.
– Посмотрите, здесь ли моя карета? – Отдавая это приказание, она еще взглянула на него, и только после этого взгляда в Поллисере явилось повиновение.
По возвращении он уже не застал ее на месте, но он слышал, как имя ее произнесено было на лестнице, видел даже ее голову в то время, как она грациозно спускалась с лестницы, среди множества провожавших. Он больше никогда не делал попытки объясняться в любви леди Думбелло, и положительно разрушил все надежды леди де Курси, мистрис Прудье и леди Клэндидлем.
Желая познакомить интересующихся судьбой мистера Поллисера с дальнейшим результатом этой неудавшейся попытки, познакомить тем более, что мне уже не придется в моем рассказе возвращаться к нему, я прошу у читателя позволения забежать немного вперед и сообщить, что делала для него фортуна к концу этого лондонского сезона. Всем известно, что в ту весну леди Глэнкора Макклюски была вывезена в свет, как всем известно также, что она, как единственная дочь лорда Энльза, считалась наследницею огромного богатства. Правда, что родовые имения Скэй, Стаффа, Молл, Арран и Бют, вместе с титулом и округами Кэйгнес и Россмир, перешли к маркизу Аулдрики, но именья в Фэйфе, Абердине, Перте и Кинкардиншэйре, занимающие большую часть этих округов, угольные копи в Ланнарке, а также огромное имение в самом Глазгове достались леди Глэнкора. Это была хорошенькая девушка, с светлыми голубыми глазками, с волнистыми белокурыми волосами, весьма приятными для глаз. Леди Глэнкора была небольшого росту, и в ее счастливом круглом личике недоставало, быть может, только высшей прелести женской красоты. Улыбка никогда не покидала это личико, так что особенно приятно было смотреть на него, непринужденность, с которою она танцевала, разговаривала и принимала участие во всех удовольствиях, была просто очаровательна. Она была влюблена в лошадь, на которой каталась, положительно влюблена. У нее была маленькая собачка, которую она любила не меньше лошади. Подруга ее юности, Сабрина Скотт. О, что это была за девушка! А ее кузен, маленький лорд Эйльз, наследник маркиза, был такой милашка, что леди Глэнкора всегда осыпала его поцелуями. К сожалению, ему было только шесть лет, так что не представлялось никакого вероятия, что богатые имения их могли бы слиться вместе.
Несмотря на очаровательную красоту, леди Глэнкора даже при первом выезде в свет, наделала своим друзьям много беспокойства и почти довела до отчаяния маркиза Аулдрики. В Лондоне в то время был один чрезвычайно красивый мужчина, который страшно мотал деньги, не менее страшно любил водку, которого все знали в Ньюмаркете, но которому никто ни в чем не верил, который, как говорили, заражен был всеми пороками и которого отец не пускал к себе на глаза. С этим-то господином леди Глэнкора никогда не уставала танцевать. Однажды утром она объявила своему кузену-маркизу с разгоревшимися глазками, ведь круглые голубые глазки тоже могут разгораться, что Бурго Фицджеральд грешнее самого греха. О боже, что при таких обстоятельствах должен был делать маркиз, озабоченный участью фамильных имений!
Но прежде чем кончился сезон, маркиз и герцог считали себя счастливыми людьми, и мы будем надеяться, что леди Глэнкора была тоже довольна. Мистер Плантаженет Поллисер раза два протанцевал с ней и признался в любви. Он имел свидание с маркизом, которое кончилось в высшей степени удовлетворительно и на котором все было устроено. Глэнкора, без всякого сомнения, рассказала, каким образом она получила от Бурго Фицджеральда гладкое золотое кольцо и как возвратила его, но я сомневаюсь, сказала ли она о волнистом локоне золотистых волос, которые Бурго и теперь еще бережет в своей шкатулке, сделанной собственно для хранения подобных сокровищ.
– Плантаженет, – сказал герцог с необыкновенной горячностью, – в этом, как и во всех других делах, ты показал себя именно тем, чем я всегда желал тебя видеть. Я объявил маркизу, что Матчин Прайори со всеми угодьями будет отдан тебе немедленно. Это превосходнейшее поместье. Свадебным подарком Глэнкора будут Гога.
Всего более понравилась мистеру Поллисеру искренняя, непритворная радость мистера Фотергилла. Наследник Поллисеров исполнил свой долг, и мистер Фотергилл считал себя истинно счастливым человеком.
Глава LVI ПОКАЗЫВАЕТ, КАКИМ ОБРАЗОМ МИСТЕР КРОСБИ СДЕЛАЛСЯ СНОВА СЧАСТЛИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
В предыдущей главе было сказано, что леди де Курси в последних числах апреля давала в Лондоне большой бал, поэтому можно подумать, что де Курси находились в хороших обстоятельствах, но я боюсь, что подобный вывод будет ошибочен. Во всяком случае, леди Александрина далеко не была в хороших обстоятельствах, как только ее мать приехала в Лондон, леди Александрина стремглав поскакала в Портман-сквэр с длинной повестью своих страданий.
– Ах, мама, может быть, вы не поверите, но он почти никогда не говорит со мной.
– Душа моя, в мужчинах бывают недостатки хуже этого.
– Целый день я сижу дома, никуда не выхожу. Он никогда не возьмет кареты для меня. На прошлой неделе пригласил прогуляться, когда пошел дождь. Я видела, что он ждал, когда начнется дождь. Вы только подумайте, я не была даже на трех вечерах в течение целого месяца, никуда не выезжала, кроме Амелии, а теперь он говорит, и туда не будет ездить, потому что дорого стоит. Вы не можете представить себе, какой неудобный дом, в котором мы живем.
– Ведь ты видела, что выбирала?
– Видела, разумеется, но я не знала, что это будет за дом.
Амелия говорила, что дом не хорош, а он и слышать не хотел. Он ненавидит Амелию. Я уверена в этом, потому что он всегда говорит такие вещи, которые могут оскорбить и ее, и мистера Гезби. Хорош тоже и мистер Гезби. Как вы думаете? Объявил Ричарду, чтобы тот искал себе место. Вы никогда не видели его, но это очень хороший слуга. Ему отказывает, а другого не нанимает. Я не хочу жить с ним, не имея прислуги.
– Милое дитя мое, пожалуйста, не думай о том, чтобы бросить его.
– Мама, я буду думать. Вы знаете, что за жизнь веду я в этом доме. Он никогда не говорит со мной, никогда. Приходит домой перед самым обедом в половине седьмого, и только что покажется, сейчас же уходит в свою комнату. За обедом молчит, а после обеда спит. Завтракает всегда в девять, а в половине десятого выходит из дому, хотя я знаю, что в должность раньше одиннадцати часов не является. Если мне понадобится что-нибудь, он говорит, что нет денег. Я никак не думала, что он скупой, а теперь вижу, что он скряга в душе.
– Лучше быть скрягой, Александрина, нежели мотом.
– Не знаю, что из двух лучше. Он не может сделать меня еще несчастнее. Слово «несчастная» еще не совсем выразительно. Что могу я делать в таком доме, как наш, одна-одинешенька с девяти часов утра до шести вечера? Все знают, что он за человек, и потому никто не хочет навещать меня. Откровенно говорю вам, мама, я не в силах более переносить такое положение. Если вы не поможете мне, я буду искать помощи на стороне.
Действительно, надо правду сказать, дела в этой отрасли фамилии де Курси шли весьма неудовлетворительно. Не совсем удовлетворительно шли они и в некоторых других отраслях. Лорд Порлокк женился, выбрав себе подругу в жизни далеко не из высшего аристократического круга, и его мать, стараясь замолвить слово в его пользу, услышала такую брань со стороны графа, что решилась никогда больше не испытывать такого обхождения. Она приехала в Лондон совершенно наперекор его желаниям, тогда как граф, благодаря подагре, должен был сидеть в своей комнате, мало того, назло ему она дала бал для того только, чтобы никто не мог сказать, что она сошла с великолепного поприща в отчаянии.
– Ни одна женщина не была бы в состоянии переносить дольше то, что я перенесла, – говорила она Маргарите. – Когда я думала, что кто-нибудь из вас выйдет замуж…
– Ах, мама, не говорите об этом, – презрительным тоном сказала Маргарита.
Ей не нравились намеки матери, что для нее миновали всякие шансы на супружескую жизнь, хотя сама она часто говорила матери, что перестала уже думать об этом.
– Розина переедет к Амелии, – продолжала графиня. – Мистер Гезби совершенно согласен на это, и кроме того, позаботится о том, чтобы она имела средства на покрытие своих расходов, а я и ты, моя душа, уедем в Баден-Баден.
– Где же мы возьмем деньги, мама?
– Мистер Гезби устроит это. Несмотря на то что говорит твой отец, я знаю, что деньги должны быть. И притом же за границей мы проживем дешевле, чем здесь.
– Ну, а что будет делать папа?
– Что хочет, то пусть и делает. Никто не знает, что я должна была переносить от него. Еще год, и это убило бы меня. Выражения его становятся грубее и грубее, и я жду с каждым днем, что он меня ударит своим костылем.
По всем этим обстоятельствам, нельзя сказать, что семейные интересы де Курси были в цветущем состоянии.
Предполагая уехать в Баден-Баден, графиня, однако же, не имела ни малейшего намерения взять с собой свою младшую дочь. Она терпела от мужа в течение многих лет, а леди Александрина после шести месяцев начинала уже жаловаться на свою горькую участь. Главная жалоба Александрины заключалась в том, что муж ее неразговорчив. Леди де Курси понимала, что никакая женщина не имела права сетовать на это. Если бы у графа был один только этот порок, она с удовольствием провела бы с ним остатки своих дней!
А все же жизнь Александрины была едва ли не тяжелее жизни матери. Она нисколько не исказила истины, сказав, что муж ее никогда с ней не говорил. В ее новом неудобном доме часы ее шли весьма длинно и весьма скучно. В доме матери ее постоянно окружали люди, хотя и не всегда такие, каких она желала бы иметь своими друзьями, но она думала, что замужем выберет себе тех, кто придется по сердцу, но к ней никто не приезжал. Ее сестра, более благоразумная женщина, начала свою замужнюю жизнь с определенной идеей, и потому спокойно ее переносила, но это бедное создание увидело себя совершенно покинутым. Однажды допущенный в сердце гнев на мужа, а это было сделано еще на первой неделе после брака, вытеснил из него и ту небольшую частицу любви, которая существовала в нем. Она не знала, что при входе мужа в комнату ей следовало бы смотреть на него ласковее и этим самым заставить его думать, что его присутствие доставляет ей счастье. Она же приняла угрюмый вид, прежде чем поселилась в новом своем доме, и этого вида никогда не оставляла. Кросби старался найти в своем доме семейное спокойствие, насколько оно было для него доступно, и этим облегчить свою участь, но задача становилась труднее и труднее, уныние усиливалось все более и более. Он думал о своем счастье, а не о счастье жены, так как и жена, в свою очередь, думала о своей собственной скуке, а не о скуке мужа.
– Неужели в этом должно заключаться семейное счастье! – часто говаривал Кросби самому себе, садясь в кресло и стараясь сосредоточить все свое внимание на книге.
«Неужели в этом должно заключаться счастье замужней жизни!» – думала Александрина, оставаясь совершенно одинокою, не имея даже книги, которая могла бы доставить ей развлечение. Она никогда не прогуливалась с ним, да ей, впрочем, и не нравились прогулки по тротуару вокруг какого-нибудь сквера. Кросби положительно решил, что она не принудит его войти в долги из-за наемной кареты. Кросби не был скуп на деньги, его нельзя назвать скрягой, но он увидел, что, женившись на дочери графа, сделался бедняком, и не хотел, вдобавок к этому, поставить себя в безвыходное положение.
Когда молодая жена услышала, что ее мать и сестра намерены бежать в Баден-Баден, в ней моментально родилась надежда, что и она могла бы присоединиться к побегу. Она не хотела бросить мужа, по крайней мере не хотела разлучиться с ним так, чтобы свет подумал, что они поссорились. Она просто хотела уехать надолго, весьма надолго. Два года тому назад поездка с матерью и Маргаритой в Баден-Баден не имела бы в ее глазах особенной прелести, но теперь жизнь за границей казалась ей жизнью в раю. Действительно, долгие скучные часы в Принсесс-Ройяль-Кресценте были невыносимо тяжелы.
Но каким образом устроить это? Разговор с матерью происходил накануне бала, и леди де Курси с унынием передала его Маргарите.
– Конечно, он отделит ей часть годового дохода? – хладнокровно сказала Маргарита.
– Но, душа моя, давно ли живут они вместе?
– Я не понимаю, отчего почти все замужние жалуются на свою судьбу, – отвечала Маргарита. – Я не хочу убеждать ее оставить его, но если она говорит правду, то это должно быть весьма неприятно.
Кросби согласился ехать на бал в Портман-сквэр, но не нашел там никакого удовольствия. Он уныло стоял в стороне и почти ни с кем не говорил. Взгляд его на жизнь совершенно изменился в течение нескольких месяцев. Здесь, именно в таких местах, как это, он обыкновенно блистал в былое время. При таких случаях он сиял особенным светом, возбуждая зависть в сердцах многих, которые угрюмо следили за блеском его карьеры. Но теперь не было ни души угрюмее и молчаливее его, несмотря на то что он считался зятем в этом благородном доме.
– Скучновато, не правда ли? – спросил Гезби, с большими усилиями добравшись до угла, в котором стоял его свояк. – Что касается меня, то лучше остался бы дома со своей газетой и туфлями. Мне кажется, подобные собрания не идут женатым людям.
Кросби что-то проворчал и перешел в другой угол.
Кросби и его жена воротились домой в кебе, во всю дорогу они не сказали слова друг другу. Александрина ненавидела кебы, но ей положительно было объявлено, что она может позволять себе ездить только в этих экипажах, и больше ни в каких. На другое утро он сидел за завтраком пунктуально в девять часов, леди Александрина явилась в столовую после ухода его в должность. Вскоре после того она отправилась к матери и сестре, но, когда Кросби воротился домой, она уже сидела в гостиной, и, как всегда, с угрюмым видом. Сказав несколько слов, которые можно было принять за приветствие, Кросби хотел удалиться, но Александрина остановила его, выразив желание поговорить с ним.
– С удовольствием, – сказал Кросби. – Только дайте мне переодеться. Это займет не больше получаса.
– Я не задержу вас долго, ничего не значит, если обед будет подан несколькими минутами позже. Мама и Маргарита едут в Баден-Баден.
– В Баден-Баден?
– Да, и намерены пробыть там значительное время.
Последовала небольшая пауза, в течение которой Александрина нашла необходимым прочистить свой голос легким кашлем и приготовиться к дальнейшему объяснению. Она решилась сделать свое предложение, но боялась того, как будет оно принято.
– Не случилось ли чего в замке Курси? – спросил Кросби.
– Нет, то есть да, папа и мама из-за чего-то поссорились, хорошенько я не знаю. Однако это не идет к делу. Мама уезжает и намерена пробыть за границей до конца года.
– А городской дом они сдадут?
– Я полагаю, впрочем, это будет зависеть от воли папа́. Вы не встретите препятствия к моей поездке вместе с мама?
Вот вопрос, который сделала новобрачная спустя каких-нибудь десять недель после замужества! Александрина не пробыла с мужем своим в новом доме и двух месяцев, как просит позволения оставить этот дом, оставить мужа на неопределенное число месяцев, быть может, навсегда. Делая этот вопрос, она не обнаружила ни малейшего душевного волнения. Ее лицо не выражало ни печали, ни сожаления, ни надежды. Она не выказала и половины того одушевления, которое пробуждалось в ней, когда она, раза по два в неделю, просила нанять ей карету для постоянного употребления, и притом такую, которая казалась бы ее собственною. При этих случаях он отвечал ей чрезвычайно сурово, и Александрина плакала, получив положительный отказ. Теперь же на глазах ее не показалось и слезинки. Она хотела ехать, с позволения мужа, если он даст его, или же и без позволения, если он откажет в нем. Вопрос о деньгах имел тут весьма важное значение, но его должен был устроить Гезби, который устраивал все дела подобного рода.
– К поездке в Баден-Баден? – спросил Кросби. – Надолго ли?
– Ехать на короткое время было бы бесполезно.
– Но все же, Александрина, я хочу знать, надолго ли? Скажите мне откровенно. На месяц?
– Нет, больше.
– На два, на шесть или до тех пор, пока они останутся там?
– Это можно решить после, когда я буду там.
Во все это время Александрина ни разу не взглянула в лицо Кросби, который с своей стороны пронизывал ее своим взглядом.
– Вы хотите сказать, что намерены бежать от меня?
– В одном смысле – это так.
– А в общем смысле? Если вы говорите об отъезде в Баден-Баден на неопределенное число месяцев, то намерены ли вы воротиться?
– Куда? В Лондон?
– Ко мне, в мой дом, к обязанностям жены. Зачем вы не выскажете сразу своего желания? Вы хотите разойтись со мной?
– В этом доме я несчастлива.
– А кто выбрал этот дом? Разве я хотел переехать сюда? Нет, я вижу, тут совсем другое. Если вы несчастливы здесь, то что же может доставить вам счастье в другом доме?
– Если бы вы просидели в этой комнате семь или восемь часов сряду, не имея ни души человеческой, с кем можно было бы обменяться живым словом, вы бы поняли мои намерения. Этого мало, что я сижу одна: вы ничего не говорите со мной, когда бываете дома.
– Виноват ли я, если к вам никто не приезжает? Дело в том, Александрина, вы не хотите примириться с образом жизни, который соответствует нашим средствам. Вы считаете себя несчастною потому, что не можете кататься по парку. Я не в состоянии нанять вам карету и никогда не найму. Вы можете ехать в Баден-Баден, если хотите, то есть если ваша мать возьмет вас с собой.
– Само собой разумеется, я должна платить за себя, – сказала Александрина.
На это Кросби ничего не ответил. Дав позволение, он встал с места и пошел в свою комнату, последние слова Александрины он услышал уже в дверях. Что может быть дешевле такого распоряжения? Делая свои расчеты, он стоял, облокотясь на каминную полку. Он в душе бранил свою жену за то, что она была несчастлива с ним, но сам он разве был счастлив с ней? Не лучше ли было, в самом деле, разойтись таким спокойным, полунезаметным образом, – разойтись так, чтобы никогда больше не сходиться? Он считал себя счастливым человеком, что до сих пор еще не предвиделось в будущем маленького Кросби, который мог бы изменить и даже совершенно расстроить такой выгодный план. Если он назначит ей четыреста фунтов в год и отделит двести фунтов на погашение долгов, у него еще останется шестьсот на удовольствия лондонской жизни. Само собой разумеется, ему не приведется уже больше жить так, как жил он в счастливые дни до женитьбы, да такой образ жизни сделался уже и недоступным для него, но все же он мог ходить в свой клуб, мог постоянно там обедать, мог курить хорошие сигары, он не был бы прикован к этому деревянному дому, который сделался для него отвратительным. Таким образом, по его соображениям, поездка жены за границу оказывалась делом превосходным. Он передал бы Гезби и дом свой, и мебель – пусть тот делает с ними, что знает. Сделаться снова холостяком, жить на холостую ногу, с шестьюстами фунтов стерлингов, представлялось ему таким счастьем, что, от радости, он не слышал ног под собой. Да, он должен был позволить ей ехать в Баден-Баден.
За обедом о поездке ничего не было сказано, не было упомянуто о ней до тех пор, пока не подали в гостиную чайного прибора.
– Вы можете ехать в Баден-Баден, если хотите, – сказал Кросби.
– Я думаю, это будет лучше всего, – отвечала Александрина.
– Может быть. Во всяком случае, вы исполните свое желание.
– А насчет денег?
– Об этом вы предоставьте мне переговорить с Гезби.
– Очень хорошо. Не хотите ли чаю?
И дело было решено.
На другой день после завтрака Александрина отправилась к матери и более уже не возвращалась в Принсесс-Ройяль-Кресцент. В течение того утра она уложила все свои вещи и отправила сестер своих с старым фамильным лакеем вывезти из дому все, что могло принадлежать ей.
– Боже мой, боже мой! – говорила Амелия. – Сколько мне стоило трудов закупить все это, и еще так недавно! Мне кажется, сестра поступает весьма дурно.
– Не знаю, – сказала Маргарита. – Она не так счастлива со своим мужем, как ты. Я постоянно думала, что ей трудно будет справиться с ним.
– Но, душа моя, ведь она не пробовала. Она с первого раза и руки опустила. Дело в том, Александрина, выходя замуж, не подумала, что ее ожидает. Я так все обдумала, я знала заранее, что надо проститься навсегда с собраниями, балами и различными прихотями. Впрочем, надо признаться, Кросби совсем не то, что Мортимер. Я думаю, и мне бы не ужиться с ним. Возьми и эти книжки, они ему, верно, не нужны.
Таким образом, дом Кросби опустел. Жены своей Кросби больше не видел, он не сделал прощального визита в Портман-сквэр. Через несколько дней в должности ему подали следующую записку: «Я еще здесь, у мама, и теперь могу сказать вам „Прощайте“. Мы уезжаем во вторник. Если вздумаете писать, то отдавайте ваши письма ключнице здешнего дома. Надеюсь, вы будете довольны и здоровы. Преданная вам А. К.».
Кросби не отвечал, в этот день он обедал в своем клубе.
– Я не видел тебя целый век, – сказал Монгомери Доббс.
– Правда, правда. Моя жена уезжает с матерью за границу, во время ее отсутствия мы будем встречаться почаще.
Больше этого ничего не было сказано, никто не считал за нужное осведомляться о его семейных делах. Ему казалось теперь, что у него не было ни одного друга достаточно близкого, чтобы спросить его о жене или семействе. Жена уехала, и через месяц он снова увидел себя в улице Маунт, он снова вступал в свет с пятьюстами, – а не с шестьюстами, однако, фунтов стерлингов в год. Мистер Гезби доказал ему, что в настоящее время доход больше этого был совершенно невозможен. Графиня долго отказывалась взять леди Александрину за границу с такими ничтожными средствами, как четыреста пятьдесят фунтов. Кросби, мне кажется, согласился бы помириться за свою свободу на трехстах фунтах в год, такой тяжелый камень отпал от его сердца.
Глава LVII ЛИЛИАНА ДЕЛЬ ПОБЕЖДАЕТ СВОЮ МАТЬ
Мистрис Дель присутствовала при свидании, на котором Джонни Имс сделал предложение ее дочери, но при этом случае она совершенно ничего не сказала. Все ее желания были в пользу Имса, но она не смела выразить их и не смела выйти из комнаты. Имсу тяжело было признаться в любви своей в присутствии третьего лица, но он признался и вышел из Малого дома, получив решительный отказ. Когда свидание кончилось, Лили, без всяких объяснений с матерью, удалилась в свою комнату, где и оставалась до вечера. В часы, проведенные без Лили, мистрис Дель ни о чем не могла больше думать, как только о новом предложении, сделанном ее дочери. О, если бы это могло исполниться! Если бы ее убеждения могли подействовать на Лили и доставить желанный результат! А между тем она боялась сказать Лили слово.
Она знала, что это было весьма трудно. Снова и снова она повторяла себе, что Имс поторопился прийти, что попытка была сделана слишком скоро после первого крушения. Возможно ли так быстро приготовить корабль к выходу в море, после тех повреждений, которым подверглось каждое дерево? Но все же теперь, когда попытка была сделана, когда Имс признался в любви и получил отказ, мистрис Дель находила, что ей непременно должно переговорить с Лили по этому предмету. Ей казалось, что она понимала свою дочь и все ее чувства. Она сознавала силу удара, который Лили должна была перенести, прежде чем убедилась бы в перемене в своем сердце. Но случись эта перемена, и Лили была бы счастливая женщина. Перемена эта во всех отношениях была бы истинным благословением. А если она не случится, то неужели Лили на всю свою жизнь останется одинокой, во всю свою жизнь не испытает счастья супружеской, семейной жизни? Объяснение оказывалось необходимым, а между тем, когда Лили вечером спустилась вниз с улыбкой на лице, с веселым настроением духа, мистрис Дель не решилась принять на себя этот труд.
– Мне кажется, мама, распаковку вещей и расстановку их на прежние места мы можем считать делом решенным.
– Не знаю, моя милая.
– Я убедилась в этом, особливо после того, что вы недавно сказали. Какие мы глупые, подумают другие!
– Пусть думают что хотят, я не беспокоюсь об этом, лишь бы мы сами не считали глупыми других, да не считал бы нас такими дядя.
– Я уверена, что дядя будет считать нас умницами. Если бы я знала, что он так горячо примет к сердцу все это дело или что он заботится о том, чтобы мы жили здесь, я бы не подумала о переезде. Такой он странный человек. Бывает ласков и любезен, когда следовало бы сердиться, сердит и зол, когда нужно быть ласковым и добрым.
– Во всяком случае он представил нам убедительное доказательство своего расположения.
– Относительно нас, то есть меня и Белл, я в этом никогда не сомневалась. Только вот что, мама, я не знаю, как взглянуть теперь в лицо мистрис Бойс. Мистрис Харп и мистрис Кромп разозлятся, а Хопкинс будет ужасен в своем гневе, когда узнает, что мы передумали. Мистрис Бойс будет злее всех. Вы не можете себе представить тона ее будущих поздравлений.
– Надеюсь, нас не убьет ее тон.
– Разумеется, но во всяком случае мы должны сходить и объявить ей. Я давно знаю вашу трусость, мама, не правда ли? Для Белл это ничего не значит – у нее есть жених. Я одна должна перенести все это. Ну ничего, я согласна остаться, если вы будете счастливы здесь. Ах, мама! Я соглашусь на все для вашего счастья.
– А будешь ли ты счастлива?
– Конечно, как нельзя более. Жаль только, что мы никогда не увидим Белл. Живя на таком расстоянии, люди никогда не видят друг друга. Это слишком близко для продолжительных визитов и слишком далеко для кратковременных. Я вам вот что скажу: мы можем с той и другой стороны доходить до полдороги и встречаться как раз на углу рощи лорда Дегеста. Прекрасно было бы устроить там скамейку, а еще бы лучше беседку. Мы приносили бы туда сандвичи и бутылку пива. В самом деле, нельзя ли устроить такие свидания?
Таким образом обе они решились оставить план переселения в Гествик и под влиянием этой идеи продолжали разговор свой за чайным столом, но в этот вечер мистрис Дель не осмелилась заговорить о предложении Имса. Между прочим, положено было не приступать к распаковке и расстановке вещей до возвращения Белл и до получения формального согласия сквайра. Мистрис Дель должна была, до некоторой степени, признать себя виновною и попросить прощения за свое упрямство.
– Знаете что, мама? Для встречи с Хопкинсом в саду мы наденем вретища и посыплем пеплом головы, и тогда он, вместо того чтобы положить на наши головы каленые угли, пришлет блюдо зеленого гороху, а Дингльс молодого фазана, только жаль, что теперь май, и фазаны еще не вывелись.
– Если вретище не примет более неприятного вида, то я не прочь.
– И потом, благодарность дяди Кристофера!
– Да, я чувствую ее заранее.
– Но все же, мама, мы дождемся Белл. Она решит вернее. Ее здесь нет, и потому она будет свободна от предубеждения. Если дядя согласится выкрасить дом, – я знаю, что он согласится, – тогда я обращусь в прах перед ним.
А все-таки мистрис Дель ничего не сказала о том, что так близко было ее сердцу. Когда Лили в шутку обвинила ее в трусости, ее мысли перешли на другой предмет, и она действительно сознавала в себе эту слабость. Почему она боится предложить совет своей дочери? Ей казалось, как будто она пренебрегла какой-то обязанностью, позволив поступку Кросби пройти без всякого замечания, без разговора между ней и Лили. Не должна ли она была убедить свою дочь, что Кросби действительно негодяй и что его следует совершенно изгнать из сердца. Лили высказала простую истину, объявив Имсу, что она была откровенна с ним, откровеннее даже, чем с матерью. Размышляя об этом в своей комнате на сон грядущий, мистрис Дель решила, что на другое же утро постарается уговорить Лили смотреть на этот предмет, как смотрела сама на него, и думать о нем, как сама думала.
За завтраком мистрис Дель не приступила к решению заданного накануне вопроса. Когда убрали чай со стола, Лили села за работу, а мистрис Дель, по обыкновению, отправилась на кухню. Было около одиннадцати, когда она пришла в комнату, где сидела Лили, но и тогда поставила только на стол рабочую шкатулку и вынула иглу.
– Желала бы я знать, как леди Джулия обходится с Белл, – сказала Лили.
– Конечно прекрасно! Я в этом уверена.
– Я знаю, леди Джулия не кусает ее, и в это время Белл, вероятно, перестала бояться высоких лакеев.
– А я и не знаю, есть ли у них высокие лакеи.
– Вы меня не поняли, мама, я говорю о принадлежностях барского дома. С первого раза они непременно будут наводить страх на всякого, кто не приготовился смотреть на них без страха. Весьма глупо, без всякого сомнения, бояться лорда, потому что он лорд, я боялась бы даже лорда Дегеста, если бы гостила в его доме.
– Хорошо, что ты не поехала.
– Я сама тоже думаю. Белл храбрее меня, и я уверена, что она в первый же день привыкнет к своему положению. Но все-таки желала бы я знать, что она там делает? Не штопают ли они старые чулки?
– Почему же и не так?
– Я полагаю, что в больших домах все поношенные вещи не чинят, а просто бросают. Неужели вы думаете, что первый министр посылает в починку свои башмаки?
– Может статься, порядочный башмачник согласится починить башмаки и первого министра.
– Так вы думаете, что их можно починить? Но кто же их отдаст в починку? Неужели он сам смотрит за тем, целы они или нет? Неужели вы думаете, что епископ назначает самому себе на год непременно известное число перчаток?
– Приблизительно, я думаю.
– Следовательно, он надевает новую пару, когда понадобится. Но когда же является эта надобность? Говорит ли он себе, что они пригодятся еще на одно воскресенье? Я помню, когда приезжал сюда епископ, у него на одном конце пальца была дырочка. Я тогда конфирмовалась и помню, как подумала, что ему бы следовало быть щеголеватее.
– Почему же ты не вызвалась починить их?
– Я ни за что в мире не решилась бы сказать этого.
Разговор начался таким образом, что не оказывал ни малейшей помощи мистрис Дель к приведению ее проекта в исполнение. Когда Лили начинала говорить о каком-нибудь предмете, ее трудно было оторвать от него. При настоящем случае ей вздумалось распространиться о том, существуют ли у великих мира сего обыкновенные привычки, она даже спросила свою мать, носят ли королевские дети в карманах своих медные деньги?
– Я полагаю, – сказала она, – у них такие же карманы, как и у других детей.
Но тут мистрис Дель вдруг остановила ее.
– Милая Лили, я хочу сказать тебе несколько слов насчет Джонни Имса.
– В настоящую минуту, мама, я лучше бы поговорила о королевской фамилии.
– Но, мой друг, ты простишь мне, если я поупрямлюсь. Я много думала об этом и уверена, ты не станешь сопротивляться, когда я намерена исполнить то, что считаю своим долгом.
– Ни за что не стану, мама, вы это знаете.
– С тех пор, как поступок Кросби стал известен тебе, я очень редко упоминала его имя.
– Правда, мама, я почти никогда его не слышала. Я любила вас так горячо за ваше добродушие ко мне. Не думайте, что я не понимала и не знала, до какой степени вы были великодушны. Мне кажется, не было и нет в целом мире такой доброй матери. Я все это знала, каждый день думала об этом и в душе благодарила вас за ваше молчание. Я понимаю ваши чувства. Вы считаете его дурным человеком и ненавидите за его поступок?
– Я не хотела бы никого ненавидеть.
– Но его вы ненавидите. На вашем месте и я бы ненавидела его, но я не вы, и я люблю его. Каждый вечер и утро я молюсь о его и ее счастье. Я простила его и нахожу, что он был прав. Я поеду к нему и скажу это, когда буду довольно стара, чтобы подобный поступок не показался неприличным. Мне было бы приятно слышать обо всех его действиях и всех его успехах, если бы это было возможно. Поэтому, каким же образом вы и я стали бы говорить о нем? Это невозможно. Вы молчали, и я тоже молчала, будемте молчать и теперь.
– Я намерена поговорить не о мистере Кросби. Но во всяком случае ты согласишься, что он сделал поступок, который заслуживает порицания целого света. Ты можешь простить его, но в то же время должна сознаться…
– Относительно его, мама, я ни в чем не хочу сознаться. Есть предметы, о которых не всегда можно рассуждать. – Мистрис Дель чувствовала, что настоящий предмет относился к числу таких, о которых она не могла рассуждать. – Поверьте, мама, – продолжала Лили, – я ни в чем не стану вам противоречить, но об этом предмете лучше мы будем молчать.
– Друг мой, ведь я забочусь о твоем будущем счастье.
– Я знаю, но уверяю вас, что вам нет никакой надобности тревожиться из-за меня. Я сама не хочу быть несчастною. Я даже могу сказать, что я вовсе не несчастна, хотя, конечно, я была несчастна, очень несчастна. Я думала, что во мне разобьется сердце. Но это прошло, и мне кажется, что я могу быть счастлива, как и мои ближние. Все мы должны иметь свои радости и свои печали, говаривали вы, когда мы были еще дети.
Мистрис Дель увидела, что начало было дурно и что она имела бы больше успеха, если бы не упомянула имени Кросби. Она знала, что ей нужно было высказать, какие убедительные доводы представить своей дочери, но не знала, какой при этом случае следовало употребить язык, каким образом лучше всего сложить свои мысли в слова. Она замолчала, и Лили принялась за работу, как будто разговор совсем кончился. Но разговор еще не кончился.
– Я хотела поговорить с тобой не о мистере Кросби, а о Джонни Имсе.
– О, мама!
– Душа моя, ты не должна мешать мне в том, что я считаю своим долгом. Я слышала, что он говорил тебе и что ты отвечала ему, предмет этот я не могла оставить без внимания. Скажи, пожалуйста, почему ты так решительно отказала ему?
– Потому что я люблю другого.
Эти слова были сказаны громко, спокойным и почти сердитым тоном, с выражением до некоторой степени досады, как будто Лили сознавала, что хотя такое заявление было и неуместно, но, несмотря на то, оно должно быть сделано.
– Но, Лили, подобная любовь, по самому ее свойству, должна кончиться, или вернее сказать, это совсем не та любовь, которую ты чувствовала, когда надеялась сделаться его женой.
– Совершенно та самая. Если жена его умрет и он снова сделает мне предложение, хотя бы лет через пять, я приму его. Я считаю себя обязанною принять его.
– Она, однако, не умерла еще, и, по всей вероятности, не думает умирать.
– Это не делает разницы. Мама, вы меня не понимаете.
– Кажется, что понимаю, и хочу, чтобы ты и меня поняла. Я знаю, до какой степени затруднительно твое положение, я знаю твои чувства, но знаю также и то, что если бы ты могла убедить себя, принудить себя принять Джонни Имса, как дорогого милого друга…
– Я и приняла его как милого друга. Он действительно дорогой милый друг. Я сердечно люблю его, как любите и вы.
– Ты знаешь, что я хотела сказать?
– Знаю, и опять говорю вам, что это невозможно.
– Если ты сделаешь усилие, то все это бедствие будет скоро забыто. Если бы ты принудила себя смотреть на него, как на друга, который мог бы сделаться твоим мужем, тогда бы все переменилось, и я увидела бы тебя счастливою!
– Вы как-то странно, мама, хотите от меня отделаться!
– Да, Лили, отделаться именно этим путем. Если бы я могла увидеть, что ты положила свою руку в его, мне кажется, я была бы тогда счастливейшая женщина в мире.
– Мама, я не могу вас осчастливить таким образом. Если бы вы действительно понимали мои чувства, то, поверьте, принятие вашего предложения сделало бы вас несчастною. Я совершила бы великий грех, грех, которого женщины должны оберегаться более всякого другого. В душе я принадлежу другому человеку. Я отдала себя ему, я любила его и восхищалась его любовью. Когда он целовал меня, я отвечала ему поцелуями и жаждала его поцелуев. По-видимому, я жила только для того, чтобы он мог ласкать меня. Во все это время я не думала, что поступаю дурно, потому что он был для меня все. Я принадлежала ему всей душой. Все это изменилось, к моему величайшему несчастью, но восстановить все это или забыть невозможно. Я не могу быть такой девочкой, какой была до его приезда. Я и вы, мама, – две вдовы. У вас есть ваша дочь, а у меня моя мать. Если вы будете довольны, я тем более.
Сказав это, Лили встала и бросилась на шею матери. Куда девались все приготовленные доводы мистрис Дель. Возражения с ее стороны были невозможны, она принуждена была сознаться, что ей должно молчать. Одно только время могло сделать перемену, всякие убеждения были бесполезны. Мистрис Дель обняла свою дочь и заплакала, между тем как глаза Лили были сухи.
– Пусть будет по-твоему, – произнесла она.
– Да, мама, это лучше. Я должна действовать по-своему, не правда ли? Я только этого и хочу, хочу тиранствовать над вами, заставлять вас исполнять все мои приказания, как и следует доброй и хорошей матери. Впрочем, приказания мои не будут строги. Если вы будете послушны, я не покажусь для вас тяжелою. Опять идет Хопкинс. Я уверена, что он намерен поразить и окончательно уничтожит нас своею речью.
Хопкинс знал очень хорошо, к которому окну следовало подойти, потому что в это время только одну комнату и можно было назвать обитаемою. Он подошел к столовой и приплюснул свой нос к оконному стеклу.
– Мы здесь, Хопкинс, – сказала Лили.
Мистрис Дель отвернулась в сторону, она знала, что на щеках ее все еще были слезы.
– Да, мисс, я вас вижу. Мне нужно переговорить с вашей мама.
– Обойди кругом, – сказала Лили, стараясь отклонить от матери необходимость показаться Хопкинсу сейчас же. – Сегодня слишком холодно, чтобы открыть окно, обойди кругом, я открою тебе дверь.
– Слишком холодно! – бормотал Хопкинс по дороге к дверям. – В Гествике будет еще холоднее!
Как бы то ни было, он прошел через кухню, и Лили встретила его в прихожей.
– Что скажешь, Хопкинс? Мама не совсем здорова: у нее головная боль.
– Головная боль? Ну, так я не хочу, чтобы она усилилась. По моему мнению, свежий воздух лучше всего помогает от головной боли, жаль только, что многие его не жалуют. Если вы не будете поднимать на несколько времени рам в оранжерее, то пропадут все растения, точно так же и насчет винограда. Что же! Прикажете идти назад и сказать, почему я не видал ее?
– Ты можешь войти, если хочешь, только потише.
– Потише! Да разве вы слышали, что я шумел когда-нибудь? Извините, мама, сквайр приехал домой.
– Как! Из Гествика? И привез с собой мисс Белл?
– Он никого не привез, кроме самого себя, потому что приехал верхом, и мне кажется, сейчас же уедет назад. Он желает, мистрис Дель, чтобы вы пожаловали к нему. Он приказал поклониться вам. Не знаю, делает ли это какую-нибудь разницу.
– Во всяком случае, Хопкинс, я приду.
– А насчет головной боли говорить не прикажете?
– Насчет чего? – спросила мистрис Дель.
– Нет, нет! Не надо! – сказала Лили. – Мама будет там сию минуту. Иди, мой друг, и скажи это дяде.
Лили взяла его за плечо и повернула к дверям.
– У нее вовсе нет головной боли, – ворчал Хопкинс, возвращаясь к Большому дому. – Как любят лгать эти господа! Если бы я пожаловался на головную боль, когда бы ее вовсе не было, что бы они сказали мне? Бедный человек не должен ни лгать, ни пить и ничего такого не делать.
– Зачем это дядя воротился домой? – спросила мистрис Дель.
– Взглянуть, не перемерли ли поросята. Я удивляюсь, почему он совсем не приехал.
– Я сейчас же должна идти к нему.
– О да, разумеется.
– А что сказать ему насчет переезда?
– Я думаю, ничего. По всей вероятности, он ни слова не скажет об этом, если вы сами не заговорите.
– А если спросит?
– Положитесь на Провидение. Скажите, что у вас болит голова, как я сказала это Хопкинсу, а вы меня и не поняли. Я провожу вас до мостика.
И они вместе перешли через поляну. Лили вскоре осталась одна, и, в ожидании возвращения матери, гуляла по ближайшим к мостику дорожкам. Во время прогулки она припомнила слова, которые сказала своей матери. Она объявила ей, что считает себя тоже вдовою. «Это так и быть должно, – говорила она самой себе, размышляя о последнем разговоре с матерью. – Уж какое это сердце, которое может переноситься сюда и туда, смотря по тому, как потребуют обстоятельства, удобство и спокойствие? Когда он держал меня здесь в своих объятиях. – При этом Лили вспомнила самое место, на котором они стояли. „Моя любовь! Мой друг! Мой муж!“ – говорила она ему тогда, возвращая горячие поцелуи. – Когда он держал меня здесь в своих объятиях, я сказала ему, что так и быть должно, потому что считала его своим мужем. Он переменился, а я нет. Могло случиться, что я перестала бы его любить, и тогда сказала бы ему об этом. Я поступила бы так, как он поступил. Дрожь пробежала по всему ее телу, когда она подумала об этом, подумала о леди Александрине. Но это так скоро, очень скоро. Впрочем, мужчины не то, что женщины».
И Лили ускорила шаги, едва сознавая, где находилась, она припоминала каждую мысль, каждое слово, сказанное в течение тех немногих, но полных событиями месяцев, в которые она научилась смотреть на Кросби, как на мужа. Она говорила, что одержала победу над своим несчастьем, но бывали минуты, в которые она приходила в отчаяние: «Мне говорят: забудьте его! Да это единственная в мире вещь, которая никогда не будет забыта».
Наконец Лили услышала шаги возвращавшейся матери и заняла на мостике свой пост.
– Стойте и давайте все, что есть у вас! – сказала она, когда мать ступила на мостик. – То есть все, что стоит отдать. Что хорошего?
– Пойдем домой, – сказала мистрис Дель, – я расскажу тебе все.
Глава LVIII СУДЬБА МАЛОГО ДОМА
В тоне голоса мистрис Дель, когда она предложила своей дочери идти домой, где обещала передать ей весь запас новостей, было что-то особенное, не допускавшее никаких шуток со стороны Лили. Отсутствие ее матери продолжалось целых два часа, в течение которых Лили продолжала гулять по саду и наконец с нетерпением стала ожидать, когда послышатся шаги отсутствующей. В течение этих долгих двух часов между дядей и ее ма терью, должно быть, происходило какое-нибудь серьезное объяснение. Свидания, на которые мистрис Дель от времени до времени была приглашаема в Большой дом, обыкновенно продолжались не больше двадцати минут, и для того, чтобы передать девицам весь запас новостей, достаточно было пройти раз или два вокруг сада, при настоящем же случае мистрис Дель положительно отказалась говорить, пока не вошла в свой дом.
– Мама, неужели он приехал нарочно за тем, чтобы видеться с вами?
– Думаю, нарочно, душа моя. Он и тебя желал видеть, но я выпросила позволение отложить это до тех пор, пока не переговорю с тобой.
– И меня желал видеть? Для чего же?
– Собственно, для того, чтобы поцеловать тебя и приказать, чтобы ты его любила, единственно для этого. Он не сказал бы тебе слова, которое могло бы возбудить в тебе досаду.
– В таком случае я поцелую его и буду его любить.
– Да, мой друг, ты полюбишь его, когда я расскажу тебе все. Я торжественно обещала ему оставить всякую идею о переезде в Гествик, так что дело это решено.
– Вот как! Значит, нам можно сейчас же приступить к распаковке? Какой эпизод из нашей жизни!
– Разумеется, можно, я дала ему слово, он сам отправится в Гествик и устроит все насчет квартиры.
– А Хопкинс знает об этом?
– Я думаю, что нет.
– И мистрис Бойс не знает! Мама, мне решительно не пережить одной недели. Мы будем казаться такими глупыми! Знаете ли, что нам теперь делать? Это будет для меня единственным утешением: нам нужно сейчас же приступить к работе и расставить все вещи на прежние места до возвращения Белл, это изумит ее.
– Как! В два дня?
– Почему же и нет? Я прикажу Хопкинсу прийти и помочь нам, он, верно, не откажется. Я теперь же начну с одеял и постелей, я могу это сделать одна.
– Но я тебе еще ничего не рассказала и, право, не знаю, как бы это сделать, чтобы ты поняла, что происходило между нами. Он очень горюет о Бернарде, Бернард решился уехать за границу и, может быть, на несколько лет.
– Нельзя же винить человека за то, что он следует своей профессии.
– Его никто и не винит. Дядя только сказал, что ему очень больно, что на старости лет он должен остаться совершенно одиноким. Это было сказано, когда он еще не знал о нашем намерении остаться в Малом доме. Дядя, по-видимому, решился не просить больше об этой милости. Я видела это в его взгляде и поняла по тону его голоса. После того он заговорил о тебе и Белл, говорил, что любит вас обеих, но что, к несчастью, его надежды относительно тебя не осуществились.
– Зачем же он питал подобные надежды?
– Сначала, мой друг, выслушай меня. Я полагаю, ты не будешь сердиться на него. Он говорил, что его дом никогда тебе не нравился. Потом следовали слова, повторять которые я не в состоянии, даже если бы и вспомнила их. Много говорил он обо мне, выражая сожаление о постоянной между нами холодности. Мое сердце, говорил он, всегда было теплее моих слов. После этого я встала с места, подошла к нему и объявила, что мы остаемся здесь.
– И что же он сказал?
– Право, не знаю, что он сказал. Знаю только, что я заплакала, и он поцеловал меня. Это было в первый раз в его жизни. Знаю, что он остался доволен, как нельзя более доволен. Спустя несколько времени он повеселел и очень много говорил. Он обещал сделать все окраски, о которых ты говорила.
– Я знала это заранее, посмотрите, что завтра перед обедом к нам явится Хопкинс с зеленым горохом, а Дингльс с запасом кроликов. А что же мистрис Бойс? Мама, неужели он не вспомнил о ней? Вероятно, при всем своем добросердечии, он все еще находился под влиянием глубокой печали?
– Не вспомнил, хотя и вовсе не был печален, когда я оставила его. Но я еще не рассказала тебе и половины.
– Боже мой, мама, неужели еще есть что-нибудь?
– Я не по порядку тебе рассказываю, то, что я сообщу теперь, было сказано до объявления, что мы остаемся. Он начал разговор о Бернарде и между прочим сказал, что Бернард будет, без сомнения, его наследником.
– Будет, без всякого сомнения.
– И что, по его мнению, было бы несправедливо обременять имение расходами собственно на нас.
– Мама, неужели он опять…
– Подожди, Лили, не торопись, пожалуйста, будь к нему снисходительнее.
– Я всегда была снисходительна, но мне досадно слышать, что меня лишат каких-то денег, как будто я показывала желание иметь их! Я никогда не желала ни раба Бернарда, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всего, что принадлежит ему. Сказать вам правду, мама, я не хотела бы даже, чтобы этого желала Белл, потому собственно, что она, как мне хорошо было известно, любила другого человека гораздо больше, чем могла бы полюбить Бернарда.
– Лили, я никогда не кончу своего рассказа.
– Захотите, так кончите, мама.
– Я не стану распространяться и просто скажу, что он подарил Белл три тысячи фунтов и тебе тоже три тысячи.
– Зачем же мне-то, мама? – спросила Лили, и на щеках ее показался яркий румянец.
– Затем, как он объяснил мне, что, по его мнению, справедливость требует того, чтобы вы получили поровну. Деньги эти – твои в настоящую минуту, можешь купить на них булавок, если хочешь. Я никак не думала, что он может располагать такой большой суммой.
– Три тысячи фунтов? В последний раз он подарил мне полкроны, и я подумала тогда, какой он скряга! Мне тогда крайне было нужно десять шиллингов. Да и теперь мне было бы гораздо приятнее, если бы он подарил новенькую ассигнацию в пять фунтов.
– Да ты бы сказала ему.
– Нет, мама, пожалуй, он и в самом деле подарит. А имея пять фунтов, я бы сделала на них, что мне давно уже хочется, купила бы несессер и клетку для белки. Но, мама, никто не даст девушке денег на удовлетворение ее прихотей.
– Ах, Лили, ты неблагодарное дитя!
– Нет, я отрицаю это. Я благодарное дитя. Я благодарна за то, что он смягчился, за то, что он плакал и целовал вас. Я вечно буду признательна ему! Но как благодарить мне его за подарок трех тысяч фунтов, право, не знаю. Это такое обстоятельство, которое выходит из рамок моей жизни, как будто я должна услышать об этом в другом мире, где, признаюсь, мне бы не хотелось еще находиться. Я признательна ему, но моя признательность какая-то безжизненная, темная, неопределенная. Скажите мне, могу ли я получить на эти деньги новую пару модных ботинок? С получением их, мне кажется, только и может оживиться моя благодарность.
Возвращаясь в Гествик, сквайр снова впал в свое обычное упрямое настроение духа, веселость, о которой говорила мистрис Дель, оставила его. Он размышлял о прошедшей своей жизни и убеждался в истине слов, сказанных им невестке, что его сердце всегда было теплее его речи. Но свет и все самые близкие к нему в свете всегда судили о нем скорее по его словам, а не по сердцу. Они обращали внимание на наружность, которой он не мог владеть и не мог изменять, а не на факты, которых он был виновником. Разве он не был добр ко всем своим родным? А кто из них заботился о нем?
– Мне почти жаль, что они решились остаться, – говорил он самому себе, – я знаю, что я разочарую их. Между тем, встретив Белл в гествикском доме, он весело поздоровался с ней и с выражением искренней радости сообщил, что побег их в Гествик не состоится.
– Как я рада! – сказала Белл. – Я давно этого желала.
– Я думаю, теперь желает этого и твоя мать.
– Я уверена в том. Это было недоразумение с самого начала. Когда кто-нибудь из нас не мог исполнить вашего желания, мы думали за лучшее… – Белл остановилась, увидев, что можно легко попасть впросак.
– Не станем больше говорить об этом, – сказал сквайр. – Дело теперь, кончено, и я рад, что оно кончилось так приятно. Вчера я имел разговор с доктором Крофтсом.
– В самом деле?
– Да, за день до свадьбы он должен приехать ко мне и остаться у меня. Мы все уже устроили. В Большом доме у нас будет завтрак, ты назначь только день. Конечно, тебе надобно принарядиться, так вот тут есть немного денег: ты должна истратить их до свадьбы.
Сказав это, он удалился, и как только увидел себя одного, снова сделался унылым и печальным. Это был человек, которому предназначено было до конца своей жизни испытывать тихую грусть и беспрерывное уныние.
Мы оставили Джонни Имса на попечении леди Джулии, которая застала его за срезыванием имени Лили с перил пешеходного мостика. Он замышлял отправиться в дом своей матери в Гествик и оттуда сейчас же в Лондон, не показываясь в дом лорда Дегеста. Но как скоро он услышал шаги леди Джулии и увидел подле себя ее фигуру, он убедился, что отступление ему было отрезано. Поэтому он позволил отвести себя спокойно домой. Он откровенно рассказал леди Джулии последствия свидания с Лили Дель, объявил, что все его надежды рушились, что ему не видеть больше счастья, что бедное сердце его уже вполовину разбито. Хотя Джонни, быть может, меньше всего заботился о ее поздравлении с успехом, но теперь сочувствие леди Джулии и ее утешения были отраднее утешений всякого другого лица в доме графа.
– Не знаю, что мне сказать вашему брату, – прошептал Джонни, приближаясь к дверям, в которые намеревался войти.
– Хотите, я все передам ему? После того, разумеется, он скажет вам несколько слов, но бояться его нечего.
– А мистер Дель? – спросил Джонни. – Все услышат об этом, все узнают, какого дурака я сделал из себя.
Леди Джулия уверила его, что граф переговорит со сквайром, что никто не будет считать его дураком, и потом оставила его. Придя в свою комнату, Джонни нашел в ней письмо от Кредля. Содержание этого письма мы считаем за лучшее перенести в следующую главу, – оно не имело такого свойства, которое могло бы доставить утешение или увеличить его горесть.
За час до обеда кто-то постучал в дверь комнаты Джонни, и со словом «войдите» в ней явился сам граф. Он был в обыкновенном костюме фермера. Леди Джулия встретила его при входе в дом, и граф отправился прямо к своему молодому другу, получив от добродушной сестры наставления в том, что следовало ему говорить. Я, однако же, не убежден, что при этом случае граф держался строго данной программы.
– Ну что, мой друг, – начал он, – молоденькая леди упрямится!
– Да, милорд. Впрочем, не знаю, упрямится ли она или нет, знаю только, что для меня все кончено.
– О, перестань, Джонни, это так всегда бывает. Сколько мне известно, половина из них не принимает предложений с первого раза.
– Но я другого предложения не сделаю.
– Это отчего? Уж не думаешь ли ты сказать, что рассердился на нее за отказ?
– Нисколько. Я не имею права сердиться на нее. Я сердит на самого себя, лорд Дегест, сердит за то, что я такой дурак. Я бы желал лучше умереть, чем приехать сюда с этим искательством. Я заранее предвидел, что это так будет.
– Я так вовсе этого не вижу. Приезжай сюда снова. Позволь, когда бы это лучше? Теперь май… Ну, приезжай в сентябре, когда начнется сезон охоты. Если трудно будет достать отпуск, мы выпишем сюда и старого Бофля. Только, клянусь Георгом, он нас всех перестреляет. Но ничего, мы устроим это. Потерпи до сентября, а там мы примем другую тактику. Сквайр намерен задать маленькую пирушку для новобрачных, на которую должна пожаловать и миледи Лили. Ты, разумеется, встретишься с ней, – а потом мы постреляем на полях сквайра. Таким образом мы и сведем вас, увидишь, правду ли я говорю. Большая диковина! Отказала раз! Да я уверен, что в нынешнее время девушка до тех пор не примет предложения, пока не сделает с полдюжины отказов.
– Лили не принадлежит к числу таких девушек.
– Послушай, Джонни, я не смею сказать слова против мисс Лили. Я очень люблю ее и считаю ее одной из самых миленьких девушек, которых я знаю. Когда она будет женой твоей, я буду любить ее еще больше, если она позволит, но она сделана из такой же точно материи, как и другие девушки, и точно так же будет действовать, как и другие. Дело между вами немного позапуталось, так нельзя же ожидать, чтобы оно выправилось в минуту. Теперь она знает твои чувства и будет думать о них, и наконец ты сделаешься постоянным предметом ее дум и вытеснишь из них того негодяя. Если в такую пору жизни она была так несчастлива, что встретилась с человеком, который изменил ей, то из этого еще не следует, что она сделается старой девой. Нужно немного времени, если ты не бросишь своей цели, не будешь унывать, то увидишь, что все кончится прекрасно. Не всякому дается в одну минуту то, что ему захочется. Как я буду трунить над тобой года через два или три после женитьбы!
– Не знаю, в состоянии ли я буду сделать ей вторично предложение, я уверен, что если и сделаю, то ответ будет тот же самый. Она высказала мне… но я не могу повторить ее слова.
– Я и не хочу, чтобы ты повторял их, но все-таки скажу, что не следует обращать на них особого внимания. Лили Дель очень миленькая девушка. Умная, я полагаю, и добрая, я уверен в том, но ее слова нисколько не священнее слов других мужчин или женщин. Разумеется, она высказала тебе все, что было на ее уме, но умы мужчин и женщин склонны к переменам, особливо когда такие перемены ведут к их собственному счастью.
– Во всяком случае, лорд Дегест, я никогда не забуду вашего великодушия.
– Еще одну вещь я должен сказать тебе, Джонни. Мужчина никогда не должен позволять себе унывать в чем бы то ни было, не должен обнаруживать своего уныния перед другими мужчинами.
– Да, легко это сказать, но каково исполнить?
– Стоит только прибегнуть к своему мужеству. Ты не устрашился бешеного быка, не устрашился того негодяя, которого поколотил на станции железной дороги. Ты имеешь достаточный запас мужества этого рода. Теперь ты должен доказать, что ты имеешь и другой род мужества. Ты знаешь сказку о мальчике, который не расплакался, когда волк укусил его под рубашонкой. Большая часть из нас имеет волка, который кусает за что ни попало, но кусает через платье, так что свет не видит следов укушения, и нам следует держать себя так, чтобы свет и не подозревал даже, что мы укушены. Мужчина, который выдает себя за несчастного, бывает не только жалок, но и становится противен.
– В том-то и дело, граф, что волк укусил меня не сквозь платье, это всякому известно.
– В таком случае пусть те, которым известно это, узнают также, что ты можешь переносить подобные раны без жалобы. Откровенно скажу тебе, что я не могу сочувствовать плаксе-любовнику.
– Я знаю, что показался уже смешным перед всеми. Сожалею, что приехал сюда, лучше бы мне никогда не встречаться с вами.
– Напрасно это говоришь, любезный мой друг, лучше прими мой совет и помни, что я говорю тебе. Я вполне сочувствую твоему горю, но не сочувствую ни внешнему его выражению, ни унылым взглядам, ни печальному голосу, ни жалкому виду. Мужчина должен выпивать рюмку своего вина и показывать вид, что находит в нем удовольствие. Если он не в состоянии выпить ее, то он вовсе не мужчина. Одевайся же, мой друг, и приходи к обеду, как будто с тобой ничего не случилось.
Лишь только граф удалился, Джонни Имс посмотрел на часы и увидел, что до обеда оставалось минут сорок. Пятнадцати минут было совершенно довольно для того, чтобы одеться, и потому для него оставалось еще достаточно времени посидеть в кресле и обо всем передумать. В первые минуты он очень сердился, когда его друг сказал ему, что не может сочувствовать плаксе-любовнику. В этом слове заключалось много злобы. Так он чувствовал, когда услышал его, и так продолжал он думать в течение получаса, проведенного в кресле. Но, по всей вероятности, оно сделало для него гораздо больше добра, чем всякое другое слово, когда-либо сказанное графом, или всякое другое слово, которое бы граф мог употребить. «Плакса! Я вовсе не плакса, – сказал он самому себе, вскочил со стула и в ту же минуту снова опустился. – Я ничего не сказал ему. Я ничего не говорил ему. И к чему он пришел ко мне?» А все же хотя он в мыслях своих и порицал лорда Дегеста, но сознавал, что лорд Дегест был прав. Он сознавал, что действительно был плакса, и начинал стыдиться самого себя и в то же время решил, что будет вести себя, как будто с ним не приключилось никакого горя. «Я придержусь его совета и сегодня же напьюсь допьяна». Потом, для большей бодрости, Джонни запел: «Не забочусь о том, что не любит она»…
«Нет, я очень забочусь. Что это за человек, который написал подобные стихи, подобную ложь! Я думаю, всякий заботится, кроме разве бездушного зверя».
Несмотря на то, когда пришло время спуститься в гостиную, Джонни сделал усилие, которое ему посоветовал его друг, и вошел в эту комнату не с таким унылым видом, какого ожидали граф и леди Джулия. Они оба уже были там и разговаривали с сквайром, вслед за ним явилась и Белл.
– Не видал ли ты Крофтса сегодня? – спросил граф.
– Нет, я не встречался с ним.
– Еще бы! Где тебе с ним встретиться! Я хотел, чтобы он приехал к обеду, но, как кажется, он считает неприличным обедать в одном и том же доме два дня сряду. Это его теория, не правда ли, мисс Дель?
– Не знаю, милорд. Я, по крайней мере, не держусь подобной теории.
Разговор продолжался в этом роде, и Джонни увидел, что без всякого затруднения может кушать жареную баранину с выражением на лице полного удовольствия.
Мне кажется, не может быть ни малейшего сомнения, что во всех таких несчастьях, какое испытывал Джонни, страдания его увеличивались еще более от убеждения, что факты этого несчастья известны были всем окружавшим страдальца. Молодой джентльмен, с самым теплым сердцем и с самым сильным чувством, получив отказ от обожаемой им девушки, в таком только случае мог бы скушать превосходный обед, если бы был уверен, что из присутствующих с ним за обедом никто не знает об отказе. Но тот же самый молодой джентльмен найдет весьма трудным выполнить обеденный церемониал с видом действительного аппетита или гастрономического наслаждения, если будет убежден, что его собеседникам известны все факты его маленького несчастья. Вообще же можно допустить, что человек в подобном состоянии отправляется в клуб или ищет утешения в тенистых аллеях соседнего Ричмонда или Гамтон-Корта. Там, в уединении, он предается созерцанию своего положения и потом с особенным удовольствием уничтожает блюдо рыбы, котлету и умеренное количество хересу. По всей вероятности, он один отправляется в театр, и там, с едким сарказмом, начинает размышлять о суете мирской. После театра возвращается домой, разумеется, печальный, но до известной степени, закуривает сигару у открытого окна, иногда ставит перед собой стакан грогу и дает себе клятву сделать еще раз попытку. В таких случаях человек может доставить себе утешение, когда бывает один, или в толпе смертных, ничего не знающих о его несчастье, из этого нельзя не заключить, что положение Джонни Им-са было весьма жестокое. Он вызван был из Лондона, собственно, за тем, чтобы посвататься к Лили Дель, при этом сватовстве должны были присутствовать сквайр и Белл. Если бы все пошло хорошо, то ничего бы не могло быть приятнее. Джонни сделался бы героем дня, и ему все пропели бы хвалебный гимн. Но дело приняло совсем другой оборот, и ему трудно было выдержать себя, чтобы не показаться плаксой. Как бы то ни было, его усилия были таковы, что граф не мог не похвалить его за мужество, прощаясь с ним вечером, он не мог не сказать ему, что он славный малый и что у него все пойдет превосходно.
– Пожалуйста, ты не сердись на меня за грубые слова, – говорил граф.
– Я и не думал сердиться.
– Сердился, я знаю, да и должен был сердиться, но не нужно принимать всего в дурную сторону.
Джонни пробыл в доме графа Дегеста еще один день и потом возвратился в свой маленький кабинет в управлении сбора податей, к неприятному звуку колокольчика и еще более неприятному звуку оглушительного голоса сэра Рэфля.
Глава LIX ДЖОННИ ИМС СТАНОВИТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
На половине пути в Лондон Имс вынул из кармана письмо и прочитал его. Во время первой половины своего пути он размышлял о других предметах, и постепенно пришел к заключению, что в настоящие минуты лучше не думать больше об этих предметах, а потому, чтобы рассеять свои мысли, обратился к письму. Письмо было от Кредля и содержало в себе следующее:
«Управление сбора податей, – мая, 186*.
Любезный Джонни! Надеюсь, что известия, которые сообщу я тебе, не прогневят тебя, и из того, что я намерен теперь рассказать тебе, ты не выведешь заключения, что я намерен изменить дружбе, которую к тебе питаю. Нет человека (слово «человека» было подчеркнуто), внимание которого я ценил бы так высоко, как ценю твое, и хотя, после всего что слышал я от тебя при многих случаях, я чувствую, что ты не можешь иметь справедливого основания быть недовольным мною, но несмотря на то, в делах сердца трудно одному человеку понимать чувства другого, я знаю, что из-за любви какой-нибудь леди нередко возникают ссоры».
Прочитав до этого места, Джонни догадывался, что будет дальше. «Бедный Кодль! – сказал он про себя. – Попался на крючок, и уж с этого крючка ты не сорвешься!»
«Что бы там, однако же, ни было, но дело теперь зашло так далеко, что для меня невозможны никакие изменения, никакие силы на земле не в состоянии переменить меня. Права дружбы сильны, но права любви еще сильнее. Без всякого сомнения, мне известно все, что происходило между тобой и Амелией Ропер. Многое об этом я слышал от тебя самого, остальное она рассказала мне с откровенностью непорочной души, составляющею самую замечательную черту в ее характере. Она призналась, что одно время была привязана к тебе и что принуждена была позволить тебе считать ее своей невестой, собственно за твое постоянство. Теперь между вами все должно кончиться. Амелия обещала быть моею (тоже подчеркнуто), и моею она должна быть, это решено. Если это обстоятельство произведет в тебе грустное разочарование, то да найдешь ты утешение в нежных улыбках Л. Д. В этом заключается искреннейшее желание преданного тебе друга
Джозефа Кредля.P. S. Может статься, будет лучше, если я расскажу тебе все. Мистрис Ропер находилась в весьма затруднительном положении из-за своего дома. Она задолжала за наем дома и не могла уплатить некоторых счетов. Так как, по ее словам, она доведена до такого положения этими ужасными Люпексами, то я согласился взять дом в свои руки и уже выдал несколько векселей на небольшие суммы. Разумеется, уплата будет с ее стороны, тут только нужен был кредит. Она будет вести все хозяйство, а я только считаться хозяином. Полагаю, что тебе неудобно оставаться здесь, но, я думаю, и ты согласишься, что квартиры окажутся весьма комфортабельными для нескольких из наших сослуживцев, так человек для шести. Идея эта принадлежит мистрис Ропер, и я, конечно, нахожу ее весьма недурною. Первые наши усилия должны состоять в том, чтобы отделаться от этих Люпексов. Мисс Спрюс уезжает на будущей неделе. Мы обедаем теперь раздельно, каждый в своей комнате, так что Люпексы остаются без обеда. Они, однако, не обращают на это внимания и продолжают занимать гостиную и лучшую спальню. Во вторник думаем запереть для них двери и отправить все вещи их в ближайшую гостиницу».
Бедный Кредль! Имс, откинувшись к спинке скамейки, на которой сидел, и размышляя о глубине несчастья, в которое впал его друг, начинал иначе думать о своем положении. Конечно, он и сам был в своем роде жалкий человек. В жизни был один только предмет, для которого стоило жить, а между тем предмет этот был для него недоступен. В течение последних трех дней он намеревался броситься под локомотив, и теперь не был еще уверен, что этого не сделает, но все же, положение его в сравнении с положением, в котором находился бедный Кредль, можно назвать блаженством. Быть мужем Амелии Ропер и, вместо приданого, принять на себя все долги своей тещи! Увидеть себя хозяином весьма посредственных, отдаваемых внаем меблированных комнат, хозяином, на котором должна лежать вся ответственность и который отстранен от всяких выгод! И потом, главнее и хуже всего, в самом начале карьеры принять на себя все бремя пребывания Люпексов в его доме! Бедный, бедный Кредль!
Имс, отправляясь в Гествик, не взял с собой всего имущества и потому по приезде в Лондон немедленно отправился в Буртон-Кресцент, не с тем намерением, чтобы остаться там, даже на ночь, но чтобы проститься со старыми друзьями, поздравить Амелию и свести окончательные счеты с мистрис Ропер. В предшествовавшей главе следовало бы объяснить, что граф, при прощании, объявил ему, что неудача в искательстве руки Лили не может иметь ни малейшего влияния на денежные отношения. Джонни, само собою разумеется, возражал, говоря, что ни в чем не нуждается, и, при настоящих обстоятельствах, ничего не хотел принимать, но граф умел всегда поставить на своем, и поставил на своем и теперь. Поэтому наш друг, по возвращении в Лондон, был богатый человек и мог сказать мистрис Ропер, что пришлет ей банковый билет на ее маленький счет.
Джонни приехал в середине дня, вовсе не приноровляя свое возвращение к принятому чиновниками обычаю, которые старались приезжать в столицу не раньше, как за полчаса до того времени, когда они обязаны уже сидеть на местах. Но дело в том, что он воротился двумя днями раньше срока, он бежал из деревни, как будто Лондон в мае был для него несравненно приятнее сельских полей и лесов. Впрочем, на его возвращение не имели ни малейшего влияния ни Лондон, ни поля, ни леса. Он уехал с тем, чтобы броситься к ногам Лили Дель, уехал, как он признавался самому себе, с светлыми надеждами, и воротился, потому что Лили не захотела видеть его у ног своих. «Я любила его, то есть Кросби, больше всего на свете. Чувство это не изменилось во мне. Я и теперь люблю его больше всего на свете». Вот слова, которые заставили его бежать из Гествика и Оллингтона, а когда слова эти продолжали звучать в его ушах, для него было решительно все равно возвратиться двумя днями раньше или позже. Маленький кабинетик в Лондоне, даже с аккомпанементом голоса и колокольчика сэра Рэфля Бофля, казался ему несравненно приятнее гостиной леди Джулии. Поэтому он решился в тот же день явиться сэру Рэфлю, но прежде всего хотел заехать в Буртон-Кресцент и проститься с Роперами.
Верная Джемима отворила ему дверь.
– Мистер Имс! Мистер Имс! Вы приехали! Ах боже мой! – И бедная девушка, всегда принимавшая его сторону во всех домашних сценах, подняла руки кверху и начала оплакивать судьбу, которая отнимала у нее ее фаворита. – Я полагаю, мистер Джонни, вам все известно! – Мистер Джонни объявил, что ничего не знает, и спросил о хозяйке дома. – Дома, дома! Где же ей и быть! Из-за этих Люпексов никуда не смеет показаться. А славная штука! Ни завтрака, ни обеда, ничего! Вот это сундуки мисс Спрюс. Она уезжает сейчас, сию минуту! Вы всех их найдете наверху, в гостиной!
Джонни отправился наверх, в гостиную, и там действительно, нашел мать и дочь, а с ними вместе и мисс Спрюс, совершенно упакованную в шляпку и шаль.
– Перестаньте, мама, – говорила Амелия, – стоит ли говорить об этом? Хочет уехать, так и пусть уезжает!
– Но я столько лет прожила вместе с ней, – сказала мистрис Ропер, удерживая рыдания. – И я всегда все для нее делала! Не правда ли? Скажите, Салли Спрюс.
Хотя Имс прожил в этом доме около двух лет, но он в первый раз услышал имя старой девы, и это до некоторой степени поразило его. Мисс Спрюс первая заметила появление в гостиной Джонни Имса. По всей вероятности, пафос мистрис Ропер вызвал бы пафос со стороны мисс Спрюс, если бы она оставалась незамеченною, но вид молодого человека возвратил ей обычное ее спокойствие.
– Ведь я старуха, вы это знаете, – сказала она. – А вот и мистер Имс воротился.
– Как поживаете, мистрис Ропер? Как ваше здоровье… Амелия? Как вы поживаете, мисс Спрюс? – спрашивал Джонни, пожимая руки.
– Ах, боже! – сказала мистрис Ропер. – Вы меня совсем испугали!
– Скажите, пожалуйста, мистер Имс, можно ли возвращаться таким образом? – спросила Амелия.
– Как же иначе я должен возвратиться? Вы не слышали, как я постучал в дверь, вот и все. Так мисс Спрюс решительно оставляет вас?
– Не ужасно ли это, мистер Имс? Девятнадцать лет мы прожили вместе. Не правда ли, мисс Спрюс? – Мисс Спрюс хотела было убедить Джонни Имса, что в сущности приводимый период времени не превышал восемнадцати лет, но мистрис Ропер, как пользовавшаяся большим авторитетом, не допустила этого.
– Ровно девятнадцать лет. Уж позвольте, никто лучше меня не помнит чисел, и никто в мире не сумеет угодить ей, как я. Не я ли приходила к вам в спальню каждый вечер и не своими ли руками подавала я вам?.. – Но тут мистрис Ропер остановилась, она была слишком добрая женщина, чтобы объяснять в присутствии молодого человека свойство вечерних услуг для своей квартирантки.
– Мисс Спрюс, я не думаю, что в другом месте вам будет спокойнее, – сказал Имс.
– Спокойнее?! Никогда, – сказала Амелия. – На месте мама я не стала бы и тратить слов по-пустому.
– Тут не о деньгах идет речь, а о чувствах, – говорила мистрис Ропер. – Дом мой совсем опустеет. Я не буду узнавать себя, право, не буду. А теперь же, все-таки хорошо устраивается… во вторник должны выехать Люпексы. Салли, я вам вот что скажу, – я сама заплачу за кеб, а завтра отправлюсь в омнибусе в Дульвич и там, где нужно, заплачу из своего кармана. Заплачу, да и только. Вон и кеб. Я сейчас же сойду вниз и отпущу его.
– Позвольте мне это сделать, – сказал Имс.
– Больше шести пенсов не давайте, ведь ему следует только за то, что тронулся с места, – сказала мистрис Ропер вслед за уходившим Имсом. Однако кебмен получил шиллинг, и Джонни, по возвращении, застал Джемиму в перетаскивании чемоданов мисс Спрюс обратно в комнату.
«Тем лучше для бедного Кодля, – сказал он про себя. – Он пустился в коммерческие обороты, следовательно, весьма недурно приобрести человека, который верно будет платить деньги».
Мистрис Ропер пошла проводить мисс Спрюс наверх, и Джонни остался с Амелией.
– Он писал вам, я знаю, – сказала Амелия, отвернув свое лицо немного в сторону. Она была очень недурна, но в ее лице было что-то холодное, тяжелое, угрюмое, много вредившее приятности его выражения. При настоящем случае она не хотела казаться угрюмою.
– Да, – сказал Джонни. – Он сообщил мне, что ожидает его.
– И что же?
– Ничего.
– Неужели у вас ничего нет больше сказать мне?
– Я хотел бы вас поздравить, если позволите.
– Фи! Поздравления! Я терпеть не могу таких пустяков. Если вы этому не сочувствуете, то я и подавно. Я, право, не знаю, какую пользу приносят нам чувства, по крайней мере, я никакой пользы не вижу в них. Скажите, вы дали слово жениться на мисс Л. Д.?
– Нет.
– И вы ничего больше не имеете сказать мне?
– Ничего, кроме выражения моих надежд на ваше счастье. Что же еще могу я сказать? Вы выходите замуж за моего друга Кредля, и, мне кажется, это будет счастливая партия.
Амелия еще больше отвернула от него лицо, и взгляд ее сделался еще угрюмее. Можно ли было ожидать, что в эту минуту она еще надеялась на пробуждение в нем чувства любви?
– Прощайте, Амелия, – сказал он, протянув ей руку.
– Неужели вы в последний раз в нашем доме?
– Ничего не знаю. Если позволите, я приду навестить вас, когда вы будете замужем.
– Да, – сказала она, – чтобы поселить в нашем доме ревность, шум и разные сцены, как это было из-за той ветреной женщины, которая теперь наверху! Я знаю, вы этого не сделаете! Джон Имс, было бы лучше, если бы я вас никогда не видала. Было бы лучше, если бы смерть поразила нас при первой нашей встрече. Я не думала, что в состоянии буду любить так мужчину, как любила вас. Я знаю, все это вздор, пустяки и дурачество. Это хорошо для молоденьких женщин, которые всю свою жизнь могут сидеть в гостиной сложа руки, но, когда женщина должна проложить себе дорогу в свете, тогда это становится чистейшей глупостью. А как трудно проложить себе такую дорогу!
– Но теперь для вас не будет трудно.
– Не будет? Нет, я думаю, будет очень трудно. Желала бы я, чтобы вы сами испытали это. Вы не думайте, что я жалуюсь. Я никогда не боялась работы, а что касается общества, то положительно могу обойтись и без него. Для таких, как я, свет не будет задавать балов. Я знаю это очень хорошо. Но… и… – Амелия остановилась.
– Что вы хотели сказать, Амелия?
– И вы еще меня спрашиваете? – Действительно, Джонни не должен был спрашивать ее. – Впрочем, ничего. Я не хочу ссориться с вами. Если вы были обманщиком, то я была дура.
– Мне кажется, я не был обманщиком.
– Значит, я была тем и другим, и была так добровольно. После этого вы можете уйти. Я сказала, чем я была, а вам предоставляю самим приискать себе название. Я не думала, что я способна быть такой дурой. Это-то меня и бесит. Но оставимте это, теперь все кончено, желаю вам всего хорошего.
Не вижу ни малейшего основания, на котором Джонни Имс должен бы был поцеловать Амелию, а между тем он поцеловал ее. Амелия спокойно, но с угрюмым выражением в лице приняла поцелуй.
– Это будет последний, – сказала она. – Прощайте, Джон Имс.
– Прощайте, Амелия. Старайтесь быть для него доброй женой, и тогда вы будете счастливы.
При этих словах Амелия вздернула свой нос и, приняв вид глубокого пренебрежения, ничего не ответила, Джонни удалился. В дверях гостиной он встретил мистрис Ропер и воспользовался этим случаем, чтобы сказать несколько прощальных слов.
– Как я рада, что вы приехали, – сказала мистрис Ропер. – Только вы и могли убедить мисс Спрюс остаться у меня. Вы знаете, деньги ее верные! Насчет Амелии и Кредля вам уже все известно. Она будет для него доброй женой, могу вас уверить, добрее, чем вы думали.
– Мистрис Ропер, я нисколько не сомневаюсь, что она будет весьма доброй женой.
– Дело в том, мистер Имс, теперь все кончилось, и мы понимаем друг друга, не правда ли? Мне было очень неприятно, когда она задумывала завлечь вас. Но все же она моя дочь, и я не могла идти против нее, согласитесь сами, могла ли я? Я знала, что она вам не партия. Боже избави! Я знаю разницу. Дело другое – мистер Кредль, она ему отличная пара.
– Так, так, – сказал Джонни, не зная, что ответить на это.
– Отличная пара, и если мистер Кредль будет выполнять свой долг в отношении к ней, она не забудет и своего долга. Что касается вас, мистер Имс, то я всегда считала ваше пребывание в моем доме за особенную честь и удовольствие, и если вы употребите свое влияние и отрекомендуете мой дом кому-нибудь из молодых людей, я постараюсь заменить им родную мать. Я знаю, что вполне заслуживала порицания из-за этих Люпексов, но, мистер Имс, разве я не пострадала за это? Кто же мог узнать с первого раза, что это за люди. Если вы пришлете сюда молодых людей, то поверьте, что ни под каким видом не возобновится тех отношений, какие существовали между вами и Амелией. Я знаю, что этого не следовало бы допускать, то есть в отношении к вам, но мне бы хотелось услышать от вас, что вы считали меня женщиной честною. По крайней мере, я всегда старалась быть честною.
Джонни уверял ее, что убежден в ее честности и что никогда не думал порицать ее ни относительно этих несчастных Люпексов, ни в каких-либо других отношениях.
– Едва ли, – говорил Имс, – кто-нибудь из молодых людей обратится ко мне за советом насчет квартиры, но, если могу быть чем-нибудь полезным для вас, поверьте, я употреблю для этого все мои усилия.
Это были последние прощальные слова Джонни Имса, подарив верной Джемиме полсоверена, он надолго распростился с Буртон-Кресцентом. Амелия просила Джонни не приходить и не видеться с ней, когда будет замужем, и Джонни дал слово исполнить ее просьбу. Таким образом он оставил Буртон-Кресцент, не стряхнув пыли со своих ног, но решившись никогда больше не знать ни пыли этого места, ни грязи. А грязи тут действительно, было много, в настоящее время он достаточно возмужал, чтобы убедиться, что квартиранты мистрис Ропер не принадлежали к числу тех личностей, между которыми он должен был бы искать себе отдыха и развлечения. Он вышел из огня сравнительно невредимым, и, к сожалению, я должен сказать, нисколько не сочувствовал тем страшным ожогам, которым подвергся его друг и которым должен был бы подвергнуться сам. Ему приятно было смотреть на это дело совершенно так, как смотрела на него мистрис Ропер. Амелия будет женой довольно хорошей для Джозефа Кредля. Бедный Кредль! На этих страницах мы больше ничего не услышим о тебе! Я не могу не думать, что он получил слишком суровое возмездие за свои прегрешения. Он был слабее и безрассуднее нашего друга и героя, хотя и менее его порочен. Но наказания обыкновенно выпадают на тщеславных и безрассудных, они рушатся на них так сильно и так постоянно, что мыслитель невольным образом усваивает себе идею, что тщеславие и безрассудство принадлежат к числу таких прегрешений, за которые меньше всего можно ожидать прощения. Относительно Кредля я могу сообщить, что он женился, женился на Амелии, с гордостью занял место хозяина дома в конце стола мистрис Ропер и с тем вместе сделался ответственным лицом за все долги мистрис Ропер. Недостаток места на этих страницах не допускает никакой возможности поговорить о судьбе, которая ожидает его впереди.
Оставив Буртон-Кресцент, Имс покатил к месту своего служения и прибыл туда в то время, когда многие выходили из него, в четыре часа. Кредля уже не было, поэтому Джонни не удалось с ним видеться, но зато ему представился случай обменяться пожатием руки с мистером Ловом, который улыбался и кланялся, отдавая этим достодолжную дань уважения сослуживцу, который приобрел некоторое значение. В коридоре Джонни встретился с мистером Киссином, который, по обыкновению, бегал из угла в угол с громадной книгой под мышкой. При встрече мистер Киссин сдержал свою походку, но Имс только взглянул на него и даже почти не удостоил ответом на его поклон. Мистер Киссин, однако же, не обиделся, он знал, что частный секретарь первого комиссионера был друг графа Дегеста, чего же больше можно было ожидать от него? После того Джонни предстал пред величавой особой сэра Рэфля и увидел, что этот великий человек надевал свои башмаки в присутствии Фиц-Говарда. Фиц-Говард покраснел, но он не дотронулся до башмаков Рэфля, так, по крайней мере, объяснял он впоследствии Джонни Имсу.
Сэр Рэфль обратился весь в улыбку и любезность.
– Я в восторге от вашего возвращения, Имс, клянусь честью, в восторге, хотя у нас с Фиц-Говардом остановки в делах не было, не правда ли, Фиц-Говард?
– О, да, – протяжно произнес Фиц-Говард. – Пока Имс был в отпуске, я не видел затруднения.
– При вашем равнодушии к делу вы никогда его и не увидите, впрочем, это ничего не значит: ваш хлеб всегда будет намазан маслом, где бы вы ни находились. Засвидетельствуйте мое почтение герцогине, когда увидите ее.
Фиц-Говард раскланялся.
– Как поживает старый мой друг? – спросил сэр Рэфль, как будто из всех людей в мире он к одному только лорду Дегесту питал самую давнишнюю и сильную любовь.
А между тем он должен был бы знать, что Джонни Имсу столько же было известно об этой любви, сколько и ему самому. Но есть такие люди, которые находят величайшее удовольствие называть лордов и маркизов своими друзьями, хотя они и знают, что никто не верит слову, ими сказанному, знают также, до какой степени они становятся противны и смешны вследствие своего тщеславия. Это в своем роде сумасшествие, которое господствует в низших слоях аристократии, но так как оно доставляет больному своего рода удовольствие, то лечение не требует решительных мер.
– Как поживает дорогой мой старый друг?
Имс отвечал, что дорогой старый друг находится в добром здоровье, что леди Джулия тоже здорова, что «в милом старом месте» обстоит все благополучно. Сэр Рэфль спросил о «милом старом месте», как будто оно было совершенно знакомо ему.
– В каком состоянии охота? Есть ли признаки обилия дичи? – Сэр Рэфль спрашивал с живейшим участием и даже с выражением дружеского чувства. – Да, кстати, Имс, где вы живете в настоящее время?
– Я не совсем еще устроился. В настоящую минуту я живу в отеле западной железной дороги.
– Превосходный отель, только оставаться там на весь сезон будет слишком дорого. – Джонни не имел ни малейшего намерения пробыть в отеле более одной ночи, но ничего об этом не сказал. – Не вздумаете ли завтра отобедать с нами? Леди Бофль давно желает познакомиться с вами. У нас еще будет человека два. Я просил моего друга Думбелло, но в доме у него какие-то неприятности, и ему нельзя отлучиться.
Джонни был снисходительнее лорда Думбелло и принял приглашение. «Желал бы я знать, что за личность леди Бофль?» – сказал он про себя, выходя из должности.
Он воротился в отель, не зная, где приискать себе квартиру. В отеле мы и оставим его за бараньей котлетой, которую он кушал за одним из столов, комфортабельных на вид, но далеко не комфортабельных в действительности. Я говорю это не относительно названного мною заведения, но относительно свойства подобных столов вообще. Одинокая баранья котлета в кофейной комнате великолепного отеля далеко не составляет завидного лакомства, а если баранья котлета будет обращена в суп, рыбу, небольшое блюдо, большое блюдо и прочее, лакомство сделается хуже, а отнюдь не лучше. Ну, какой можно иметь комфорт, если мы одиноко будем сидеть за столом, осматривать комнату и наблюдать за лакеями, беспрестанно шмыгающими мимо вас с салфетками? Мне кажется, только один англичанин способен находить комфорт в подобном положении! Во всяком случае мы оставим здесь Джонни Имса, и при этом да позволено мне будет объявить, что он только теперь, в настоящую минуту, вступил в мужество. До этой поры он был юноша, теленок, который продлил период своего телячества дальше, чем обыкновенно бывает с телятами, но который вследствие такого замедления не подал ни малейшего повода к заключению, что из него выйдет бык хуже, чем другие. До этой поры, как было уже сказано, его жизнь не сопровождалась блестящими успехами, даже не подготовила его к роли героя, которую он должен был разыгрывать. Я чувствую, что был не прав, сообщив такую рельефность юношеству, и что лучше рассказал бы свою историю, если бы еще рельефнее нарисовал на моем полотне мистера Кросби. Последний, однако же, приобрел себе жену, как это и следовало герою, между тем как мой бедный друг Джонни должен оставаться без всякой перспективы супружеской жизни.
Так он думал о себе за одиноким столом в кофейной комнате отеля. Он признался самому себе, что до настоящей минуты не был еще мужчиной, и в то же время сделал решение, которое, надеюсь, может помочь ему к вступлению с этого времени в мужество.
Глава LX ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В начале июня Лили отправилась к дяде своему в Большой дом просить за Хопкинса, просить о возвращении Хопкинсу привилегий главного садовника в Большом доме. Это обстоятельство покажется некоторой несообразностью, потому что нигде не было говорено об отнятии этих привилегий, но они были отняты вследствие следующей ссоры.
В те дни, и даже в течение нескольких лет, между Хопкинсом и Джоллифом, управляющим имением, существовало несогласие из-за навоза. Хопкинс утверждал, что имеет право брать со двора фермы все, что ему потребуется, не спрашивая ничьего позволения. В свою очередь, Джоллиф объявил, что если это так, то Хопкинс может взять весь навоз.
– А что я стану с ним делать? Ведь не есть же мне его! – сказал Хопкинс.
Джоллиф что-то проворчал, выразив этим ворчанием, как думал Хопкинс, что хотя садовник и не в состоянии съесть кучу навозу в пятьдесят футов длины и пятнадцать вышины, но он мог обратить их в ведомые предметы для личного своего употребления. Таким образом между ними возникла вражда. Несчастного сквайра пригласили быть посредником, он употреблял всевозможные средства, чтоб отклонить от себя решение спорного вопроса, но наконец Джоллиф принудил его объявить, что Хопкинс не должен брать того, что не находилось в его заведывании. Когда сквайр объявил это решение, Хопкинс прикусил свои старые губы и, не сказав ни слова, повернулся на своем каблуке.
– Ты увидишь, что так это делается и в других местах, – сказал сквайр в виде извинения.
– В других местах! – с презрением произнес Хопкинс. – Где он найдет таких садовников, как он сам?
Нужно ли говорить, что с этой минуты Хопкинс решился никогда не исполнять подобного приказания. На другое утро Джоллиф донес сквайру, что приказание нарушено, и сквайр, раздосадованный и взбешенный, тут же пожелал, чтобы на Хопкинса обрушилась вся куча, послужившая поводом к раздору.
– Если все будут делать, как им хочется, – сказал Джоллиф, – тогда никому ни до кого не будет дела.
Сквайр понимал, что если отдано было приказание, то его следовало исполнить, и потому, со стенанием в душе, решился объявить Хопкинсу войну.
На следующее утро сквайр увидел, что Хопкинс сам катил огромную тачку навозу на огород. Надо заметить, что от Хопкинса не требовалось, чтобы он сам исполнял подобные работы. Он имел человека, который колол дрова, возил воду, катал тачки, одного человека постоянно, а часто и двух. Сквайр с первого взгляда догадался, в чем дело, и приказал Хопкинсу остановиться.
– Хопкинс, – сказал он, – почему ты, прежде чем взять, не попросил, что тебе нужно?
Хопкинс опустил тачку, посмотрел в лицо сквайра, плюнул на обе ладони и снова поднял тачку.
– Хопкинс, это не дело! – сказал сквайр. – Остановись, я приказываю.
– Почему же это не дело? – спросил Хопкинс, продолжая держаться за тачку, но не давая ей движения.
– Опусти ее, Хопкинс. – И Хопкинс опустил. – Ты знаешь, что ты положительно не исполнил моего приказания.
– Сквайр, я прожил на этом месте почти семьдесят лет.
– Да хоть бы ты прожил сто семьдесят лет, все-таки здесь не должно быть более одного господина. Я здесь господин, и намерен быть господином до самой моей смерти. Отвези навоз назад, на ферму.
– Назад, на ферму! – сказал Хопкинс очень протяжно.
– Да, назад, на ферму.
– Как! Чтобы все это видели?
– Да, чтобы видели все, ты перед всеми не исполнил моего приказания.
Хопкинс на минуту задумался, отвел глаза от сквайра и покачал головой, как будто он нуждался в глубокой мысли, чтобы с ее помощью прийти к верному заключению. Потом он снова схватил тачку и почти рысью покатил свой приз на огород. При такой скорости шага сквайр не в силах был остановить его, да и не имел желания вступить в личную вражду с садовником. В припадке сильного гнева мистер Дель закричал Хопкинсу, чтобы не пенял на последствия своего ослушания. Хопкинс, продолжая бежать, покачал головой, вывалил содержание тачки у огуречных парников и, сейчас же возвратясь к господину, передал ему ключ от оранжерей.
– Мистер Дель, – сказал Хопкинс, стараясь говорить спокойно, насколько это позволяла одышка, – вот он, вот этот ключ, мне нужно убираться, пускай пропадает жалованье за целую неделю. Сегодня же вечером я очищу коттедж, а что касается до богадельни, я полагаю, меня примут сейчас, если ваша милость даст мне записочку.
Сквайр знал, что Хопкинс имел от трех до четырех сот фунтов стерлингов, и потому намек на богадельню можно было принять за мелодраматический.
– Не будь дураком, – сказал сквайр, скрипя зубами.
– Я был дурак в этом деле, – отвечал Хопкинс. – Я не в силах был подавить свои чувства, а когда человек не в силах подавить своих чувств, ему остается только убираться прочь, забраться в богадельню и оставаться там до самой смерти. – При этом он снова подал ключ, но сквайр не принял его, и Хопкинс продолжал: – Пожалуй, мистер Дель, пока не приищете другого, я посмотрю за тепличными рамами и еще кое за чем. Жаль будет, если пропадет виноград, а он, смею сказать, весь годится для стола. Я давно не видывал такого урожая. Я так ухаживал за ним, что до самого февраля не провел ни одной ночи спокойно. В здешнем месте не найдется человека, который бы смыслил что-нибудь в винограде, не найдется нигде и по соседству. Старший садовник милорда ничего в этом деле не смыслит, да если бы и смыслил, то не пойдет сюда. Извольте, мистер Дель, я продержу ключ, пока вы приищете другого человека.
После этого в течение двух недель в садах было междуцарствие, самое страшное в летописях Оллингтона. Хопкинс продолжал жить в коттедже и еще усерднее смотреть за виноградом. Присматривая за виноградом, он принял на свое попечение одни оранжереи, но до самых садов ему не было никакого дела, он не взял жалованья, возвратил его сквайру и всем объявлял, что его уволили. Он ходил по саду, всегда имея в руках какое-нибудь страшное садовническое оружие, с которым, как говорили, намеревался сделать нападение на Джоллифа, но Джоллиф поступал весьма благоразумно, избегая встречи.
Как скоро мистрис Дель и Лили решили, что побег из Малого оллингтонского дома не должен состояться, Лили сообщила этот факт Хопкинсу.
– Мисс, – заметил он, – когда я сказал несколько слов вам и вашей мама, я знал, что вы послушаетесь голоса рассудка.
Лили заранее ждала такого замечания, она знала, что Хопкинс непременно припишет своим доводам решимость остаться на месте.
– Да, – сказала Лили. – Мы думали, думали и положили остаться. Притом же это желание дяди.
– Желание дяди! Извините, мисс, тут не одно только его желание: мы все этого желаем. Нет, тут дело рассудка. Вот хоть бы этот самый дом…
– Но, Хопкинс, это уже решено. Мы остаемся. Я хотела бы только знать: не можешь ли ты прийти к нам сейчас же и помочь распаковать все вещи.
– Как! Сегодня же… вечером, когда…
– Да, да, теперь, мы хотим расставить все вещи на прежние места, прежде чем наши воротятся из Гествика.
Хопкинс почесал в голове и начал колебаться, ему не хотелось принять предложения, которое могло быть сочтено за детское, но наконец он согласился, сознавая, что предлагаемая работа сама по себе была добрым делом. Мистрис Дель тоже согласилась, смеясь над ребяческим поступком Дель, вещи были весьма скоро распакованы, и между Лили и Хопкинсом образовалась на некоторое время тесная дружба. Распаковка и расстановка вещей не совсем еще кончилась, когда возгорелась война из-за навоза и когда Хопкинс, не имея достаточно сил, чтобы подавить свои чувства, пришел наконец к Лили и, сложив к ногам ее всю тяжесть и всю славу своей более чем шестидесятилетней службы, умолял ее привести дела в прежний порядок.
– Это убивает меня, мисс, право, убивает, посмотрите только, как срезают они спаржу, это вовсе не срезка, они просто калечат ее. Режут сплеча, что годится и что не годится. Сажают овощи там, где я вовсе не думал сажать, хотя они и знают, что я этого не думал. Я стоял подле и не мог сказать слова. Я скорее бы согласился умереть. Мисс Лили, если бы вы знали мои страдания при виде всего этого… о нет! их никто не перескажет… никто, никто и никто!
Хопкинс отвернулся и заплакал.
– Дядя, – сказала Лили, подойдя к самому его креслу, – я хочу просить у вас большой милости.
– Большой милости! В настоящее время, мне кажется, я не в состоянии буду отказать тебе в чем бы то ни было. Не намерена ли ты попросить, чтобы я пригласил к себе еще одного графа?
– Еще одного графа? – спросила Лили.
– Да, разве ты не слышала? Мисс Белл была здесь сегодня поутру и требовала, чтобы на свадьбу я непременно пригласил лорда Дегеста и его сестру. Мне кажется, между Белл и леди Джулией есть какие-то замыслы.
– И конечно, вы пригласите их?
– Разумеется, я должен пригласить. От этого не отделаешься. Все это будет прекрасно для Белл, которая отправится с мужем в Уэльс, но что придется мне делать с леди Джулией и графом, когда молодые уедут? Не придешь ли ты на помощь ко мне?
В ответ на это Лили, само собой разумеется, обещала прийти и помочь.
– Я думаю, что в этот день мы и без того все будем у вас. Теперь насчет милости. Дядя вы должны простить Хопкинса.
– Простить Хопкинса! Ни за что! – сказал сквайр.
– Нет, простите его. Вы не можете себе представить, до какой степени он несчастлив.
– Каким же образом я прощу человека, который не хочет мне уступить! Он шатается здесь и ничего не делает, возвращает назад жалованье и смотрит таким зверем, как будто намерен кого-нибудь убить, и все из-за того, что не хочет делать так, как приказывают. Могу ли я простить подобного человека?
– Почему же нельзя, дядя?
– Это будет значить все равно, что он простит меня. Он знает очень хорошо, что может приступить к делу, когда ему вздумается, да и то сказать, его никогда не отстраняли от дела.
– Но, дядя, он кажется таким несчастным.
– Что же могу я сделать, чтобы он был счастливее?
– Дойти до его коттеджа и сказать, что вы его прощаете.
– Он начнет спорить со мной и представлять свои резоны.
– Не думаю, он слишком убит для того, чтобы спорить теперь.
– Ах, Лили! Ты не знаешь его так, как знаю я. Никакие несчастья в мире не в состоянии уменьшить заносчивости этого человека. Изволь, я схожу, если ты просишь, но мне кажется, это будет значить, что я создан для того, чтобы всякому подчиняться. Я слышу очень много о чувствах других людей, но не знаю, чтобы кто-нибудь подумал о моих собственных чувствах.
Сквайр был далеко не в приятном настроении духа, так что Лили начинала сожалеть о своей настойчивости. Как бы то ни было, она успела вытащить его из дому и пройти с ним через сад к коттеджу, по дороге Лили обещала думать о нем всегда и всегда. Сцена с Хопкинсом не может быть описана теперь, она заняла бы много из весьма немногих остающихся страниц для нашего рассказа. Считаю необходимым, однако же, сказать, что в результате ее для сквайра всего торжественнее было заключение трактата взаимного прощения. Хопкинс признавался и обвинял себя в том, что не в силах был сдержать своих чувств, но при этом надо было видеть его раздражение! Он не мог удержать языка, и, разумеется, также много сказал в свое оправдание, как и в признание своей виновности. В сущности, торжество было на его стороне, потому что с этой поры никто не должен был вмешиваться в его распоряжения на дворе фермы. Главнее всего он показал покорность своему господину согласием получить жалованье за две недели, проведенные им в совершенной праздности.
Благодаря этому маленькому событию, Лили более уже не боялась неприятных разговоров, которых следовало ожидать от Хопкинса по поводу изменившихся планов переселения, но нельзя было надеяться на такую же пощаду со стороны мистрис Харп, мистрис Кромп и, пуще всего, мистрис Бойс. Все они принимали участие более или менее сильное в размолвке Хопкинса с сквайром, но участие их в занятии Малого дома было несравненно сильнее, отказ садовника принять жалованье становился для мистрис Харп предметом второстепенной важности, в то время, когда она занята была вопросом, будет ли дом окрашен, как внутри, так и снаружи. «Да, – говорила она, – я сама думаю сходить в Гествик и приискать квартиру, сама уложу и постели свои». Лили ничего не отвечала на это, чувствуя, что это была часть того наказания, которого она ожидала.
– Без вас мы бы совсем осиротели, – сказала мистрис Кромп, обращаясь к Лили и Белл, – а может быть, вместо вас мы получили бы кого-нибудь хуже, но зачем вы запаковали все свои вещи в огромные сундуки? Неужели только для того, чтобы снова все распаковать?
– Мы отдумали переезжать, мистрис Кромп, – отвечала Белл довольно сердито.
– Да, я знаю, что отдумали. Для таких людей, как вы, это возможно, без всякого сомнения, но когда мы что-нибудь отдумаем, тогда все заговорят.
– Кажется, что так! – сказала Лили. – Ничего, мистрис Кромп. Не задерживайте только наших писем, и мы не будем ссориться.
– Письма! Будь они прокляты. Я желала бы, чтобы подобной дряни совсем не существовало. Вчера был здесь какой-то человек с таким повелительным тоном. Не знаю, откуда он приехал, вероятно, из Лондона, и это для него не хорошо, и то дурно, и все скверно, а потом и говорит, что откажет мне от места.
– Скажите, пожалуйста, мистрис Кромп, это весьма неприятно!
– Откажет от места! Откажет в двух с половиной пенсах в день! Я и сказала ему, пусть он отказывает самому себе, пусть берет себе на плечи старые сумки и всякую дрянь. Письма – великая важность! И зачем они нанимают почтмейстеров, если не могут заплатить больше двух с половиною пенсов?
Таким образом под прикрытием урагана гнева мистрис Кромп, разразившегося над почтинспектором, который навестил ее, Лили и Белл избавились от многого, что должно бы было обрушиться на их головы. Оставалась еще мистрис Бойс. Здесь, однако, для доведения истории мистрис Кромп до отдаленнейшего по возможности периода, я могу прибавить, что ей «не отказали от места» и что она продолжает получать от короны по два с половиной пенса в день.
– Должно быть, это презлая старуха, – сказал инспектор отвозившему его человеку.
– Точно так, сэр, все так отзываются о ней. Редко кого не обсчитает или не облает.
Белл и Лили вместе отправились к мистрис Бойс.
– Если она будет становиться несносною, я заговорю о твоей свадьбе, – сказала Лили.
– Сделай одолжение, – отвечала Белл, – я не против этого, только не знаю, можно ли тут о чем-нибудь разговориться. Свадьба доктора – это такой обыкновенный предмет для разговора.
– Однако не обыкновеннее, чем свадьба священника, – сказала Лили.
– Ну уж, не знаю. Свадьбы священников – события весьма замечательные. Они почти всегда выбирают себе невест в провинциях. Таков уж их удел. Совсем другое дело – доктора и адвокаты. Я не думаю, чтобы они когда-нибудь женились в провинции. Они делают это в Лондоне. Свадьба же провинциального доктора не может служить для разговора особенно интересным предметом.
По всей вероятности, мистрис Бойс имела с Белл одинаковый взгляд на свадьбу провинциального доктора, потому что ей не угодно было предстоящую свадьбу доктора Крофтса принять за главный предмет разговора. Как скоро Лили и Белл заняли места, мистрис Бойс немедленно завела речь о Малом доме, начав выражением своего величайшего изумления и, разумеется, радости по поводу внезапной перемены, последовавшей в их намерении.
– Тем еще милее, – сказала она, – когда между родными не будет никаких неприятностей.
– У нас, между родными, никогда не было неприятностей, – возразила Белл.
– О да, я в этом уверена. Я всегда с особенным удовольствием указывала на доброе согласие между вами и вашим дядей. И когда мы услышали о вашем намерении выехать…
– Но, мистрис Бойс, мы остаемся на месте. Мы хотели было выехать, полагая, что в Гествике нашей мама будет спокойнее, но потом отдумали и теперь остаемся здесь.
– Правда ли, что дом будут перекрашивать? – спросила мистрис Бойс.
– Я думаю, правда, – отвечала Лили.
– Снаружи и внутри?
– Когда-нибудь ведь надобно же будет это сделать, – сказала Белл.
– Да, конечно, надо, однако сказать, что со стороны сквайра это весьма великодушно. В вашем доме так много деревянных поделок. Желала бы я знать, когда наши комиссионеры вздумают выкрасить наш дом, для духовенства просто никто ничего не хочет сделать. Во всяком случае, я в восторге, что вы остаетесь… Сколько раз говорила я мистеру Бойсу, что бы стали мы делать без вас? Я уверена, что сквайр не отдал бы этого дома внаймы.
– Не знаю, отдавал ли он его когда-нибудь.
– Если бы он остался пустым, то в нем все пришло бы в ветхость и разрушение, не правда ли? А могла ли ваша мама платить за квартиру, которую наняла в Гествике?
– Право, я ничего не знаю. Белл вернее меня может сообщить вам об этом, потому что квартиру нанимал Крофтс. Я полагаю, что доктор Крофтс рассказывает ей все.
Таким образом, разговор переменился, и мистрис Бойс поняла, что, какие бы тут ни были еще секреты, открытие их при настоящем случае оказывалось невозможным.
Свадьба доктора Крофтса и Белл должна была состояться в половине июня, и сквайр решился придать этой церемонии всевозможную пышность, открыв для новобрачных и гостей двери своего дома. По особому условию между Белл и леди Джулией, о чем было уже сказано, на свадьбу был приглашен лорд Дегест и сама леди Джулия. На этот случай из Торки приехал полковник и леди Фанни, это был первый визит, сделанный полковником своему родительскому крову в течение многих лет. Бернард отказался сопутствовать отцу. Он еще не уехал за границу, но тут были обстоятельства, которые заставляли его чувствовать, что он не найдет особенного удовольствия на свадьбе. Брачный обряд совершал мистер Бойс вместе с высокопочтеннейшим Джоном Джозефом Джонсом, магистром наук, окончившим курс в Кембридже, в коллегии Иисуса, и куратором церкви Святого Петра, у северных ворот Гествика, – так гласила местная газета County Chronicle, – это маленькое объявление имело те последствия, что у читателей газеты недоставало терпения проследить его далее титула высокопочтеннейшего Джона Джозефа Джонса, а чрез это обстоятельство известие о бракосочетании Белл с доктором Крофтсом не распространилось так широко, как можно было бы желать.
Свадьбу сыграли весьма весело. Сквайр был как нельзя более любезен и принимал гостей с таким радушием, как будто присутствие их в его залах доставляло ему истинное наслаждение. Восторжествовавший Хопкинс с таким тщанием украсил цветами и зеленью старые комнаты, что Лили и Белл приходили в восторг. В течение этого периода плетения гирлянд и расстановки цветов старый старик обнаружил частичку чувства, о котором нельзя не упомянуть на этих последних строках. Лили начала хвалить вкус старика, в то время как Белл куда-то удалилась.
– Я бы желал, чтоб это было для тебя, моя милочка! – сказал Хопкинс. – Желал, чтобы это было для тебя!
– Хорошо это идет, Хопкинс, и для настоящего случая, – отвечала Лили торжественно.
– Для него я бы ничего не сделал, – продолжал Хопкинс, – ровно ничего. Одной ветки не повесил бы. А вот для другого-то!..
Лили ничего не сказала. Она знала, что старик выразил желание всех окружавших ее. Она не сказала ни слова, тем более, что в это время воротилась Белл.
Но на свадьбе никто не был так весел, как Лили, – никто так не веселился, не радовался, не сочувствовал брачному торжеству. Она кокетничала со старым графом до такой степени, что он готов был сам жениться на ней. Видевшие ее в тот вечер и ничего не знавшие из ее собственной истории, никаким образом не могли бы представить себе, что она сама так жестоко была обманута месяцев шесть или восемь тому назад. А знавшие ее не могли не представить себе, что страдания, которые она выносила тогда, служили для нее таким жестоким ударом, поправление от которого казалось для нее невозможным. Хотя она сама полагала, что поправление для нее невозможно, хотя ее можно было сравнить с человеком, который потерял в сражении правую руку, но с потерею этой руки для нее не все еще утратилось. Пуля, поразившая ее так жестоко, не коснулась ее жизни, и она ни словом, ни взглядом не хотела жаловаться свету на рану, которую получила.
– Жены, потеряв мужей своих, продолжают пить, есть и веселиться, – говорила она самой себе. – А он еще не умер.
Поэтому она решилась казаться счастливою и, смею сказать, не только привела в исполнение свою решимость, но и действительно наслаждалась счастьем, насколько это было для нее доступно.
– Вы милый, добрый человек, и я знаю, будете беречь ее, – сказала она Крофтсу, когда он собрался увезти молодую жену.
– Буду стараться всеми силами, – отвечал Крофтс.
– Надеюсь, вы будете добры и ко мне. Помните, что, женившись на Белл, вы вступили в брак с целым семейством, и, пожалуйста, не верьте ни одному слову из того, что говорит о тещах в своих романах этот дурной человек. Он нанес большой вред обществу, затворив для половины матерей в Англии дома их дочерей.
– Моего дома он не запрет от мистрис Дель.
– Помните же это. Теперь прощайте.
Новобрачные уехали, и Лили осталась кокетничать с лордом Дегестом.
О ком еще нужно сказать несколько слов, прежде чем позволю усталому перу моему выпасть из рук? Сквайр, после долгой внутренней борьбы, признался самому себе, что невестка не получала от него тех ласк, которых вполне заслуживала. Сознаваясь в этом, он дал себе слово употребить все усилия, чтобы загладить все дурное прошедшее, – и мне кажется, можно сказать, что мистрис Дель принимала эти усилия не без благодарности.
Поэтому я расположен думать, что жизнь в Оллингтоне, как в Большом, так и в Малом доме, скоро сделалась несравненно приятнее, чем в прежнее время. Лили вскоре получила модные ботинки, или, по крайней мере, скоро убедилась, что возможность получить их, как ей хотелось, совершенно зависела от свадебного подарка дяди, она заговорила даже о покупке клетки для белки, но я не думаю, чтобы ее расточительность заходила так далеко.
Лорд де Курси остался в замке Курси страдать от подагры и злобного настроения духа. Да, это верно! В последние дни жизнь, по-видимому, отказалась доставлять ему что-нибудь утешительное. Жена убежала от него и положительно объявила зятю, что никакие убеждения, никакие обстоятельства не принудят ее воротиться назад, даже «если бы ей пришлось умереть с голоду!». Этими словами она хотела выразить всю твердость своей решимости, даже если бы пришлось лишиться лошадей и кареты. По этому случаю бедный мистер Гезби ездил в замок Курси и имел с графом страшное свидание, однако дела поустроились, и ее сиятельство оставалась в Баден-Бадене в полуголодном состоянии, то есть она имела карету только в одну лошадь.
Что касается Кросби, то я расположен думать, что он возвратил в месте служения прежнее свое влияние. Он сделался господином мистера Буттервела, господином мистера Оптимиста и майора. Он знал свое дело, умел обделывать дела, чего нельзя сказать о трех его начальствующих лицах. При таких обстоятельствах он с уверенностью все прибрал к своим рукам и всем начал управлять. Но в других отношениях звезда его счастья не показывалась на горизонте. Почти ежедневно он обедал в своем клубе, и там, по обыкновению, составил себе маленький кружок. Но все же он перестал быть Адольфом Кросби прежних дней, Адольфом Кросби, известным в Белгравии и в улице Сент-Джемс. Он смело вывел свой корабль на глубину и смело плыл на нем, когда еще счастье льнуло к нему. Но он забыл мореходные правила, и успех заставил его быть беспечным. Он перестал бросать лот и держать на страже часового. Поэтому первая скала, с которой повстречался, разбила корабль его на мелкие щепки. Его жену, леди Александрину, и теперь можно видеть в одноконной карете вместе с матерью в Баден-Бадене.
Сноски
1
L. C. D. – Эти буквы приняты у англичан для означения фунтов стерлингов, шиллингов и пенсов. – Примеч. пер.
(обратно)

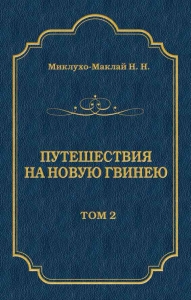

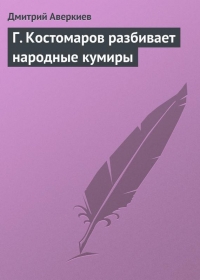


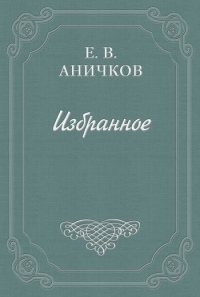

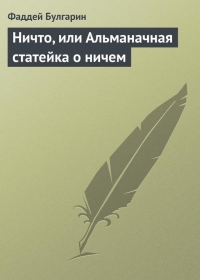
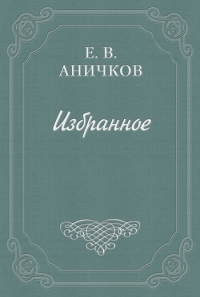

Комментарии к книге «Домик в Оллингтоне», Энтони Троллоп
Всего 0 комментариев