Василий Андреевич Жуковский Певец во стане русских воинов: Стихотворения. Баллады. Поэмы
Стихотворения
Сельское кладбище Элегия
Уже бледнет день, скрываясь за горою; Шумящие стада толпятся над рекой; Усталый селянин медлительной стопою Идет, задумавшись, в шалаш спокойный свой. В туманном сумраке окрестность исчезает… Повсюду тишина; повсюду мертвый сон; Лишь изредка, жужжа, вечерний жук мелькает, Лишь слышится вдали рогов унылый звон. Лишь дикая сова, таясь под древним сводом Той башни, сетует, внимаема луной, На возмутившего полуночным приходом Ее безмолвного владычества покой. Под кровом черных сосн и вязов наклоненных, Которые окрест, развесившись, стоят, Здесь праотцы села, в гробах уединенных Навеки затворясь, сном непробудным спят. Денницы тихий глас, дня юного дыханье, Ни крики петуха, ни звучный гул рогов, Ни ранней ласточки на кровле щебетанье — Ничто не вызовет почивших из гробов. На дымном очаге трескучий огнь, сверкая, Их в зимни вечера не будет веселить, И дети резвые, встречать их выбегая, Не будут с жадностью лобзаний их ловить. Как часто их серпы златую ниву жали, И плуг их побеждал упорные поля! Как часто их секир дубравы трепетали, И потом их лица кропилася земля! Пускай рабы сует их жребий унижают, Смеяся в слепоте полезным их трудам, Пускай с холодностью презрения внимают Таящимся во тьме убогого делам; На всех ярится смерть – царя, любимца славы, Всех ищет грозная… и некогда найдет; Всемощныя судьбы незыблемы уставы; И путь величия ко гробу нас ведет! А вы, наперстники фортуны ослепленны, Напрасно спящих здесь спешите презирать За то, что гробы их непышны и забвенны, Что лесть им алтарей не мыслит воздвигать. Вотще над мертвыми, истлевшими костями Трофеи зиждутся, надгробия блестят, Вотще глас почестей гремит перед гробами — Угасший пепел наш они не воспалят. Ужель смягчится смерть сплетаемой хвалою И невозвратную добычу возвратит? Не слаще мертвых сон под мраморной доскою; Надменный мавзолей лишь персть их бременит. Ах! может быть под сей могилою таится Прах сердца нежного, умевшего любить, И гробожитель-червь в сухой главе гнездится, Рожденной быть в венце иль мыслями парить! Но просвещенья храм, воздвигнутый веками, Угрюмою судьбой для них был затворен, Их рок обременил убожества цепями, Их гений строгою нуждою умерщвлен. Как часто редкий перл, волнами сокровенной, В бездонной пропасти сияет красотой; Как часто лилия цветет уединенно, В пустынном воздухе теряя запах свой. Быть может, пылью сей покрыт Гампден надменный, Защитник сограждан, тиранства смелый враг; Иль кровию сограждан Кромвель необагренный, Или Мильтон немой, без славы скрытый в прах. Отечество хранить державною рукою, Сражаться с бурей бед, фортуну презирать, Дары обилия на смертных лить рекою, В слезах признательных дела свои читать — Того им не дал рок; но вместе преступленьям Он с доблестями их круг тесный положил; Бежать стезей убийств ко славе, наслажденьям, И быть жестокими к страдальцам запретил; Таить в душе своей глас совести и чести, Румянец робкия стыдливости терять И, раболепствуя, на жертвенниках лести Дары небесных Муз гордыне посвящать. Скрываясь от мирских погибельных смятений, Без страха и надежд, в долине жизни сей, Не зная горести, не зная наслаждений, Они беспечно шли тропинкою своей. И здесь спокойно спят под сенью гробовою — И скромный памятник, в приюте сосн густых, С непышной надписью и резьбою простою, Прохожего зовет вздохнуть над прахом их. Любовь на камне сем их память сохранила, Их лета, имена потщившись начертать; Окрест библейскую мораль изобразила, По коей мы должны учиться умирать. И кто с сей жизнию без горя раставался? Кто прах свой по себе забвенью предавал? Кто в час последний свой сим миром не пленялся И взора томного назад не обращал? Ах! нежная душа, природу покидая, Надеется друзьям оставить пламень свой; И взоры тусклые, навеки угасая, Еще стремятся к ним с последнею слезой; Их сердце милый глас в могиле нашей слышит; Наш камень гробовой для них одушевлен; Для них наш мертвый прах в холодной урне дышит, Еще огнем любви для них воспламенен. А ты, почивший друг, певец уединенный, И твой ударит час, последний, роковой; И к гробу твоему, мечтой сопровожденный, Чувствительный придет услышать жребий твой. Быть может, селянин с почтенной сединою Так будет о тебе пришельцу говорить: «Он часто по утрам встречался здесь со мною, Когда спешил на холм зарю предупредить. Там в полдень он сидел под дремлющею ивой, Поднявшей из земли косматый корень свой; Там часто, в горести беспечной, молчаливой, Лежал, задумавшись, над светлою рекой; Нередко ввечеру, скитаясь меж кустами, — Когда мы с поля шли и в роще соловей Свистал вечерню песнь, – он томными очами Уныло следовал за тихою зарей. Прискорбный, сумрачный, с главою наклоненной, Он часто уходил в дубраву слезы лить, Как странник, родины, друзей, всего лишенный, Которому ничем души не усладить. Взошла заря – но он с зарею не являлся, Ни к иве, ни на холм, ни в лес не приходил; Опять заря взошла – нигде он не встречался; Мой взор его искал – искал – не находил. На утро пение мы слышим гробовое… Несчастного несут в могилу положить. Приблизься, прочитай надгробие простое, Чтоб память доброго слезой благословить». Здесь пепел юноши безвременно сокрыли; Что слава, счастие не знал он в мире сем; Но Музы от него лица не отвратили, И меланхолии печать была на нем. Он кроток сердцем был, чувствителен душою — Чувствительным творец награду положил. Дарил несчастных он – чем только мог – слезою; В награду от творца он друга получил. Прохожий, помолись над этою могилой; Он в ней нашел приют от всех земных тревог; Здесь все оставил он, что в нем греховно было, С надеждою, что жив его спаситель-бог. Май – сентябрь 1802Дружба
Скатившись с горной высоты, Лежал на прахе дуб, перунами разбитый; А с ним и гибкий плющ, кругом его обвитый… О Дружба, это ты! Июль 1803Песня
Когда я был любим, в восторгах, в наслажденье, Как сон пленительный, вся жизнь моя текла. Но я тобой забыт, – где счастья привиденье? Ах! счастием моим любовь твоя была! Когда я был любим, тобою вдохновенный, Я пел, моя душа хвалой твоей жила. Но я тобой забыт, погиб мой дар мгновенный: Ах! гением моим любовь твоя была! Когда я был любим, дары благодеянья В обитель нищеты любовь моя несла. Но я тобой забыт, нет в сердце состраданья! Ах! благостью моей любовь твоя была! Май 1806Вечер Элегия
Ручей, виющийся по светлому песку, Как тихая твоя гармония приятна! С каким сверканием катишься ты в реку! Приди, о Муза благодатна, В венке из юных роз, с цевницею златой; Склонись задумчиво на пенистые воды, И, звуки оживив, туманный вечер пой На лоне дремлющей Природы. Как солнца за горой пленителен закат — Когда поля в тени, а рощи отдаленны И в зеркале воды колеблющийся град Багряным блеском озаренны; Когда с холмов златых стада бегут к реке, И рева гул гремит звучнее над водами; И, сети склав, рыбак на легком челноке Плывет у брега меж кустами; Когда пловцы шумят, скликаясь по стругам, И веслами струи согласно рассекают; И, плуги обратив, по глыбистым браздам С полей оратаи съезжают… Уж вечер… облаков померкнули края, Последний луч зари на башнях умирает; Последняя в реке блестящая струя С потухшим небом угасает. Все тихо: рощи спят; в окрестности покой; Простершись на траве под ивой наклоненной, Внимаю, как журчит, сливаяся с рекой, Поток, кустами осененной. Как слит с прохладою растений фимиам! Как сладко в тишине у брега струй плесканье! Как тихо веянье зефира по водам, И гибкой ивы трепетанье! Чуть слышно над рекой колышется тростник; Глас петела вдали уснувши будит селы; В траве коростеля я слышу дикий крик, В лесу стенанье Филомелы… Но что?.. Какой вдали мелькнул волшебный луч? Восточных облаков хребты воспламенились; Осыпан искрами во тьме журчащий ключ; В реке дубравы отразились. Луны ущербный лик встает из-за холмов… О тихое небес задумчивых светило, Как зыблется твой блеск на сумраке лесов! Как бледно брег ты озлатило! Сижу задумавшись; в душе моей мечты; К протекшим временам лечу воспоминаньем… О дней моих весна, как быстро скрылась ты, С твоим блаженством и страданьем! Где вы, мои друзья, вы, спутники мои? Ужели никогда не зреть соединенья? Ужель иссякнули всех радостей струи? О вы, погибши наслажденья! О братья! о друзья! где наш священный круг? Где песни пламенны и Музам и свободе? Где Вакховы пиры при шуме зимних вьюг? Где клятвы, данные Природе, Хранить с огнем души нетленность братских уз? И где же вы, друзья?.. Иль всяк своей тропою, Лишенный спутников, влача сомнений груз, Разочарованный душою, Тащиться осужден до бездны гробовой?.. Один – минутный цвет – почил, и непробудно, И гроб безвременный любовь кропит слезой. Другой… о небо правосудно!.. А мы… ужель дерзнем друг другу чужды быть? Ужель красавиц взор, иль почестей исканье, Иль суетная честь приятным в свете слыть Загладят в сердце воспоминанье О радостях души, о счастье юных дней, И дружбе, и любви, и Музам посвященных? Нет, нет! пусть всяк идет вослед судьбе своей, Но в сердце любит незабвенных… Мне Рок судил: брести неведомой стезей, Быть другом мирных сел, любить красы Природы, Дышать под сумраком дубравной тишиной, И, взор склонив на пенны воды, Творца, друзей, любовь и счастье воспевать. О песни, чистый плод невинности сердечной! Блажен, кому дано цевницей оживлять Часы сей жизни скоротечной! Кто, в тихий утра час, когда туманный дым Ложится по полям и хо́лмы облачает, И солнце, восходя, по рощам голубым Спокойно блеск свой разливает, Спешит, восторженный, оставя сельский кров, В дубраве упредить пернатых пробужденье, И, лиру соглася с свирелью пастухов, Поет светила возрожденье! Так, петь есть мой удел… но долго ль?.. Как узнать?.. Ах! скоро, может быть, с Минваною унылой Придет сюда Альпин в час вечера мечтать Над тихой юноши могилой! Май – июль 1806Тоска по милом Песня
Дубрава шумит; Сбираются тучи; На берег зыбучий Склонившись, сидит В слезах, пригорюнясь, девица-краса; И полночь и буря мрачат небеса; И черные волны, вздымаясь, бушуют; И тяжкие вздохи грудь белу волнуют. «Душа отцвела; Природа уныла; Любовь изменила, Любовь унесла Надежду, надежду – мой сладкий удел. Куда ты, мой ангел, куда улетел? Ах, полно! я счастьем мирским насладилась: Жила, и любила… и друга лишилась. Теките струей Вы, слезы горючи; Дубравы дремучи, Тоскуйте со мной. Уж боле не встретить мне радостных дней; Простилась, простилась я с жизнью моей: Мой друг не воскреснет; что было, не будет… И бывшего сердце вовек не забудет. Ах! скоро ль пройдут Унылые годы? С весною-природы Красы расцветут… Но сладкое счастье не дважды цветет. Пускай же драгое в слезах оживет; Любовь, ты погибла: ты, радость, умчалась; Одна о минувшем тоска мне осталась». 18 февраль 1807Песня
Мой друг, хранитель-ангел мой, О ты, с которой нет сравненья, Люблю тебя, дышу тобой; Но где для страсти выраженья? Во всех природы красотах Твой образ милый я встречаю; Прелестных вижу – в их чертах Одну тебя воображаю. Беру перо – им начертать Могу лишь имя незабвенной; Одну тебя лишь прославлять Могу на лире восхищенной. С тобой, один, вблизи, вдали. Тебя любить – одна мне радость; Ты мне все блага на земли; Ты сердцу жизнь, ты жизни сладость. В пустыне, в шуме городском Одной тебе внимать мечтаю; Твой образ, забывая сном, С последней мыслию сливаю; Приятный звук твоих речей Со мной во сне не расстается; Проснусь – и ты в душе моей Скорей, чем день очам коснется. Ах! мне ль разлуку знать с тобой? Ты всюду спутник мой незримый; Молчишь – мне взор понятен твой, Для всех других неизъяснимый; Я в сердце твой приемлю глас; Я пью любовь в твоем дыханье… Восторги, кто постигнет вас, Тебя, души очарованье? Тобой и для одной тебя Живу и жизнью наслаждаюсь; Тобою чувствую себя; В тебе природе удивляюсь. И с чем мне жребий мой сравнить? Чего желать в столь сладкой доле? Любовь мне жизнь – ах! я любить Еще стократ желал бы боле. 1 апрель 1808Плач Людмилы
Ангел был он красотою! Маем кроткий взор блистал! Все великою душою Несравненный превышал! Поцелуи – сладость рая, Слитых пламеней струя, Горних арф игра святая! Небеса вкушала я! Взором взор, душа душою Распалялись – все цвело! Мир сиял для нас весною, Все нам радость в дар несло! Непостижное слиянье Восхищенья и тоски, Нежных ласк очарованье, Огнь сжимающей руки! Сердца сладостные муки — Все прости… его уж нет! Ах! прерви ж печаль разлуки, Смерть, души последний свет! 1809 (?)Моя богиня
Какую бессмертную Венчать предпочтительно Пред всеми богинями Олимпа надзвездного? Не спорю с питомцами Разборчивой мудрости, Учеными строгими; Но свежей гирляндою Венчаю веселую, Крылатую, милую, Всегда разновидную, Всегда животворную, Любимицу Зевсову, Богиню Фантазию. Ей дал он те вымыслы, Те сны благотворные, Которыми в области Олимпа надзвездного С амврозией, с нектаром Подчас утешается Он в скуке бессмертия; Лелея с усмешкою На персях родительских, Ее величает он Богинею Радостью. То в утреннем веянье С лилейною веткою, Одетая ризою, Сотканной из нежного Денницы сияния, По долу душистому, По холмам муравчатым, По облакам утренним Малиновкой носится; На ландыш, на лилию, На цвет-незабудочку, На травку дубравную Спускается пчелкою; Устами пчелиными Впивается в листики, Пьет росу медвяную; То, кудри с небрежностью По ветру развеявши, Во взоре уныние, Тоской отуманена, Глава наклоненная, Сидит на крутой скале И смотрит в мечтании На море пустынное, И любит прислушивать, Как волны плескаются, О камни дробимые; То внемлет, задумавшись, Как ветер полуночный Порой подымается, Шумит над дубравою, Качает вершинами Дерев сеннолиственных; То в сумраке вечера (Когда златорогая Луна из-за облака Над рощею выглянет И, сливши дрожащий луч С вечерними тенями, Оденет и лес и дол Туманным сичнием) Играет с наядами По гладкой поверхности Потока дубравного, И, струек с журчанием Мешая гармонию Волшебного шепота, Наводит задумчивость, Дремоту и легкий сон; Иль, быстро с зефирами По дремлющим лилиям, Гвоздикам узорчатым, Фиалкам и ландышам Порхая, питается Душистым дыханием Цветов, ожемчуженных Росинками светлыми; Иль с сонмами гениев, Воздушною цепию Виясь, развивается, В мерцании месяца, Невидима-видима, По облакам носится, И, к роще спустившися, Играет листочками Осины трепещущей. Прославим создателя Могущего, древнего, Зевеса, пославшего Нам радость – Фантазию; В сей жизни, где радости Прямые – луч молнии, Он дал нам в ней счастие, Всегда неизменное, Супругу веселую, Красой вечно юную. И с нею нас цепию Сопряг нераздельною. «Да будешь, – сказал он ей, — И в счастьи, и в горести Им верная спутница, Утеха, прибежище». Другие творения, С очами незрящими, В слепых наслаждениях, С печалями смутными, Гнетомые бременем Нужды непреклонныя, Начавшись, кончаются В кругу, ограниченном Чертой настоящего, Минутною жизнею; Но мы, отличенные Зевесовой благостью!.. Он дал нам сопутницу, Игривую, нежную, Летунью, искусницу На милые вымыслы, Причудницу резвую, Любимую дщерь свою Богиню Фантазию! Ласкайте прелестную; Кажите внимание Ко всем ее прихотям, Невинным, младенческим! Пускай почитается Над вами владычицей И дома хозяйкою; Чтоб вотчиму старому, Брюзгливцу суровому, Рассудку, не вздумалось Ее переучивать, Пугать укоризнами И мучить уроками. Я знаю сестру ее, Степенную, тихую… Мой друг утешительный, Тогда лишь простись со мной, Когда из очей моих Луч жизни сокроется; Тогда лишь покинь меня, Причина всех добрых дел, Источник великого, Нам твердость и мужество, И силу дающая, Надежда отрадная!.. 1809К ней
Имя где для тебя? Не сильно смертных искусство Выразить прелесть твою! Лиры нет для тебя! Что песни? Отзыв неверный Поздней молвы о тебе! Если бы сердце могло быть Им слышно, каждое чувство Было бы гимном тебе! Прелесть жизни твоей, Сей образ чистый, священный, В сердце, как тайну, ношу. Я могу лишь любить, Сказать же, как ты любима, Может лишь вечность одна! 1811Песня
О милый друг! теперь с тобою радость! А я один – и мой печален путь; Живи, вкушай невинной жизни сладость; В душе не изменись; достойна счастья будь… Но не отринь, в толпе пленяемых тобою, Ты друга прежнего, увядшего душою; Веселья их дели – ему отрадой будь; Его, мой друг, не позабудь. О милый друг, нам рок велел разлуку: Дни, месяцы и годы пролетят, Вотще к тебе простру от сердца руку — Ни голос твой, ни взор меня не усладят. Но и вдали моя душа с твоей согласна; Любовь ни времени, ни месту не подвластна; Всегда, везде ты мой хранитель-ангел будь, Меня, мой друг, не позабудь. О милый друг, пусть будет прах холодный То сердце, где любовь к тебе жила: Есть лучший мир; там мы любить свободны; Туда моя душа уж все перенесла; Туда всечасное влечет меня желанье; Там свидимся опять; там наше воздаянье; Сей верой сладкою полна в разлуке будь — Меня, мой друг, не позабудь. 29 сентября 1811Желание Романс
Озарися, дол туманный: Расступися, мрак густой; Где найду исход желанный? Где воскресну я душой? Испещренные цветами, Красны холмы вижу там… Ах! зачем я не с крылами? Полетел бы я к холмам. Там поют согласны лиры; Там обитель тишины; Мчат ко мне оттоль зефиры Благовония весны; Там блестят плоды златые На сенистых деревах; Там не слышны вихри злые На пригорках, на лугах. О предел очарованья! Как прелестна там весна! Как от юных роз дыханья Там душа оживлена! Полечу туда… напрасно! Нет путей к сим берегам; Предо мной поток ужасный Грозно мчится по скалам. Лодку вижу… где ж вожатый? Едем!.. будь, что суждено… Паруса ее крылаты, И весло оживлено. Верь тому, что сердце скажет; Нет залогов от небес; Нам лишь чудо путь укажет В сей волшебный край чудес. 1811Певец
В тени дерев, над чистыми водами Дерновый холм вы видете ль, друзья? Чуть слышно там плескает в брег струя; Чуть ветерок там дышит меж листами; На ветвях лира и венец… Увы! друзья, сей холм – могила; Здесь прах певца земля сокрыла; Бедный певец! Он сердцем прост, он нежен был душою — Но в мире он минутный странник был; Едва расцвел – и жизнь уж разлюбил; И ждал конца с волненьем и тоскою; И рано встретил он конец, Заснул желанным сном могилы… Твой век был миг, но миг унылый, Бедный певец! Он дружбу пел, дав другу нежну руку, — Но верный друг во цвете лет угас; Он пел любовь – но был печален глас; Увы! он знал любви одну лишь муку; Tеперь всему, всему конец; Твоя душа покой вкусила, Ты спишь; тиха твоя могила, Бедный певец! Здесь у ручья вечернею порою, Прощальну песнь он заунывно пел: «О красный мир, где я вотще расцвел Прости навек: с обманутой душою Я счастья ждал – мечтам конец; Погибло все, умолкни, лира; Скорей, скорей в обитель мира, Бедный певец! Что жизнь, когда в ней нет очарованья? Блаженство знать, к нему лететь душой, Но пропасть зреть меж ним и меж собой; Желать всяк час и трепетать желанья… О пристань горестных сердец, Могила, вечный путь к покою, Когда же будет взят тобою Бедный певец!» И нет певца… его не слышно лиры… Его следы исчезли в сих местах; И скорбно все в долине, на холмах; И все молчит… лишь тихие зефиры, Колебля вянущий венец, Порою веют над могилой, И лира вторит им уныло: Бедный певец! 1811Пловец
Вихрем бедствия гонимый, Без кормила и весла, В океан неисходимый Буря челн мой занесла. В тучах звездочка светилась; «Не скрывался!» – я взывал; Непреклонная сокрылась; Якорь был – и тот пропал. Все оделось черной мглою; Всколыхалися валы; Бездны в мраке предо мною; Вкруг ужасные скалы. «Нет надежды на спасенье!» — Я роптал, уныв душой… О безумец! Провиденье Было тайный кормщик твой. Невидимою рукою, Сквозь режущие валы, Сквозь одеты бездны мглою И грозящие скалы, Мощный вел меня хранитель. Вдруг – все тихо! мрак исчез; Вижу райскую обитель… В ней трех ангелов небес… О спаситель-провиденье! Скорбный ропот мой утих; На коленах, в восхищенье, Я смотрю на образ их. О! кто прелесть их опишет? Кто их силу над душой? Все окрест их небом дышит И невинностью святой. Неиспытанная радость — Ими жить, для них дышать; Их речей, их взоров сладость В душу, в сердце принимать. О судьба! одно желанье: Дай все блага им вкусить; Пусть им радость – мне страданье; Но… не дай их пережить. Июль (?) 1812Мечты Песня
Зачем так рано изменила? С мечтами, радостью, тоской, Куда полет свой устремила? Неумолимая, постой! О дней моих весна златая, Постой… тебе возврата нет… Летит, молитве не внимая; И все за ней помчалось вслед. О! где ты, луч, путеводитель Веселых юношеских дней? Где ты, надежда, обольститель Неопытной души моей? Уж нет ее, сей веры милой К твореньям пламенной мечты… Добыча истине унылой Призраков прежних красоты. Как древле рук своих созданье Боготворил Пигмалион — И мрамор внял любви стенанье, И мертвый был одушевлен — Так пламенно объята мною Природа хладная была; И, полная моей душою, Она подвиглась, ожила. И, юноши деля желанье, Немая обрела язык: Мне отвечала на лобзанье, И сердца глас в нее проник. Тогда и древо жизнь прияло, И чувство ощутил ручей, И мертвое отзывом стало Пылающей души моей. И неестественным стремленьем Весь мир в мою теснился грудь; Картиной, звуком, выраженьем Во все я жизнь хотел вдохнуть. И в нежном семени сокрытой Сколь пышным мне казался свет… Но ах! сколь мало в нем развито! И малое – сколь бедный цвет. Как бодро, следом за мечтою Волшебным очарован сном, Забот не связанный уздою, Я жизни полетел путем. Желанье было – исполненье; Успех отвагу пламенил: Ни высота, ни отдаленье Не ужасали смелых крыл. И быстро жизни колесница Стезею младости текла; Ее воздушная станица Веселых призраков влекла: (Любовь) с прелестными дарами, С алмазным (Счастие) ключом, И (Слава) с звездными венцами, И с ярким (Истина) лучом. Но ах!.. еще с полудороги, Наскучив резвою игрой, Вожди отстали быстроноги… За роем вслед умчался рой. Украдкой (Счастие) сокрылось; Изменой (Знание) ушло; Сомненья тучей обложилось Священной (Истины) чело. Я зрел, как дерзкою рукою Презренный славу похищал; И быстро с быстрою весною Прелестный цвет (Любви) увял. И все пустынно, тихо стало Окрест меня и предо мной! Едва (Надежды) лишь сияло Светило над моей тропой. Но кто ж из сей толпы крылатой Один с любовью мне вослед, Мой до могилы провожатый, Участник радостей и бед?.. Ты, уз житейских облегчитель, В душевном мраке милый свет, Ты, (Дружба), сердца исцелитель, Мой добрый гений с юных лет. И ты, товарищ мой любимый, Души хранитель, как она, Друг верный, (Труд) неутомимый, Кому святая власть дана: Всегда творить, не разрушая, Мирить печального с судьбой И, силу в сердце водворяя, Беречь в нем ясность и покой. 1812Элизиум Песня
Роща, где, податель мира, Добрый Гений смерти спит, Где румяный блеск эфира С тенью зыбких сеней слит, Где источника журчанье, Как далекий отзыв лир, Где печаль, забыв роптанье, Обретает сладкий мир: С тайным трепетом, смятенна, В упоении богов, Для бессмертья возрожденна, Сбросив пепельный покров, Входит в сумрак твой Психея; Неприкованна к земле, Юной жизнью пламенея, Развила она криле. Полетела в тихом свете, С обновленною красой, В дол туманный, к тайной Лете; Мнилось, легкою рукой Гений влек ее незримый; Видит мирные луга; Видит Летою кропимы Очарованны брега. В ней надежда, ожиданье; Наклонилася к водам, Усмиряющим страданье… Лик простерся по струям; Так безоблачен играет В море месяц молодой: Так в источнике сверкает Факел Геспера златой. Лишь фиал воды забвенья Поднесла к устам она — Дней минувших привиденья Скрылись легкой тенью сна. Заблистала, полетела К очарованным холмам, Где журчат, как Филомела, Светлы воды по цветам. Все в торжественном молчанье. Притаились ветерки; Лавров стихло трепетанье; Спят на розах мотыльки. Так молчало все творенье — Море, воздух, берег дик — Зря пенистых вод рожденье, Анадиомены лик. Всюду яркий блеск Авроры. Никогда такой красой Не сияли рощи, горы, Обновленные весной. Мирты с зыбкими листами Тонут в пурпурных лучах; Розы светлыми звездами Отразилися в водах. Так волшебный луч Селены В лес Карийский проникал, Где, ловитвой утомленный, Сладко друг Дианы спал; Как струи ленивой ропот, Как воздушной арфы звон, Разливался в лесе шопот: Пробудись, Эндимион! Апрель 1812Узник к мотыльку, влетевшему в его темницу
Откуда ты, эфира житель? Скажи, нежданный гость небес, Какой зефир тебя занес В мою печальную обитель? Увы! денницы милый свет До сводов сих не достигает; В сей бездне ужас обитает; Веселья здесь и следу нет. Сколь сладостно твое явленье! Знать, милый гость мой, с высоты Страдальца вздох услышал ты — Тебя примчало сожаленье; Увы! убитая тоской Душа весь мир в тебе узрела, Надежда ясная влетела В темницу к узнику с тобой. Скажи ж, любимый друг природы, Все те же ль неба красоты? По-прежнему ль в лугах цветы? Душисты ль рощи? ясны ль воды? По-прежнему ль в тиши ночной Поет дубравная певица? Увы! скажи мне, где денница? Скажи, что сделалось с весной? Дай весть услышать о свободе; Слыхал ли песнь ее в горах? Ее видал ли на лугах В одушевленном хороводе? Ах! зрел ли милую страну, Где я был счастлив в прежни годы? Все та же ль там краса природы? Все так ли там, как в старину? Весна сих сводов не видала: Ты не найдешь на них цветка; На них затворников рука Страданий повесть начертала! Не долетает к сим стенам Зефира легкое дыханье: Ты внемлешь здесь одно стенанье; Ты здесь порхаешь по цепям. Лети ж, лети к свободе в поле; Оставь сей бездны глубину; Спеши прожить твою весну — Другой весны не будет боле; Спеши, творения краса! Тебя зовут луга шелковы: Там прихоти – твои оковы; Твоя темница – небеса. Будь весел, гость мой легкокрылый, Резвяся в поле по цветам… Быть может, двух младенцев там Ты встретишь с матерью унылой. Ах, если б мог ты усладить Их муку радости словами; Сказать: он жив! он дышит вами! Но… ты не можешь говорить. Увы! хоть крыльями златыми Моих младенцев ты прельсти; По травке тихо полети, Как бы хотел быть пойман ими; Тебе помчатся вслед они, Добычи милыя желая; Ты их, с цветка на цвет порхая, К моей темнице примани. Забав их зритель равнодушный, Пойдет за ними вслед их мать — Ты будешь путь их услаждать Своею резвостью воздушной. Любовь их – мой последний щит: Они страдальцу провиденье; Сирот священное моленье Тюремных стражей победит. Падут железные затворы — Детей, супругу, небеса, Родимый край, холмы, леса Опять мои увидят взоры… Но что?… я цепью загремел; Сокрылся призрак-обольститель… Вспорхнул эфирный посетитель… Постой!.. но он уж улетел. Начало 1813Светлане
Хочешь видеть жребий свой В зеркале, Светлана? Ты спросись с своей душой! Скажет без обмана. Что тебе здесь суждено! Там душа – зерцало! Все в ней, все заключено, Что нам обещало Провиденье в жизни сей! Милый друг, в душе твоей Непорочной, ясной, С восхищеньем вижу я, Что сходна судьба твоя С сей душой прекрасной! Непорочность – спутник твой И веселость – гений Всюду будут пред тобой С чашей наслаждений. Лишь тому, в ком чувства нет, Путь земной ужасен! Счастье в нас, и божий свет Нами лишь прекрасен. Милый друг, спокойна будь, Безопасен твой здесь путь: Сердце твой хранитель! Все судьбою в нем дано: Будет здесь тебе оно К счастью предводитель! 1813 (?)К самому себе
Ты унываешь о днях, невозвратно протекших, Горестной мыслью, тоской безнадежной их призывая, — Будь настоящее твой утешительный гений! Веря ему, свой день проводи безмятежно! Легким полетом несутся дни быстрые жизни! Только успеем достигнуть до полныя зрелости мыслей, Только увидим достойную цель пред очами — Все уж для нас прошло, как мечта сновиденья, Призрак фантазии, то представляющей взору Луг, испещренный цветами, веселые холмы, долины; То пролетающей в мрачной одежде печали Дикую степь, леса и ужасные бездны. Следуй же мудрым! Всегда неизменный душою, Что посылает судьба, принимай и не сетуй! Безумно Скорбью бесплодной о благе навеки погибшем То отвергать, что нам предлагает минута! 1813 (?)Славянка Элегия
Славянка тихая, сколь ток приятен твой, Когда, в осенний день, в твои глядятся воды Холмы, одетые последнею красой Полуотцветшия природы. Спешу к твоим брегам… свод неба тих и чист; При свете солнечном прохлада повевает; Последний запах свой осыпавшийся лист С осенней свежестью сливает. Иду под рощею излучистой тропой; Что шаг, то новая в глазах моих картина, То вдруг сквозь чащу древ мелькает предо мной, Как в дыме, светлая долина; То вдруг исчезло все… окрест сгустился лес; Все дико вкруг меня, и сумрак и молчанье; Лишь изредка, струей сквозь темный свод древес Прокравшись, дневное сиянье Верхи поблеклые и корни золотит; Лишь, сорван ветерка минутным дуновеньем, На сумраке листок трепещущий блестит, Смущая тишину паденьем… И вдруг пустынный храм в дичи передо мной; Заглохшая тропа; кругом кусты седые; Между багряных лип чернеет дуб густой И дремлют ели гробовые. Воспоминанье здесь унылое живет; Здесь, к урне преклонясь задумчивой главою, Оно беседует о том, чего уж нет, С неизменяющей Мечтою. Все к размышленью здесь влечет невольно нас; Все в душу томное уныние вселяет; Как будто здесь оно из гроба важный глас Давно минувшего внимает. Сей храм, сей темный свод, сей тихий мавзолей, Сей факел гаснущий и долу обращенный, Все здесь свидетель нам, сколь блага наших дней, Сколь все величия мгновенны. И нечувствительно с превратности мечтой Дружится здесь мечта бессмертия и славы: Сей витязь, на руку склонившийся главой; Сей громоносец двоеглавый, Под шуйцей твердою седящий на щите; Сия печальная семья кругом царицы; Сии небесные друзья на высоте, Младые спутники денницы… О! сколь они, в виду сей урны гробовой, Для унывающей души красноречивы: Тоскуя ль полетит она за край земной — Там все утраченные живы; К земле ль наклонит взор – великий ряд чудес: Борьба за честь; народ, покрытый блеском славным; И мир, воскреснувший по манию небес, Спокойный под щитом державным. Но вкруг меня опять светлеет частый лес; Опять река вдали мелькает средь долины, То в свете, то в тени, то в ней лазурь небес, То обращенных древ вершины. И вдруг открытая равнина предо мной: Там мыза, блеском дня под рощей озаренна; Спокойное село над ясною рекой, Гумно и нива обнаженна. Все здесь оживлено: с овинов дым седой, Клубяся, по браздам ложится и редеет, И нива под его прозрачной пеленой То померкает, то светлеет. Там слышен на току согласный стук цепов; Там песня пастуха и шум от стад бегущих; Там медленно, скрыпя, тащится ряд возов, Тяжелый груз снопов везущих. Но солнце катится беззнойное с небес; Окрест него закат свободно пламенеет; Завесой огненной подернут старый лес; Восток безоблачный синеет. Спускаюсь в дол к реке: брег темен надо мной, И на воды легли дерев кудряв тени; Противный брег горит, осыпанный зарей; В волнах блестят прибрежны сени; То отраженный в них сияет мавзолей; То холм муравчатый, усыпаный древами; То ива дряхлая, до свившихся корней Склонившись гибкими ветвями, Сенистую главу купает в их струях; Здесь храм между берез и яворов мелькает; Там лебедь, притаясь у берега в кустах, Недвижим в сумраке сияет. Вдруг гладким озерком является река; Сколь здесь ее брегов пленительна картина; В лазоревый кристалл, слиясь вкруг челнока, Яснеет вод ее равнина. Но гаснет день… в тени склонился лес к водам; Древа облечены вечерней темнотою; Лишь простирается по тихим их верхам Заря багряной полосою; Лишь ярко заревом восточный брег облит, И пышный дом царей на скате озлащенном, Как исполин, глядясь в зерцало вод, блестит В величии уединенном. Но вечер на него покров накинул свой; И рощи и брега, смешавшись, побледнели, Последни облака, блиставшие зарей, С небес потухнув, улетели: И воцарилася повсюду тишина; Все спит… лишь изредка в далекой тьме промчится Невнятный глас… или колышется волна… Иль сонный лист зашевелится Я на брегу один… окрестность вся молчит… Как привидение, в тумане предо мною Семья младых берез недвижимо стоит Над усыпленною водою. Вхожу с волнением под их священный кров; Мой слух в сей тишине приветный голос слышит: Как бы эфирное там веет меж листов, Как бы невидимое дышит; Как бы сокрытая под юных древ корой, С сей очарованной мешаясь тишиною. Душа незримая подъемлет голос свой С моей беседовать душою. И некто урне сей безмолвной приседит; И, мнится, на меня вперил он темны очи; Без образа лицо, и зрак туманный слит С туманным мраком полуночи. Смотрю… и, мнится, все, что было жертвой лет, Опять в видении прекрасном воскресает; И все, что жизнь сулит, и все, чего в ней нет, С надеждой к сердцу прилетает. Но где он?… скрылось все… лишь только в тишине Как бы знакомое мне слышится призванье, Как будто Гений путь указывает мне На неизвестное свиданье. О! кто ты, тайный вождь? душа тебе вослед! Скажи: бессмертный ли пределов сих хранитель Иль гость минутный их? Скажи, земной ли свет Иль небеса твоя обитель?.. И ангел от земли в сиянье предо мной Взлетает; на лице величие смиренья; Взор к небу устремлен: над юною главой Горит звезда преображенья. Помедли улетать, прекрасный сын небес; Младая жизнь в слезах простерта пред тобою… Но где я?.. Все вокруг молчит… призрак исчез, И небеса покрыты мглою. Одна лишь смутная мечта в душе моей: Как будто мир земной в ничто преобратился; Как будто та страна знакома стала ей, Куда сей чистый ангел скрылся. Сентябрь – октябрь 1815Голос с того света
Не узнавай, куда я путь склонила, В какой предел из мира перешла… О друг, я все земное совершила; Я на земле любила и жила. Нашла ли их? Сбылись ли ожиданья? Без страха верь: обмана сердцу нет; Сбылося все: я в стороне свиданья; И знаю здесь, сколь ваш прекрасен свет. Друг, на земле великое не тщетно; Будь тверд, а здесь тебе не изменят; О милый, здесь не будет безответно Ничто, ничто: ни мысль, ни вздох, ни взгляд. Не унывай: минувшее с тобою; Незрима я, но в мире мы одном; Будь верен мне прекрасною душою; Сверши один начатое вдвоем. 1815Песня
Розы расцветают, Сердце, отдохни; Скоро засияют Благодатны дни; Все с зимой ненастной Грустное пройдет; Сердце будет ясно; Розою прекрасной Счастье расцветет. Розы расцветают — Сердце, уповай; Есть, нам обещают, Где-то лучший край. Вечно молодая Там весна живет; Там, в долине рая, Жизнь для нас иная Розой расцветет. 1815Песня
К востоку, все к востоку Стремление земли — К востоку, все к востоку Летит моя душа; Далеко на востоке, За синевой лесов, За синими горами Прекрасная живет. И мне в разлуке с нею Все мнится, что она — Прекрасное преданье Чудесной старины, Что мне она явилась Когда-то в древни дни, Что мне об ней остался Один блаженный сон. 1815Песня
Птичкой-певицею Быть бы хотел; С юной денницею Я б прилетел Первый к твоим дверям; В них бы порхнул, И к молодым грудям Милой прильнул. Будь я сиянием Дневных лучей, Слитых с пыланием Ярких очей, Щеки б румяные Жарко лобзал, В перси бы рдяные Вкравшись, пылал. Если б я сладостным Был ветерком, Веяньем радостным Тайно кругом Милой летал бы я; С долов, с лугов К ней привевал бы я Запах цветов. Стал бы я, стал бы я Эхом лесов; Все повторял бы я Милой: любовь… Ах! но напрасное Я загадал; Тайное, страстное Кто выражал? Птичка, небесный цвет, Бег ветерка, Эха лесной привет Издалека — Быстры, но ясное Нам без речей, Тайное, страстное Всё их быстрей. 1815Воспоминание
Прошли, прошли вы, дни очарованья! Подобных вам уж сердцу не нажить! Ваш след в одной тоске воспоминанья! Ах! лучше б вас совсем мне позабыть! К вам часто мчит привычное желанье — И слез любви нет сил остановить! Несчастие – об вас воспоминанье! Но более несчастье – вас забыть! О, будь же грусть заменой упованья! Отрада нам – о счастье слезы лить! Мне умереть с тоски воспоминанья! Но можно ль жить, – увы! и позабыть! Начало 1816«Кто слез на хлеб свой не ронял…»
Кто слез на хлеб свой не ронял, Кто близ одра, как близ могилы, В ночи, бессонный, не рыдал, — Тот вас не знает, вышни силы! На жизнь мы брошены от вас! И вы ж, дав знаться нам с виною, Страданью выдаете нас, Вину преследуете мздою. Начало 1816«Там небеса и воды ясны!..»
Там небеса и воды ясны! Там песни птичек сладкогласны! О родина! все дни твои прекрасны! Где б ни был я, но все с тобой Душой. Ты помнишь ли, как под горою, Осеребряемый росою, Белелся луч вечернею порою И тишина слетала в лес С небес? Ты помнишь ли наш пруд спокойный, И тень от ив в час полдня знойный, И над водой от стада гул нестройный, И в лоне вод, как сквозь стекло, Село? Там на заре пичужка пела; Даль озарялась и светлела; Туда, туда душа моя летела: Казалось сердцу и очам Всё там!.. Сентябрь – октябрь 1816Песня
Кольцо души-девицы Я в море уронил; С моим кольцом я счастье Земное погубил. Мне, дав его, сказала: «Носи! не забывай! Пока твое колечко, Меня своей считай!» Не в добрый час я невод Стал в море полоскать; Кольцо юркнуло в воду; Искал… но где сыскать!.. С тех пор мы как чужие! Приду к ней – не глядит! С тех пор мое веселье На дне морском лежит! О ветер полуночный, Проснися! будь мне друг! Схвати со дна колечко И выкати на луг. Вчера ей жалко стало: Нашла меня в слезах! И что-то, как бывало, Зажглось у ней в глазах! Ко мне подсела с лаской, Мне руку подала; И что-то ей хотелось Сказать, но не могла! На что твоя мне ласка! На что мне твой привет! Любви, любви хочу я… Любви-то мне и нет! Ищи, кто хочет, в море Богатых янтарей… А мне мое колечко С надеждою моей. 1816Сон
Заснув на хо́лме луговом, Вблизи большой дороги, Я унесен был легким сном Туда, где жили боги. Но я проснулся, наконец, И смутно озирался: Дорогой шел младой певец И с пеньем удалялся. Вдали пропал за рощей он — Но струны все звенели. Ах! не они ли дивный сон Мне на душу напели? 1816Песня бедняка
Куда мне голову склонить? Покинут я и сир; Хотел бы весело хоть раз Взглянуть на божий мир. И я в семье моих родных Когда-то счастлив был; Но горе спутник мой с тех пор, Как я их схоронил. Я вижу за́мки богачей И их сады кругом… Моя ж дорога мимо их С заботой и трудом. Но я счастливых не дичусь; Моя печаль в тиши; Я всем веселым рад сказать: Бог помочь! от души. О щедрый бог, не вовсе ж я Тобою позабыт; Источник милости твоей Для всех равно открыт. В селенье каждом есть свой храм С сияющим крестом, С молитвой сладкой и с твоим Доступным алтарем. Мне светит солнце и луна; Любуюсь на зарю; И, слыша благовест, с тобой, Создатель, говорю. И знаю: будет добрый пир В небесной стороне; Там буду праздновать и я; Там место есть и мне. 1816Весеннее чувство
Легкий, легкий ветерок, Что так сладко, тихо веешь? Что играешь, что светлеешь, Очарованный поток? Чем опять душа полна? Что опять в ней пробудилось? Что с тобой к ней возвратилось, Перелетная весна? Я смотрю на небеса… Облака, летя, сияют И, сияя, улетают За далекие леса. Иль опять от вышины Весть знакомая несется? Или снова раздается Милый голос старины? Или там, куда летит Птичка, странник поднебесный, Все еще сей неизвестный, Край желанного сокрыт?.. Кто ж к неведомым брегам Путь неведомый укажет? Ах! найдется ль, кто мне скажет, Очарованное Там? 1816Счастие во сне
Дорогой шла девица; С ней друг ее младой: Болезнены их лица; Наполнен взор тоской. Друг друга лобызают И в очи и в уста — И снова расцветают В них жизнь и красота. Минутное веселье! Двух колоколов звон: Она проснулась в келье; В тюрьме проснулся он. 1816Явление богов
Знайте, с Олимпа Являются боги К нам не одни; Только что Бахус придет говорливый, Мчится Эрот, благодатный младенец; Следом за ними и сам Аполлон. Слетелись, слетелись Все жители неба, Небесными по́лно Земное жилище. Чем угощу я, Земли уроженец, Вечных богов? Дайте мне вашей, бессмертные, жизни! Боги! что, смертный, могу поднести вам? К вашему небу возвысьте меня! Прекрасная радость Живет у Зевеса! Где не́ктар? налейте, Налейте мне чашу! Не́ктара чашу Певцу, молодая Геба, подай! Очи небесной росой окропите; Пусть он не зрит ненавистного Стикса, Быть да мечтает одним из богов! Шумит, заблистала Небесная влага, Спокоилось сердца, Провидели очи. 1816Жалоба пастуха
На ту знакомую гору Сто раз я в день прихожу; Стою, склоняся на посох, И в дол с вершины гляжу. Вздохнув, медлительным шагом Иду вослед я овцам, И часто, часто в долину Схожу, не чувствуя сам. Весь луг по-прежнему полон Младой цветов красоты; Я рву их – сам же не знаю, Кому отдать мне цветы. Здесь часто в дождик и в грозу Стою, к земле пригвожден; Все жду, чтоб дверь отворилась… Но то обманчивый сон. Над милой хижинкой светит, Видаю, радуга мне… К чему? Она удалилась! Она в чужой стороне! Она все дале! все дале! И скоро слух замолчит! Бегите ж, овцы, бегите! Здесь горе душу томит! Конец 1817Утешение в слезах
«Скажи, что так задумчив ты? Все весело вокруг; В твоих глазах печали след; Ты, верно, плакал, друг?» «О чем грущу, то в сердце мне Запало глубоко; А слезы… слезы в радость нам; От них душе легко». «К тебе ласкаются друзья, Их ласки не дичись; И что бы ни утратил ты, Утратой поделись». «Как вам, счастливцам, то понять, Что понял я тоской? О чем… но нет! оно мое, Хотя и не со мной». «Не унывай же, ободрись; Еще ты в цвете лет; Ищи – найдешь; отважным, друг, Несбыточного нет». «Увы! Напрасные слова! Найдешь, – сказать легко; Мне до него, как до звезды Небесной, далеко». «На что ж искать далеких звезд? Для неба их краса; Любуйся ими в ясну ночь, Не мысли в небеса». «Ах! я любуюсь в ясный день; Нет сил и глаз отвесть; А ночью… ночью плакать мне, Покуда слезы есть». Конец 1817Мина Романс
Я знаю край! там негой дышит лес, Златой лимон горит во мгле древес, И ветерок жар неба охладит, И тихо мирт и гордо лавр стоит… Там счастье, друг! туда! туда Мечта зовет! Там сердцем я всегда! Там светлый дом! на мраморных столбах Поставлен свод; чертог горит в лучах; И ликов ряд недвижимых стоит; И, мнится, их молчанье говорит… Там счастье, друг! туда! туда Мечта зовет! Там сердцем я всегда! Гора там есть с заоблачной тропой! В туманах мул там путь находит свой; Драконы там мутят ночную мглу; Летит скала и воды на скалу!.. О друг, пойдем! туда! туда Мечта зовет!.. Но быть ли там когда? Конец 1817К месяцу
Снова лес и дол покрыл Блеск туманный твой: Он мне душу растворил Сладкой тишиной. Ты блеснул… и просветлел Тихо темный луг: Так улыбкой наш удел Озаряет друг. Скорбь и радость давних лет Отозвались мне, И минувшего привет Слышу в тишине. Лейся, мой ручей, стремись! Жизнь уж отцвела; Так надежды пронеслись; Так любовь ушла. Ах! то было и моим, Чем так сладко жить, То, чего, расставшись с ним, Вечно не забыть. Лейся, лейся, мой ручей, И журчанье струй С одинокою моей Лирой согласуй. Счастлив, кто от хлада лет Сердце охранил, Кто без ненависти свет, Бросил и забыл, Кто делит с душой родной, Втайне от людей, То, что презрено толпой Или чуждо ей. Конец 1817Новая любовь – новая жизнь
Что с тобой вдруг, сердце, стало? Что ты ноешь? Что опять Закипело, запылало? Как тебя растолковать? Все изчезло, чем ты жило, Чем так сладостно грустило! Где беспечность? где покой?.. Ах! что сделалось с тобой? Расцветающая ль младость, Речи ль, полные душой, Взора ль пламенная сладость Овладели так тобой? Захочу ли ободриться, Оторваться, удалиться — Бросить томный, томный взгляд! Ах! я к ней лечу назад! Я неволен, очарован! Я к неволе золотой, Обессиленный, прикован Шелковинкою одной! И бежать очарованья Нет ни силы, ни желанья! Рад тоске! хочу любить!.. Видно, сердце, так и быть! Январь или февраль 1818Горная дорога
Над страшной бездной дорога бежит, Меж жизнью и смертию мчится; Толпа великанов ее сторожит; Погибель над нею гнездится. Страшись пробужденья лавины ужасной: В молчанье пройди по дороге опасной. Там мост через бездну отважной дугой С скалы на скалу перегнулся; Не смертною был он поставлен рукой — Кто смертный к нему бы коснулся? Поток под него разъяренный бежит; Сразить его рвется и ввек не сразит. Там, грозно раздавшись, стоят ворота; Мнишь, область теней пред тобою; Пройди их – долина, долин красота, Там осень играет с весною. Приют сокровенный! Желанный предел! Туда бы от жизни ушел, улетел! Четыре потока оттуда шумят — Не зрели их выхода очи. Стремятся они на восток, на закат; Стремятся к полудню, к полночи; Рождаются вместе; родясь, расстаются; Бегут без возврата и ввек не сольются. Там в блеске небес два утеса стоят, Превыше всего, что земное: Кругом облака золотые кипят, Эфира семейство младое; Ведут хороводы в стране голубой; Там не был, не будет свидетель земной. Царица сидит высоко и светло На вечно незыблемом троне; Чудесной красой обвивает чело И блещет в алмазной короне; Напрасно там солнцу сиять и гореть: Ее золотит, но не может согреть. Март – начало апреля 1818Песня
Минувших дней очарованье, Зачем опять воскресло ты? Кто разбудил воспоминанье И замолчавшие мечты? Шепнул душе привет бывалый; Душе блеснул знакомый взор; И зримо ей минуту стало Незримое с давнишних пор. О милый гость, святое Прежде, Зачем в мою теснишься грудь? Могу ль сказать: живи надежде? Скажу ль тому, что было: будь? Могу ль узреть во блеске новом Мечты увядшей красоту? Могу ль опять одеть покровом Знакомой жизни наготу? Зачем душа в тот край стремится, Где были дни, каких уж нет? Пустынный край не населится; Не у́зрит он минувших лет; Там есть один жилец безгласный, Свидетель милой старины; Там вместе с ним все дни прекрасны В единый гроб положены. Июль – ноябрь 1818Мечта
Ах! если б мой милый был роза-цветок, Его унесла бы я в свой уголок; И там украшал бы мое он окно; И с ним я душой бы жила заодно. К нему бы в окно ветерок прилетал, И свежий мне запах на грудь навевал; И я б унывала, им сладко дыша, И с милым бы, тая, сливалась душа. Его бы и ранней и поздней порой Я, нежа, поила струей ключевой; Ко мне прилипая, живые листы Шептали б: «Я милый, а милая ты». Не села бы пчелка на милый мой цвет; Сказала б я: «Меду для пчелки здесь нет; Для пчелки-летуньи есть шелковый луг; Моим без раздела останься, мой друг». Сильфиды бы легкой слетелись толпой К нему любоваться его красотой; И мне бы шепнули, целуя листы: «Мы любим, что мило, мы любим, как ты». Тогда б встрепенулся мой милый цветок, С цветка сорвался бы румяный листок, К моей бы щеке распаленной пристал, И пурпурным жаром на ней заиграл. Родная б спросила: «Что, друг мой, с тобой? Ты вся разгорелась, как день молодой». — «Родная, родная, – сказала бы я, — Мне в душу свой запах льет роза моя». 1818<В. А. Перовскому>
Товарищ! Вот тебе рука! Ты другу вовремя сказался; К любви душа была близка: Уже в ней пламень загорался, Животворитель бытия, И жизнь отцветшая моя Надеждой снова зацветала! Опять о счастье мне шептала Мечта, знакомец старины… Доро́гой странник утомленный, Узрев с холма неотдаленный Предел родимой стороны, Трепещет, сердцем оживает, И жадным взором различает За горизонтом отчий кров, И слышит снова шум дубов, Которые давно шумели Над ним, игравшим в колыбели, В виду родительских гробов. Он небо узнает родное, Под коим счастье молодое Ему сказалося впервой! Прискорбно-радостным желаньем, Невыразимым упованьем, Невыразимою мечтой Живым утраченное мнится; Он снова гость минувших дней, И снова жизнь к нему теснится Всей милой прелестью своей… Таков был я одно мгновенье! Прелестно-быстрое виденье, Давно не посещавший друг, Меня внезапно навестило, Меня внезапно уманило На первобытный в жизни луг! Любовь мелькнула предо мною. С возобновленною душою Я к лире бросился моей, И под рукой нетерпеливой Бывалый звук раздался в ней! И мертвое мне стало живо, И снова на бездушный свет Я оглянулся как поэт!.. Но удались, мой посетитель! Не у меня тебе гостить! Не мне о жизни возвестить Тебе, святой благовеститель! Товарищ! мной ты не забыт! Любовь – друзей не раздружит. Сим несозревшим упованьем, Едва отведанным душой, Подорожу ль перед тобой? Сравню ль его с твоим страданьем? Я вижу, молодость твоя В прекрасном цвете умирает И страсть, убийца бытия, Тебя безмолвно убивает! Давно веселости уж нет! Где остроты приятной живость, С которой ты являлся в свет? Угрюмый спутник – молчаливость Повсюду следом за тобой. Ты молча радостных дичишься И, к жизни охладев, дружишься С одной убийственной тоской, Владельцем сердца одиноким. Мой друг! с участием глубоким Я часто на лице твоем Ловлю души твоей движенья! Болезнь любви без утешенья Изображается на нем. Сие смятение во взоре, Склоненном робко перед ней; Несвязность смутная речей В желанном сердцу разговоре; Перерывающийся глас; К тому, что окружает нас, Задумчивое невниманье; Присутствия очарованье, И неприсутствия тоска, И трепет, признак страсти тайной, Когда послышится случайно Любимый глас издалека, И это все, что сердцу ясно, А выраженью неподвластно, Сии приметы знаю я!.. Мой жребий дал на то мне право! Но то, в чем сладость бытия, Должно ли быть ему отравой? Нет, милый! ободрись! она Столь восхитительна недаром: Души глубокой чистым жаром Сия краса оживлена! Сей ясный взор – он не обманчив: Не прелестью ума одной, Он чувства прелестью приманчив! Под сей веселостью живой Задумчивое что-то скрыто, Уныло-сладостное слито С сей оживленной красотой; В ней что-то искреннее дышит, И в милом голосе ея Доверчиво душа твоя Какой-то звук знакомый слышит, Всему в нем лучшему родной, В нее участие лиющий И без усилия дающий Ей убежденье и покой. О, верь же, друг, душе прекрасной! Ужель природою напрасно Ей столько милого дано? Люби! любовь и жизнь – одно! Отдайся ей, забудь сомненье И жребий жизни соверши; Она поймет твое мученье, Она поймет язык души! 23 июля – 2 августа 1819Жизнь
Отуманенным потоком Жизнь унылая плыла; Берег в сумраке глубоком; На холодном небе мгла; Тьмою звезды обложило; Бури нет – один туман; И вдали ревет уныло Скрытый мглою океан. Было время – был день ясный, Были пышны берега. Были рощи сладкогласны, Были зе́лены луга. И за ней вились толпою Светлокрылые друзья: Юность легкая с Мечтою И живых Надежд семья. К ней теснились, услаждали Мирный путь ее игрой И над нею расстилали Благодатный парус свой. К ней Фантазия летала В блеске радужных лучей И с небес к ней прикликала Очарованных гостей: Вдохновение с звездою Над возвышенной главой И Хариту с молодою Музой, Гения сестрой; И она, их внемля пенье, Засыпала в тишине И ловила привиденье Счастья милого во сне!.. Bсе пропало, изменило; Разлетелися друзья; В бездне брошена унылой Одинокая ладья; Року странница послушна, Не желает и не ждет И прискорбно-равнодушна В беспредельное плывет. Что же вдруг затрепетало Над поверхностью зыбей? Что же прелестью бывалой Вдруг повеяло над ней? Легкой птичкой встрепенулся Пробужденный ветерок; Сонный парус развернулся; Дрогнул руль; быстрей челнок. Смотрит… ангелом прекрасным Кто-то светлый прилетел, Улыбнулся взором ясным Подарил и в лодку сел; И запел он песнь надежды; Жизнь очнулась, ожила И с волненьем робким вежды На красавца подняла. Видит… мрачность разлетелась; Снова зе́ркальна вода; И приветно загорелась В небе яркая звезда; И в нее проникла радость, Прежней веры тишина, И как будто снова младость С упованьем отдана. О хранитель, небом данный! Пой, небесный, и ладьей Правь ко пристани желанной За попутною звездой. Будь сиянье, будь ненастье; Будь, что надобно судьбе; Все для Жизни будет счастье, Добрый спутник, при тебе. 10 августа 1819Невыразимое (отрывок)
Что наш язык земной пред дивною природой? С какой небрежною и легкою свободой Она рассыпала повсюду красоту И разновидное с единством согласила! Но где, какая кисть ее изобразила? Едва, едва одну ее черту С усилием поймать удастся вдохновенью… Но льзя ли в мертвое живое передать? Кто мог создание в словах пересоздать? Невыразимое подвластно ль выраженью?.. Святые таинства, лишь сердце знает вас. Не часто ли в величественный час Вечернего земли преображенья — Когда душа сметенная полна Пророчеством великого виденья И в беспредельное унесена, — Спирается в груди болезненное чувство, Хотим прекрасное в полете удержать, Ненареченному хотим названье дать — И обессиленно безмолствует искусство! Что видимо очам – сей пламень облаков, По небу тихому летящих, Сие дрожанье вод блестящих, Сии картины берегов В пожаре пышного заката — Сии столь яркие черты — Легко их ловит мысль крылата, И есть слова для их блестящей красоты. Но то, что слито с сей блестящей красотою — Сие столь смутное, волнующее нас, Сей внемлемый одной душою Обворожающего глас, Сие к далекому стремленье, Сей миновавшего привет (Как прилетевшее незапно дуновенье) От луга родины, где был когда-то цвет, Святая молодость, где жило упованье), Сие шепнувшее душе воспоминанье О милом радостном и скорбном старины, Сия сходящая святыня с вышины, Сие присутствие создателя в созданье — Какой для них язык?.. Горе́ душа летит, Все необъятное в единый вздох теснится, И лишь молчание приятно говорит. Август 1819«Взошла заря. Дыханием приятным…»
Взошла заря. Дыханием приятным Сманила сон с моих она очей; Из хижины за гостем благодатным Я восходил на верх горы моей; Жемчуг росы по травкам ароматным Уже блистал младым огнем лучей, И день взлетел, как гений светлокрылый! И жизнью все живому сердцу было. Я восходил; вдруг тихо закурился Туманный дым в долине над рекой; Густел, редел, тянулся и клубился И вдруг взлетел крылатый надо мной, И яркий день с ним в бледный сумрак слился, Задернулась окрестность пеленой И влажною пустыней окруженный Я в облаках изчез уединенный… 27 ноября 1819Три путника
В свой край возвратяся из дальней земли, Три путника в гости к старушке зашли. «Прими, приюти нас на темную ночь; Но где же красавица? Где твоя дочь?» — «Принять, приютить вас готова, друзья; Скончалась красавица дочка моя». В светлице свеча пред иконой горит: В светлице красавица в гробе лежит. И первый, поднявши покров гробовой, На мертвую смотрит с унылой душой: «Ах, если б на свете еще ты жила, Ты мною б отныне любимой была». Другой покрывало опять наложил, И горько заплакал, и взор опустил: «Ах, милая, милая, ты ль умерла? Ты мною так долго любима была». Но третий опять покрывало поднял, И мертвую в бледны уста целовал: «Тебя я любил; мне тебя не забыть; Тебя я и в вечности буду любить». Начало 1820Песня
Отымает наши радости Без замены хладный свет; Вдохновенье нашей младости Гаснет с чувством жертвой лет; Не одно ланит пылание Тратим с юностью живой — Видим сердца увядание Прежде юности самой. Наше счастие разбитое Видим мы игрушкой волн; И в далекий мрак сердитое Море мчит наш бедный челн; Стрелки нет путеводительной Иль вотще ее магнит В бурю к пристани спасительной Челн беспарусный манит? Хлад, как будто ускоренная Смерть заходит в душу к нам; К наслажденью охлажденная, Охладев к самим бедам, Без стремленья, без желанья, В нас душа заглушена И навек очарования Слез отрадных лишена. На минуту ли улыбкою Мертвый лик наш оживет, Или прежнее ошибкою В сердце сонное зайдет — То обман; то плющ, играющий По развалинам седым; Сверху лист благоухающий — Прах и тление под ним. Оживите сердце вялое; Дайте быть по старине; Иль оплакивать бывалое Слез бывалых дайте мне. Сладко, сладко появление Ручейка в пустой глуши; Так и слезы – освежение Запустевшия души. 1820Лалла Рук
Милый сон, души пленитель, Гость прекрасный с вышины, Благодарный посетитель Поднебесной стороны, Я тобою насладился На минуту, но вполне: Добрым вестником явился Здесь небесного ты мне. Мнил я быть в обетованной Toй земле, где вечный мир; Мнил я зреть благоуханный Безмятежный Кашемир; Видел я: торжествовали Праздник розы и весны И пришелицу встречали Из далекой стороны. И блистая, и пленяя — Словно ангел неземной — Непорочность молодая Появилась предо мной; Светлый завес покрывала Оттенял ее черты, И застенчиво склоняла Взор умильный с высоты. Все – и робкая стыдливость Под сиянием венца, И младенческая живость, И величие лица, И в чертах глубокость чувства С безмятежной тишиной — Все в ней было без искусства Неописанной красой. Я смотрел – а призрак мимо (Увлекая душу вслед) Пролетал невозвратимо; Я за ним – его уж нет! Посетил, как упованье; Жизнь минуту озарил; И оставил лишь преданье, Что когда-то в жизни был. Ах! не с вами обитает Гений чистый красоты; Лишь порой он навещает Нас с небесной высоты; Он поспешен, как мечтанье, Как воздушный утра сон; Но в святом воспоминанье Неразлучен с сердцем он. Он лишь в чистые мгновенья Бытия бывает к нам, И приносит откровенья, Благотворные сердцам; Чтоб о небе сердце знало В темной области земной, Нам туда сквозь покрывало Он дает взглянуть порой; И во всем, что здесь прекрасно, Что наш мир животворит, Убедительно и ясно Он с душою говорит; А когда нас покидает, В дар любви у нас в виду В нашем небе зажигает Он прощальную звезду. 15 января – 7 февраля 1821«Теснятся все к тебе во храм…»
Теснятся все к тебе во храм, И все с коленопреклоненьем Тебе приносят фимиам, Тебя гремящим славят пеньем; Я одинок в углу стою, Как жизнью, полон я тобою, И жертву тайную мою Я приношу тебе душою. 4 февраля 1821Воспоминание
О милых спутниках, которые наш свет Своим сoпутствием для нас животворили, Не говори с тоской: их нет; Но с благодарностию: были. 16 февраля 1821Победитель
Сто красавиц светлооких Председали на турнире. Все – цветочки полевые; А моя одна как роза. На нее глядел я смело, Как орел глядит на солнце. Как от щек моих горячих Разгоралося забрало! Как рвалось пробиться сердце Сквозь тяжелый, твердый панцирь! Тихих взоров светлый пламень Стал душе моей пожаром; Сладкошепчущие речи Стали сердцу бурным вихрем; И она – младое утро — Стала мне грозой могучей; Я помчался, я ударил — И ничто не устояло. 1822Близость весны
На небе тишина; Таинственно луна Сквозь тонкий пар сияет; Звезда любви играет Над темною горой; И в бездне голубой Бесплотные, летая, Чаруя, оживляя Ночную тишину, Приветствуют весну. 1822Море Элегия
Безмолвное море, лазурное море, Стою очарован над бездной твоей. Ты живо; ты дышишь; смятенной любовью, Тревожною думой наполнено ты. Безмолвное море, лазурное море, Открой мне глубокую тайну твою: Что движет твое необъятное лоно? Чем дышит твоя напряженная грудь? Иль тянет тебя из земныя неволи Далекое, светлое небо к себе?.. Таинственной, сладостной полное жизни, Ты чисто в присутствии чистом его. Ты льешься его светозарной лазурью, Вечерним и утренним светом горишь, Ласкаешь его облака золотые И радостно блещешь звездами его. Когда же сбираются темные тучи, Чтоб ясное небо отнять у тебя — Ты бьешься, ты воешь, ты волны подъемлешь, Ты рвешь и терзаешь враждебную мглу… И мгла исчезает, и тучи уходят; Но, полное прошлой тревоги своей, Ты долго вздымаешь испуганны волны, И сладостный блеск возвращенных небес Не вовсе тебе тишину возвращает; Обманчив твоей неподвижности вид: Ты в бездне покойной скрываешь смятенье, Ты, небом любуясь, дрожишь за него. 18229 марта 1823
Ты предо мною Стояла тихо; Твой взор унылый Был полон чувств! Он мне напомнил О милом прошлом… Он был последний На здешнем свете. Ты удалилась, Как тихий ангел! Твоя могила, Как рай, спокойна! Там все земные О небе мысли. Звезды небес! Тихая ночь!.. Март 1823Привидение
В тени дерев, при звуке струн, в сиянье Вечерних гаснущих лучей, Как первыя любви очарованье, Как прелесть первых юных дней — Явилася она передо мною В одежде белой, как туман; Воздушною лазурной пеленою Был окружен воздушный стан; Таинственно она ее свивала И развивала над собой; То, сняв ее, открытая стояла С темнокудрявой головой; То, вдруг всю ткань чудесно распустивши, Как призрак, исчезала в ней; То, перст к устам и голову склонивши, Огнем задумчивых очей Задумчивость на сердце наводила. Вдруг… покрывало подняла… Трикраты им куда-то поманила… И скрылася… как не была! Вотще продлить хотелось упоенье… Не возвратилася она; Лишь грустию по милом привиденье Душа осталася полна. 1823Ночь
Уже утомившийся день Склонился в багряные воды, Темнеют лазурные своды, Прохладная стелется тень; И ночь молчаливая мирно Пошла по дороге эфирной, И Геспер летит перед ней С прекрасной звездою своей. Сойди, о небесная, к нам С волшебным твоим покрывалом, С целебным забвенья фиалом, Дай мира усталым сердцам. Своим миротворным явленьем, Своим усыпительным пеньем, Томимую душу тоской, Как матерь дитя, успокой. 1823«Я Музу юную, бывало…»
Я Музу юную, бывало, Встречал в подлунной стороне, И Вдохновение летало С небес, незванное, ко мне; На все земное наводило Животворящий луч оно — И для меня в то время было Жизнь и Поэзия одно. Но дарователь песнопений Меня давно не посещал; Бывалых нет в душе видений, И голос арфы замолчал. Его желанного возврата Дождатся ль мне когда опять? Или навек моя утрата, И вечно арфе не звучать? Но все, что от времен прекрасных, Когда он мне доступен был, Все, что от милых темных, ясных Минувших дней я сохранил — Цветы мечты уединенной И жизни лучшие цветы — Кладу на твой алтарь священный, О Гений чистой красоты! Не знаю, светлых вдохновений Когда воротится чреда, — Но ты знаком мне, чистый Гений! И светит мне твоя звезда! Пока еще ее сиянье Душа умеет различать: Не умерло очарованье! Былое сбудется опять. 1822–1824 (?)Таинственный посетитель
Кто ты, призрак, гость прекрасный? К нам откуда прилетал? Безответно и безгласно, Для чего от нас пропал? Где ты? Где твое селенье? Что с тобой? Куда исчез? И зачем твое явленье В поднебесную с небес? Не Надежда ль ты младая, Приходящая порой Из неведомого края Под волшебной пеленой? Как она, неумолимо Радость милую на час Показал ты, с нею мимо Пролетел и бросил нас. Не Любовь ли нам собою Тайно ты изобразил?.. Дни любви, когда одною Мир для нас прекрасен был, Ах! тогда сквозь покрывало Неземным казался он… Снят покров; любви не стало; Жизнь пуста, и счастье – сон. Не волшебница ли Дума Здесь в тебе явилась нам? Удаленная от шума, И мечтательно к устам Приложивши перст, приходит К нам, как ты, она порой И в минувшее уводит Нас безмолвно за собой. Иль в тебе сама святая Здесь Поэзия была?.. К нам, как ты, она из рая Два покрова принесла: Для небес лазурно-ясный, Чистый, белый для земли: С ней все близкое прекрасно; Все знакомо, что вдали, Иль Предчувствие сходило К нам во образе твоем И понятно говорило О небесном, о святом? Часто в жизни так бывало: Кто-то светлый к нам летит, Подымает покрывало И в далекое манит. 1824Мотылек и цветы
Поляны мирной украшенье, Благоуханные цветы, Минутное изображенье Земной, минутной красоты; Вы равнодушно расцветаете, Глядяся в воды ручейка, И равнодушно упрекаете В непостоянстве мотылька. Во дни весны с востока ясного, Младой денницей побужден, В пределы бытия прекрасного От высоты спустился он. Исполненный воспоминанием Небесной, чистой красоты, Он вашим радостным сиянием Пленился, милые цветы. Он мнил, что вы с ним однородные Переселенцы с вышины, Что вам, как и ему, свободные И крылья и душа даны: Но вы к земле, цветы, прикованы; Вам на земле и умереть; Глаза лишь вами очарованы, А сердца вам не разогреть. Не рождены вы для внимания; Вам непонятен чувства глас; Стремишься к вам без упования; Без горя забываешь вас. Пускай же к вам резвясь ласкается, Как вы, минутный ветерок; Иною прелестью пленяется Бессмертья вестник мотылек. Но есть меж вами два избранные, Два ненадменные цветка: Их имена, им сердцем данные, К ним привлекают мотылька. Они без пышного сияния; Едва приметны красотой: Один есть цвет воспоминания, Сердечной думы цвет другой. О милое воспоминание О том, чего уж мире нет! О дума сердца – упование На лучший, неизменный свет! Блажен, кто вас среди губящего Волненья жизни сохранил И с вами низость настоящего И пренебрег и позабыл. 1824К Гёте
Творец великих вдохновений! Я сохраню в душе моей Очарование мгновений, Столь счастливых в близи твоей! Твое вечернее сиянье Не о закате говорит! Ты юноша среди созданья! Твой гений, как творил, творит. Я в сердце уношу надежду Еще здесь встретиться с тобой: Земле знакомую одежду Не скоро скинет гений твой. В далеком полуночном свете Твоею Музою я жил, И для меня мой гений Гёте Животворитель жизни был! Почто судьба мне запретила Тебя узреть в моей весне? Тогда душа бы воспалила Свой пламень на твоем огне. Тогда б вокруг меня создался Иной, чудесно-пышный свет; Тогда б и обо мне остался В потомстве слух: он был поэт! 22–26 августа 1827Могила
В лоне твоем глубоком и темном покоится тайно Весь человеческий жребий. Скорби рыданье, волнение Страсти навеки в твой засыпают целебный приют, Мука любви и блаженство любви не тревожат там боле Груди спокойной. О жизнь, ты полная трепета буря! Только в безмолвно-хранительном мраке могилы безвластен Рок… Мы там забываемся сном беспробудным, быть может Сны прекрасные видя… О! там не кипит, не пылает Кровь, и терзания жизни не рвут охладевшего сердца. 1828 (?)Любовь
На воле природы, На луге душистом, В цветущей долине, И в пышном чертоге, И в звездном блистанье Безмолвный ночи — Дышу лишь тобою. Глубокую сладость, Глубокое пламя В меня ты вливаешь. В весне животворной, В цветах благовонных Меня ты объемлешь Спокойствием неба, Святая любовь! 1828 (?)К сестрам и братьям
Рано от печальной Жизни вы сокрылись. Но об вас ли плакать? Вы давно в могиле Сном спокойным спите. Вас, друзья, в лицо я Прежде не видала, Вас в печальной жизни Вечно я не встречу. Но за вами сердцем Я из жизни рвуся; И глубоко в сердце Слышится мне голос: Всё, мне говорит он, Живо здесь любовью; Ею к нам нисходит Наш Создатель с неба, И к нему на небо Ею мы восходим. 1828 (?)Homer
Веки идут, и веки уходят, а песни Гомера Все раздаются, и вечен Гомеров венец. Долго думав, природа вдруг создала и, создавши, Молила так: одного будет Гомера земле! 1829Две загадки
I
Не человечьими руками Жемчужный разноцветный мост Из вод построен над водами, Чудесный вид! огромный рост! Раскинув паруса шумящи, Не раз корабль под ним проплыл; Но на хребет его блестящий Еще никто не восходил! Идешь к нему – он прочь стремится, И в то же время недвижим; С своим потоком он родится И вместе исчезает с ним.II
На пажити необозримой, Не убавляясь никогда, Скитаются неисчислимо Сереброрунные стада. В рожок серебряный играет Пастух, приставленный к стадам: Он их в златую дверь впускает И счет ведет им по ночам. И, недочета им не зная, Пасет он их давно, давно; Стада поит вода живая, И умирать им не дано. Они одной дорогой бродят, Под стражей пастырской руки, И юноши их там находят, Где находили старики; У них есть вождь – Овен прекрасный Их сторожит огромный Пес, Есть Лев меж ними неопасный И Дева – чудо из чудес. 10–17 марта 1831Замок на берегу моря
«Ты видел ли замок на бреге морском? Играют, сияют над ним облака; Лазурное море прекрасно кругом». «Я замок тот видел на бреге морском; Сияла над ним одиноко луна; Над морем клубился холодный туман». «Шумели ль, плескали ль морские валы? С их шумом, с их плеском сливался ли глас Веселого пенья, торжественных струн?» «Был ветер спокоен; молчала волна; Мне слышалась в замке печальная песнь; Я плакал от жалобных криков ея». «Царя и царицу ты видел ли там? Ты видел ли с ними их милую дочь, Младую, как утро весеннего дня?» «Царя и царицу я видел… Вдвоем Безгласны, печальны сидели они; Но милой их дочери не было там». 28 марта 1831Приход весны
Зелень нивы, рощи лепет, В небе жаворонка трепет, Теплый дождь, сверканье вод, — Вас назвавши, что прибавить? Чем иным тебя прославить, Жизнь души, весны приход? Март 1831Ночной смотр
В двенадцать часов по ночам Из гроба встает барабанщик; И ходит он взад и вперед, И бьет он проворно тревогу. И в темных гробах барабан Могучую будит пехоту: Встают молодцы-егеря, Встают старики-гренадеры, Встают из-под русских снегов, С роскошных полей Италийских, Встают с Африканских степей, С горючих песков Палестины. В двенадцать часов по ночам Выходит трубач из могилы; И скачет он взад и вперед, И громко трубит он тревогу. И в темных могилах труба Могучую конницу будит: Седые гусары встают, Встают усачи кирасиры; И с севера, с юга летят, С востока и с запада мчатся На легких воздушных конях Один за другим эскадроны. В двенадцать часов по ночам Из гроба встает полководец; На нем сверх мундира сюртук; Он с маленькой шляпой и шпагой На старом коне боевом Он медленно едет по фрунту; И маршалы едут за ним, И едут за ним адъютанты; И армия честь отдает. Становится он перед нею; И с музыкой мимо его Проходят полки за полками. И всех генералов своих Потом он в кружок собирает, И ближнему на ухо сам Он шепчет пароль свой и лозунг; И армии всей отдают Они тот пароль и тот лозунг: И Франция – тот их пароль, Тот лозунг – Святая Елена. Так к старым солдатам своим На смотр генеральный из гроба В двенадцать часов по ночам Встает император усопший. Январь – март (?) 1836Судьба
С светлой главой, на тяжких свинцовых ногах между нами Ходит судьба! Человек, прямо и смело иди! Если, ее повстречав, не потупишь очей и спокойным Оком ей взглянешь в лицо – сам просветлеешь лицом; Если ж, испуганный ею, пред нею падешь ты – наступит Тяжкой ногой на тебя, будешь затоптан в грязи! 1837<А. С. Пушкин>
Он лежал без движенья, как будто по тяжкой работе Руки свои опустив. Голову тихо склоня, Долго стоял я над ним, один, смотря со вниманьем Мертвому прямо в глаза; были закрыты глаза, Было лицо его мне так знакомо, и было заметно, Что выражалось на нем, – в жизни такого Мы не видали на этом лице. Не горел вдохновенья Пламень на нем; не сиял острый ум; Нет! Но какою-то мыслью, глубокой, высокою мыслью Было объято оно: мнилося мне, что ему В этот миг предстояло как будто какое виденье, Что-то сбывалось над ним, и спросить мне хотелось: что видишь? 1837Царскосельский лебедь
Лебедь белогрудый, лебедь белокрылый, Как же нелюдимо ты, отшельник хилый, Здесь сидишь на лоне вод уединенных! Спутников давнишних, прежней современных Жизни, переживши, сетуя глубоко, Их ты понимаешь думой одинокой! Сумрачный пустынник, из уединенья Ты на молодое смотришь поколенье Грустными очами; прежнего единый Брошенный обломок, в новый лебединый Свет на пир веселый гость неприглашенный, Ты вступить дичишься в круг неблагосклонный Резвой молодежи. На водах широких, На виду царевых теремов высоких, Пред Чесменской гордо блещущей колонной, Лебеди младые голубое лоно Озера тревожат плаваньем, плесканьем, Боем крыл могучих, белых шей купаньем; День они встречают, звонко окликаясь; В зеркале прозрачной влаги отражаясь, Длинной вереницей, белым флотом стройно Плавают в сиянье солнца по спокойной Озера лазури; ночью ж меж звездами В небе, повторенном тихими водами, Облаком перловым, вод не зыбля, реют Иль двойною тенью, дремля, в них белеют; А когда гуляет месяц меж звездами, Влагу расшибая сильными крылами, В блеске волн, зажженных месячным сияньем, Окруженны брызгов огненных сверканьем, Кажутся волшебным призраков явленьем — Племя молодое, полное кипеньем Жизни своевольной. Ты ж старик печальный, Молодость их образ твой монументальный Резвую пугает; он на них наводит Скуку, и в приют твой ни один не входит Гость из молодежи, ветрено летящей Вслед за быстрым мигом жизни настоящей. Но не сетуй, старец, пращур лебединый: Ты родился в славный век Екатерины, Был ее ласкаем царскою рукою, — Памятников гордых битве под Чесмою, Битве при Кагуле воздвиженье зрел ты; С веком Александра тихо устарел ты; И, почти столетний, в веке Николая Видишь, угасая, как вся Русь святая Вкруг царевой силы, – вековой зеленый Плющ вкруг силы дуба, – вьется, под короной Царской, от окрестных бурь ища защиты. Дни текли за днями. Лебедь позабытый Таял одиноко; а младое племя В шуме резвой жизни забывало время… Раз среди их шума раздался чудесно Голос, всю пронзивший бездну поднебесной; Лебеди, услышав голос, присмирели, И, стремимы тайной силой, полетели На голос: пред ними, вновь помолоделый, Радостно вздымая перья груди белой, Голову на щее гордо распрямленной К небесам подъемля – весь воспламененный Лебедь благородный дней Екатерины Пел, прощаясь с жизнью, гимн свой лебединый! А когда допел он – на небо взглянувши И крылами сильно дряхлыми взмахнувши — К небу, как во время оное бывало, Он с земли рванулся… и его не стало В высоте… и навзничь с высоты упал он; И прекрасен мертвый на хребте лежал он, Широко раскинув крылья, как летящий, В небеса вперяя взор, уж не горящий. Ноябрь или декабрь 1851Розы
Розы цветущие, розы душистые, как вы прекрасно В пестрый венок сплетены милой рукой для меня! Светлое, чистое девственной кисти созданье, глубокий Смысл заключается здесь в легких воздушных чертах. Роз разновидных семья на одном окруженном шипами Стебле – не вся ли тут жизнь? Корень же твердый цветов — Крест, претворяющий чудно своей жизнедательной силой Стебля терновый венец в свежий венок из цветов? Веры хранительный стебель, цветущие почки надежды, Цвет благовонный любви в образ один здесь слились, — Образ великий, для нас бытия выражающий тайну; Все, что пленяет, как цвет, все, что пронзает, как терн, Радость и скорбь на земле знаменуют одно: их в единый Свежий сплетает венок Промысл тайной рукой. Розы прекрасные! в этом венке очарованном здесь вы Будете свежи всегда: нет увяданья для вас; Будете вечно душисты; здесь памятью сердца о милой Вас здесь собравшей руке будет ваш жив аромат. Не ранее марта 1852Баллады
Людмила
«Где ты, милый? Что с тобою? С чужеземною красою, Знать, в далекой стороне Изменил, неверный, мне; Иль безвременно могила Светлый взор твой угасила». Так Людмила, приуныв, К персям очи преклонив, На распутии вздыхала. «Возвратится ль он, – мечтала, — Из далеких, чуждых стран С грозной ратию славян?» Пыль туманит отдаленье; Светит ратных ополченье; Топот, ржание коней; Трубный треск и стук мечей; Прахом панцири покрыты; Шлемы лаврами обвиты: Близко, близко ратных строй; Мчатся шумною толпой Жены, чада, обрученны… «Возвратились, незабвенны!..» А Людмила? Ждет-пождет… «Там дружину он ведет; Сладкий час – соединенье!..» Вот проходит ополченье; Миновался ратных строй… Где ж, Людмила, твой герой? Где твоя, Людмила, радость? Ах! прости, надежда-сладость! Все погибло: друга нет. Тихо в терем свой идет, Томну голову склонила: «Расступись, моя могила; Гроб, откройся; полно жить: Дважды сердцу не любить». «Что с тобой, моя Людмила? — Мать со страхом возопила. — О, спокой тебя творец!» — «Милый друг, всему конец; Что прошло – невозвратимо; Небо к нам неумолимо; Царь небесный нас забыл… Мне ль он счастья не сулил? Где ж обетов исполненье? Где святое провиденье? Нет, немилостив творец; Все прости; всему конец». «О Людмила, грех роптанье; Скорбь – создателя посланье; Зла создатель не творит; Мертвых стон не воскресит». — «Ах! родная, миновалось! Сердце верить отказалось! Я ль, с надеждой и мольбой, Пред иконою святой Не точила слез ручьями? Нет, бесплодными мольбами Не призвать минувших дней; Не цвести душе моей. Рано жизнью насладилась, Рано жизнь моя затмилась, Рано прежних лет краса. Что взирать на небеса? Что молить неумолимых? Возвращу ль невозвратимых?» — «Царь небес, то скорби глас! Дочь, воспомни смертный час; Кратко жизни сей страданье; Рай – смиренным воздаянье, Ад – бунтующим сердцам; Будь послушна небесам». «Что, родная, муки ада? Что небесная награда? С милым вместе – всюду рай; С милым розно – райский край Безотрадная обитель. Нет, забыл меня спаситель!» — Так Людмила жизнь кляла, Так творца на суд звала… Вот уж солнце за горами; Вот усыпала звездами Ночь спокойный свод небес; Мрачен дол, и мрачен лес. Вот и месяц величавый Встал над тихою дубравой: То из облака блеснет, То за облако зайдет; С гор простерты длинны тени; И лесов дремучих сени, И зерцало зыбких вод, И небес далекий свод В светлый сумрак облеченны… Спят пригорки отдаленны, Бор заснул, долина спит… Чу!.. полночный час звучит. Потряслись дубов вершины; Вот повеял от долины Перелетный ветерок… Скачет по полю ездок: Борзый конь и ржет и пышет. Вдруг… идут… (Людмила слышит) На чугунное крыльцо… Тихо брякнуло кольцо… Тихим шепотом сказали… (Все в ней жилки задрожали.) То знакомый голос был, То ей милый говорил: «Спит иль нет моя Людмила? Помнит друга иль забыла? Весела иль слезы льет? Встань, жених тебя зовет». — «Ты ль? Откуда в час полночи? Ах! едва прискорбны очи Не потухнули от слез. Знать, тронулся царь небес Бедной девицы тоскою? Точно ль милый предо мною? Где же был? Какой судьбой Ты опять в стране родной?» «Близ Наревы дом мой тесный. Только месяц поднебесный Над долиною взойдет, Лишь полночный час пробьет — Мы коней своих седлаем, Темны кельи покидаем. Поздно я пустился в путь. Ты моя; моею будь… Чу! совы пустынной крики. Слышишь? Пенье, брачны лики. Слышишь? Борзый конь заржал. Едем, едем, час настал». «Переждем хоть время ночи; Ветер встал от полуночи; Хладно в поле, бор шумит; Месяц тучами закрыт». — «Ветер буйный перестанет: Стихнет бор, луна проглянет; Едем, нам сто верст езды. Слышишь? Конь грызет бразды, Бьет копытом с нетерпенья. Миг нам страшен замедленья; Краткий, краткий дан мне срок; Едем, едем, путь далек». «Ночь давно ли наступила? Полночь только что пробила. Слышишь? Колокол гудит». — «Ветер стихнул; бор молчит; Месяц в водный ток глядится: Мигом борзый конь домчится». «Где ж, скажи, твой тесный дом?» «Там, в Литве, краю чужом: Хладен, тих, уединенный, Свежим дерном покровенный; Саван, крест, и шесть досток. Едем, едем, путь далек». Мчатся всадник и Людмила. Робко дева обхватила Друга нежною рукой, Прислонясь к нему главой. Скоком, лётом по долинам, По буграм и по равнинам; Пышет конь, земля дрожит; Брызжут искры от копыт; Пыль катится вслед клубами; Скачут мимо них рядами Рвы, поля, бугры, кусты: С громом зыблются мосты. «Светит месяц, дол сребрится; Мертвый с девицею мчится; Путь их к келье гробовой. Страшно ль, девица, со мной?» — «Что до мертвых? что до гроба? Мертвых дом земли утроба». — «Чу! в лесу потрясся лист. Чу! в глуши раздался свист. Черный ворон встрепенулся; Вздрогнул конь и отшатнулся; Вспыхнул в поле огонек». — «Близко ль, милый?» – «Путь далек». Слышат шорох тихих теней: В час полуночных видений, В дыме облака, толпой, Прах оставя гробовой С поздним месяца восходом, Легким, светлым хороводом В цепь воздушную свились; Вот за ними понеслись; Вот поют воздушны лики: Будто в листьях повилики Вьется легкий ветерок; Будто плещет ручеек. «Светит месяц, дол сребрится; Мертвый с девицею мчится; Путь их к келье гробовой. Страшно ль, девица, со мной?» — «Что до мертвых? что до гроба? Мертвых дом земли утроба». — «Конь, мой конь, бежит песок; Чую ранний ветерок; Конь, мой конь, быстрее мчися; Звезды утренни зажглися, Месяц в облаке потух. Конь, мой конь, кричит петух». «Близко ль, милый?» – «Вот примчались». Слышат: сосны зашатались; Слышат: спал с ворот запор; Борзый конь стрелой на двор. Что же, что в очах Людмилы? Камней ряд, кресты, могилы, И среди них божий храм. Конь несется по гробам; Стены звонкий вторят топот; И в траве чуть слышный шепот, Как усопших тихий глас… Вот денница занялась. Что же чудится Людмиле?.. К свежей конь примчась могиле Бух в нее и с седоком. Вдруг – глухой подземный гром; Страшно доски затрещали; Кости в кости застучали; Пыль взвилася; обруч хлоп; Тихо, тихо вскрылся гроб… Что же, что в очах Людмилы?.. Ах, невеста, где твой милый? Где венчальный твой венец? Дом твой – гроб; жених – мертвец. Видит труп оцепенелый; Прям, недвижим, посинелый, Длинным саваном обвит. Страшен милый прежде вид; Впалы мертвые ланиты; Мутен взор полуоткрытый; Руки сложены крестом. Вдруг привстал… манит перстом… «Кончен путь: ко мне, Людмила; Нам постель – темна могила; Завес – саван гробовой; Сладко спать в земле сырой». Что ж Людмила?.. Каменеет, Меркнут очи, кровь хладеет, Пала мертвая на прах. Стон и вопли в облаках; Визг и скрежет под землею; Вдруг усопшие толпою Потянулись из могил; Тихий, страшный хор завыл: «Смертных ропот безрассуден; Царь всевышний правосуден; Твой услышал стон творец: Час твой бил, настал конец». 14 апреля 1808Кассандра
Всё в обители Приама Возвещало брачный час, Запах роз и фимиама, Гимны дев и лирный глас. Спит гроза минувшей брани, Щит, и меч, и конь забыт, Облечен в пурпурны ткани С Поликсеною Пелид. Девы, юноши четами По узорчатым коврам, Украшенные венками, Идут веселы во храм; Стогны дышат фимиамом; В злато царский дом одет; Снова счастье над Пергамом… Для Кассандры счастья нет. Уклонясь от лирных звонов, Нелюдима и одна, Дочь Приама в Аполлонов Древний лес удалена. Сводом лавров осененна, Сбросив жрический покров, Провозвестница священна Так роптала на богов: «Там шумят веселых волны; Всем душа оживлена; Мать, отец надеждой полны; В храм сестра приведена. Я одна мечты лишенна; Ужас мне – что радость там; Вижу, вижу: окрыленна Мчится Гибель на Пергам. Вижу факел – он светлеет Не в Гименовых руках; И не жертвы пламя рдеет На сгущенных облаках; Зрю пиров уготовленье… Но… горе́, по небесам, Слышно бога приближенье, Предлетящего бедам. И вотще мое стенанье, И печаль моя мне стыд: Лишь с пустынями страданье Сердце сирое делит. От счастливых отчужденна, Веселящимся позор, Я тобой всех благ лишенна, О предведения взор! Что Кассандре дар вещанья В сем жилище скромных чад Безмятежного незнанья, И блаженных им стократ? Ах! почто она предвидит То, чего не отвратит?.. Неизбежное приидет, И грозящее сразит. И спасу ль их, открывая Близкий ужас их очам? Лишь незнанье – жизнь прямая; Знанье – смерть прямая нам. Феб, возьми твой дар опасный, Очи мне спеши затмить; Тяжко истины ужасной Смертною скуделью быть… Я забыла славить радость, Став пророчицей твоей. Слепоты погибшей сладость, Мирный мрак минувших дней, С вами скрылись наслажденья! Он мне будущее дал, Но веселие мгновенья Настоящего отнял. Никогда покров венчальный Мне главы не осенит: Вижу факел погребальный; Вижу: ранний гроб открыт. Я с родными скучну младость Всю утратила в тоске — Ах, могла ль делить их радость, Видя скорбь их вдалеке? Их ласкает ожиданье; Жизнь, любовь передо мной; Всё окрест очарованье — Я одна мертва душой. Для меня весна напрасна; Мир цветущий пуст и дик… Ах! сколь жизнь тому ужасна, Кто во глубь ее проник! Сладкий жребий Поликсены! С женихом рука с рукой, Взор, любовью распаленный, И гордясь сама собой, Благ своих не постигает: В сновидениях златых И бессмертья не желает За один с Пелидом миг. И моей любви открылся Тот, кого мы ждем душой: Милый взор ко мне стремился, Полный страстною тоской… Но – для нас перед богами Брачный гимн не возгремит; Вижу: грозно между нами Тень стигийская стоит. Духи, бледною толпою Покидая мрачный ад, Вслед за мной и предо мною, Неотступные, летят; В резвы юношески лики Вносят ужас за собой; Внемля радостные клики, Внемлю их надгробный вой. Там сокрытый блеск кинжала; Там убийцы взор горит; Там невидимого жала Яд погибелью грозит. Всё предчувствуя и зная, В страшный путь сама иду: Ты падешь, страна родная; Я в чужбине гроб найду…» И слова еще звучали… Вдруг… шумит священный лес. И зефиры глас примчали: «Пал великий Ахиллес!» Машут Фурии змиями, Боги мчатся к небесам… И карающий громами Грозно смотрит на Пергам. Сентябрь (?) 1809Светлана
А. А. Воейковой
Раз в крещенский вечерок Девушки гадали: За ворота башмачок, Сняв с ноги, бросали; Снег пололи; под окном Слушали; кормили Счетным курицу зерном; Ярый воск топили; В чашу с чистою водой Клали перстень золотой, Серьги изумрудны; Расстилали белый плат И над чашей пели в лад Песенки подблюдны. Тускло светится луна В сумраке тумана — Молчалива и грустна Милая Светлана. «Что, подруженька, с тобой? Вымолви словечко; Слушай песни круговой; Вынь себе колечко. Пой, красавица: «Кузнец, Скуй мне злат и нов венец, Скуй кольцо златое; Мне венчаться тем венцом, Обручаться тем кольцом При святом налое». «Как могу, подружки, петь? Милый друг далёко; Мне судьбина умереть В грусти одинокой. Год промчался – вести нет; Он ко мне не пишет; Ах! а им лишь красен свет, Им лишь сердце дышит… Иль не вспомнишь обо мне? Где, в какой ты стороне? Где твоя обитель? Я молюсь и слезы лью! Утоли печаль мою, Ангел-утешитель». Вот в светлице стол накрыт Белой пеленою; И на том столе стоит Зеркало с свечою; Два прибора на столе, «Загадай, Светлана; В чистом зеркала стекле В полночь, без обмана Ты узнаешь жребий свой: Стукнет в двери милый твой Легкою рукою; Упадет с дверей запор; Сядет он за свой прибор Ужинать с тобою». Вот красавица одна; К зеркалу садится; С тайной робостью она В зеркало глядится; Темно в зеркале; кругом Мертвое молчанье; Свечка трепетным огнем Чуть лиет сиянье… Робость в ней волнует грудь, Страшно ей назад взглянуть, Страх туманит очи… С треском пыхнул огонек, Крикнул жалобно сверчок, Вестник полуночи. Подпершися локотком, Чуть Светлана дышит… Вот… легохонько замком Кто-то стукнул, слышит; Робко в зеркало глядит: За ее плечами Кто-то, чудилось, блестит Яркими глазами… Занялся от страха дух… Вдруг в ее влетает слух Тихий, легкий шепот: «Я с тобой, моя краса; Укротились небеса; Твой услышан ропот!» Оглянулась… милый к ней Простирает руки. «Радость, свет моих очей, Нет, для нас разлуки. Едем! Поп уж в церкви ждет С дьяконом, дьячками; Хор венчальну песнь поет; Храм блестит свечами». Был в ответ умильный взор; Идут на широкий двор, В ворота тесовы; У ворот их санки ждут; С нетерпенья кони рвут Повода шелковы. Сели… кони с места враз; Пышут дым ноздрями; От копыт их поднялась Вьюга над санями. Скачут… пусто все вокруг, Степь в очах Светланы: На луне туманный круг; Чуть блестят поляны. Сердце вещее дрожит; Робко дева говорит: «Что ты смолкнул, милый?» Ни полслова ей в ответ: Он глядит на лунный свет, Бледен и унылый. Кони мчатся по буграм; Топчут снег глубокий… Вот в сторонке божий храм Виден одинокий; Двери вихорь отворил; Тьма людей во храме; Яркий свет паникадил Тускнет в фимиаме; На средине черный гроб; И гласит протяжно поп: «Буди взят могилой!» Пуще девица дрожит; Кони мимо; друг молчит, Бледен и унылый. Вдруг метелица кругом; Снег валит клоками; Черный вран, свистя крылом, Вьется над санями; Ворон каркает: печаль! Кони торопливы Чутко смотрят в темну даль, Подымая гривы; Брезжит в поле огонек; Виден мирный уголок, Хижинка под снегом. Кони борзые быстрей, Снег взрывая, прямо к ней Мчатся дружным бегом. Вот примчалися… и вмиг Из очей пропали: Кони, сани и жених Будто не бывали. Одинокая, впотьмах, Брошена от друга, В страшных девица местах; Вкруг метель и вьюга. Возвратиться – следу нет… Виден ей в избушке свет: Вот перекрестилась; В дверь с молитвою стучит… Дверь шатнулася… скрыпит… Тихо растворилась. Что ж?.. В избушке гроб; накрыт Белою запоной; Спасов лик в ногах стоит; Свечка пред иконой… Ах! Светлана, что с тобой? В чью зашла обитель? Страшен хижины пустой Безответный житель. Входит с трепетом, в слезах; Пред иконой пала в прах, Спасу помолилась; И с крестом своим в руке, Под святыми в уголке Робко притаилась. Все утихло… вьюги нет… Слабо свечка тлится, То прольет дрожащий свет, То опять затмится… Все в глубоком, мертвом сне, Страшное молчанье… Чу, Светлана!.. в тишине Легкое журчанье… Вот глядит: к ней в уголок Белоснежный голубок С светлыми глазами, Тихо вея, прилетел, К ней на перси тихо сел, Обнял их крылами. Смолкло все опять кругом… Вот Светлане мнится, Что под белым полотном Мертвый шевелится… Сорвался покров; мертвец (Лик мрачнее ночи) Виден весь – на лбу венец, Затворёны очи. Вдруг… в устах сомкнутых стон; Силится раздвинуть он Руки охладелы… Что же девица?.. Дрожит… Гибель близко… но не спит Голубочек белый. Встрепенулся, развернул Легкие он крилы; К мертвецу на грудь вспорхнул… Всей лишенный силы, Простонав, заскрежетал Страшно он зубами И на деву засверкал Грозными очами… Снова бледность на устах; В закатившихся глазах Смерть изобразилась… Глядь, Светлана… о творец! Милый друг ее – мертвец! Ах!.. и пробудилась. Где ж?.. У зеркала, одна Посреди светлицы; В тонкий занавес окна Светит луч денницы; Шумным бьет крылом петух, День встречая пеньем; Все блестит… Светланин дух Смутен сновиденьем. «Ах! ужасный, грозный сон! Не добро вещает он — Горькую судьбину; Тайный мрак грядущих дней, Что сулишь душе моей, Радость иль кручину?» Села (тяжко ноет грудь) Под окном Светлана; Из окна широкий путь Виден сквозь тумана; Снег на солнышке блестит, Пар алеет тонкий… Чу!.. в дали пустой гремит Колокольчик звонкий; На дороге снежный прах; Мчат, как будто на крылах, Санки кони рьяны; Ближе; вот уж у ворот; Статный гость к крыльцу идет. Кто?.. Жених Светланы. Что же твой, Светлана, сон, Прорицатель муки? Друг с тобой; все тот же он В опыте разлуки; Та ж любовь в его очах, Те ж приятны взоры; Те ж на сладостных устах Милы разговоры. Отворяйся ж, божий храм; Вы летите к небесам, Верные обеты; Соберитесь, стар и млад; Сдвинув звонки чаши, в лад Пойте: многи леты!* * *
Улыбнись, моя краса, На мою балладу; В ней большие чудеса, Очень мало складу. Взором счастливый твоим, Не хочу и славы; Слава – нас учили – дым; Свет – судья лукавый. Вот баллады толк моей: «Лучший друг нам в жизни сей Вера в провиденье. Благ зиждителя закон: Здесь несчастье – лживый сон; Счастье – пробужденье». О! не знай сих страшных снов Ты, моя Светлана… Будь, Создатель, ей покров! Ни печали рана, Ни минутной грусти тень К ней да не коснется; В ней душа как ясный день; Ах! да пронесется Мимо – Бедствия рука; Как приятный ручейка Блеск на лоне луга, Будь вся жизнь ее светла, Будь веселость, как была, Дней ее подруга. 1808–1812Ивиковы журавли
На Посидонов пир веселый, Куда стекались чада Гелы Зреть бег коней и бой певцов, Шел Ивик, скромный друг богов. Ему с крылатою мечтою Послал дар песней Аполлон: И с лирой, с легкою клюкою, Шел, вдохновенный, к Истму он. Уже его открыли взоры Вдали Акрокоринф и горы, Слиянны с синевой небес. Он входит в Посидонов лес… Все тихо: лист не колыхнется; Лишь журавлей по вышине Шумящая станица вьется В страны полуденны к весне. «О спутники, ваш рой крылатый, Досель мой верный провожатый, Будь добрым знамением мне. Сказав: прости! родной стране, Чужого брега посетитель, Ищу приюта, как и вы; Да отвратит Зевес-хранитель Беду от странничьей главы». И с твердой верою в Зевеса Он в глубину вступает леса; Идет заглохшею тропой… И зрит убийц перед собой. Готов сразиться он с врагами; Но час судьбы его приспел: Знакомый с лирными струнами, Напрячь он лука не умел. К богам и к людям он взывает… Лишь эхо стоны повторяет — В ужасном лесе жизни нет. «И так погибну в цвете лет, Истлею здесь без погребенья И не оплакан от друзей; И сим врагам не будет мщенья, Ни от богов, ни от людей». И он боролся уж с кончиной… Вдруг… шум от стаи журавлиной; Он слышит (взор уже угас) Их жалобно-стенящий глас. «Вы, журавли под небесами, Я вас в свидетели зову! Да грянет, привлеченный вами, Зевесов гром на их главу». И труп узрели обнаженный: Рукой убийцы искаженны Черты прекрасного лица. Коринфский друг узнал певца. «И ты ль недвижим предо мною? И на главу твою, певец, Я мнил торжественной рукою Сосновый положить венец». И внемлют гости Посидона, Что пал наперсник Аполлона… Вся Греция поражена; Для всех сердец печаль одна. И с диким ревом исступленья Пританов окружил народ, И вопит: «Старцы, мщенья, мщенья! Злодеям казнь, их сгибни род!» Но где их след? Кому приметно Лицо врага в толпе несметной Притекших в Посидонов храм? Они ругаются богам. И кто ж – разбойник ли презренный Иль тайный враг удар нанес? Лишь Гелиос то зрел священный, Все озаряющий с небес. С подъятой, может быть, главою, Между шумящею толпою, Злодей сокрыт в сей самый час И хладно внемлет скорби глас; Иль в капище, склонив колени, Жжет ладан гнусною рукой; Или теснится на ступени Амфитеатра за толпой, Где, устремив на сцену взоры (Чуть могут их сдержать подпоры), Пришед из ближних, дальних стран, Шумя, как смутный океан, Над рядом ряд, сидят народы; И движутся, как в бурю лес, Людьми кипящи переходы, Всходя до синевы небес. И кто сочтет разноплеменных, Сим торжеством соединенных? Пришли отвсюду: от Афин, От древней Спарты, от Микин, С пределов Азии далекой, С Эгейских вод, с Фракийских гор… И сели в тишине глубокой, И тихо выступает хор. По древнему обряду, важно, Походкой мерной и протяжной, Священным страхом окружен, Обходит вкруг театра он. Не шествуют так персти чада; Не здесь их колыбель была. Их стана дивная громада Предел земного перешла. Идут с поникшими главами И движут тощими руками Свечи, от коих темный свет; И в их ланитах крови нет; Их мертвы лица, очи впалы; И свитые меж их власов Эхидны движут с свистом жалы, Являя страшный ряд зубов. И стали вкруг, сверкая взором; И гимн запели диким хором, В сердца вонзающий боязнь; И в нем преступник слышит: казнь! Гроза души, ума смутитель, Эринний страшный хор гремит; И, цепенея, внемлет зритель; И лира, онемев, молчит: «Блажен, кто незнаком с виною, Кто чист младенчески душою! Мы не дерзнем ему вослед; Ему чужда дорога бед… Но вам, убийцы, горе, горе! Как тень, за вами всюду мы, С грозою мщения во взоре, Ужасные созданья тьмы. Не мнится скрыться – мы с крылами; Вы в лес, вы в бездну – мы за вами; И, спутав вас в своих сетях, Растерзанных бросаем в прах. Вам покаянье не защита; Ваш стон, ваш плач – веселье нам; Терзать вас будем до Коцита, Но не покинем вас и там». И песнь ужасных замолчала; И над внимавшими лежала, Богинь присутствием полна, Как над могилой, тишина. И тихой, мерною стопою Они обратно потекли, Склонив главы, рука с рукою, И скрылись медленно вдали. И зритель – зыблемый сомненьем Меж истиной и заблужденьем — Со страхом мнит о Силе той, Которая, во мгле густой Скрываяся, неизбежима, Вьет нити роковых сетей, Во глубине лишь сердца зрима, Но скрыта от дневных лучей. И всё, и всё еще в молчанье… Вдруг на ступенях восклицанье: «Парфений, слышишь?.. Крик вдали — То Ивиковы журавли!..» И небо вдруг покрылось тьмою; И воздух весь от крыл шумит; И видят… черной полосою Станица журавлей летит. «Что? Ивик!..» Все поколебалось — И имя Ивика помчалось Из уст в уста… шумит народ, Как бурная пучина вод. «Наш добрый Ивик! наш сраженный Врагом незнаемым поэт!.. Что, что в сем слове сокровенно? И что сих журавлей полет?» И всем сердцам в одно мгновенье, Как будто свыше откровенье, Блеснула мысль: «Убийца тут; То Эвменид ужасных суд; Отмщенье за певца готово; Себе преступник изменил. К суду и тот, кто молвил слово, И тот, кем он внимаем был!» И бледен, трепетен, смятенный, Незапной речью обличенный, Исторгнут из толпы злодей: Перед седалище судей Он привлечен с своим клевретом; Смущенный вид, склоненный взор И тщетный плач был их ответом; И смерть была им приговор.Варвик
Никто не зрел, как ночью бросил в волны Эдвина злой Варвик; И слышали одни брега безмолвны Младенца жалкий крик. От подданных погибшего губитель Владыкой признан был — И в Ирлингфор уже как повелитель Торжественно вступил. Стоял среди цветущия равнины Старинный Ирлингфор, И пышные с высот его картины Повсюду видел взор. Авон, шумя под древними стенами, Их пеной орошал, И низкий брег с лесистыми холмами В струях его дрожал. Там пламенел брегов на тихом склоне Закат сквозь редкий лес; И трепетал во дремлющем Авоне С звездами свод небес. Вдали, вблизи рассыпанные села Дымились по утрам; От резвых стад равнина вся шумела, И вторил лес рогам. Спешил, с пути прохожий совратяся, На Ирлингфор взглянуть, И, красотой картин его пленяся, Он забывал свой путь. Один Варвик был чужд красам природы: Вотще в его глазах Цветут леса, вияся блещут воды, И радость на лугах. И устремить, трепещущий, не смеет Он взора на Авон: Оттоль зефир во слух убийцы веет Эдвинов жалкий стон. И в тишине безмолвной полуночи Все тот же слышен крик, И чудятся блистающие очи И бледный, страшный лик. Вотще Варвик с родных брегов уходит — Приюта в мире нет: Страшилищем ужасным совесть бродит Везде за ним вослед. И он пришел опять в свою обитель: А сладостный покой, И бедности веселый посетитель, В дому его чужой. Часы стоят, окованы тоскою; А месяцы бегут… Бегут – и день убийства за собою Невидимо несут. Он наступил; со страхом провожает Варвик ночную тень: Дрожи! (ему глас совести вещает) Эдвинов смертный день. Ужасный день: от молний небо блещет; Отвсюду вихрей стон; Дождь ливмя льет; волнами с воем плещет Разлившийся Авон. Вотще Варвик, среди веселий шума, Цедит в бокал вино: С ним за столом садится рядом Дума, — Питье отравлено. Тоскующий и грозный призрак бродит В толпе его гостей; Везде пред ним: с лица его не сводит Пронзительных очей. И день угас, Варвик спешит на ложе… Но и в тиши ночной, И на одре уединенном то же; Там сон, а не покой. И мнит он зреть пришельца из могилы, Тень брата пред собой; В чертах болезнь, лик бледный, взор унылый И голос гробовой. Таков он был, когда встречал кончину; И тот же слышен глас, Каким молил он быть отцом Эдвину Варвика в смертный час: «Варвик, Варвик, свершил ли данно слово? Исполнен ли обет? Варвик, Варвик, возмездие готово; Готов ли твой ответ?» Воспрянул он – глас смолкнул – разъяренно Один во мгле ночной Ревел Авон, – но для души смятенной Был сладок бури вой. Но вдруг – и въявь средь шума и волненья Раздался смутный крик: «Спеши, Варвик, спастись от потопленья, Беги, беги, Варвик!» И к берегу он мчится – под стеною Уже Авон кипит; Глухая ночь; одето небо мглою; И месяц в тучах скрыт. И молит он с подъятыми руками: «Спаси, спаси, творец!» И вдруг – мелькнул челнок между волнами; И в челноке пловец. Варвик зовет, Варвик манит рукою — Не внемля шума волн, Пловец сидит спокойно над кормою И правит к брегу челн. И с трепетом Варвик в челнок садится — Стрелой помчался он… Молчит пловец… молчит Варвик… вот, мнится, Им слышен тяжкий стон. На спутника уставил кормщик очи: «Не слышался ли крик?» — «Нет; просвистал в твой парус ветер ночи, — Смутясь, сказал Варвик. — Правь, кормщик, правь, не скоро челн домчится, Гроза со всех сторон». Умолкнули… плывут… вот снова, мнится, Им слышен тяжкий стон. «Младенца крик! Он борется с волною; На помощь он зовет!» — «Правь, кормщик, правь, река покрыта мглою, Кто там его найдет?» «Варвик, Варвик, час смертный зреть ужасно; Ужасно умирать; Варвик, Варвик, младенцу ли напрасно Тебя на помощь звать? Во мгле ночной он бьется меж водами; Облит он хладом волн; Еще его не видим мы очами; Но он… наш видит челн!» И снова крик слабеющий, дрожащий, И близко челнока… Вдруг в высоте рог месяца блестящий Прорезал облака; И с яркими слиялася лучами, Как дым прозрачный, мгла, Зрят на скале дитя между волнами; И тонет уж скала. Пловец гребет; челнок летит стрелою; В смятении Варвик; И озарен младенца лик луною; И страшно бледен лик. Варвик дрожит – и руку, страха полный, К младенцу протянул — И со скалы спрыгнув младенец в волны К его руке прильнул. И вмиг… дитя, челнок, пловец незримы; В руках его мертвец: Эдвинов труп, холодный, недвижимый, Тяжелый, как свинец. Утихло все – и небеса и волны: Исчез в водах Варвик; Лишь слышали одни брега безмолвны Убийцы страшный крик.Баллада, в которой описывается, как одна старушка ехала на черном коне вдвоем и кто сидел впереди
На кровле ворон дико прокричал — Старушка слышит и бледнеет. Понятно ей, что ворон тот сказал: Слегла в постель, дрожит, хладеет. И вопит скорбно: «Где мой сын-чернец? Ему сказать мне слово дайте; Увы! я гибну; близок мой конец; Скорей, скорей! не опоздайте!» И к матери идет чернец святой: Ее услышать покаянье; И тайные дары несет с собой, Чтоб утолить ее страданье. Но лишь пришел к одру с дарами он, Старушка в трепете завыла; Как смерти крик ее протяжный стон… «Не приближайся! – возопила. — Не подноси ко мне святых даров; Уже не в пользу покаянье…» Был страшен вид ее седых власов И страшно груди колыханье. Дары святые сын отнес назад И к страждущей приходит снова; Кругом бродил ее потухший взгляд; Язык искал, немея, слова. «Вся жизнь моя в грехах погребена, Меня отвергнул искупитель; Твоя ж душа молитвой спасена, Ты будь души моей спаситель. Здесь вместо дня была мне ночи мгла; Я кровь младенцев проливала, Власы невест в огне волшебном жгла И кости мертвых похищала. И казнь лукавый обольститель мой Уж мне готовит в адской злобе; И я, смутив чужих гробов покой, В своем не успокоюсь гробе. Ах! не забудь моих последних слов: Мой труп, обвитый пеленою, Мой гроб, мой черный гробовой покров Ты окропи святой водою. Чтоб из свинца мой крепкий гроб был слит, Семью окован обручами, Во храм внесен, пред алтарем прибит К помосту крепкими цепями. И цепи окропи святой водой; Чтобы священники собором И день и ночь стояли надо мной И пели панихиду хором; Чтоб пятьдесят на крылосах дьячков За ними в черных рясах пели; Чтоб день и ночь свечи у образов Из воску ярого горели; Чтобы звучней во все колокола С молитвой день и ночь звонили; Чтоб заперта во храме дверь была; Чтоб дьяконы пред ней кадили; Чтоб крепок был запор церковных врат; Чтобы с полуночного бденья Он ни на миг с растворов не был снят До солнечного восхожденья. С обрядом тем молитеся три дня, Три ночи сряду надо мною: Чтоб не достиг губитель до меня, Чтоб прах мой принят был землею». И глас ее быть слышен перестал; Померкши очи закатились; Последний вздох в груди затрепетал; Уста, охолодев, раскрылись. И хладный труп, и саван гробовой, И гроб под черной пеленою Священники с приличною мольбой Опрыскали святой водою. Семь обручей на гроб положены; Три цепи тяжкими винтами Вонзились в гроб и с ним утверждены В помост пред царскими дверями. И вспрыснуты они святой водой; И все священники в собранье: Чтоб день и ночь душе на упокой Свершать во храме поминанье. Поют дьячки все в черных стихарях Медлительными голосами; Горят свечи надгробны в их руках, Горят свечи пред образами. Протяжный глас, и бледный лик певцов, Печальный, страшный сумрак храма, И тихий гроб, и длинный ряд попов В тумане зыбком фимиама, И горестный чернец пред алтарем, Творящий до земли поклоны, И в высоте дрожащим свеч огнем Чуть озаренные иконы… Ужасный вид! колокола звонят; Уж час полуночного бденья… И заперлись затворы тяжких врат Перед начатием моленья. И в перву ночь от свеч веселый блеск. И вдруг… к полночи за вратами Ужасный вой, ужасный шум и треск; И слышалось: гремят цепями. Железных врат запор, стуча, дрожит; Звонят на колокольне звонче; Молитву клир усерднее творит, И пение поющих громче. Гудят колокола, дьячки поют, Попы молитвы вслух читают, Чернец в слезах, в кадилах ладан жгут, И свечи яркие пылают. Запел петух… и, смолкнувши, бегут Враги, не совершив ловитвы; Смелей дьячки на крылосах поют, Смелей попы творят молитвы. В другую ночь от свеч темнее свет, И слабо теплятся кадилы, И гробовой у всех на лицах цвет, Как будто встали из могилы. И снова рев, и шум, и треск у врат; Грызут замок, в затворы рвутся; Как будто вихрь, как будто шумный град, Как будто воды с гор несутся. Пред алтарем чернец на землю пал, Священники творят поклоны, И дым от свеч туманных побежал, И потемнели все иконы. Сильнее стук – звучней колокола, И трепетней поющих голос: В крови их хлад, объемлет очи мгла, Дрожат колена, дыбом волос. Запел петух… и прочь враги бегут, Опять не совершив ловитвы; Смелей дьячки на крылосах поют, Попы смелей творят молитвы. На третью ночь свечи́ едва горят; И дым густой, и запах серный; Как ряд теней, попы во мгле стоят; Чуть виден гроб во мраке черный. И стук у врат: как будто океан Под бурею ревет и воет, Как будто степь песчаную оркан Свистящими крылами роет. И звонари от страха чуть звонят, И руки им служить не вольны; Час от часу страшнее гром у врат, И звон слабее колокольный. Дрожа, упал чернец пред алтарем; Молиться силы нет; во прахе Лежит, к земле приникнувши лицом; Поднять глаза не смеет в страхе. И певчих хор, досель согласный, стал Нестройным криком от смятенья: Им чудилось, что церковь зашатал Как бы удар землетрясенья. Вдруг затускнел огонь во всех свечах, Погасли все и закурились; И замер глас у певчих на устах, Все трепетали, все крестились. И раздалось… как будто оный глас, Который грянет над гробами; И храма дверь со стуком затряслась И на пол рухнула с петлями. И он предстал весь в пламени очам, Свирепый, мрачный, разъяренный; И вкруг него огромный божий храм Казался печью раскаленной! Едва сказал: «Исчезните!» цепям — Они рассыпались золою; Едва рукой коснулся обручам — Они истлели под рукою. И вскрылся гроб. Он к телу вопиет: «Восстань, иди вослед владыке!» И проступил от слов сих хладный пот На мертвом, неподвижном лике. И тихо труп со стоном тяжким встал, Покорен страшному призванью; И никогда здесь смертный не слыхал Подобного тому стенанью. И ко вратам пошла она с врагом… Там зрелся конь чернее ночи. Храпит и ржет и пышет он огнем, И как пожар пылают очи. И на коня с добычей прянул враг; И труп завыл; и быстротечно Конь полетел, взвивая дым и прах; И слух об ней пропал навечно. Никто не зрел, как с нею мчался он… Лишь страшный след нашли на прахе; Лишь внемля крик, всю ночь сквозь тяжкий сон Младенцы вздрагивали в страхе. Октябрь 1814Ахилл
Отуманилася Ида; Омрачился Илион; Спит во мраке стан Атрида; На равнине битвы сон. Тихо все… курясь, сверкает Пламень гаснущих костров, И протяжно окликает Стражу стража близ шатров. Над Эгейских вод равниной Светел всходит рог луны; Звезды спящею пучиной И брега отражены; Виден в поле опустелом С колесницею Приам: Он за Гекторовым телом От шатров идет к стенам. И на бреге близ кургана Зрится сумрачный Ахилл; Он один, далек от стана; Он главу на длань склонил. Смотрит вдаль – там с колесницей На пути Приама зрит: Отирает багряницей Слезы бедный царь с ланит. Лиру взял; ударил в струны; Тих его печальный глас: «Старец, пал твой Гектор юный; Свет души твоей угас; И Гекуба, Андромаха Ждут тебя у градских врат С ношей милого им праха… Жизнь и смерть им твой возврат. И с денницею печальной Воскурится фимиам, Огласятся погребальной Песнью каждый дом и храм; Мать, отец, вдова с мольбою Пепел в урну соберут, И молитвы их герою Мир в стране теней дадут. О Приам, ты пред Ахиллом Здесь во прах главу склонял; Здесь молил о сыне милом, Здесь, несчастный, ты лобзал Руку, слез твоих причину… Ах! не сетуй; глас небес Нам одну изрек судьбину: И меня постиг Зевес. Близок час мой; роковая Приготовлена стрела; Парка, жребию внимая, Дни мои уж отвила; И скрыпят врата Аида; И вещает грозный глас: Все свершилось для Пелида; Факел дней его угас. Верный друг мой взят могилой; Брата бой меня лишил — Вслед за ним с земли унылой Удалится и Ахилл. Так судил мне рок жестокий; Я паду в весне моей На чужом брегу, далеко От Пелеевых очей. Ах! и сердце запрещает Доле жить в земном краю, Где уж друг не услаждает Душу сирую мою. Гектор пал – его паденьем Тень Патрокла я смирил; Но себе за друга мщеньем Путь к Тенару проложил. Ты не жди, Менетий, сына; Не придет он в отчий дом… Здесь Эгейская пучина Пред его шумит холмом; Спит он… смерть сковала длани, Позабыл ко славе путь; И призывный голос брани Не вздымает хладну грудь. И Ахилл не возвратится; В доме отчем пустота Скоро, скоро водворится… О Пелей, ты сирота. Пронесется буря брани — Ты Ахилла будешь ждать И чертог свой в новы ткани Для приема убирать; Будешь с берега уныло Ты смотреть – в пустой дали Не белеет ли ветрило, Не плывут ли корабли? Корабли придут от Трои — А меня ни на одном; Там, где билися герои, Буду спать – и вечным сном. Тщетно, смертною борьбою Мучим, будешь сына звать И хладеющей рукою Вкруг себя его искать — С милым светом разлученья Глас его не усладит; И на брег воды забвенья Зов отца не долетит. Край отчизны, светлы воды, Очарованны места, Мирт, олив и лавров своды, Пышных долов красота, Расцветайте, убирайтесь, Как и прежде, красотой; Как и прежде, оглашайтесь, Кликом радости одной; Но Патрокла и Ахилла Никогда вам не видать! Воды Сперхия, сулила Вам рука моя отдать Волоса с моей от брани Уцелевшей головы… Все Патроклу в дар, и дани Уж моей не ждите вы. Кони быстрые, из боя (Тайный рок вас удержал) Вы не вынесли героя — И на щит он мертвый пал; Кони бодрые, ретивы, Что ж теперь так мрачны вы? По земле влачатся гривы; Наклонилися главы; Позабыта пища вами; Груди мощные дрожат; Слышу стон ваш, и слезами Очи гордые блестят. Знать, Ахиллов пред собою Зрите вы последний час; Знать, внушен был вам судьбою Мне конец вещавший глас… Скоро!.. лук свой напрягает Неизбежный Аполлон, И пришельца ожидает К Стиксу черному Харон. И Патрокл с брегов забвенья В полуночной тишине Легкой тенью сновиденья Прилетал уже ко мне. Как зефирово дыханье, Он провеял надо мной; Мне послышалось призванье, Сладкий глас души родной; В нежном взоре скорбь разлуки И следы минувших слез… Я простер ко брату руки… Он во мгле пустой исчез. От Скироса вдаль влекомый, Поплывет Неоптолем; Брег увидит незнакомый И зеленый холм на нем; Кормщик юноше укажет, Полный думы, на курган — «Вот Ахиллов гроб (он скажет); Там вблизи был греков стан. Там, ужасный, на ограде Нам явился он в ночи — Нестерпимый блеск во взгляде, С шлема грозные лучи — И трикраты звучным криком На врага он грянул страх, И троянец с бледным ликом Бросил щит и меч во прах. Там, Атриду дав десницу, С ним союз запечатлел; Там, гремящий, в колесницу Прянув, к Трое полетел; Там по праху за собою Тело Гекторово мчал И на трепетную Трою Взглядом мщения сверкал!» И сойдешь на брег священный С корабля, Неоптолем, Чтоб на холм уединенный Положить и меч и шлем; Вкруг уж пусто… смолкли бои; Тихи Ксант и Симоис; И уже на грудах Трои Плющ и терние свились. Обойдешь равнину брани… Там, где ратовал Ахилл, Уж стадятся робки лани Вкруг оставленных могил; И услышишь над собою Двух невидимых полет… Это мы… рука с рукою… Мы, друзья минувших лет. Вспомяни тогда Ахилла: Быстро в мире он протек; Здесь судьба ему сулила Долгий, но бесславный век; Он мгновение со славой, Хладну жизнь презрев, избрал И на друга труп кровавый, До могилы верный, пал». Он умолк… в тумане Ида; Отуманен Илион; Спит во мраке стан Атрида; На равнине битвы сон; И курясь, едва сверкает Пламень гаснущих костров; И протяжно окликает Стража стражу близ шатров. 1812–1814Эолова арфа
Владыко Морвены, Жил в дедовском замке могучий Ордал; Над озером стены Зубчатые замок с холма возвышал; Прибрежны дубравы Склонялись к водам, И стлался кудрявый Кустарник по злачным окрестным холмам. Спокойствие сеней Дубравных там часто лай псов нарушал; Рогатых еленей И вепрей и ланей могучий Ордал С отважными псами Гонял по холмам; И долы с холмами, Шумя, отвечали зовущим рогам. В жилище Ордала Веселость из ближних и дальних краев Гостей собирала; И убраны были чертоги пиров Еленей рогами; И в память отцам Висели рядами Их шлемы, кольчуги, щиты по стенам. И в дружных беседах Любил за бокалом рассказы Ордал О древних победах И взоры на брони отцов устремлял: Чеканны их латы В глубоких рубцах; Мечи их зубчаты; Щиты их и шлемы избиты в боях. Младая Минвана Красой озаряла родительский дом; Как зыби тумана, Зарею златимы над свежим холмом, Так кудри густые С главы молодой На перси младые, Вияся, бежали струей золотой. Приятней денницы Задумчивый пламень во взорах сиял: Сквозь темны ресницы Он сладкое в душу смятенье вливал; Потока журчанье — Приятность речей; Как роза дыханье; Душа же прекрасней и прелестей в ней. Гремела красою Минвана и в ближних и в дальних краях; В Морвену толпою Стекалися витязи, славны в боях; И дщерью гордился Пред ними отец… Но втайне делился Душою с Минваной Арминий-певец. Младой и прекрасный, Как свежая роза – утеха долин, Певец сладкогласный… Но родом не знатный, не княжеский сын: Минвана забыла О сане своем И сердцем любила, Невинная, сердце невинное в нем. На темные своды Багряным щитом покатилась луна; И озера воды Струистым сияньем покрыла она; От замка, от сеней Дубрав по брегам Огромные теней Легли великаны по гладким водам. На холме, где чистым Потоком источник бежал из кустов, Под дубом ветвистым — Свидетелем тайных свиданья часов — Минвана младая Сидела одна, Певца ожидая, И в страхе таила дыханье она. И с арфою стройной Ко древу к Минване приходит певец. Все было спокойно, Как тихая радость их юных сердец: Прохлада и нега, Мерцанье луны, И ропот у брега Дробимыя с легким плесканьем волны. И долго, безмолвны, Певец и Минвана с унылой душой Смотрели на волны, Златимые тихо блестящей луной. «Как быстрые воды Поток свой лиют — Так быстрые годы Веселье младое с любовью несут». «Что ж сердце уныло? Пусть воды лиются, пусть годы бегут, О верный! о милый! С любовию годы и жизнь унесут». — «Минвана, Минвана, Я бедный певец; Ты ж царского сана, И предками славен твой гордый отец». «Что в славе и сане? Любовь – мой высокий, мой царский венец. О милый, Минване Всех витязей краше смиренный певец. Зачем же уныло На радость глядеть? Все близко, что мило; Оставим годам за годами лететь». «Минутная сладость Веселого вместе, помедли, постой; Кто скажет, что радость Навек не умчится с грядущей зарей! Проглянет денница — Блаженству конец; Опять ты царица, Опять я ничтожный и бедный певец». «Пускай возвратится Веселое утро, сияние дня; Зарей озарится Тот свет, где мой милый живет для меня. Лишь царским убором Я буду с толпой; А мыслию, взором, И сердцем, и жизнью, о милый, с тобой». «Прости, уж бледнеет Рассветом далекий, Минвана, восток; Уж утренний веет С вершины кудрявых холмов ветерок». — «О нет! то зарница Блестит в облаках; Не скоро денница; И тих ветерок на кудрявых холмах». «Уж в замке проснулись; Мне слышался шорох и звук голосов». — «О нет! встрепенулись Дремавшие пташки на ветвях кустов». — «Заря уж багряна», — «О милый, постой». — «Минвана, Минвана, Почто ж замирает так сердце тоской?» И арфу унылый Певец привязал под наклоном ветвей: «Будь, арфа, для милой Залогом прекрасных минувшего дней; И сладкие звуки Любви не забудь; Услада разлуки И вестник души неизменныя будь. Когда же мой юный, Убитый печалию, цвет опадет, О верные струны, В вас с прежней любовью душа перейдет. Как прежде, взыграет Веселие в вас, И друг мой узнает Привычный, зовущий к свиданию глас. И думай, их пенью Внимая вечерней, Минвана, порой, Что легкою тенью, Все верный, летает твой друг над тобой; Что прежние муки: Превратности страх, Томленье разлуки, Все с трепетной жизнью он бросил во прах. Что, жизнь переживши, Любовь лишь одна не рассталась с душой; Что робко любивший Без робости любит и более твой. А ты, дуб ветвистый, Ее осеняй; И, ветер душистый, На грудь молодую дышать прилетай». Умолк – и с прелестной Задумчивых долго очей не сводил… Как бы неизвестный В нем голос: навеки прости! говорил. Горячей рукою Ей руку пожал И, тихой стопою От ней удаляся, как призрак пропал… Луна воссияла… Минвана у древа… но где же певец? Увы! предузнала Душа, унывая, что счастью конец; Молва о свиданье Достигла отца… И мчит уж в изгнанье Ладья через море младого певца. И поздно и рано Под древом свиданья Минвана грустит. Уныло с Минваной Один лишь нагорный поток говорит; Все пусто; день ясный Взойдет и зайдет — Певец сладкогласный Минваны под древом свиданья не ждет. Прохладою дышит Там ветер вечерний, и в листьях шумит, И ветви колышет, И арфу лобзает… но арфа молчит. Творения радость, Настала весна — И в свежую младость, Красу и веселье земля убрана. И ярким сияньем Холмы осыпал вечереющий день: На землю с молчаньем Сходила ночная, росистая тень; Уж синие своды Блистали в звездах; Сровнялися воды; И ветер улегся на спящих листах. Сидела уныло Минвана у древа… душой вдалеке… И тихо все было… Вдруг… к пламенной что-то коснулось щеке; И что-то шатнуло Без ветра листы; И что-то прильнуло К струнам, невидимо слетев с высоты… И вдруг… из молчанья Поднялся протяжно задумчивый звон; И тише дыханья Играющей в листьях прохлады был он. В ней сердце смутилось: То друга привет! Свершилось, свершилось!.. Земля опустела, и милого нет. От тяжкия муки Минвана упала без чувства на прах, И жалобней звуки Над ней застенали в смятенных струнах. Когда ж возвратила Дыханье она, Уже восходила Заря, и над нею была тишина. С тех пор, унывая, Минвана, лишь вечер, ходила на холм И, звукам внимая, Мечтала о милом, о свете другом, Где жизнь без разлуки, Где все не на час — И мнились ей звуки, Как будто летящий от родины глас. «О милые струны, Играйте, играйте… мой час недалек; Уж клонится юный Главой недоцветшей ко праху цветок. И странник унылый Заутра придет И спросит: где милый Цветок мой?.. и боле цветка не найдет». И нет уж Минваны… Когда от потоков, холмов и полей Восходят туманы И светит, как в дыме, луна без лучей, Две видятся тени: Слиявшись, летят К знакомой им сени… И дуб шевелится, и струны звучат. Ноябрь 1814Мщение
Изменой слуга паладина убил: Убийце завиден сан рыцаря был. Свершилось убийство ночною порой — И труп поглощен был глубокой рекой. И шпоры и латы убийца надел И в них на коня паладинова сел. И мост на коне проскакать он спешит: Но конь поднялся на дыбы и храпит. Он шпоры вонзает в крутые бока: Конь бешеный сбросил в реку седока. Он выплыть из всех напрягается сил: Но панцирь тяжелый его утопил. 1816Гаральд
Перед дружиной на коне Гаральд, боец седой, При свете полныя луны, Въезжает в лес густой. Отбиты вражьи знамена И веют и шумят, И гулом песней боевых Кругом холмы гудят. Но что порхает по кустам? Что зыблется в листах? Что налетает с вышины И плещется в волнах? Что так ласкает, так манит? Что нежною рукой Снимает меч, с коня влечет И тянет за собой? То феи… в легкий хоровод Слетелись при луне. Спасенья нет; уж все бойцы В волшебной стороне. Лишь он, бесстрашный вождь Гаральд, Один не побежден: В нетленный с ног до головы Булат закован он. Пропали спутники его; Там брошен меч, там щит, Там ржет осиротелый конь И дико в лес бежит. И едет, сумрачно-уныл, Гаральд, боец седой, При свете полныя луны Один сквозь лес густой. Но вот шумит, журчит ручей — Гаральд с коня спрыгнул, И снял он шлем и влаги им Студеной зачерпнул. Но только жажду утолил, Вдруг обессилел он; На камень сел, поник главой И погрузился в сон. И веки на утесе том, Главу склоня, он спит: Седые кудри, борода; У ног копье и щит. Когда ж гроза, и молний блеск, И лес ревет густой, — Сквозь сон хватается за меч Гаральд, боец седой. 1816Три песни
«Споет ли мне песню веселую скальд?» — Спросил, озираясь, могучий Освальд. И скальд выступает на царскую речь, Под мышкою арфа, на поясе меч. «Три песни я знаю: в одной старина! Тобою, могучий, забыта она; Ты сам ее в лесе дремучем сложил; Та песня: отца моего ты убил. Есть песня другая: ужасна она; И мною под бурей ночной сложена; Пою ее ранней и поздней порой; И песня та: бейся, убийца, со мной!» Он в сторону арфу, и меч наголо; И бешенство грозные лица зажгло; Запрыгали искры по звонким мечам — И рухнул Освальд – голова пополам. «Раздайся ж, последняя песня моя; Ту песню и утром и вечером я Греметь не устану пред девой любви; Та песня: убийца повержен в крови». 1816Двенадцать спящих дев Старинная повесть в двух балладах
Опять ты здесь, мой благодатный Гений, Воздушная подруга юных дней; Опять с толпой знакомых привидений Теснишься ты, Мечта, к душе моей… Приди ж, о друг! дай прежних вдохновений. Минувшею мне жизнию повей, Побудь со мной, продли очарованья, Дай сладкого вкусить воспоминанья. Ты образы веселых лет примчала — И много милых теней восстает; И то, чем жизнь столь некогда пленяла, Что Рок, отняв, назад не отдает, То все опять душа моя узнала; Проснулась Скорбь, и Жалоба зовет Сопутников, с пути сошедших прежде И здесь вотще поверивших надежде. К ним не дойдут последней песни звуки; Рассеян круг, где первую я пел; Не встретят их простертые к ним руки; Прекрасный сон их жизни улетел. Других умчал могущий Дух разлуки; Счастливый край, их знавший, опустел; Разбросаны по всем дорогам мира — Не им поет задумчивая лира. И снова в томном сердце воскресает Стремленье в оный таинственный свет; Давнишний глас на лире оживает, Чуть слышимый, как Гения полет; И душу хладную разогревает Опять тоска по благам прежних лет: Все близкое мне зрится отдаленным, Отжившее, как прежде, оживленным.Баллада первая Громобой
Leicht aufzuritzen ist das Reich der Geister; Sie liegen wartend unter dünner Decke Und, leise hörend, stürmen sie herauf. Schiller[1]Александре Андреевне Воейковой
Моих стихов желала ты — Желанье исполняю; Тебе досуг мой и мечты И лиру посвящаю. Вот повесть прадедовских лет. Еще ж одно – желанье: Цвети, мой несравненный цвет, Сердец очарованье; Печаль по слуху только знай; Будь радостию света; Моих стихов хоть не читай, Но другом будь поэта.* * *
Над пенистым Днепром-рекой, Над страшною стремниной, В глухую полночь Громобой Сидел один с кручиной; Окрест него дремучий бор; Утесы под ногами; Туманен вид полей и гор; Туманы над водами; Подернут мглою свод небес; В ущельях ветер свищет; Ужасно шепчет темный лес, И волк во мраке рыщет. Сидит с поникшей головой И думает он думу: «Печальный, горький жребий мой! Кляну судьбу угрюму; Дала мне крест тяжелый несть; Всем людям жизнь отрада: Тем злато, тем покой и честь — А мне сума награда; Нет крова защитить главу От бури, непогоды… Устал я, в помощь вас зову, Днепровски быстры воды». Готов он прянуть с крутизны… И вдруг пред ним явленье: Из темной бора глубины Выходит привиденье, Старик с шершавой бородой, С блестящими глазами, В дугу сомкнутый над клюкой, С хвостом, когтьми, рогами. Идет, приблизился, грозит Клюкою Громобою… И тот как вкопанный стоит, Зря диво пред собою. «Куда?» – неведомый спросил. «В волнах скончать мученья». — «Почто ж, бессмысленный, забыл Во мне искать спасенья?» — «Кто ты?» – воскликнул Громобой, От страха цепенея. «Заступник, друг, спаситель твой: Ты видишь Асмодея». «Творец небесный!» – «Удержись! В молитве нет отрады; Забудь о боге – мне молись; Мои верней награды. Прими от дружбы, Громобой, Полезное ученье: Постигнут ты судьбы рукой, И жизнь тебе мученье; Но всем бедам найти конец Я способы имею; К тебе нежалостлив творец, — Прибегни к Асмодею. Могу тебе я силу дать И честь и много злата, И грудью буду я стоять За друга и за брата. Клянусь… свидетель ада бог, Что клятвы не нарушу; А ты, мой друг, за то в залог Свою отдай мне душу». Невольно вздрогнул Громобой, По членам хлад стремится; Земли невзвидел под собой, Нет сил перекреститься. «О чем задумался, глупец?» — «Страшусь мучений ада». — «Но рано ль, поздно ль… наконец Все ад твоя награда. Тебе на свете жить – беда; Покинуть свет – другая; Останься здесь – поди туда, — Везде погибель злая. Ханжи-причудники твердят: Лукавый бес опасен. Не верь им – бредни; весел ад, Лишь в сказках он ужасен. Мы жизнь приятную ведем; Наш ад не хуже рая; Ты скажешь сам, ликуя в нем: Лишь в аде жизнь прямая. Тебе я терем пышный дам И тьму людей на службу; К боярам, витязям, князьям Тебя введу я в дружбу; Досель красавиц ты пугал — Придут к тебе толпою; И, словом, – вздумал, загадал, И все перед тобою. И вот в задаток кошелек: В нем вечно будет злато. Но десять лет – не боле – срок Тебе так жить богато. Когда ж последний день от глаз Исчезнет за горою, В последний полуночный час Приду я за тобою». Стал думу думать Громобой, Подумал, согласился И обольстителю душой За злато поклонился. Разрезав руку, написал Он кровью обещанье; Лукавый принял – и пропал, Сказавши: «До свиданья!» И вышел в люди Громобой — Откуда что взялося! И счастье на него рекой С богатством полилося; Как княжеский, разубран дом; Подвалы полны злата; С заморским выходы вином, И редкостей палата; Пиры – хоть пост, хоть мясоед; Музыка роговая; Для всех – чужих, своих – обед И чаша круговая. Возможно все в его очах, Всему он повелитель: И сильным бич, и слабым страх, И хищник, и грабитель. Двенадцать дев похитил он Из отческой их сени; Презрел невинных жалкий стон И родственников пени; И в год двенадцать дочерей Имел от обольщенных; И был уж чужд своих детей И крови уз священных. Но чад оставленных щитом Был ангел их хранитель: Он дал им пристань – божий дом, Смирения обитель. В святых стенах монастыря Сокрыл их с матерями: Да славят вышнего царя Невинных уст мольбами. И горней благодати сень Была над их главою; Как вешний ароматный день, Цвели они красою. От ранних колыбельных лет До юности златыя Им ведом был лишь божий свет, Лишь подвиги благие; От сна вставая с юным днем, Стекалися во храме; На клиросе, пред алтарем, Кадильниц в фимиаме, В священный литургии час Их слышалося пенье — И сладкий непорочных глас Внимало провиденье. И слезы нежных матерей С молитвой их сливались, Когда во храме близ мощей Они распростирались. «О! дай им кров, небесный царь (То было их моленье); Да будет твой святой алтарь Незлобных душ спасенье; Покинул их родной отец, Дав бедным жизнь постылу; Но призри ты сирот, творец, И грешника помилуй…» Но вот… настал десятый год; Уже он на исходе; И грешник горьки слезы льет: Всему он чужд в природе. Опять украшены весной Луга, пригорки, долы; И пахарь весел над сохой, И счастья полны селы; Не зрит лишь он златой весны: Его померкли взоры; В туман для них погребены Луга, долины, горы. Денница ль красная взойдет — «Прости, – гласит, – денница». В дубраве ль птичка пропоет — «Прости, весны певица… Прости, и мирные леса, И нивы золотые, И неба светлая краса, И радости земные». И вспомнил он забытых чад; К себе их призывает; И мнит: они творца смягчат; Невинным бог внимает. И вот… настал последний день; Уж солнце за горою; И стелется вечерня тень Прозрачной пеленою; Уж сумрак… смерклось… вот луна Блеснула из-за тучи; Легла на горы тишина; Утих и лес дремучий; Река сровнялась в берегах; Зажглись светила ночи; И сон глубокий на полях; И близок час полночи… И, мучим смертною тоской, У спасовой иконы Без веры ищет Громобой От ада обороны. И юных чад к себе призвал — Сердца их близки раю — «Увы! молитесь (вопиял), Молитесь, погибаю!» Младенца внятен небу стон: Невинные молились; Но вдруг… на них находит сон… Замолкли… усыпились. И все в ужасной тишине; Окрестность как могила; Вот… каркнул ворон на стене; Вот… стая псов завыла; И вдруг… протяжно полночь бьет; Нашли на небо тучи; Река надулась; бор ревет; И мчится прах летучий. Увы!.. последний страшный бой Отгрянул за горами… Гул тише… смолк… и Громобой Зрит беса пред очами. «Ты видел, – рек он, – день из глаз Сокрылся за горою; Ты слышал: бил последний час; Пришел я за тобою». — «О! дай, молю, хоть малый срок; Терзаюсь, ад ужасен». — «Свершилось! неизбежен рок, И поздний вопль напрасен». — «Минуту!» – «Слышишь? Цепь звучит». «О страшный час! помилуй!» — «И гроб готов, и саван сшит, И роют уж могилу. Заутра день взойдет во мгле. Подымутся стенанья; Увидят труп твой на столе, Недвижный, без дыханья; Кадил и свеч в дыму густом, При тихом ликов пенье, Тебя запрут в подземный дом Навеки в заточенье; И страшно заступ застучит Над кровлей гробовою; И тихо клир провозгласит: «Усопший, мир с тобою!» И мир не будет твой удел: Ты адово стяжанье! Но время… идут… час приспел. Внимай их завыванье; Сошлись… призывный слышу клич. Их челюсти зияют; Смола клокочет… свищет бич… Оковы разжигают». — «Спаситель-царь, вонми слезам!» — «Напрасное моленье!» — «Увы! позволь хоть сиротам Мне дать благословенье». Младенцев спящих видит бес — Сверкнули страшно очи! «Лишить их царствия небес, Предать их адской ночи… Вот слава! мне восплещет ад И с гордым Сатаною». И, усмирив грозящий взгляд, Сказал он Громобою: «Я внял твоей печали глас; Есть средство избавленья; Покорен будь, иль в ад сей час На скорби и мученья. Предай мне души дочерей За временну свободу, И дам, по милости своей, На каждую по году». — «Злодей! губить невинных чад!» — «Ты медлишь? Приступите! Низриньте грешника во ад! На части разорвите!» И вдруг отвсюду крик и стон; Земля затрепетала; И грянул гром со всех сторон; И тьма бесов предстала. Чудовищ адских грозный сонм; Бегут, гремят цепями, И стали грешника кругом С разверзтыми когтями. И ниц повергся Громобой, Бесчувствен, полумертвый; И вопит: «Страшный враг, постой! Постой, готовы жертвы!» И скрылись все. Он будит чад… Он пишет их рукою… О страх! свершилось… плещет ад И с гордым Сатаною. Ты казнь отсрочил, Громобой, И дверь сомкнулась ада; Но жить, погибнувши душой, — Коль страшная отрада! Влачи унылы дни, злодей, В болезни ожиданья; Веселья нет душе твоей, И нет ей упованья; Увы! и красный божий мир И жизнь ему постылы; Он в людстве дик, в семействе сир. Он вживе снедь могилы. Напрасно веет ветерок С душистыя долины; И свет луны сребрит поток Сквозь темны лип вершины; И ласточка зари восход Встречает щебетаньем; И роща в тень свою зовет Листочков трепетаньем; И шум бегущих с поля стад С пастушьими рогами Вечерний мрак животворят, Теряясь за холмами… Его доселе светлый дом Уж сумрака обитель. Угрюм, с нахмуренным лицом Пиров веселых зритель, Не пьет кипящего вина Из чаши круговыя… И страшен день; и ночь страшна; И тени гробовыя Он всюду слышит грозный вой; И в час глубокой ночи Бежит одра его покой; И сон забыли очи. И тьмы лесов страшится он: Там бродит привиденье; То чудится полночный звон, То погребально пенье; Страшит его и бури свист, И грозных туч молчанье, И с шорохом падущий лист, И рощи содроганье. Прокатится ль по небу гром — Бледнеет, дыбом волос; «То мститель, послан божеством; То казни страшный голос». И вид прелестный юных чад Ему не наслажденье. Их милый, чувства полный взгляд, Спокойствие, смиренье, Краса – веселие очей, И гласа нежны звуки, И сладость ласковых речей Его сугубят муки. Как роза – благовонный цвет Под сению надежной, Они цветут: им скорби нет; Их сердце безмятежно. А он?.. Преступник… он, в тоске На них подъемля очи, Отверзту видит вдалеке Пучину адской ночи. Он плачет; он судьбу клянет; «О милые творенья, Какой вас лютый жребий ждет! И где искать спасенья? Напрасно вам дана краса; Напрасно сердцу милы; Закрыт вам путь на небеса; Цветете для могилы. Увы! пора любви придет: Вам сердце тайну скажет, Для вас украсит божий свет, Вам милого покажет; И взор наполнится тоской, И тихим грудь желаньем, И, распаленные душой, Влекомы ожиданьем, Для вас взойдет краснее день, И будет луг душистей, И сладостней дубравы тень И птичка голосистей. И дни блаженства не придут; Страшитесь милой встречи; Для вас не брачные зажгут, А погребальны свечи. Не в божий, гимнов полный, храм Пойдете с женихами… Ужасный гроб готовят нам; Прокляты небесами. И наш удел тоска и стон В обителях геенны… О, грозный жребия закон, О, жертвы драгоценны!..» Но взор возвел он к небесам В душевном сокрушенье И мнит: «Сам бог вещает нам — В раскаянье спасенье. Возносятся пред вышний трон Преступников стенанья…» И дом свой обращает он В обитель покаянья: Да странник там найдет покой, Вдова и сирый друга, Голодный сладку снедь, больной Спасенье от недуга. С утра до ночи у ворот Служитель настороже; Он всех прохожих в дом зовет: «Есть хлеб-соль, мягко ложе». И вот уже из всех краев, Влекомые молвою, Идут толпы сирот, и вдов, И нищих к Громобою; И всех приемлет Громобой, Всем дань его готова; Он щедрой злато льет рукой От имени Христова. И божий он воздвигнул дом; Подобье светла рая, Обитель иноков при нем Является святая; И в той обители святой, От братии смиренной Увечный, дряхлый, и больной, И скорбью убиенный Приемлют именем творца Отраду, исцеленье: Да воскрешаемы сердца Узнают провиденье. И славный мастер призван был Из города чужого; Он в храме лик изобразил Угодника святого; На той иконе Громобой Был видим с дочерями, И на молящихся святой Взирал любви очами. И день и ночь огонь пылал Пред образом в лампаде, В златом венце алмаз сиял, И перлы на окладе. И в час, когда редеет тень, Еще дубрава дремлет И воцаряющийся день Полнеба лишь объемлет; И в час вечерней тишины — Когда везде молчанье И свечи, в храме возжжены, Льют тихое сиянье, — В слезах раскаянья, с мольбой, Пред образом смиренно Распростирался Громобой, Веригой отягченный… Но быстро, быстро с гор текут В долину вешни воды — И невозвратные бегут Дни, месяцы и годы. Уж время с годом десять лет Невидимо умчало; Последнего двух третей нет — И будто не бывало; И некий неотступный глас Вещает Громобою: «Всему конец! твой близок час! Погибель над тобою!» И вот… недуг повергнул злой Его на одр мученья. Растерзан лютою рукой, Не чая исцеленья, Всечасно пред собой он зрит Отверзту дверь могилы; И у возглавия сидит Над ним призра́к унылый. И нет уж сил ходить во храм К иконе чудотворной — Лишь взор стремит он к небесам, Молящий, но покорный. Увы! уж и последний день Край неба озлащает; Сквозь темную дубравы сень Блистанье проникает; Все тихо, весело, светло; Все негой сладкой дышит; Река прозрачна, как стекло; Едва, едва колышет Листами легкий ветерок; В полях благоуханье, К цветку прилипнул мотылек И пьет его дыханье. Но грешник сей встречает день Со стоном и слезами. «О, рано ты, ночная тень, Рассталась с небесами! Сойдитесь, дети, одр отца С молитвой окружите И пред судилище творца Стенания пошлите. Ужасен нам сей ночи мрак; Взывайте: искупитель, Смягчи грозящий гнева зрак; Не будь нам строгий мститель!» И страшного одра кругом — Где бледен, изможденный, С обезображенным челом, Все кости обнаженны, Брада до чресл, власы горой, Взор дикий, впалы очи, Вопил от муки Громобой С утра до поздней ночи — Стеклися девы, ясный взор На небо устремили И в тихий к провиденью хор Сердца совокупили. О вид, угодный небесам! Так ангелы спасенья, Вонмя раскаянья слезам, С улыбкой примиренья, В очах отрада и покой, От горнего чертога Нисходят с милостью святой, Предшественники бога, К одру болезни в смертный час… И, утомлен страданьем, Сын гроба слышит тихий глас: «Отыди с упованьем!» И девы, чистые душой, Подъемля к небу руки, Смиренной мыслили мольбой Отца спокоить муки: Но ужас близкого конца Над ним уже носился; Язык коснеющий творца Еще молить стремился; Тоскуя, взором он искал Сияния денницы… Но взор недвижный угасал, Смыкалися зеницы. «О дети, дети, гаснет день». — «Нет, утро; лишь проснулась Заря на холме; черна тень По долу протянулась; И нивы пусты… в высоте Лишь жаворонок вьется». — «Увы! заутра в красоте Опять сей день проснется! Но мы… уж скрылись от земли; Уже нас гроб снедает; И место, где поднесь цвели, Нас боле не признает. Несчастные, дерзну ль на вас Изречь благословенье? И в самой вечности для нас Погибло примиренье. Но не сопутствуйте отцу С проклятием в могилу; Молитесь, воззовем к творцу: Разгневанный, помилуй!» И дети, страшных сих речей Не всю объемля силу, С невинной ясностью очей Воскликнули: «Помилуй!» «О дети, дети, ночь близка». — «Лишь полдень наступает: Пастух у вод для холодка Со стадом отдыхает; Молчат поля; в долине сон; Пылает небо знойно». — «Мне чудится надгробный стон». — «Все тихо и спокойно; Лишь свежий ветерок, порой Подъемлясь с поля, дует; Лишь иволга в глуши лесной Повременно воркует». «О дети, светлый день угас». — «Уж солнце за горою; Уж по закату разлилась Багряною струею Заря, и с пламенных небес Спокойный вечер сходит, На зареве чернеет лес, В долине сумрак бродит». — «О вечер сумрачный, постой! Помедли, день прелестный! Помедли, взор не узрит мой Тебя уж в поднебесной!.. О дети, дети, ночь близка». — «Заря уж догорела; В туман оделася река; Окрестность побледнела; И на распутии пылят Стада, спеша к селенью». — «Спасите! полночь бьет!» – «Звонят В обители к моленью: Отцы поют хвалебный глас; Огнями храм блистает». — «При них и грешник в страшный час К тебе, творец, взывает!.. Не тмится ль, дети, неба свод? Не мчатся ль черны тучи? Не вздул ли вихорь бурных вод? Не вьется ль прах летучий?» — «Все тихо… служба отошла; Обитель засыпает; Луна полнеба протекла; И божий храм сияет Один с холма в окрестной мгле; Луга, поля безмолвны; Огни потухнули в селе; И рощи спят и волны». И всюду тишина была; И вся природа, мнилось, Предустрашенная ждала, Чтоб чудо совершилось… И вдруг… как будто ветерок Повеял от востока, Чуть тронул дремлющий листок, Чуть тронул зыбь потока… И некий глас промчался с ним… Как будто над звездами Коснулся арфы серафим Эфирными перстами. И тихо, тихо божий храм Отверзся… Неизвестный Явился старец дев очам; И лик красы небесной И кротость благостных очей Рождали упованье; Одеян ризою лучей, Окрест главы сиянье, Он не касался до земли В воздушном приближенье… Пред ним незримые текли Надежда и Спасенье. Сердца их ужас обуял… «Кто этот, в славе зримый?» Но близ одра уже стоял Пришлец неизъяснимый. И к девам прикоснулся он Полой своей одежды: И тихий во мгновенье сон На их простерся вежды. На искаженный старца лик Он кинул взгляд укора: И трепет в грешника проник От пламенного взора. «О! кто ты, грозный сын небес? Твой взор мне наказанье». Но, страшный строгостью очес, Пришлец хранит молчанье… «О, дай, молю, твой слышать глас! Одно надежды слово! Идет неотразимый час! Событие готово!» — «Вы лик во храме чтили мой; И в том изображенье Моя десница над тобой Простерта во спасенье». «Ах! Что ж могущий повелел?» — «Надейся и страшися». — «Увы! какой нас ждет удел? Что жребий их?» – «Молися». И, руки положив крестом На грудь изнеможенну, Пред неиспытанным творцом Молитву сокрушенну Умолкший пролиял в слезах; И тяжко грудь дышала, И в призывающих очах Вся скорбь души сияла… Вдруг начал тмиться неба свод — Мрачнее и мрачнее; За тучей грозною ползет Другая вслед грознее; И страшно сшиблись над главой; И небо заклубилось; И вдруг… повсюду с черной мглой Молчанье воцарилось… И близок час полночи был… И ризою святою Угодник спящих дев накрыл, Отступника – десною. И, устремленны на восток, Горели старца очи… И вдруг, сквозь сон и мрак глубок, В пучине черной ночи, Завыл протяжно вещий бой — Окрестность с ним завыла; Вдруг… страшной молния струей Свод неба раздвоила, По тучам вихорь пробежал, И с сильным грома треском Ревущей буре бес предстал, Одеян адским блеском. И змеи в пламенных власах — Клубясь, шипят и свищут; И радость злобная в очах — Кругом, сверкая, рыщут; И тяжкой цепью он гремел — Увлечь добычу льстился; Но старца грозного узрел — Утихнул и смирился; И вдруг гордыни блеск угас; И, смутен, вопрошает: «Что, мощный враг, тебя в сей час К сим падшим призывает?» «Я зрел мольбу их пред собой». — «Они мое стяжанье». — «Перед небесным судией Всесильно покаянье». — «И час суда его притек: Их жребий совершися». — «Еще ко благости не рек Он в гневе: удалися!» — «Он прав – и я владыка им». — «Он благ – я их хранитель». — «Исчезни! ад неотразим». — «Ответствуй, Искупитель!» И гром с востока полетел; И бездну туч трикраты Рассек браздами ярких стрел Перун огнекрылатый; И небо с края в край зажглось И застонало в страхе; И дрогнула земная ось… И, воющий во прахе, Творца грядуща слышит бес; И молится хранитель… И стал на высоте небес Средь молний ангел-мститель. «Гряду! и вечный божий суд Несет моя десница! Мне казнь и благость предтекут… Во прах, чадоубийца!» О всемогущество словес! Уже отступник тленье; Потух последний свет очес; В костях оцепененье; И лик кончиной искажен; И сердце охладело; И от сомкнувшихся устен Дыханье отлетело. «И праху обладатель ад, И гробу отверженье, Доколь на погубленных чад Не снидет искупленье. И чадам непробудный сон; И тот, кто чист душою, Кто, их не зревши, распален Одной из них красою, Придет, житейское презрев, В забвенну их обитель; Есть обреченный спящих дев От неба искупитель. И будут спать: и к ним века В полете не коснутся; И пройдет тления рука Их мимо; и проснутся С неизменившейся красой Для жизни обновленной; И низойдет тогда покой К могиле искупленной; И будет мир в его костях; И претворенный в радость, Творца постигнув в небесах, Речет: господь есть благость!..» Уж вестник утра в высоте; И слышен громкий петел; И день в воздушной красоте Летит, как радость светел… Узрели дев, объятых сном, И старца труп узрели; И мертвый страшен был лицом, Глаза, не зря, смотрели; Как будто, страждущ, прижимал Он к хладным персям руки, И на устах его роптал, Казалось, голос муки. И спящих лик покоен был: Невидимо крылами Их тихий ангел облачил; И райскими мечтами Чудесный был исполнен сон; И сладким их дыханьем Окрест был воздух растворен, Как роз благоуханьем; И расцветали их уста Улыбкою прелестной, И их являлась красота В спокойствии небесной. Но вот – уж гроб одет парчой; Отверзлася могила; И слышен колокола вой; И теплятся кадила; Идут и стар и млад во храм; Подъемлется рыданье; Дают бесчувственным устам Последнее лобзанье; И грянул в гроб ужасный млат; И взят уж гроб землею; И лик воспел: «Усопший брат, Навеки мир с тобою!» И вот – и стар и млад пошли Обратно в дом печали; Но вдруг пред ними из земли Вкруг дома грозно встали Гранитны стены – верх зубчат, Бока одеты лесом, — И, сгрянувшись, затворы врат Задвинулись утесом. И вспять погнал пришельцев страх: Бегут, не озираясь; «Небесный гнев на сих стенах!» — Вещают, содрогаясь. И стала та страна с тех пор Добычей запустенья; Поля покрыл дремучий бор; Рассыпались селенья. И человечий глас умолк — Лишь филин на утесе И в ночь осенню гладный волк Там воет в черном лесе; Лишь дико меж седых брегов, Спираема корнями Изрытых бурею дубов, Река клубит волнами. Где древле окружала храм Отшельников обитель, Там грозно свищет по стенам Змея, развалин житель; И гимн по сводам не гремит — Лишь веющий порою Пустынный ветер шевелит В развалинах травою; Лишь, отторгаяся от стен, Катятся камни с шумом, И гул, на время пробужден, Шумит в лесу угрюмом. И на туманистом холме Могильный зрится камень. Над ним всегда в полночной тьме Сияет бледный пламень. И крест поверженный обвит Листами повилики: На нем угрюмый вран сидит, Могилы сторож дикий. И все как мертвое окрест: Ни лист не шевелится, Ни зверь близ сих не пройдет мест, Ни птица не промчится. Но полночь лишь сойдет с небес — Вран черный встрепенется, Зашепчет пробужденный лес, Могила потрясется; И видима бродяща тень Тогда в пустыне ночи: Как бледный на тумане день, Ее сияют очи; То взор возводит к небесам, То, с видом тяжкой муки, К непроницаемым стенам, Моля, подъемлет руки. И в недре неприступных стен Молчание могилы; Окрест их, мглою покровен, Седеет лес унылый: Там ветер не шумит в листах, Не слышно вод журчанья, Ни благовония в цветах, Ни в травке нет дыханья. И девы спят – их сон глубок; И жребий искупленья, Безвестно, близок иль далек; И нет им пробужденья. Но в час, когда поля заснут И мглой земля одета (Между торжественных минут Полночи и рассвета), Одна из спящих восстает — И, странник одинокий, Свой срочный начинает ход Кругом стены высокой; И смотрит в даль и ждет с тоской: «Приди, приди, спаситель!» Но даль покрыта черной мглой… Нейдет, нейдет спаситель! Когда ж исполнится луна, Чреда приходит смены; В урочный час пробуждена, Одна идет на стены, Другая к ней со стен идет, Встречается и руку, Вздохнув, пришелице дает На долгую разлуку; Потом к почиющим сестрам, Задумчива, отходит, А та печально по стенам Одна до смены бродит. И скоро ль? Долго ль?.. Как узнать? Где вестник искупленья? Где тот, кто властен побеждать Все ковы обольщенья, К прелестной прилеплен мечте? Кто мог бы, чист душою, Небесной верен красоте, Непобедим земною, Все предстоящее презреть И с верою смиренной, Надежды полон, в даль лететь К награде сокровенной?.. 1810Баллада вторая Вадим
Du mußt glauben, du mußt wagen, Denn die Götter leih’n kein Pfand: Nur ein Wunder kann dich tragen In das schöne Wunderland. Schiller[2]Дмитрию Николаевичу Блудову
Вот повести моей конец — И другу посвященье; Певцу ж смиренному венец Будь дружбы одобренье. Вадим мой рос в твоих глазах; Твой вкус был мне учитель; В моих запутанных стихах, Как тайный вождь-хранитель, Он путь мне к цели проложил. Но в пользу ли услуга? Не знаю… Дев я разбудил, Не усыпить бы друга.* * *
В великом Новграде Вадим Пленял всех красотою, И дерзким мужеством своим, И сердца простотою. Его утеха – по лесам Скитаться за зверями; Ужасный вепрям и волкам Разящими стрелами, В осенний хлад и летний зной Он с верным псом на ловле; Ему постелей – мох лесной, А свод небесный – кровлей. Уже двадцатая весна Вадимова настала; И, чувства тайного полна, Душа в нем унывала. «Чего искать? В каких странах? К чему стремить желанье?» Но все – и тишина в лесах, И быстрых вод журчанье. И дня меняющийся вид На облаке небесном, Все, все Вадиму говорит О чем-то неизвестном. Однажды, ловлей утомлен, Близ Волхова на бреге Он погрузился в легкий сон… Струи в свободном беге Шумели, по корням древес С плесканьем разливаясь; Душой весны был полон лес; Листочки, развиваясь, Дышали жизнью молодой; Все благовонно было… И солнце с тверди голубой К холмам уж нисходило. И к утру видит сон Вадим: Одеян ризой белой, Предстал чудесный муж пред ним Во взоре луч веселый, Лик важный светел, стан высок, На сединах блистанье, В руке серебряный звонок, На персях крест в сиянье; Он шел, как будто бы летел, И, осенив перстами, Благовестящими воззрел На юношу очами. «Вадим, желанное вдали; Верь небу; жди смиренно; Все изменяет на земли, А небо неизменно; Стремись, я провожатый твой!» Сказал – и в то ж мгновенье В дали явилось голубой Прелестное виденье: Младая дева, лик закрыт Завесою туманной, И на главе ее лежит Венок благоуханный. Вздыхая жалобно, рукой Манило привиденье Идти Вадима за собой… И юноша в смятенье К ней, сердцем вспыхнув, полетел.. Но вдруг… призрак сокрылся, Вдали звонок один гремел, И бледный луч светился; И вместе с девою пропал Старик в одежде белой… Вадим проснулся: день сиял, А в вышине… звенело. Он смотрит вдаль на светлый юг: Там ясно все и чисто; Оттоль через обширный луг Струею серебристой Катился Волхов; небеса Сливались там с землею; Туда, за холмы, за леса, Мчал облака толпою Летучий, вешний ветерок… Смятенный, в ожиданье, Он смотрит, слушает… звонок Умолк – и все в молчанье. Три сряду утра тот же сон; Душа его в волненье. «О, что же ты, – взывает он, — Прекрасное явленье? Куда зовешь, волшебный глас? Кто ты, пришлец священный? Ах! где она? Увижу ль вас? И сердцу откровенный Предел откроется ль очам?» Но тщетно он очами Летит к далеким небесам… Туман под небесами. И целый мир его мечтой Пред ним одушевился. Восток ли свежею красой Денницы золотился — Ему являлся там покров На образе прелестном. Дышал ли запахом цветов — В нем скорбь о неизвестном, Стремленье в даль, любви тоска, Томление разлуки; И в каждом шуме ветерка Звонка призывны звуки. И он, не властный победить Могущего стремленья, К отцу и к матери просить Идет благословенья. «Куда (печальная, в слезах, Сказала матерь сыну)? В чужих испытывать странах Неверную судьбину? Постой; на родине твоей Дом отчий безопасный; Здесь сладостна любовь друзей; Здесь девицы прекрасны». «Увы! желанного здесь нет; Спокой себя, родная; Меня от вас в далекий свет Ведет рука святая. И не задремлет ни на час Хранитель постоянный. Но где он? Чей я слышал глас? Кто вождь сей безымянный? Куда ведет? Какой стезей? Не знаю – и напрасен В незнанье страх… жив спутник мой: Путь веры безопасен». Надев на сына крест златой, Ответствует родная: «Прости, да будет над тобой Его любовь святая!» Снимает со стены отец Свои доспехи ратны: «Прости, вот меч мой кладенец, Мой щит и шлем булатный». Сын в землю матери, отцу; Целует образ; плачет; Конь борзый подведен к крыльцу; Он сел – он крикнул – скачет… И пыльный по дороге след Поднял конь быстроногий; Но вот уже и следу нет: И пыль слилась с дорогой… Вздохнул отец; со вздохом мать Пошла в свою светлицу; Ей долго ночь в слезах встречать, В слезах встречать денницу; Перед владычицей зажгла С молитвою лампаду: Чтобы ему покров была, Чтоб ей дала отраду. Вот на распутии Вадим. Весь мир неизмеримый Ему открыт; за ним, пред ним Поля необозримы; В чужбине он; в желанный край Неведома дорога. «Что ж медлишь? Верь – не выбирай; Вперед, во имя бога; Куда и как привесть меня. То вождь мой знает боле». Так он подумал – и коня Пустил бежать по воле. И добрый конь как будто сам Свою дорогу знает; Он все на юг; он по полям Путь новый пробивает; Поток ли встретит – и в поток; Лишь только пена прыщет. Ко рву ль примчится – разом скок, Лишь только воздух свищет. Заглох ли лес – с ним широка Дорога в чаще леса; Утес ли крут – он седока Стрелой на круть утеса. Бегут за днями дни; Вадим Все дале; конь послушный Не устает: и всюду им В пути прием радушный: Ко граду ль случай заведет, К селу ль, к лачужке ль дымной — Везде пришельцу у ворот Привет гостеприимный; Везде заботливо дают Хлеб-соль на подкрепленье, На темну ночь святой приют, На путь благословенье. Когда ж застигнет мрак ночной В лесу иль в поле чистом — Наш витязь, щит под головой, Спит на ковре росистом Благоуханной муравы; Над ним катясь, сияют Ночные звезды; вкруг главы Младые сны летают; И конь, не дремля, сторожит; И к стороне той, мнится, И зверь опасный не бежит И змей приползть боится. И дни бегут – весна прошла, И соловьи отпели, И липа в рощах зацвела, И нивы пожелтели. Вадим все дале; уж пред ним Широкий Днепр сияет; Он едет берегом крутым, И взор его летает С высот по злачным берегам: Здесь видит луг цветущий, Там златоверхий город, там Близ вод рыбачьи кущи. Однажды – вечер знойный рдел На небе; лес дремучий Сквозь пламень зарева синел, И громовые тучи, Вслед за багровою луной, С востока поднимались, И яркой молнии змеей В их недре извивались — Вадим въезжает в темный лес; Там все в тени молчало; Лишь трепетание древес Грозу предвозвещало. И дичь являлася кругом; Чуть небеса сквозь сени Светили гаснущим лучом; И дерева, как тени, Мелькали в бездне темноты С разверзтыми ветвями. Вадим вперед – хрустят кусты Под конскими ногами; Везде плетень из сучьев им Дорогу задвигает… Но их мечом крушит Вадим, Конь грудью разрывает. И едет он уж целый час; Вдруг – жалобные крики; То нежный и молящий глас, То яростный и дикий. Зажглась в нем кровь; на вопли он Сквозь чащу ветвей рвется; Конь пышет, лес трещит, и стон Все ближе раздается; И вдруг под ним в дичи глухой, Как будто из тумана, Чуть освещенная луной, Открылася поляна. И что ж у витязя в глазах? Шумя между кустами, С медвежьей кожей на плечах, С дубиной за плечами, Огромный великан бежит И на руках могучих Красавицу младую мчит; Она, в слезах горючих, То силится бороться с ним, То скорбно вопит к богу… «Стой!» – крикнул хищнику Вадим И заслонил дорогу. Ни слова тот на грозну речь; Как бешеный отпрянул, Сорвал дубину с крепких плеч, Взмахнул, в Вадима грянул, И очи вспыхнули, как жар… Конь легкий отшатнулся, В корнистый дуб пришел удар, И дуб, треща, погнулся; Вадим всей силою меча Ударил в исполина — Рука отпала от плеча, И в прах легла дубина. И хищник, рухнув, захрипел Под конскими ногами; Рванулся встать; оцепенел И стих, грозя очами; И смерть молчаньем заперла Уста, вопить отверзты; И, роя землю, замерла Рука, разинув персты. Спешит к похищенной Вадим; Она как лист дрожала И, севши на коня за ним, В слезах к нему припала. «Скажи мне, девица, кто ты? Кто буйный оскорбитель Твоей девичьей красоты? И где твоя обитель?» «Князь киевский родитель мой; Град Киев недалеко; Проедем скоро лес густой, Увидим брег высокий: Под брегом тем кипят, шумят В скалах струи Днепровы, На бреге том и Киев-град, Озолоченны кровы; Я там дни мирные вела, Не знаяся с кручиной, И в старости отцу была Утехою единой. Не в добрый час литовский князь, Враг церкви православной, Меня узрел и, распалясь Душою зверонравной, Послал к нам в Киев-град гонца, Чтоб, тайною рукою Меня похитив у отца, Умчал в Литву с собою. Он скрылся на Днепре-реке В лесном уединенье, От Киева невдалеке; О дерзком замышленье Никто и сонный не мечтал; Губитель не встречался В лесу ни с кем; как волк, он ждал Добычи – и дождался. Я нынче раннею порой В луг вышла, полевые Сбирать цветки; пошли со мной Подружки молодые. Мы ро́су брали на цветах, Росою умывались, И рвали ягоды в кустах, И громко окликались. Уж солнце жгло с полунебес; Я шла одна; кустами Вилась дорожка; темный лес Чернел перед глазами. Вдруг шум… смотрю… злодей за мной: Страх подкосил мне ноги; Он сильною меня рукой Схватил – и в лес с дороги. Ах! что б в удел досталось мне, Что было бы со мною, Когда б не ты? В чужой стране Изныла б сиротою. От милых ближних вдалеке Живет ли сердцу радость? И в безутешной бы тоске Моя увяла младость; И с горем дряхлый мой отец Повлекся бы ко гробу… Но слабость защитил творец, Сразил всевышний злобу». Меж тем с поляны в гущину Въезжает витязь; тучи, Толпясь, заволокли луну; Стал душен лес дремучий… Гроза сбиралась; меж листов Дождь крупный пробивался, И шум тяжелых облаков С их ропотом мешался… Вдруг вихорь набежал на лес И взрыл дерев вершины, И загорелися небес Кипящие пучины. И все взревело… дождь рекой; Гром страшный, треск за треском: И шум воды, и вихря вой; И поминутным блеском Воспламеняющийся лес; И встречу, справа, слева Ряды валящихся древес; Конь рвется; в страхе дева; И, заслонив ее щитом, Вадим смятенный ищет, Где б приютиться… но кругом Все дичь, и буря свищет. И вдруг уж нет дороги им; Стена из камней мшистых: Гром мчался по бокам крутым; В расселинах лесистых Спираясь, вихорь бушевал, И молнии горели, И в бездне бури груды скал Сверкали и гремели. Вадим назад… но вдруг удар! Ель, треснув, запылала; По ветвям пробежал пожар, Окрестность заблистала. И в зареве открылась им Пещера под скалою. Спешит к убежищу Вадим; Заботливой рукою Он снял сопутницу с коня, Сложил с рамен кольчугу, Зажег костер и близ огня, Взяв на руки подругу, На броню сел. Дымясь, сверкал В костре огонь трескучий; Поверх пещеры гром летал, И бунтовали тучи. И прислонив к груди своей Вадим княжну младую Из золотых ее кудрей Жал влагу дождевую; И, к персям девственным уста Прижав, их грел дыханьем; И в них вливалась теплота; И с тихим трепетаньем Они касалися устам; И девица молчала; И, к юноши прильнув плечам, Рука ее пылала. Лазурны очи опустя, В объятиях Вадима Она, как тихое дитя, Лежала недвижима; И что с невинною душой Сбылось – не постигала; Лишь сердце билось, и порой, Вся вспыхнув, трепетала; Лишь пламень гаснущий сиял Сквозь тень ресниц склоненных, И вздох невольный вылетал Из уст воспламененных. А витязь?.. Что с его душой?.. Увы! сих взоров сладость, Сих чистых, под его рукой Горящих персей младость, И мягкий шелк кудрей густых, По раменам разлитых, И свежий блеск ланит младых, И уст полуоткрытых Палящий жар, и тихий глас, И милое смятенье, И ночи таинственный час, И вкруг уединенье — Все чувства разжигало в нем… О власть очарованья! Уже, исполнены огнем Кипящего лобзанья, На девственных ее устах Его уста горели И жарче розы на щеках Дрожащей девы рдели; И все… но вдруг смутился он И в радостном волненье Затрепетал… знакомый звон Раздался в отдаленье. И долго, жалобно звенел Он в бездне поднебесной; И кто-то, чудилось, летел, Незримый, но известный; И взор, исполненный тоской, Мелькал сквозь покрывало; И под воздушной пеленой Печальное вздыхало… Но вдруг сильней потрясся лес, И небо зашумело… Вадим взглянул – призра́к исчез; А в вышине… звенело. И вслед за милою мечтой Душа его стремится: Уже, подернувшись золой, Едва-едва курится В костре огонь; на небесах Нет туч, не слышно рева; Небрежно на его руках, Припав к ним грудью, дева Младенческий вкушает сон И тихо, тихо дышит; И близок уж рассвет; а он Не видит и не слышит. Стал веять свежий ветерок, Взошла звезда денницы, И обагрянился восток, И пробудились птицы; Копытом топнув, конь заржал; Вадим очнулся – ясно Все было вкруг; но сон смыкал Глаза княжны прекрасной; К ней тихо прикоснулся он; Вздохнув, она одела Власами грудь сквозь тонкий сон, Взглянула – покраснела. И витязь в шлеме и броне Из-под скалы с княжною Выходит. Солнце в вышине Горело; под горою, Сияя, пену расстилал По камням Днепр широкий; И лес кругом благоухал; И благовест далекий Был слышен. На коня Вадим, Перекрестясь, садится; Княжна по-прежнему за ним; И конь по брегу мчится. Вдруг путь широкий меж древес: Их чаща раздалася, И в голубой дали небес, Как звездочка, зажглася Глава Печерская с крестом. Конь скачет быстрым скоком; Уж в граде он; уж пред дворцом; И видят: на высоком Крыльце великий князь стоит; В очах его кручина; Перед крыльцом народ кипит, И строится дружина. И смелых вызывает он В погоню за княжною И избавителю свой трон Сулит с ее рукою. Но топот слышен в тишине; Густая пыль клубится; И видят, с девой на коне Красивый всадник мчится. Народ отхлынул, как волна; Дружина расступилась; И на руках отца княжна При кликах очутилась. Обняв Вадима, князь сказал: «Я не нарушу слова; В тебе господь мне сына дал Заменою родного. Я стар: будь хилых старца дней Опорой и усладой; А смелой доблести твоей Будь дочь моя наградой. Когда ж наступит мой конец, Тогда мою державу И светлый княжеский венец Наследуй в честь и славу». И громко, громко раздалось Дружины восклицанье; И зашумело, полилось По граду ликованье; Богатый пир на весь народ; Весь город изукрашен; Кипит в заздравных кружках мед, Столы трещат от брашен; Поют певцы; колокола Гудят не умолкая; И от огней потешных мгла Зарделася ночная. Веселье всем; один Вадим Не весел – мысль далеко. Сердечной думою томим, Безмолвен, одинокий, Ни песням, ни приветам он Не внемлет, равнодушный; Он ступит шаг – и слышит звон; Подымет взор – воздушный Призрак летает перед ним В знакомом покрывале; Преклонит слух – твердят: «Вадим, Не забывайся, дале!» Идет к Днепровым берегам Он тихими шагами И, смутен, взор склонил к водам… Небесная с звездами Была в них твердь отражена; Вдали, против заката, Всходила полная луна; Вадим глядит… меж злата Осыпанных луною волн Как будто бы чернеет, В зыбях ныряя, легкий челн, За ним струя белеет. Глядит Вадим… челнок плывет… Натянуто ветрило; Но без гребца весло гребет; Без кормщика кормило, Вадим к нему… К Вадиму он… Садится… челн помчало… И вдруг… как будто с юга звон; И вдруг… все замолчало… Плывет челнок; Вадим глядит; Сверкая, волны плещут; Лесистый брег назад бежит; Ночные звезды блещут. Быстрей, быстрей в реке волна; Челнок быстрей, быстрее; Светлее на небе луна; На бреге лес темнее. И дале, дале… все кругом Молчит… как великаны, Скалы нагнулись над Днепром; И, черен, сквозь туманы Глядится в реку тихий лес С утесистой стремнины; И уж луна почти небес Дошла до половины. Сидит, задумавшись, Вадим; Вдруг… что-то пролетело; И облачко луну, как дым Невидимый, одело; Луна померкла; по волнам, По тихим сеням леса, По брегу, по крутым скалам Раскинулась завеса; Шатнул ветрилом ветерок, И руль зашевелился, Ко брегу повернул челнок, Доплыл, остановился. Вадим на брег; от брега челн; Ветрило заиграло; И вдруг вдали, с зыбями волн Смешавшись, все пропало. В недоумении Вадим; Кругом скалы как тучи; Безмолвен, дик, необозрим, По камням бор дремучий С реки до брега вышины Восходит; все в молчанье… И тускло падает луны На мглу вершин сиянье. И тихо по скалам крутым, Влекомый тайной силой, Наверх взбирается Вадим. Он смотрит – все уныло; Как трупы, сосны под травой Обрушенные тлеют; На сучьях мох висит седой; Разинувшись, чернеют Расселины дуплистых пней, И в них глазами блещет Сова, иль чешуями змей, Ворочаясь, трепещет. И, мнится, жизни в той стране От века не бывало; Как бы с созданья в мертвом сне Древа, и не смущало Их сна ничто: ни ветерка Перед денницей шепот, Ни легкий шорох мотылька, Ни вепря тяжкий топот. Уже Вадим на вышине; Вдруг бор редеет темный; Раздвинулся… и при луне Явился холм огромный. И на вершине древний храм; Блестящими крестами Увенчаны главы, к дверям Тяжелыми винтами Огромный пригвожден затвор; Вкруг храма переходы, Столбы, обрушенный забор, Растреснутые своды Трапезы, келий ряд пустых, И всюду по колени Полынь, и длинные от них По скату холма тени. Вадим подходит: невдали Могильный виден камень, Крест наклонился до земли, И легкий, бледный пламень, Как свечка, теплится над ним; И ворон, птица ночи, На нем, как призрак, недвижим Сидит, унылы очи Вперив на месяц. Вдруг, крылом Взмахнув, он пробудился, Взвился… и на небе пустом, Трикраты крикнув, скрылся. Объял Вадима тайный страх; Глядит в недоуменье — И дивное тогда в глазах Вадимовых явленье: Он видит, некто приподнял Иссохшими руками Могильный камень, бледен встал, Туманными очами Блеснул, возвел их к небесам, Как будто бы моляся, Пошел, стучаться начал в храм… Но дверь не отперлася. Вздохнув, повлекся дале он, И тихий под стопами Был слышен шум, и долго, стон Пуская, меж стенами, Между обломками столбов, Как бледный дым, мелькала Бредуща тень… вдруг меж кустов Вдали она пропала. Там, бором покровен, утес Вздымался, крут и страшен, И при луне из-за древес Являлись кровы башен. Вадим туда: уединен, На груде скал мохнатых, Над черным бором, обнесен Оградой стен зубчатых, Стоит там замок, тих, как сна Безмолвное жилище, И вся окрест его страна Угрюма, как кладбище; И башни по углам стоят, Как призраки седые, И сгромоздилися у врат Скалы сторожевые. Душа Вадимова полна Смятенным ожиданьем — И светит сумрачным луна Сквозь облако сияньем. Но вдруг… слетел с луны туман, И бор засеребрился, И замок весь, как великан, Над бором осветился; И от востока ветерок Подул передрассветный, И, чу!.. из-за стены звонок Послышался приветный. И что ж он видит? По стене, Как тень уединенна, С восточной к западной стране, Туманным облеченна Покровом, девица идет; Навстречу к ней другая; И та, приближась, подает Ей руку и, вздыхая, Путь одинокий вдоль стены На запад продолжает; Другая ж, к замку с вышины Спустившись, исчезает. И за идущею вослед Вадим летит очами; Уж, ясен, молодой рассвет Встает меж облаками; Уж загорается восток… Она все дале, дале; И тихо ранний ветерок Играет в покрывале; Идет – глаза опущены, Глава на грудь склонилась — Пришла на поворот стены; Поворотилась; скрылась. Стоит как вкопанный Вадим; Душа в нем замирает: Как будто лик свой перед ним Судьба разоблачает. Бледнее тусклая луна; Светлей восток багровый; И озаряется стена, И ярко блещут кровы; К восточной обратясь стране, Ждет витязь… вдруг вспылала В нем кровь… глядит… там на стене Идущая предстала. Идет; на темный смотрит бор; Как будто ждет в волненье; Как бы чего-то ищет взор В пустынном отдаленье… Вдруг солнце в пламени лучей На крае неба стало… И витязь в блеске перед ней! Как облак, покрывало Слетело с юного чела — Их встретилися взоры; И пала от ворот скала, И раздались их створы. Стремится на ограду он; Идет она с ограды; Сошлись… о вещий, верный сон! О час святой награды! Свершилось! все – и ранних лет Прекрасные желанья, И озаряющие свет Младой души мечтанья, И все, чего мы здесь не зрим, Что вере лишь открыто, — Все вдруг явилось перед ним, В единый образ слито! Глядят на небо, слезы льют, Восторгом слов лишенны… И вдруг из терема идут К ним девы пробужденны: Как звезды, блещут очеса; На ясных лицах радость, И искупления краса, И новой жизни младость. О сладкий воскресенья час! Им мнилось: мир рождался! Вдруг… звучно благовеста глас В тиши небес раздался. И что ж? храм божий отворен; Там слышится моленье; Они туда: храм освещен; В кадильницах куренье; Перед угодником горит, Как в древни дни, лампада, И благодатное бежит Сияние от взгляда: И некто, светел, в алтаре Простерт перед потиром, И возглашается горе́ Хвала незримым клиром. Молясь, с подругой стал Вадим Пред царскими дверями, И вдруг… святой налой пред ним; Главы их под венцами; В руках их свечи зажжены; И кольца обручальны На персты их возложены; И слышен гимн венчальный… И вдруг… все тихо! гимн молчит; Безмолвны своды храма; Один лишь, та́инствен, блестит Алтарь средь фимиама. И в сем молчанье кто-то к ним Приветный подлетает, Их кличет именем родным, Их нежно отзывает… Куда же?.. о священный вид! Могила перед ними; И в ней спокойно; дерн покрыт Цветами молодыми; И дышит ветерок окрест, Как дух бесплотный вея; И обвивает светлый крест Прекрасная лилея. Они упали ниц в слезах; Их сердце вести ждало, И трепетом священный прах Могилы вопрошало… И было все для них ответ: И холм помолоделый, И луга обновленный цвет, И бег реки веселый, И воскрешенны древеса С вершинами живыми, И, как бессмертье, небеса Спокойные над ними… Промчались веки вслед векам… Где замок? где обитель? Где чудом освященный храм? Все скрылось… лишь, хранитель Давно минувшего, живет На прахе их преданье. Есть место… там игривых вод Пленительно сверканье; Там вечно зелен пышный лес; Там сладок ветра шепот И с тихим говором древес Волны слиянный ропот. На месте оном – так гласит Правдивое преданье — Был пепел инокинь сокрыт: В посте и покаянье При гробе грешника-отца Они кончины ждали И примиренного творца В молитвах прославляли… И улетела к небесам С земли их жизнь святая, Как улетает фимиам С кадил, благоухая. На месте оном – в светлый час Земли преображенья — Когда, послышав утра глас, С звездою пробужденья, Востока ангел в тишине На край небес взлетает И по туманной вышине Зарю распростирает, Когда и холм, и луг, и лес — Все оживленным зрится И пред святилищем небес, Как жертва, все дымится, — Бывают тайны чудеса, Невиданные взором: Отшельниц слышны голоса; Горе хвалебным хором Поют; сквозь занавес зари Блистает крест; слиянны Из света зрятся алтари; И, яркими венчанны Звездами, девы предстоят С молитвой их святыне, И серафимов тьмы кипят В пылающей пучине. 1814–1817Рыбак
Бежит волна, шумит волна! Задумчив, над рекой Сидит рыбак; душа полна Прохладной тишиной. Сидит он час, сидит другой; Вдруг шум в волнах притих.. И влажною всплыла главой Красавица из них. Глядит она, поет она: «Зачем ты мой народ Манишь, влечешь с родного дна В кипучий жар из вод? Ax! если б знал, как рыбкой жить Привольно в глубине, Не стал бы ты себя томить На знойной вышине. Не часто ль солнце образ свой Купает в лоне вод? Не свежей ли горит красой Его из них исход? Не с ними ли свод неба слит Прохладно-голубой? Не в лоно ль их тебя манит И лик твой молодой?» Бежит волна, шумит волна… На берег вал плеснул! В нем вся душа тоски полна. Как будто друг шепнул! Она поет, она манит — Знать, час его настал! К нему она, он к ней бежит… И след навек пропал. Январь 1818Лесной царь
Кто скачет, кто мчится под хладною мглой? Ездок запоздалый, с ним сын молодой. К отцу, весь издрогнув, малютка приник; Обняв, его держит и греет старик. «Дитя, что ко мне ты так робко прильнул?» «Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул: Он в темной короне, с густой бородой». «О нет, то белеет туман над водой». «Дитя, оглянися; младенец, ко мне; Веселого много в моей стороне: Цветы бирюзовы, жемчужны струи; Из золота слиты чертоги мои». «Родимый, лесной царь со мной говорит: Он золото, перлы и радость сулит». «О нет, мой младенец, ослышался ты: То ветер, проснувшись, колыхнул листы». «Ко мне, мой младенец; в дуброве моей Узнаешь прекрасных моих дочерей: При месяце будут играть и летать, Играя, летая, тебя усыплять». «Родимый, лесной царь созвал дочерей: Мне, вижу, кивают из темных ветвей». «О нет, все спокойно в ночной глубине: То ветлы седые стоят в стороне». «Дитя, я пленился твоей красотой: Неволей иль волей, а будешь ты мой». «Родимый, лесной царь нас хочет догнать; Уж вот он: мне душно, мне тяжко дышать». Ездок оробелый не скачет, летит; Младенец тоскует, младенец кричит; Ездок погоняет, ездок доскакал… В руках его мертвый младенец лежал. Март (?) 1818Замок Смальгольм, или Иванов вечер
До рассвета поднявшись, коня оседлал Знаменитый Смальгольмский барон; И без отдыха гнал, меж утесов и скал, Он коня, торопясь в Бротерстон. Не с могучим Боклю совокупно спешил На военное дело барон; Не в кровавом бою переведаться мнил За Шотландию с Англией он; Но в железной броне он сидит на коне; Наточил он свой меч боевой; И покрыт он щитом; и топор за седлом Укреплен двадцатифунтовой. Через три дни домой возвратился барон, Отуманен и бледен лицом; Через силу и конь, опенен, запылен, Под тяжелым ступал седоком. Анкрамморския битвы барон не видал, Где потоками кровь их лилась, Где на Эверса грозно Боклю напирал, Где за родину бился Дуглас; Но железный шелом был иссечен на нем, Был изрублен и панцирь и щит, Был недавнею кровью топор за седлом, Но не английской кровью покрыт. Соскочив у часовни с коня за стеной, Притаяся в кустах, он стоял; И три раза он свистнул – и паж молодой На условленный свист прибежал. «Подойди, мой малютка, мой паж молодой, И присядь на колена мои; Ты младенец, но ты откровенен душой, И слова непритворны твои. Я в отлучке был три дни, мой паж молодой; Мне теперь ты всю правду скажи: Что заметил? Что было с твоей госпожой? И кто был у твоей госпожи?» «Госпожа по ночам к отдаленным скалам, Где маяк, приходила тайком (Ведь огни по горам зажжены, чтоб врагам Не прокрасться во мраке ночном). И на первую ночь непогода была, И без умолку филин кричал; И она в непогоду ночную пошла На вершину пустынную скал. Тихомолком подкрался я к ней в темноте; И сидела одна – я узрел; Не стоял часовой на пустой высоте; Одиноко маяк пламенел. На другую же ночь – я за ней по следам На вершину опять побежал, — О творец, у огня одинокого там Мне неведомый рыцарь стоял. Подпершися мечом, он стоял пред огнем, И беседовал долго он с ней; Но под шумным дождем, но при ветре ночном Я расслушать не мог их речей. И последняя ночь безненастна была, И порывистый ветер молчал; И к мая́ку она на свиданье пошла; У маяка уж рыцарь стоял. И сказала (я слышал): «В полуночный час, Перед светлым Ивановым днем, Приходи ты; мой муж не опасен для нас: Он теперь на свиданье ином; Он с могучим Боклю ополчился теперь: Он в сраженье забыл про меня — И тайком отопру я для милого дверь Накануне Иванова дня». «Я не властен прийти, я не должен прийти, Я не смею прийти (был ответ); Пред Ивановым днем одиноким путем Я пойду… мне товарища нет». «О, сомнение прочь! безмятежная ночь Пред великим Ивановым днем И тиxa и темна, и свиданьям она Благосклонна в молчанье своем. Я собак привяжу, часовых уложу, Я крыльцо пересыплю травой, И в приюте моем, пред Ивановым днем, Безопасен ты будешь со мной». «Пусть собака молчит, часовой не трубит, И трава не слышна под ногой, — Но священник есть там; он не спит по ночам; Он приход мой узнает ночной». «Он уйдет к той поре: в монастырь на горе Панихиду он позван служить: Кто-то был умерщвлен; по душе его он Будет три дни поминки творить». Он нахмурясь глядел, он как мертвый бледнел, Он ужасен стоял при огне. «Пусть о том, кто убит, он поминки творит: То, быть может, поминки по мне. Но полуночный час благосклонен для нас: Я приду под защитою мглы». Он сказал… и она… я смотрю… уж одна У мая́ка пустынной скалы». И Смальгольмский барон, поражен, раздражен, И кипел, и горел, и сверкал. «Но скажи наконец, кто ночной сей пришлец? Он, клянусь небесами, пропал!» «Показалося мне при блестящем огне: Был шелом с соколиным пером, И палаш боевой на цепи золотой, Три звезды на щите голубом». «Нет, мой паж молодой, ты обманут мечтой; Сей полуночный мрачный пришлец Был не властен прийти: он убит на пути; Он в могилу зарыт, он мертвец». «Нет! не чудилось мне; я стоял при огне, И увидел, услышал я сам, Как его обняла, как его назвала: То был рыцарь Ричард Кольдингам». И Смальгольмский барон, изумлен, поражен, И хладел, и бледнел, и дрожал. «Нет! в могиле покой; он лежит под землей Ты неправду мне, паж мой, сказал. Где бежит и шумит меж утесами Твид, Где подъемлется мрачный Эльдон, Уж три ночи, как там твой Ричард Кольдингам Потаенным врагом умерщвлен. Нет! сверканье огня ослепило твой взгляд: Оглушен был ты бурей ночной; Уж три ночи, три дня, как поминки творят Чернецы за его упокой». Он идет в ворота, он уже на крыльце, Он взошел по крутым ступеням На площадку, и видит: с печалью в лице, Одиноко-унылая, там Молодая жена – и тиха, и бледна, И в мечтании грустном глядит На поля, небеса, на Мертонски леса, На прозрачно бегущую Твид. «Я с тобою опять, молодая жена». «В добрый час, благородный барон. Что расскажешь ты мне? Решена ли война? Поразил ли Боклю иль сражен?» «Англичанин разбит; англичанин бежит С Анкрамморских кровавых полей; И Боклю наблюдать мне маяк мой велит И беречься недобрых гостей». При ответе таком изменилась лицом И ни слова… ни слова и он; И пошла в свой покой с наклоненной главой, И за нею суровый барон. Ночь покойна была, но заснуть не дала. Он вздыхал, он с собой говорил: «Не пробудится он; не подымется он; Мертвецы не встают из могил». Уж заря занялась; был таинственный час Меж рассветом и утренней тьмой; И глубоким он сном пред Ивановым днем Вдруг заснул близ жены молодой. Не спалося лишь ей, не смыкала очей… И бродящим, открытым очам, При лампадном огне, в шишаке и броне Вдруг явился Ричард Кольдингам. «Воротись, удалися», – она говорит. «Я к свиданью тобой приглашен; Мне известно, кто здесь, неожиданный, спит, — Не страшись, не услышит нас он. Я во мраке ночном потаенным врагом На дороге изменой убит; Уж три ночи, три дня, как монахи меня Поминают – и труп мой зарыт. Он с тобой, он с тобой, сей убийца ночной! И ужасный теперь ему сон! И надолго во мгле на пустынной скале, Где маяк, я бродить осужден; Где видалися мы под защитою тьмы, Там скитаюсь теперь мертвецом; И сюда с высоты не сошел бы… но ты Заклинала Ивановым днем». Содрогнулась она и, смятенья полна, Вопросила: «Но что же с тобой? Дай один мне ответ – ты спасен ли иль нет?..» Он печально потряс головой. «Выкупается кровью пролитая кровь, — То убийце скажи моему. Беззаконную небо карает любовь, — Ты сама будь свидетель тому». Он тяжелою шуйцей коснулся стола; Ей десницею руку пожал — И десница как острое пламя была, И по членам огонь пробежал. И печать роковая в столе вожжена: Отразилися пальцы на нем; На руке ж – но таинственно руку она Закрывала с тех пор полотном. Есть монахиня в древних Драйбургских стенах: И грустна и на свет не глядит; Есть в Мельрозской обители мрачный монах: И дичится людей и молчит. Сей монах молчаливый и мрачный – кто он? Та монахиня – кто же она? То убийца, суровый Смальгольмский барон; То его молодая жена. Июль (?) 1822Торжество победителей
Пал Приамов град священный; Грудой пепла стал Пергам; И, победой насыщенны, К острогрудым кораблям Собрались эллены – тризну В честь минувшего свершить И в желанную отчизну, К берегам Эллады плыть. Пойте, пойте гимн согласный: Корабли обращены От враждебной стороны К нашей Греции прекрасной. Брегом шла толпа густая Илионских дев и жен: Из отеческого края Их вели в далекий плен. И с победной песнью дикой Их сливался тихий стон По тебе, святой, великий, Невозвратный Илион. Вы, родные хо́лмы, нивы, Нам вас боле не видать; Будем в рабстве увядать… О, сколь мертвые счастливы! И с предведеньем во взгляде Жертву сам Калхас заклал: Грады зиждущей Палладе И губящей (он воззвал), Буреносцу Посидону, Воздымателю валов, И носящему Горгону Богу смертных и богов! Суд окончен; спор решился; Прекратилася борьба; Все исполнила Судьба: Град великий сокрушился. Царь народов, сын Атрея Обозрел полков число: Вслед за ним на брег Сигея Много, много их пришло… И незапный мрак печали Отуманил царский взгляд: Благороднейшие пали… Мало с ним пойдет назад. Счастлив тот, кому сиянье Бытия сохранено, Тот, кому вкусить дано С милой родиной свиданье! И не всякий насладится Миром в свой пришедши дом: Часто злобный ков таится За домашним алтарем; Часто Марсом пощаженный Погибает от друзей (Рек, Палладой вдохновенный, Хитроумный Одиссей). Счастлив тот, чей дом украшен Скромной верностью жены! Жены алчут новизны: Постоянный мир им страшен. И стоящий близ Елены Менелай тогда сказал: Плод губительный измены — Ею сам изменник пал; И погиб виной Парида Отягченный Илион… Неизбежен суд Кронида, Все блюдет с Олимпа он. Злому злой конец бывает: Гибнет жертвой Эвменид, Кто безумно, как Парид, Право гостя оскверняет. Пусть веселый взор счастливых (Оилеев сын сказал) Зрит в богах богов правдивых; Суд их часто слеп бывал: Скольких бодрых жизнь поблёкла! Скольких низких рок щадит!.. Нет великого Патрокла; Жив презрительный Терсит. Смертный, царь Зевес Фортуне Своенравной предал нас: Уловляй же быстрый час, Не тревожа сердца втуне. Лучших бой похитил ярый! Вечно памятен нам будь, Ты, мой брат, ты, под удары Подставлявший твердо грудь, Ты, который нас, пожаром Осажденных, защитил… Но коварнейшему даром Щит и меч Ахиллов был. Мир тебе во тьме Эрева! Жизнь твою не враг отнял: Ты своею силой пал, Жертва гибельного гнева. О Ахилл! о мой родитель! (Возгласил Неоптолем) Быстрый мира посетитель, Жребий лучший взял ты в нем. Жить в любви племен делами — Благо первое земли; Будем вечны именами И сокрытые в пыли! Слава дней твоих нетленна; В песнях будет цвесть она: Жизнь живущих неверна, Жизнь отживших неизменна! Смерть велит умолкнуть злобе (Диомед провозгласил): Слава Гектору во гробе! Он краса Пергама был; Он за край, где жили деды, Веледушно пролил кровь; Победившим – честь победы! Охранявшему – любовь! Кто, на суд явясь кровавый, Славно пал за отчий дом: Тот, почтенный и врагом, Будет жить в преданьях славы. Нестор, жизнью убеленный, Нацедил вина фиал И Гекубе сокрушенной Дружелюбно выпить дал. Пей страданий утоленье; Добрый Вакхов дар вино: И веселость и забвенье Проливает в нас оно. Пей, страдалица! печали Услаждаются вином: Боги жалостные в нем Подкрепленье сердцу дали. Вспомни матерь Ниобею: Что изведала она! Сколь ужасная над нею Казнь была совершена! Но и с нею, безотрадной, Добрый Вакх недаром был: Он струею виноградной Вмиг тоску в ней усыпил. Если грудь вином согрета И в устах вино кипит: Скорби наши быстро мчит Их смывающая Лета. И вперила взор Кассандра, Вняв шепнувшим ей богам, На пустынный брег Скамандра, На дымящийся Пергам. Все великое земное Разлетается, как дым: Ныне жребий выпал Трое, Завтра выпадет другим… Смертный, силе, нас гнетущей, Покоряйся и терпи; Спящий в гробе, мирно спи; Жизнью пользуйся, живущий. 1828Кубок
«Кто, рыцарь ли знатный иль латник простой. В ту бездну прыгнет с вышины? Бросаю мой кубок туда золотой: Кто сыщет во тьме глубины Мой кубок и с ним возвратится безвредно, Тому он и будет наградой победной». Так царь возгласил, и с высокой скалы, Висевшей над бездной морской, В пучину бездонной, зияющей мглы Он бросил свой кубок златой. «Кто, смелый, на подвиг опасный решится? Кто сыщет мой кубок и с ним возвратится?» Но рыцарь и латник недвижно стоят; Молчанье – на вызов ответ; В молчанье на грозное море глядят; За кубком отважного нет. И в третий раз царь возгласил громогласно: «Отыщется ль смелый на подвиг опасный?» И все безответны… вдруг паж молодой Смиренно и дерзко вперед; Он снял епанчу, и снял пояс он свой; Их молча на землю кладет… И дамы и рыцари мыслят, безгласны: «Ах! юноша, кто ты? Куда ты, прекрасный?» И он подступает к наклону скалы И взор устремил в глубину… Из чрева пучины бежали валы, Шумя и гремя, в вышину; И волны спирались и пена кипела: Как будто гроза, наступая, ревела. И воет, и свищет, и бьет, и шипит, Как влага, мешаясь с огнем, Волна за волною; и к небу летит Дымящимся пена столбом; Пучина бунтует, пучина клокочет… Не море ль из моря извергнуться хочет? И вдруг, успокоясь, волненье легло; И грозно из пены седой Разинулось черною щелью жерло; И воды обратно толпой Помчались во глубь истощенного чрева; И глубь застонала от грома и рева. И он, упредя разъяренный прилив, Спасителя-бога призвал. И дрогнули зрители, все возопив, — Уж юноша в бездне пропал. И бездна таинственно зев свой закрыла: Его не спасет никакая уж сила. Над бездной утихло… в ней глухо шумит… И каждый, очей отвести Не смея от бездны, печально твердит: «Красавец отважный, прости!» Все тише и тише на дне ее воет… И сердце у всех ожиданием ноет. «Хоть брось ты туда свой венец золотой, Сказав: кто венец возвратит, Тот с ним и престол мой разделит со мной! — Меня твой престол не прельстит. Того, что скрывает та бездна немая, Ничья здесь душа не расскажет живая. Немало судов, закруженных волной, Глотала ее глубина: Все мелкой назад вылетали щепой С ее неприступного дна…» Но слышится снова в пучине глубокой Как будто роптанье грозы недалекой. И воет, и свищет, и бьет, и шипит, Как влага, мешаясь с огнем, Волна за волною; и к небу летит Дымящимся пена столбом… И брызнул поток с оглушительным ревом, Извергнутый бездны зияющим зевом. Вдруг… что-то сквозь пену седой глубины Мелькнуло живой белизной… Мелькнула рука и плечо из волны… И борется, спорит с волной… И видят – весь берег потрясся от клича — Он левою правит, а в правой добыча. И долго дышал он, и тяжко дышал, И божий приветствовал свет… И каждый с весельем: «Он жив! – повторял. — Чудеснее подвига нет! Из темного гроба, из пропасти влажной Спас душу живую красавец отважный». Он на берег вышел; он встречен толпой; К царевым ногам он упал; И кубок у ног положил золотой; И дочери царь приказал: Дать юноше кубок с струей винограда; И в сладость была для него та награда. «Да здравствует царь! Кто живет на земле, Тот жизнью земной веселись! Но страшно в подземной таинственной мгле. И смертный пред богом смирись: И мыслью своей не желай дерзновенно Знать тайны, им мудро от нас сокровенной. Стрелою стремглав полетел я туда… И вдруг мне навстречу поток; Из трещины камня лилася вода; И вихорь ужасный повлек Меня в глубину с непонятною силой… И страшно меня там кружило и било. Но богу молитву тогда я принес, И он мне спасителем был: Торчащий из мглы я увидел утес И крепко его обхватил; Висел там и кубок на ветви коралла: В бездонное влага его не умчала. И смутно все было внизу подо мной В пурпуровом сумраке там; Все спало для слуха в той бездне глухой; Но виделось страшно очам, Как двигались в ней безобразные груды, Морской глубины несказанные чуды. Я видел, как в черной пучине кипят, В громадный свиваяся клуб, И млат водяной, и уродливый скат, И ужас морей однозуб; И смертью грозил мне, зубами сверкая, Мокой ненасытный, гиена морская. И был я один с неизбежной судьбой, От взора людей далеко; Один меж чудовищ с любящей душой, Во чреве земли, глубоко Под звуком живым человечьего слова, Меж страшных жильцов подземелья немова. И я содрогался… вдруг слышу: ползет Стоногое грозно из мглы, И хочет схватить, и разинулся рот… Я в ужасе прочь от скалы!.. То было спасеньем: я схвачен приливом И выброшен вверх водомета порывом». Чудесен рассказ показался царю: «Мой кубок возьми золотой; Но с ним я и перстень тебе подарю, В котором алмаз дорогой, Когда ты на подвиг отважишься снова И тайны все дна перескажешь морскова». То слыша, царевна с волненьем в груди, Краснея, царю говорит: «Довольно, родитель; его пощади! Подобное кто совершит? И если уж должно быть опыту снова, То рыцаря вышли, не пажа младова». Но царь, не внимая, свой кубок златой В пучину швырнул с высоты: «И будешь здесь рыцарь любимейший мой, Когда с ним воротишься ты; И дочь моя, ныне твоя предо мною Заступница, будет твоею женою». В нем жизнью небесной душа зажжена; Отважность сверкнула в очах; Он видит: краснеет, бледнеет она; Он видит: в ней жалость и страх… Тогда, неописанной радостью полный, На жизнь и погибель он кинулся в волны… Утихнула бездна… и снова шумит… И пеною снова полна… И с трепетом в бездну царевна глядит… И бьет за волною волна… Приходит, уходит волна быстротечно: А юноши нет и не будет уж вечно. 1825 (?) – 1831Поликратов перстень
На кровле он стоял высоко И на Самос богатый око С весельем гордым преклонял. «Сколь щедро взыскан я богами! Сколь счастлив я между царями!» — Царю Египта он сказал. «Тебе благоприятны боги; Они к твоим врагам лишь строги И всех их предали тебе; Но жив один, опасный мститель; Пока он дышит… победитель, Не доверяй своей судьбе». Еще не кончил он ответа, Как из союзного Милета Явился присланный гонец: «Победой ты украшен новой; Да обовьет опять лавровый Главу властителя венец; Твой враг постигнут строгой местью; Меня послал к вам с этой вестью Наш полководец Полидор». Рука гонца сосуд держала: В сосуде голова лежала; Врага узнал в ней царский взор. И гость воскликнул с содроганьем: «Страшись! Судьба очарованьем Тебя к погибели влечет. Неверные морские волны Обломков корабельных полны: Еще не в пристани твой флот». Еще слова его звучали… А клики брег уж оглашали, Народ на пристани кипел; И в пристань, царь морей крылатый, Дарами дальних стран богатый, Флот торжествующий влетел. И гость, увидя то, бледнеет. «Тебе Фортуна благодеет… Но ты не верь, здесь хитрый ков, Здесь тайная погибель скрыта: Разбойники морские Крита От здешних близко берегов». И только выронил он слово, Гонец вбегает с вестью новой: «Победа, царь! Судьбе хвала! Мы торжествуем над врагами: Флот критский истреблен богами; Его их буря пожрала». Испуган гость нежданной вестью… «Ты счастлив; но судьбины лестью Такое счастье мнится мне: Здесь вечны блага не бывали, И никогда нам без печали Не доставалися оне. И мне все в жизни улыбалось; Неизменяемо, казалось, Я силой вышней был храним; Все блага прочил я для сына… Его, его взяла судьбина; Я долг мой сыном заплатил. Чтоб верной избежать напасти, Моли невидимые власти Подлить печали в твой фиал. Судьба и в милостях мздоимец: Какой, какой ее любимец Свой век не бедственно кончал? Когда ж в несчастье рок откажет, Исполни то, что друг твой скажет: Ты призови несчастье сам. Твои сокровища несметны: Из них скорей, как дар заветный, Отдай любимое богам». Он гостю внемлет с содроганьем: «Моим избранным достояньем Доныне этот перстень был; Но я готов властям незримым Добром пожертвовать любимым…» И перстень в море он пустил. Наутро, только луч денницы Озолотил верхи столицы, К царю является рыбарь: «Я рыбу, пойманную мною, Чудовище величиною, Тебе принес в подарок, царь!» Царь изъявил благоволенье… Вдруг царский повар в исступленье С нежданной вестию бежит: «Найден твой перстень драгоценный, Огромной рыбой поглощенный, Он в ней ножом моим открыт». Тут гость, как пораженный громом, Сказал: «Беда над этим домом! Нельзя мне другом быть твоим; На смерть ты обречен судьбою: Бегу, чтоб здесь не пасть с тобою…» Сказал и разлучился с ним. Март 1831Суд божий над епископом
Были и лето и осень дождливы; Были потоплены пажити, нивы; Хлеб на полях не созрел и пропал; Сделался голод; народ умирал. Но у епископа милостью неба Полны амбары огромные хлеба; Жито сберег прошлогоднее он: Был осторожен епископ Гаттон. Рвутся толпой и голодный и нищий В двери епископа, требуя пищи; Скуп и жесток был епископ Гаттон: Общей бедою не тронулся он. Слушать их вопли ему надоело; Вот он решился на страшное дело: Бедных из ближних и дальних сторон, Слышно, скликает епископ Гаттон. «Дожили мы до нежданного чуда: Вынул епископ добро из-под спуда; Бедных к себе на пирушку зовет», — Так говорил изумленный народ. К сроку собралися званые гости, Бледные, чахлые, кожа да кости; Старый, огромный сарай отворен: В нем угостит их епископ Гаттон. Вот уж столпились под кровлей сарая Все пришлецы из окружного края… Как же их принял епископ Гаттон? Был им сарай и с гостями сожжен. Глядя епископ на пепел пожарный Думает: «Будут мне все благодарны; Разом избавил я шуткой моей Край наш голодный от жадных мышей». В замок епископ к себе возвратился, Ужинать сел, пировал, веселился, Спал, как невинный, и снов не видал… Правда! но боле с тех пор он не спал. Утром он входит в покой, где висели Предков портреты, и видит, что съели Мыши его живописный портрет, Так, что холстины и признака нет. Он обомлел; он от страха чуть дышит… Вдруг он чудесную ведомость слышит: «Наша округа мышами полна, В житницах съеден весь хлеб до зерна». Вот и другое в ушах загремело: «Бог на тебя за вчерашнее дело! Крепкий твой замок, епископ Гаттон, Мыши со всех осаждают сторон». Ход был до Рейна от замка подземный; В страхе епископ дорогою темной К берегу выйти из замка спешит: «В Рейнской башне спасусь» (говорит). Башня из рейнских вод подымалась; Издали острым утесом казалась, Грозно из пены торчащим, она; Стены кругом ограждала волна. В легкую лодку епископ садится; К башне причалил, дверь запер и мчится Вверх по гранитным крутым ступеням: В страхе один затворился он там. Стены из стали казалися слиты, Были решетками окна забиты, Ставни чугунные, каменный свод, Дверью железною запертый вход. Узник не знает, куда приютиться; На пол, зажмурив глаза, он ложится… Вдруг он испуган стенаньем глухим: Вспыхнули ярко два глаза над ним. Смотрит он… кошка сидит и мяучит; Голос тот грешника давит и мучит; Мечется кошка; невесело ей: Чует она приближенье мышей. Пал на колени епископ и криком Бога зовет в исступлении диком. Воет преступник… а мыши плывут… Ближе и ближе… доплыли… ползут. Вот уж ему в расстоянии близком Слышно, как лезут с роптаньем и писком; Слышно, как стену их лапки скребут; Слышно, как камень их зубы грызут. Вдруг ворвались неизбежные звери; Сыплются градом сквозь окна, сквозь двери, Спереди, сзади, с боков, с высоты… Что тут, епископ, почувствовал ты? Зубы об камни они навострили, Грешнику в кости их жадно впустили, Весь по суставам раздернут был он… Так был наказан епископ Гаттон. Март 1831Алонзо
Из далекой Палестины Возвратясь, певец Алонзо К замку Бальби приближался, Полон песней вдохновенных: Там красавица младая, Струны звонкие подслушав, Обомлеет, затрепещет И с альтана взор наклонит. Он приходит в замок Бальби, И под окнами поет он Все, что сердце молодое Втайне выдумать умело. И цветы с высоких окон, Видит он, к нему склонились; Но царицы сладких песней Меж цветами он не видит. И ему тогда прохожий Прошептал с лицом печальным: «Не тревожь покоя мертвых; Спит во гробе Изолина». И на то певец Алонзо Не ответствовал ни слова: Но глаза его потухли, И не бьется боле сердце. Как незапным дуновеньем Ветерок лампаду гасит, Так угас в одно мгновенье Молодой певец от слова. Но в старинной церкви замка, Где пылали ярко свечи, Где во гробе Изолина Под душистыми цветами Бледноликая лежала, Всех проник незапный трепет: Оживленная, из гроба Изолина поднялася… От бесчувствия могилы Возвратясь незапно к жизни, В гробовой она одежде, Как в уборе брачном, встала; И, не зная, что с ней было, Как объятая виденьем, Изумленная спросила: «Не пропел ли здесь Алонзо?..» Так, пропел он, твой Алонзо! Но ему не петь уж боле: Пробудив тебя из гроба, Сам заснул он, и навеки. Там, в стране преображенных, Ищет он свою земную, До него с земли на небо Улетевшую подругу… Небеса кругом сияют, Безмятежны и прекрасны… И, надеждой обольщенный, Их блаженства пролетая, Кличет там он: «Изолина!» И спокойно раздается: «Изолина! Изолина!» — Там в блаженствах безответных. 26–28 марта 1831Покаяние
Был папа готов литургию свершать, Сияя в святом облаченье, С могуществом, данным ему, отпускать Всем грешникам их прегрешенья. И папа обряд очищенья свершал; Во прахе народ простирался; И кто с покаянием прах лобызал, От всех тот грехов очищался. Органа торжественный гром восходил Горе́ во святом фимиаме. И страх соприсутствия божия был Разлит благодатно во храме. Святейшее слово он хочет сказать — Устам не покорствуют звуки; Сосуд живоносный он хочет поднять — Дрожащие падают руки. «Есть грешник великий во храме святом! И бремя на нем святотатства! Нет части ему в разрешенье моем: Он здесь не от нашего братства. Нет слова, чтоб мир водворило оно В душе погубле́нной отныне; И он обретет осужденье одно В чистейшей небесной святыне. Беги ж, осужденный; отвергнись от нас: Не жди моего заклинанья; Беги: да свершу невозбранно в сей час Великий обряд покаянья». С толпой на коленях стоял пилигрим, В простую одет власяницу; Впервые узрел он сияющий Рим, Великую веры столицу. Молчанье храня, он пришел из своей Далекой отчизны как нищий; И целые сорок он дней и ночей Почти не касался до пищи; И в храме, в святой покаяния час, Усердней никто не молился… Но грянул над ним заклинательный глас Он бледен поднялся и скрылся. Спешит запрещенный покинуть он Рим; Преследуем словом ужасным, К шотландским идет он горам голубым, К озерам отечества ясным. Когда ж возвратился в отечество он, В старинную дедов обитель: Вассалы к нему собрались на поклон И ждали, что скажет властитель. Но прежний властитель, дотоле вождем Их бывший ко славе победной, Их принял с унылым, суровым лицом, С потухшими взорами, бледный. Сложил он с вассалов подданства обет И с ними безмолвно простился; Покинул он замок, покинул он свет И в келью отшельником скрылся. Себя он обрек на молчанье и труд; Без сна проводил он все ночи; Как бледный убийца, ведомый на суд, Бродил он, потупивши очи. Не знал он покрова ни в холод, ни в дождь; В раздранной ходил власянице; И в келье, бывалый властитель и вождь, Гнездился, как мертвый в гробнице. В святой монастырь богоматери дал Он часть своего достоянья: Чтоб там о погибших собор совершал Вседневно обряд поминанья. Когда ж поминанье собор совершал, Моляся в усердии теплом, Он в храм не входил; перед дверью лежал Он в прахе, осыпанный пеплом. Окрест сторона та прекрасна была: Река, наравне с берегами, По зелени яркой лазурно текла И зелень поила струями; Живые дороги вились по полям; Меж нивами села блистали; Пестрели стада; отвечая рогам, Долины и холмы звучали; Святой монастырь на пригорке стоял За темною кленов оградой: Меж ними – в то время, как вечер сиял, — Багряной горел он громадой. Но грешным очам неприметна краса Веселой окрестной природы; Без блеска для мертвой души небеса, Без голоса рощи и воды. Есть место – туда, как могильная тень, Одною дорогой он ходит; Там часто, задумчив, сидит он весь день, Там часто и ночи проводит. В лесном захолустье, где сонный ворчит Источник, влачася лениво, На дикой поляне часовня стоит В обломках, заглохших крапивой; И черны обломки: пожар там прошел; Золою, стопившейся в камень, И падшею кровлей задавленный пол, Решетки, стерпевшие пламень, И полосы дыма на голых стенах, И древний алтарь без святыни, Все сердцу твердит, пробуждая в нем страх, О тайне сей мрачной пустыни. Ужасное дело свершилося там: В часовне пустынного места, В час ночи, обет принося небесам, Стояли жених и невеста. К красавице бурною страстью пылал Округи могучий властитель; Но нравился боле ей скромный вассал, Чем гордый его повелитель. Соперника ревность была им страшна: И втайне их брак совершился. Уж клятва любви небесам предана, И пастырь над ними молился… Вдруг топот и клики и пламя кругом! Их тайна открыта; в кипенье Обиды, любви, обезумлен вином, Дерзнул он на страшное мщенье: Захлопнуты двери; часовня горит; Стенаньям смеется губитель; Все пышет, валится, трещит и гремит, И в пепле святыни обитель. Был вечер прекрасен, и тих, и душист; На горных вершинах сияло; Свод неба глубокий был темен и чист; Торжественно все утихало. В обители иноков слышался звон: Там было вечернее бденье; И иноки пели хвалебный канон, И было их сладостно пенье. По-прежнему грустен, по-прежнему дик (Уж годы прошли в покаянье), На место, где сердце он мучить привык, Он шел, погруженный в молчанье. Но вечер невольно беседовал с ним Своей миротворной красою, И тихой земли усыпленьем святым, И звездных небес тишиною. И воздух его обнимал теплотой, И пил аромат он целебный, И в слух долетал издалека порой Отшельников голос хвалебный. И с чувством, давно позабытым, поднял На небо он взор свой угрюмый, И долго смотрел, и недвижим стоял, Окованный тайною думой… Но вдруг содрогнулся – как будто о чем Ужасном он вспомнил, – глубоко Вздохнул, стал бледней и обычным путем Пошел, как мертвец, одиноко. Главу опустя, безнадежно уныл, Отчаянно стиснувши руки, Приходит туда он, куда приходил Уж годы вседневно для муки. И видит… у входа часовни сидит Чернец в размышленье глубоком, Он чуден лицом; на него он глядит Пронзающим внутренность оком. И тихо сказал наконец он: «Христос Тебя сохрани и помилуй!» И грешнику душу привет сей потрёс, Как луч воскресенья могилу. «Ответствуй мне, кто ты? (чернец вопросил) Свою мне поведай судьбину; По виду ты странник; быть может, ходил, Свершая обет, в Палестину? Или ко гробам чудотворцев святых Свое приносил поклоненье? С собою мощей не принес ли каких, Дарующих грешным спасенье?» «Мощей не принес я; к гробам не ходил, Спасающим нас благодатью; Не зрел Палестины… Но в Риме я был И предан навеки проклятью». «Проклятия вечного нет для живых: Есть верный за падших заступник. Приди, исповедайся в тайных своих Грехах предо мною, преступник». «Что сделать не властен святейший отец, Владыка и божий наместник, Тебе ли то сделать? И кто ты, чернец? Кем послан ты, милости вестник?» «Я здесь издалека: был в той стороне, Где ведома участь земного; Здесь память загладить позволено мне Ужасного дела ночного». При слове сем грешник на землю упал… Все члены его трепетали… Он исповедь начал… но что он сказал, Того на земле не узнали. Лишь месяц их тайным свидетелем был, Смотря сквозь древесные сени; И, мнилось, в то время, когда он светил, Две легкие веяли тени; Двумя облачками казались оне; Все выше, все выше взлетали; И все неразлучны; и вдруг в вышине С лазурью слились и пропали. И он на земле не встречался с тех пор. Одно сохранилось в преданье: С обычным обрядом священный собор Во храме свершал поминанье; И пеньем торжественным полон был храм, И тихо дымились кадилы, И вместе с земными невидимо там Служили небесные силы. И в храм он вошел, к алтарю приступил, Пречистых даров причастился, На небо сияющий взор устремил, Сжал набожно руки… и скрылся. Конец марта – начало апреля 1831Старый рыцарь
Он был весной своей В земле обетованной И много славных дней Провел в тревоге бранной. Там ветку от святой Оливы оторвал он; На шлем железный свой Ту ветку навязал он. С неверным он врагом, Нося ту ветку, бился И с нею в отчий дом Прославлен возвратился. Ту ветку посадил Сам в землю он родную И часто приносил Ей воду ключевую. Он стал старик седой, И сила мышц пропала; Из ветки молодой Олива древом стала. Под нею часто он Сидит, уединенный, В невыразимый сон Душою погруженный. Над ним, как друг, стоит, Обняв его седины, И ветвями шумит Олива Палестины; И, внемля ей во сне, Вздыхает он глубоко О славной старине И о земле далекой. 26 ноября 1832Братоубийца
На скале приморской мшистой, Там, где берег грозно дик, Богоматери пречистой Чудотворный зрится лик; С той крутой скалы на воды Матерь божия глядит И пловца от непогоды Угрожающей хранит. Каждый вечер, лишь молебный На скале раздастся звон, Глас ответственный хвалебный Восстает со всех сторон; Пахарь пеньем освящает Дня и всех трудов конец, И на пaлубе читает «Ave Maria» пловец. Благодатного Успенья Светлый праздник наступил; Все окрестные селенья Звон призывный огласил; Солнце радостно и ярко, Бездна вод светла до дна, И природа, мнится, жаркой Вся молитвою полна. Все пути кипят толпами, Все блестит вдали, вдали; Убралися вымпелами Челноки и корабли; И, в один слиявшись крестный Богомольно-шумный ход, Вьется лестницей небесной По святой скале народ. Сзади, в грубых власяницах, Слезы тяжкие в очах, Бледный пост на мрачных лицах, На главе зола и прах, Идут грешные в молчанье; Им с другими не вступить В храм святой; им в покаянье Перед храмом слезы лить. И от всех других далеко Мертвецом бредет один: Щеки впалы; тускло око; Полон мрачный лоб морщин; Из железа пояс ржавый Тело чахлое гнетет, И, к ноге прильнув кровавой, Злая цепь ее грызет. Брата некогда убил он; Изломав проклятый меч, Сталь убийства обратил он В пояс; латы скинул с плеч, И в оковах, как колодник, Бродит он с тех пор и ждет, Что какой-нибудь угодник Чудом цепь с него сорвет. Бродит он, бездомный странник, Бродит много, много лет; Но прощения посланник Им не встречен; чуда нет. Смутен день, бессонны ночи, Скорбь с людьми и без людей, Вид небес пугает очи, Жизнь страшна, конец страшней. Вот, как бы дорогой терний, Тяжко к храму всходит он; В храме все молчат, вечерний Внемля благовеста звон. Стал он в страхе пред дверями: Девы лик сквозь фимиам Блещет, обданный лучами Дня, сходящего к водам. И окрест благоговенья Распростерлась тишина: Мнится, таинством Успенья Вся земля еще полна, И на облаке сияет Возлетевшей девы след, И она благословляет, Исчезая, здешний свет. Все пошли назад толпами; Но преступник не спешит Им вослед, перед дверями, Бледен ликом, он стоит: Цепи все еще вкруг тела, Ими сжатого, лежат, А душа уж улетела В град свободы, в божий град. 1832Поэмы. Повести в стихах. Сказки
Певец во стане русских войнов
Певец
На поле бранном тишина; Огни между шатрами; Друзья, здесь светит нам луна, Здесь кров небес над нами. Наполним кубок круговой! Дружнее! руку в руку! Запьем вином кровавый бой И с падшими разлуку. Кто любит видеть в чашах дно, Тот бодро ищет боя… О всемогущее вино, Веселие героя!Воины
Кто любит видеть в чашах дно, Тот бодро ищет боя… О всемогущее вино, Веселие героя!Певец
Сей кубок чадам древних лет! Вам слава, наши деды! Друзья, уже могущих нет; Уж нет вождей победы; Их домы вихорь разметал; Их гро́бы срыли плуги; И пламень ржавчины сожрал Их шлемы и кольчуги; Но дух отцов воскрес в сынах; Их поприще пред нами… Мы там найдем их славный прах С их славными делами. Смотрите, в грозной красоте, Воздушными полками, Их тени мчатся в высоте Над нашими шатрами… О Святослав, бич древних лет, Се твой полет орлиный. «Погибнем! мертвым срама нет!» Гремит перед дружиной. И ты, неверных страх, Донской, С четой двух соименных, Летишь погибленной грозой На рать иноплеменных. И ты, наш Петр, в толпе вождей. Внимайте клич: Полтава! Орды пришельца – снедь мечей, И мир взывает: слава! Давно ль, о хищник, пожирал Ты взором наши грады? Беги! твой конь и всадник пал; Твой след – костей громады; Беги! и стыд и страх сокрой В лесу с твоим Сарматом; Отчизны враг сопутник твой; Злодей владыке братом. Но кто сей рьяный великан, Сей витязь полуночи? Друзья, на спящий вражий стан Вперил он страшно очи; Его завидя в облаках, Шумящим, смутным роем На снежных Альпов высотах Взлетели тени с воем; Бледнеет Галл, дрожит Сармат В шатрах от гневных взоров… О горе! горе, супостат! То грозный наш Суворов! Хвала вам, чада прежних лет, Хвала вам, чада славы! Дружиной смелой вам во след Бежим на пир кровавый; Да мчится наш победный строй Пред нашими орлами; Да сеет, нам предтеча в бой, Погибель над врагами; Наполним кубок! меч во длань! Внимай нам, вечный Мститель! За гибель – гибель, брань – за брань, И казнь тебе, губитель!Воины
Наполним кубок! меч во длань! Внимай нам, вечный Мститель! За гибель – гибель, брань – за брань, И казнь тебе губитель!Певец
Отчизне кубок сей, друзья! Страна, где мы впервые Вкусили сладость бытия, Поля, холмы родные, Родного неба милый свет, Знакомые потоки, Златые игры первых лет И первых лет уроки, Что вашу прелесть заменит? О родина святая, Какое сердце не дрожит, Тебя благословляя? Там все – там родших милый дом; Там наши жены, чада; О нас их слезы пред творцом; Мы жизни их ограда; Там девы – прелесть наших дней, И сонм друзей бесценный, И царский трон, и прах царей, И предков прах священный. За них, друзья, всю нашу кровь! На вражьи грянем силы; Да в чадах к родине любовь Зажгут отцов могилы.Воины
За них, за них всю нашу кровь! На вражьи грянем силы; Да в чадах к родине любовь Зажгут отцов могилы.Певец
Тебе сей кубок, русский царь! Цвети твоя держава; Священный трон твой нам алтарь; Пред ним обет наш: слава. Не изменим: мы от отцов Прияли верность с кровью; О царь, здесь сонм твоих певцов, К тебе горим любовью; Наш каждый ратник славянин; Все долгу здесь послушны; Бежит предатель сих дружин, И чужд им малодушный.Воины
Не изменим: мы от отцов Прияли верность с кровью; О царь, здесь сонм твоих певцов, К тебе горим любовью;Певец
Сей кубок, ратным и вождям! В шатрах, на поле чести, И жизнь, и смерть – все пополам; Там дружество без лести, Решимость, правда, простота И нравов непритворство, И смелость – бранных простота, И твердость, и покорство. Друзья, мы чужды низких уз; К венцам стезею правой! Опасность – твердый наш союз; Одной пылаем славой. Тот наш, кто первый в бой летит На гибель супостата, Kто слабость падшего щадит И грозно мстит за брата; Он взором жизнь дает полкам; Он махом мощной длани Их мчит во сретенье врагам, В средину шумной брани; Ему веселье битвы глас, Спокоен под громами: Он свой последний видит час Бесстрашными очами. Хвала тебе, наш бодрый вождь, Герой под сединами! Как юный ратник, вихрь и дождь, И труд он делит с нами. О сколь с израненным челом Пред строем он прекрасен! И сколь он хладен пред врагом И сколь врагу ужасен! О диво! се орел пронзил Пред ним небес равнины… Могущий вождь главу склонил; Ура! кричат дружины. Лети ко прадедам, орел, Пророком славной мести! Мы тверды: вождь наш перешел Путь гибели и чести; С ним опыт, сын труда и лет; Он бодр и с сединою; Ему знаком победы след… Доверенность к герою! Нет, други, нет! Не предана Москва на расхищенье; Там стены!.. в Россах вся она; Мы здесь – и бог наш мщенье. Хвала сподвижникам-вождям! Ермолов, витязь юный, Ты ратным брат, ты жизнь полкам И страх твои перуны. Раевский, слава наших дней, Хвала! перед рядами Он первый грудь против мечей С отважными сынами. Наш Милорадович, хвала! Где он промчался с бранью, Там, мнится, смерть сама прошла С губительною дланью. Наш Витгенштейн, вождь-герой, Петрополя спаситель, Хвала!.. Он щит стране родной, Он хищных истребитель. О сколь величественный вид, Когда перед рядами, Один, склонясь на твердый щит, Он грозными очами Блюдет противников полки, Им гибель устрояет И вдруг… движением руки Их сонмы рассыпает. Хвала тебе, славян любовь, Наш Коновницын смелый!.. Ничто ему толпы врагов, Ничто мечи и стрелы; Пред ним, за ним перун гремит И пышет пламень боя… Он весел, он на гибель зрит С спокойствием героя; Себя забыл… одним врагам Готовит истребленье; Пример и ратным и вождям И смелым удивленье. Хвала, наш вихорь-Атаман; Вождь невредимых, Платов! Твой очарованный аркан Гроза для супостатов. Орлом шумишь по облакам, По полю волком рыщешь, Летаешь страхом в тыл врагам, Бедой им в уши свищешь; Они лишь к лесу – ожил лес, Деревья сыплют стрелы; Они лишь к мосту – мост исчез; Лишь к селам – пышут селы. Хвала, наш Нестор – Бенингсон! И вождь и муж совета, Блюдет врагов не дремля он, Как птиц орел с полета. Хвала, наш Остерман-герой, В час битвы ратник смелый! И Тормасов, летящий в бой, Как юноша веселый! И Багговут, среди громов, Средь копий безмятежный! И Дохтуров, гроза врагов, К победе вождь надежный! Наш твердый Воронцов, хвала! О други, сколь смутилась Вся рать славян, когда стрела В бесстрашного вонзилась; Когда полмертв, окровавлен, С потухшими очами, Он на щите был изнесен За ратный строй друзьями. Смотрите… язвой роковой К постеле пригвожденный, Он страждет, братскою толпой Увечных окруженный. Ему возглавье – бранный щит; Незыблемый в мученье, Он с ясным взором говорит: «Друзья, бедам презренье!» И в их сердцах героя речь Веселье пробуждает, И, оживясь, до полы меч Рука их обнажает. Спеши ж, о витязь наш! воспрянь; Уж ангел истребленья Горе подъял ужасну длань, И близок час отмщенья. Хвала, Щербатов, вождь младой! Среди грозы военной, Друзья, он сетует душой О трате незабвенной. О витязь, ободрись!.. она Твой спутник невидимый, И ею свыше знамена Дружин твоих хранимы. Любви и скорби оживить Твои для мщенья силы: Рази дерзнувших возмутить Покой ее могилы. Хвала, наш Пален, чести сын! Kак бурею носимый, Везде впреди своих дружин Разит, неотразимый. Наш смелый Строганов, хвала! Он жаждет чистой славы; Она из мира увлекла Его на путь кровавый… О храбрых сонм, хвала и честь! Свершайте истребленье, Отчизна к вам взывает: месть! Вселенная: спасенье! Хвала бестрепетным вождям! На конях окрыленных, По долам скачут, по горам, Вослед врагов смятенных; Днем мчатся строй на строй; в ночи Страшат, как привиденья; Блистают смертью их мечи; От стрел их нет спасенья; По всем рассыпаны путям, Невидимы и зримы; Сломили здесь; сражают там, И всюду невредимы. Наш Фигнер старцем в стан врагов Идет во мраке ночи; Как тень прокрался вкруг шатров Все зрели быстры очи… И стан еще в глубоком сне, День светлый не проглянул — А он уж, витязь, на коне, Уже с дружиной грянул. Сеславин – где ни пролетит С крылатыми полками: Там брошен в прах и меч, и щит, И устлан путь врагами. Давыдов, пламенный боец, Он вихрем в бой кровавый; Он в мире счастливый певец Вина, любви и славы. Кудашев скоком через ров И лётом на стремнину; Бросает взглядом Чернышов На меч и гром дружину; Орлов отважностью орел; И мчит грозу ударов Сквозь дым и огнь, по грудам тел, В среду врагов Кайсаров.Воины
Вожди славян, хвала и честь! Свершайте истребленье, Отчизна к вам взывает: месть! Вселенная: спасенье!Певец
Друзья, кипящий кубок сей Вождям, сраженным в бое. Уже не при́дут в сонм друзей, Не встанут в ратном строе, Уж для врага их грозный лик Не будет вестник мщенья, И не помчит их мощный клик Дружину в пыл сраженья; Их празден меч, безмолвен щит, Их ратники унылы, И сир могучих конь стоит Близ тихой их могилы. Где Кульнев наш, рушитель сил, Свирепый пламень брани? Он пал – главу на щит склонил, И стиснул меч во длани. Где жизнь судьба ему дала, Там брань его сразила; Где колыбель его была, Там днесь его могила. И тих его последний час: С молитвою священной О милой матери угас Герой наш незабвенный. A ты, Кутайсов, вождь младой… Где прелести? где младость? Увы! Он видом и душой Прекрасен был, как радость; В броне ли, грозный, выступал — Бросали смерть перуны; Во струны ль арфы ударял — Одушевлялись струны… О горе! Верный конь бежит Окровавлен из боя; На нем его разбитый щит… И нет на нем героя. И где же твой, о витязь, прах? Какою взят могилой?.. Пойдет прекрасная в слезах Искать, где пепел милый… Там чище ранняя роса, Tам зелень ароматней, И сладостней цветов краса, И светлый день приятней; И тихий дух твой прилетит Из таинственной сени; И трепет сердца возвестит Ей близость дружней тени. И ты… и ты, Багратион? Вотще друзей молитвы, Вотще их плач… во гробе он, Добыча лютой битвы. Еще дружин надежда в нем; Все мнит: с одра восстанет; И робко шепчет враг с врагом: «Увы нам! Скоро грянет». А он… навеки взор смежил Решитель бранных споров, Он в область храбрых воспарил, К тебе, отец Суворов. И честь вам, падшие друзья! Ликуйте в горней сени; Там ваша верная семья — Вождей минувших тени. Хвала вам будет оживлять И поздних лет беседы. «От них учитесь умирать!» — Так скажут внукам деды; При вашем имени вскипит В вожде ретивом пламя; Он на твердыню с ним взлетит И водрузит там знамя.Воины
При вашем имени вскипит В вожде ретивом пламя; Он на твердыню с ним взлетит И водрузит там знамя.Певец
Сей кубок мщенью! други, в строй! И к небу грозны длани! Сразить иль пасть! наш роковой Обет пред богом брани. Вотще, о враг, из тьмы племен Ты зиждешь ополченья: Они бегут твоих знамен И жаждут низложенья. Сокровищ нет у нас в домах; Там стрелы и кольчуги; Мы села – в пепел; грады – в прах; В мечи – серпы и плуги. Злодей! он лестью приманил К Москве свои дружины; Он низким миром нам грозил С кремлевския вершины. «Пойду по стогнам с торжеством! Пойду… и все восплещет! И в прах падут с своим царем!..» Пришел… и сам трепещет; Подвигло мщение Москву: Вспылала над врагами И грянулась на их главу Губящими стенами. Веди ж своих царей-рабов С их стаей в область хлада; Пробей тропу среди снегов Во сретение глада… Зима, союзник наш, гряди! Им заперт путь возвратный; Пустыни в пепле позади; Пред ними – сонмы ратны. Отведай, хищник, что сильней: Дух алчности иль мщенье? Пришлец, мы в родине своей; За правых провиденье!Воины
Отведай, хищник, что сильней: Дух алчности иль мщенье? Пришлец, мы в родине своей; За правых провиденье!Певец
Святому братству сей фиал От верных братий круга! Блажен, кому создатель дал Усладу жизни, друга; С ним счастье вдвое; в скорбный час Он сердцу утешенье; Он наша совесть; он для нас Второе провиденье. О! будь же, други, святость уз Закон наш пред шатрами; Написан кровью наш союз: И жить и пасть друзьями.Воины
О! будь же, други, святость уз Закон наш пред шатрами; Написан кровью наш союз: И жить и пасть друзьями.Певец
Любви сей полный кубок в дар! Среди борьбы кровавой, Друзья, святой питайте жар: Любовь одно со славой. Кому здесь жребий уделен Знать тайну страсти милой, Кто сердцем сердцу обручен, Тот смело, с бодрой силой На все великое летит; Нет страха; нет преграды; Чего, чего не совершит Для сладостной награды? Ах! мысль о той, кто все для нас, Нам спутник неизменный; Везде знакомый слышим глас, Зрим образ незабвенный; Она на бранных знаменах; Она в пылу сраженья; И в шуме стана, и в мечтах Веселых сновиденья. Отведай, враг, исторгнуть щит, Рукою данный милой; Святой обет на нем горит: Твоя и за могилой! О сладость тайныя мечты! Там, там за синей далью Твой ангел, дева красоты, Одна с своей печалью, Грустит о друге, слезы льет; Душа ее в молитве, Боится вести, вести ждет: «Увы! не пал ли в битве?» И мыслит: «Скоро ль, дружний глас, Твои мне слышать звуки? Лети, лети, свиданья час, Сменить тоску разлуки». Друзья! блаженнейшая часть: Любезных быть спасеньем. Когда ж предел наш в битве пасть — Погибнем с наслажденьем; Святое имя призовем В минуту смертной муки; Кем мы дышали в мире сем, С той нет и там разлуки: Туда душа перенесет Любовь и образ милой… О други, смерть не все возьмет; Есть жизнь и за могилой.Воины
Туда душа перенесет Любовь и образ милой… О други, смерть не все возьмет; Есть жизнь и за могилой.Певец
Сей кубок чистым музам в дар! Друзья, они в героя Вливают бодрость, славы жар, И месть, и жажду боя. Гремят их лиры – стар и млад Оделись в бранны латы: Ничто им стрел свистящих град, Ничто твердынь раскаты. Певцы – сотрудники вождям: Их песни – жизнь победам, И внуки, внемля их струнам, В слезах дивятся дедам. О радость древних лет, Боян! Ты, арфой ополченный, Летал пред строями славян, И гимн гремел священный. Петру возник среди снегов Певец – податель славы; Честь Задунайскому – Петров. О камские дубравы, Гордитесь, ваш Державин-сын! Готовь свои перуны, Суворов, чудо-исполин — Державин грянет в струны. О старец! Да услышим твой Днесь голос лебединый: Не тщетной славы пред тобой, Но мщения дружины; Простерли не к добычам длань, Бегут не за венками — Их подвиг свят: то правых брань С злодейскими ордами. Пришло разрушить их мечам Племен порабощенье; Самим губителя рабам Победы их – спасенье. Так, братья, чадам Муз хвала!.. Но я, певец ваш юный… Увы! почто судьба дала Незвучные мне струны? Доселе тихим лишь полям Mоя играла лира… Вдруг жребий выпал: к знаменам! Прости и сладость мира, И отчий край, и круг друзей, И труд уединенный, И все… я там, где стук мечей, Где ужасы военны. Но буду ль ваши петь дела И хищных истребленье? Быть может, ждет меня стрела, И мне удел – паденье. Но что ж… навеки ль смертный час Мой след изгладит в мире? Останется привычный глас В осиротевшей лире. Пускай губителя во прах Низринет месть кровава — Родится жизнь в ее струнах, И звучно грянут: слава!Воины
Хвала возвышенным певцам! Их песни – жизнь победам; И внуки, внемля их струнам, В слезах дивятся дедам.Певец
Подымем чашу!.. Богу сил! О братья, на колена! Он искони благословил Славянские знамена. Бессильным щит его закон, И гибнущим спаситель; Всегда союзник правых он И гордых истребитель. О братья, взоры к небесам! Там жизни сей награда! Оттоль отец незримый нам Гласит: мужайтесь, чада! Бессмертье, тихий, светлый брег, Наш путь – к нему стремленье. Покойся, кто свой кончил бег! Вы странники, терпенье! Блажен, кого постигнул бой! Пусть долго, с жизнью хилой, Старик трепещущей ногой Влачится над могилой; Сын брани мигом ношу в прах С могучих плеч свергает И, бодр, на молнийных крылах В мир лучший улетает. А мы?.. Доверенность к творцу! Что б ни было – незримый Ведет нас к лучшему концу Стезей непостижимой. Ему, друзья, отважно вслед! Прочь, низкое! прочь, злоба! Дух бодрый на дороге бед, До самой двери гроба; В высокой доле – простота; Нежадность – в наслажденье; В союзе с ровным – правота; В могуществе – смиренье. Обетам – вечность; чести – честь; Покорность – правой власти; Для дружбы – все, что в мире есть; Любви – весь пламень страсти; Утеха – скорби; просьбе – дань, Погибели – спасенье; Могущему пороку – брань; Бессильному – презренье; Неправде – грозный правды глас; Заслуге – воздаянье; Спокойствие – в последний час; При гробе – упованье. О! будь же, русский бог, нам щит! Прострешь твою десницу — И мститель-гром твой раздробит Коня и колесницу. Как воск перед лицом огня, Растает враг пред нами… О страх карающего дня! Бродя окрест очами, Речет пришлец: «Врагов я зрел; И мнил: земли им мало; И взор их гибелью горел; Протек – врагов не стало!»Воины
Речет пришлец: «Врагов я зрел; И мнил: земли им мало; И взор их гибелью горел; Протек – врагов не стало!»Певец
Но светлых облаков гряда Уж утро возвещает; Уже восточная звезда Над холмами играет; Редеет сумрак; сквозь туман Проглянули равнины, И дальний лес, и тихий стан, И спящие дружины. О други, скоро!.. день грядет… Недвижны рати бурны… Но… Рок уж жребии берет Из та́инственной урны. О новый день, когда твой свет Исчезнет за холмами, Сколь многих взор наш не найдет Меж нашими рядами!. И он блеснул!.. Чу!.. вестовой Перун по холмам грянул; Внимайте: в поле шум глухой! Смотрите: стан воспрянул! И кони ржут, грызя бразды; И строй сомкнулся с строем; И вождь летит перед ряды; И пышет ратник боем. Друзья, прощанью кубок сей! И смело в бой кровавый Под вихорь стрел, под ряд мечей, За смертью иль за славой… О вы, которых и вдали Боготворим сердцами, Вам, вам все блага на земли! Щит промысла над вами!.. Всевышний царь, благослови! A вы, друзья, лобзанье В завет: здесь верныя любви, Там сладкого свиданья!Воины
Всевышний царь, благослови! А вы, друзья, лобзанье В завет: здесь верныя любви, Там сладкого свиданья! Сентябрь — начало (до 6) октября 1812Шильонский узник Повесть
Замок Шильон – в котором с 1530 по 1537 заключен был знаменитый Бонивар, женевский гражданин, мученик веры и патриотизма – находится между Клараном и Вильневом, у самых восточных берегов Женевского озера (Лемана). Из окон его видны с одной стороны устье Роны, долина, ведущая к Сен-Морицу и Мартиньи, снежные Валлизские горы и высокие утесы Мельери; а с другой – Монтре, Шателар, Кларан, Веве, множество деревень и замков; пред ним расстилается необъятная равнина вод, ограниченная в отдалении низкими голубыми берегами, на которых, как светлые точки, сияют Лозанна, Морж и Ролль; а позади его падает с холма шумный поток. Он со всех сторон окружен озером, которого глубина в этом месте простирается до восьмисот французских футов. Можно подумать, что он выходит из воды, ибо совсем не видно утеса, служащего ему основанием: где кончится поверхность озера, там начинаются крепкие стены замка. Темница, в которой страдал несчастный Бонивар, до половины выдолблена в гранитном утесе: своды ее, поддерживаемые семью колоннами, опираются на дикую, необтесанную скалу; на одной из колонн висит еще то кольцо, к которому была прикреплена цепь Бониварова; а на полу, у подошвы той же колонны, заметна впадина, вытоптанная ногами несчастного узника, который столько времени принужден был ходить на цепи своей все по одному месту. Неподалеку от устья Роны, вливающейся в Женевское озеро, недалеко от Вильнева, находится небольшой островок, единственный на всем пространстве Лемана; он неприметен, когда плывешь по озеру, но его можно легко различить из окон замка.
I
Взгляните на меня: я сед, Но не от хилости и лет; Не страх незапный в ночь одну До срока дал мне седину. Я сгорблен, лоб наморщен мой, Но не труды, не хлад, не зной — Тюрьма разрушила меня. Лишенный сладостного дня, Дыша без воздуха, в цепях, Я медленно дряхлел и чах, И жизнь казалась без конца. Удел несчастного отца — За веру смерть и стыд цепей — Уделом стал и сыновей. Нас было шесть – пяти уж нет. Отец, страдалец с юных лет, Погибший старцем на костре, Два брата, падшие во пре, Отдав на жертву честь и кровь, Спасли души своей любовь. Три заживо схоронены На дне тюремной глубины — И двух сожрала глубина; Лишь я, развалина одна, Себе на горе уцелел, Чтоб их оплакивать удел.II
На лоне вод стоит Шильон; Там, в подземелье, семь колонн Покрыты влажным мохом лет. На них печальный брезжит свет — Луч, ненароком с вышины Упавший в трещину стены И заронившийся во мглу. И на сыром тюрьмы полу Он светит тускло-одинок, Как над болотом огонек, Во мраке веющий ночном. Колонна каждая с кольцом; И цепи в кольцах тех висят; И тех цепей железо – яд; Мне в члены вгрызлося оно; Не будет ввек истреблено Клеймо, надавленное им. И день тяжел глазам моим, Отвыкнувшим столь давних лет Глядеть на радующий свет; И к воле я душой остыл С тех пор, как брат последний был Убит неволей предо мной И рядом с мертвым я, живой, Терзался на полу тюрьмы.III
Цепями теми были мы К колоннам тем пригвождены, Хоть вместе, но разлучены; Мы шагу не могли ступить, В глаза друг друга различить Нам бледный мрак тюрьмы мешал. Он нам лицо чужое дал — И брат стал брату незнаком. Была услада нам в одном: Друг другу голос подавать, Друг другу сердце пробуждать Иль былью славной старины, Иль звучной песнию войны — Но скоро то же и одно Во мгле тюрьмы истощено; Наш голос страшно одичал, Он хриплым отголоском стал Глухой тюремныя стены; Он не был звуком старины В те дни, подобно нам самим, Могучим, вольным и живым! Мечта ль?.. но голос их и мой Всегда звучал мне как чужой.IV
Из нас троих я старший был; Я жребий собственный забыл, Дыша заботою одной, Чтоб им не дать упасть душой. Наш младший брат – любовь отца… Увы! черты его лица И глаз умильная краса, Лазоревых, как небеса, Напоминали нашу мать. Он был мне все – и увядать При мне был должен милый цвет, Прекрасный, как тот дневный свет, Который с неба мне светил, В котором я на воле жил. Как утро, был он чист и жив: Умом младенчески-игрив, Беспечно весел сам с собой… Но перед горестью чужой Из голубых его очей Бежали слезы, как ручей.V
Другой был столь же чист душой, Но дух имел он боевой: Могуч и крепок, в цвете лет, Рад вызвать к битве целый свет И в первый ряд на смерть готов… Но без терпенья для оков. И он от звука их завял! Я чувствовал, как погибал, Как медленно в печали гас Наш брат, незримый нам, близ нас; Он был стрелок, жилец холмов, Гонитель вепрей и волков — И гроб тюрьма ему была; Неволи сила не снесла.VI
Шильон Леманом окружен, И вод его со всех сторон Неизмерима глубина; В двойную волны и стена Тюрьму совокупились там; Печальный свод, который нам Могилой заживо служил, Изрыт в скале подводной был; И день и ночь была слышна В него биющая волна И шум над нашей головой Струй, отшибаемых стеной. Случалось – бурей до окна Бывала взброшена волна, И брызгов дождь нас окроплял; Случалось – вихорь бушевал, И содрогалася скала; И с жадностью душа ждала, Что рухнет и задавит нас: Свободой был бы смертный час!VII
Середний брат наш – я сказал — Душой скорбел и увядал. Уныл, угрюм, ожесточен, От пищи отказался он: Еда тюремная жестка; Но для могучего стрелка Нужду переносить легко. Нам коз альпийских молоко Сменила смрадная вода; А хлеб наш был, какой всегда — С тех пор как цепи созданы — Слезами смачивать должны Невольники в своих цепях. Не от нужды скорбел и чах Мой брат: равно завял бы он, Когда б и негой окружен Без воли был… Зачем молчать? Он умер… я ж ему подать Руки не мог в последний час, Не мог закрыть потухших глаз; Вотще я цепи грыз и рвал — Со мною рядом умирал И умер брат мой, одинок; Я близко был – и был далек. Я слышать мог, как он дышал, Как он дышать переставал, Как вздрагивал в цепях своих И как ужасно вдруг затих Во глубине тюремной мглы… Они, сняв с трупа кандалы, Его без гроба погребли В холодном лоне той земли, На коей он невольник был. Вотще я их в слезах молил, Чтоб брату там могилу дать, Где мог бы дне́вный луч сиять; То мысль безумная была, Но душу мне она зажгла: Чтоб волен был хоть в гробе он. «В темнице, мнил я, мертвых сон Не тих…» Но был ответ слезам Холодный смех; и брат мой там В сырой земле тюрьмы зарыт, И в головах его висит Пук им оставленных цепей: Убийц достойный мавзолей.VIII
Но он – наш милый, лучший цвет, Наш ангел с колыбельных лет, Сокровище семьи родной, Он – образ матери душой И чистой прелестью лица, Мечта любимая отца, Он – для кого я жизнь щадил, Чтоб он бодрей в неволе был, Чтоб после мог и волен быть… Увы! он долго мог сносить С младенческою тишиной, С терпеньем ясным жребий свой: Не я ему – он для меня Подпорой был… Вдруг день от дня Стал упадать, ослабевал, Грустил, молчал и молча вял. О боже! боже! страшно зреть, Как силится преодолеть Смерть человека… я видал, Как ратник в битве погибал; Я видел, как пловец тонул С доской, к которой он прильнул С надеждой гибнущей своей; Я зрел, как издыхал злодей С свирепой дикостью в чертах, С богохуленьем на устах, Пока их смерть не заперла; Но там был страх – здесь скорбь была Болезнь глубокая души. Смиренным ангелом, в тиши, Он гас, столь кротко-молчалив, Столь безнадежно-терпелив, Столь грустно-томен, нежно-тих. Без слез, лишь помня о своих И обо мне… Увы! он гас, Как радуга, пленяя нас, Прекрасно гаснет в небесах; Ни вздоха скорби на устах; Ни ропота на жребий свой; Лишь слово изредка со мной О наших прошлых временах, О лучших будущего днях, Об упованье… но, объят Сей тратой, горшею из трат, Я был в свирепом забытьи. Вотще, кончаясь, он свои Терзанья смертные скрывал… Вдруг реже, трепетнее стал Дышать, и вдруг умолкнул он… Молчаньем страшным пробужден, Я вслушиваюсь… тишина! Кричу как бешеный… стена Откликнулась… и умер гул… Я цепь отчаянно рванул И вырвал… К брату – брата нет! Он на столбе – как вешний цвет, Убитый хладом, – предо мной Висел с поникшей головой. Я руку тихую поднял; Я чувствовал, как исчезал В ней след последней теплоты; И мнилось, были отняты Все силы у души моей; Все страшно вдруг сперлося в ней; Я дико по тюрьме бродил — Но в ней покой ужасный был, Лишь веял от стены сырой Какой-то холод гробовой; И, взор на мертвого вперив, Я знал лишь смутно, что я жив. О! сколько муки в знанье том, Когда мы тут же узнаем, Что милому уже не быть! И миг тот мог я пережить! Не знаю – вера ль то была, Иль хладность к жизни жизнь спасла?IX
Но что потом сбылось со мной, Не помню… Свет казался тьмой, Тьма – светом; воздух исчезал; В оцепенении стоял, Без памяти, без бытия, Меж камней хладным камнем я; И виделось, как в тяжком сне, Все бледным, темным, тусклым мне; Все в мутную слилося тень; То не было ни ночь, ни день, Ни тяжкий свет тюрьмы моей, Столь ненавистный для очей: То было тьма без темноты; То было бездна пустоты Без протяженья и границ; То были образы без лиц; То страшный мир какой-то был, Без неба, света и светил, Без времени, без дней и лет, Без промысла, без благ и бед, Ни жизнь, ни смерть – как сон гробов, Как океан без берегов, Задавленный тяжелой мглой, Недвижный, темный и немой.X
Вдруг луч незапный посетил Мой ум… то голос птички был. Он умолкал; он снова пел; И мнилось, с неба он летел; И был утешно-сладок он. Им очарован, оживлен, Заслушавшись, забылся я. Но ненадолго… мысль моя Стезей привычною пошла, И я очнулся… и была Опять передо мной тюрьма, Молчанье то же, та же тьма; Как прежде, бледною струей Прокрадывался луч дневной В стенную скважину ко мне… Но там же, в свете, на стене И мой певец воздушный был: Он трепетал, он шевелил Своим лазоревым крылом; Он озарен был ясным днем; Он пел приветно надо мной… Как много было в песне той! И все то было – про меня! Ни разу до того я дня Ему подобного не зрел! Как я, казалось, он скорбел О брате, и покинут был; И он с любовью навестил Меня тогда, как ни одним Уж сердцем не был я любим; И в сладость песнь его была: Душа невольно ожила. Но кто ж он сам был, мой певец? Свободный ли небес жилец? Или, недавно от цепей, По случаю к тюрьме моей, Играя в небе, залетел И о свободе мне пропел? Скажу ль?.. Мне думалось порой, Что у меня был не земной, А райский гость; что братний дух Порадовать мой взор и слух Примчался птичкою с небес… Но утешитель вдруг исчез; Он улетел в сиянье дня… Нет, нет, то не был брат… меня Покинуть так не мог бы он, Чтоб я, с ним дважды разлучен, Остался вдвое одинок, Как труп меж гробовых досок.XI
Вдруг новое в судьбе моей: К душе тюремных сторожей Как будто жалость путь нашла; Дотоле их душа была Бесчувственней желез моих; И что разжалобило их? Что милость вымолило мне, Не знаю… но опять к стене Уже прикован не был я; Оборванная цепь моя На шее билася моей; И по тюрьме я вместе с ней Вдоль стен, кругом столбов бродил, Не смея братних лишь могил Дотронуться моей ногой, Чтобы последния земной Святыни там не оскорбить.XII
И мне оковами прорыть Ступени удалось в стене; Но воля не входила мне И в мысли… я был сирота, Мир стал чужой мне, жизнь пуста, С тюрьмой я жизнь сдружил мою: В тюрьме я всю свою семью, Все, что знавал, все, что любил, Невозвратимо схоронил, И в области веселой дня Никто уж не жил для меня; Без места на пиру земном, Я был бы лишний гость на нем, Как облако при ясном дне, Потерянное в вышине И в радостных его лучах Ненужное на небесах… Но мне хотелось бросить взор На красоту знакомых гор, На их утесы, их леса, На близкие к ним небеса.XIII
Я их увидел – и оне Все были те ж: на вышине Веков создание – снега, Под ними Альпы и луга, И бездна озера у ног, И Роны блещущий поток Между зеленых берегов; И слышен был мне шум ручьев, Бегущих, бьющих по скалам; И по лазоревым водам Сверкали ясны облака; И быстрый парус челнока Между небес и вод летел; И хижины веселых сел, И кровы светлых городов Сквозь пар мелькали вдоль брегов… И я приметил островок: Прекрасен, свеж, но одинок В пространстве был он голубом; Цвели три дерева на нем, И горный воздух веял там По мураве и по цветам, И воды были там живей, И обвивалися нежней Кругом родных брегов оне. И видел я: к моей стене Челнок с пловцами приставал, Гостил у брега, отплывал И, при свободном ветерке Летя, скрывался вдалеке; И в облаках орел играл, И никогда я не видал Его столь быстрым – то к окну Спускался он, то в вышину Взлетал – за ним душа рвалась; И слезы новые из глаз Пошли, и новая печаль Мне сжала грудь… мне стало жаль Моих покинутых цепей. Когда ж на дно тюрьмы моей Опять сойти я должен был — Меня, казалось, обхватил Холодный гроб; казалось, вновь Моя последняя любовь, Мой милый брат передо мной Был взят несытою землей; Но как ни тяжко ныла грудь — Чтоб от страданья отдохнуть, Мне мрак тюрьмы отрадой был.XIV
День приходил, день уходил, Шли годы – я их не считал: Я, мнилось, память потерял О переменах на земли. И люди наконец пришли Мне волю бедную отдать. За что и как? О том узнать И не помыслил я – давно Считать привык я за одно: Без цепи ль я, в цепи ль я был, Я безнадежность полюбил; И им я холодно внимал, И равнодушно цепь скидал, И подземелье стало вдруг Мне милой кровлей… там все друг, Все однодомец было мой: Паук темничный надо мной Там мирно ткал в моем окне; За резвой мышью при луне Я там подсматривать любил; Я к цепи руку приучил; И… столь себе неверны мы! — Когда за дверь своей тюрьмы На волю я перешагнул — Я о тюрьме своей вздохнул. 4 сентября 1821 – начало апреля 1822Перчатка Повесть
Перед своим зверинцем, С баронами, с наследным принцем, Король Франциск сидел; С высокого балкона он глядел На поприще, сраженья ожидая; За королем, обворожая Цветущей прелестию взгляд, Придворных дам являлся пышный ряд. Король дал знак рукою — Со стуком растворилась дверь, И грозный зверь С огромной головою, Косматый лев Выходит; Кругом глаза угрюмо водит; И вот, все оглядев, Наморщил лоб с осанкой горделивой, Пошевелил густою гривой, И потянулся, и зевнул, И лег. Король опять рукой махнул — Затвор железной двери грянул, И смелый тигр из-за решетки прянул; Но видит льва, робеет и ревет, Себя хвостом по ребрам бьет, И крадется, косяся взглядом, И лижет морду языком, И, обошедши льва кругом, Рычит и с ним ложится рядом. И в третий раз король махнул рукой — Два барса дружною четой В один прыжок над тигром очутились; Но он удар им тяжкой лапой дал, А лев с рыканьем встал… Они смирились, Оскалив зубы, отошли, И зарычали, и легли. И гости ждут, чтоб битва началася. Вдруг женская с балкона сорвалася Перчатка… все глядят за ней… Она упала меж зверей. Тогда на рыцаря Делоржа с лицемерной И колкою улыбкою глядит Его красавица и говорит: «Когда меня, мой рыцарь верный, Ты любишь так, как говоришь, Ты мне перчатку возвратишь». Делорж, не отвечав ни слова, К зверям идет. Перчатку смело он берет И возвращается к собранью снова. У рыцарей и дам при дерзости такой От страха сердце помутилось; А витязь молодой, Как будто ничего с ним не случилось, Спокойно всходит на балкон; Рукоплесканьем встречен он; Его приветствуют красавицыны взгляды… Но, холодно приняв привет ее очей, В лицо перчатку ей Он бросил и сказал: «Не требую награды». Март 1831Ундина Старинная повесть
Бывали дни восторженных видений; Моя душа поэзией цвела; Ко мне летал с вестями чудный Гений; Природа вся мне песнию была. Оно прошло, то время золотое; С природы снят магический венец; Свет узнанный свое лицо земное Разоблачил, и призракам конец. Но о Мечте, как о весенней птичке, Певавшей мне, с усладой помню я; И Прелести явленьем по привычке Любуется, как встарь, душа моя. Здесь есть одна – жива как вдохновенье, Как ясная надежда молода — На душу мне ее одно явленье Поэзию наводит завсегда… Перед пустой когда-то колыбелью Задумчиво-безмолвен я стоял. «Кто обречен святому новоселью Тобой в жильцы?» – судьбу я вопрошал. И с первою блеснувшей мне денницей Уж милый гость в той колыбели был; Он в ней лежал под царской багряницей, Прекрасен, тих, как божий ангел мил. Года прошли – и мой расцвел младенец, Прекрасен, тих, как божий ангел мил; И мнится мне, что неба уроженец Утехой в нем на землю прислан был. Его-то я порою здесь встречаю, Как чистую Поэзию мою; Им иногда я душу воскрешаю; При нем подчас, забывшись, и пою.Глава I О том, как рыцарь приехал в хижину рыбака
Лет за пятьсот и поболе случилось, что в ясный весенний Вечер сидел перед дверью избушки своей престарелый Честный рыбак и починивал сеть. Сторона та, в которой Жил он, была прекрасное место. Луг, где стояла Хижина, длинной косою входил в широкое лоно Моря: можно было подумать, что берег душистый В светло-лазурные, чудно-прозрачные воды с любовью Нежной теснился, что море, влажной трепещущей грудью Нежно прижавшись к нему и его обнимая, пленялось Свежестью шелковой зелени, блеском цветов и прохладой Темных сеней древесных. Правда, в краю том немного Было людей: рыбак с женою, и только; дремучий Лес отделял полуостров от твердой земли. И ужасен Был тот лес своей темнотой неприступной; и слухи Страшные были об нем в народе; там было нечисто: Злые духи гнездилися в нем и пугали прохожих Так, что не смели и близко к нему подходить. Но смиренный Старый рыбак не боялся враждебных духов; на продажу Рыбу носил он в город, лежавший за лесом; полон Набожных мыслей, входил он в его глубину, и ни разу Там ничего он не встретил, хранимый небесною силой. Сидя беспечно в тот вечер за неводом, вдруг он услышал Шум в лесу, как будто бы топот коня и железной Брони звук; он слушает: шум приближается; робость Им овладела, и все, что до тех пор в ненастные ночи Снилось ему о таинственном лесе, представилось разом Мыслям его; особливо ж один, великанского роста, Белый, всегда головою странно кивающий. В темный Лес он со страхом глядит, и ему показалось, что в самом Деле сквозь черные ветви смотрит кивающий призрак. Вспомнив, однако, что все никакой еще не случилось С ним беды ни в лесу, ни в избушке, в которой так долго Жил он с женою вдвоем, что нечистый над ними не властен, Он ободрился, прочел молитву, и сделалось скоро Даже ему и смешно, когда он увидел, какую Шутку с ним глупая робость сыграла: кивающий образ Был не что иное, как быстрый ручей, из средины Леса бегущий и с пеной впадающий в озеро; шум же, Слышанный им, был от рыцаря: шагом на белом Бодром коне из чащи лесной он ехал и прямо К хижине их приближался. Мантией алого цвета Был покрыт его фиолетовый, золотом шитый Стройный колет; на бархатном черном берете вилися Белые перья; висел у бедра на цепи драгоценной Меч с золотой рукоятью искусной работы; а белый Рыцарев конь был статен, силен и жив; он, копытом Легким едва к луговой мураве прикасаясь, воздушной Поступью шел и, сгибая красивую шею, как лебедь, Грыз узду, облитую пеной. Старик, пораженный Видом статного рыцаря, невод покинул и, снявши Шляпу, смотрел на него с приветной улыбкой. Приближась, Рыцарь сказал: «Могу ль я с конем найти здесь на эту Ночь убежище?» – «Милости просим, гость благородный; Лучшим стойлом будут коню твоему наш зеленый Луг, под кровлей ветвистых дерев; а вкусную пищу Сам он найдет у себя под ногами; тебе ж мы охотно Угол очистим в нашем убогом жилище и ужин Скудный с тобою разделим». Рыцарь, кивнув головою, Спрыгнул с коня, его разнуздал и по свежему лугу Бегать пустил; потом сказал рыбаку: «Ты охотно, Добрый старик, принимаешь меня, но когда б и не столько Был ты сговорчив, то все бы со мной не разделался нынче; Море, вижу я, здесь перед нами, и дале дороги Нет никакой; а вечером поздно в этот проклятый Лес возвращаться избави боже!» – «Не станем об этом Слишком много теперь говорить», – сказал, озираясь, Старый рыбак и в хижину ввел усталого гостя. Там, перед ярким огнем, горевшим в камине и в чистой Горнице трепетный блеск разливавшим, на стуле широком С спинкой резною сидела жена рыбака пожилая. Гостя увидев, старушка встала, ему поклонилась Чинно и села опять, ему отдать не подумав Место свое. Рыбак, засмеявшись, сказал: «Благородный Рыцарь, прошу не взыскать, что хозяйка моя свой покойный Стул для себя сберегла: у нас такой уж обычай; Лучшее место всегда старикам уступается». – «Что ты, Дедушка! – с кроткой усмешкой сказала хозяйка. – Ведь гость наш, Верно, такой же Христов человек, как и мы, и придет ли, Сам ты скажи, молодому на ум, чтоб ему уступали Старые люди лучшее место? Садися, мой добрый Рыцарь, на эту скамейку, – она продолжала, – да только Тише сиди, не ворочайся, ножка одна ненадежна». Рыцарь взял осторожно скамейку, придвинул к камину, Сел, и сердцу его так стало приютно, как будто б Был он у милых родных, возвратяся из чужи в отчизну. Стали они разговаривать. Рыцарь разведать о страшном Лесе хотел, но рыбак ночною порою боялся Речь о нем заводить; зато о своей одинокой Жизни и промысле трудном своем рассказывал много. С жадностью слушали муж и жена, когда говорил им Рыцарь о том, как в разных землях он бывал, как отцовский Замок его у истоков Дуная стоит, как прекрасна Та сторона; он прибавил: «Меня называют Гульбрандом, Имя же замка Рингштеттен». Так говоря, не однажды Рыцарь слышал какой-то шорох и плеск за окошком, Точно как будто водой кто опрыскивал стекла снаружи. Всякий раз с досадой нахмуривал брови, послышав плесканье, Старый рыбак; но когда же как ливнем вдруг обдало стекла, Так, что окно зазвенело и в горницу брызги влетели, С сердцем вскочил он и крикнул в окошко с угрозой: «Ундина! Полно проказничать; стыдно; в хижине гости». При этом Слове стало там тихо, лишь изредка слышен был легкий Шепот, как будто бы кто потихоньку смеялся. «Почтенный Гость, не взыщи, – сказал рыбак, возвратившись на место. — Может быть, шалостей много еще ты увидишь, но злого Умысла нет у нее. То наша дочка Ундина, Только не дочка родная, а найденыш; сущий младенец, Все проказит, а будет ей лет уж осьмнадцать; но сердце Самое доброе в ней». Покачав головою, старушка Молвила: «Так говорить ты волен; когда ты усталый С ловли приходишь домой, то тебе на досуге забавны Эти проказы; но, с утра до вечера дома глаз на глаз С нею пробыв, от нее не добиться путного слова — Дело иное; тут и святой потеряет терпенье». — «Полно, старуха, – рыбак отвечал, – ты бьешься с Ундиной, Я с причудливым морем: разве не часто мой невод Портит оно и плотины мои размывает, а все мне Любо с ним: то же и ты, хоть порою и охнешь, однако Все Ундиночку любишь. Не так ли? – «Что правда, то правда; Вовсе ее разлюбить уж нельзя», – кивнув головою, Кротко сказала старушка. Вдруг растворилася настежь Дверь; и в нее, белокурая, легкая станом, с веселым Смехом впорхнула Ундина, как что-то воздушное. «Где же Гости, отец? Зачем ты меня обманул?» Но, увидя Рыцаря, вдруг замолчала она, и глаза голубые, Вспыхнув звездами под сумраком черных ресниц, устремились Быстро на гостя, а он, изумленный чудным явленьем, Был как вкопанный, жадно смотрел на нее и боялся Взор отвести: он думал, что видит сон, вглядеться В образ прекрасный спешил, пока он не скрылся. Ундина Долго смотрела, пурпурные губки раскрыв, как младенец; Вдруг, встрепенувшись резвою птичкой, она подбежала К рыцарю, стала пред ним на колена и, цепью блестящей, К коей привешен был меч, играя, сказала: «Прекрасный, Милый гость, какою судьбой очутился ты в нашей Хижине? Долго ты по свету должен был странствовать, прежде Нежели к нам дорогу найти? Скажи, через лес наш Как ты проехал?» Но он отвечать не успел; на Ундину Крикнула с сердцем старушка: «Оставь в покое, Ундина, Гостя; встань и возьмись за работу». Ундина, ни слова Ей не сказавши в ответ, схватила скамейку и, севши Подле Гульбранда с своим рукодельем, тихонько шепнула: «Вот где я буду работать». Старик притворясь, что не видит Новой проказы ее, хотел продолжать; но Ундина Речь перебила его: «У тебя я спросила, мой милый Гость, откуда приехал ты к нам? Дождусь ли ответа?» — «Из лесу прямо приехал я, прелесть моя». – «Расскажи же, Как ты в лесу очутился и что в нем чудного видел?» Трепет почувствовал рыцарь, вспомнив о лесе; невольно Он обратил глаза на окошко, в которое кто-то Белый, ему показалось, глядел; но было в окошке Пусто, за стеклами ночь густая чернела. Собравшись С духом, рассказ он готов был начать, но старик торопливо Молвил ему: «Недоброе время теперь нам об лесе Речь заводить; расскажешь нам завтра». Услышавши это, С места вскочила Ундина, и глазки ее засверкали. «Нынче, не завтра он должен рассказывать! нынче, теперь же!» — Вскрикнула с сердцем она и, бровки угрюмо нахмурив, Топнула маленькой ножкою об пол; и в эту минуту Так забавно мила и прелестна была, что в Гульбранде Вспыхнуло сердце, и он еще боле пленился смешною, Детской ее запальчивостью, нежели резвостью прежней. Но рыбак, рассердясь не на шутку, причудницу начал Крепко журить за ее упрямство и дерзкую вольность С гостем. Старушка пристала к нему. Тут Ундина сказала: «Если браниться хотите со мной, а того не хотите Сделать, о чем я прошу, так прощайте ж; одни оставайтесь В вашей скучной, дымной лачужке». С сими словами Прыгнула в двери она и в минуту во мраке пропала.Глава II О том, как Ундина в первый раз явилась в хижине рыбака
Рыцарь вскочил, за ним и рыбак, и бросились оба В дверь, чтоб ее удержать, но напрасно: Ундина так быстро Скрылась, что даже было нельзя догадаться, в какую Сторону вздумалось ей побежать. Испуганным взором Рыцарь спросил рыбака: что делать? «Уж это не в первый Раз, – рыбак проворчал, – такими побегами часто Нас забавляет она; теперь опять мне придется Целую ночь напролет без сна проворочаться с боку На бок на жесткой постеле моей: ведь мало ль, что может Встретиться ночью!» – «Зачем же медлить? Пойдем поскорее Сами за нею». – «Труд бесполезный; ты видишь, какая Тьма на дворе: куда мы пойдем? И кто угадает, Где она спряталась?» – «Будем, по крайней мере, – прибавил Рыцарь, – хоть кликать ее». И кричать он начал: «Ундина! Где ты, Ундина?» Старик покачал головою: «Как хочешь, Рыцарь, кричи, она не откликнется нам, а уж верно Где-нибудь близко сидит; еще ты не знаешь, какая Это упрямица». Так говоря, старик с беспокойством В темную ночь глядел и не мог утерпеть, чтоб туда же Вслед за Гульбрандом не крикнуть: «Ундиночка! милая! где ты?» Правду, однако, он предсказал: никакой там Ундины Не было. Долго кричав понапрасну, они наконец возвратились Оба в хижину; там уж было темно, и старушка, Менее мужа о том, что с Ундиной случится, заботясь, Спать улеглась, и в камине огонь, догоревши, потухнул; Только немногие уголья тлели, и синее пламя, Изредка вспыхнув, трепещущий свет разливало и гасло. Снова разведши огонь, рыбак наполнил большую Кружку вином и поставил ее перед гостем. «Мы оба, Рыцарь, едва ли заснем; так не лучше ли будет, когда мы, Вместо того чтоб в бессоннице жесткой рогожей Грешное тело тереть, посидим у огня и за доброй Кружкой вина о том и другом побеседуем? Как ты Думаешь, добрый мой гость?» Гульбранд согласился охотно. Сесть принудив его на почетном оставленном стуле, Честный старик поместился с ним рядом, и вот дружелюбно Стали они разговаривать; только при каждом малейшем Шорохе – стукнет ли что в окошко, и даже нередко Просто без всякого стука и шороха – вдруг умолкали Оба и, палец поднявши, глаза неподвижно уставив В двери, слушали; каждый шептал: «идет!» и не тут-то Было; не шел никто; и, вздохнувши, они начинали Снова свой разговор. «Расскажи мне, – сказал напоследок Рыцарь, – как вам случилось найти Ундину?» – «А вот как Это случилось, – рыбак отвечал. – Тому уж двенадцать Будет лет, как я с товаром моим через этот Лес был должен отправиться в город; жену я оставил Дома, как то бывало всегда, а в то время и нужно Было ей дома остаться. Зачем, ты спросишь? Господь нам В поздние наши лета даровал прекрасную дочку; Как же было покинуть ее? Товар мой продавши, Я возвращался домой, и, солгать не хочу, не случилось Мне ничего, как и прежде, в лесу недоброго встретить; Бог мне сопутствовал всякий раз, когда через этот Страшный лес мне идти удавалось: а с ним и опасный Путь не опасен». При этом слове старик с умиленным Видом шапочку снял с головы и, руки сложивши, В набожных мыслях минуты на две умолкнул; потом он Шапочку снова надел и так продолжал: «Я с веселым Сердцем домой возвращался, а дома ждало несчастье: Вся в слезах навстречу ко мне жена прибежала. «Царь небесный! что случилось? – я воскликнул. – Где наша Дочка?» – «Она у того, чье имя ты в эту минуту, Бедный мой муж, призываешь», – жена отвечала. И молча, Горько заплакав, пошел я за нею в хижину; тела Милой малютки моей я глазами искал там, но тела Не было. Вот как это случилось: с нашим младенцем Подле воды на траве жена спокойно сидела; С ним в беззаботном веселье играла она; вдруг малютка Сильно к воде протянулась, как будто чудесное что-то В светлых приметя струях; и видит жена, что наш милый Ангел смеется, ручонками что-то хватая; но в этот Миг как будто какой невидимой силой швырнуло В волны дитя, и в их глубине бедняжка пропала. Долго я тела искал, но напрасно, нигде и приметы Не было. Вот мы, на старости две сироты, в безотрадном Горе сидели в тот вечер вдвоем у огня и молчали: Если б и можно было от слез говорить, то не стало б Духу; и так мы оба молчали, глаза устремивши В тусклый огонь; как вдруг в дверях послышался легкий Шорох; они растворились – и что же видим мы? Чудной Прелести девочка, лет шести, в богатом уборе, Нам улыбаясь как ангел, стоит на пороге. Сначала Мы в изумленье не знали, живой ли то был человечек Или обманчивый призрак какой; но скоро приметил Я, что вода с золотых кудрей и с платья малютки Капала; я подумал, что, верно, младенец недавно Был в воде и что скорая помощь нужна. И, вздохнувши, Так сказал я жене; «Никто не подумал спасти нам Милое наше дитя; по крайней мере, мы сами Сделаем то для других, чего не могли нам другие Сделать и что на земле блаженством было бы нашим». Мы раздели малютку, ее положили в постель и напиться Дали горячего ей; а она все молчала и только, Светло-небесными глазками глядя на нас, улыбалась. Скоро заснула она и свежа, как цветочек весенний, Утром проснулась; когда ж мы расспрашивать стали, откуда Родом она и как попала к нам в хижину, толку Не было в странных ответах ее никакого; и вот уж Ровно двенадцать лет, как с нами живет, а добиться Путного мы не могли от нее ничего; по рассказам Вздорным ее подумать легко, что она к нам упала Прямо с луны: о каких-то замках прозрачных, жемчужных Гротах, коралловых рощах и разных других небылицах Все твердит и теперь, как твердила тогда; удалося Выведать только одно, что, катаясь по́ морю в лодке С матерью, в воду упала она и что волны на здешний Берег ее принесли, где она и очнулась… В сомненье Тяжком осталися мы: хотя и было не трудно Нам решиться наместо родной потерянной дочки Взять чужую, нам данную богом самим; но не знали Мы, крещена ли она иль нет? Сказать же об этом Нам ничего не умела бедняжка, хотя и понятно Было ей, что она жила по воле господней В здешнем свете, хотя и была смиренно готова Все то исполнить, что с волей господней согласно. И вот что Мы в таком затрудненье придумали вместе с женою: Если она еще не была крещена, то не должно Медлить минуты; а если уже крещена, то и дважды Долг святой совершить не будет греха. Но какое Дать ей имя? И в ум нам пришло, что ее Доротеей Было б всего приличней назвать: мы слыхали, что значит Это имя дар божий, она же была милосердым Господом богом дарована горести нашей в ограду. Но об имени этом она и знать не хотела. «Ундиной Звали меня отец мой и мать; хочу и остаться Вечно Ундиной!» Но было ли то христианское имя, Мы не знали. И вот я пошел за священником в город; Он согласился прийти к нам; сначала имя Ундины Было противно ему, как и нам; но наша малютка, В платьице странном своем, была так чудесно красива, Так ласкалась к нему и в то же время так мило, Так забавно спорила с ним, что сам он не в силах Был противиться ей, – и ее окрестили Ундиной. Сладостно было смотреть на нее в продолженье святого Таинства: дикая резвость исчезла, и тихим, смиренным Агнцем стояла она, как будто бы чувствуя, что́ с ней В это время творилось. Правду молвить, немало С нею хлопот нам, и если бы все рассказать мне…» Но рыцарь Тут перервал рыбака; он шепнул: «Послушай! послушай! Что там?» Не раз уже во время рассказа был он встревожен Шумом воды; но в эту минуту был явственно слышен Рев потока, который бежал с возрастающей силой Мимо хижины. Оба вскочили и бросились в двери; В месячном свете открылося им, что ручей, выходящий Из леса, сильно разлившись, ворочая камни, ломая С треском деревья, в море бежал; и было все небо, Так же как море, взволновано; тучи горами катились Мимо луны, поминутно ее заслоняя, и чудно Вся окрестность под блеском и тьмой трепетала; при свисте Вихря было внятно, как море свирепое голос Свой воздымало и как, скрыпя от вершины до корня, Гнулись и шумно сшибались ветвями деревья. «Ундина!.. Царь мой небесный!.. Ундина!» – старик закричал; но ответа Не было. Оба тогда побежали, забывши о буре, Каждый своею дорогою, к лесу, и громко при шуме Ветра в ночной глубине раздавалось: «Ундина! Ундина!»Глава III О том, как была найдена Ундина
Странное что-то чувствовал рыцарь, скитаясь во мраке Ночи, под шумом бури, один, в бесполезном исканье: Снова стало казаться ему, что Ундина лишь призрак, В темном лесу его обманувший, была; и при свисте Вихря, при громе воды, при треске деревьев, при чудном Всей за минуту столь мирно-прекрасной страны превращенье Начал он думать, что море, луг, источник, рыбачья Хижина, старый рыбак и все, что с ним ни случилось, Было обман; но жалобный крик старика, зовущий Ундину, Все ему издали слышался. Вот наконец очутился Он на самом краю лесного ручья, который в разливе Бурном своем бежал широкою мутной рекою, Так, что от леса отрезанный мыс, на котором стояла Хижина, сделался островом. «Боже! – рыцарь подумал, — Что, когда Ундина отважилась в лес, и назад ей Нет оттуда дороги, и там у злых привидений Плачет она одна в темноте?» От ужаса вскрикнув, Он поспешно поднял с земли огромный дубовый, Бурей отоптанный сук, чтоб, держась за него, перебраться В лес через воду. Хотя и сам он дрожал, вспоминая Все, что там видел прошедшим днем; хотя и казалось В эту минуту ему, что стоял там, ровен с деревами, Белый, слишком знакомый ему великан и, оскалив Зубы, кивал ему головою, – но самый сей ужас Только что с большею силою влек его в лес: там Ундина В страхе, одна, без защиты была. И вот уж ступил он Смелой ногою в кипучую воду, как вдруг недалеко Сладостный голос сказал: «Не ходи, не ходи, берегися Злого потока; старик сердит и обманчив». Знакомы Рыцарю были прелестные звуки; они замолчали; Он же стоял в воде, озирался и слушал; но месяц Темной задернуло тучей, и волны быстро неслися, Ноги его подмывая, и он, через силу держася, Был как в чаду, и кружилась его голова; и глазами Долго искав в темноте, наконец он воскликнул: «Ундина! Ты ли? Где ты? Если не хочешь явиться, я брошусь Сам в поток за тобой; откликнись; мне лучше погибнуть, Нежели быть без тебя». И глубже в воду пошел он. Тот же голос и так же близко сказал: «Оглянися!» В эту минуту вышел месяц из тучи, и рыцарь В блеске его увидел Ундину. Был маленький остров Подле берега быстрым разливом ручья образован; Там, под навесом деревьев густых, в траве угнездившись, Призраком светлым сидела Ундина. Было нетрудно В этом месте поток перейти, и Гульбранд очутился Вмиг близ Ундины на мягкой траве; она ж, приподнявшись, Руки вкруг шеи его обвила и его поневоле Рядом с собой посадила. «Теперь ты расскажешь мне, милый, Повесть свою, – шепнула она, – мы одни; старики нас Здесь не услышат и скучным своим ворчаньем не могут Нам помешать; а эта густая древесная кровля Стоит их хижины дымной». – «Здесь рай, Ундина!» – воскликнул Рыцарь, прижавши ко груди ее с поцелуем горячим. В эту минуту рыбак, проискавши напрасно Ундину, К месту тому подошел и увидел их с берега. «Рыцарь! — Он закричал, – непохвальное дело ты делаешь; нами Был ты доверчиво принят; а ты теперь, обнимаясь С нашей дочкой, шепчешься с нею тайком и оставил В страхе меня, старика, одного по-пустому за нею Бегать в потомках». – «Я сам, – ответствовал рыцарь, – лишь только В эту минуту встретился с нею». – «Тем лучше; скорее ж Оба ко мне перейдите сюда на твердую землю». Но Ундина о том не хотела и слышать; и лучше В страшный лес она соглашалася с милым, прекрасным Гостем пойти, чем в несносную хижину, где не хотели Делать того, о чем просила она, и откуда Рано иль поздно прекрасный гость удалится. Прижавшись Крепко к нему, она гармонически, тихо запела: «В душной долине волна печально трепещет и бьется; Влившися в море, она из моря назад не польется». Горько заплакал рыбак, услышав ту песню; ее же Слезы его как будто не трогали: к рыцарю с детской Лаской она прижималась. Но рыцарь сказал ей: «Ундина, Разве не видишь, как плачет отец? Не упрямься ж; нам должно, Должно к нему возвратиться». В немом изумленье Ундина Быстро свои голубые глаза на него устремила, Кротко сказала потом: «Когда ты так думаешь, милый, Я согласна». И с видом покорным, глаза опустивши, Встала она; и, на руки взявши ее, безопасно Рыцарь поток перешел. Старик со слезами на шею Кинулся к ней и в радости был как дитя; прибежала Скоро к ним и старушка; свою возвращенную дочку Нежно они целовали; упреков не было; в добром Сердце Ундины все также утихло, и их обнимала С лаской сердечной она, просила прощенья, смеялась, Плакала, милые все имена им давала. А утро Тою порой занялось, и буря умолкла, и птицы Начали петь на свежих, дождем ожемчуженных ветках; Стало светло, и опять приступать принялася Ундина К рыцарю с просьбой, чтоб начал рассказ свой. И так согласилась Завтрак принесть под деревья. Ундина проворно уселась Подле Гульбрандовых ног на траве; другого же места Выбрать никак не хотела; и рыцарь рассказывать начал.Глава IV О том, что случилось с рыцарем в лесу
«Вот уж боле недели, как я в тот вольный имперский Город, который лежит за вашим лесом, приехал; Там был турнир, и рыцари копья ломали усердно. Я не щадил ни себя, ни коня. Подошедши к ограде Поля, дабы отдохнуть от веселой работы, я шлем свой Снял и отдал его щитоносцу; и в эту минуту Вижу на ближнем альтане девицу, в богатом уборе, Чудной прелести. Это была молодая Бертальда — Мне сказали – питомица знатного герцога, в ближнем Замке живущего. Мне показалось, что с ласковым видом Смотрит она на меня, и во мне загорелась двойная Бодрость; усердно бился я прежде, но с этой минуты Дело пошло уж иначе. А вечером с нею одною Я танцевал; и так продолжалось во все остальные Дни турнира». В эту минуту почувствовал рыцарь Сильную боль в опущенной левой руке; оглянувшись, Видит он, что Ундина, жемчужными зубками стиснув Палец ему, сердито нахмурила бровки, и в глазках, Ярко светившихся, бегали слезки; потом, на Гульбранда С грустным упреком взглянув, она ему погрозила Пальцем; потом вздохнула, потом наклонила головку. Рыцарь, смутившись, умолк на минуту; потом он рассказ свой Так продолжал: «Бертальда прекрасна, нельзя не признаться; Но чересчур уж горда и причудлива; мне во второй раз Нравилась мене она, чем в первый, а в третий раз мене, Чем во второй. Однако мне показалось, что боле Всех других я замечен был ею, и это мне льстило. Вот мне вздумалось в шутку ее попросить, чтоб перчатку Мне свою подарила она. «Подарю, – отвечала С гордой усмешкой Бертальда, – если осмелишься, рыцарь, Съездить один в заколдованный лес наш и верные вести Мне принесешь о том, что в нем происходит». Перчатка Мне дорога не была; но было бы рыцарю стыдно Вызов такой от себя отклонить, и я согласился». — «Разве тебя не любила она?» – спросила Ундина. «Я ей нравился, – рыцарь ответствовал, – так мне казалось». — «О! так она сумасшедшая, – вскрикнула громко Ундина, С радостным смехом захлопав в ладоши, – Кто ж не безумный С милым себя разлучит и его добровольно в волшебный Лес на опасное дело дошлет? От меня б не дождался Этот лес такой неслыханной почести». – «Рано Утром вчера, – продолжал Гульбранд, улыбнувшись Ундине, — Я отправился в путь. Спокойно сияли деревья В блеске зари, полосами лежавшем на зелени дерна; Было свежо; благовонные листья так сладко шептались, Все так манило под сумрак прозрачный, что я поневоле Злился на глупых людей, которым страшилища в райском Месте таком могли померещиться. Въехал я в чащу; Мало-помалу все стало пустынно и тихо; густея, Лес предо мной и за мною сдвигался, как будто хватая Тысячью рук волшебных меня. Опасаясь возвратный Путь потерять, я коня удержал: посмотреть, высоко ли Было солнце, хотел я; глаза подымаю, и что же Вижу? Черное что-то колышется в ветвях дубовых. Я подумал, что то был медведь; обнажаю поспешно Меч. Но вдруг человеческим голосом, диким, визгливым, Мне закричали: «Кстати пожаловал; милости просим; Мы уж и веток сухих наломали, чтоб было на чем нам Вашу милость изжарить». Потом, с отвратительно-диким Смехом оскаливши зубы, чудовище так зашумело Ветвями дуба, что конь мой, шарахнувшись, бросился мимо Вскачь, и я не успел разглядеть, какой там гнездился Дьявол». При имени этом рыбак и старушка с молитвой Перекрестились; Ундина ж тихонько шепнула: «Всего здесь Лучше, по-моему, то, что ты не изжарен, мой милый Рыцарь, и то, что ты с нами. Рассказывай далее». – Конь мой Мчался как бешеный, – рыцарь сказал, – им владеть не имел я Силы; вдруг перед нами стремнина, и скачет со мной он Прямо в нее; но в самое ж это мгновение кто-то Длинный, огромный, седой, перерезавши нашу дорогу, Вдруг перед диким конем повалился, и конь, отшатнувшись, Стал, и снова я им овладел. Озираюся – что же? Мой спаситель был не седой великан, а блестящий Пенный ручей, бежавший с холма». – «Благодарствую, милый, Добрый ручей», – закричала, захлопав в ладоши, Ундина. Тяжко вздохнув и нахмурясь, рыбак покачал головою; Рыцарь рассказывал дале: «Собрав повода, укрепился Я на седле. Вдруг вижу, какой-то стоит человечек Рядом с конем, отвратительный, грязный горбун, земляного Цвета лицо, и нос огромный такой, что, казалось, Был он длиною со все остальное тело урода. Он хохотал, оскаливал зубы, шаркал ногами, Гнулся в дугу. Я его оттолкнул и, коня повернувши, Был готов пуститься в обратный путь (уж склонилось Солнце, покуда я мчался, далеко за полдень); но карлик, Прянув как кошка, дорогу коню заслонил, «Берегися, — Я закричал, – раздавлю». Но урод, исковеркавшись снова, Начал визжать: «Сперва заплати за работу; ты в пропасть Вместе с конем бы слетел, когда бы не я подвернулся». — «Лжешь ты, кривляка, – сказал я, – не ты, а этот источник Нас сохранил от паденья. Но вот тебе деньга; оставь нас, Дай дорогу». И, бросив одну золотую монету В шапку уроду, поехал я шибче; но снова явился Рядом со мной он; я шпорю коня; конь скачет, но сбоку Скачет и карлик, кривляясь, коверкаясь, с хохотом, с визгом, Высунув красный с локоть длиною язык. Чтоб скорее С ним развязаться, бросаю опять золотую монету В шапку ему; но с хохотом диким оскаливши зубы, Начал кричать он: «Поддельное золото! золота много Есть у меня! погляди! полюбуйся!» И в эту минуту Мне показалось, что вдруг просветлела земная утроба; Дерн изумрудом прозрачным сделался; взор мой свободно Мог сквозь него проницать в глубину; и тогда мне открылась Область подземная гномов: они гомозились, роились, Комкались в клубы, вились, развивались, сгребали металлы, Сыпали в кучи рубин, и сапфир, и смарагд и пускали Вихри песка золотого друг другу в глаза. Мой сопутник Быстро метался то вниз, то вверх; и ему подавали Слитки огромные золота; мне показав их со смехом, Каждый он в бездну бросал, и, из пропасти в пропасть со звоном Падая, все в глубине исчезали. Тогда он монету, Данную мною, швырнул с пронзительным хохотом в бездну; Хохотом, шиканьем, свистом ему отвечали из бездны. Вдруг взгомозилися все и, толпяся, толкаясь, полезли Кверху, когтистые, пылью металлов покрытые пальцы Все на меня растопорщив; вся пропасть, казалось, кипела; Куча за кучей, гуще и гуще, ближе и ближе… Ужас меня одолел; дав шпоры коню, без оглядки Я поскакал… и не знаю, долго ль скакал; но очнувшись, Вижу, что нет никого; привиденья исчезли; прохладно Было в лесу, и вечер уже наступил. Сквозь деревья Бледно мелькала тропинка, ведущая из лесу в город. Взъехать спешу я на эту тропинку; но что-то седое, Зыбкое, дым не дым, туман не туман, поминутно Вид свой меняя, стало меж ветвей и мне заслонило Путь; я пытаюсь объехать его, но куда ни поеду, Там и оно; рассердившись, скачу напролом; но навстречу Прыщет мне пена, и ливнем холодным я обдан, и рвется Конь мой назад; ослеплен, промочен до костей, я бросаюсь Вправо и влево, но все не могу попасть на тропинку, Белый никак на нее не пускает меня. Попытаюсь Ехать обратно – за мной по пятам он, но смирен и волю Путь продолжать мне дает; но лишь только опять на тропинку Взъеду – он тут, и опять заслоняет ее, и холодной Пеной меня обдает. Наконец поневоле я выбрал Ту дорогу, к которой меня он теснил так упорно; Он унялся, но все от меня не отстал и за мною Бледно-туманным столбом подвигался; когда же случалось Мне оглянуться, то чудилось мне, что этот огромный Столб с головой, что в меня упирались тускло и зорко. С чудным каким-то миганьем глаза и кивала Всякий раз голова, как будто меня понукая Ехать вперед. Но порою мне просто казалось, что этот Странный гонитель мой был лесной водопад. Наконец я, Выехав из лесу, здесь очутился и встретился с вами, Добрые люди. Тогда пропал и упрямый мой спутник». Рыцарь кончил рассказ свой. «Мы рады тебе, благородный Гость наш, – сказал рыбак, – но пора и о том нам подумать, Как бы тебе возвратиться в город». Ундина, услышав Эти слова, начала про себя тихомолком смеяться С видом довольным. То рыцарь заметив сказал ей: «Ундина, Разве ты рада разлуке со мною? Чему ты смеешься?» — «Я уж знаю чему, – отвечала Ундина. – Отведай Этот сердитый поток переплыть – верхом иль на лодке, Как угодно – ан нет, не удастся! а морем… давно я Знаю, что этого сделать нельзя; и отец недалеко В море уходит с лодкой своею. Итак, оставайся С нами, рад ли, не рад ли. Вот чему я смеюся». Рыцарь с улыбкою встал, чтоб видеть, так ли то было, Что говорила Ундина; встал и рыбак; а за ними Вслед и она. И подлинно, все опрокинуто было Бурей в лесу; поток разлился, и стал полуостров Островом. Рыцарь не мог о возврате и думать, и должен Был поневоле он ждать, пока в берега не вольется Снова поток. Возвращаяся в хижину рядом с Ундиной, Он ей шепнул: «Что скажешь, Ундиночка? Рада ль, что с вами Я остаюся?» – «Полно, полню, – она проворчала, Бровки нахмурив, – не вздумай тебя укусить я за палец, Ты бы не то рассказал нам об этой несносной Бертальде».Глава V О том, как рыцарь жил у рыбака в хижине
Может быть, добрый читатель, тебе случалося в жизни, Долго скитавшись туда и сюда, попадать на такое Место, где было тебе хорошо, где живущая в каждом Сердце любовь к домашнему быту, к семейному миру С новою силой в тебе пробуждалась; и снова ты видел Край родимый; и все обаяния младости, блага Первой, чистой любви на могилах минувшего снова В прежней красе расцветали, и ты говорил, отдыхая: Здесь живется сладко, здесь сердцу будет приютно. Вспомнив такую минуту, когда очарованной думой Ты обнимал безыменное, тайное счастье земное, Ты, читатель, поймешь, что должен был чувствовать рыцарь, Вдруг поселившися в этом пределе, далеко от света. Часто он с радостью тайной смотрел, как поток, свирепея, День ото дня расширялся и остров все дале и дале В море входил, разлучался с твердой землею; казалось, Мир кончался за ним. На сердце рыцаря стало Тихо, светло и легко. Рыбак был мудрец простодушный; Зная людей, изведав тревоги житейские, бывши Ратником сам в молодых летах, на досуге он много Мог рассказать про войну и про счастье, несчастье земное; Словом, он был живая летопись; время без скуки Шло в разговорах меж старцем отжившим и юношей, полным Пламенной жизни: мудрость смиренная, прямо из жизни Взятая здравым рассудком и верою в бога, вливалась В душу Гульбранда и в ней поселяла блаженную ясность. Бодрый старик промышлял по-прежнему рыбною ловлей; Был не без дела и рыцарь: в хижине, к счастью, нашелся Старый доспех рыбака, самострел; его починивши, С ним ежедневно рыцарь ходил на охоту; а вечер Вместе все перед ярким огнем проводили, и полный Кубок тогда частенько постукивал в кубок: в запасе Было вино, и нередко с ним длилась беседа до поздней Ночи. Но мирной сей жизни была душою Ундина. В этом жилище, куда суеты не входили, каким-то Райским виденьем сияла она: чистота херувима, Резвость младенца, застенчивость девы, причудливость никсы, Свежесть цветка, порхливость сильфиды, изменчивость струйки… Словом, Ундина была несравненным, мучительно-милым, Чудным созданьем; и прелесть ее проницала, томила Душу Гульбранда, как прелесть весны, как волшебство Звуков, когда мы так полны болезненно-сладкою думой. Но вертлявый, проказливый нрав и смешные причуды Ундины Были подчас и докучливой мукой; зато и журили Крепко ее старики; и тогда шалунья так мило Дулась на них, так забавно ворчала; потом так сердечно С ними, раскаясь, мирилась; потом проказила снова, и снова Ей доставалось; и все то было волшебною, тайной Сетью, которою мало-помалу опуталось сердце Рыцаря. С нею он стал неразлучен; с каждою мыслью, С каждым чувством слилась Ундина. Но, им обладая, Той же силе она и сама покорялась; хотя в ней Все осталось по-прежнему, резвость, причуды, упрямство, Вздорные выдумки, детские шалости, взбалмошный хохот, Но Ундина любила – любила беспечно, как любит Птичка, летая средь чистого неба. Старик и старушка, Видя Ундину и рыцаря вместе, невольно привыкли Их почитать женихом и невестой. И рыцарю также Часто на мысль приходило, что в мир для него невозвратно Вход загражден, что с людьми никогда уж ему не встречаться. Если ж случалось, что рыцарев конь, на свободе бродивший По лугу, ржаньем своим его пробуждал и как будто Спрашивал: скоро ли в битву? иль если ему попадался Брошенный щит на глаза иль праздно на стенке висевший Меч, ненароком сорвавшись с гвоздя, из ножон выдвигался В звонком паденье – дума о славе и подвигах бранных Душу его шевелила. Но в этой тревоге себя он Тем утешал, что возврат для него невозможен; к тому же, Мнилось ему, что Ундина была рождена не для низкой Доли; и, словом, он верил, что все то не случай, а божий Промысел было. И так один за другим неприметно Дни уходили, ясные, тихие. Но и в спокойном Этом быту напоследок случилось расстройство: привыкли Каждый вечер рыбак и рыцарь, отужинав, с полным Кубком час-другой проводить в разговоре радушном; Вдруг недостало вина: запас рыбака небогатый Вышел; взять же нового было негде. Наморщив Лбы, сидели Гульбранд и рыбак за столом; а Ундина, Глядя на них, умирала со смеху. Скучен и долог Был тот вечер, и рано все разошлись. На другой день Около ужина вышла Ундина из хижины. «Вы мне Оба несносны, – сказала она, – не хочу я на ваши Длинные лица смотреть и слушать вашу зевоту». С этим словом захлопнула двери и скрылась. А вечер Был ненастен, ветер шумел, и море сердилось. В страхе рыбак и рыцарь вскочили, вспомнив, как в первый Раз они перепуганы были Ундиной. Но только В двери за нею они собрались побежать, как Ундина Им навстречу явилась сама. «За мною! за мною Все! – закричала она, – гостинец прислало нам море: Бочка, и, верно, с вином, лежит на песке». За Ундиной Все пошли, и, подлинно, бочка нашлася; поспешно Рыцарь, старик и с ними Ундина ее покатили К хижине: буря сбиралась; сквозь сумерки было Видно, как на́ море волны свои подымали седые Головы, дождь вызывая из туч; и тучи бежали Шибко и шумно, как будто грозяся напасть на идущих; Вот уж начали сыпаться первые капли. Ундина Вдруг повернула головку и, пальчик поднявши, сердито Им погрозила туче и ей закричала: «Смотри ты, Туча, не смей замочить нас; еще нам далеко до дома», С сердцем рыбак ей сказал: «Уймися, Ундина, грех!» И, умолкнув, Стала она про себя потихоньку смеяться. Однако Засухо все добралися до места; но только успели Бочку под кровлю поставить, и вскрыть, и отведать, какое Было вино в ней, как дождь проливной зашумел, зашатались С скрыпом деревья, и море дико завыло. Но бурю В хижине скоро забыли; за полными кружками снова Ум разогрелся, и ожили шутки; и этой беседе Прелесть двойную давал огонек, всегда столь приятный В теплом приюте, при шуме ветра и моря, во время Ночи ненастной. Но вдруг старик, как будто что вспомнив, Стал задумчив; потом, помолчавши минуту, сказал он: «Царь небесный, помилуй нас, грешных! мы здесь на досуге Шутим и этим прекрасным вином веселимся; а бедный Прежний хозяин его, быть может, погиб и, волнами Брошенный бог весть куда, лишен погребенья». При этом Слове Ундина с лукавой усмешкой подвинула кружку К рыцарю. «Пей, не бойся», – она прошептала. Но рыцарь За руку взял старика и воскликнул: «Я честью клянуся, Если б могли мы его отыскать и спасти, то ночная Буря помехою мне не была бы; с опасностью жизни Я бы на помощь к нему побежал; зато обещаюсь, Если когда возвращуся в край обитаемый, вдвое, Втрое ему иль детям его заплатить за прекрасный Этот напиток, который без воли его нам достался», Добрый старик кивнул головою в знак одобренья; В нем успокоилась совесть, и с большим вкусом он до́пил Кружку. Но тут Ундина оказала Гульбранду: «Ты денег Сколько угодно можешь за это вино рассорить; но бросаться В воду и жизни своей не жалеть… вот это уж глупо Сказано было; что же будет со мною, когда ты, Милый, погибнешь? Не правда ль, не правда ль, ты лучше с Ундиной Здесь останешься?» – «Правда, Ундиночка», – рыцарь с улыбкой Ей отвечал. «Признайся ж, что глупо сказал ты; ведь каждый Сам себе ближе; и что до других нам?..» Старушка, услышав Это, тяжко вздохнула; а добрый рыбак, не стерпевши, Начал кричать на Ундину: «У турков, у нехристей, что ли, Выросла ты, прости мне господи? Что за горячку Снова ты нам говоришь, греховодница?» Вдруг замолчавши, Робко Ундина прижалась к Гульбранду; потом прошептала: «Что же такое сказала я им? Уж и ты не сердит ли, Милый мой рыцарь?» Но рыцарь, пожавши ей руку, расправил Кудри, упавшие кольцами ей на глаза, и ни слова Ей не ответствовал: брань рыбака его оскорбила. Так сидели все четверо, молча, нахмуривши брови; Добрую четверть часа продолжалося это молчанье.Глава VI О том, как рыцарь женился
Вдруг, шатнувшись, тихохонько стукнула дверь; и невольно Вздрогнули все, как будто недоброе что-то почуя: Страшный лес был близко, а к хижине доступ разливом Был загражден человеку живому; кому же в такую Позднюю пору зайти к ним? Они с беспокойством смотрели Друг на друга. Снова послышался стук; и поспешно Рыцарь схватился за меч. «Не поможет твой меч, – сотворивши Крест, рыбак прошептал, – когда здесь случается с нами То, о чем и подумать боюсь я». Но в эту минуту Прыгнула с места Ундина и в дверь закричала сердито: «Кто там? Если то ваши проказы, духи земные, Будет беда вам; мой дядя Струй вас порядком проучит». Пуще прежнего все оробели, слова те услышав. Друг на друга взглянули старик и старушка; а рыцарь Встал и хотел уж Ундину спросить, но тут из-за двери Голос сказал: «Я не дух – человек, христианин; впустите Ради господа бога меня». При этом поспешно Ундина Дверь отперла и, поднявши ночник, во внутренность темной Ночи стала светить: престарелый священник стоял там. Он при виде Ундины назад отступил, приведенный В робость ее поразительной прелестью; в бедной лачужке Встречу такой красоты он волшебством иль делом бесовским Счел и воскликнул: «С нами господь и пречистая дева!» — «Я не бес, – засмеявшись, сказала Ундина, – не бойся; Милости просим, отец; войди, здесь добрые люди». Патер вошел и ласково всем поклонился; приятен Был он лицом; веселая кротость сияла во взорах. Но по складкам длинного платья его, с распущенных Белых волос и седой бороды катилися градом Капли: его промочило дождем. В боковую каморку Тотчас его отвели, чтоб раздеть; а старушка с Ундиной. Начали мокрое платье сушить на огне. С благодарным Чувством услуги старик принимал; он, надев рыбаково Верхнее платье, довольно потертое, вышел, и снова Все за столом перед светлым камином уселись; старушка Гостю сама уступила почетный стул, а Ундина В ноги ему свою скамейку подвинула. Рыцарь, То увидя, шепнул ей шутливое слово; но с важным Видом она отвечала: «Он божий служитель; не должно Этим шутить». Поужинав, добрым вином подкрепивши Силы свои, священник рассказывать начал, каким он Образом свой монастырь, лежащий близ моря, вчерашним Утром покинул. «Я был к епископу нашему в город Послан, – сказал он. – Хотя и есть по изгибу залива Путь, но морем ближе: и я с гребцами надежными лодку Нанял; с богом мы съездили; нынче ж поутру в обратный Поплыли путь; но сделался ветер противный; а к ночи Буря – и буря, какой мне ни разу видать не случалось; Ветром вырвало весла из рук у гребцов; беспомощно Были мы преданы морю, которого волны как щепку Наш челнок подымали с хребта на хребет; и несло нас Прямо сюда; сквозь туман и сквозь пену чернел в отдаленье Этот берег: уж были мы близко; но бедную лодку Нашу так и кружило, вдруг поднялась и на нас повалилась С страшным шумом большая волна; и сам я не знаю, Лодку ль она опрокинула, я ли выпал из лодки, Только я вдруг очутился в воде. Господь не дозволил Мне погибнуть… я был принесен невредимо на этот Остров». – «Да, остров, – сказал со вздохом рыбак, – но давно ли Был он твердой землею? Как же не скажешь, что море С нашим потоком бурлит заодно?» – «И сам я подумал Что-то подобное, – патер сказал. – Когда я тащился Берегом вашим впотьмах, предо мною мелькнула тропинка; Я по ней и пошел; но эта тропинка исчезла Вдруг перед лесом; ее перерезал поток. Тут сверкнул мне В вашей хижине свет, и тотчас сюда повернул я. Слава господу богу! меня он спас, да и к добрым Людям еще мне путь указал; но зато уж отныне, Кроме вас, никого на земле не встречать мне; отныне В этом углу весь мир для меня заключен». – «Почему же?» — Рыцарь спросил. «Да кто ж, – ответствовал патер, – узнает, Скоро ли кончится эта война беспорядочных стихий? Я же стар, и силы мои, конечно, иссякнут Прежде, чем этот разлившийся бурный поток; да случиться Может и то, что день ото дня все шире и шире, Глубже и глубже он делаться будет, и вы напоследок Так далеко от земли отодвинетесь в море, что в людях Даже и память об вас совсем пропадет; и тем легче Может это случиться, что вас от земли заслоняет Лес дремучий; поток же, я видел, так дик и порывист, Так широк, что и крепкому судну не будет возможно Силы его одолеть», – «Сохрани нас господь и помилуй», — Крест сотворивши, сказала старушка. «Чего же хозяйка Так напугалась? – рыбак возразил. – Не то же ли будет С нами, что было? Чудное дело желанья людские! Разве не все одни мы здесь жили? Ни разу во столько Лет не ходила ты дале опушки нашего леса. Кроме меня, старика, и Ундины, кого ты видала? Ныне же стало у нас и людно; господь бог послал нам Добрых гостей на житье. Пускай совсем разлучится Остров наш с твердой землею и люди о нас позабудут. Нам же прибыль». – «Что правда, то правда, – сказала старушка, — Только, признаться, мне как-то страшно подумать, что вечно Нам уж с людьми не сойтись, что земле навсегда мы чужие». То услыша, Ундина прижалася к рыцарю, жаркой Ручкой стиснула руку ему и, уставивши глазки, Полные острых лучей, на него, нараспев прошептала: «Ты останешься с нами, ты останешься с нами». Рыцарь молчал; он был очарован каким-то виденьем; Был глубоко в себя погружен и, Ундиной, желанным, Найденным счастием жизни полный в душе, не расслушал Слов Ундины, проказницы резвой, сидевшей с ним рядом; Миг настал роковой: священник своими словами Все сомненья решил; все дале и дале за темный Лес убегал обитаемый свет; а остров цветущий, Где так сладко жилось, все свежей, зеленей, все приютней Сердцу его становился – невеста, как чистая роза, Там расцветала; и к ним как будто бы свыше был послан Божий священник: то явно было не случай. К тому же, Рыцарь заметил, как строго старик поглядел на Ундину В ту минуту, когда, позабыв о служителе церкви, Так беззаботно она к нему приласкалась. Ундину Сильной рукой обхвативши, рыцарь встал и воскликнул: «Честный отец, мы жених и невеста; во имя господне Благослови нас, если дадут позволение эти Добрые люди». Рыбак и старушка весьма изумились. Правда, им часто входило на мысль, что такая развязка Рано иль поздно случиться должна; но об этом молчали Даже друг с другом они; и в это мгновение было Вовсе нежданным для них предложение рыцаря. Долго Слова ему отвечать они не умели. Ундина ж Вдруг присмирела, задумалась, глазки потупила в землю. Тою порою священник, спросясь с стариком и старушкой, Начал готовить венчальный обряд; старушка, очистив Наскоро горницу ту, где жила с рыбаком, отыскала Две восковые свечки, которые были во время Оно на свадьбе ее зажжены; а рыцарь из звеньев Цепи своей золотой отделил два кольца, чтоб с невестой Было чем обручиться. Все устроив, священник Брачные свечи зажег и сказал жениху и невесте: «Дайте руку друг другу». Ундина, как будто проснувшись, Робко взглянула на рыцаря, вся покраснела и, руку Давши ему, стыдливо и трепетно стала с ним рядом. Кончив венчальный обряд, новобрачных отец их духовный Перекрестил; старики ж молодую жену и Гульбранда Обняли с чувством родительским, громко рыдая. Но в этот Миг священник сказал: «Вы странные люди! не сами ль Вы говорили, что этот остров безлюден, что, кроме Вас четверых, не живет никого здесь? А я в продолженье Службы все видел, что кто-то в это окошко, в широком Белом платье, седой и длинный, глядел; за дверями, Верно, стоит и теперь он и ждет, чтоб впустили», – «Спаси нас Дева пречистая, божия матерь», – сказала старушка; Молча рыбак покачал головою; а рыцарь к окошку Бросился: не было там никого; но что-то в потемках, Видел он, белой струею мелькнуло и скрылось. «Отец мой, Ты ошибся», – сказал он священнику. Все беззаботно С этим словом кругом огонька по-прежнему сели.Глава VII О том, что случилось в свадебный вечер
Смирно стояла Ундина во все продолженье обряда; Но, лишь только он кончился, вдруг, как будто волшебной Силой какой, что ни было в ней причуд и беспутных Выдумок, все забродило и вспенилось; вдруг принялася Всех тормошить, старика, старушку и рыцаря, не был Даже и сам священник оставлен в покое. Суровым Словом хотела хозяйка шалунью унять, как бывало; но рыцарь С значащим взглядом назвал ее своею женою; Та замолчала. И сам он, однако, таким поведеньем Не был доволен; но тут ни его увещанья, ни ласки, Ниже упреки, ничто помочь не могло. Унималась, Правда, она на минуту, когда замечала досаду Рыцаря: нежно тогда к нему прижимаясь, ручонкой Милой своею трепала его по щеке и шептала На ухо слово любви с небесной улыбкой; но снова С первою взбалмошной мыслию то ж начиналось, и пуще, Нежели прежде. Священник сказал напоследок: «Ундина, Резвость такая забавна, но в эту минуту приличней Было бы вам, новобрачной, подумать о том, как с душою Данного богом супруга свою сочетать христиански Душу». – «Душу? – смеясь, закричала Ундина. – Такое Слово приятно звучит; но много ли в этом приятном Звуке смысла? А если кому души не досталось, Что тому делать? Еще сама я не знаю, была ли, Есть ли душа у меня?» Оскорбленный глубоко священник, Строго взглянув на нее, замолчал; испугавшись, Ундина С детским смиреньем к нему подошла и шепнула: Послушай, Добрый отец, не сердися, мне это так грустно, так грустно, Что и сказать не могу я; не будь же со мною, незлобным, Робким созданьем, так строг; напротив того, с снисхождением Выслушай то, что хочу исповедать искренним сердцем». Видно было, что тяжкая тайна лежала на сердце Ундины; Что-то хотела сказать, но вдруг побледнела и горько, Горько заплакала. Все на нее с любопытством смотрели; Что творилося с нею, не ведал никто. Напоследок Слезы обтерла она и священнику, в сильном волненье Сжавши руки, сказала: «Отец мой, не правда ль, ужасно Душу живую иметь? И не лучше ль, скажи мне, не лучше ль Вечно пробыть без души?..» Она замолчала, уставив Острый, расстроенный взор на священника. Все поднялися С мест, как будто дичася ее; не дождавшись ответа, С тяжким вздохом она продолжала: «Великое бремя, Страшное бремя душа! при одном уж ее ожиданье Грусть и тоска терзают меня; а доныне мне было Так легко, так свободно». Она опять зарыдала, Скрыла в ладони лицо и, свою наклонивши головку, Плакала горько, а светлые кудри, скатясь на прекрасный Лоб и на жаркие щеки, повисли густым покрывалом. С строгим лицом подошел к ней священник. «Ундина, – сказал он, — Именем господа бога тебе говорю: исповедуй Душу свою перед нами, и если таится в ней злое, Бог милосерд, он помилует». Тихим, покорным младенцем Стала она перед ним на колена, и, руки сложивши, Набожно к небу глаза подняла, и крестилась, и, имя Божие славя, твердила, что не было зла никакого В сердце ее. Священник сказал, обратяся к Гульбранду: «Рыцарь, вам поверяю я ту, с которою ныне Сам сочетал вас: душою она беспорочна, но много Чудного в ней. Примите мой добрый совет: осторожность, Твердость, любовь; остальное на власть милосердого бога С верой оставьте». Сказав, новобрачных священник Перекрестил и вышел; за ним рыбак и старушка, Также крестясь и молитву читая, вышли. Ундина Все еще на коленах стояла в молчанье; когда же Все удалились, она потихоньку лицом обернулась К рыцарю, кудри раздвинула, мало-помалу, как будто В чувство входя, головку свою подняла и уныло Очи лазурные, полные слез, на него устремила. «Милый, ты, верно, также покинешь меня, – прошептала Робко она, – но чем же я, бедная, чем виновата?» Руки ее так призывно, так жарко к нему поднялися, Взоры ее так похожи на небо прекрасное стали, Голос ее так глубоко из сердца раздался, что рыцарь Все позабыл и в порыве любви протянул к ней объятья; Вскрикнула, вспрыгнула, кинулась к милому в руки Ундина, Грудью прильнула ко груди его и на ней онемела.Глава VIII О том, что случилось на другой день свадьбы
Свежий утренний луч разбудил новобрачных; блаженством Ясные очи Ундины горели; а рыцарь в глубокой Думе молчал про себя; всю ночь он видел какой-то Странный, мучительный сон: все снилось ему, что хотели Бесы его обольстить под видом красавиц, что в змеев Адских красавицы все перед ним обращались. Проснувшись В страхе, он начал смотреть недоверчиво: тут ли Ундина?! Нет ли в ней какой перемены?.. Но было все тихо, Буря кончилась; полный месяц светил, и Ундина Сном глубоким спала, положивши горячую щеку На руку; вольно дышала она, и сквозь сон, как журчанье, Шепот невнятный бродил по жарко раскрывшимся губкам. Видом таким успокоенный, рыцарь заснул, но в другой раз Тот же сон! наконец засияла заря, и проснулися оба. Сон рассказавши, рыцарь просил, чтоб Ундина простила Страх безрассудный ему. Вздохнувши, прекрасную руку, С грустью она ему подала, и ни слова; но сладкий, Полный глубокой любовию взгляд, какого дотоле Рыцарь в лазоревых глазках ее не встречал, безответно Выразил все. С довольным сердцем он встал и к домашним Вышел; все трое сидели молча, на лицах их видно Было, что тяжко тревожило их ожиданье развязки; Видно было, что внутренне бога священник молил: да поможет Им защититься от козней врага. Но как скоро явился С ясным лицом новобрачный, то вмиг и у них просияли Души и лица; рыбак и старушка заплакали; к небу Взор благодарный поднял священник. Потом и Ундина Вышла; они хотели пойти к ней навстречу, но стали Все неподвижны: так знакома и так незнакома Им в красоте довершенной она показалась. Священник Первый к ней подошел; но лишь только он руку, чтоб дать ей Благословение, поднял, она ему поклонилась В землю и стала прощенья просить в словах безрассудных, Сказанных ею вчера; потом примолвила: «Добрый Друг, помолись о спасенье моей души многогрешной». Вставши, она обняла стариков, и то, что сказала Им, было так полно души, так было их слуху Ново и так далеко от всего, что прежде пленяло В ней, не касаясь до сердца, что оба они, зарыдавши, Стали молиться вслух и ее называли небесным Ангелом, дочкой родною; она же с сердечным смиреньем Их целовала; такой и осталась она с той минуты: Кроткой, покорной женою, хозяйкой заботливой, в то же Время девственно-чистым, божественно-милым созданьем. Рыцарь, старик и старушка, давно уж привыкнув к причудам Детским ее, все ждали, что снова она, как и прежде, Станет проказить, но в этот раз они обманулись: Ангелом тихим осталась Ундина. Священник, любуясь Ею, воскликнул: «Радуйтесь, рыцарь; господь милосердый Вам даровал чрез меня, недостойного, редкое счастье; Будет добро вам и в здешней и в будущей жизни, когда вы Чистым его сохраните. Господь помоги вам обоим». Около вечера с нежностью робкой Ундина, взявши Гульбранда За руку, тихо его повлекла за собою на вольный Воздух. Безоблачно солнце садилось, светя на зеленый Дерн сквозь чащу дерев, за которыми тихо горело Море вдали. Во взорах жены молодой трепетало Пламя любви, как роса на лазурных листках; но, казалось, Грустная тайна уста ей смыкала, порой выражаясь Вздохом невнятным. В молчанье она вела за собою Рыцаря дале; когда же с ней говорил он, ответа Не было, взор один отвечал; но в этом сердечном Взоре целое небо любви и смиренья лежало. Так подошли напоследок они к лесному потоку… Что же рыцарь увидел? Разлив уже миновался; Мелким ручьем стремился поток. «Он исчезнет К утру совсем, – сказала Ундина, скрывая рыданье, — Завтра кончится все, и тебе уж препятствия боле, Милый, не будет отсель удалиться, как скоро захочешь», — «Вместе с тобою, Ундиночка», – рыцарь ответствовал. «Это В воле твоей, – шепнула она, усмехаясь сквозь слезы. — Друг, я знаю, что ты Ундиночку любишь. Она же Всею душою твоя, и навек. Но, милый, послушай, Перенеси меня на руках на этот зеленый Остров; там приютней. Хотя и самой мне сквозь волны Было б нетрудно туда проскользнуть, но, друг, мне так сладко Быть на руках у тебя. И если нам должно расстаться, То хоть в последнее счастьем земным подышу я Здесь у тебя на груди». И, растроган, встревожен, Рыцарь Ундину на руки взял и понес через воду. Было то место знакомо, то был островок, на котором Встретился рыцарь с Ундиною в бурю. Ее опустил он Тихо на шелковый дерн и хотел поместиться с ней рядом, «Нет, не рядом со мной, а против меня ты садися, Милый, – сказала она, – хочу я прежде, чем словом Будешь ответствовать мне, твой ответ в непритворных Взорах твоих заране угадывать. Слушай. Ты должен Знать, уж на деле узнал ты, что есть на свете созданья, Вам подобные видом, но с вами различного свойства. Редко их видите вы. В огне живут саламандры, Чудные, резвые, легкие; в недрах земли, неприступных Свету, водятся хитрые гномы; в воздухе веют Сильфы; лоно морей, озер и ручьев населяют Духи веселые вод. Прекрасно и вольно живется Там, под звонко-кристальными сводами; небо и солнце Светят сквозь них; и небесные звезды туда проницают; Там на высоких деревьях коралловых пурпуром ярким, Темным сапфиром блистают плоды; там гуляешь по мягким, Свежим песочным коврам, узорами раковин пестрых Хитро украшенным; многое, бывшее чудом минувших Лет, облеченное тайным серебряных вод покрывалом, Видится там в величавых развалинах: влага с любовью Их объемлет, в мох и цветы водяные их рядит, Пышным венцом тростника их седые главы обвивает. Жители стран водяных обольстительно-милы, прекрасней Самых людей. Случалось не раз, что рыбак, подглядевши Деву морскую – когда, из воды подымаяся тайно, Пела она и качалась на зыбкой волне, – повергался В хладную влагу за нею. Ундинами чудные эти Девы слывут у людей. И, друг, ты теперь пред собою В самом деле видишь ундину». Гульбранд содрогнулся; Холод по членам его пробежал; неподвижен как камень, Молча и дико смотрел он в лицо рассказчицы милой, Сил не имея очей отвести. Покачав головою, Грустно замолкла она, вздохнула, потом продолжала: «Видом наружным мы то же, что люди, быть может и лучше, Нежели люди; но с нами не то, что с людьми; покидая Жизнь, мы вдруг пропадаем как призрак, и телом и духом Гибнем вполне, и самый наш след исчезает; из праха В лучшую жизнь переходите вы; а мы остаемся Там, где жили, в воздухе, искре, волне и пылинке. Нам души не дано; пока продолжается наше Здесь бытие, нам стихии покорны; когда ж умираем, В их переходим мы власть, и они нас вмиг истребляют; Веселы мы, и нас ничто не тревожит, как птичек В роще, рыбок в воде, мотыльков на лугу благовонном. Все, однако, стремится возвыситься: так и отец мой, Сильный царь в голубой глубине Средиземного моря, Мне, любимой, единственной дочери, душу живую Дать пожелал, хотя он и ведал, что с нею и горе (Всех, одаренных душою, удел) меня не минует. Но душа не иначе дана быть нам может, как только Тесным союзом любви с человеком. И, милый, отныне Я с душою навеки; тебе одному благодарна Я за нее, и тебе ж благодарна останусь, когда ты Жизнь не осудишь мою на вечное горе. Что будет С бедной Ундиной, когда ты покинешь ее? Но обманом Сердце твое сохранить она не хотела. Теперь ты Знаешь все, и, если меня оттолкнуть ты решился, Сделай это теперь же: один перейди на противный Берег; я брошуся в этот поток – он мой дядя; издавна В нашем лесу он свободную, чудную жизнь, как пустынник, Розно с родней и друзьями проводит. Он силен и многим Старым рекам и могучим потокам союзник. Принес он Некогда к жителям хижины здешней меня беззаботным, Ясным, веселым младенцем; и он же ныне отсюда В дом отца моего меня отнесет измененным, живую Душу приявшим созданьем, любящей, скорбящей женою». Дале она говорить не могла; пораженный, плененный, Рыцарь ее обхватил, и на руки поднял, и вынес На берег; там и перед небом самим повторил он обет свой: С ней неразлучно жить на земле и делить все земное, В сладком согласии, за руки взявшись, медлительным шагом В хижину оба пошли. И Ундина, глубоко постигнув Благо святое души, перестала жалеть о прозрачном Море и влажных жилищах отцовского чудного царства.Глава IX О том, как рыцарь и его молодая жена оставили хижину
Рыцарь, проснувшись с зарей на другой день, весьма удивился, Видя, что подле него Ундины нет, и снова он начал Думать, что все, происшедшее с ним в последнее время, Было мечта. Но в эту минуту Ундина явилась; Севши к нему на постель, сказала она: «Я ходила В лес проведать, исполнил ли дядя свое обещанье? Все исполнено; воды свои он собрал и снова Лесом бежит одинок, невидим и задумчиво шепчет; Всех водяных и воздушных друзей распустил он, и стало Тихо в лесу, и все в порядке по-прежнему; можем, Милый, отправиться в путь, как скоро захочешь». С каким-то Странным чувством, похожим на робость, слушал Ундину Рыцарь: ее родные были ему не по сердцу. Но Ундина своею тихою прелестью снова Сладкий покой возвратила ему; и, любуясь с ней вместе Зеленью берега, так благовонно, свежо и прозрачно Светлою влагой объятого, рыцарь сказал: «Для чего же Так нам спешить отсюда, Ундина? Уже верно не встретим Мы нигде толь мирного счастья, каким насладились В этом краю; пробудем же здесь; никто нас не гонит». — «Что ты, мой друг, прикажешь, то и будет, – сказала с покорным Видом Ундина, – но слушай: моим старикам разлучаться со мною Тяжко и так, а они еще не знают Ундины, Новой, нежной, любящей, смиренной Ундины; и все им Мнится еще, что смиренье мое не надежней покоя Вод; и меня легко позабудут они, как весенний Цвет, как быструю птичку, как светлое облако; дай же, Милый, в тот миг, как навек на земле нам должно расстаться, Скрыть мне от них тобой сотворенную, верную, душу. Если же долее здесь мы пробудем, то буду ль уметь я Так притвориться, чтоб им моя не открылася тайна?» Рыцарь был убежден, и вмиг собралися в дорогу; Снова коня оседлали; священник вызвался с ними В город идти через лес и с рыцарем вместе Ундине Сесть помог на седло. Обнялися; расстались; Ундина Плакала тихо, но горько; добрый рыбак и старушка Выли голосом, глядя за нею вслед и как будто Вдруг догадавшись, какое сокровище в эту минуту В ней потеряли. В грустном молчанье вперед подвигались Путники. Гущи лесной уж достигли они, и прекрасно Было видеть в зеленой тени на разубранном пышно — Гордом коне молодую робкую всадницу, справа Старого патера в белой одежде, а слева, в богатом Пестром уборе, прекрасного рыцаря. Бережно чащей Леса они пробирались. Рыцарь одну лишь Ундину Видел; Ундина ж влажные очи свои в упоенье Новой души на него одного устремляла, и скоро Тихий, немой разговор начался между ними из нежных Взглядов и вздохов. Но вдруг он был прерван каким-то Шепотом странным: шел рядом с священником кто-то четвертый, К ним недавно приставший. Он-то шептал. Как священник, Был он в белом платье, лицо закрывалось каким-то Странным, широким покровом, которого складки, как волны, Падали с плеч и стан обвивали; и он беспрестанно Их поправлял, закидывал на руку полы, вертелся; Прыгал; но это ему ни идти, ни болтать не мешало. Вот что шептал он в ту минуту, когда молодые Вслушались в речи его: «Уж давно, давно, преподобный, В этом лесу я живу, как у вас говорится, монахом; Правда, я не пощусь, не спасаюсь, а просто мне любо Жить на воле в глуши и в этом белом, волнистом Платье под тенью густою разгуливать. Часто и солнце Чудно сверкает по складкам моим; а когда я кустами Крадусь, бывает такой веселый шорох, что сердце Прыгает…» – «Вы человек замечательный, – молвил священник, — Я бы желал покороче узнать вас». – «А ты кто, когда уж Дело у нас пошло на расспросы?» – сказал незнакомец. «Патер Лаврентий, священник Мариинской пустыни». – «Дельно; Я же, просто сказать, свободный лесной обыватель; Имя мне Струй; ремесла не имею; волен как птица; Нет у меня господина; гуляю, и все тут. Однако Нужно мне кое-что молвить вот этой красавице». С этим Словом он прянул к Ундине, вдруг вырос, и подле Уха ее очутилась его голова. Но Ундина В страхе его оттолкнула, воскликнув: «Поди поскорее Прочь; я более с вами не знаюсь». – «О! о! да какая ж Замужем стала она спесивая! с нами, роднею, Знаться не хочет! Да кто же, скажи мне, пожалуй, не я ли, Дядя твой, Струй, малютку тебя на спине из подводной Области на́ берег здешний принес? Позабыла?» – «Оставь нас, Именем бога тебя умоляю, – сказала Ундина. — Ты мне страшен; ты сделаешь то, что и муж мой дичиться Станет меня, как скоро увидит с такою роднею». — «Здесь я недаром; хочу проводить вас, иначе едва ли Вам через лес удастся пройти безопасно. А этот Патер уж знает меня; говорит он, что будто Был я в лодке, когда он в воду упал; и, конечно, Был я в лодке; я в эту лодку прянул волною, Вырвал его из нее и на? берег вынес, чтоб свадьбу Можно было сыграть вам». Ундина и рыцарь при этом Слове взглянули на патера: шел он, как будто в глубокий Сон погруженный, не слыша того, что вблизи говорилось, «Вот и лесу конец, – сказала дяде Ундина, — Помощь твоя теперь не нужна, оставь нас; простимся С миром; исчезни». Струй рассердился; он сделал такую Страшную харю и так глазами сверкнул, что Ундина Громко вскрикнула; рыцарь выхватил меч и хотел им В голову Струя ударить, но меч по волнам водопада С свистом хлестнул, и в воде как будто шипящий Хохот раздался; рыцаря обдало пеной холодной. Патер, вдруг очнувшись, сказал: «Я предвидел, что это С нами случится, лесной водопад был так близко; и все мне Мнилось до сих пор, что он живой человек и как будто С нами шепчет». И, подлинно, рыцарю на ухо внятно Вот что шептал водопад: «Ты смелый рыцарь, ты бодрый Рыцарь; я силен, могуч; я быстр и гремуч; не сердиты Волны мои; но люби ты, как очи свои, молодую, Рыцарь, жену, как живую люблю я волну…» – и волшебный Шепот, как ропот волны, разлетевшейся в брызги, умолкнул. Кончился лес, и вышли в поле они: там имперский Город лежал перед ними в лучах заходящего солнца.Глава X О том, как они жили в имперском городе
В этом имперском городе все почитали погибшим Нашего рыцаря, все сожалели о нем, а Бертальда Боле других; она себя признавала причиной Смерти его, и совесть терзала ей сердце, и милый Рыцарев образ глубоко в него впечатлен был печалью. Вдруг он явился живой и женатый, а с ним и свидетель Брака его, отец Лаврентий; весь город нежданным Чудом таким приведен был в волненье; прелесть Ундины Всех поразила, и слух прошел, что в лесу из-под власти Злого волшебника рыцарь избавил ее, что породы Знатной она. Но на все вопросы людей любопытных Рыцарь ответствовал глухо; патер же был на рассказы Скуп, да и скоро в свой монастырь возвратился он; словом, Мало-помалу толки утихли; одной лишь Бертальде Было грустно: скорбя о погибшем, она поневоле Сердцем привыкла к нему и его своим называла. Скоро, однако, она одолела себя; от природы Было в ней доброе сердце, но чувство глубокое долго В нем не могло сохраняться, и здесь легкомыслие было Верным лекарством. Ундину ласкала она, а Ундине, Простосердечной, доброй Ундине, боле и боле Нравилась милая, полная прелести сверстница. Часто Ей говорила она: «Мы, верно, с тобою, Бертальда, Как-нибудь были прежде знакомы, иль чудное что-то Есть между нами; нельзя же, чтоб кто без причины, без сильной, Тайной причины, мог так кому полюбиться, как ты мне Вдруг полюбилася с первого взгляда». И в сердце Бертальды Что-то подобное было, хотя его и смущала Зависть порою. Как бы то ни было, скоро друг с другом Стали они неразлучны, как сестры родные. Но рыцарь Был готов уж в замок Рингштеттен, к истокам Дуная Ехать, и день разлуки, может быть вечной разлуки, Был недалек; Ундина грустила; и вот ей на мысли Вдруг пришло, что Бертальду с собою в замок Рингштеттен Могут они увезти, что на то герцогиня и герцог, Верно, по просьбе ее согласятся. Однажды об этом Рыцарь, Ундина, Бертальда втроем рассуждали. Был теплый Летний вечер, и темною площадью города вместе Шли они; синее небо глубоко сияло звездами; В окнах домов сверкали огни; перед ними ходили Черные тени гуляющих; шум разговоров, слиянье Музыки, пенья, хохота, крика детей наполняли Чудным каким-то говором воздух, и он напоен был Весь благовонием лип, вокруг городского фонтана Густо насаженных. Здесь, от шумной толпы в отдаленье, Близ водоема стояли они, упиваясь прохладой Брызжущих вод, их слушая шум и любуясь на влажный Сноп фонтана, белевший сквозь сумрак, как веющий, легкий Призрак; и их веселило, что так они в многолюдстве Были одни, и все, что при свете казалось столь трудным, Сладилось само собой без труда в тишине миротворной Ночи; и было для них решено, что Бертальда поедет В замок Рингштеттен. Но в ту минуту, когда назначали День отъезда они, подошел к ним, как будто из мрака Вдруг родившийся, длинный седой человек, поклонился Чинно, потом кивнул головою Ундине и что-то На ухо ей прошептал. Ундина, нахмуривши бровки, В сторону с ним отошла, и тогда начался между ними Шепот на странном каком-то, чужом языке; а Гульбранду В мысли пришло, что он с незнакомцем где-то встречался; Тщетно Бертальда его осыпала вопросами; рыцарь Был как в чаду и все с беспокойством смотрел на Ундину. Вдруг Ундина, захлопавши с радостным криком в ладоши, Кинулась прочь, и блаженством глазки сверкали; с досадой Сморщивши лоб и седой покачав головой, незнакомец Влез в водоем, где вмиг и пропал. Тут решилось сомненье Рыцаря. «Что, Ундина, с тобою смотритель фонтанов Здесь говорил?» – спросила Бертальда. С таинственным видом Ей головкой кивнула Ундина. «В твои именины, Послезавтра, ты это узнаешь, Бертальда, мой милый, Милый друг; я тебя и твоих приглашаю на этот Праздник к себе». Другого ответа не было. Скоро После того они проводили Бертальду и с нею простились. «Струй?» – спросил с содроганьем невольным рыцарь Ундину, С ней оставшись один в темноте перед герцогским домом. «Он, – отвечала Ундина, – премножество всякого вздора Мне насказал; но между прочим открыл и такую Нехотя тайну, что я себя не помню от счастья. Если велишь мне все рассказать сию же минуту, Я исполню приказ твой; но, милый, Ундине большая Радость была бы, когда б ей теперь промолчать ты позволил». Рыцарь охотно на все согласился, и можно ли было В чем отказать Ундине, столь мило просящей? И сладко Было ей в ту ночь засылать; она, забываясь Сном, потихоньку сама про себя с улыбкой шептала: «Ах, Бертальда! как будет рада! какое нам счастье!»Глава XI О том, что случилось на именинах Бертальды
Гости уж были давно за столом, и Бертальда, царица Праздника, в золоте, перлах, цветах, подаренных друзьями Ей в именины, сидела на первом месте, Ундина С правой руки, а рыцарь с левой. Обед уж кончался; Подали сласти; дверь была отперта; в ней теснилось Множество зрителей всякого званья; таков был старинный Предков обычай: каждый праздник тогда почитался Общим добром, и народ всегда пировал с господами. Кубки с вином и закуски носили меж зрителей слуги; Было шумно и весело; рыцарь Гульбранд и Бертальда Глаз не сводили с Ундины; они с живым нетерпеньем Ждали, чтоб тайну открыла она; но Ундина молчала; Было заметно, что с сердца ее и с уст, озаренных Ясной улыбкой, было готово что-то сорваться; Но (как ребенок, любимый кусок свой к концу берегущий) Все молчала она, чтоб продлить для себя наслажденье. Рыцарь смотрел на нее с неописанным чувством; Ундина, В детской своей простоте, с своим добродушием, прелесть Ангела божия в эту минуту имела. Вдруг гости Стали ее убеждать, чтоб спела им песню. Сверкнули Ярко ее прекрасные глазки; поспешно схватила Цитру и вот какую песню тихо запела: «Солнце сияет; море спокойно; к брегу с любовью Воды теснятся. Что на душистой зелени брега Светится, блещет? Цвет ли чудесный, посланный небом Свежему лугу? Нет, светлоокий, ясный младенец Там на зеленом дерне играет. Кто ты, откуда, Милый младенец? Как очутился здесь, на чужбине? Ах: из отчизны был он украден морем коварным. Бедный, чего ж ты между цветами с жадностью ищешь? Цвет благовонный жив, но без сердца; он не услышит Детского крика; он не заменит матери нежной. Лучшего в жизни рано лишен ты, бедный младенец. Мимо проехал с свитою герцог; в пышный свой замок Взял он сиротку; там герцогиня благостным сердцем Бедной сиротке мать заменила. Стала сиротка Девою милой, радостью сердца, прелестью взоров; Милую деву промысел божий щедро осыпал Всем… но отдаст ли лучшее в жизни, мать и отца, ей?» С грустной улыбкой цитру свою опустила Ундина; Песня ее растрогала всех, а герцог с женою Плакали. Герцог сказал: «Так точно случилось в то утро, Милая наша сиротка Бертальда, когда милосердый Бог наградил нас тобою; но права певица, не можем Лучшего блага земного тебе возвратить мы, родную Мать и родного отца». Ундина снова запела: «Мать тоскует, бродит, кличет… нет ей ответа; Ищет, ищет, что ж находит? дом опустелый. О, как мрачен, как ужасен дом опустелый, Где дотоле днем и ночью мать в упоенье Целовала, миловала дочку родную! Будет снова заниматься ярко денница; Придут снова дни весенни, благоуханны; Но денница, дни весенни, благоуханны Не утешат боле сердца матери бедной; Все ей чуждо; в целом свете нет ей отрады; Невозвратно все пропало с дочкой родною». — «О Ундина! рада бога открой мне! ты знаешь, Где отец мой и мать; ты этот, этот подарок Мне приготовила. Где они? Здесь? Отвечай мне, Ундина» Взор Бертальды, сверкая, летал по собранью; меж знатных, С ними сидевших гостей выбирала она. Но Ундина Вдруг залилася слезами, к толпе обратилась, рукою Знак подала и воскликнула: «Где вы? явитесь, Найденной дочери вашей отец и мать!» Расступилась С шумом толпа; из средины ее рыбак и старушка Вышли; робко глаза устремили они на Ундину. «Вот она, ваша родная дочь!» – закричала Ундина, Им указав на Бертальду; и с громким рыданьем на шею Бросились к ней старики; но Бертальда с пронзительным криком Их от себя оттолкнула; страх, изумленье, досада Вдруг на лице ее отразились. Какой нестерпимый, Тяжкий удар для ее надменной души, ожидавшей Нового блеска с открытием знатных родителей! Кто же? Кто же эти родители? Нищие!.. В эту минуту В мысль ей пришло, что все то придумано хитро Ундиной С тем, чтоб унизить ее перед светом и рыцарем. «Злая Ложь! обманщица! подкуп!» – вот что твердила Бертальда, Гневно смотря на старушку, да мужа ее и Ундину. «Господи боже! – тихонько старушка шептала. – Какое ж Злое созданье стала она! а все-таки сердце Чует мое, что она мне родная». Рыбак же, сложивши Руки, молился, чтоб бог не карал их, послав им такую Дочь; а Ундина, как ангел, вдруг утративший небо, Бледная, в страхе незапном, не ведая, что с ней Делалось, вся трепетала, «Опомнись, Бертальда! Бертальда, Есть ли душа у тебя?» – она повторяла, стараясь Доброе чувство в ней возбудить, но напрасно; Бертальда Точно была вне себя; она в исступленье кричала Криком; рыбак и старушка плакали горько, а гости, Странным явленьем таким изумленные, начали шумно Спорить, кто за Ундину, кто за Бертальду; в ужасный Все пришло беспорядок, и вот напоследок Ундина, С чувством своей правоты, с благородством невинности мирной, Знак подала рукою, и все замолчали. Смиренно, Тихо, но твердо оказала она: «Вы странные люди! Что я вам сделала? Чем раздражила я вас? И за что вы Так расстроили милый мой праздник? Ах, боже! доныне Я о ваших обычаях, вашем безумном, жестоком Образе мыслей не знала, и их никогда не узнать мне. Вижу, что все безрассудно придумано мной; но причиной Этому вы одни, а не я. Хотя здесь наружность Вся на меня, но вы знайте: то, что сказала я, правда. Нет у меня доказательств; но я не обманщица, слышит Бог правосудный меня; а все, что здесь о Бертальде Я говорила, было открыто мне тем, кто в морские Волны младенцем ее заманил, потом на зеленый Берег отнес, где ее и нашел знаменитый наш герцог». — «Слышите ль? – громко вскричала Бертальда. – Она чародейка, Водится с злыми духами; сама при всех признается В этом она». – «О нет, – Ундина воскликнула с чистым Небом невинности в мирных очах, – никогда чародейкой Я не была; мне неведомо адское зло». – «Так бесстыдно Лжет и клевещет она. Ничем нельзя доказать ей Здесь, что рыбак отец мне, а нищая – мать. О! покинем Этот дом и этот город; где я претерпела Столько стыда», – «Нет, Бертальда, – ответствовал герцог, – отсюда Я дотоле не выйду, пока не решится сомненье Наше вполне». То слыша, старушка приблизилась робко К герцогу, низко ему поклонилась и вот что сказала: «Вы, государь, своим высоким герцогским словом Вдруг на разум меня навели. Скажу вам, что если Ваша питомица подлинно дочь нам, то должно, чтоб были Три родимых пятна, как трилистник видом, под правой Мышкой ее и точно такие же три на подошве Правой ноги. Позвольте, чтоб с нею я вышла». От этих Слов побледнела Бертальда, а герцог велел герцогине Выйти вместе с нею и взять с собою старушку. Скоро назад возвратились они; герцогиня сказала: «Правда правдой; все то, что здесь объявила хозяйка Наша, есть сущая истина: эти добрые люди Точно отец и мать питомицы нашей Бертальды». С этим словом герцог с женой и с Бертальдой и вместе С ними, по воле герцога, старый рыбак и старушка Вышли; гости, кто веря, кто нет, разошлись; а Ундина, Горько, горько заплакав, упала в объятия мужа.Глава XII О том, как рыцарь и Ундина уехали из имперского города
Рыцарь с глубоким чувством любви смотрел на Ундину. «Мною ль, – он думал, – дана ей душа иль нет, но прекрасней Этой души не бывало на свете: она как небесный Ангел». И слезы Ундины с нежнейшим участием друга Он отирал, целуя ей очи, уста и ланиты. Город имперский, который ей стал ненавистен, покинуть Он решился немедля и все велел приготовить К скорому в замок Рингштеттен отъезду. Вот на другой день Рано поутру была подана к крыльцу их повозка; Рыцарев конь и кони его провожатых за нею, Взнузданы, прыгали, рыли копытами землю; уж рыцарь Вышел с своей молодою женой и готов был ей руку Дать, чтоб в повозку ее посадить; но в эту минуту К ним подошла молодая девушка с неводом, в платье Рыбной торговки. «Нам товар твой не нужен, мы едем», — Рыцарь сказал ей. Она заплакала взрыд, и Бертальду В эту минуту узнали Гульбранд и Ундина; поспешно Вместе с нею они возвратилися в дом, и Бертальда Им рассказала, как герцог вчерашним ее поведеньем Был раздражен, как ее от себя отослал, подаривши Ей большое приданое, как старик и старушка, Также богато им одаренные, город того же Вечера вместе покинули. «С ними хотела пойти я, — Так продолжала Бертальда в слезах, – но старик, о котором Все говорят, что он мой отец…» – «Он отец твой, Бертальда, Точно отец, – слазала Ундина, – ты помнишь, как ночью К нам подошел седой человек, твой смотритель фонтанов: Он-то мне все и сказал; меня убеждал он, чтоб в замок Наш Рингштеттен тебя не брала я с собой, и невольно Тайна с его языка сорвалась…» – «Ну, отец мой, когда уж Должен он быть мне отцом, – продолжала Бертальда, – сказал мне Вот что: «Ты с нами не будешь до тех пор, пока не исправишь Гордого сердца; осмелься одна чрез этот дремучий Лес к нам пройти, тогда я поверю, что нашей роднею Быть желаешь; но скинь богатый убор; рыбаковой Дочерью к нам явися…» И я на все уж; решилась; Что он велел, то и будет; меня, несчастную, целый Свет оставил; бедная дочь рыбака, я в убогой Хижине жизнь безотрадную скрою и скоро умру там С горя. Правда, лес волшебный меня устрашает, Бродят там, слышно, духи, а я так пуглива; но что же Делать? К вам же пришла я затем, чтоб загладить вчерашний Свой проступок признаньем вины. О! забудьте, простите! Я и так уж несчастна безмерно; вспомните, что я Утром вчерашним была, что́ была еще при начале Вашего пира и что́ я теперь…» Опустивши в ладони Голову, плакала горько она, и меж пальцев бежали Слезы. Вся также в слезах, к ней на шею упала Ундина, Долго безгласна была, напоследок сказала: «Ты с нами В замок Рингштеттен поедешь; что положили мы прежде, То и сделаем; только ты будь со мной, как привыкла Быть; говори мне по-прежнему «ты». Вот видишь ли? В детстве Нас обменяли одну на другую; тогда уж мы были Связаны тесно судьбою; сплетем же узел наш сами Так, чтоб уже никогда никакой человеческой силе Не было можно его разорвать. Теперь ты поедешь С нами прямо в Рингштеттен; что ж после, как сестры родные, Мы меж собою разделим, о том успеем, приехав В замок, условиться». То услышав, Бертальда взглянула Робко на рыцаря; милой изгнанницы было не меньше Жаль и ему; и, руку подав ей, вот что сказал он: «Вверьте себя беззаботно сердцу Ундины. А к вашим Добрым родителям мы, по прибытии в замок, отправим Тотчас гонца, чтоб знали они, что сделалось с вами». Под руку взявши Бертальду, ее посадил он в повозку, Рядом с нею Ундину и бодро поехал за ними Рысью и скоком. Повозка летела: скоро имперский Город пропал далеко назади, с ним вместе пропало Там и все грустное прошлое; весело шла по прекрасной, Людной стране их дорога, и мало ли, долго ли длился Путь их, но вот напоследок в один прекраснейший летний Вечер они приехали в замок Рингштеттен. Был должен Рыцарь заняться хозяйством своим; молодая ж хозяйка Вместе с гостьей пошли осматривать замок. Построен Был на крутой он горе посреди равнин благодатной Швабии: вид из него был роскошный; и по валу вместе, За руки взявшись, гуляли Ундина с Бертальдою; вдруг им Встретился долгий седой человек; Бертальде знакомы Были черты; когда же Ундина, сердито нахмурясь, Знак ему подала, чтоб он удалился, и скорым Шагом, тряся головой, он пошел и пропал за кустами, В мысли пришло ей, что то ночной городской их знакомец Был, смотритель фонтанов. «Не бойся, Бертальда, – сказала Ей Ундина, – уж в этот раз твой несносный фонтанщик; Зла никакого не сделает нам». Тогда рассказала Все о себе Ундина: кто родом она, как Бертальду Струй похитил, как к рыбакам попала Ундина Вместо родной их дочери, словом, все. И сначала В ужас Бертальда пришла от такого рассказа; на сонный Бред походил он; но скоро она убедилась, что была Все то правда, и только дивилась тому, что в волшебной Сказке, когда-то в детстве рассказанной ей, очутилась Вдруг наяву, живая, сама; все ей в Ундине Стало чуждо; как будто бы дух бестелесный меж ними Вдруг протеснился; ей сделалось страшно. Когда ж, возвратяся, Рыцарь с нежностью обнял Ундину, то было понять ей Трудно, как мог он ласкаться к такому созданью, в котором (После того, что Бертальде сама рассказала Ундина) Виделся ей не живой человек, а какой-то холодный Призрак, что-то нездешнее, что-то чужое душе человека.Глава XIII О том, как они жили в замке Рингштеттене
Здесь мы с тобой остановимся, добрый читатель; прости мне, Если тебе о том, что после случилось, не много Буду рассказывать; знаю, что можно бы было подробно Мне описать, как мало-помалу рыцарь наш сердцем Стал от Ундины далек и близок к Бертальде, как стало Сердце Бертальды ему отвечать и час от часу жарче Тайной любовью к нему разгораться, как стали Ундины Он и она дичиться и в ней существо им чужое Видеть, как Ундина плакала, как пробуждали Слезы ее заснувшую совесть Гульбранда, а прежней В нем любви уже пробудить не могли, как порою Жалость его к Ундине влекла, а ужас невольно Прочь отталкивал, сердце ж стремило к Бертальде, созданью С ним однородному… знаю, что это все я умел бы, Добрый читатель, порядком тебе рассказать; но позволь мне Лучше о том позабыть, что так больно душе; испытали Все мы неверность здешнего счастья; ты сам, вероятно, Был им обманут, таков уж земной человеческий жребий. Счастлив еще, когда при разделе житейского был ты Сам назначен терпеть, а не мучить; на свете сем доля Жертвы блаженней, чем доля губителя. Если сей лучший Жребий был твой, читатель, то, может быть, слушая нашу Повесть, ты вспомнишь и сам о своем миновавшем, и тихо Милая грусть тебе через душу прокрадется, снова То, что прошло, оживет, и ты слезу сожаленья Бросишь опять на цветы, которыми так любовался Прежде на грядках своих, давно уж растоптанных. Полно ж, Полно об этом, читатель. Послушай, и с доброй Ундиной То же сбылось, что и с нами со всеми: Ундина страдала. Но и Гульбранд и Бертальда не была веселы. Всякий Раз, когда Ундина хоть мало была несогласна В чем с Бертальдой, последней казалось, что ревность владела Сердцем обиженной бедной жены; и мало-помалу Вид госпожи, причудливо-грубой и гордой, Бертальда С ней приняла; Ундина с грустным незлобием молча Все сносила; а рыцарь всегда стоял за Бертальду. Боле ж всего с недавнего времени вот что согласье Жителей замка стало тревожить: Гульбранд и Бертальда Начали вдруг на всех переходах, во всех закоулках Замка встречать привиденья, о коих дотоле и слуху Не было: белый, седой человек, в котором проказник Дядя Струй Гульбрандом, смотритель фонтанов Бертальдой Узнаны были, стал им повсюду обоим, Бертальде ж Чаще, являться с угрозой, так что Бертальда от страха Стала больна и даже решилась бы замок покинуть, Если б имела где угол какой для приюта; но честный Наш рыбак на письмо Гульбранда, которым тогда же Рыцарь его известил, что Бертальда едет в Рингштеттен, Вот что ответствовал: «Я по воле господа бога Стал одинокий, бедный вдовец; скончалась старушка Женка моя; хоть теперь мне дома и пусто, но лучше Быть хочу я один, чем с Бертальдой; пускай остается С вами, но только чтоб не было худа какого Ундине Милой моей от того; тогда ее прокляну я». Так-то, сколько неволей, столько и волей, осталась В замке Бертальда. Вот однажды случилось, что рыцарь Выехал. Скликав дворовых людей, Ундина велела Камень один огромный поднять и его на колодезь, Бывший на самой средине двора, наложить. «Нам далеко Будет ходить за водою», – заметили слуги. Но с грустным, Ласковым видом, с унылой улыбкой сказала Ундина: «Дети, сама бы за вас я с охотою стала в кувшинах Воду носить; но этот колодезь, поверьте мне, должно, Должно закрыть нам, иль с нами случится большое несчастье». Всем служителям было приятно угодное сделать Доброй своей госпоже; без дальних расспросов огромный Камень был поднят; и он, показалось, как будто бы доброй Волей давшись им в руки, с земли поднялся и как будто Сам рванулся колодезь задвинуть. Но в эту минуту К ним прибежала из замка Бертальда. «Не троньте колодца, — Громко она закричала, – его вода умываньем Лучшим мне служит; его запереть никак не позволю». Но Ундина с своим обычным смиреньем на этот Раз осталася в воле своей непреклонна. «Я в здешнем Замке хозяйка, – оказала она, улыбаясь прискорбно, — Мне за всем наблюдать; и здесь мне приказывать может Только рыцарь, мой муж и мой господин». – «Посмотрите, — С сердцем вскричала Бертальда, – подумать можно, что этой Бедной, невинной воде самой не хочется с божьим Светом расстаться: как жалко она трепещет и бьется!» В самом деле, чудно кипя и шипя, из-под камня Ключ пробивался, как будто спеша убежать и как будто Что из него исторгнуться силой хотело. Тем с большей Строгостью свой приказ повторила Ундина; охотно Был он исполнен: Ундину любили, а гордость Бертальды Всех от нее удаляла, и каждому было приятно Той угодить, а этой сделать досаду; и камень Крепко-накрепко устье колодца задвинул. Ундина Тихо к нему подошла, над ним задумалась, что-то Пальчиком нежным своим на нем написала, в молчанье Грустном потом посмотрела вокруг себя и, вздохнувши, Медленным шагом в замок пошла. На камне ж остались Видны какие-то странные знаки, которых дотоле Не было там. Ввечеру, когда Гульбранд возвратился В замок Рингштеттен, Бертальда ему в слезах рассказала То, что случилось с колодцем. Сурово взглянул на Ундину Рыцарь; она стояла, головку склоня и печально В землю глаза опустив; но однако, собравшися с духом, Вот что шепнула в ответ: «Всегда справедлив господин мой; Он и раба не осудит, не выслушав; тем наипаче Мне, законной жене, он позволит в свое оправданье Слово оказать» – «Говори», – сердито ответствовал рыцарь. «Я бы желала, чтоб был ты один», – сказала Ундина. «Нет, при ней!» – Гульбранд возразил, указав на Бертальду, «Я исполню волю твою, – она продолжала, — Но не требуй того, прошу, умоляю, не требуй». Голос ее был так убедителен, очи так нежны, Все в ней являло такую покорность, что в сердце Гульбранда Солнечный луч минувших дней пробежал; он Ундину Дружески за руку взял и в ближнюю горницу с нею Вышел; и вот что ему сказала она: «Уж коварный Дядя мой Струй довольно известен тебе; не один раз встречался Он с тобою здесь в замке; Бертальде же так он Страшен, что может она умереть. Он бездушен, он просто Отблеск стихийный наружного мира; что в жизни духовной Здесь происходит, то вовсе чуждо ему; здесь глядит он Только на внешность одну. Замечая, как ты недоволен Мной иногда бываешь, как я, неразумный младенец, Плачу, как в то же время Бертальду, случайно быть может, Что-нибудь заставляет смеяться, в своем безрассудстве Видит он то, чему здесь и признака нет, колобродит, Злится и в наши дела, незваный, мешается; пользы Нет от того никакой, что ему я грожу и гоняю С сердцем отсюда его; он мне, упрямый, не верит; в бездушной, Бедной жизни своей никогда не будет способен Он постигнуть того, что в любви и страданье и радость Так пленительно сходны, так близко родня, что разрознить Их никакая сила не может: с улыбкою слезы Сладко сливаются, слезы рождают улыбку». И очи, Полные слез, с улыбкой поднявши, она исподлобья Робко смотрела Гульбранду в лицо; и все трепетанье Прежней любви он почувствовал в сердце; Ундина глубоко То поняла, к нему прижалась нежней и в блаженстве Радостных слез продолжала: «Когда словами не можно Нам бестолкового дядю Струя унять, то затворим Вход ему в замок; единственный путь, которым сюда он Может свободно всегда проникать, есть этот колодезь; Он с другими духами здешних источников в ссоре; Царство ж его начинается ниже, вдоль по Дунаю. Вот для чего я на камне, которым колодезь задвинут, Знаки свои написала: они беспокойного дядю Струя власти лишили, и он ни тебя, ни Бертальду Боле не будет тревожить; он камня не сдвинет. Но людям Это легко; ты можешь исполнить желанье Бертальды; Но, поверь мне, она не знает, чего так упрямо Требует; Струй на нее особенно злится. А если Сбудется то, что он предсказал мне (хотя и без всякой Мысли худой от тебя), то и сам ты, мой милый, не будешь Вне опасности». Рыцарь, глубоко проникнутый в сердце Великодушным поступком своей небесной Ундины, Обнял ее с горячностью прежней любви. «Мы не тронем Камня; отныне ж и все, что ты когда ни прикажешь, Будет в замке от всех, как теперь, исполняемо свято, Друг мой Ундиночка». Так ей рыцарь сказал, и Ундина, Руку целуя ему в благодарность за милое, столько Времени им позабытое слово любви, прошептала Робко: «Милый мой друг, ты ныне со мной так безмерно Милостив, ласков и добр, что еще об одном попрошу я. Видишь ли? Ты для меня как светлое лето; в сильнейшем Блеске своем оно иногда себя покрывает Огненно-грозным венцом громовых облаков и владыкой, Истинным богом земли нам является; точно таков ты Кажешься мне, когда, на меня прогневан бывая, Грозно сверкаешь, гремишь и очами и словом; и в этом, Милый, твоя красота, хотя и случится порою Мне, безрассудной, плакать; но слушай, друг мой: воздержен Будь на водах от гневного слова со мною; единым Словом таким меня передашь ты в волю подводных Сродников; мстя за обиду их рода, они невозвратно В море меня увлекут, и там в продолжение целой Жизни я буду под влажно-серебряным сводом в неволе Плакать, и мне уж к тебе не прийти; а если приду я… Боже! то это будет и пуще тебе на погибель. Нет, мой сладостный друг, избавь меня от такого Бедствия». Рыцарь торжественно дал обещанье исполнить Просьбу ее, и они с веселым лицом возвратились В горницу, где их Бертальда ждала. Она уж успела Слуг к колодцу послать, чтоб они, по первому знаку Рыцаря, камень свалили с него. «Не трогайте камня, — Холодно рыцарь сказал, – и помните все, что Ундина В замке моем одна госпожа, что ее приказанья Святы». При этом слове Бертальда, в лице изменившись, Скрылась. Вот уж и ужина час наступил, а Бертальды Не было. Рыцарь послал за нею, но вместо Бертальды В спальне ее опустевшей нашли записку на имя Рыцаря; вот что стояло в записке: «Вы приняли, рыцарь, В дом свой меня, недостойную дочь рыбака, и о низком Роде своем я безумно забыла; за то в наказанье Доброю волей иду к отцу рыбаку, чтоб, в убогой Хижине скрывшись, о счастье земном не мечтать; наслаждайтесь Долго им вместе с вашей прекрасной супругой». Ундина Сильно была опечалена; рыцаря вслед за Бертальдой Стала она посылать – ее убежденья, однако, Были не нужны; он сам на то был готов. Но в какую Сторону ехать за ней? Никто об этом не ведал. Рыцарь сидел на коне и хотел уж свой путь наудачу Выбрать, как вдруг явился пастух и сказал, что Бертальда Встретилась с ним у входа Черной Долины; стрелою Рыцарь пустился туда, не слыша того, что в окошко Вслед за ним кричала Ундина: «Не езди! не езди, Милый! постой! Гульбранд, берегися Черной Долины! Стой! назад! иль, бога ради, позволь мне с тобою Ехать!..» Но рыцарь уж был далеко. Ундина поспешно Села сама на коня и одна за ним поскакала.Глава XIV О том, как отыскалась Бертальда
Эта долина, в то время слывшая Черной Долиной, Очень близко была от замка, а как называют Нынче ее, неизвестно; тогда ж поселяне ей имя Черной дали за то, что глубоко средь диких утесов, Елями густо заросших, лежала она, что кипучий, Быстрый поток, на скалистом дне ущелья шумевший, Черен меж елей бежал и что небо нигде голубое В мутные воды его не светило. В сумерки стало Вдвое темней и ужасней меж елей и диких утесов. Рыцарь с трудом пробирался вдоль берега; страшно Было ему за Бертальду, и засветло встретиться с нею Он торопился; по всем сторонам с напряженным вниманьем Взор обращал он, и сердце в нем билось сильней; он со страхом Думал: что будет с нею, если заблудится в этом Диком месте, ночью и в грозу, которая черной, Тяжкой тучей шла на долину? Вдруг показалось Белое что-то ему в потемках, на склоне утеса; Он подумал, что было то платье Бертальды, и шпорить Начал коня; но конь захрапел, уперся и, уши Чутко подняв, не шел ни назад, ни вперед; чтоб напрасно не тратить Времени, рыцарь спрыгнул с седла, к опрокинутой ветром Ели коня привязал и пеший вперед пробираться Начал кустами; он спотыкался; упорные ветви Били его по лицу и как будто нарочно сплетались Сетью, чтоб дале не мог он идти; он ломал их, а небо Тою порою все боле и боле мрачилось, и глухо Гром гремел по горам, и все кругом становилось Странным таким, что он уж и робость чувствовать начал, Глядя на белый образ, к которому ближе и ближе Все подходил и который лежал на земле неподвижно. С духом собравшись, к нему наконец подступил он; сначала Сучьями тихо потряс, мечом позвенел – никакого Нет ответа. «Бертальда! Бертальда!» – он начал сначала Тихо, потом все громче и громче кликать – ответа Все ему нет. Наконец закричал он так громко, что эхо Вместе с ним закричало повсюду: «Бертальда!» – напрасно; То же молчанье. Тогда он к ней наклонился; но было Так уж темно, что, не могши под носом видеть, пригнулся К самой земле он лицом, и в эту минуту сверкнула Яркая молния; все осветилось, и что же в блеске увидел Рыцарь? Под самым лицом его отразилась из черной Тьмы безобразно-свирепая харя, и голос осиплый Взвыл: «Поцелуйся со мной, пастушок дорогой!» Приведенный В ужас, кинулся рыцарь назад; но свирепая харя С визгом и хохотом кинулась вслед. «За чем ты? Куда ты? Духи на воле! назад! убирайся! иль будешь ты нашим!» — Вот что выла она, и длинные руки хватали Рыцаря. «Струй проклятый! – Гульбранд закричал, ободрившись. — Это твои проказы! постой, я тебя поцелую!» Сильно он треснул по харе мечом; она разлетелась В брызги, и рыцарь пеной, шипящей как хохот, был облит Весь с головы до ног; тогда объяснилося, с кем он Дело имел. «Меня удержать он, я вижу, намерен, — Рыцарь громко сказал, – он думает, я испугаюсь Шуток бесовских его и Бертальду бедную брошу Злому духу во власть. Демон бездушный не знает, Как всемогущ человек своей непреклонною волей!» Сам он почувствовал истину слов сих; новая бодрость В нем родилась, и как будто бы счастие с этой минуты Стало с ним заодно: к своему коню возвратиться Он еще не ушел, как уж явственно сделался слышен Жалобный голос Бертальды, зовущей на помощь сквозь шумный Ветер и говор грозы, подходившей час от часу ближе, Он полетел на крик и увидел Бертальду. Из страшной Черной Долины силяся выйти, она по крутому Боку ее тащилася кверху; тут заступил ей Рыцарь дорогу; и как ни твердо, в своей оскорбленной Гордости, прежде решилась она на побег, но встретить Гульбранда Было ей радостно; ужас, испытанный ею в дороге, Сердце ее усмирил, а светлая жизнь в безмятежном Замке так ласково руки к ней простирала, что рыцарь Тотчас ее за собою идти убедил. Но Бертальда Силы почти не имела; Гульбранд с большим затрудненьем Мог ее до коня своего довести; и помочь ей Сесть на седло он хотел, чтоб, коня отвязав, за собою Весть его в поводах; но конь, испуганный Струем, Был как зверь: он злился, храпел, на дыбы подымался, Задом и передом бил; Бертальде даже и близко Было нельзя подойти. Пошли пешком: осторожно Рыцарь спутницу под руку вел, а коня за собою Силой тащил за узду; Бертальда едва подвигала Ноги и как ни боролась с собой, но усталость давила Члены ее как свинец; а буря, удар за ударом Грома, сверкание молнии, шум деревьев во мраке, Злая игра привидений… словом, Бертальда, слияньем Ужасов сих изнуренная, пала на землю; и в то же Время рыцарев конь, как будто взбесившийся, начал Снова метаться и рваться. Рыцарь, боясь чтоб в Бертальду Он не ударил, хотел от нее отойти; но Бертальда С воплем его начала умолять, чтоб остался. На волю ж Злого коня пустить он не смел: он боялся, что этот Дикий зверь, набежав на лежащую, тяжким копытом Грянет в нее: короче, на что решиться, что делать, Рыцарь не знал. И вдруг он обрадован был недалеким Стуком колес: каменистой дорогой, он слышал, тащилась Фура. Гульбранд закричал, чтоб им помогли; грубоватый Голос мужской откликнулся; скоро в потемках мелькнули Две огромные белые лошади, с ними погонщик, Роста огромного, в белом плаще; и фура покрыта Белой холстиной была, как все повозки с товаром. «Стойте, клячи!» – крикнул погонщик, и лошади стали. Он подошел к Гульбранду, который с конем одичалым Все еще бился. «Я вижу, в чем дело, – сказал он, – с моими Белыми то же случилось, когда я в первый раз с возом Этой долиной тащился; здесь гнездится какой-то Бес водяной: он великий проказник, проезжим покоя Нет от него; но мне удалося сведать словечко; Дай-ка шепну я его упрямой этой лошадке На ухо». – «Делай, что хочешь, но только скорее», – воскликнул Рыцарь, кипя нетерпеньем. Погонщик, как слабую ветку, Вытянул шею коню, на дыбы вскочившему; что-то В ухо ему шепнул, и как вкопанный стал он, лишь только Жарко пыхтел, и пар от него подымался. Не время Было Гульбранду расспрашивать, как совершилося чудо; Он убедил погонщика взять в повозку Бертальду, Сам же хотел провожать ее на коне; но усталый Конь едва шевелил ногами. «Садитесь-ка, рыцарь, В фуру и вы, – погонщик сказал, – дорога отсюда Под гору будет; коня же привяжем сзади – повозки». Рыцарь сел с Бертальдою в фуру, коня привязали Сзади, бичом захлопал погонщик, дернули дружно Лошади, фура поехала. Было темно; утихая, Глухо вдали гремела гроза; в усладительно-мирном Чувстве своей безопасности, в сладком покое, в волшебном Мраке ночи, свободе речей благосклонном, меж ними Скоро сердечный, живой разговор начался: в выраженьях Ласковых рыцарь Бертальде пенял за побег. Торопливо, Трепетным голосом, вся в волненье, Бертальда проступок Свой извиняла, и речи ее таинственно-ясны Были, как свет лампады, когда он во мраке от милой Милому знак подает, что его ожидают. Рыцарь Был в упоенье. Но вдруг пробудил их погонщиков голос. «Клячи, тяните живее! – кричал он, – дружно! беда нам!» Рыцарь поспешно из фуры выглянул – что ж он увидел? Лошади, по брюхо в мутной воде, не шагали, а плыли; Не было видно колес: они, как на мельнице, с шумом, С пеной и с брызгами резали волны; погонщик на козлы Влез и правил стоймя, и был уж в воде по колено. «Что за дорога такая? – спросил у погонщика рыцарь. — Прямо идет в середину потока». – «Напротив! – погонщик С смехом сказал, – поток идет в середину дороги; Видите сами; это сущий потоп; мы пропали». Подлинно, вся глубина долины кипела волнами; Выше и выше они подымались. «Это злодей наш Струй! утопить нас он хочет, – рыцарь воскликнул, – товарищ, Нет ли и против него у тебя какого словечка?» — «Есть словечко, – погонщик сказал, – да надобно прежде Сведать вам, кто я и как прозываюсь!» – «Не время загадки Нам загадывать, – рыцарь сказал, вода прибывает; Имя твое здесь не нужно». – «А так-то не нужно, – погонщик С диким хохотам гаркнул, – что, просим не гневаться, сам я Струй!» И ужасную харю свою он уставил в повозку… Но повязка уж боле была не повозка, уж были Лошади боле не лошади; все разлетелось, расшиблось В пену, в шипучую воду, и сам погонщик поднялся Страшной волной на дыбы, и коня, который напрасно Рвался и бился, умчал за собой в глубину, и ужасно Начал снова расти и расти, и горой водяною Вырос, и был уж готов на Бертальду и рыцаря, силой Волн увлеченных, упасть, чтоб громадой своей задавить их… Вдруг сквозь шум гармонически-сладостный голос раздался; Вышел из облака месяц, и в свете его над долиной явился Образ Ундины; она погрозила волнам – и, разбившись Пылью, гора водяная, ворча и журча, убежала; В блеске месяца мирно поток заструился; и белым Голубем свеяла тихо Ундина в долину; и, руку Рыцарю вместе с Бертальдой подав, на муравчатый берег Их за собой увела; там они отдохнули; Ундинин Конь был отдан Бертальде; за нею пешком потихоньку Рыцарь с женою пошли; и так возвратились все в замок.Глава XV О том, как они ездили в Вену
С этой поры, мой читатель, жилось покойно и мирно В замке Рингштеттене. Рыцарь все чувствовал боле и боле Прелесть небесную доброго сердца Ундины, забывшей Все для спасенья соперницы. В доброй Ундине Всякая память о прошлом исчезла: она беззаботным Сердцем любила и, зная, что шла прямою дорогой, Ясную в нем питала доверенность; все в настоящем Было ей радостно; в будущем все улыбалось. Бертальда, Снова ей с прежней любовью всю душу отдав, благодарной, Кроткой и нежной являлась; короче, замок Рингштеттен Стал обителью светлого счастья. Дни пролетали Быстро за днями; зима наступила; зима миновалась; Вот и весна с благовонно-зеленой своей муравою, С светло-лазоревым небом своим улыбнулась веселым Жителям замка; стало на сердце их радостно, стало и смутно. Что ж тут дивиться, если, при виде, как в воздухе вешнем Нитью вились журавли и легкие ласточки мчались, Стало и их позывать в далекую даль. Раз случилось Рыцарю вместе с женой и Бертальдой в прекрасное утро Около светлых истоков Дуная гулять; им об этой Славной реке он рассказывал много: как протекала Пышным, широким потоком она по землям благодатным, Как на ее берегах прекрасная Вена сияла, Как по ней величаво ходили суда, как бежали Мимо плывущих назад берега, услаждая их очи Зрелищем пажитей, нив, городов и рыцарских замков. «О! – сказала Бертальда, – как было бы весело съездить В Вену водой…» – но, опомнясь, она покраснела и взоры Робко потупила. Милым ее смущеньем Ундина Тронувшись, руку ей подала, и в ней загорелось Сильно желанье утешить подругу свою. «Да за чем же Дело стало? – сказала она. – Ничто не мешает Съездить нам в Вену». Бертальда запрыгала с радости. Вместе Стали они учреждать поездку свою и заране Тем, что представится им на пути, восхищались. И рыцарь С ними был заодно; Ундине, однако, шепнул он: «Вспомни о Струе; ведь он могуч на Дунае». – «Не бойся, — С смехом сказала Ундина, – пускай он попробует сделать Что-нибудь с нами; я тут! при мне уж никак колобродить Он не посмеет». Ответом таким уничтожены были Все затрудненья, и с бодрым духом, с веселой надеждой Стали готовиться в путь. Но скажите мне, добрые люди, Все ли сбывается так на земле, как надежда сулит нам? Хитрая Власть, стерегущая нас для погибели нашей, Сладкие песни, чудные сказки подмеченной жертве На ухо часто поет, чтоб ее убаюкать. Напротив, Часто спасительный божий посланник громко и страшно В двери наши стучится. Как бы то ни было, наши Путники весело плыли в первые дни по Дунаю: День ото дня река становилася шире и виды Пышных ее берегов живописней. Но вдруг – и на самом Чудно-прелестном месте – открыл свои нападенья Бешеный Струй; то были сначала простые помехи (Волны бурлили без ветра; ветер отвсюду, меняясь, Дул и судно качал); но Ундина одною угрозой, Словом сердитым одним на воздух и в воды смиряла Силу врага; то было, однако, ненадолго: снова Он гомозился, и снова Ундина его унимала; Словом сказать, веселость дороги расстроилась вовсе. В то же время гребцы, дивяся тому, что в глазах их Делалось, между собою часто шептались; и скоро Стали на все с подозреньем посматривать; самые слуги Рыцаря, чувствуя что-то недоброе, диким и робким Взором следили господ; а Гульбранд, задумавшись грустно, Сам про себя говорил: «Таково-то бывает, как скоро Здесь неровные сходятся; худо, если вступает В грешный союз земной человек с женой водяною». Вот что, однако, себе в утешенье твердил он: «Ведь прежде Сам я не ведал, кто она; правда, тяжко порою Мне приходит от этой бесовской родни; но мое здесь Горе, вина ж не моя». Хотя иногда и вливал он Несколько бодрости в душу свою таким рассужденьем, Но зато, с другой стороны, все боле и боле Против бедной Ундины был раздражаем. То слишком, Слишком она понимала, и в смертную робость угрюмый Рыцарев вид ее приводил. Утомленная страхом, Горем и тщетной борьбой с необузданным Струем, присела Под вечер к мачте она, и движение тихо плывущей Лодки ее укачало: она погрузилась в глубокий Сон. Но едва на мгновенье одно успели закрыться Светлые глазки ее, как вдруг перед каждым из бывших В лодке, в той стороне, куда он смотрел, появилась, Вынырнув с шумом из вод, голова с растворенным зубастым Ртом и кривлялась, выпучив страшно глаза. Закричали Разом все; отразился на каждом лице одинакий Ужас, и каждый в свою указывал сторону с криком: «Здесь! сюда посмотри!» И из каждой волны создалася Вдруг голова ужасным лицом, и поверхность Дуная Вся как будто бы прыгала, вся сверкала глазами, Щелкала множеством зуб, хохотала, гремела, шипела, Шикала. Крик разбудил Ундину, и вмиг при воззренье Гневном ее пропали страшилища все. Но рыцарь ужасно Был раздражен; с умоляющим взглядом Ундина сказала: «Ради бога, здесь, на водах, меня не брани ты». Он умолкнул, сел и задумался. «Друг мой, – шепнула Снова Ундина, – не лучше ль нам дале не ездить? Не лучше ль В замок Рингштеттен обратно отправиться? В замке Будем спокойны». – «Итак, – проворчал, нахмурившись, рыцарь, — В собственном доме своем осужден я жить как невольник! Только до тех пор и можно дышать мне, пока на колодце Будет камень! Чтоб этой проклятой родне…» Но Ундина Речь его перебила, с улыбкой ему наложивши На губы руку. Опять замолчал он, вспомнив о данном Им обещанье Ундине. В эту минуту Бертальда, В мыслях о том, что делалось с ними, сидела на крае Лодки и в воды глядела; сама того не приметив, С шеи своей она сняла ожерелье, подарок Рыцаря; им водила она по поверхности ровных Вод, любуясь, как будто сквозь сон, сверканьем жемчужных Зерен в прозрачной, вечерним лучом орумяненной влаге. Вдруг расступилась вода, и кто-то, огромную руку Высунув, ею схватил ожерелье и быстро пропал с ним. Вскрикнула громко Бертальда, и хохот пронзительный грянул Отзывом крика ее по водам. Тут более рыцарь Гнева не мог удержать; он вскочил в исступленье и в реку Начал кричать, вызывая на битву с собой всех подводных Демонов, никс и сирен; а Бертальда своим безутешным Плачем о милой утрате и пуще его раздражала. Тою порою Ундина, к реке наклонясь, окунула Руку в прозрачные волны и что-то над ними шептала; Но поминутно она прерывала свой шепот, Гульбранду Голосом нежным твердя: «Возлюбленный, милый, подумай, Где мы; брани их как хочешь; со мной же ни слова; ни слова, Ради бога, со мною одною; ты знаешь». И рыцарь, Как ни был раздражен, но ее пощадил. Вдруг Ундина Вынула влажную руку из вод, и в ней ожерелье Было из чудных кораллов; своим очарованным блеском Всех ослепило оно. Его подавая Бертальде, «Вот что, – сказала она, – для тебя из реки мне прислали, Друг мой, в замену потери твоей. Возьми же, и полно Плакать». Но рыцарь в бешенстве кинулся к ней, ожерелье Вырвал, швырнул в Дунай и воскликнул: «Ты с ними Все еще водишь знакомство, лукавая тварь! пропади ты Вместе с своими подарками, вместе с своею роднею! Сгинь, чародейка, от нас и оставь нас в покое!..» С рукою, Все еще поднятой вверх, как держала она ожерелье, Бледная, страхом убитая, взор неподвижный, но полный Слез устремив на Гульбранда, Ундина его слова роковые Слушала; вдруг начала, как милый ребенок, который Был без вины жестоко наказан, с тяжким рыданьем Плакать и вот что сказала потом истощенным от горя Голосом: «Ах, мой сладостный друг! ах, прости невозвратно! Их не бойся; останься лишь верен, чтоб было мне можно Зло от тебя отвратить. Но меня уводят; отсюда Прочь мне до́лжно на всю молодую жизнь… о мой милый, Что ты сделал! ах, что ты сделал! о горе! о горе!..» Тут из лодки быстро она в реку ускользнула: В воду ль она погрузилась, сама ли водой разлилася, В лодке никто не приметил; было и то и другое, Было ни то ни другое. Следа не оставив, в Дунае Вся распустилась она; но долго мелкие струйки Около судна шептали, журчали, рыдая; и вслух доходили Внятно как будто слова: «О горе! будь верен! о горе!..» С жалобным криком рыцарь упал, и обморок сильный Душу ему на минуту отвел от тяжелыя муки.Глава XVI О том, что случилось с рыцарем
Как нам, читатель, сказать: к сожаленью иль к счастью, что наше Горе земное нена́долго? Здесь разумею я горе Сердца, глубокое, нашу всю жизнь губящее горе, Горе, которое с милым, потерянным благом сливает Нас воедино, которым утрата для нас не утрата, Смерть вдвоем бытие, а жизнь порыв непрестанный К той черте, за которую милое наше из мира Прежде нас перешло. Есть, правда, много избранных Душ на свете, в которых святая печаль, как свеча пред иконой, Ярко горит, пока догорит; но она и для них уж Все не та под конец, какою была при начале, Полная, чистая; много, много иного, чужого Между утратою нашей и нами уже протеснилось; Вот, наконец, и всю изменяемость здешнего в самой Нашей печали мы видим… итак, скажу: к сожаленью, Наше горе земное нена́долго. Это и рыцарь Также изведал – к худу ль, к добру ль своему, мы увидим. Он сначала только и мог, что плакать, так горько Плакать, как плакала бедная, кроткая, ангел доброты, Ундина, Стоя в лодке, когда он отнял у ней ожерелье, Коим она все поправить так мило хотела; потом он Так же и руку вверх подымал, как Ундина, и снова Плакал, и весь изойти слезами хотел. И Бертальда Вместе с ним плакала искренно, горько. Друг подле друга В замке Рингштеттене тихо жили они, сохраняя Свято память Ундины и вовсе почти позабывши Прежнюю склонность. К тому же, в это время случалось Часто и то, что Гульбранда во сне посещала Ундина: Грустно к постеле его подходила она, и смотрела Пристально в очи ему, и плакала молча, и тихо, Тихо потом назад уходила, так что, проснувшись, Сам он наверно не знал, его ли, ее ли слезами Были так влажны щеки его. Но вот напоследок Эти сны об Ундине стали час от часу реже; Стало на сердце рыцаря тише; в нем скорбь призаснула. Но быть может, что он для себя ничего и придумать В жизни не мог бы иного, как только чтоб память Ундины Верно хранить и об ней горевать, когда б не явился В замке наш честный старый рыбак и не стал от Гульбранда Требовать дочери. Сведав по слуху о том, что с Ундиной Сделалось, доле терпеть он уже не хотел, чтоб Бертальда В замке одном жила с неженатым. «Рада ль, не рада ль Будет мне дочь, о том я теперь и знать не желаю, — Он говорил, – но где о честном имени дело, Там разбирать уж нельзя». С приходом его пробудилось В рыцаре прежнее чувство, им позабытое вовсе В горе по милой Ундине; притом же его ужаснула Мысль: одному в опустевшем замке остаться. Но много Против брака с Бертальдой отец говорил в возраженье: «Точно ль Ундины на свете не было? Впрочем – на дне ли Влажном Дуная тело ее неотпетым лежало, Море ль его без приюта носило своими волнами — Все Бертальда отчасти ее безвременной, жалкой Смерти причиной была, и великий грех заступить ей Место бедной жены, от нее пострадавшей». Хоть это Было и правда, но рыцарь стоял на своем; напоследок, С ним согласившись, рыбак остался в замке. И тотчас Был отправлен гонец за отцом Лаврентием с зовом В замок Рингштеттен: Гульбранду хотелось, чтоб тот же, кем первый Брак с Ундиной его в счастливые дни совершен был, Ныне и с новой женою его сочетал. Но священник, С страхом каким-то посланника выслушав, тотчас В путь отправился; день и ночь, несмотря на усталость — Было ль ненастье иль ясное время, – он шел. «Помоги мне, Господи, – зло отвратить», – он молился. И вот напоследок Вечером поздним одним он вступил на двор, осененный Старыми липами, замка Рингштеттена. Рыцарь с невестой, Веселы, рядом с ними рыбак, задумчив, под тенью Лип сидели. Увидя отца Лаврентия, рыцарь С радостным криком вскочил, и все его окружили. Но священник был молчалив, прискорбен; хотел он Рыцарю что-то сказать одному; но рыцарь, как будто Весть худую предчувствуя, медлил вступить в особливый С ним разговор. Священник сказал напоследок: «Таиться Здесь мне не нужно; до всех вас касается то, что скажу я; Слушайте ж, рыцарь. Точно ль уверены вы, что супруга Ваша скончалась? Мне не верится это. Хоть много Было разной молвы и об ней самой и о роде Чудном ее, – что правда, что нет, я не знаю, – но знаю То, что она была добронравной, верной, смиренной, Благочестивой женою; а вам я скажу, что с недавних Пор она по ночам начала мне являться: приходит, Плачет, ломает руки, вздыхает и все говорит мне: «Честный отец, удержи ты его; я жива; о, спаси ты Тело ему! о, спаси ты душу ему!..» И сначала Сам я понять не умел, чего хотело виденье: Вдруг посольство отсюда – и здесь я; но я не для брака Здесь, для развода. Гульбранд, откажись от Бертальды; Бертальда, Рыцарь не может быть мужем тебе, им владеет другая. Верьте мне, верьте, или ваш брак вам не будет на радость». Рыцарь с досадою выслушал старца Лаврентия; долго Спорили жарко они; напоследок патер с сердитым Видом из замка ушел, не желая и ночи единой В нем провести. Гульбранд, уверив себя, что священник Был сумасброд и мечтатель, послал в монастырь, по соседству С замком лежавший, за патером; тот без труда согласился Брак совершить, и день для обряда был тут же назначен.Глава XVII О том, как рыцарь видел сон
Было время меж утра и ночи, когда на постеле Рыцарь, сонный не сонный, лежал. Уже забываться Начал он; вдруг перед ним невидимкой ужасное что-то Стало; и он очнулся, как будто услышан какой-то Голос, шепнувший: к тебе подошел посетитель бесплотный; Силиться стал он, чтоб вовсе проснуться, но вот он услышал Снова: как будто над ним и под ним лебединые крылья Веяли, волны журчали и пели; и он, утомленный, В сладкой дремоте опять упал головой на подушку. Вот наконец и подлинно сон овладел им; и начал Видеть во сне он; что будто им слышанный шум лебединых Крыльев крыльями стал, что будто его подхватили Эти крылья и с ним над землей и водой полетели С сладостным веяньем, с звонким стенанием. Стон лебединый! Стон лебединый! (себе непрестанно твердил поневоле Сонный рыцарь) ведь он предвещает нам смерть». И казаться Стало ему, что под ним Средиземное море; и лебедь, Слышалось, пел: расступись, озарись, Средиземное море. Вниз посмотрел он: лазурные воды стали прозрачным, Чистым кристаллом, и мог он насквозь до самого дна их Видеть; и там он увидел Ундину; под светлым, кристальным Сводом сидела она и плакала горько; и было уж много, Много в ее лице перемены; не та уж Ундина Это была, с которою в прежнее время так счастлив Был он в замке Рингштеттене: очи, столь ясные прежде, Были тусклы, щеки впалы, болезнен был образ. Все то рыцарь заметил; но ею самой он, казалось, Не был замечен. И вот подошел к ней, рыцарь увидел, Струй, как будто с упреком за то, что так безутешно Плакала; тут Ундина с таким повелительным видом Встала, что Струй перед нею как будто смутился. «Хотя я Здесь под водами живу, – сказала она, – но с собою Я принесла и душу живую; о чем же так горько Плачу, того тебе никогда не понять; но блаженны Слезы мои, как все блаженно тому, кто имеет Верную душу». Струй, покачав головою с сомненьем, Начал о чем-то думать, потом сказал: «Ты, как хочешь, Чванься своею живою душою, но все ты под властью Наших стихийных законов, и все ты обязана строгий Суд наш над ним совершить в ту минуту, когда он Верность нарушит тебе и женится снова». – «Но в этот Миг он еще вдовец, – отвечала Ундина, – и грустным Сердцем любит меня». – «Вдовец, я не спорю, – со смехом Струй отвечал, – но он и жених, а скоро и мужем Будет; тогда уж ты, не прогневайся, с нашим посольством, Хочешь не хочешь, пойдешь; а это посольство сама ты Знаешь какое – смерть». – «Но знаю и то, что не можно В замок Рингштеттен войти мне, – сказала с улыбкой Ундина, — Камень лежит на колодце», – «А если он выйдет из замка? — Струй возразил. – А если велит он камень с колодца Сдвинуть? Ведь он об этих безделках забыл». – «Для того-то, — С ясной сквозь слезы улыбкой сказала она, – и летает Духом теперь он поверх Средиземного моря и слышит Сонный все то, что мы с тобой говорим; я нарочно Это устроила так, чтоб он остерегся». Приметя Рыцаря, Струй взбесился, топнул ногой, кувыркнулся В волны и быстро уплыл, раздувшись от ярости китом. Лебеди снова со звоном, со стоном начали веять, Начали реять; и снова рыцарю видеться стало, Будто летит он, летит над горами, летит над водами, Будто на замок Рингштеттен слетел и будто проснулся. Так и было: проснулся Гульбранд у себя на постеле. В эту минуту вошел кастелян объявить, что близ замка Встречен был патер Лаврентий, что он в лесу недалеко Сделал себе из сучьев шалаш и в нем поселился. — «Мне на вопрос, зачем он живет здесь, когда отказался Рыцарев брак освятить, отвечал он: «Разве одни лишь Браки должны освящать мы? Другие нередко обряды Нам совершать случается. Если не мог пригодиться Я на одно, пригожусь на другое, и жду; пированье Может легко перейти в гореванье. Итак, кто имеет Очи, да видит; кто уши имеет, да слышит». В раздумье Долго рыцарь сидел, вспоминая свой сон и значенье Слов отца Лаврентия силясь понять; но, пришедши К милой невесте, он все позабыл, разгулялся и снова Сделался весел, и все осталось по-прежнему в замке.Глава XVIII О том, как рыцарь праздновал свадьбу
Если рассказывать мне, читатель, подробно, каков был В замке Рингштеттене свадебный пир, то будет с тобою То же, как если бы вдруг ты увидел множество всяких Редких сокровищ, покрытых траурным флером, и в этом Злую насмешку нашел над ничтожностью счастья земного. Правда, в этот свадебный день ничего не случилось Страшного в замке, – духам водяным, уж это мы знаем, Было проникнуть в него нельзя, – но со всем тем наш рыцарь, Гости, рыбак и даже служители были все как-то Смутны; казалося всем, что на празднике с ними кого-то Главного нет и что этим главным никто уж не мог быть, Кроме смиренной, ласковой, всеми любимой Ундины. Всякий раз, когда отворялися двери, невольно Все на них обращали глаза и ждали; когда же Вместо желанной являлся иль с блюдом дворецкий, иль ключник С кубком вина благородного, каждый печально в тарелку Взор опускал и сидел безгласен, как будто бы в грустной Думе о прошлом. Всех веселее была молодая; Но и ей самой как будто совестно было В брачном зеленом венце, в жемчугах и в богатом венчальном Платье на первом месте сидеть, тогда как Ундина «Трупом, еще не отпетым, на дне Дуная лежала Или носима была без приюта морскими волнами». Эти отцовы слова и прежде мутили ей сердце; Тут же они отзывались в ушах ее беспрестанно. Рано гости оставили замок, и каждый с каким-то Тяжким предчувствием. Рыцарь пошел к себе, молодая Также к себе – раздеваться. Кругом новобрачной Были прислужницы. Вот, чтоб немного свои порассеять Черные мысли, Бертальда велела подать дорогие Перстни, жемчужные нитки и платья, рыцарем к свадьбе Ей подаренные; стала примеривать то и другое. Льстя ей, прислужницы вслух восхищались ее красотою; С видом довольным слушая их, Бертальда смотрелась В зеркало; вдруг сказала: «Ах! боже! какая досада! Вот опять у меня на шее веснушки; а можно б Тотчас согнать их; – стоило б только водой из колодца Нашего раз обтереться; ах! если б мне нынче ж хоть кружку Этой воды достали!» – «О чем же тут думать?» – оказала, Бросившись в двери, одна из прислужниц. Неужто успеет Эта проказница камень поднять! – с довольной усмешкой Вслед за нею смотря, Бертальда подумала. Скоро Сделался шум на дворе: с рычагами к колодцу бежали Люди. Бертальда села подле окна и при ярком Блеске полной луны, освещавшем двор замка, ей было Видно все, что делалось там. Работники дружно Двинули камень, хотя иному из них и прискорбно Было подумать, что им теперь надлежало разрушить То, что было приказано сделать прежнею, доброй Их госпожою; но труд был не так-то велик, как сначала Думали; им извнутри колодца как будто какая Сила камень поднять помогала. Дивясь, говорили Между собою работники: «Можно подумать, что бьет там Сильный ключ». И в самом деле, с отверстия камень Сам собой подымался; без всякой помоги, свободно Сдвинулся он и, со стуком глухим откатясь, повалился. Вдруг из колодца что-то, как будто белый прозрачный Столб водяной, поднялося торжественно, тихо. Сначала Подлинно бьющим ключом показалось оно, но, поднявшись Выше, каким-то бледным, в белый покров облеченным Женским образом стало. И плача и жалобно руки Вверх подымая, оно медлительно, шагом воздушным Прямо к замку двигалось. В ужасе все отбежали Прочь от колодца. Бертальда же, стоя в окне, цепенела, Холодом страха облитая. Вот, когда поравнялся С самым окошком идущий образ, сквозь покрывало Он поглядел на Бертальду пронзительным оком, с тяжелым Вздохом; и бледным лицом Ундины тогда показался Образ Бертальде: мимо ее она, упиваясь, Нехотя, медленно шла, как будто на суд. «Позовите Рыцаря! – громко вскричала Бертальда. Но все в неподвижном Страхе стояли на месте. Сама Бертальда, как будто Собственным криком своим приведенная в ужас, умолкла. Тою порою чудесная гостья приблизилась к двери Замка, знакомую лестницу, ряд знакомых покоев Тихо, молча, плача, прошла… о, такою ль, бывало, Здесь видали ее? В то время еще не раздетый Рыцарь в уборной своей стоял перед зеркалом. Тусклый Свет проливала свеча. Вдруг кто-то легонько Стукнул в дверь… так точно, бывало, стучалась Ундина. «Все это призрак! – сказал он. – Пора мне в постелю». – «В постеле Будешь ты скоро, но только в холодной», – шепнул за дверями Плачущий голос. И в зеркало рыцарь увидел, как двери Тихо, тихо за ним растворились, как белая гостья В них вошла, как чинно замо́к заперла за собою. «Камень с колодца сняли, – она промолвила тихо, — Здесь я; и должен теперь умереть ты». Холод, по сердцу Рыцаря вдруг пробежавший, почувствовать дал, что минута Смерти настала. Зажавши руками глаза, он воскликнул: «О, не дай мне в последний мой час обезуметь от страха! Если ужасен твой вид, не снимай покрывала и строгий Суд соверши надо мной, мне лица твоего не являя». — «Ах! – она отвечала, – разве еще раз увидеть, Друг, не хочешь меня? Я прекрасна, как прежде, как в оный День, когда твоею невестою стала». – «О, если б Это правда была! – Гульбранд воскликнул, – о, если б Мне хоть один поцелуй от тебя! и пускай бы В нем умереть!» – «Охотно, возлюбленный мой», – покрывало Снявши, сказала она; и прекрасной Ундиною, прежней Милой, любящей, любимой Ундиною первых, блаженных Дней предстала. И он, трепеща от любви и от близкой Смерти, склонился к ней в руки. С небесным она поцелуем В руки его приняла, но из них уже не пустила Боле его; а крепче, все крепче к нему прижимаясь, Плакала, плакала тихо, плакала долго, как будто Выплакать душу хотела; и быстро, быстро лияся, Слезы ее проникали рыцарю в очи и с сладкой Болью к нему заливалися в грудь, пока напоследок В нем не пропало дыханье и он не упал из прекрасных Рук Ундины бездушным трупом к себе на подушку. «Я до смерти его уплакала», – встреченным ею Людям за дверью сказала Ундина и тихим, воздушным Шагом по двору, мимо Бертальды, мимо стоявших В страхе работников, прямо прошла к колодцу, безгласной, Грустной тенью спустилась в его глубину и пропала.Глава XIX О том, как рыцарь был погребен
Патер Лаврентий, услышав о том, как внезапно и чудно Кончил жизнь владетель замка Рингштеттена, тотчас В замке явился; и он, входя во двор, осененный Липами, встретился там с монахом, недавно венчавшим Рыцаря: в ужасе тот удалиться спешил. «Так и должно! — Патер Лаврентий сказал. – Теперь моя наступила Очередь; мне помощник не нужен». Хотел он невесте, Вдруг овдовевшей, отрадное слово сказать в подкрепленье; Но Бертальда, ему не внимая, молчала угрюмо. Старый рыбак молился и плакал и, в горе смиряясь, Думал: «Оно иначе и быть не могло – то господний Суд»; и, конечно, Гульбрандова смерть никому не могла быть Так тяжела, как именно той, которую с смертной Вестью прислали к нему, отверженной, бедной Ундине. Стали готовить обряд похоронный, как было прилично Сану покойника: тело его положить надлежало Подле церкви приходской, там, где были гробницы Предков его, одаривших множеством вкладов богатых Эту церковь. И щит и шлем уж лежали на кровле Гроба, чтоб с ним опуститься в могилу, ибо наш рыцарь Был последний в роде своем, который с ним вместе Кончился весь. И ход печальный уже начинался; Песнь погребальная к светло-спокойной небесной лазури Тихо всходила; с длинным крестом, во всем облаченье Патер Лаврентий шел впереди; за ним шла Бертальда, В горьких слезах, на дряхлую руку отца опираясь. Вдруг посреди Бертальдиных женщин, одетых в глубокий Траур и шедших в свите ее, заметили белый Образ, в длинном, густом покрывале, тихо идущий, Грустно потупивши голову. Страхом проникнут был каждый, Шедший подле такого товарища; все сторонились, Пятились, так что порядок хода расстроился. Силой Два смельчака хотели незваного и́з ряду вывесть; Но, от них ускользнувши, как легкая тень, он на прежнем Месте явился опять и последовал тихо за гробом. Вот напоследок он мало-помалу, меняяся местом С теми, кто в страхе спешил от него удалиться, подле Самой вдовы очутился; но ею сначала примечен Не был и сзади пошел смиренно-печальный. Достигнул Ход до кладбища, и все обступили могилу. Тут в первый Раз Бертальда незваного гостя увидела, в страхе Стала она рукою махать, чтоб он удалился; Но покровенный, кротко упорствуя, тряс головою, Руки к ней простирал и как будто молил о пощаде. Вспомнила тут невольно Бертальда Ундину, как руку К ней она подняла на Дунае, когда ей хотела Так добродушно подать ожерелье, и как под водами Скрылась потом навсегда. Но в это мгновение подал Знак отец Лаврентий, чтоб все умолкли. И стали Гроб опускать в могилу, и мало-помалу засыпан Был он землею. Когда же совсем был набросан могильный Холм и читать последнюю начал молитву священник, Стала вдова на колени, стали и все на колени, В том числе и могильщики, кончавши насыпь. Когда же Снова все встали… уж белый образ пропал; а на месте, Где он стоял на коленах, сквозь травку сочился прозрачный Ключ; серебристо виясь, он вперед пробирался, покуда Всей не обвил могилы; тогда ручейком побежал он Дале и бросился в светлое озеро ближней долины. Долго, долго спустя про него тех мест поселяне Чудную повесть любили прохожим рассказывать; долго, Долго жило поверье у них, что ручей тот Ундина, Добрая, верная, слитая с милым и в гробе Ундина. 1831–1836Камоэнс Драматическая поэма
Действующие:
Дон Лудвиг Камоэнс.
Дон Иозе́ Квеведо Кастель Бранка.
Васко, его сын[3].
Смотритель главного госпиталя в Лиссабоне.
(1579)
I
Тесная горница в большом лазарете лиссабонском: стены голы; кое-где обвалилась штукатурка; с одной стороны стол с бумагами и стул; с другой большие кресла и за ними, ближе к стене, полуизломанная кровать. На ней лежит Камоэнс и спит; к кровати прислонен меч; над изголовьем висит на стене лютня, покрытая пылью. С правой стороны дверь, – Входит дон Иозе́ Квеведо вместе с смотрителем госпиталя. У последнего за поясом связка ключей, под мышкой большая книга.
Иозе́ Квеведо, смотритель госпиталя, Камоэнс.
Квеведо
Ой, ой, как высоко! Неужто выше Еще нам подыматься? Смотритель Нет, пришли.Квеведо
Ну, слава богу! я почти задохся… Так здесь он?Смотритель
Здесь. Вот, сами посмотрите, Что у меня записано в реестре: Дон Лудвиг Камоэнс, десятый нумер — И на двери десятый нумер; это он.Квеведо
Ну, хорошо. Да разве боле ты Об нем не знаешь?Смотритель
Нет.Квеведо
И никогда Об нем не слыхивал и не имеешь Об нем понятия?Смотритель
Какое тут Понятие! Лишь был бы только нумер. Что нам до имени, что нам до слухов? Дон Лудвиг Камоэнс, десятый нумер И все тут; так записано в реестре.Квеведо
Ты человек, я вижу, аккуратный; И книги у тебя в порядке… (Осматривается.) Боже! В какой тюрьме он заперт; как темно, Тесно, нечисто! Стены голы; окна С решетками, и потолок так низок, Что душно.Смотритель
Здесь до сих пор сумасшедших Держали: но ему так захотелось Быть одному, а этот нумер был Никем не занят – так его сюда я И перевел.Квеведо
К безумным? поделом! Ты поступил догадливо; я вижу, Ты расторопный человек. Я всех бы Проклятых этих стихотворцев запер В дом сумасшедших. Тише! Кто лежит Там на кровати? уж не он ли?Смотритель
Он, Синьор; он спит… Я разбужу.Квеведо
Не трогай; Я подожду; пока он сам проснется.Смотритель
Так оставайтесь с богом здесь; а я Пойду: есть дело…Квеведо
Хорошо, поди — И вот тебе за труд. Смотритель Благодарю, Синьор. (Уходит.)II
Иозе́ Квеведо и Камоэнс.Квеведо
Итак, я наконец его Нашел. Трудненько было мне сюда Карабкаться, и рад я, что могу Немного отдохнуть. Когда б не сын, Моя нога сюда не забрела бы; Да мой пострел совсем рехнулся; горе Мне с ним великое; не знаю сам, Что делать; с отвращеньем смотрит он На наше ремесло и не проценты Считает – стоны, да стихи плетет, Да о венках лавровых беспрестанно И сонный и несонный бредит. Денег Ему не надобно; все для него Равно, богач ли он иль нищий; мне, Отцу, не хочет подражать, а вслед За Камоэнсом рвется… Вот тебе Твой Камоэнс, твой образец: изволь Им любоваться! здесь, в госпитале, В отрепье нищенском лежит с своими Он лаврами, – седой, больной, иссохший, дряхлый, Безглазый, всеми брошенный, великий Твой человек, твой славный Лузиады Певец, сражавшийся перед Ораном И перед Цейтою. Вот полюбуйся; Он в доме сумасшедших, позабыт Людьми, и все имущество его — Покрытый ржавчиною меч да лютня Без струн… Зачем он жил? и что он нажил? Дон Лудвиг Камоэнс, десятый нумер, И все тут – так записано в реестре… А я, над кем так часто он, бывало, Смеялся, я, которого ослом, Телячьей головой он называл, Который на́ вес продаю изюм, Да виноград, да в добрые крузады Мараведисы превращаю, я — Я человек богатый, свеж, румян И пользуюсь всеобщим уваженьем; Три дома у меня, и в море пять Галер отправлено с моим товаром: За славой он пошел, я за прибытком, И вот мы оба здесь. Пускай его Мой сын увидит и потом свой выбор Пускай сам сделает. За тем-то я Сюда и взлез; пускай расскажет сыну Сам этот сумасброд, какому вздору Пожертвовал он жизнию своею… Он шевелится, охает, открыл Глаза…Камоэнс
Мой сон опять был на минуту; То был не вечный сон, конец всему, Не смерть, а только призрак смерти… Кто здесь? Неужто человек? Здесь? Человек? У Камоэнса?.. Кто ты, друг? Чего Здесь ищешь? Ты ошибся…Квеведо
Нет, синьор, Я вас искал, и дело мне до вас.Камоэнс
Ах да, я и забыл, что я пишу Стихи! Вы, может быть, синьор, хотите Стихов на свадьбу иль на погребенье? Иль слов для серенады? Потрудитесь Порыться там в бумагах на столе — Там всякой всячины довольно. Я Беру недорого. Реаля два, Не боле, за пиесу.Квеведо
Нет, синьор, Не то…Камоэнс
Так, может быть, хотите вы, Чтоб я для вас особенные сделал Стихи? Нет, государь мой, я не в силах: Вы видите, я болен; я едва Таскаю ноги. (Встает и, опираясь на меч, переходит к креслам, в которые садится.) Нет ни чувств, ни мыслей; Что у меня найдется, тем и рад; Извольте взять любое из запаса.Квеведо
Не за стихами я сюда пришел. Всмотрись в мое лицо, дон Лудвиг; разве Не узнаешь меня?Камоэнс
Синьор, простите, Не узнаю.Квеведо
Не может быть; ты должен Меня узнать.Камоэнс
Не узнаю, синьор.Квеведо
В Калвасе мы ходили вместе в школу.Камоэнс
Мы?Квеведо
Да, в Калвасе. Мы частенько там Друг с другом и дирались, и порядком Ты иногда отделывал меня. Подумай – вспомнишь; мы знакомы с детства.Камоэнс
Синьор, прошу вас не взыскать; я стар, И голова моя слаба; никак Не вспомню, кто вы.Квеведо
Боже мой, но, верно, Меня узнаешь ты, когда скажу, Что я Иозе́ Квеведо Кастель Бранка, Сын крестной матери твоей, Маркитты?Камоэнс
Иозе́ Квеведо ты?Квеведо
Да, я Иозе́ Квеведо – тот, которого, бывало, Ты называл телячьей головою, Которого так часто ты…Камоэнс
Чего ж Ты ищешь здесь, Иозе́ Квеведо?Квеведо
Как Чего? Хотелось мне тебя проведать, Узнать, как поживаешь. Правду молвить, Мне на тебя невесело смотреть. Ты худ, как мертвый труп. А я – гляди, Как раздобрел. Так все идет на свете! Кто на ногах – держись, чтоб не упасть. Идти за счастьем скользко…Камоэнс
Правда, скользко.Квеведо
Вот ты теперь в нечистом лазарете, Больной полумертвец, безглазый, нищий, Оставленный…Камоэнс
Зачем, Иозе́ Квеведо, Считаешь ты на лбу моем морщины И седины на голове моей, Дрожащей от болезни?Квеведо
Не сердися, Друг, я хотел сказать, что времена Переменяются, что вместе с ними Переменяемся и мы. Теперь Ты уж не тот красавчик, за которым Так в старину все женщины гонялись, С которым знать водила дружбу, – ты Не прежний Камоэнс.Камоэнс
Не прежний, правда! Но пусть судьбой разрушена моя Душа, пускай все было то обман, Чему я жизнь на жертву добровольно Принес, – поймешь ли это ты? Моим Судьей быть может ли какой-нибудь Квеведо?Квеведо
(про себя) Вот еще! Как горд! когда б Не сын, тебе я крылья бы ошиб. (Вслух.) Твои слова уж чересчур суровы; Другого я приема ожидал, От старого товарища. Но, правда, Ты болен, иначе меня бы встретил Ты дружелюбней. Нам о многом прошлом Друг с другом можно поболтать. Ведь детство Мы вместе провели; то было время Веселое… Ты помнишь луг за школой, Где мы, бывало, в мяч играли? Помнишь Высокий вяз… кто выше влезет? Ты Всегда других опережал. А наша Игра в охоту – кто олень, кто псарь, А кто собаки… то-то было любо: Вперед! крик, лай, визжанье, беготня… Что? помнишь?Камоэнс
Помню.Квеведо
А походы наши В соседний сад, и там осада яблонь, И возвращение домой с добычей? А иногда с садовником война И отступленье?Камоэнс
Да; то было время Веселое! Мы были все народ Неугомонный.Квеведо
Да, лихое, племя! А наш крутой пригорок, на котором Лежала груда камней? Он для нас Был крепостью; ее мы брали штурмом, И было много тут подбитых глаз И желваков…Камоэнс
Вот этот мой рубец Остался мне на память об одном Из наших подвигов тогдашних…Квеведо
Правду Сказать, не раз могла потеха стоить Нам дорого. Вот, например, морской Поход наш по реке. Мы все устали И воротились; ты ж один…Камоэнс
Да, мне Казалось, что вдали передо мной Был новый, никогда еще никем Не посещенный свет; во что б ни стало К нему достигнуть я решился; сила Теченья мне препятствовала долго Мой замысел исполнить; наконец Ее я одолел и вышел гордо На завоеванный, желанный берег… О, молодость! о, годы золотые!.. (Помолчав.) Дай руку мне! ты знаешь, мы с тобою В то время не были друзьями: ты Казался – но, быть может, не таков ты, Каким тогда казался нам… Ну, дай же Мне руку: в детстве ты со мной играл, Со мной делил веселье; а теперь Туманный вечер мой ты осветил Воспоминанием прекрасной нашей Зари… Я так один – хотя б ты был И злейший враг мой, мне тебя теперь Обнять от сердца должно… (Обнимает его.)Квеведо
(помолчав) Ну, скажи же, Как жил ты, что с тобой происходило С тех пор, как мы расстались? Мне отец Велел науки кончить и покинуть Калвас и в Фигуэру ехать. Там Иная сказка началась: пришлося Не об игре уж думать – о работе.Камоэнс
Меня судьба перевела в Коимбру, Святилище науки; там впервые Услышал я Гомера; мантуанский Певец меня гармонией своей Пленил, и прелесть красоты Проникла душу мне; что в ней дотоле Невидимо, неведомо хранилось, То вдруг в чудесный образ облеклось; Что было тьма, то стало свет, и жизнью Затрепетало все, что было мертвым; И мне во грудь предчувствие чего-то Невыразимого впилося…Квеведо
Я, Признаться, до наук охотник был Плохой. Отец меня в сидельцы отдал Знакомому купцу; и должно правду Сказать, уж было у него чему Понаучиться: он считать был мастер. А ты?Камоэнс
Промчались годы, в школе стало Мне тесно; я последовал влеченью Души – увидел Лиссабон, увидел Блестящий двор, и короля во славе Державного могущества, и пышность Его вельмож… Но я на это робко Смотрел издалека и, ослепленный Блистательной картиною, за призрак Ее считал.Квеведо
Со мной случилось то же Точь-в-точь, когда на биржу в первый раз Я заглянул и там увидел горы Товаров…Камоэнс
В это время встретил я Ее… О боже! как могу теперь, Разрушенный полумертвец, снести Воспоминание о том внезапном, Неизглаголанном преображенье Моей души!.. Она была прекрасна, Как бог в своей весне, животворящей И небеса и землю!Квеведо
И со мной Случилось точно то ж. У моего Хозяина была одна лишь дочь, Наследница всему его именью; Именье ж накопил себе старик Большое; мудрено ли, что мое Заговорило сердце?Камоэнс
(не слушая его) О святая Пора любви! Твое воспоминанье И здесь, в моей темнице, на краю Могилы, как дыхание весны, Мне освежило душу. Как тогда Все было в мире отголоском звучным Моей любви! каким сияньем райским Блистала предо мной вся жизнь с своим Страданием, блаженством, с настоящим, Прошедшим, будущим!.. О боже! боже!..Квеведо
Отцу я полюбился; он доволен Был ловкостью моей в делах торговых И дочери сказал, что за меня Ее намерен выдать; дочь на то Сказала: «воля ваша», и тогда же Нас обручили…Камоэнс
О, блажен, блажен, Кому любви досталася награда!.. Мне не была назначена она. Нас разлучили; в монастырской келье Младые дни ее угасли; я Был увлечен потоком жизни; в буре Войны хотел я рыцарски погибнуть, Сел на коня и бился под стенами Марокко, был на штурме Цейты; Из битвы вышел я полуслепым, А смерть мне не далась.Квеведо
Со мною было Не лучше. Я с женой недолго пожил: Бедняжка умерла родами… Сильно По ней я горевал… Но мне наследство Богатое оставила она, И это, наконец, кое-как стало Моей отрадой.Камоэнс
Все переживешь На свете… Но забыть?.. Блажен, кто носит В своей душе святую память, верность Прекрасному минувшему! Моя Душа ее во глубине своей, Как чистую лампаду, засветила, И в ней она поэзией горела. И мне была поэзия отрадой: Я помню час, великий час, меня Всего пересоздавший. Я лежал С повязкой на глазах в госпитале; Тьма вкруг меня и тьма во мне… И вдруг – сказать не знаю – подошло, Иль нет, не подошло, а подлетело, Иль нет, как будто божие с небес Дыханье свеяло – свежо, как утро, И пламенно, как солнце, и отрадно, Как слезы, и разительно, как гром, И увлекательно, как звуки арфы, — И было то как будто и во мне И вне меня, и в глубь моей души Оно вливалось, и волшебный круг Меня тесней, теснее обнимал; И унесен я был неодолимым Могуществом далеко в высоту… Я обеспамятел; когда ж пришел В себя – то было первая моя Живая песня. С той минуты чудной Исчезла ночь во мне и вкруг меня; Я не был уж один, я не был брошен; Страданий чаша предо мной стояла, Налитая целебным питием; Моя душа на крыльях песнопенья Взлетела к богу и нашла у бога Утеху, свет, терпенье и замену.Квеведо
Мне посчастливилось; свое богатство Удвоил я; потом ушестерил… А ты как? Что потом с тобой случилось?Камоэнс
Я в той земле, где схоронил ее, Не мог остаться. Вслед за Гамой славный Путь по морям я совершил, и там, Под небом Индии, раздался звучно В честь Португалии мой голос: он Был повторен волнами Тайо; вдруг Услышала Европа имя Гамы И изумилась; до пределов Туле Достигнул гром победный Лузиады.Квеведо
А много ль принесла тебе она? У нас носился слух…Камоэнс
Мне принесла Гонение и ненависть она. Великих предков я ничтожным внукам Осмелился поставить в образец, Я карлам указал на великанов — И правда мне в погибель обратилась: И то, что я любил, меня отвергло, И что моей я песнию прославил, Тем был я посрамлен – и был, как враг, Я Португалией моей отринут… (Помолчав.) Я муж, и жалобы я ненавижу; Но всю насквозь мне душу эта рана Прогрызла; никогда не заживет Она и вечно, вечно будет рвать Меня, как в оный миг разорвала, Когда отечество так беспощадно От своего поэта отреклося.Квеведо
Ну, не крушись; забудь о прошлом; кто Не ошибается в своих расчетах? Теперь не удалось – удастся после.Камоэнс
К для меня однажды солнце счастья Блеснуло светлою зарей. Когда Король наш Себастьян взошел на трон, Его орлиный взор проник в мою Тюрьму, с меня упала цепь, и свет И жизнь возвращены мне были снова; Опять весна в груди моей увядшей Воскресла… но то было на минуту: Все погубил день битвы Алькассарской. Король наш пал великой мысли жертвой — И Португалия добычей стала Филиппа… Страшный день! о, для чего Я дожил до тебя!Квеведо
Да, страшный день! Уж нечего сказать! И с той поры Все хуже нам да хуже. Бог на нас Прогневался. По крайней мере, ты Похвастать счастием не можешь.Камоэнс
Солнце Мое навек затмилось, и печально Туманен вечер мой. Забыт, покинут, В болезни, в бедности я жду конца На нищенской постели лазарета. Один мне оставался друг – он был Невольник; иногда я называл Его в досаде черною собакой, Но только что со мной простилось счастье, Он сделался хранителем моим: Он мне служил, и для меня работал, И отдавал свою дневную плату На пищу мне. Когда ж болезнь меня К постели приковала, день и ночь Сидел он надо мной и утешал Меня отрадными словами ласки, И, сам больной, по улицам таскался За подаянием для Камоэнса. И наконец, свои истратив силы, Без жалобы, без горя, за меня Он умер – черная собака!.. Бог То видел с небеси… Покойся, друг, Последний друг мой на земле, в твоей Святой могиле! там тебе приютно, А на земле приюта не бывает.Квеведо
(про себя) Теперь пора мне к делу приступить. (Ему.) Сердечный друг, тебе удел нелегкий Достался, нечего сказать! Ты славил Отечество, и чем же заплатило Оно тебе за славу? Нищетой. С надеждами пошел ты в путь, а с чем Пришел назад? Ровнехонько ни с чем. И вот теперь, при нашей поздней встрече, Когда твою судьбу сравню с моею, То, право, кажется – не осердися, — Что выбор мой сто раз благоразумней Был твоего. Вот видишь, я богат; По всем морям товар мой корабли Развозят; а бывало, на меня Смотрел ты свысока. Сказать же правду, Хоть лаврами я лба и не украсил, Но, кажется, что на́ вес мой барыш Тяжеле твоего…Камоэнс
Ты в барышах — Не спорю. Но на свете много есть Вещей возвышенных, не подлежащих Ни мере, ни расчетам торгаша. Лишь выгодой определять он может Достоинство; заметь же это, друг: Лавровый лист скупать ты на́ вес можешь, Но о венках лавровых не заботься.Квеведо
(про себя) Уж не смеется ль он над нашим званьем?.. Постой, уж попадись ко мне ты в руки, Я отплачу тебе порядком. (Ему.) Ты Обиделся, я вижу; а в тебе Я искренно участье принимаю. Да я и с просьбою пришел; послушай, Оставь ты лазарет свой, сделай дружбу, Переселись ко мне; мой дом просторен; Чужим найдется много места в нем, Не только что друзьям. Ну, Камоэнс, Не откажи мне; перейди в мой дом; Ты у меня свободно отдохнешь От прошлых бед, и мой избыток Охотно я с тобою разделю… Не слышишь, – что ли, Камоэнс?Камоэнс
Что? что Ты говоришь? Меня к себе, в свой дом Зовешь?Квеведо
Да, да! К себе, в свой дом, тебя Зову. Согласен ли?Камоэнс
Жить у тебя? Но, может быть, ты думаешь, Квеведо… Нет, нет! твое намеренье, я в этом Уверен, доброе – благодарю; Но мне и здесь покойно: я доволен; Нет нужды мне тебя теснить; да в этом И радости не будет никакой: О радостях давно мне и во сне Не грезится.Квеведо
Меня ты потеснишь? Помилуй, что за мысль! Ты мне, напротив, Полезен можешь быть; я от тебя Жду помощи великой.Камоэнс
От меня? Ждешь помощи? И я могу тебе Полезен быть? я? я? мечтатель жалкий, Который никому и ни на что Не нужен был на свете и себя Лишь только погубить умел? Квеведо, Не шутишь ли?Квеведо
Какая шутка! Сам Ты рассуди; дал бог мне сына – ну, Уж нечего сказать, таких немного, Каков мой Васко; он до этих пор Был радостью моей, и я им хвастал И уж заране веселил себя Надеждою, что он мое богатство, Которому всему один наследник, Удвоит, мне, как должно, подражая, — Ан нет, иначе вышло на поверку: Отцовским званьем он пренебрегает, В проклятые зарылся пергаменты, Ударился в стихи, в поэты метит.Камоэнс
Безумство! жалкий бред!Квеведо
Я то же сам Ему пою; да он не верит, Музы — Ему отец, и мать, и все земное Его богатство.Камоэнс
Так мечтают все Они, но то обман…Квеведо
Напрасно я Увещевал его: он слов моих И понимать не хочет. Видишь ли теперь, Как много мне ты можешь быть полезен, Дружище? Укажи ему на твой Пример, пускай узнает он, как ты, Его достойный образец, был щедро От света награжден; пусть Камоэнса Увидит он в госпитале, больного, В презренье, в нищете, быть может…Камоэнс
Так Пускай меня увидит он! Пришли Его сюда; я вылечу его От гибельной мечты. Слепец! безумец! Ненужною доселе жизнь свою Я почитал; теперь мне все понятно: Им пугалом должна служить она!Квеведо
Так ты его остережешь? спасешь?Камоэнс
Остерегу, спасу… Пришли его Сюда…Квеведо
Он недалёко; крылья имя Твое придаст ему; через минуту Он будет здесь; и вместе с ним в мой дом Пожалует желанный гость – не правда ль? Ты будешь, друг?Камоэнс
Увидим.Квеведо
Ну, прости же, Любезный. (Про себя.) Слава богу! все как должно Улажено. Лишь только б сына он На путь наставил… сам же… что за дело Мне до него!.. Пускай в госпитале Околевает. (Уходит.)III
Камоэнс
(один) Я устал; все силы Мои истощены; и жар и холод Я чувствую; в глазах моих темнеет; Уж не она ль? Не смерть ли, званый друг, Ко мне подходит?.. (Помолчав.) Всех я схоронил; Все, что любил я, что меня любило, Давно во гробе… Я стою один Перед своей могилою, один… И не протянет мне никто руки, Чтобы помочь в нее сойти; свалюся Туда, как чумный труп, рукой наемной Толкнутый в общий гроб. Счастлив стократно Простой поселянин! Трудом прилежным Довольный, скромный, замыслов высоких Не ведая, своей тропинкой он Идет; когда же смертный час его Наступит, он, в кругу своих, близ доброй Жены, участницы всего, что было И горького и радостного в жизни, Среди детей, воспитанных с любовью, Смиренно, тихо, ясно умирает; И всеми он любим, и, с ним прощаясь, Все плачут, и глаза ему родная Рука при смерти зажимает. Я же?.. О, как меня все обмануло! Я Жил одинок и одинок умру… Сокровищем она казалась мне В тот час, когда нас буря окружала, Когда корабль наш об утес в щепы Расшибся, – да, сокровищем тогда Она, мое созданье, Лузиада, Казалась мне! и в море с Лузиадой Я кинулся, и отдал на пожранье Волнам все, все, и с гордым торжеством На берег нищим вышел… спасена Была мое созданье, Лузиада! Час роковой! погибельная песнь! Погибельный венец, мне данный славой! Для них от мирного, земного счастья Отрекся я – и что ж от них осталось? Разуверение во всем, что прежде Я почитал высоким и прекрасным… (Помолчав.) Мне холодно, и дрожь в моих костях: Последняя минута Камоэнса — И никого, чтоб вздох его принять! В прошедшем ночь, в грядущем ночь; расстроен, Разрушен гений; мужество и вера Потрясены, и вся земная слава Лежит в пыли… Что жизнь моя была? Безумство, бешенство… он справедливо Сказал: барыш мечтателя – мечта.IV
Камоэнс и Васко Квеведо.
Васко
Здесь, сказано, могу его найти… Ах, вот он!.. это он!.. таким видал я Его во сне… но только бодрым, смелым, И молнии в глазах, и голова, Поднятая торжественно и гордо… Что нужды! Это он… Хотя и стар И хил, но на лице его печать Его великой песни.Камоэнс
Кто тут?Васко
Васко Квеведо, сын знакомца твоего, Иозе́ Квеведо…Камоэнс
Ты?Васко
Отец меня Прислал сюда, дон Лудвиг, пригласить Тебя в наш дом переселиться; там Найдешь достойное тебя жилище И дружбу… но не рано ль я пришел?Камоэнс
Когда б промедлил час, пришел бы поздно. Приближься, посмотри: уж надо мной Летает ангел смерти; для меня Все миновалось; но прими совет От умирающего Камоэнса И сохрани его на пользу жизни…Васко
Ты умираешь?.. нет, не может быть, Чтоб умер Камоэнс!Камоэнс
Минуты, друг, Нам дороги; послушай, сын мой, ты, Я слышал от отца, служенью муз Жизнь посвятить свою желаешь… правду ль Сказал он?Васко
Правду, я клянуся богом!Камоэнс
Одумайся; то выбор роковой; Ты молод, и твоя душа, земного Еще не ведая, стремится к небу, И ты свое стремление зовешь Любовию к поэзии, от неба Исшедшей, как твоя душа. Но знай, Любовь еще не сила; постигать Не есть еще творить; а увлекаться Стремлением к великому еще Не есть великого достигнуть.Васко
Знаю.Камоэнс
Так загляни ж во глубину своей Души, и что ее бы ни влекло — Самонадеянность, иль просто детский Позыв на подражанье, иль тревога Кипучей младости, иль раздраженье Излишне напряженных нерв – себя, Мой друг, не ослепляй. Другие все Искусства нам возможно приобресть Наукою; поэта же творит — Святейшее оставив про себя — Природа; гении родятся сами; Нисходит прямо с неба то, что к небу Возносит нас.Васко
Того, что происходит Теперь во мне и что я сам такое, Я изъяснить словами не могу. Но выслушай мою простую повесть: Ребенком тихим, книги лишь одни Любя, я вырос, преданный мечтанью. Мой взор был обращен во внутрь моей Души; я внешнего не замечал; Уединение имело голос, Понятный для меня; и прелесть лунных Ночей меня стремила в область тайны. На путь отца смотрел я с отвращеньем; Меня влекло неведомо к чему… Вдруг раздалась чудесно Лузиада — И стало все во мне светло и ясно; Сомненье кончилось, и выбирать Уж нужды не было… за них, за ним! В моей душе гремело и пылало; И каждое биенье сердца мне Твердило то ж: за ним! за ним!.. И власть, Влекущая меня, неодолима. Теперь реши, поэт ли я иль нет?Камоэнс
Свидетель бог! твои глаза блестят, Как у поэта; но послушай, друг, Хотя б их блеск и правду говорил, Остановись, не покидай смиренной Тропы, протянутой перед тобою; Судьба тебе добра желает; мне Поверь, я дорогой купил ценой Признание, что счастие земное Не на пути поэта.Васко
Дай его Мне заслужить – и пусть оно погибнет!Камоэнс
Слепец! тебя зовет надежда славы. Но что она? и в чем ее награды? Кто раздает их? и кому они Даются? и не все ль ее дары Обруганы завидующей злобой? За них ли жизнь на жертву отдавать? Лишь у гробов, которым уж никто Завидовать не станет, иногда Садит она свой лавр, дабы он цвел Над тлением, которое когда-то Здесь человеком было и страдало, Нося торжественно на голове Под лаврами пронзительные терны. Но для того, кто в гробе спит, навеки Бесчувственный для здешних благ и бед. Не все ль равно – полынь ли над костями Его растет, иль лавр… Не вся ль тут слава?Васко
Я молод, но уж мне видать случалось, Как незаслуженно ее венец Бесстыдная ничтожность похищала, Ругаяся над скромно-молчаливым Достоинством? Но для меня не счастье, Не золото – скажу ли? – и не слава Приманчивы…Камоэнс
Не счастье и не слава? Чего же ищешь ты?Васко
О, долго, долго Хранил я про себя святую тайну! Но посвященному, о Камоэнс, Тебе я двери отворю в мое Святилище, где я досель один Доступному мне божеству молился. Нет, нет! не счастия, не славы здесь Ищу я: быть хочу крылом могучим, Подъемлющим родные мне сердца На высоту, зарей, победу дня Предвозвещающей, великих дум Воспламенителем, глаголом правды, Лекарством душ, безверием крушимых, И сторожем нетленной той завесы, Которою пред нами горний мир Задернут, чтоб порой для смертных глаз Ее приподымать и святость жизни Являть во всей ее красе небесной — Вот долг поэта, вот мое призванье!Камоэнс
О молодость на крыльях серафимских! Как мало ход житейского тебе Понятен! возносить на небеса Свинцовые их души, их слепые Глаза воспламенять, глухонемых Пленять гармонией!..Васко
Что мне до них, Бесчувственных жильцов земли иль дерзких Губителей всего святого! Мне Они чужие. Для чего творец Такой им жалкий жребий избрал, это Известно одному ему; он благ И справедлив; обителей есть много В дому отца – всем будет воздаянье. Но для чего сюда он их послал, — О, это мне понятно. Здесь без них Была ли бы для душ, покорных богу, Возможна та святая брань, в которой Мы на земле для неба созреваем? Мы не за тем ли здесь, чтобы средь тяжких Скорбей, гонений, видя торжество Порока, силу зла и слыша хохот Бесстыдного разврата иль насмешку Безверия, из этой бездны вынесть В душе неоскверненной веру в бога?.. О Камоэнс! Поэзия небесной Религии сестра земная; светлый Маяк, самим создателем зажженный, Чтоб мы во тьме житейских бурь не сбилась С пути. Поэт, на пламени его Свой факел зажигай! Твои все братья С тобою заодно засветят каждый Хранительный свой огнь, и будут здесь Они во всех страна́х и временах Для всех племен звездами путевыми; При блеске их, что б труженик земной Ни испытал, – душой он не падет, И вера в лучшее в нем не погибнет, О Камоэнс! о, верь моим словам! Еще во мне того, что в этот миг Я чувствую, ни разу не бывало; Бог языком младенческим моим С тобою говорит: ты совершил Свое святое назначенье, ты Свой пламенник зажег неугасимо; Мне в душу он проник, как божий луч; И скольких он других согрел, утешил! И пусть разрушено земное счастье, Обмануты ласкавшие надежды И чистые обруганы мечты… Об них ли сетовать? Таков удел Всего, всего прекрасного земного! Но не умрет живая песнь твоя; Во всех веках и поколеньях будут Ей отвечать возвышенные души. Ты жил и будешь жить для всех времен! Прямой поэт, твое бессмертно слово!Камоэнс
Его глаза сверкают, щеки рдеют; Пророчески со мной он говорит; От слов его вся внутренность моя Трепещет; не самим ли богом прислан Ко мне младенец этот?.. Ты, мой сын, Лишь о грядущем мыслишь – оглянись На настоящее и на меня, Певца твоей великой Лузиады. Смотри, как я, в нечистом лазарете, Отечеством презренный и забытый Людьми, кончаю жизнь на том одре, Где за два дня издох в цепях безумный. Таков в своих наградах свет: страшись Моей стези; беги надежд поэта!Васко
Бежать твоих надежд, твоей стези Страшиться?.. Нет, бросаюсь на колени Перед твоей страдальческой постелью, На коей ты, как мученик смиренный, Зришь небеса отверзтые, где ждет Тебя твой бог, тебя не обманувший. Благодарю тебя, о Камоэнс, За все, чем был ты для моей души! И здесь со мной тебя благодарят Все современники и всех времен Грядущих верные друзья святыни, Поклонники великого, твои По чувству братья. Пусть людская злоба, Презрение, насмешка, нищета Достоинству в награду достаются — Прекрасней лавра, мученик, твой терн! И умереть в темнице лазарета Верх славы… О судьба! дай в жизни мне Быть Камоэнсом! дай, как он, быть светом Отечества и века моего Величием! – и все земные блага Тебя я отдаю на жертву!Камоэнс
О! Клянусь моей последнею минутой, И всей моей блаженно-скорбной жизнью, И всем святым, что я в душе хранил, И всеми чистыми ее мечтами Клянуся, ты назначен быть поэтом. Не своелюбие, не тщетный призрак Тебя влекут – тебя зовет сам бог; К великому стремишься ты смиренно, И ты дойдешь к нему – ты сердцем чист.Васко
Дойду?.. О Камоэнс! ты ль это мне Пророчишь?.. Повтори ж мне, буду ль я Поэтом?Камоэнс
Ты поэт! имей к себе Доверенность, об этом часе помни; И если некогда захочет взять Судьба свое и путь твой омрачится — Подумай, что своим эфирным словом Ты с Камоэнсовых очей туман Печали свеял, что в последний час, Обезнадеженный сомненьем, он Твоей душой был вдохновлен, и снова На пламени твоем свой прежний пламень Зажег – и жизнь прославил, умирая. О, помни, друг, об этом часе, помни О той руке, уж смертью охлажденной, Которая на звание поэта Теперь тебя благословляет. Жизнь Зовет па битву! с богом! воссияй Прекрасным днем, денница молодая! А Камоэнсово уж солнце село, И смерть над ним покров свой расстилает…Васко
Ты не умрешь. На имени твоем Покоится бессмертье.Камоэнс
Так, оно На нем покоится. Его призыв Я чувствую: я был поэт вполне. Неправедно роптал я на страданье; Мне в душу бог вложил его – он прав; Страданием душа поэта зреет, Страдание – святая благодать… И здесь любил я истину святую, И голос мой был голосом ее; И не развеется, как прах ничтожный, Жизнь вдохновенная моя; бессмертны Мои мечты; их семена живые Не пропадут на жатве поколений. Пред господа могу предстать я смело.Васко
Что, что с тобой?..В эту минуту совершается видение: над головою Камоэнса является дух в образе молодой девы, увенчанной лаврами, с сияющим крестом на груди. За нею яркий свет.
Камоэнс
Оставь меня, мой сын! Я чувствую, великий час мой близко… Мой дух опять живой – исполнен силы; Меня зовет знакомый сердцу глас; Передо мной исчезла тьма могилы, И в небесах моих опять зажглась Моя звезда, мой путеводец милый!.. О! ты ль? тебя ль час смертный мне отдал, Моя любовь, мой светлый идеал? Тебя, на рубеже земли и неба, снова Преображенную я вижу пред собой; Что здесь прекрасного, великого, святого Я вдохновенною угадывал мечтой, Невыразимое для мысли и для слова, То все в мой смертный час прияло образ твой И, с миром к моему приникнув изголовью, Мне стало верою, надеждой и любовью. Так, ты поэзия: тебя я узнаю; У гроба я постиг твое знаменованье. Благословляю жизнь тревожную мою! Благословенно будь души моей страданье! Смерть! смерть, великий дух! я слышу весть твою; Меня всего твое проникнуло сиянье! (Подает руку Васку, который падает на колени.) Мой сын, мой сын, будь тверд, душою не дремли! Поэзия есть бог в святых мечтах земли. (Умирает.)Агасфер Странствующий жид
Он нес свой крест тяжелый на Голгофу; Он, всемогущий, вседержитель, был Как человек измучен; пот и кровь По бледному его лицу бежали; Под бременем своим он часто падал, Вставал с усилием, переводил Дыхание, потом, шагов немного Переступив, под ношей снова падал, И наконец, с померкшими от мук Очами, он хотел остановиться У Агасферовых дверей, дабы, К ним прислонившись, перевесть на миг Дыханье. Агасфер стоял тогда В дверях. Его он оттолкнул от них Безжалостно. С глубоким состраданьем К несчастному, столь чуждому любви, И сетуя о том, что должен был Над ним изречь как бог свой приговор, Он поднял скорбный взгляд на Агасфера И тихо произнес: «Ты будешь жить, Пока я не приду», – и удалился. И наконец он пал под ношею совсем Без силы. Крест тогда был возложен На плечи Симона из Киринеи. И скоро он исчез вдали, и вся толпа Исчезла вслед за ним; все замолчало На улице ужасно опустелой. Народ вокруг Голгофы за стенами Ерусалимскими столпился. Город Стал тих, как гроб. Один, оцепенелый, В дверях своих недвижим Агасфер Стоял. И долго он стоял, не зная, Что с ним случилося, чьи были те Слова, которых каждый звук свинцовой Буквой в мозг его был вдавлен, и там Сидел неисторжим, не слышен уху, Но страшно слышен в глубине души. Вот наконец, вокруг себя обведши, Как полусонный, очи, он со страхом Заметил, что на Мории над храмом Чернели тучи с запада, с востока, И с севера, и с юга, в одну густую Слиявшиеся тьму. Туда упер он Испуганное око; вдруг крест-накрест Там молнией разрезалася тьма, Гром грянул, чудный отзыв в глубине Святилища ответствовал ему, Как будто там разорвалась завеса. Ерусалим затрепетал, и весь Незапно потемнел, лишенный солнца; И в этой тьме земля дрожала под ногами; Из глубины ее был голос, было Теченье в воздухе бесплотных слышно; Во мраке образы восставших Из гроба, вдруг явясь, смотрели Живым в глаза. Толпами от Голгофы Бежал народ, был слышен шум Бегущих; но ужасно каждый про себя Молчал. Тут Агасфер, в смертельном страхе, Очнувшись, неоглядкой побежал Вслед за толпою от своих дверей, Не зная сам куда, и в ней исчез. Тем временем утих Ерусалим. Во мгле громадой безобразной зданья Чернели. Жители все затворились В своих домах, и все тяжелым сном Заснуло. И вот над этой темной бездной От туч, их затмевавших, небеса, Уж полные звездами ночи, стали чисты: В их глубине была невыразима Неизглаголанная тишина, И слуху сердца слышалося там, Как от звезды к звезде перелетали Их стражи – ангелы, с невыразимой Гармонией блаженной, чудной вести. Прямо Над Элеонскою горой звезда Денницы подымалась. ́ Агасфер, Всю ночь по улицам Ерусалима Бродив, терзаемый тоской и страхом, Вдруг очутился за стенами града Перед Голгофой. На горе пустой, На чистом небе, ярко три креста Чернели. У подошвы темной Горы был вход в пещеру, и великим камнем Он был задвинут; невдали, как две Недвижимые тени, в сокрушенье Две женщины сидели, устремив Глаза – одна на камень гроба, а другая На небеса. Увидя их, и камень, И на горе кресты, затрепетал Всем телом Агасфер; почудилось ему, Что грозный камень на него идет, Чтоб задавить, и, как безумный, Он побежал ко граду от Голгофы.* * *
Есть остров; он скалою одинокой Подъемлется из бездны океана; Вокруг него все пусто: беспредельность Вод и беспредельность неба. Когда вода тиха, а небеса Безоблачны, он кажется тогда В сиянье дня уединенно-мрачным Пустынником в лазури беспредельной; В ночи ж, спокойным морем отраженный Между звездами, в двух кругом него Пучинах блещущими, он чернеет, Как сумрачный отверженец созданья. Когда ж на небе тучи, в море буря И на него со всех сторон из бездны Бросаются, как змеи, вихри волн, А с неба молнии в его бока Вонзаются, их ребр не сокрушая, Он кажется, в сем бое недвижимый, Всемирного хао́са господином. На западном полнебе знойно солнце Горело; воздух густо был наполнен Парами; в них как бы растаяв, солнце Сливалось с ними, и весь запад неба И все под ним недвижимое море Пурпурным янтарем сияли; было Великое спокойствие в пространстве. В глубокой думе, руки на груди Крест-накрест сжав, он, вождь побед недавно И страх царей, теперь царей колодник, Сидел один над бездной на скале, И на море – которое пред ним Так было тихо и, весь пламень неба В себя впивая всей широкой грудью, Им полное, дыханьем несказанным Вздымалося – смотрел. Пред ним широко Пустыня пламенная расстилалась. С ожесточеньем безнадежной скорби, Глубоко врезавшейся в сердце, С негодованьем силы, вдруг лишенной Свободы, он смотрел на этот хаос Сияния, на это с небесами Слиявшееся море. Там лежал И самому ему уже незримый мир, Им быстро созданный и столь же быстро Погибший; а широкий океан, Пред ним сиявший, где ничто следов Величия его не сохранило, Терзал его обиженную душу Бесчувственным величием своим, С каким его в своей темнице влажной Он запирал. И он с презреньем взоры От бездны отвратил, и оком мысли Перелетел в страну минувшей славы. Там образы великие пред ним, Сражений тени, призраки триумфов, Как из-за облак огненные Альпов Вершины, подымались, а в дали далекой Звучал потомства неумолчный голос; И мнилося ему, что на пороге Иного мира встретить ждут его Величества всех стран и всех времен. Но в этот миг, когда воспоминаньем В минувшем гордой мыслью он летал, орел Ширококрылый, от бездны моря быстро Взлетев на высоту, промчался мимо Его скалы и в высоте пропал. Его полетом увлеченный, он Вскочил, как будто броситься за ним Желая в беспредельность; воли, воли Его душа мучительную прелесть Отчаянно почувствовала всю. Орел исчез в глубоком небе. Тяжким Свинцом его полет непритеснимый На сердце пал ему; весь ужас Его судьбы, как голова смертельная Горгоны, Ему предстал; все привиденья славы Минувшей вдруг исчезли; и один Постыдный, может быть и долгий, путь От тьмы тюремной до могильной, где Ничтожество; и он затрепетал; И всю ему проникло душу отвращенье К себе и к жизни; быстрым шагом к краю Скалы он подошел и жадном оком Смотрел на море, и оно его К себе как будто звало, и к нему В своих ползущих на скалу волнах Бесчисленные руки простирало. И уж его нога почти черту Между скалой и пустотой воздушной Переступила… В этот миг его Глазам, как будто из земли рожденный, На западе скалы, огромной тенью Отрезавшись от пламенного неба, Явился некто, и необычайный, Глубоко движущий всю душу голос Сказал: «Куда, Наполеон!» При этом зове, Как околдованный, он на краю скалы Оцепенел: поднятая нога Сама собой на землю опустилась. И с робостью, неведомой дотоле, На подходящего он устремил Глаза и чувствовал с каким-то странным Оттолкновеньем всей души, что этот Пришелец для него и для всего Создания чужой; но он невольно Пред ним благоговел, его черты С непостижимым сердца изумленьем Рассматривал… К нему шел человек, В котором все нечеловечье было: Он был живой, но жизни чужд казался; Ни старости, ни молодости в чудных Его чертах не выражалось; все в них было Давнишнее, когда-то вдруг – подобно Созданьям допотопным – в камень Неумираюший и неживущий Преобращенное; в его глазах День внешний не сиял, но в них глубоко Горел какой-то темный свет, Как зарево далекого сиянья; Вкруг головы седые волоса И борода, широкими струями Грудь покрывавшая, из серебра Казались вылитыми; лоб И щеки бледные, как белый мрамор, Морщинами крест-накрест были Изрезаны; одежда в складках тяжких, Как будто выбитых из меди, с плеч До пят недвижно падала; и ноги Его шли по земле, как бы в нее Не упираяся. – Пришелец, приближась, На узника скалы вперил свои Пронзительные очи и сказал: «Куда ты шел и где б ты был, когда б Мой голос вовремя тебя не назвал? Не говорить с тобой сюда пришел я: Не может быть беседы между нами, И мыслями меняться нам нельзя; Я здесь не гость, нe друг, не собеседник; Я здесь один минутный призрак, голос Без отзыва… Врачом твоей души Хочу я быть, и перед нею всю Мою судьбу явлю без покрывала. В молчанье слушай. Участи моей Страшнее не было, и нет, и быть Не может на земле. Богообидчик, Проклятью npеданный, лишенный смерти И в смерти жизни, вечно по земле Бродить приговоренный, и всему Земному чуждый, памятью о прошлом Терзаемый, и в области живых живой Мертвец, им страшный и противный, Не именующий здесь никого Своим, и что когда любил на свете — Все переживший, все похоронивший, Все пережить и все похоронить Определенный; нет мне на земле Ни радости, ни траты, ни надежды; День настает, ночь настает – они Без смены для меня; жизнь не проходит, Смерть не проходит; измененья нет Ни в чем; передо мной немая вечность, Окаменившая живое время; И посреди собратий бытия, Живущих радостно иль скорбно, жизнь Любящих иль из жизни уводимых Упокоительной рукою смерти, На этой братской трапезе созданий Мне места нет; хожу кругом трапезы Голодный, жаждущий – меня они Не замечают; стражду, как никто И сонный не страдал – мое ж страданье Для них не быль, а вымысел давнишний, Давно рассказанная детям сказка. Таков мой жребий. Ты, быть может, С презреньем спросишь у меня: зачем же Сюда пришел я, чтоб такой Безумной басней над тобой ругаться? Таков мой жребий, говорю, для всех Вас, близоруких жителей земли; Но для тебя моей судьбины тайну Я всю вполне открою… Слушай. Я – Агасфер; не сказка Агасфер, Которою кормилица твоя Тебя в ребячестве пугала; нет! Я Агасфер живой, с костями, с кровью, Текущей в жилах, с чувствующим сердцем И с помнящей минувшее душою. Я Агасфер – вот исповедь моя. О нет! язык мой повторить не может Живым, для слуха внятным словом Того, что некогда свершилось, что В проклятие жизнь бедную мою Преобразило. Имя Агасфер Тебе сказало все… Нет! в языке Моем такого слова не найду я, Чтоб то изобразить, что был я сам, Что мыслилось, что виделось, что ныло В моей душе и что в ночах бессонных, Что в тяжком сне, что в привиденьях, Пугавших въявь, мне чудилось в те дни, Которые прошли подобно душным, Грозою полным дням, когда дыханье В груди спирается и в страхе ждешь Удара громового; в дни несказанной Тоски и трепета, со дня Голгофы Прошедшие!.. Ерусалим был тих, Но было то предтишье подходящей Беды; народ скорбел, и бледность лиц, Потупленность голов, походки шаткость И подозрительность суровых взглядов — Все было знаменьем чего-то, страшно Постигнувшего всех, чего-то, страшно Постигнуть всех грозящего; кругом Ерусалимских стен какой-то мрачный, Неведомый во граде никому, Бродил и криком жалобным, на всех Концах всечасно в граде слышным: «Горе! От запада и от востока горе! От севера и от полудня горе! Ерусалиму горе!» – повторял. А я из всех людей Ерусалима Был самый трепетный. В беде всеобщей Мечталась мне страшнейшая моя: Чудовище с лицом закрытым, мне Еще неведомым, но оттого Стократ ужаснейшим. Что он сказал мне — Я слов его не постигал значенья: Но звуки их ни день, ни ночь меня Не покидали; яростью кипела Вся внутренность моя против него, Который ядом слова одного Так жизнь мою убил; я приговора Его могуществу не верил; я Упорствовал обманщика в нем видеть; Но чувствовал, что я приговорен… К чему?.. Неведенья ужасный призрак, Страшилище без образа, везде, Куда мои глаза ни обращал я, Стоял передо мной и мучил страхом Неизглаголанным меня. Против Обиженного мной и приговор мне Одним, еще непонятым мной, словом Изрекшего, и против всех его Избранников я был неукротимой Исполнен злобой. А они одни Между людьми Ерусалима были Спокойны, светлы, никакой тревогой Не одержимы: кто встречался в граде Смиренный видом, светлым взором Благословляющий, благопристойный В движениях, в опрятном одеянье. Без роскоши, уж тот, конечно, был Слугой Иисуса Назорея; в их Собраниях вседневно совершалось О нем воспоминанье; часто, посреди Ерусалимской смутной жизни, было Их пенье слышимо; они без страха В домах, на улицах, на площадях Благую весть о нем провозглашали. Весь город злобствовал на них, незлобных; И эта злоба скоро разразилась Гонением, тюремным заточеньем И наконец убийством. Я, как дикий Зверь, ликовал, когда был перед храмом Стефан, побитый каменьем, замучен; Когда потом прияли муку два Иакова – один мечом, другой С вершины храма сброшенный; когда Пронесся слух, что Петр был распят в Риме, А Павел обезглавлен: мнилось мне, Что в них, свидетелях его, и память О нем погибнет. Тщетная надежда! Во мне тоска от страха неизвестной Мне казни только раздражалась. Я При Ироде-царе рожденный, видел Все время Августа; потом три зверя, Кровавой властью обесславив Рим, Погибли; властвовал четвертый, Нерон; Столетие уж на плечах моих лежало; Вокруг меня четыре поколенья Цвели в одном семействе: сыновья, И внучата, и внуков внуки в доме Моем садились за мою трапезу… Но я со дня того в живом их круге Все более и боле чужд, и сир, И нелюдим, и грустен становился; Я чувствовал, что я ни хил, ни бодр, Ни стар, ни молод, но что жизнь моя Железно-мертвую приобрела Несокрушимость; самому себе, Среди моих живых детей, и внуков, И правнуков, казался я надгробным Камнем, меж их могил стоящим камнем: И лица их имели страшный цвет Объятых тленьем трупов. Все уж дети И все уж внуки были взяты смертью; И правнуков с невыразимым горем И бешенством я начал хоронить… Тем временем час от часу душнее В Ерусалиме становилось. Зная, Что будет, все Иисуса Назорея Избранники покинули убивший Учителя их город и ушли За Иордан. И все, и все сбывалось, Что предсказал он: Палестина вся Горела бунтом; легионы Рима Терзали области ее; и скоро Приблизился к Ерусалиму час Его судьбы; то время наступило, Когда, как он пророчил, «благо будет Сошедшим в гроб, и горе матерям С младенцами грудными, горе старцам И юношам, живущим в граде, горе Из града не ушедшим в горы девам». Веспасианов сын извне пути Из града все загородил, вогнав Туда насильно мор и голод; Внутри господствовали буйство, бунт, Усобица, безвластъе, безначалье. Владычество разбойников, извне Прикликанных своими на своих. Вдруг три осады: храма от пришельных Грабителей, грабителей от града, града От легионов Тита… Всюду бой; Первосвященников убийство в храме: На улицах нестройный крик от страха, От голода, от муки передсмертной, От яростной борьбы за кус согнившей Еды, рев мятежа, разврата песни, Бесстыдных оргий хохот, стон голодных Младенцев, матерей тяжелый вой… И в высоте над этой бездной днем Безоблачно пылающее небо, Зловонную заразу вызывая Из трупов, в граде и вне града Разбросанных; в ночи ж, как божий меч, Звезда беды, своим хвостом всю твердь Разрезавшая пополам. Ерусалиму Пророча гибель… И погибнуть весь Израиль обречен был; отовсюду Сведенный светлым праздником пасхальным В Ерусалим, народ был разом предан На истребленье мстительному Риму. И все истреблены: убийством, гладом, В когтях зверей, прибитые к крестам, В цепях, в изгнанье, в рабстве на чужбине. Погиб господний град – и от созданья Мир не видал погибели подобной. О, страшно он боролся с смертным часом! Когда в него, все стены проломив, Ворвался враг и бросился на храм, — Народ, в его толпу, из-за ограды Исторгшись, врезался и, с ней сцепившись, Вслед за собой ее вовлек в средину Ограды. Бой ужасный, грудь на грудь, Тут начался; и, наконец, спасаясь, Вкруг скинии, во внутренней ограде Столпились мы, отчаянный, последний Израиля остаток… Тут увидел Я несказанное: под святотатной Рукою скиния открылась, стало Нам видимо невиданное оку Дотоль – ковчег завета… В этот миг Храм запылал, и в скинию пожар Ворвался… Мы, весь гибнущий Израиль, И с нами нас губящий враг в единый Слилися крик, одни завыв от горя, А те заликовав от торжества Победы… Вся гора слилася в пламя, И посреди его, как длинный, гору Обвивший змей, чернело войско Рима. И в этот миг все для меня исчезло. Раздавленный обрушившимся храмом, Я пал, почувствовав, как череп мой И кости все мои вдруг сокрушились. Беспамятство мной овладело… Долго ль Продлилося оно – не знаю. Я Пришел в себя, пробившись сквозь какой-то Невыразимый сон, в котором все В одно смешалося страданье. Боль От раздробленья всех костей, и бремя Меня давивших камней, и дыханья Запертого тоска, и жар болезни, И нестерпимая работа жизни, Развалины разрушенного тела Восстановляющей при страшной муке И голода и жажды – это все Я совокупно вытерпел в каком-то Смятенном, судорожном сне, без мысли, Без памяти и без забвенья, с чувством Неконченного бытия, которым, Как тяжкой грезой, вся душа Была задавлена и трепетала Всем трепетом отчаянным, какой Насквозь пронзает заживо зарытых В могилу. Но меня моя могила Не удержала; я из-под обломков, Меня погребших, вышел снова жив И невредим; разбив меня насмерть, Меня, ожившего, они извергли, Как скверну, из своей громады. Очнувшись, в первый миг я не постигнул, Где я. Передо мною подымались Вершины горные; меж них лежали Долины, и все они покрыты были Обломками, как будто бы то место Град каменный, обрушившися с неба, Незапно завалил: и там нигде Не зрелося живого человека — То был Ерусалим!.. Спокойно солнце Садилось, и его прощальный блеск, На высоте Голгофы угасая, Оттуда мне блеснул в глаза – и я, Ее увидя, весь затрепетал. Из этой повсеместной тишины, Из этой бездны разрушенья снова Послышалося мне: «Ты будешь жить, Пока я не приду». Тут в первый раз Постигнул я вполне свою судьбину. Я буду жить! я буду жить, пока Он не придет!.. Как жить?.. Кто он? Когда Придет?.. И все грядущее мое Мне выразилось вдруг в остове этом Погибшего Ерусалима: там На камне камня не осталось; там Мое минувшее исчезло все; Все, жившее со мной, убито; там Ничто уж для меня не оживет И не родится; жизнь моя вся будет, Как этот мертвый труп Ерусалима, И жизнь без смерти. Я в бешенстве завыл И бешеное произнес на все Проклятие. Без отзыва мой голос Раздался глухо над громадой камней, И все утихло… В этот миг звезда Вечерняя над высотой Голгофы Взошла на небо… и невольно, Сколь мой ни бешенствовал дух, в ее Сиянье тайную отрады каплю Я смертоносным питием хулы И проклинанья выпил; но была то Лишь тень промчавшегося быстро мига. Что с оного я испытал мгновенья? О, как я плакал, как вопил, как дико Роптал, как злобствовал, как проклинал, Как ненавидел жизнь, как страстно Невнемлющую смерть любил! С двойным Отчаяньем и бешенством слова Страдальца Иова я повторял: «Да будет проклят день, когда сказали: Родился человек; и проклята Да будет ночь, когда мой первый крик Послышался; да звезды ей не светят, Да не взойдет ей день, ей, незапершей Меня родившую утробу!» А когда я Вспоминал слова его печали О том, сколь малодневен человек: «Как облако уходит он, как цвет Долинный вянет он, и место, где Он прежде цвел, не узнает его», — О! этой жалобе я с горьким плачем Завидовал… Передо мною все Рождалося и в час свой умирало; День умирал в заре вечерней, ночь В сиянье дня. Сколь мне завидно было, Когда на небе облако свободно Летело, таяло и исчезало; Когда свистящий ветер вдруг смолкал, Когда с деревьев падал лист; все, в чем Я видел знамение смерти, было Мне горькой сладостью; одна лишь смерть — Смерть, упование не быть, исчезнуть — Всему, что жило вкруг меня, давала Томительную прелесть; жизнь же Всего живущего я ненавидел И клял, как жизнь проклятую мою… И с этой злобой на творенье, с диким Восстаньем всей души против творца И с несказанной ненавистью против Распятого, отчаянно пошел я. Неумирающий, всему живому Враг, от того погибельного места, Где мне моей судьбы открылась тайна. Томимый всеми нуждами земными, Меня терзавшими, не убивая, И голодом, и жаждою, и зноем, И хладом, грозною нуждой влекомый, Я шел вперед, без воли, без предмета. И без надежды, где остановиться Или куда дойти; я не имел Товарищей: со мною братства люди Чуждались; я от них гостеприимства И не встречал и не просил. Как нищий, Я побирался… Милостыню мне Давали без вниманья и участья, Как лепт, который мимоходом Бросают в кружку для убогих, вовсе Незнаемых. И с злобой я хватал, Что было мне бросаемо с презреньем. Так я сыпучими песками жизни Тащился с ношею моею, зная, Что никуда ее не донесу; И вместе с смертию был у меня И сон, успокоитель жизни, отнят. Что днем в моей душе кипело: ярость На жизнь, богопроклятие, вражда С людьми, раздор с собою, и вины — Непризнаваемой, но беспрестанно Грызущей сердце – боль, то́ в темноте Ночной, вкруг изголовья моего Толпою привидений сто́я, сон От головы измученной моей Неумолимо отгоняло. Буря Ночная мне была отрадней тихой, Украшенной звездами ночи: там, С мутящим землю бешенством стихий, Я бешенством души моей сливался. Здесь каждая звезда из мрака бездны, Там одинокая меж одиноких, Подобно ей потерянных в пространстве, Как бы ругаясь надо мною, мне Мой жребий повторяла, на меня С небес вперяя пламенное око. Так, в исступлении страданья, злобы И безнадежности, скитался я Из места в место; все во мне скопилось В одну мучительную жажду смерти. «Дай смерть мне! дай мне смерть!» – то было криком Моим, и плачем, и моленьем Пред каждым бедствием земным, которым На горькую мне зависть гибли люди. Кидался в бездну я с стремнины горной: На дне ее, о камни сокрушенный, Я оживал по долгой муке. Море в лоно Свое меня не принимало; пламень Меня пронзал мучительно насквозь, Но не сжигал моей проклятой жизни. Когда к вершинам гор скоплялись тучи И там кипели молнии, туда Взбирался я, в надежде там погибнуть; Но молнии кругом меня вилися, Дробя деревья и утесы: я же Был пощажен. В моей душе блеснула Надежда бедная, что – может быть — В беде всеобщей смерть меня с другими Скорей, чем одинокого, ошибкой Возьмет: и с чумными в больнице душной Я ложе их делил, их трупы брал На плечи и, зубами скрежеща От зависти, в могилу относил: Напрасно! мной чума пренебрегала. Я с караваном многолюдным степью Песчаной Аравийской шел; Вдруг раскаленное затмилось небо, И солнце в нем исчезло: вихрь Песчаный побежал от горизонта На нас; храпя, в песок уткнули морды Верблюды, люди пали ниц – я грудь Подставил пламенному вихрю: Он задушил меня, но не убил. Очнувшись, я себя увидел посреди Разбросанных остовов, на пиру Орлов, сдирающих с костей обрывки Истлевших трупов. – В тот ужасный день, Когда исчез под лавой Геркуланум И пепел завалил Помпею, я Природы судорогой страшной был Обрадован: при стоне и трясенье Горы дымящейся, горящей, тучи Золы и камней и кипучей лавы Бросающей из треснувшего чрева, При вое, крике, давке, шуме в бегстве Толпящихся сквозь пепел, все затмивший, В котором, ничего не озаряя, Сверкал невидимый пожар горы, Отчаянно пробился я к потоку Всепожирающему лавы: ею Обхваченный, я, вмиг прожженный, в уголь Был обращен, и в море, Гонимый землетрясения силой, Был вынесен, а морем снова брошен На брег, на произвол землетрясенью. То был последний опыт мой насильством Взять смерть; я стал подобен гробу, В котором запертой мертвец, оживши И с криком долго бившись понапрасну, Чтоб вырваться из душного заклепа. Вдруг умолкает и последней ждет Минуты, задыхаясь: так в моем Несокрушимом теле задыхалась Отчаянно моя душа. «Всему Конец: живи, не жди, не веруй, злобствуй И проклинай; но затвори молчаньем Уста и замолчи на вечность» – так Сказал я самому себе… Но слушай. Тогда был век Траяна; в Рим Из областей прибывший император В Веспасиановом амфитеатре Кровавые готовил граду игры: Бой гладиаторов и христиан Предание зверям на растерзанье. Пронесся слух, что будет знаменитый Антиохийской церкви пастырь, старец Игнатий, льву ливийскому на пищу В присутствии Траяна предан. Трепет Неизглаголанный при этом слухе Меня проник. С народом побежал я В амфитеатр – и что моим очам Представилось, когда я с самых верхних Ступеней обозрел глазами бездну Людей, там собранных! Сквозь яркий пурпур Растянутой над зданьем легкой ткани, Которую блеск солнца багрянил, И зданье, и народ, и на высоком Седалище отвсюду зримый кесарь Казались огненными. В это Мгновение последний гладиатор, Народом не прощенный, был зарезан Своим противником. С окровавленной Арены мертвый труп его тащили, И стала вдруг она пуста. Народ Умолк и ждал, как будто в страхе, знака Не подавая нетерпенья. Вдруг В глубокой этой тишине раздался Из подземелья львиный рев, и сквозь Отверзтый вход амфитеатра старец Игнатий и с ним двенадцать христиан, Зверям на растерзанье произвольно С своим епископом себя предавших, На страшную арену вышли. Старец, Оборотясь к другим, благословил их, Ему с молением упавших в ноги; Потом они, прижав ко груди руки: «Тебя, – запели тихо, – бога, хвалим, Тебя едиными устами в смертный Час исповедуем…» О, это пенье, В Ерусалиме слышанное мною На праздничных собраньях христиан С кипеньем злобы, здесь мою всю душу Проникнуло незапным вдохновеньем. Что предо мной открылось в этот миг, Что вдруг во мне предчувствием чего-то Невыразимого затрепетало И как, в амфитеатр ворвавшись, я Вдруг посреди дотоле ненавистных Мне христиан там очутился – я Не знаю. Пенье продолжалось; но Уж на противной стороне арены Железная решетка, загремев, упала, И уж в ее отверстии стоял С цепей спущенный лев, и озирался… И вдруг, завидя вдалеке добычу, Он зарыкал… и вспыхнули глаза, И грива стала дыбом… Тут вперед Я кинулся, чтоб старца заслонить От зверя… Он уже кидался к нам Прыжками быстрыми через арену; Но старец, кротко в сторону меня Рукою отодвинув, мне сказал: «Должно́ пшено господнее в зубах Звериных измолоться, чтоб господним Быть чистым хлебом; ты же, друг, отселе Поди в свой путь, смирись, живи и жди…» Тут был он львом обхвачен… Но успел Еще меня перекрестить и взор Невыразимый от меня на небо В слезах возвесть, как бы меня ему Передавая… О, животворящий, На вечность всю присутственный в душе, Небесного блаженства полный взгляд! Могуществом великого мгновенья Сраженный, я без памяти упал К ногам терзаемого диким зверем Святителя; когда ж очнулся, вкруг Меня в крови разбросанные члены Погибших я увидел; и усталый Терзанием лежал, разинув пасть И быстро грудью жаркою дыша, Спокойный лев, вперив в меня свои Пылающие очи. Но когда Я на ноги поднялся, он вскочил, И заревел, и в страхе от меня Стал пятиться, и быстро вдруг Через арену побежал, и скрылся В своем заклепе. Весь амфитеатр От восклицаний задрожал, а я От места крови, плача, удалился, И из ворот амфитеатра беспреградно вышел Что после в оный чудный день случилось, Не помню я; но в благодатном взгляде, Которым мученик меня усвоил В последний час свой небесам, опять Блеснула светлая звезда, мгновенно Мне некогда блеснувшая с Голгофы, В то время безотрадно, а теперь Как луч спасения. Как будто что-то Мне говорило, что моя судьба Переломилась надвое; стремленье К чему-то не испытанному мною Глубоко мне втеснилось в грудь, и знаком Такого измененья было то, Что проклинание моим устам Произносить уже противно стало, Что злоба сердца моего в унылость Безмолвно-плачущую обратилась, Что наконец страдания мои Незапная отрада посетила: Хотя еще к моей груди усталой, По-прежнему, во мраке ночи сон Не прикасался; но уже во тьме Не ужасы минувшего, как злые Страшилища, передо мной стояли, В меня вонзая режущие душу Глаза; а что-то тихое и мне Еще неоткровенное, как свежий, Предутренний благоуханный воздух — Вливалося в меня и усмиряло Мою борьбу с собой. О! этот взгляд! Он мне напомнил тот прискорбно-кроткий, С каким был в оный день мой приговор Произнесен… Но я уже не злобой Наполнен был при том воспоминанье, А скорбию раскаянья глубокой И чувствовал стремленье пасть на землю, Зарыть лицо во прах и горько плакать. То были первые минуты тайной. Будящей душу благодати, первый, Еще неясно слышный, безответный, Но усладительный призыв к смиренью И к покаянью. В языке нет слова, Чтоб имя дать подобному мгновенью, Когда с очей души вдруг слепота Начнет спадать и божий светлый мир Внутри и вне ее, как из могилы, Начнет с ней вместе воскресать. Такое Движение в моей окаменелой Душе незапно началося… Было Оно подобно зыби после бури, Когда нет ветра, небеса светлеют, А волны долго в диком беспорядке Бросаются, кипят и стонут. В этой Борьбе души меж тьмой и светом я Неодолимое влеченье в край Отечества почувствовал, к горам Ерусалима – и к брегам желанным Поплыл я, и корабль мой Прибила буря к острову Патмосу. Промысл Господний втайне от меня ту бурю Послал. Там жил изгнанник, старец Столетний, Иоанн, благовеститель Христа и ученик его любимый. О нем не ведал я: но провиденье Меня безведомо к нему путем Великой бури привело, и цепью бури Корабль наш был прикован к берегам Скалистым острова, пока со мной Вполне моя судьба не совершилась.* * *
Скитаясь одиноко, я незапно Во глубине долины, сокровенной От странника густою тенью пальм И кипарисов, встретил там святого Апостола». При этом слове пал На землю Агасфер, и долго он Лежал недвижим, головой во прахе. Когда ж он встал, его слезами были Облиты щеки; а в чертах его Тысячелетнего лица с глубокой Печалию, с невыразимо грустной Любовию была слита молитвы Неизглаголанная святость. Он Был в этот миг прекрасен той красою, Какой не знает мир. Он продолжал: «Ни помышлять, ни говорить об этой встрече Я не могу иначе, как простершись в прахе, С тоской раскаянья, в тоске любви, Проникнутый огнем благодаренья. Он из кремня души моей упорной Животворящим словом выбил искру Всепримиряющего покаяния; И именем того, кто нам один Дает надежду, веру и любовь, Мой страшного отчаянья удел Преобратил в удел святого мира, И наконец, когда я, сокрушенный, Как тот разбойник на кресте, к ногам Обиженного мной с смиренным сердцем Упав, воскликнул: «Помяни меня, Когда во царствие свое приидешь!» — 0н оросил меня водой крещенья, И на другое утро – о, незаходимый, О, вечный день для памяти моей — За утренней звездою солнце тихо Над морем подымалось на востоке, Когда он, перед хлебом и перед чашей Вина со мной простершись, сам вина и хлеба Вкусил и мне их дал вкусить, сказав: «Со страхом божиим и с верой, сын мой, К сим тайнам приступи и причастись Спасению души в святом Христа За нас пронзенном теле и Христовой За нас пролитой крови». И потом Он долго поучал меня, и мне открыл Значение моей, на испытанье Великое приговоренной, жизни, И наконец перед моими, мраком Покрытыми, очами приподнял Покров с грядущего, покров с того, Что было, есть и будет. Начинало Скрываться солнце в тихом лоне моря, Когда, меня перекрестив, со мною Святой евангелист простился. Ветер, Попутный плаванию в Палестину, Стал дуть: мы поплыли под звездным небом Полупрозрачной ночи. Тут впервые Преображение моей судьбы Я глубоко почувствовал; впервые, Уже сто лет меня не посещавший, Сошел ко мне на вежды сон, и с ним Давно забытая покоя сладость Мою проникла грудь. Но этот сон Был не один страдания ценитель, — Был ангел, прямо низлетевший с неба. Все, что пророчески евангелист Великий чудно говорил мне, То в образах великих этот сон Явил очам моей души, и в ней Те образы, в течение столетий Не помраченные, час от часу Живей из облекающей их тайны Моей душе сияют, перед ней Неизглаголанно прообразуя Судьбы грядущие. Корабль наш, ветром Попутным тихо по водам несомый, По морю гладкому, не колыхаясь, Летел, а я непробудимым сном, Под веяньем полуночной прохлады, Спал, и во сне стоял передо мной Евангелист и вдохновенно он Слова те огненные повторял, Которыми, беседуя со мною, Перед моим непосвященным оком Разоблачал грядущего судьбу; И каждое пророка слово, в слух мой Входя, в великий превращалось образ Перед моим телесным оком. Все, Что ухо слышало, то зрели очи; И в слове говорящего со мной Во сне пророка все передо мной, И надо мной, на суше, на водах, И в вышине небес, и в глубине Земли видений чудных было полно. Я видел трон, на четырех стоящий Животных шестокрылых, и на троне Сидящего с семью запечатленной Печатями великой книгой. Я видел, как печати с книги агнец Сорвал, как из печатей тех четыре Коня исторглися, как страшный всадник, смерть, На бледном поскакал коне и как Пред агнцем все – и небо, и земля, И все, что в глубине земли, и все, Что в глубине морей и небеса, И все тьмы ангелов на небесах — В единое слилось славохваленье. Я зрел, ках ангел светлый совершил Двенадцати колен запечатленье Печатию живого бога: зрел Семь ангелов с великими, гнев божий, Беды и казнь гласящими трубами, И слышал голос: «Время миновалось!» Я видел, как дракон, губитель древний, Вслед за женой, двенадцатью звездами Венчанной, гнался; как жена в пустыню Спаслася, а ее младенец был На небо унесен; как началась Война на небесах и как архангел Низверг дракона в бездну и его Всю силу истребил; и как потом Из моря седмиглавый зверь поднялся; Как обольщенные им люди бога Отринули; как в небесах явился Сын человеческий с серпом; как жатва Великая свершилась; как на белом Коне потом, блестящий светлым, белым Оружием, – себя ж именовал Он «Слово божие» – явился всадник; Как вслед за ним шло воинство на белых Конях, в виссон одеянное чистый, И как из уст его на казнь людей Меч острый исходил; Как от того меча и зверь и рать Его погибли; как дракон, цепями Окованный, в пылающую бездну На тысячу был лет низвергнут; как Потом на высоте великий белый Явился трон; как от лица на троне Сидящего и небо и земля Бежали, и нигде не обрелось Им места; как на суд предстало все Создание; как мертвых возвратили Земное чрево и морская бездна; Как разогнулася перед престолом Господним книга жизни; как последний Суд по делам для всех был изречен И как в огонь неугасимый были Низвержены на вечность смерть и ад. И новые тогда я небеса И землю новую узрел и град Святой, от бога нисходящий, новый Ерусалим, как чистая невеста Сияющий, увидел. И раздался, Услышал я, великий свыше голос: «Здесь скиния господня, здесь господь Жить с человеками отныне будет; Здесь храма нет ему, здесь сам он храм свой; Здесь всякую слезу отрет он; Ни смерти более, ни слез, ни скорби И никаких страданий и недугов Не будет здесь, понеже миновалось Все прежнее и совершилось дело Господнее. Не нужны здесь ни солнце, Ни светлость дня, ни ночи темнота, Ни звезды неба; здесь сияет слава Господняя, и агнец служит здесь Светильником, и божие лицо Спасенные очами видеть будут». И слышал я, как все небес пространство Глас наполнял отвсюду говорящий: «Я бог живой, я Альфа и Омега, Начало и конец, подходит время». Такие образы в ту ночь, когда Я спящий плыл к брегам Святой Земли. Мой первый сон блаженный озаряли. Недаром я о том здесь говорю, Что из Писаний ты без веры знаешь: Хочу, чтоб ты постиг вполне мой жребий. Когда пророк святое откровенье Мне передал своим глаголом дивным, Во глубине души моей оно Осталось врезанным; и с той поры Во тьме моей приговоренной жизни На казнь скитальца Каина, оно Звездой грядущего горит; я в нем Уже теперь надеждою живу, Хотя еще не уведен из жизни Рукой меня отвергшей смерти. Солнце Всходило в пламени лучей, когда Меня покинул сон мой; перед нами На лоне голубого моря темной Тянулся полосою брег Святой Земли; одни лишь горы – снеговой Хермон, Кармил прибрежный, кедроносны! Ливан и Элеон из низших гор — Свои зажженные лучами солнца Вершины воздвигали. О, с каким Невыразимым чувством я ступил На брег земли обетованной, где Уж не было Израиля! Прошло Треть века с той поры, как я ее Покинул. О, что был я в страшный миг Разлуки с ней, и что потом со мной Сбылося, и каким я возвратился В страну моих отцов! Я был подобен Колоднику, который на свободе В ту заглянул тюрьму, где много лет Лежал в цепях, где все, кого на свете Знал и любил, с ним вместе запертые, В его глазах погибли; где каждый день Его терзали пыткой палачи, И с ними самый яростный из всех Палач – обременное ужасной Виной, бунтующее против жизни И бога – собственное сердце. Я Не помню, что во мне сильнее было — Ужасная о прошлой пытке память. Безлюдною страною окруженный, Где царствовал опустошенья ужас, Достигнул я Ерусалима. Он Громадой черных от пожара камней, Как мертвый труп, иссеченный в куски, Моим очам явился, вдвое страшный Своею мрачностью в сиянье тихом Безоблачного неба. И случилось То в самый праздник Пасхи; но его Не праздновал никто: в Ерусалиме Не смел народ на праздник свой великий Сходиться. К бывшему пробравшись Святилищу, узнал я с содроганьем То место, где паденьем храма я, Раздавленный, был смертию отвергнут. Вдруг, посреди безмолвия развалин, В мой слух чуть слышно шепчущее пенье Проникло: меж обломков я увидел Простертых на землю немногих старцев, И женщин, и детей – остаток бедный Израиля. Они, рыдая, пели: «Господний храм, мы плачем о тебе! Ерусалим, мы о тебе рыдаем! Мы о тебе скорбим, богоизбранный, Богоотверженный Израиль! Слава Минувшая, мы плачем о тебе!» При этом пенье я упал На землю и в молчанье плакал горько, О прежней славе божьего народа И о его постигшей казни помышляя. Но мне он был уже чужой, он чужд И всей земле был; не могло Его ничто земное ни унизить, Ни возвеличить: он, народ избранный — Народ отверженный от бога был; На нем лежит печать благословенья – он Запечатлен проклятия печатью; В упорной слепоте еще он ждет Того, что уж свершилося и вновь Не совершится: он в своем безумстве Не верует тому, что существует Им столь желанное и им самим Oтвергнутое благо; и его Надежда ложь, его без смысла вера. От плачущих я тихо удалился И, с трепетом меж камней пробираясь, Не узнавал следов Ерусалима. Но вдруг невольно я оцепенел: Перед собой увидел я остаток Стены с ступенями пред уцелевшей И настежь отверенной дверью. В ней Сидел шакал. Он, злобными глазами Сверкнувши на меня, как демон, скрылся В развалинах. То был мой прежний дом, И я стоял пред дверью роковой, Свидетелем погибели моей; И мне в глаза то место, где тогда Измученный остановился он, Чтоб отдохнуть у двери, от которой Безжалостной рукою оттолкнул Спасителя, пятном кровавым страшно Блеснуло. Я упал, лицом приникнув К земле, к которой некогда нога Святая прикоснулась; и слезами Я обливал ее; и в этот миг Почудилося мне, что он, каким Его тогда я видел, мимо в прахе Лежавшей головы моей прошел Благословляющий… Я поднялся. И в этот миг мне показалось, будто Передо мной по улице тянулся Тот страшный ход, в котором нес свой крест Он, бешеным ругаемый народом. Вслед за крестом я побежал; но скоро Передо мной видение исчезло, И я себя увидел у подошвы Голгофы. Отделясь от черной груды Развалин, зеленью благоуханной Весны одетая, в сиянье солнца, Сходящего на запад, мне она Торжественно предстала, как зажженный Пред богом жертвенник. И долго-долго Я на нее смотрел в оцепененье. О, как она в величии спокойном, Уединенная, там возвышалась; Как было все кpyгом нее безмолвно; Как миротворно солнце нисходило С небес, на всю окрестность наводя Вечерний тихий блеск; как был ужасен Разрушенный Ерусалим в виду Благоухающей Голгофы! Долго Я не дерзал моею оскверненной Hoгой к ее святыне прикоснуться. Когда ж взошел на высоту ее, О, как мое затрепетало сердце! Моим глазам трех рытвин след явился, Полузаглаженный, на месте, где Три были некогда водружены Креста. И перед ним простершись в прах, Я горькими слезами долго плакал; Но в этот миг раскаянья терзанье — И благодарностью, невыразимой Словами человеческими, было. Казалось мне, что крест еще стоял Над головой моей; что я, его Обняв, к нему всей грудью прижимался, Как блудный сын, коленопреклоненный, К ногам отца, готового простить. Дни праздника провел я одиноко На высоте Голгофы в покаянье, Один, отвсюду разрушеньем страшным Земных величий и всего, что было Моим житейским благом, окруженный. Между обломками Ерусалима Пробравшися и перешед Кедрон, Достигнул я по скату Элеонской Горы до Гефсиманских густотенных Олив. Там, сокрушенный, долго я Во прахе горько плакал, помышляя О тех словах, которые он здесь — Он, сильный бог, как человек, последних С страданием лишенный сил – в смертельной Тоске здесь произнес на поученье И на подпору всем земным страдальцам. Его божественной я не дерзнул Молитвы повторить; моим устам Дать выразить ее святыню я Достоин не был. Но какое слово Изобразит очарованье ночи, Под сенью Гефсиманских маслин мною В молчании всемирном проведенной! Когда взошел на верх я Элеонской Горы, с которой, все свершив земное, Сын человеческий на небеса Вознесся, предо мной явилось солнце В неизреченном блеске на востоке; Зажглась горы вершина; тонкий пар Еще над сенью маслин Гефсиманских Лежал; но вдалеке уже горела В сиянье утреннем Голгофа. Черным Остовом посреди их, весь еще Покрытый тению от Элеонской Горы, лежал Ерусалим, как будто Сиянья воскресительного ждуший. В последний раз с святой горы взглянул я На град Израилев, на сокрушенный Ерусалим; еще в его обломках Я видел труп с знакомыми чертами, Но скоро он и в признаках своих Был должен умереть. Была готова Рука, чтоб разбросать его обломки; Был плуг готов, чтоб запахать то место, Где некогда стоял Ерусалим; На гробе прежнего другой был должен Воздвигнуться, несокрушимо твердый Одной Голгофою и вовсе чуждый Израилю бездомному, как я. На горькое скитанье по земле Приговоренному до нисхожденья От неба нового Ерусалима. Благословив на вечную разлуку Господний град, я от него пошел, И с той поры я странствую. Но слушай: Мой жребий все остался тот же, страшный, Каким он в первое мгновенье пал На голову преступную мою. Как прежде, я не умирать и вечно Скитаться здесь приговорен; всем людям Чужой, вселяющий в сердца их ужас, Иль отвращение, или презренье; Нужды житейские терпящий: голод, жажду, И зной, и непогоду; подаяньем Питаться принужденный, принимая С стыдом и скорбию, что́ первый встречный С пренебреженьем мне обидным бросит. Мне самому нет смерти, для людей же Я мертвый: мне ни жизнь мою yтратить, Ни безутратной жизнью дорожить Не можно; ниоткуда мне опасность Не угрожает на земле: разбойник Меня зарезать не посмеет; зверь, И голодом яримый, повстречавшись Со мною, в страхе убежит; не схватит Меня земля разинутой своею В землетрясенье пастью; не задушит Меня гора своим обвалом: море В своих волнах не даст мне захлебнуться. Все, все мои безумные попытки Жизнь уничтожить были безуспешны: Самоубийство недоступно мне; Не смерть, а неубийственную с смертью Борьбу напрасно мучимому телу Могу я дать бесплодными своими Порывами на самоистребленье: А душу из темницы тела я Не властен вырвать: вновь оно, В куски изорванное, воскресает. Так я скитаюся, и нет, ты скажешь, Страшней моей судьбы. Но ведай: если Моя судьба не изменилась, сам я Уже не тот, каким был в то мгновенье, Когда проклятье пало на меня, Когда, своей вины не признавая, Свирепо сам я проклинал того, Кто приговор против меня изрек. Я проклинал; я бешено бороться С неодолимой силою дерзал. О, я теперь иной!.. Тот, за меня Поднятый к небу, мученика взгляд И благодать, словами Богослова В меня влиянная, переродили Озлобленность моей ожесточенной Души в смирение, и на Голгофе Постигнул я все благо казни, им Произнесенной надо мной, как мнилось Безумцу мне, в непримиримом гневе. О, он в тот миг, когда я им ругался, Меня казнил, как бог: меня спасал Погибелью моей, и мне изрек В своем проклятии благословенье. Каким путем его рука меня, Бежавшего в то время от Голгофы, Где крест еще его дымился кровью, Обратно привела к ее подошве! Какое дал мне воспитанье он В училище страданий несказанных И как цена, которою купил я Сокровище, им избранное мне, Пред купленным неоценимым благом — Ничтожна! Так, перерожденный, новый, Пошел я от Голгофы, произвольно, С благодарением, взяв на плеча Весь груз моей судьбы и сокрушенно Моей вины всю глубину измерив. О, благодать смирения! о, сладость Целительной раскаянья печали У ног спасителя! Какою новой Наполнился я жизнию; какой Во мне и вкруг меня иной открылся Великий мир, когда, себя низвергнув Смиреньем в прах и уничтожив Все обаяния, все упованья Земные, я бунтующую волю Свою убил пред алтарем господним, Когда один с раскаянной виною Перед моим спасителем остался! Блажен стократ, кто верует, не видев Очами, а смиренной волей разум Святыне откровенья покоряя! Очами видел я; но вере долго Не отворяла дверь моей души Бунтующая воля. Наконец, Когда я, всю мою вину постигнув, Раскаяньем терзаемый, был брошен К ногам обруганного мною бога, Moeй судьбы исчезла безотрадность; Все изменилось. Тот, кого безумно Я отрицал, моим в пустыне жизни Cопутником, подпорой, другом, все 3eмное заменившим, все земное Забвению предавшим, стал; За ним, как за отцом дитя, пошел я, Исполненный глубоким сокрушеньем, Koторое, мою пронзая душу, К нему ее глубокую любовь Питало, как елей питает пламя В лампаде храма. И мою в него Я веру всею силою любил, Как утопающий ту доску любит, Которая в волнах его спасает Но этот мир достался мне не вдруг. Мертвец между живыми, навсегда К позорному прикованный столбу Перед толпой ругательной колодник, Я часто был тоскою одолеваем; Тогда роптанье с уст моих срывалось; Но каждый раз, когда такой порыв Души, обиженной презреньем горьким Людей, любимых ею безответно, Меня крушил, мне явственней являлось Чудовище моей вины, меня Пожрать грозящее, и с обновленной Покорностью сильней я прижимался К окровавленному кресту Голгофы. И наконец, по долгой, несказанной Борьбе с неукротимым сердцем, после Несчетных переходов от падений, Ввергающих в отчаянье, к победам Вновь воскрешающим, по многих, в крепкий Металл кующих душу, испытаньях, Я начал чувствовать в себе тот мир, Который, всю объемля душу, в ней Покорного терпенья тишину Неизглаголанную водворяет. С тех пор во мне смирилось все. Что Желать? О чем жалеть? Чего страшиться? На что тревожить страждущее сердце Надеждами? Зачем скорбеть, встречая Презрение иль злобу от людей? Я с ним, он мой, он все, в нем все, им все; Все от него, все одному ему. Такое для меня знаменованье Теперь прияла жизнь. Я казнь мою Всем сердцем возлюбил: она моей Души хранитель. И с людьми, меня Отвергшими, я примирился, в сердце Божественное поминая слово: «Отец! прости им; что творят, не знают!» Меж ними ближнего я не имею, Но сердце к ним исполнено любовью. И знай, пространства нет здесь для меня – Так соизволил бог! – в одно мгновенье Могу туда переноситься я, Куда любовь меня пошлет на помощь; На помощь – но не делом – словом, что Могу я сделать для людей? не словом Бродяги – нет, могущественным словом Утехи, сострадания, надежды, Иль укоризны, иль остереженья. Хотя мне на любовь всегда один Ответ: ругательство или презренье; Но для меня в ответе нужды нет. Мне места нет ни в чьем семействе; я Не радуюся ничьему рожденью, И никого родного у меня Не похищает смерть. Все поколенья, Одно вслед за другим, уходят в землю: Я ни с одним из них не разлучаюсь, И их отбытие мне незаметно. Любовью к людям безнаградной – я Любовь к спасителю, любовь к царю Любви, к ее источнику, к ее Подателю питаю. И с тex пор, Как этот мир любви в меня проникнул, Моя любовь к ним есть любовь к тому, Кто первый возлюбил меня: любовь, Которая не ищет своего, Не превозносится, не мыслит зла, Не знает зависти, не веселится Неправдою, не мстит, не осуждает; Но милосердствует, но веру емлет, Всему, смиряется и долго терпит. Такой любовию я близок к людям, Хотя и розно с ними несказанной Моею участью; в веселья их Семейств, в народные пиры их Я не мешаюся: но есть одно, Что к ним меня заводит: это смерть, Давно утраченное мною благо, Без ропота на горькую утрату, Я в круг людей вхожу, чтоб смертью В ее земных явленьях насладиться. Когда я вижу старика в последней Борьбе с кончиною, с крестом в руках, Сначала дышащего тяжко, вдруг Бледного и миротворным сном Заснувшего, и вкруг его постели Стоит в молчании семья, и очи Ему рука родная закрывает; Когда я вижу бледного младенца, Возвышенного в ангелы небес Прикосновением безмолвной смерти; Koгда расцветшую невесту, дочь, Похищенную вдруг у всех житейских Случайностей хранительною смертью, Отец и мать кладут во гроб; когда В тюремном мраке сладко засыпает Последним сном измученный колодник; Когда на поле боя, перестав Терзаться в судорогах смертных, трупы Окостенелые лежат спокойно — Все эти зрелища в меня вливают Тоску глубокую; она меня, Как устарелого скитальца память О стороне, где он родился, где Провел младые дни, где был богат Надеждами, томит; и слезы лью Из глаз, и я завидую счастливцам, Сокровище неоценимой смерти, Его не зная, сохранившим. Есть Еще одно великое мгновенье. Когда я в кpyг людей, как их родной, Как соискупленный их брат, вступаю: С смирением презренье их приемля, Как очистительное наказанье Моей вины, я к тайне причащенья Со страхом божиим и верой сердцем Единым с ними приступаю. В час, Когда небесные незримо силы Пред божиим престолом в храме служат, И херувимов братство христиан Шестокрылатых тайно образует, И, всякое земное попеченье Забыв, дориносимого чинами Небесными царя царей подъемлет, В великий час, когда на всех концах Создания в одну сливает душу Всех христиан таинственная жертва, Когда живые все – и царь, и нищий, И счастливый, и скорбный, и свободный, И узник, и все мертвые в могилах, И в небесах святые, и пред богом Все ангелы и херувимы, в братство Единое совокупляся, чаше Спасенья предстоят – о, в этот час Я людям брат, моя судьба забыта, Ни прошлого, ни будущего нет, Все предо мной земное исчезает, Я чувствую блаженное одно Всего себя уничтоженье в божьем Присутствии неизреченном. О, что б я был без этой казни, всю Мою пересоздавшей душу? Злобным И нераскаянным богоубийцей Сошел бы в землю… А потом? Теперь же… О, будьте вы навек благословенны, Уста, изрекшие мой приговор! О ты, лицо, под тернами венца Облитое струями крови, ты, Печальный, на меня поднятый взор, Ты, голос, сладостный и в изреченье Преступнику суда – вас навсегда Раскаянье хранит в моей душе; Оно вас в ней своею мукой в веру, Надежду и любовь преобратило. Разрушив все, чем драгоценна жизнь, И осудив меня не умирать, Он дал в замену мне себя. За ним Иду я через мир уединенным Путем, чужой всему, но в круг меня Kипит, тревожит, радует, волнует, Tомит сомнением, терзает жаждой Корысти, сладострастья, славы, власти. Что нужно мне? На голод – корка хлеба, Hoчлег – на непогоду, ветхий плат — На покровенье наготы; во всем Ином я независим от людей И мира. На потребу мне одно: Покорность и пред господом всей воли Уничтожение. О, сколько силы, Какая сладость в этом слове сердца: «Твое, анемоедабудет!» В нем Вся человеческая жизнь; в нем наша Свобода, наша мудрость, наши все Надежды; с ним нет страха, нет забот О будущем, сомнений, колебаний; Им все нам ясно; случай исчезает Из нашей жизни; мы своей судьбы Властители, понеже власть тому Над нею предали смиренно, кто Один всесилен, все за нас, для нас И нами строит, нам во благо Мир, В котором я живу, который вам, Cлепым невольникам земного, должен Kaзаться дикою пустыней – нет, Oн не пустыня с той поры, как я Был силою всевышнею постигнут И, уничтоженный, пред нею пал Во прах, она передо мною вся В творении господнем отразилась Мир человеческий исчез, как призрак, Перед господнею природой, в ней Все выше сделалось размером, все Прияло высшее знаменованье. О, этот мир презрительным житейским Заботам недоступен; он безверью Ужасен; но тому, кто сердцем весь Раскаянья сосуд испил до дна И, бога угадав страданьем, в руки К нему из сокрушительных когтей Отчаяния убежал, тому Природа – врач, великая беседа Господняя, развернутая книга, Где буква каждая благовестит Его Евангелие. Нет, о нет, Для выраженья той природы чудной, Которой я, истерзанный, на грудь Упал, которая лекарство мне Всегда целящее дает – я слов Не знаю. Небо голубое, утро Безмолвное в пустыне, свет вечерний, В последнем облаке летящий с неба, Собор светил во глубине небес, Глубокое молчанье леса, моря Необозримость тихая или голос Невыразимый в бурю; гор – потопа Свидетелей – громады; беспредельных Степей песчаных зыбь и зной; кипенья, Блистанья, рев и грохот водопадов… О, как могу изобразить творенья Все обаяние. Среди господней Природы я наполнен чудным чувством Уединения, в неизреченном Его присутствии, и чудеса Его создания в моей душе Блаженною становятся молитвой; Молитвой – но не призываньем в час Страдания на помощь, не прошеньем, Не выраженьем страха иль надежды A cмирным, бессловесным предстояньем И сладостным глубоким постиженьем Его величия, его святыни, И благости, и беспредельной власти, И сладостной сыновности моей, И моего пред ним уничтоженья: Невыразимый вздох, в котором вся Душа к нему, горящая, стремится — Такою пред его природой чудной Становится моя молитва. С нею Сливается нередко вдохновенье Поэзии; поэзия – земная Сестра небесныя молитвы, голос Создателя, из глубины созданья К нам исходящий чистым отголоском В гармонии восторженного слова. Величием природы вдохновенный, Непроизвольно я пою – и мне В моем уединенье, полном бога, Создание внимает посреди Своих лесов густых, своих громадных Утесов и пустынь необозримых, И с высоты своих холмов зеленых, С которых видны золотые нивы, Веселые селенья человеков, И все движенье жизни скоротечной. Так странствую я по земле, в глазах Людей проклятый богом, никакому Земному благу непричастный, злобный, Все ненавидящий скиталец. Тайны Моей они не постигают; путь мой Их взорам не открыт: по высотам Создания идет он, там, где я Лишь небеса господние святые Над головою вижу, а внизу, Далеко под ногами, весь смятенный Мир человеческий. И с высоты Моей, с ним не делясь его судьбой, Я, всю ее одним объемля взором, В ее волнениях и измененьях, Как в неизменной стройности природы, Я вижу, слышу, чувствую лишь бога. Из глубины уединенья, где Он мой единый собеседник, мне Его пути среди разнообразных Судеб земных видней. И уж второе Тысячелетие к концу подходит С тех пор, как по земле я одинокой Дорогой странствую: и в этот путь Пошел я с той границы, на которой Мир древний кончился, где на его Могиле колыбель свою поставил Новорожденный мир. За сей границей, Как великанские, сквозь тонкий сумрак Рассвета, смутно зримые громады Снежноголовых гор, стоят минувших Веков видения: остовы древних Империй, как слои в огромном теле Гор первобытных, слитые в одно Великого минувшeго созданье… Стовратные египетские Фивы С обломками неизмеримых храмов. Остатки насыпей и земляных Курганов там, где были Вавилон И Ниневия, пепел Персеполя — Давнишнего природы обожанья Свидетели – являются там в мертвом Величии. И посреди сих, в ужас Ввергающих, Востока великанов, Меж лаврами душистыми лежат Развалины Эллады, красотою, Поэзией, искусством и земною Блестящей мудростью и наслажденьем Роскошества чаруя землю. Быстро Времен в потоке скрылася она; Но на ее гробнице веет гений Неумирающий. Там, наконец, В одну столпясь великую громаду, И храмы Греции, и пирамиды Египта, и сокровища Востока, И древний весь дохристианский Запад, Могучий Рим их груды обратил В одну, ему подвласную могилу, С пригорка, где немного жизни было, Наименованный когда-то Римом, Сам из себя он внутреннею силой Медлительно, в течение веков, Зерно к зерну могущества земного Неутомимо прибавляя, вырос. Он грозно, наконец, свое миродержавство, Между народами рабов один Свободный, как великий монумент Надгробный им разрушенных держав, Воздвигнул. Этот Pим, в то время, Когда меня моя судьба постигла, Принесши все Молоху государство На жертву и все частные земные Разрушив блага, чтоб на них построить Публичного безжизненного блага Темницу, – этот Рим, в то время Владыка всех, рабом был одного, И вся вселенная на разграбленье Была ругательное предана Лишь только для того, чтоб кесарь мог Роскошничать в палатах золотых, Чтоб чернь всегда имела хлеб и игры… А между тем в ничтожном Вифлееме Был в ясли положен младенец… Рим О нем не ведал. Но когда он был На крест позорный вознесен, судьбины Мировластительства его ударил час, И в то же время был разбит и брошен Живого бога избранный сосуд — Израиль. Пал Ерусалим. Его Святилище покинув, – откровенье Всему явилось миру, и великий Спор начался тогда меж князем мира И царством божиим. Один скитаясь я Между земными племенами, Очами мог следить неизменимый Господний путь сквозь все их измененья… Терзая мучеников, Рим их кровью Христову пашню для всемирной жатвы И для своей погибели удобрил. И возросла она…»Спящая царевна.
Жил-был добрый царь Матвей; Жил с царицею своей Он в согласье много лет; А детей все нет как нет. Раз царица на лугу, На зеленом берегу Ручейка была одна; Горько плакала она. Вдруг, глядит, ползет к ней рак; Он сказал царице так: «Мне тебя, царица, жаль; Но забудь свою печаль; Понесешь ты в эту ночь: У тебя родится дочь». «Благодарствуй, добрый рак; Не ждала тебя никак…» Но уж рак уполз в ручей, Не слыхав ее речей. Он, конечно, был пророк; Что сказал – сбылося в срок: Дочь царица родила. Дочь прекрасна так была, Что ни в сказке рассказать, Ни пером не описать. Вот царем Матвеем пир Знатный дан на целый мир; И на пир веселый тот Царь одиннадцать зовет Чародеек молодых; Было ж всех двенадцать их; Но двенадцатой одной, Хромоногой, старой, злой, Царь на праздник не позвал. Отчего ж так оплошал Наш разумный царь Матвей? Было то обидно ей. Так, но есть причина тут: У царя двенадцать блюд Драгоценных, золотых Было в царских кладовых; Приготовили обед; А двенадцатого нет (Кем украдено оно, Знать об этом не дано). «Что ж тут делать? – царь сказал. — Так и быть!» И не послал Он на пир старухи звать. Собралися пировать Гости, званные царем; Пили, ели, а потом, Хлебосольного царя За прием благодаря, Стали дочь его дарить: «Будешь в золоте ходить; Будешь чудо красоты; Будешь всем на радость ты Благонравна и тиха; Дам красавца жениха Я тебе, мое дитя; Жизнь твоя пройдет шутя Меж знакомых и родных…» Словом, десять молодых Чародеек, одарив Так дитя наперерыв, Удалились; в свой черед И последняя идет; Но еще она сказать Не успела слова – глядь! А незваная стоит Над царевной и ворчит: «На пиру я не была, Но подарок принесла: На шестнадцатом году Повстречаешь ты беду; В этом возрасте своем Руку ты веретеном Оцарапаешь, мой свет, И умрешь во цвете лет!» Проворчавши так, тотчас Ведьма скрылася из глаз; Но оставшаяся там Речь домолвила: «Не дам Без пути ругаться ей Над царевною моей; Будет то не смерть, а сон; Триста лет продлится он; Срок назначенный пройдет, И царевна оживет; Будет долго в свете жить; Будут внуки веселить Вместе с нею мать, отца До земного их конца». Скрылась гостья. Царь грустит; Он не ест, не пьет, не спит: Как от смерти дочь спасти? И, беду чтоб отвести, Он дает такой указ: «Запрещается от нас В нашем царстве сеять лен, Прясть, сучить, чтоб веретен Духу не было в домах; Чтоб скорей как можно прях Всех из царства выслать вон». Царь, издав такой закон, Начал пить, и есть, и спать, Начал жить да поживать, Как дотоле, без забот. Дни проходят; дочь растет; Расцвела, как майский цвет; Вот уж ей пятнадцать лет… Что-то, что-то будет с ней! Раз с царицею своей Царь отправился гулять; Но с собой царевну взять Не случилось им; она Вдруг соскучилась одна В душной горнице сидеть И на свет в окно глядеть. «Дай, – сказала наконец, — Осмотрю я наш дворец». По дворцу она пошла: Пышных комнат нет числа; Всем любуется она; Вот, глядит, отворена Дверь в покой; в покое том Вьется лестница винтом Вкруг столба; по ступеням Всходит вверх и видит – там Старушоночка сидит; Гребень под носом торчит; Старушоночка прядет И за пряжею поет: «Веретенце, не ленись; Пряжа тонкая, не рвись; Скоро будет в добрый час Гостья жданная у нас». Гостья жданная вошла; Пряха молча подала В руки ей веретено; Та взяла, и вмиг оно Укололо руку ей… Все исчезло из очей; На нее находит сон; Вместе с ней объемлет он Весь огромный царский дом; Все утихнуло кругом; Возвращаясь во дворец, На крыльце ее отец Пошатнулся, и зевнул, И с царицею заснул; Свита вся за ними спит; Стража царская стоит Под ружьем в глубоком сне, И на спящем спит коне Перед ней хорунжий сам; Неподвижно по стенам Мухи сонные сидят; У ворот собаки спят; В стойлах, головы склонив, Пышны гривы опустив, Кони корму не едят, Кони сном глубоким спят; Повар спит перед огнем; И огонь, объятый сном, Не пылает, не горит, Сонным пламенем стоит; И не тронется над ним, Свившись клубом, сонный дым; И окрестность со дворцом Вся объята мертвым сном; И покрыл окрестность бор; Из терновника забор Дикий бор тот окружил; Он навек загородил К дому царскому пути: Долго, долго не найти Никому туда следа — И приблизиться беда! Птица там не пролетит, Близко зверь не пробежит, Даже облака небес На дремучий, темный лес Не навеет ветерок. Вот уж полный век протек; Словно не жил царь Матвей — Так из памяти людей Он изгладился давно; Знали только то одно, Что средь бора дом стоит, Что царевна в доме спит, Что проспать ей триста лет, Что теперь к ней следу нет. Много было смельчаков (По сказанью стариков), В лес брались они сходить, Чтоб царевну разбудить; Даже бились об заклад И ходили – но назад Не пришел никто. С тех пор В неприступный, страшный бор Ни старик, ни молодой За царевной ни ногой. Время ж все текло, текло; Вот и триста лет прошло. Что ж случилося? В один День весенний царский сын, Забавляясь ловлей, там По долинам, по полям С свитой ловчих разъезжал. Вот от свиты он отстал; И у бора вдруг один Очутился царский сын. Бор, он видит, темен, дик. С ним встречается старик. С стариком он в разговор: «Расскажи про этот бор Мне, старинушка честной!» Покачавши головой, Все старик тут рассказал, Что от дедов он слыхал О чудесном боре том: Как богатый царский дом В нем давным-давно стоит, Как царевна в доме спит, Как ее чудесен сон, Как три века длится он, Как во сне царевна ждет, Что спаситель к ней придет; Как опасны в лес пути, Как пыталася дойти До царевны молодежь, Как со всяким то ж да то ж Приключалось: попадал В лес, да там и погибал. Был детина удалой Царский сын; от сказки той Вспыхнул он, как от огня; Шпоры втиснул он в коня; Прянул конь от острых шпор И стрелой помчался в бор, И в одно мгновенье там. Что ж явилося очам Сына царского? Забор, Ограждавший темный бор, Не терновник уж густой, Но кустарник молодой; Блещут розы по кустам; Перед витязем он сам Расступился, как живой; В лес въезжает витязь мой: Все свежо, красно пред ним; По цветочкам молодым Пляшут, блещут мотыльки; Светлой змейкой ручейки Вьются, пенятся, журчат; Птицы прыгают, шумят В густоте ветвей живых; Лес душист, прохладен, тих, И ничто не страшно в нем. Едет гладким он путем Час, другой; вот наконец Перед ним стоит дворец, Зданье – чудо старины; Ворота отворены; В ворота въезжает он; На дворе встречает он Тьму людей, и каждый спит: Тот как вкопанный сидит; Тот не двигаясь идет; Тот стоит, раскрывши рот, Сном пресекся разговор, И в устах молчит с тех пор Недоконченная речь; Тот, вздремав, когда-то лечь Собрался, но не успел: Сон волшебный овладел Прежде сна простого им; И, три века недвижим, Не стоит он, не лежит И, упасть готовый, спит. Изумлен и поражен Царский сын. Проходит он Между сонными к дворцу; Приближается к крыльцу: По широким ступеням Хочет вверх идти; но там На ступенях царь лежит И с царицей вместе спит. Путь наверх загорожен. «Как же быть? – подумал он. — Где пробраться во дворец?» Но решился наконец, И, молитву сотворя, Он шагнул через царя. Весь дворец обходит он; Пышно все, но всюду сон, Гробовая тишина. Вдруг глядит: отворена Дверь в покой; в покое том Вьется лестница винтом Вкруг столба; по ступеням Он взошел. И что же там? Вся душа его кипит, Перед ним царевна спит. Как дитя, лежит она, Распылалася от сна; Молод цвет ее ланит, Меж ресницами блестит Пламя сонное очей; Ночи темныя темней, Заплетенные косой Кудри черной полосой Обвились кругом чела; Грудь как свежий снег бела; На воздушный, тонкий стан Брошен легкий сарафан; Губки алые горят; Руки белые лежат На трепещущих грудях; Сжаты в легких сапожках Ножки – чудо красотой. Видом прелести такой Отуманен, распален, Неподвижно смотрит он; Неподвижно спит она. Что ж разрушит силу сна? Вот, чтоб душу насладить, Чтоб хоть мало утолить Жадность пламенных очей, На колени ставши, к ней Он приблизился лицом: Распалительным огнем Жарко рдеющих ланит И дыханьем уст облит, Он души не удержал И ее поцеловал. Вмиг проснулася она; И за нею вмиг от сна Поднялося все кругом: Царь, царица, царский дом; Снова говор, крик, возня; Все как было; словно дня Не прошло с тех пор, как в сон Весь тот край был погружен. Царь на лестницу идет; Нагулявшися, ведет Он царицу в их покой; Сзади свита вся толпой; Стражи ружьями стучат; Мухи стаями летят; Приворотный лает пес; На конюшне свой овес Доедает добрый конь; Повар дует на огонь, И, треща, огонь горит, И струею дым бежит; Все бывалое – один Небывалый царский сын. Он с царевной наконец Сходит сверху; мать, отец Принялись их обнимать. Что ж осталось досказать? Свадьба, пир, и я там был И вино на свадьбе пил; По усам вино бежало, В рот же капли не попало. 26 августа – 12 сентября 1831Тюльпанное дерево
Однажды жил, не знаю где, богатый И добрый человек. Он был женат И всей душой любил свою жену; Но не было у них детей; и это Их сокрушало, и они молились, Чтобы господь благословил их брак; И к господу молитва их достигла. Был сад кругом их дома; на поляне Там дерево тюльпанное росло. Под этим деревом однажды (это Случилось в зимний день) жена сидела И с яблока румяного ножом Снимала кожу; вдруг ей острый нож Легонько палец оцарапал; кровь Пурпурной каплею на белый снег Упала; тяжело вздохнув, она Подумала: «О! если б бог нам дал Дитя, румяное, как эта кровь, И белое, как этот чистый снег!» И только что она сказала это, в сердце Ее как будто что зашевелилось, Как будто из него утешный голос Шепнул ей: «Сбудется». Пошла в раздумье Домой. Проходит месяц – снег растаял; Другой проходит – все в лугах и рощах Зазеленело; третий месяц миновался — Цветы покрыли землю, как ковер; Пропал четвертый – все в лесу деревья Срослись в один зеленый свод, и птицы В густых ветвях запели голосисто, И с ними весь широкий лес запел. Когда же пятый месяц был в исходе — Под дерево тюльпанное она Пришла; оно так сладко, так свежо Благоухало, что ее душа Глубокою, неведомой тоскою Была проникнута; когда шестой Свершился месяц – стали наливаться Плоды и созревать; она же стала Задумчивей и тише; наступает Седьмой – и часто, часто под своим Тюльпанным деревом она одна Сидит и плачет, и ее томит Предчувствие тяжелое; настал Осьмой – она в конце его больная Слегла в постелю и сказала мужу В слезах: «Когда умру, похорони Меня под деревом тюльпанным»; месяц Девятый кончился – и родился У ней сынок, как кровь румяный, белый Как снег; она ж обрадовалась так, Что умерла. И муж похоронил Ее в саду, под деревом тюльпанным. И горько плакал он об ней; и целый Проплакал год; и начала печаль В нем утихать; и наконец утихла Совсем; и он женился на другой Жене и скоро с нею прижил дочь. Но не была ничем жена вторая На первую похожа; в дом его Не принесла она с собою счастья. Когда она на дочь свою родную Смотрела, в ней смеялася душа; Когда ж глаза на сироту, на сына Другой жены, невольно обращала, В ней сердце злилось: он как будто ей И жить мешал; а хитрый искуситель Против него нашептывал всечасно Ей злые замыслы. В слезах и в горе Сиротка рос, и ни одной минуты Веселой в доме не было ему. Однажды мать была в своей каморке, И перед ней стоял сундук открытый С тяжелой, кованной железом кровлей И с острым нутряным замком: сундук Был полон яблок. Тут сказала ей Марлиночка (так называли дочь): «Дай яблочко, родная, мне». – «Возьми», — Ей отвечала мать. «И братцу дай», — Прибавила Марлиночка. Сначала Нахмурилася мать; но враг лукавый Вдруг что-то ей шепнул; она сказала: «Марлиночка, поди теперь отсюда; Обоим вам по яблочку я дам, Когда твой брат воротится домой». (А из окна уж видела она, Что мальчик шел, и чудилося ей, Что будто на нее с ним вместе злое Шло искушенье.) Кованый сундук Закрыв, она глаза на двери дико Уставила; когда ж их отворил Малютка и вошел, ее лицо Белее стало полотна; поспешно Она ему дрожащим и глухим Сказала голосом: «Вынь для себя И для Марлиночки из сундука Два яблока». При этом слове ей Почудилось, что кто-то подле громко Захохотал; а мальчик, на нее Взглянув, спросил: «Зачем ты на меня Так страшно смотришь?» – «Выбирай скорее!» — Она, поднявши кровлю сундука, Ему сказала, и ее глаза Сверкнули острым блеском. Мальчик робко За яблоком нагнулся головой В сундук; тут ей лукавый враг шепнул: «Скорей!» И кровлею она тяжелой Захлопнула сундук, и голова Малютки, как ножом, была железным Отрезана замком и, отскочивши, Упала в яблоки. Холодной дрожью Злодейку обдало. «Что делать мне?» — Подумала она, смотря на страшный Захлопнутый сундук. И вот она Из шкапа шелковый платок достала И, голову отрезанную к шее Приставив, тем платком их обвила Так плотно, что приметить ничего Не можно было, и потом она Перед дверями мертвого на стул (Дав в руки яблоко ему и к стенке Его спиной придвинув) посадила; И наконец, как будто не была Ни в чем, пошла на кухню стряпать. Вдруг Марлиночка в испуге прибежала И шепчет: «Посмотри туда; там братец Сидит в дверях на стуле; он так бел И держит яблоко в руке; но сам Не ест; когда ж его я попросила, Чтоб дал мне яблоко, не отвечал Ни слова, не взглянул; мне стало страшно». На то сказала мать: «Поди к нему И попроси в другой раз; если ж он Опять ни слова отвечать не будет И на тебя не взглянет, подери Его покрепче за ухо: он спит». Марлиночка пошла и видит: братец Сидит в дверях на стуле, бел как снег; Не шевелится, не глядит и держит, Как прежде, яблоко в руках, но сам Его не ест. Марлиночка подходит И говорит: «Дай яблочко мне, братец». Ответа нет. Тут за ухо она Тихонько братца дернула; и вдруг От плеч его отпала голова И покатилась. С криком прибежала Марлиночка на кухню: «Ах! родная, Беда, беда! Я братца моего Убила! Голову оторвала Я братцу!» И бедняжка заливалась Слезами и кричала криком. Ей Сказала мать: «Марлиночка, уж горю Не пособить; нам надобно скорей Его прибрать, пока не воротился Домой отец; возьми и отнеси Его покуда в сад и спрячь там; завтра Его сама в овраг я брошу; волки Его съедят, и косточек никто Не сыщет; перестань же плакать; делай, Что я велю». Марлиночка пошла; Она, широкой белой простынею Обвивши тело, отнесла его, Рыдая, в сад и там его тихонько Под деревом тюльпанным положила На свежий дерн, который покрывал Могилку матери его… И что же? Могилка вдруг раскрылася и тело Взяла, и снова дерн зазеленел На ней, и расцвели на ней цветы, И из цветов вдруг выпорхнула птичка, И весело запела, и взвилась Под облака, и в облаках пропала. Марлиночка сперва оторопела; Потом (как будто кто в ее душе Печаль заговорил) ей стало вдруг Легко – пошла домой и никому О бывшем с нею не сказала. Скоро Пришел домой отец. Не видя сына, Спросил он с беспокойством: «Где он?» Мать, Вся помертвев, поспешно отвечала: «Ранехонько ушел он со двора И все еще не возвращался». Было Уж за полдень; была пора обедать, И накрывать на стол хозяйка стала. Марлиночка ж сидела в уголку, Не шевелясь и молча; день был светлый; Ни облачка на небе не бродило, И тихо блеск полуденного солнца Лежал на зелени дерев, и было Повсюду все спокойно. Той порою Спорхнувшая с могилы братца птичка Летала да летала; вот она На кустик села под окошком дома, Где золотых дел мастер жил. Она, Расправив крылышки, запела громко: «Зла мачеха зарезала меня; Отец родной не ведает о том; Сестрица же Марлиночка меня Близ матушки родной моей в саду Под деревом тюльпанным погребла». Услышав это, золотых дел мастер В окошко выглянул; он так пленился Прекрасною птичкою, что закричал: «Пропой еще раз, милая пичужка!» «Я даром дважды петь не стану, – птичка Сказала, – подари цепочку мне, И запою». Услышав это, мастер Богатую ей бросил из окна Цепочку. Правой лапкою схвативши Цепочку ту, свою запела песню Звучней, чем прежде, птичка и, допевши, Спорхнула с кустика с своей добычей, И полетела далее, и скоро На кровле домика, где жил башмачник, Спустилася и там опять запела: «Зла мачеха зарезала меня; Отец родной не ведает о том; Сестрица же Марлиночка меня Близ матушки родной моей в саду Под деревом тюльпанным погребла». Башмачник в это время у окна Шил башмаки; услышав песню, он Работу бросил, выбежал во двор И видит, что сидит на кровле птичка Чудесной красоты. «Ах! птичка, птичка, — Сказал башмачник, – как же ты прекрасно Поешь. Нельзя ль еще раз ту же песню Пропеть?» – «Я даром дважды не пою, — Сказала птичка, – дай мне пару детских Сафьянных башмаков». Башмачник тотчас Ей вынес башмаки. И, левой лапкой Их взяв, свою опять запела песню Звучней, чем прежде, птичка и, допевши, Спорхнула с кровли с новою добычей, И полетела далее, и скоро На мельницу, которая стояла Над быстрой речкою во глубине Прохладныя долины, прилетела. Был стук и шум от мельничных колес, И с громом в ней молол огромный жернов; И в воротах ее рубили двадцать Работников дрова. На ветку липы, Которая у мельничных ворот Росла, спустилась птичка и запела: «Зла мачеха зарезала меня»; Один работник, то услышав, поднял Глаза и перестал рубить дрова. «Отец родной не ведает о том»; Оставили еще работу двое. «Сестрица же Марлиночка меня»; Тут пятеро еще, глаза на липу Оборотив, работать перестали. «Близ матушки родной моей в саду»; Еще тут восемь вслушалися в песню; Остолбеневши, топоры они На землю бросили и на певицу Уставили глаза; когда ж она Умолкнула, последнее пропев: «Под деревом тюльпанным погребла»; Все двадцать разом кинулися к липе И закричали: «Птичка, птичка, спой нам Еще раз песенку твою». На это Сказала птичка: «Дважды петь не стану Я даром; если же вы этот жернов Дадите мне, я запою». – «Дадим, Дадим!» – в один все голос закричали. С трудом великим общей силой жернов Подняв с земли, они его надели На шею птичке; и она, как будто В жемчужном ожерелье, отряхнувшись И крылышки расправивши, запела Звучней, чем прежде, и, допев, спорхнула С зеленой ветви и умчалась быстро, На шее жернов, в правой лапке цепь И в левой башмаки. И так она На дерево тюльпанное в саду Спустилась. Той порой отец сидел Перед окном; по-прежнему в углу Марлиночка; а мать на стол сбирала. «Как мне легко! – сказал отец. – Как светел И тепел майский день!» – «А мне, – сказала Жена, – так тяжело, так душно! Как будто бы сбирается гроза». Марлиночка ж, прижавшись в уголок, Не шевелилася, сидела молча И плакала. А птичка той порой, На дереве тюльпанном отдохнувши, Полетом тихим к дому полетела. «Как на душе моей легко! – опять Сказал отец. – Как будто бы кого Родного мне увидеть». – «Мне ж, – сказала Жена, – так страшно! Все во мне дрожит; И кровь по жилам льется как огонь». Марлиночка ж ни слова; в уголку Сидит, не шевелясь, и тихо плачет. Вдруг птичка, к дому подлетев, запела: «Зла мачеха зарезала меня»; Услышав это, мать в оцепененье Зажмурила глаза, заткнула уши, Чтоб не видать и не слыхать; но в уши Гудело ей, как будто шум грозы, В зажмуренных глазах ее сверкало, Как молния, и пот смертельный тело Ее, как змей холодный, обвивал. «Отец родной не ведает о том». «Жена, – сказал отец, – смотри, какая Там птичка! Как поет! А день так тих, Так ясен и такой повсюду запах, Что скажешь: вся земля в цветы оделась. Пойду и посмотрю на эту птичку». «Останься, не ходи, – сказала в страхе Жена. – Мне чудится, что весь наш дом В огне». Но он пошел. А птичка пела: «Близ матушки родной моей в саду Под деревом тюльпанным погребла». И в этот миг цепочка золотая Упала перед ним. «Смотрите, – он Сказал, – какой подарок дорогой Мне птичка бросила». Тут не могла Жена от страха устоять на месте И начала как в исступленье бегать По горнице. Опять запела птичка: «Зла мачеха зарезала меня». А мачеха бледнела и шептала: «О! если б на меня упали горы, Лишь только б этой песни не слыхать!» «Отец родной не ведает о том»; Тут повалилася она на землю, Как мертвая, как труп окостенелый. «Сестрица же Марлиночка меня…» Марлиночка, вскочив при этом с места, Сказала: «Побегу, не даст ли птичка Чего и мне». И, выбежав, глазами Она искала птички. Вдруг упали Ей в руки башмаки; она в ладоши От радости захлопала. «Мне было До этих пор так грустно, а теперь Так стало весело, так живо!» «Нет, – простонала мать, – я не могу Здесь оставаться; я задохнусь; сердце Готово лопнуть». И она вскочила; На голове ее стояли дыбом, Как пламень, волосы, и ей казалось, Что все кругом ее валилось. В двери Она в безумье кинулась… Но только Ступила за порог, тяжелый жернов Бух!.. и ее как будто не бывало; На месте же, где казнь над ней свершилась, Столбом огонь поднялся из земли. Когда ж исчез огонь, живой явился Там братец; и Марлиночка к нему На шею кинулась. Отец же долго Искал жены глазами; но ее Он не нашел. Потом все трое сели; Усердно богу помолясь, за стол; Но за столом никто не ел, и все Молчали; и у всех на сердце было Спокойно, как бывает всякий раз, Когда оно почувствует живей Присутствие невидимого бога. 1845Басни
Сокол и голубка
Голубку сокол драл в когтях. «Попалась! ну, теперь оставь свои затеи! Плутовка! знаю вас! ругательницы, змеи! Ваш род соколью вечный враг! Есть боги-мстители!» – «Ах, я б того желала!» — Голубка, чуть дыша, измятая стенала, «Как! как! отступница! не веровать богам! Не верить силе провиденья! Хотел тебя пустить; не стоишь; вижу сам. Умри! безбожным нет прощенья!».Мартышки и лев
Мартышки тешились лаптой; Вот как: одна из них, сидя на пне, держала В коленях голову другой; Та, лапки на спину, зажмурясь, узнавала, Кто бил. – Хлоп-хлоп! «Потап, проворней! Кто?» – «Мирошка!» — «Соврал!» – И все, как бесы, врозь! Прыжки; кувырканье вперед, и взад, и вкось; Крик, хохот, писк! Одна мяукает, как кошка, Другая, ноги вверх, повисла на суку; А третья ну скакать сорокой по песку! Такого поискать веселья! Вдруг из лесу на шум выходит лев, Ученый, смирный принц, брат внучатный царев: Ботанизировал по роще от безделья. Мартышкам мат; Ни пикнут, струсили, дрожат! «Здесь праздник! – лев сказал. – Что ж тихо? Забавляйтесь! Играйте, детушки, не опасайтесь! Я добр! Хотите ли, и сам в игру войду»! — «Ах! милостивый князь, какое снисхожденье! Как вашей светлости быть с нами наряду! С мартышками играть! ваш сан! наш долг! почтенье!..» — «Пустое! что за долг! я так хочу! смелей! Не все ли мы равны! Вы б сами то ж сказали, Когда бы так, как я, философов читали! Я, детушки, не чван! Вы знатности моей Не трусьте! Ну, начнем!» Мартышки верть глазами И, веря (как и все) приветника словам, Опять играть; гвоздят друг друга по рукам. Брат царский хлоп! и вдруг под царскими когтями Из лапки брызжет кровь ключом! Мартышка – ой! – и прочь, тряся хвостом, Кто бил, не думав, отгадала; Однако промолчала. Хохочет князь; другие, рот скривя, Туда ж за барином смеются, Хотя от смеха слезы льются; И задом, задом, в лес! Бегут и про себя Бормочут: не играй с большими господами! Добрейшие из них – с когтями!Сурки и крот
Свои нам недостатки знать И в недостатках признаваться — Как небо и земля: скорей от бед страдать, Чем бед виною называться! В пример вам расскажу не басенку, а быль. Чудна, но справедлива; Я очевидец сам такого дива И, право, не хочу пускать в глаза вам пыль. Однажды на лужок, лишь только солнце село, Проказники сурки Сошлись играть в езду, в гулючки, в уголки И в жмурки. – Да, и в жмурки! Это дело Так верно, как я здесь, и вот как: осокой Тому, кому ловить, завязывались глазки, Концы ж повязки Под морду в узелок; а там – бреди слепой! Слепой бредет! другие же беситься, Кувыркаться, скакать кругом; Тот под нос шиш ему, тот в зад его пинком; Тот на ухо свистит, а тот пред ним вертится, Коверкаясь, как бес! Бедняжка, лапки вверх, хвать-хвать, не тут-то было! И где поймать таких увертливых повес! Ловить бы до утра! но счастье пособило. Возню услышав под землей, Из норки вылез крот, монах слепой; Туда ж играть с сурками! Растешился, катит и прямо бряк в силки. Сурки Сошлись и говорят: «Он слеп, а мы с глазами! Не лучше ли его…» «И, братцы, что за срам! — Ворчит, надувшись, крот. – Игра игрою! Я пойман! Мне ловить, с повязкой, как и вам». «Пожалуй! Но с твоей, приятель, слепотою Не будет ли нам грех давить тебя узлом?» «О, это уж обидно! Как будто и играть невместно мне с сурком! Стяни, сударь! еще! еще стяни! мне видно!»Истина и басня
Однажды Истина нагая, Оставя кладезь свой, на белый вышла свет. Бог с ней! не пригожа, как смерть худая, Лицом угрюмая, с сутулиной от лет. Стук-стук у всех ворот: «Пустите, ради бога! Я Истина, больна, устала, чуть хожу! Морозно, ветрено; иззябла и дрожу!» «Нет места, матушка! счастливая дорога!» — Везде ей был ответ. Что делать? на бок лечь, пусть снегом занесет! Присела на сугроб, стучит зубами. Вдруг Басня, в золоте, облитая парчой, А правду молвить – мишурой, Обнизанная жемчугами, Вся в камнях дорогих, Блистающих, как жар, хотя фальшивых, На санках золотых, На тройке рысаков красивых Катит, и прямо к ней. «Зачем ты здесь, сестра? Одна, в такой мороз! прогулкам не пора!» «Ты видишь, зябну! люди глухи! Никто мне не дает приюта ни на час. Я всем страшна! мы жалкий люд, старухи: Как будто от чумы все бегают от нас!» «А ты ведь мне большая, Не хвастаясь сказать! ну, то ли дело я? Весь мир моя семья! И кто ж виной? зачем таскаешься нагая? Тебе ль не знать, мой друг, что маску любит свет? Изволь-ка выслушать мой сестринский совет: Нам должно быть дружней и жить не так, как прежде, Жить вместе; а тебе в моей ходить одежде. С тобой – и для меня отворит дверь мудрец, Со мною – и тебя не выгонит глупец; А глупым нынче род – и род весьма обильный!» Тут Истина, умильный На Басню обративши взор, К ней в сани прыг… Летят и следу нет! – С тех пор Везде сестрицы неразлучно: И Басня не глупа, и с Истиной не скучно.Смерть
Однажды Смерть послала в ад указ, Чтоб весь подземный двор, не более как в час, На выбор собрался в сенате, А заседанью быть в аудиенц-палате. Ее величеству был нужен фаворит, Обычнее – министр. Давно уж ей казалось, — Как и история то ясно говорит, — Что адских жителей в приходе уменьшалось. Идут пред страшный трон владычицы своей — Горячка бледная со впалыми щеками, Подагра, чуть тащась на паре костылей, И жадная Война с кровавыми глазами. За ловкость сих бояр поруки мир и ад, И Смерть их приняла с уклонкой уваженья! За ними, опустив смиренно-постный взгляд, Под мышкою таща бичи опустошенья, Является Чума; Грех молвить, чтоб и в ней достоинств не сыскалось: Запас порядочный ума! Собранье всколебалось. «Ну! – шепчут. – Быть министром ей!» — Но сценка новая: полсотни лекарей Попарно, в шаг идут и, став пред Смертью рядом, Поклон ей! «Здравствовать царице много лет!» Чтоб лучше видеть, Смерть хватилась за лорнет. Анатомирует хирургов строгим взглядом. В сомненье ад! как вдруг пороков шумный вход Отвлек монархини вниманье. «Как рада! – говорит. – Теперь я без хлопот!» И выбрала невоздержанье.Сон могольца
Однажды доброму могольцу снился сон, Уж подлинно чудесный: Вдруг видит, будто он, Какой-то силой неизвестной, В обитель вознесен всевышнего царя И там – подумайте – находит визиря. Потом открылася пред ним и пропасть ада. Кого ж – прошу сказать – узнал он в адской мгле? Дервиша… Да, дервиш, служитель Орозмада, В котле, В клокочущей смоле На ужин дьяволам варился. Моголец в страхе пробудился; Скорей бежать за колдуном; Поклоны в пояс; бьет челом: «Отец мой, изъясни чудесное виденье». — «Твой сон есть божий глас, – колдун ему в ответ. — Визирь в раю за то, что в области сует, Средь пышного двора, любил уединенье. Дервишу ж поделом; не будь он суесвят; Не ползай перед тем, кто силен и богат; Не суйся к визирям ходить на поклоненье». Когда б, не бывши колдуном, И я прибавить мог к словам его два слова, Тогда смиренно вас молил бы об одном: Друзья, любите сень родительского крова; Где ж счастье, как не здесь, на лоне тишины, С забвением сует, с беспечностью свободы? О блага чистые, о сладкий дар Природы! Где вы, мои поля? Где вы, любовь весны? Страна, где я расцвел в тени уединенья, Где сладость тайная во грудь мою лилась, О рощи, о друзья, когда увижу вас? Когда, покинув свет, опять без принужденья Вкушать мне вашу сень, ваш сумрак и покой? О! кто мне возвратит родимые долины? Когда, когда и Феб и дщери Мнемозины Придут под тихий кров беседовать со мной? При них мои часы весельем окрыленны; Тогда постигну ход таинственных небес И выспренних светил стези неоткровенны. Когда ж не мой удел познанье сих чудес, Пусть буду напоен лесов очарованьем; Пускай пленяюся источников журчаньем, Пусть буду воспевать их блеск и тихий ток! Нить жизни для меня совьется не из злата; Мой низок будет кров, постеля не богата; Но меньше ль бедных сон и сладок и глубок? И меньше ль он души невинной услажденье? Ему преобращу мою пустыню в храм; Придет ли час отбыть к неведомым брегам — Мой век был тихий день, а смерть успокоенье.Похороны львицы
В лесу скончалась львица. Тотчас ко всем зверям повестка. Двор и знать Стеклись последний долг покойнице отдать. Усопшая царица Лежала посреди пещеры на одре, Покрытом кожею звериной; В углу, на алтаре Жгли ладан, и Потап с смиренной образиной — Потап-мартышка, ваш знакомец, – в нос гнуся, С запинкой, заунывным тоном, Молитвы бормотал. Все звери, принося Царице скорби дань, к одру с земным поклоном По очереди шли, и каждый в лапу чмок, Потом поклон царю, который, над женою Как каменный сидя и дав свободный ток Слезам, кивал лишь молча головою На все поклонников приветствия в ответ. Потом и вынос. Царь выл голосом, катался От горя по земле, а двор за ним вослед Ревел, и так ревел, что гулом возмущался Весь дикий и обширный лес; Еще ж свидетели с божбой нас уверяли, Что суслик-камергер без чувств упал от слез И что лисицу с час мартышки оттирали! Я двор зову страной, где чудный род людей: Печальны, веселы, приветливы, суровы; По виду пламенны, как лед в душе своей; Всегда на все готовы; Что царь, то и они; народ – хамелеон, Монарха обезьяны; Ты скажешь, что во всех единый дух вселен; Не люди, сущие органы: Завел – поют, забыл завесть – молчат. Итак, за гробом все и воют и мычат. Не плачет лишь олень. Причина? Львица съела Жену его и дочь. Он смерть ее считал Отмщением небес. Короче, он молчал. Тотчас к царю лиса-лестюха подлетела И шепчет, что олень, бессовестная тварь, Смеялся под рукою. Вам скажет Соломон, каков во гневе царь! А как был царь и лев, он гривою густою Затряс, хвостом забил, «Смеяться, – возопил, — Тебе, червяк? Тебе! над их стенаньем! Когтей не посрамлю преступника терзаньем; К волкам его! к волкам! Да вмиг расторгнется ругатель по частям, Да казнь его смирит в обителях Плутона Царицы оскорбленной тень!» Олень, Который не читал пророка Соломона, Царю в ответ: «Не сетуй, государь, Часы стенаний миновались! Да жертву радости положим на алтарь! Когда в печальный ход все звери собирались И я за ними вслед бежал, Царица пред меня в сиянье вдруг предстала; Хоть был я ослеплен, но вмиг ее узнал. – Олень! – святая мне сказала, — Не плачь, я в области богов Беседую в кругу зверей преображенных! Утешь со мною разлученных! Скажи царю, что там венец ему готов! — И скрылась». – «Чудо! откровенье!» — Воскликнул хором двор. А царь, осклабя взор, Сказал: «Оленю в награжденье Даем два луга, чин и лань!» Не правда ли, что лесть всегда приятна дань?Марьина роща Старинное предание
Тихий и прохладный вечер заступал уже место палящего дня, когда Услад, молодой певец, приблизился к берегам Москвы-реки, на которых провел он дни своей цветущей юности. Гладкая поверхность вод, тихо лобзаемая легким ветерком, покрыта была розовым сиянием запада: в зеркале их отражались с одной стороны дремучий лес и терем грозного Рогдая, окруженный высоким дубовым тыном (он был построен на крутой горе – там, где ныне видим зубчатые стены Кремля, великолепные чертоги древних русских царей, соборы с златыми главами и колокольню Иван Великий) – с другой зеленые берега, покрытые кустарником и осыпанные низкими хижинами земледельцев. Повсюду царствовало спокойствие; воздух был растворен благоуханием цветущей липы: иногда во глубине леса раздавался голос соловья или печальное пение иволги; иногда непостоянный ветерок потрясал вершины дерев; иногда робкий кролик, испуганный шорохом, бросался в кустарник и шумел иссохшими ветками. Услад шел по тропинке, извивавшейся между деревьями; душа его, наполненная воспоминаниями, погружена была в задумчивость. Время прошедшее, время, в которое находил он себя счастливым, представилось мыслям его со всем минувшим своим очарованием. «Где ты, моя радость? – воскликнул печальный Услад, – где ты, прежнее время? Прихожу на то же место, на котором некогда называл я жизнь свою веселием: тенистая роща, светлая река, зеленые берега, вы не изменились; но, счастие мое, тебя уже нет. По-прежнему благовонная липа разливает свой сладостный запах, по-прежнему звонкий соловей или пустынная иволга поют во глубине дремучего леса; а тот, кто некогда услаждался благовонием цветущей липы или, задумавшись, при гласе звонкого соловья и стоне пустынной иволги живее мечтал о своем счастии, тот уже не похож на самого себя. «Ах! не узнаете вы меня, места прелестные; очи мои потускли от скорби, ланиты мои побледнели, лицо мое помрачилось унынием…» Услад приближается к берегам светлого ручья[4], который, журча и сверкая, бежал по золотому песку в зеленом кустарнике и сливался с Москвою; он увидел на крутизне горы уединенный терем грозного Рогдая. Последнее блистание вечера играло еще на тесовой кровле верхней светлицы и на острых концах высокого тына; вершины древних дубов, берез и лип, которыми покрыта была вся гора, восходящие одни над другими, мало-помалу омрачались, наконец потемнели совсем; на одном только тереме, который, подобно великану, возвышался над лесом, оставалось умирающее мерцание; наконец и оно померкло, повсюду распространился сумрак. Услад, увидя Рогдаев терем, затрепетал, остановился, долго смотрел на него в молчании, неподвижный, мрачный, сложив крестообразно руки; наконец слезы покатились ручьями из глаз его… «Ах, Мария!» – воскликнул он; вздохнул из глубины сердца, и голова его склонилась ко груди.
Молодой Услад родился на берегу Москвы-реки в бедной хижине, от честных родителей. Природа наградила его прекрасною душою, прекрасным лицом и дарованием слагать прекрасные песни. Часто, простертый на берегу светлой Москвы и смотря на ее серебряные волны, провожал он вечернюю зарю звонким своим рожком. Приятные звуки раздавались по берегам и повторяемы были отголосками сенистой рощи. Молодые сельские девушки любили слушать Услада, когда он простыми стихами прославлял весну, спокойствие земледельческих хижин, свободу поднебесных ласточек, нежность дубравных горлиц или изображал приятность маткиной-душки, которой запах сравнивал он с милою душою чадолюбивой матери. Услад был всех приятнее на посиделках; никто не умел так хорошо рассказывать страшных сказок, от которых робкие девушки трепетали и прижимались к своим матерям, а на голове молодых мужчин становились волосы дыбом; ни с кем так не любили играть в хороводы и в разные игры, как с милым, веселым, добросердечным Усладом. В селе называли его соловьем. Старушки переставали хмуриться и бранить своих дочерей, когда приходил к ним Услад; а старики в его присутствии оживлялись и чувствовали себя молодыми. Сельские девушки засматривались на Услада, который имел лицо прелестное, черные глаза, омраченные длинными ресницами, нежные, сияющие под черными густыми бровями; светло-русые волосы, которые легкими кудрями рассыпались по прекрасному лбу, вились вокруг открытой шеи, белой как снег, и оттеняли свежие, румяные, как молодая роза, щеки. Но чаще других и с чувством более нежным смотрела на него прекрасная Мария. Хижина ее построена была на самом том месте, где быстрый ручей сливался с прозрачною Москвою. Марии минуло пятнадцать лет; она имела доброе сердце, но была совершенный младенец: все ее веселило, все трогало и увлекало. – Она любила свою старую мать более самой себя; часто смотрела ей в глаза и говорила со слезами: «Матушка, друг мой, я готова отдать тебе свою душу». Она плакала, когда старушка была или больна, или печальна; но в то же самое время безделица могла овладеть ее вниманием: она бросалась за пестрым мотыльком или смеялась от доброго сердца, когда слышала забавное слово, замечала уродливое лицо. Мария была чувствительна: никакое нежное чувство не могло изгладиться в сердце ее, но оно могло быть забыто (правда, на короткое время) для всякого нового, даже слабейшего впечатления.
Добрая Мария цвела, как полевая фиалка, под сенью родительской хижины, хранимая любовию матери. С некоторого времени душа ее наполнена была тайным пламенем, которым оживотворены были в ней все другие чувства, – любовию к прекрасному Усладу; но это чувство не мешало ей быть веселою по-прежнему, по-прежнему поливать свои цветы, кормить свою малиновку, распевать веселые песенки, когда она сидела вместе с матерью за пряжею на пороге хижины, и смеяться от всей души, когда подружки рассказывали ей смешные сказки. Прекрасный певец ощущал нежную томность в груди своей, когда смотрел в глаза добросердечной Марии. Ах! он любил ее страстно. Милый ее образ носился перед ним, когда он засыпал; он представлялся ему в сновидении; он видел его при первом блеске восходящего утра. Услад был задумчив, когда был с нею розно, задумчив, когда видел ее перед собою, живую, резвую, веселую. Мария вздыхала, на лице ее изображалось глубокое сердечное чувство, когда глаза ее встречались с глазами Услада. Она радовалась, когда Услад уверял ее в нежной своей любви; целовала его в розовые щеки и говорила ему: «Добрый Услад, ты – мое счастие».
Однажды, вечернею порою, певец играл на рожке своем, простертый на берегу источника, в виду Марииной хижины. Мария, услышав знакомые звуки, взяла кувшин и пошла за водою к светлому источнику. Поравнявшись с Усладом, она поставила кувшин на зеленую траву, села подле своего друга, поцеловала его в пламенную щеку и, окружив его белою рукою, склонила к нему на плечо свою прелестную голову. Они задумались. Вечер был тих и ясен; роща, одушевленная возвратившеюся весною, была наполнена запахом черемухи, благовонным дыханием ландышей, маткиной-душки и трав ароматных; ветерок порхал по деревьям; соловьи свистали вдалеке; в воздухе слышалось жужжание насекомых; легкие струйки источника, озлащаемые заходящим солнцем, которое проникало сквозь редкие деревья, сливали нежное свое плескание с шорохом тростника и трепетанием цветущего шиповника, осенявшего низкие берега источника: все сии звуки производили вместе единую очаровательную гармонию, которая трогала душу и погружала ее в задумчивое мечтание. Услад и Мария долго молчали, упоенные любовию.
– Ах, Мария! – сказал наконец Услад, – люблю тебя более своей жизни. Помнишь ли ту минуту, в которую мы встретились на берегу светлого источника? Ты пришла зачерпнуть в кувшин свежей воды, заслушалась соловья и стояла в задумчивости под тою развесистою березою – я возвращался из Новагорода, был утомлен путем и зноем; ты утолила мою жажду и посмотрела на меня таким ласковым взглядом, что сердце мое наполнилось в ту минуту неизъяснимою сладостию. Ах! с той минуты я перестал владеть своею душою; с той минуты единственное мое счастие быть с тобою или о тебе думать. Тобою прекрасный божий мир сделался для меня еще прекраснее. Во всем, что радует мою душу, нахожу я твой милый образ. Твой голос усладительнее для меня воркования иволги, когда внимаю ему при блеске заходящего солнца; походка твоя легче игривого весеннего ветерка, когда он пролетает над поверхностию спокойной Москвы-реки или колышет нежную травку. Чувствуя в роще запах ночной красавицы, я думаю: он так же приятен, как сладостное дыхание моей Марии. Светит ли полная луна сквозь частую рощу, я погружаюсь в задумчивость: мне кажется, что в светлом ее мерцании летает надо мною твой образ, что я окружен твоим невидимым присутствием. Часто в минуту воцаряющегося вечера забываюсь по целому часу вблизи твоей хижины; сокрытый кустами шиповника, смотрю на тебя, когда ты сидишь у дверей вместе с твоею матерью, озаренная розовым сиянием вечера; мать твоя перебирает долгие светло-русые твои волосы, заплетает их в косы, целует тебя, называет своею радостию; а ты распеваешь, как соловей, или подымаешь на свою мать нежный, невинный, исполненный сердечной задумчивости взор, тогда… но, милый друг, прелестная, добросердечная моя Мария, могу ли сказать, что я тогда чувствую? Ах! в эту минуту не нахожу в себе души; она стремится к тебе, она исполнена чистейшею, непорочною к тебе любовию.
Так говорил Услад. Мария не отвечала; но она вздохнула, крепче обхватила его белою рукою, нежнее прижала ко груди его прелестную свою голову.
– Мы соединимся, – продолжал Услад, – когда исполнится тебе шестнадцать лет. Шесть раз полная луна должна осветить вершины дерев, прежде нежели ты будешь моею; тогда нежная твоя мать переселится в нашу хижину; старость ее пройдет спокойно, как вечер ясного дня… Теперь, мой милый друг, – продолжал Услад, помолчав минуту, – я должен на время с тобою разлучиться. Старый Пересвет, мой благодетель, мой наставник, идет отсюда в свою отчизну, к своим ближним и сродникам – я должен его проводить: ибо мы, вероятно, расстаемся навеки. Путешествие мое продолжится до третьей полной луны. Мария, не забывай меня в отсутствии. Когда взойдет луна, – в эту минуту золотые рога месяца мелькнули из тучи над кровлею Рогдаева терема, – когда озлатятся струистые волны, приди на берег источника и думай об Усладе: душа его будет над тобою. В каждом приятном звуке, с которым прольется в душу твою сладостная унылость, внимай нежному голосу его сердца.
Мария плакала; Услад умолкнул; они встали. Певец поднял глаза на высокий Рогдаев терем – черная туча над ним носилась; невольно печаль овладела его душою: туча сия казалась ему подобием его жребия. «О! что ты принесешь мне, время будущее, время далекое, время неизвестное?» – подумал он. Быстрая молния раздвоила тучу пламенною браздою; облака вспыхнули и вдруг угасли; сердце Услада стеснилось; он бросил на Марию задумчивый взгляд: на миловидном ее лице изображена была робость; взоры ее, устремленные на тучу, как будто искали на ней следов пролетевшей молнии: она вздохнула, поцеловала Услада и медленно пошла в свою хижину. Услад сел в свою лодку, переправился на другой берег Москвы, на котором находилась его хижина, простерся на траву, печально опустил на руку свою голову и долго смотрел на хижину Марии, в которой светился огонек, иногда затмеваемый легкою тению. Наконец сияние исчезло. Услад закрыл руками глаза и заплакал: ему казалось, что в эту минуту угасло счастие жизни его, что для него уже не было на свете Марии.
Утренняя заря не застала Услада на берегах светлой Москвы. В первые два дни Мария не преставала крушиться и плакать. Потупив голову, закрыв передником прискорбные очи свои, орошенные слезами, сидела печальная на пороге хижины и не внимала утешениям своей добросердечной матери. На третий день пошла она к источнику. Вдруг представляется взору ее незнакомый витязь: на нем сияла блестящая броня, голова покрыта была шишаком, на плечах лежала медвежья кожа. Лицо неизвестного было величественно и сурово: глаза, глубоко впадшие, ярко блистали из-под густых бровей; черная всклокоченная борода закрывала до половины смуглые щеки его. Мария оторопела. Незнакомец поглядел на нее пристально.
– Кто ты, красная девица? – спросил он. Мария испугалась громозвучного голоса, не посмела поднять своих глаз и побежала опрометью в хижину. Витязь последовал за нею.
То был Рогдай, славный, могучий богатырь. Ему принадлежали обширные поля, между которыми извивалась прозрачная Москва; ему принадлежал высокий терем, окруженный дубовым тыном. Он долго служил могущественною мышцею великому Новугороду; сподвижники называли его: Рогдай булатная рука; а прочие люди: Рогдай жестокое сердце; ибо ни одно человеколюбивое чувство не было ему известно, никогда на челе его не разглаживались морщины; грозный, неукротимый во мщении, ни вопли, ни улыбка невинного младенца не проницали в его неприступную душу. Умертвив на соборище народном одного из знаменитейших посадников новогородских и принужденный поспешно с верною дружиною сокрыться из великого града, пошел он в знаменитый Киев, к великому князю Владимиру, дабы служить ему вместе с богатырями Ильею, Чурилою и Добрынею. Желая на перепутье посетить свое наследие и отческий терем, в котором провел младенческие лета, явился он на берегах Москвы-реки дни через два по отшествии певца Услада.
Новое чувство открылось в душе Рогдая в ту минуту, когда он встретился у источника с Мариею; он начал каждый день посещать хижину ее матери. Разговаривая с старушкою, бросал он косвенные взгляды на прелестную дочь ее, которая, потупив голову, краснея и трепеща, сидела за пряжею и роняла из рук веретено всякий раз, когда робкие взоры ее встречались нечаянно с задумчивыми взорами Рогдая, в которых пылало мрачное пламя. Неутолимая страсть, сопутствуемая мукою желаний и тайным волнением ревности, свирепствовала в сердце грозного витязя. Впервые почувствовал он желание быть любимым, впервые научился смягчать громозвучный свой голос; иногда на устах его показывалась усмешка; везде и всякую минуту он думал о Марии; искал ее на берегу источника, во глубине рощи; следовал за нею в село и даже нередко, чтоб угодить ей, вмешивался в веселые игры поселян и поселянок. Всякий день приносили ей богатые дары от Рогдая: иногда жемчужное блестящее ожерелье, иногда шелковый сарафан, обшитый богатым галуном, иногда ленту с серебряною бахромою, серьги, золотой перстень.
– Мария, – говорил ей грозный витязь, – отдай мне свое сердце, я сделаю твое счастие. Тебе будут принадлежать мои сокровища, мой терем, мои поля и рощи. Будешь ходить в серебре и золоте. Повезу тебя в великолепный град Киев, покажу тебе великого князя Владимира; увидишь богатырские игры, затмишь собою всех киевских красавиц, будешь украшением княжеских палат и радостию всего града Киева…
Что происходило в твоем сердце, что думала ты, добрая Мария? Сначала она тосковала и плакала. «Услад, милый Услад, для чего нет тебя со мною?» – говорила она, смотря на струистый источник, при котором они расстались. Увы! она уже чувствовала, что присутствие Услада было необходимо, чтоб сохранить в сердце ее прежнюю к нему привязанность. Воображая Услада, она воображала счастие жизни своей; но, думая о Рогдае, видела в мыслях своих одни бесчисленные богатства его, пышный град Киев (о котором слыхала только в сказках), славных богатырей, блистание великолепного дворца княжеского и никогда не думала о самом Рогдае; ибо никогда сердце ее не могло бы поколебаться между прекрасным Усладом и грозным витязем, которого мрачный образ приводил ее в трепет. Но, увы! ослепленный рассудок ослепил и нежное сердце Марии; в продолжение первого месяца она всякий божий день приходила к источнику вспоминать об Усладе – и всякий раз встречала на берегах его витязя Рогдая. Наступил другой месяц, и Мария с большим уже вниманием начала слушать Рогдаевы предложения: в душе ее, которая прежде была так непорочна, родились гордые мечты о блеске, богатстве и торжестве ее прелестей. Наступил третий месяц – и Мария отдала руку свою Рогдаю… Ах! кто бы это подумал, добрая Мария? Но для чего же обвинять ее доброе сердце? Оно никогда не изменяло Усладу. Ты обманывалась, Мария, когда уверяла себя, что более не любишь своего друга. Скоро исчезнет твое ослепление; скоро опять воскреснет в душе твоей прежнее чувство любви, к которому ты привыкла, которым была так счастлива… что будешь тогда, невинная, обманутая, несчастная Мария?
Услад приближался уже к месту своей родины; уж видел он вдалеке высокий Рогдаев терем, видел дым, вьющийся над кровлями хижин и озлащенный сиянием восходящего утра. Душа его наполнена была смутными чувствами радости, любви, нетерпения. В эту минуту повстречался ему пастух, который гнал стадо на паству и пел утреннюю свою песню, – они узнали друг друга.
– Бедный Услад, зачем воротился ты на свою родину, – воскликнул пастух.
Услад побледнел.
– Что сделалось? – спросил он изменившимся голосом.
– Много воды утекло с того времени, как ты оставил наше селение, – отвечал пастух. – Мария твоя – перелетная птичка; она покинула родимое гнездышко и хочет лететь на чужую сторону; она разлюбила тебя; она отдала свою душу богатому и могучему витязю Рогдаю! Ах! бедный Услад, для чего возвращался ты на свою родину?
Пастух посмотрел на него с состраданием, вздохнул, опять погнал свое стадо, опять запел свою утреннюю песню. Услад не мог отвечать ему ни слова: стоял как убитый громом, и долго неподвижными очами смотрел на волны, в которых отражалось чистое небо. Жаворонок кружился и пел под облаками; утренний ветерок дышал ему в лицо; с полей подымались благовония цветов и трав. Услад ничего не чувствовал. Солнце взошло; первые лучи его заиграли на кровле высокого терема: нечаянно взоры Услада на нее устремились; вся душа его пришла в волнение; он бросился на траву, залился слезами и целый день пролежал на одном месте неподвижно, вздыхал и терзался. Наступил вечер. Земледельцы и пастухи пришли с полей. Веселые голоса их пробудили Услада. Он встал, опять устремил глаза на терем, смотрел на него долго, наконец снял с груди пучок засохших ландышей, перевязанных волосами Марии, который подарила она ему накануне разлуки, бросил его в реку, несколько минут следовал за ним глазами по течению волн, потом, потупив голову, стараясь удерживать стеснившиеся в груди вздохи, пошел назад, чтобы никогда, никогда не возвращаться в то место, где все, что радовало его в жизни, погибло навеки.
Прошла осень, прошла зима – Услад скитался по городам и селениям. Увы! он думал забыть прежнее время, забыть утраченное свое счастие – напрасно! В тех самых песнях, которыми веселил он горожан и сельских жителей, чтобы избавить себя от голодной смерти, изображались милые чувства, некогда услаждавшие душу его, изображен был тот счастливый край, где прежде встречал он с веселием каждое утро, провожал он с надеждою каждый вечер. Наступила весна, и вся любовь, которую он почитал почти угасшею, опять воспламенилась в душе его.
– Нет, – воскликнул Услад, – я не могу дышать в разлуке с нею; где бы я ни был, везде мой жребий – угаснуть в любви, увянуть в страдании; здесь, на чужой стороне, все для меня чужое; а там, в отчизне моей, все мне друг, все было свидетелем моего счастия, все будет поверенным моей скорби. Не буду с нею встречаться; но буду с нею вместе, но буду скитаться вокруг ее жилища, невидимо следовать за нею во глубину рощи, иногда внимать ее голосу, дышать ветерком, освежающим ее грудь или волнующим ее светлые кудри, орошать слезами следы, оставленные на мураве легкими ее стопами, в упоении, сокрытый мраком ночи, смотреть на свет ее лампады, горящей перед образом и проницающей сквозь окна ее светлицы, и вместе с нею молить божию матерь о счастии жизни ее. Так, моя родина, и вы, отческие рощи, и вы, цветущие берега Москвы, опять увидите возвратившегося к вам Услада; возвращусь к вам, чтоб увянуть на вашем лоне, увянуть там, где расцвело и увяло мое веселие. Ах, видя, как другой владеет моим счастием, скорее умру с печали. Утро взойдет, ранняя ласточка взовьется под облака, ветерок побежит по вершинам дерев, и листья осенние посыплются с шумом; тогда, Мария, ты взглянешь в окно высокого терема и скажешь: «Утренняя ласточка, для чего ты поднялась так рано? Ветерок осенний, для чего рассыпаешь ты красоту дубравы? Для чего в душе моей тоска неизвестная?» Ты выйдешь рассеять печаль свою в поле; там, близ тропинки излучистой, на краю кладбища, под сению древних берез, увидишь свежую могилу; ты устремишь на нее задумчивые взоры. «Здесь положили певца Услада», – скажут тебе сельские девушки, печально собравшиеся вокруг могилы. Ты вспомнишь прежние наши радости, вспомнишь певца Услада; приунывши, возвратишься в свой терем, вздохнешь из глубины сердца и скажешь: «Он меня любил, но его уже нет».
Солнце почти закатилось, когда Услад остановился на берегу источника, в виду Рогдаева терема.
Долго в унылой задумчивости смотрел он на жилище Марии; взоры его искали сияния лампады в окне уединенной ее светлицы… напрасно; глубокая мрачность царствовала в тереме витязя Рогдая. Уже на западе исчезла последняя полоса вечерней зари, на востоке показывалась полная луна, подобная зареву отдаленного пожара: весь терем покрылся ее сиянием. Услад мог ясно видеть, что задвижные окна были все раскрыты; что крепкие тесовые ворота, не заложенные затвором, ходили на железных петлях, – невольно робость проникнула в его душу. «Что это значит? – подумал он. – Отчего такая мрачность в Рогдаевом тереме? Что сделалось с тобой, Мария?» Услад переходит источник вброд и по тропинке, вьющейся в кустах, идет на высоту горы – часто останавливается – слушает – ничего не слышит – одни только легкие струйки ручья переливаются с журчанием по песку, изредка стучит стрекоза, изредка увядший листок срывается с дерева и с трепетанием падает на землю.
– Что предвещаешь ты мне, тишина ужасная? – вопрошал Услад, осматриваясь с робостию и видя вокруг себя одно печальное запустение. Вдруг послышался ему близкий шорох… кто-то бежал… сухие листья хрустели под ногами… шорох приблизился… Услад прячется в кусты… видит женщину… луна осветила ее лицо… Певец узнает добродушную Ольгу, любимую подругу Марии… бросается к ней навстречу… Ольга закричала, закрыла обеими руками лицо…
– Защитите меня, силы небесные, – воскликнула она, – привидение, душа Усладова! – Ноги ее подкосились, она упала бы на траву, когда бы Услад не принял ее в объятия.
– Что с тобою сделалось, добрая Ольга? Отчего боишься Услада?
Ольга дрожала как лист, не смела отворить глаз, крестилась, читала про себя молитву.
– Опомнись, милая Ольга, погляди на меня. Я не мертвец, я Услад, живой Услад, возвратился в свою отчизну, хочу увидеть Марию.
Звуки знакомого голоса ободрили несколько робкую девушку – несколько минут не могла она прийти в себя от испуга, наконец мало-помалу осмелилась отворить глаза…
– Точно ли вижу Услада? – спросила она. – В самом деле, его лицо, его приятные взоры, его знакомый голос. Ах! добрый Услад, зачем ты здесь?.. Но удалимся от этого места – мне страшно. Скоро будет полночь; никто из наших поселян не ходит сюда в это время: я сама нечаянно запоздала в роще; удалимся, Услад; это место ужасно. – Ольга побежала вперед, потащив за собою Услада, и чрез две минуты находились они уже на берегу светлого источника.
– Ольга, – сказал Услад, – я не пойду и не пущу тебя далее: хочу знать, отчего так страшен тебе Рогдаев терем и что сделалось с Мариею?
– Ах! добрый Услад, о чем ты у меня спрашиваешь?
– Говори, милая Ольга, именем бога прошу тебя; неизвестность мучительнее смерти.
– Хорошо, Услад, слушай. Садись ко мне ближе; здесь не так страшно: я вижу на том берегу источника нашу хижину.
Они сели. Услад трепетал: сердце предсказывало ему что-то ужасное.
– Много, Услад, очень много переменилось с тех пор, как ты оставил нашу деревню, – так начала говорить Ольга. – Дорого бедная моя подруга заплатила за свое легкомыслие. Ах! милосердое небо, для чего, не спросясь с душою своею, поверила она коварным обещаниям обольстителя?.. Услад, Мария твоя ни на одну минуту не переставала о тебе помнить. Что же делать, если она как младенец прельстилась золотыми парчами, жемчугом, лентами, которыми дарил ее грозный Рогдай, и суетною надеждою сиять прелестями в великолепном граде Киеве? Увы! она сама обманывала себя, когда почитала прежнюю любовь свою угасшею, а гордые свои замыслы – привязанностию к грозному Рогдаю. Нет, Услад, не обижай ее такою мыслию: никогда Мариино сердце не было переменчиво; и можно ли, друг мой, забыть те сладкие чувства, которыми животворится душа наша в лучшие годы жизни, с которыми соединены все наши надежды на счастие, которыми земля претворяется для нас в царство небесное? Ни одной минуты веселия не видала она с той поры, как принуждена была оставить родительскую хижину. Слушай: ввечеру накануне того дня, в который надлежало ей идти к венцу и в церкви божией перед святым алтарем навсегда отдать себя Рогдаю, поклявшись тайно, что позабудет Услада навеки, я навестила мою подругу; но где же нашла ее? Здесь, на берегу светлого источника, на том самом месте, где ты, Услад, в последний раз с нею простился. Она сидела в унынии, склонив ко груди прелестную свою голову, с потухнувшими глазами, увядшими щеками, как будто приговоренная к смерти. Ах! Услад, еще не вступила она в Рогдаев терем, а уже мечты удовольствий, которые найти в нем она воображала, для нее исчезли: одна только мысль о том, что была она готова утратить, одно минувшее время, одни погибшие радости наполняли ее прискорбную душу. Увидя меня, она встала, подала мне знак, чтобы я за нею последовала, и молча пошла в свою хижину. Матери ее не было дома; свечка горела перед образом богоматери. «Молись вместе со мною, – сказала Мария и упала на землю, обливаясь слезами. – Святая утешительница, – воскликнула она, – молю не о себе; для меня уже нет счастия: не желаю, не буду искать его, я сама от него отказалась; но будь твое милосердие над милым, оставленным, осиротевшим другом моим; храни его, покровительница несчастных». На другое утро принесли к ней богатые дары от Рогдая: она посмотрела на них с равнодушием. Сельские девушки пели веселые песни у дверей ее хижины: Мария, казалось, им не внимала. Мать убирала ее к венцу, ласкала словами и взорами. Мария устремляла на нее умильные глаза, целовала ее руки, вздыхала, утирала слезы и не говорила ни слова. Грозный Рогдай изумился, когда она вошла в церковь, печальная, бледная как полотно, и с трепетом подала ему руку. Лицо ужасного витязя во все продолжение венчального обряда было мрачно: с суровым подозрением рассматривал он свою невесту, которая стояла пред алтарем как жертва, приведенная на заклание. Их обвенчали. Услад, я повторяю: ни единою радостию не насладилась твоя Мария с той самой минуты, в которую оставила родительскую хижину. Мы виделись с нею каждый божий день: всегда находила я ее погруженную в задумчивость. Иногда, вечернею порою, она сидела на скате горы и пела прекрасные твои песни; иногда с прискорбием останавливалась на берегу источника; но чаще всего приходила к реке смотреть на отдаленную твою хижину. Суровость витязя Рогдая приводила ее в трепет: он любил ее страстною любовию, но самая нежность его имела в себе что-то жестокое. Простодушная Мария, которой слова и взоры всегда согласны были с тайным расположением сердца, ответствовала на любовь его одною тихою покорностию: она подходила к нему только тогда, когда он сам приказывал ей приблизиться; не смела к нему ласкаться, а только с смирением принимала его надменные ласки. Увы, несчастная Мария, которая прежде была так весела и резва, которая прыгала от удовольствия в кругу игривых своих подруг, Мария почти никогда уже не улыбалась, и в самой улыбке ее изображено было душевное прискорбие. Рогдай заметил ее тоску; часто с видом угрюмого подозрения устремлял он свои взоры на бледное лицо Марии: она содрогалась и потупляла глаза свои в землю. Часто хотел он спросить ее о причине такой непрерывной унылости, начинал говорить и уходил, не кончив вопроса, – и что могла бы отвечать ему Мария? Прошло три недели. В одно утро (мы сидели вместе с Мариею и низали жемчужное ожерелье для ее матери) приходит он в ее светлицу. «Мария, – говорит он, – послезавтра мы едем в Киев: будь готова». Мария побледнела; руки ее опустились, хотела отвечать, и слезы побежали из глаз ее ручьями. «Что это значит?» – загремел ужасным голосом витязь. Мария схватила его руку (в первый раз позволила она себе такую смелость). «Ради бога, – воскликнула она, устремив на него умильный взор, – пробудь здесь еще один месяц, один только месяц; дай мне познакомиться с печальною мыслию, что я должна расстаться с своею родиною, навсегда покинуть свою мать, моих подруг, мои отеческие поля и рощи». Прижавши прекрасное лицо свое к руке ужасного витязя, она орошала ее слезами. Какое сердце могло бы не тронуться умоляющим стенанием Марии? Несколько минут молчал суровый Рогдай: в сумрачных взорах его блеснуло чувство. «Не могу отказать тебе, Мария, – отвечал он, смягчивши голос, – мне сладко тебя утешить. Согласен, еще на месяц остаюсь в этих местах; но, Мария, – тут устремил он на нее подозрительный взгляд, – ты худо отвечаешь на страстную мою любовь: горе тебе, если не одна привязанность к матери, подругам и отчизне удерживает тебя в этом месте». Он удалился. Мария посмотрела на меня и не сказала ни слова: мы обе вздохнули.
Прошло еще две недели – самые печальные для бедной Марии. Она старалась удалить от себя воспоминания об Усладе, но всякую минуту против воли своей думала: «Он скоро возвратится, он придет отдать мне свою душу, исполненный сладкой надежды, исполненный прежней любви, а я…» Она томилась в тоске и слезах и не могла утаить ни тоски, ни слез своих от Рогдая; он видел ее печаль – но он молчал, и грозные взоры его час от часу становились мрачнее; страшная ревность свирепствовала в его сердце. «Мария, – говорил он иногда, устремив на нее пристальное око, – душа твоя неспокойна, совесть тебя обличает: взоры мои тебе ужасны. Мария, – восклицал он иногда громозвучным голосом, от которого несчастная цепенела, – я люблю тебя страстно… но горе, если ты меня обманула!»
Наконец наступило время твоего возвращения, и бедная Мария совсем потеряла спокойствие. Увы! она боялась ужасного Рогдая, боялась твоего милого присутствия, боялась собственного своего сердца: малейший шорох заставлял ее содрогаться. Она не хотела, она страшилась тебя увидеть; но, Услад, несмотря на то, как будто ожидая тебя, не отходила она от окна своей светлицы, по целым часам просиживала на берегу Москвы, устремив неподвижные взоры на противную сторону реки, туда, где видима соломенная кровля твоей хижины. В одно утро – это случилось на другой день после твоей встречи с пастухом нашего села – навещаю ее, нахожу одну, печальную по-прежнему, на берегу Москвы, на том же самом месте, на которое приходила она и вчера и всякий день; сказываю, что тебя видели накануне; что ты, узнавши о ее замужестве, не захотел войти в деревню; что ты удалился неизвестно куда. Мария заплакала: «Ангел-хранитель, сопутствуй ему, – сказала она, – пусть будет он счастлив; пускай, если может, забудет Марию». Она устремила глаза на небо. Мы стояли тогда на самом том месте, где волны образуют мелкий залив; разливаясь по светлым камешкам, с тихим плесканием – одна волна прикатилась почти к самым ногам Марии – рассыпалась – что-то оставила на песке – я наклоняюсь – вижу пучок увядших ландышей, перевязанный волосами, – подымаю его, показываю Марии: боже мой, какие слова изобразят ее ужас! Казалось, что грозное привидение представилось ее взору, волосы поднялись на голове ее дыбом, затрепетала, побледнела. «Это мои волосы, – воскликнула она. – Услада нет на свете: он бросился в реку». Она упала к ногам моим без памяти. В эту минуту показался Рогдай: подходит, видит бесчувственную Марию, поднимает ее; смотрит с недоумением ей в лицо: оно покрыто было бледностию смерти; снимает с головы шишак, велит мне зачерпнуть в него воды и орошает ею голову Марии, которая, как увядшая роза, наклонена была на правое плечо. – Несколько минут старались мы привести ее в чувство; наконец Мария отворила глаза – но глаза ее были мутны; она посмотрела на Рогдая – и не узнала его. «Ах! Услад, – сказала она умирающим голосом, – я любила тебя более жизни; последние радости, последние надежды, простите!» Как описать то действие, которое произвели слова ее на душе грозного Рогдая? Лицо его побагровело, глаза его засверкали, как уголья; он страшно заскрежетал зубами. «Услад, – воскликнул он, задыхаясь от бешенства, – кто Услад? Что ты сказала, несчастная?» Но Мария была как помешанная; она не чувствовала, что Рогдай стоял перед нею; с судорожным движением прижимала она его руку к сердцу и говорила: «На что мне жить? Я любила его более моей жизни: все кончилось!» Рогдай затрепетал; в исступлении обхватил он ее одною рукой поперек тела и помчал, как дикий волк свою добычу, на высоту горы, к ужасному своему терему. Я хотела за ними последовать. «Прочь!» – заревел он охриплым голосом, блеснув на меня зверскими глазами – ноги мои подкосились. С той поры, Услад, ни разу не видала я нашей Марии… Ввечеру прихожу опять к горе, смотрю на высокий терем – все было в нем тихо, как будто в могиле, – светлица Марии казалась пустою – я долго прислушивалась – но все молчало – ничто, кроме трепетания волн и шороха дубравных листьев, не доходило до моего слуха – кровь леденела в моих жилах. «Боже мой, – думала я, – что сделали они с тобою, несчастная Мария?» Три дня сряду приходила я к терему, то же молчание, та же пустота. «Куда девалась Мария? Где витязь Рогдай?» – спрашивали наши поселяне. Один из них осмелился войти в самый терем; но он не нашел ни витязя, ни Марии, ни служителей Рогдаевых: повсюду царствовала пустота, стены были голы, все утвари домашние исчезли – казалось, что никогда нога человеческая не заходила в эту обитель молчания. Увы! Услад, с того времени мы ничего не знаем об участи твоей Марии. Никто из поселян не смеет приближаться к Рогдаеву терему. Горе заблудившемуся пешеходцу, который отважится зайти в него полуночною порою! Божие проклятие постигло этот вертеп злодейств, говорит наш сельский священник. Мы смотрим на него из-за реки, содрогаемся и молим небесного царя, чтобы он успокоил душу Марии. Бедная мать ее умерла с печали: мне суждено было от бога заступить при ней место дочери; я посадила на могиле ее шиповник и молодую липу. Услад, кто знает? может быть, она уже встретилась теперь на том свете с своею Мариею.
Ольга перестала говорить; Услад не мог отвечать ей ни слова. Несчастный сидел, потупив голову, закрыв руками лицо, – состояние души его было ужасно; несколько минут продолжалось печальное безмолвие. Услад посмотрел на Мариину подругу: она плакала, он поцеловал ее в щеку.
– Милая Ольга, – сказал он, – возвратись к своей матери; конечно, беспокоит ее теперь долговременное твое отсутствие; оставь меня, я никогда не сойду с этой горы: она должна быть моим гробом. Бог с тобою, добросердечная Ольга; будь счастлива; скажи в деревне, что бедный Услад жив, что он возвратился, что он умрет на том самом месте, где мучилась и погибла его несчастная Мария.
Они поцеловались опять. Ольга переправилась на другой берег источника; Услад пошел по излучистой тропинке на высоту горы, к ужасному терему.
Полночь была уже близко – полная луна, достигшая вершины неба, сияла почти над самою головою Услада. Он приближается к терему; входит в широкие ворота, растворенные настежь, – они скрипели и хлопали; входит на двор – все пусто и тихо. Дорога от ворот до крыльца, окруженного высокими перилами, покрыта крапивою, полынью и репейником. Услад с трудом передвигает ноги, наконец вступает на крыльцо, идет к двери… Дикая лисица, испуганная приходом человеческим, давно не возмущавшим сего пустынного места, бросилась в высокую траву, сверкнув на него глазами; филин, пробужденный шорохом, встрепенулся, захлопал крыльями, полетел на кровлю и завыл… Услад почувствовал робость и начал осматриваться. При свете луны увидел он себя в обширной горнице, в которой находился длинный стол, приставленный к стене; две или три скамейки, лежавшие на полу; пустой поставец, где прежде находились образа, и на полу разбросанные черепки разбитых глиняных кружек: здесь грозный Рогдай угощал иногда поселян и поселянок своей деревни. Услад прошел еще две или три горницы: везде представлялись глазам его голые стены, везде царствовала тишина, изредка нарушаемая шумом нетопырей, которые быстро над ним порхали. Наконец он видит маленькую дверь и узкую лестницу, обвившуюся винтом вокруг столба: сердце его сильно затрепетало – эта лестница вела в светлицу Марии. Услад идет по ступеням, входит в светлицу, ярко озаренную лучами луны, которая ударяла прямо в раскрытые окна. Душа его наполнилась неизъяснимым прискорбием, когда он увидел себя в том самом месте, где бедная Мария провела последние дни своей жизни, встречая утро со вздохами, провожая вечер с унынием. Он находил горестное удовольствие дышать тем воздухом, которым некогда она дышала; как будто чувствовал, что в тихой полуночной прохладе разливалось вокруг него ее присутствие. Все было ею наполнено – на все устремлял он с неописанным волнением взоры свои; ибо везде мечтались ему следы милого бытия утраченной Марии. В одном углу брошены были ее пяльцы с недоконченным шитьем, которое все почти истлело. В другом что-то блистало – Услад приближается: смотрит – что же? Находит тот самый образ богоматери в серебряном окладе, который привез он ей из Киева и который Мария, до самой разлуки с Усладом, носила на шее; он упал перед ним на землю, заплакал, снял его со стены, поцеловал и положил на грудь свою. Он сел под окно – глаза его устремились на Москву, которая тихо вилась под горою, отражая в волнах своих и берега, покрытые лесом, и синее небо, усыпанное легкими сребристыми облаками; окрестности, одетые прозрачною пеленою светлого сумрака, были спокойны; все молчало – и воздух, и воды, и рощи. Услад задумался; минувшее предстало его воображению, как легкий призрак; он видел Марию, прежде цветущую, потом увядающую во цвете лет. «Здесь, – думал он, – сидела она в унынии под окном, смотрела в туманную даль и посылала ко мне свои вздохи; здесь, проливая слезы, молилася перед святою иконою; здесь, о боже милосердый, может быть на самом этом месте убийца…» Он содрогнулся; ужас проникнул все его члены; ему мечталось слышать стенания, выходящие как будто из могилы; мечталось, что скорбное, тоскующее привидение бродило по горницам оставленного терема; жилы его сильно бились; кровь, устремившаяся в голову, производила в ушах его звуки, подобные погребальному стону. Час полночи, всеобщее безмолвие, мрачность и пустота ужасного терема – все приготовляло душу его к чему-то необычайному: таинственное ожидание наполняло ее. Услад сидит неподвижно… прислушивается… все молчит… ни звука… ни шороха… Вдруг от дубравы подымается тихий ветерок: листочки окрестных деревьев зашевелились, ясная луна затуманилась, по всем окрестностям пробежал сумрак, какое-то легкое, почти нечувствительное дуновение прикоснулось к пламенным щекам Услада и заиграло в его разбросанных кудрях: казалось, что в воздухе распространялось благовонное дыхание весны и разливалась приятная, едва слышимая гармония, подобная звукам далекой арфы. Услад поднимает глаза… что же? О ужас! о радость!.. он видит… видит перед собою Марию – светлый, воздушный призрак, сияющий розовым блеском; одежда ее, прозрачная, как утреннее облако, летящее перед зарею, расстилалась по воздуху струями; лицо ее, бледное, как чистая лилия, казалось прискорбным, на милых устах видима была унылая улыбка; задумчивый взор ее стремился к Усладу. Священный ужас наполнил его сердце.
– Ты ли, душа моей Марии? – воскликнул он, простирая к привидению трепещущие руки. – О! скажи, для чего покинула ты селения неба? Велишь ли мне разлучиться с жизнию? Хочешь ли приобщить меня к своему блаженству?
Он умолк – ответа не было. Но призрак, казалось, хотел, чтобы Услад за ним последовал, – одною рукою указывал на дремучий лес, другою, простертою к Усладу, манил его за собою. Услад осмелился ступить несколько шагов… привидение полетело… Услад остановился… и вместе с ним остановился призрак, опять устремив на него умоляющие взоры… Услад был в нерешимости… не знал, идти ли ему или нет… наконец ободрился… пошел… руководствуемый таинственным вождем, вышел на пустынный двор, за ворота, наконец в дремучий лес, который на несколько верст простирался позади Рогдаева терема. Входит во глубину леса – тишина и мрачность окрест него царствуют; ни одно живое творение не представляется взору его; дикие дубравные звери, как будто чувствуя присутствие бесплотного духа, ему сопутствующего, уклоняются от стези его с робостию… храня глубокое безмолвие, идет он за бледным улетающим сиянием… несколько часов продолжалось его уединенное шествие… вдруг видит реку, вьющуюся под сению древних дубов, развесившихся берез и мрачных елей… устремляет глаза на светлую свою сопутницу… она остановилась… печаль, прежде напечатленная во взорах ее, уже исчезла: они сияли небесным веселием… привидение указывает ему на небо… улыбается… простирает к нему объятия… и вдруг, как легкая утренняя мечта, исчезает в воздушной пустыне. Все помрачилось; Услад остался один, в глуши дремучего леса, в стране ужасной и дикой… осматривается… видит вблизи сверкающий огонек… идет… глазам его представляется низенькая хижина, покрытая соломою… он отворяет дверь… дряхлый старик молится перед распятием, при свете ночника… скрип двери заставил его оглянуться… он посмотрел пристально Усладу в лицо… улыбнулся и подал ему руку.
– Благословляю приход твой, – сказал отшельник, – давно пророческое сновидение возвестило мне его в этой пустыне. В лице твоем узнаю того юношу, который несколько раз являлся мне в полуночное время, когда в спокойном сне отдыхал я после трудов и молитвы.
– Кто ты, старец? – спросил Услад, исполненный умиления и тайного страха.
– Смиренный отшельник Аркадий, – отвечал старик. – Два года, как поселился я на берегу светлой Яузы, в этой уединенной хижине. Здесь провожу дни свои в молитве, оплакиваю прошедшие заблуждения и спасаюсь. Приди в обитель мою, несчастный труженик: в ней обретешь утраченное спокойствие, а с ним и желанное забвение прошедшего. Скажи мне, кто указал тебе дорогу к моей неизвестной хижине?
Услад описал ему несчастия своей жизни.
– Так, – воскликнул Аркадий, выслушав повесть Услада, – здесь, на берегу Яузы, покоится несчастная твоя Мария; мне назначило божие провидение принять последние взоры ее и примирить с небом ее отлетающую душу. Слушай: в одно утро я собирал коренья на берегу Яузы; внезапно поразили слух мой жалобные стенания… Иду… шагах в пятидесяти нахожу женщину, молодую, прекрасную, плавающую в крови, – это была твоя Мария; вдали раздавался конский топот; воин, одетый в панцирь, мелькал между деревьями; он вскоре исчез в густоте леса – то был убийца Рогдай. Беру в объятия умирающую Марию – увы! последняя минута ее уже наступила, уста и щеки ее побледнели, глаза смыкались. Медленно подняла на меня угасающий взор. «Прими мою душу, благослови меня», – сказала она, усиливаясь приложить руку мою к сердцу. Я перекрестил ее – умирающая посмотрела на меня с благодарностию. «Ангел-утешитель, – сказала она, простирая ко мне объятия, – молись о душе моей, молись об Усладе». Взоры ее потухли, голова наклонилась на плечо – она скончалась. Могила ее близко. Ты скоро увидишь ее, Услад; заря начинает уже заниматься.
– Ах! несчастная! – воскликнул Услад. – Какая участь! И этот убийца жив!.. Нет, божий угодник, клянусь у ног твоих…
– Услад, не клянись напрасно, – ответствовал старец, – небесное правосудие наказало Рогдая: он утонул во глубине Яузы, куда занесен был конем своим, испугавшимся дикого волка. Усмири свое сердце, друг мой; скажи вместе со мною: вечное милосердие да помилует убийцу Марии!
Услад утихнул.
– Очи мои прояснились, – воскликнул он и простерся к ногам священного старца. – Она сохранила ко мне любовь и за гробом. Отец мой, тебе, воспоминанию и служению бога посвятится отныне остаток моей жизни.
Заря осветила небо, и лес оживился утренним пением птиц. Старец повел Услада на берег Яузы и, указав на деревянный крест, сказал:
– Здесь положена твоя Мария.
Услад упал на колена, прижал лицо свое, орошенное слезами, к свежему дерну.
– Милый друг, – воскликнул он, – бог не судил нам делиться жизнию: ты прежде меня покинула землю; но ты оставила мне драгоценный залог твоего бытия – безвременную твою могилу. Не для того ли праведная душа твоя оставляла небо, чтоб указать мне мое пристанище и прекратить безотрадное странничество мое в мире? Повинуюсь тебе, священный утешительный голос потерянного моего друга; не будет прискорбна для меня жизнь, посвященная гробу моей Марии: она обратится в ожидание сладкое, в утешительную надежду на близкий конец разлуки.
Услад поселился в обители Аркадия: на гробе Марии построили они часовню во имя богоматери. Прошел один год, и Услад закрыл глаза святому отшельнику. Еще несколько лет ожидал он кончины своей в пустынном лесе; наконец и его последняя минута наступила: он умер, приклонив голову к тому камню, которым рука его украсила могилу Марии.
И хижина отшельника Аркадия, и скромная часовня богоматери, и камень, некогда покрывавший могилу Марии, – все исчезло; одно только наименование Марьиной Рощи сохранено для нас верным преданием. Проезжая по Троицкой дороге, взойдите на Мытищинский водовод – вправе представится глазам вашим синеющийся лес; там, где прозрачная река Яуза одним изгибом своим прикасается к роще и отражает в тихих волнах и древние сенистые дубы и бедные хижины, рассыпанные по берегам ее, – там некогда погибла несчастная Мария; там сооружена была над гробом ее часовня во имя богоматери, там наконец и Услад кончил печальный остаток своей жизни.
Письма. Очерки. Заметки
Взгляд на землю с неба
Есть светлая сторона. Мы ее не знаем, но верим, что она есть. И сия вера подобна действию начинающегося утра на затворенные очи спящего юноши, когда еще играют над ним сновидения ночи.
В сей стороне обитают первенцы любви Божией. Их бытие для нас непостижимо. Они блаженствуют в созерцании ясного для них Создателя.
Однажды, посреди великолепного создания, один из сих обитателей света стоял, преклоня взоры, в задумчивом размышлении.
Что с тобою, брат мой? спросил подлетевший к нему товарищ блаженства. На лице твоем что-то не здешнее. Какое видение наполняет и как будто тревожит твою душу?
«Брат мой! – отвечал вопрошенный – я на мгновение отвратил глаза мои от окружающего нас света; я погрузился во глубину бездны, и чувство, никогда не испытанное, наполнило душу мою. Доселе она знала одну спокойную радость – теперь она растрогана; доселе я только обожал Создателя – теперь мое чистое обожание обратилось в благодарность, соединенную с сладким унынием.
Отклони внимание от окружающего нас лучезарного океана, я взглянул на одну из капель, брызжущих от бесчисленных волн его. И что же! Каждая из сих капель есть бездна светил, и каждое из сих светил, едва приметных моему взору, окружено миллионами других, кружащихся около него легкою, светлою пылью и в порядке повинующихся ему, как владыке.
Я устремил внимание на одну из сих светлых пылинок, и что же опять увидел? Она, как и все другие, дает жизнь своему особенному миру; пылинки, несравненно мельчайшие и уже не светлые, а только озаренные, около нее движутся в удивительном устройстве: я видел, как одни из них рождались и были в минуту рождения совершенно темные, как другие мало-помалу светлели, как некоторые, обратившись в светлые, приобщались к другим, подобно им сияющим, и как около них начиналось новое рождение.
На одной из сих темных, только что родившихся пылинок остановился взор мой. Немного прошло мгновений, и уже она несколько тысяч раз обратилась кругом своего светила, кругом той лучезарной пылинки, которая исчезает в вихре светлого праха, окружающего каждую из тех более лучезарных пылинок, кои бесчисленно блещут в замеченной мною капле.
И что же произошло в сии столь быстрые мгновенья? Сначала, повинуясь движению, влекущему ее около владычествующего ею блистательного средоточия, сия бедная пылинка была сама по себе мрачною и как будто мертвою. Вдруг началось на ней движение; поверхность ее несколько раз изменилась; наконец все пришло в порядок; движение утихло; она получила некоторый постоянный образ, и несколько времени поверхность ее была как будто пустынною, и все, что на ней происходило, казалось свойственным ничтожному бытию пылинки… Но вдруг нечто таинственное там совершилось: с высоты моей, с сладостным участием брата, почувствовал я, что там на пылинке, ничтожной, началась жизнь, подобная моей жизни, и что посреди ее ничтожества тихо раздалось то Имя, которое здесь столь громозвучно поражает нас среди нашего величия, раздалось и было услышано! И я увидел живые творения, увидел, как они начались, как размножались, как исчезали, уступая место одни другим, как наконец овладели всею поверхностию своего неприметного мира, и как все на поверхности его снова преобразилось.
Но сии живые творения сначала казались мне окруженными каким-то мраком, мне самому непонятным. И вдруг увидел я луч, сверкнувший над поверхностию их пылинки. И луч сей показался мне светозарнее всей окружающей меня бездны света.
О милый брат! что же пылинка сия, темная, исчезающая в одной из сияющих капель того светозарного океана, который перед нами волнуется, которого пламенные волны громом своим сливаются в песнопение Вседержителю? И что мгновенные обитатели сей пылинки?
Но они живут и живут чудесною жизнию. И в бренной своей жизни они имеют еще и то, чего мы в величии своем не имеем. Наша участь есть безмятежное блаженство; а им – им дано страдание! При сем слове благоговейный трепет наполняет душу мою. Страдание – для них оно непостижимо, а я с высоты моей постигаю всю божественную его тайну. Страдание, творец великого – оно знакомит их с тем, чего мы никогда в безмятежном блаженстве нашем не узнаем; с таинственным вдохновением веры, с утехою надежды, с сладостным упоением любви.
Мы, обитатели света, мы в своей безмятежной вечности не ведаем тех волнений, той борьбы, того стремления к лучшему, которые наполняют минутную жизнь их во прах. Что для нас есть, что для нас всегда было – то еще для них будет: о том усладительно говорит им надежда! Создатель поселил нас вблизи Своего непроницаемого святилища, и мы Его знаем — для них же Он скрыл Себя в таинственном мраке смятенного бытия их: заключенные в тесных пределах своего ничтожного мира, они не постигают и еще не могут постигать Его всеобъемлющего Промысла; но они Его чувствуют, они к Нему стремятся сквозь тысячи преград, отделяющих от Него их душу, и они некогда найдут Его и так же постигнут, как мы Его постигаем. Их вера есть победа, одерживаемая душою и возвышающая душу. Здесь, блаженствуя любовию к Создателю, мы не властны не любить Его, столь близкого к нам, столь совершенно нам понятного. А их любовь, во прахе, в ничтожестве, в страдании – какое чудесное преобразование дарует она бытию их в этом прахе! как украшает она для них и самый прах, где посреди изменения и тленности все говорит им о Промысле вечном.
И что же?.. С сим таинством страдания, образующего душу, соединяется другое столь же великое таинство смерти; которая всему, что окружает их в тесных пределах обитаемой ими пылинки, дает и цену и прелесть. Смерть, страшилище мечтательное, ужасом утраты привязывает их к бытию мгновенному. Содрогаясь перед нею, они тем сильнее, как будто к сокровищу, ничем не заменяемому, прилепляются к бедному своему праху, и тем охотнее приемлют уроки испытующего их страдания.
Но в минуту разлуки с жизнию, они узнают и тайну смерти: она является им уже не страшилищем, губителем настоящего и будущего, а ясным воспоминанием минувшего, которое с ними вместе вылетает из праха, вечный товарищ новой жизни.
«Вот что, мой брат, погрузило меня в унылое размышление, столь изумившее тебя посреди окружающего нас блаженства. Несколько мгновений я прожил иною жизнию. Минутный обитатель праха, я испытал все, что там называется жизнию: понял в страдании сладость надежды, спокойствие веры, веселие любви, понял знаменование смерти… и насладился тем, чего нет в безмятежном нашем величии.
И теперь какое новое зрелище предо мною! Итак, все яркие капли сего лучезарного океана суть бездны миров оживленных! Итак, сии трепещущие в каждой капле пылинки суть храмы Вседержителя, равно великолепные с нашим небом! Итак, каждая пылинка кипит живыми созданиями, которые все наши братья!»
Он умолкнул… он поднял глаза… перед ним явилось опять все мироздание, необъятный океан света, коего волны быстро летели и гармоническим громом своим славили Вседержителя.
Письмо к С. Л. Пушкину
<15 Февраля 1837 г.>
Я не имел духу писать к тебе, мой бедный Сергей Львович. Что я мог тебе сказать, угнетенный нашим общим несчастием, которое упало на нас, как обвал, и всех раздавило? Нашего Пушкина нет! Это, к несчастию, верно; но все еще кажется невероятным. Мысль, что его нет, еще не может войти в порядок обыкновенных, ясных ежедневных мыслей. Еще по привычке продолжаешь искать его, еще так естественно ожидать с ним встречи в некоторые условные часы; еще посреди наших разговоров как будто отзывается его голос, как будто раздается его живой, веселый смех, и там, где он бывал ежедневно, ничто не переменилось, нет и признаков бедственной утраты, все в обыкновенном порядке, все на своем месте; а он пропал, и навсегда – непостижимо. В одну минуту погибла сильная, крепкая жизнь, полная гения, светлая надеждами. Не говорю о тебе, бедный дряхлый отец; не говорю об нас, горюющих друзьях его. Россия лишилась своего любимого национального поэта. Он пропал для нее в ту минуту, когда его созревание совершалось; пропал, достигнув до той поворотной черты, на которой душа наша, прощаясь с кипучею, буйною, часто беспорядочною силою молодости, тревожимой гением, предается более спокойной, более образовательной силе здравого мужества, столько же свежей, как и первая, может быть, не столь порывистой, но более творческой. У кого из русских с его смертию не оторвалось что-то родное от сердца?
И между всеми русскими особенную потерю сделал в нем сам государь. При начале своего царствования он его себе присвоил; он отворил руки ему в то время, когда он был раздражен несчастием, им самим на себя навлеченным; он следил за ним до последнего его часа; бывали минуты, в которые, как буйный, еще не остепенившийся ребенок, он навлекал на себя неудовольствие своего хранителя, но во всех изъявлениях неудовольствия со стороны государя было что-то нежное, отеческое. После каждого подобного случая связь между ими усиливалась: в одном – чувством испытанного им наслаждения простить, в другом – живым движением благодарности, которая более и более проникала душу Пушкина и наконец слилась в ней с поэзиею. Государь потерял в нем свое создание, своего поэта, который принадлежал бы к славе его царствования, как Державин – славе Екатерины, а Карамзин – славе Александра. И государь до последней минуты Пушкина остался верен своему благотворению. Он отозвался умирающему на последний земной крик его; и как отозвался? Какое русское сердце не затрепетало благодарностию на этот голос царский? В этом голосе выражалось не одно личное, трогательное чувство, но вместе и любовь к народной славе и высокий приговор нравственный, достойный царя, представителя и славы и нравственности народной.
Первые минуты ужасного горя для тебя прошли; теперь ты можешь меня слушать и плакать. Я опишу тебе все, что было в последние минуты твоего сына, что я видел сам, что мне рассказали другие очевидцы.
Опишу просто все, что со мною было. В середу 27-го числа генваря в 10-ть часов вечера приехал я к князю Вяземскому. Вхожу в переднюю. Мне говорят, что князь и княгиня у Пушкиных. Это показалось мне странным. Почему меня не позвали? Сходя с лестницы, я зашел к Валуеву. Он встретил меня словами: «Получили ли вы записку княгини? К вам давно послали. Поезжайте к Пушкину: он умирает; он смертельно ранен». Оглушенный этим известием, я побежал с лестницы, велел везти себя прямо к Пушкину, но, проезжая мимо Михайловского дворца и зная, что граф Вьельгорский находится у великой княгини (у которой тогда был концерт), велел его вызвать и сказал ему о случившемся, дабы он мог немедленно по окончании вечера вслед за мною же приехать. Вхожу в переднюю (из которой дверь была прямо в кабинет твоего умирающего сына), нахожу в нем докторов Арендта и Спасского, князя Вяземского, князя Мещерского, Валуева. На вопрос мой: «Каков он?» Арендт, который с самого начала не имел никакой надежды, отвечал мне: «Очень плох, он умрет непременно».
Вот что рассказали мне о случившемся.
Дуэль была решена накануне (во вторник 26-го генваря); утром 27-го числа Пушкин, еще не имея секунданта, вышел рано со двора. Встретясь на улице с своим лицейским товарищем полковником Данзасом, он посадил его с собою в сани и, не рассказывая ничего, повез к д’Аршиаку, секунданту своего противника. Там, прочитав перед Данзасом собственноручную копию с того письма, которое им было написано к министру Геккерну и которое произвело вызов от молодого Геккерна, он оставил Данзаса для условий с д’Аршиаком, а сам возвратился к себе и дожидался спокойно развязки. Его спокойствие было удивительное; он занимался своим «Современником» и за час перед тем, как ему ехать стреляться, написал письмо к Ишимовой (сочинительнице «Русской истории для детей», трудившейся для его журнала); в этом письме, довольно длинном, он говорит ей о назначенных им для перевода пиесах и входит в подробности о ее истории, на которую делает критические замечания так просто и внимательно, как будто бы ничего иного у него в эту минуту в уме не было. Это письмо есть памятник удивительной силы духа: нельзя читать его без умиления, какой-то благоговейной грусти: ясный, простосердечный слог его глубоко трогает, когда вспоминаешь при чтении, что писавший это письмо с такою беззаботностию через час уже лежал умирающий от раны. По условию Пушкин должен был встретиться в положенный час со своим секундантом, кажется, в кондитерской лавке Вольфа, дабы оттуда ехать на место; он пришел туда в <пробел> часов. Данзас уже его дожидался с санями; поехали; избранное место было в лесу, у Комендантской дачи; выехав из города, увидели впереди другие сани; это был Геккерн с своим секундантом; остановились почти в одно время и пошли в сторону от дороги; снег был по колена; по выборе места надобно было вытоптать в снегу площадку, чтобы и тот и другой удобно могли и стоять друг против друга и сходиться. Оба секунданта и Геккерн занялись этою работою; Пушкин сел на сугроб и смотрел на роковое приготовление с большим равнодушием. Наконец вытоптана была тропинка в аршин шириною и в двадцать шагов длиною; плащами означили барьеры, одна от другой в десяти шагах; каждый стал в пяти шагах позади своей. Данзас махнул шляпою; пошли, Пушкин почти дошел до своей барьеры; Геккерн за шаг от своей выстрелил; Пушкин упал лицом на плащ, и пистолет его увязнул в снегу так, что все дуло наполнилось снегом. «Je suis blessé»[5], сказал он, падая. Геккерн хотел к нему подойти, но он, очнувшись, сказал: «Ne bougez pas; je me sens encore assez fort pour tirer mon coup»[6]. Данзас подал ему другой пистолет. Он оперся на левую руку, лежа прицелился, выстрелил, и Геккерн упал, но его сбила с ног только сильная контузия; пуля пробила мясистые части правой руки, коею он закрыл себе грудь, и, будучи тем ослаблена, попала в пуговицу, которою панталоны держались на подтяжке против ляжки; эта пуговица спасла Геккерна. Пушкин, увидя его падающего, бросил вверх пистолет и закричал: «Bravo!» Между тем кровь лила из раны; было надобно поднять раненого; но на руках донести его до саней было невозможно; подвезли к нему сани, для чего надобно было разломать забор; и в санях довезли его до дороги, где дожидала его Геккернова карета, в которую он и сел с Данзасом. Лекаря на месте сражения не было. Дорогою он, по-видимому, не страдал, по крайней мере этого не было заметно; он был, напротив, даже весел, разговаривал с Данзасом и рассказывал ему анекдоты.
Домой возвратились в шесть часов. Камердинер взял его на руки и понес на лестницу. «Грустно тебе нести меня?» – опросил у него Пушкин. Бедная жена встретила его в передней и упала без чувств. Его внесли в кабинет; он сам велел подать себе чистое белье; разделся и лег на диван, находившийся в кабинете. Жена, пришедши в память, хотела войти; но он громким голосом закричал: «N’entrez pas»[7], ибо опасался показать ей рану, чувствуя сам, что она была опасною. Жена вошла уже тогда, когда он был совсем раздет. Послали за докторами. Арендта не нашли; приехал Шольц и Задлер. В это время с Пушкиным были Данзас и Плетнев. Пушкин велел всем выйти. «Плохо со мною», – сказал он, подавая руку Шольцу. Рану осмотрели, и Задлер уехал за нужными инструментами. Оставшись с Шольцем, Пушкин спросил: «Что вы думаете о моей ране; я чувствовал при выстреле сильный удар в бок, и горячо стрельнуло в поясницу. Дорогою шло много крови. Скажите откровенно, как вы находите рану?» – «Не могу вам скрыть, она опасная». – «Скажите мне, смертельная?» – «Считаю долгом не скрывать и того. Но услышим мнение Арендта и Соломона, за коими послано». – «Je vous remercie, vous avez agi en honnête homme envers moi»[8], – сказал Пушкин; замолчал; потер рукою лоб, потом прибавил: «Il faut que j’arrange ma maison[9]. Мне кажется, что идет много крови». Шольц осмотрел рану; нашлось, что крови шло немного; он наложил новый компресс. «Не желаете ли видеть кого из ваших ближних приятелей?» – спросил Шольц. «Прощайте, друзья!» – сказал Пушкин, и в это время глаза его обратились на его библиотеку. С кем он прощался в эту минуту, с живыми ли друзьями или с мертвыми, не знаю. Он немного погодя спросил: «Разве вы думаете, что я часу не проживу?» – «О нет! но я полагал, что вам будет приятно увидеть кого-нибудь из ваших. Господин Плетнев здесь». – «Да; но я желал бы Жуковского. Дайте мне воды; тошнит». Шольц тронул пульс, нашел руку довольно холодною; пульс слабый, скорый, как при внутреннем кровотечении; он вышел за питьем, и послали за мною. Меня в это время не было дома; и не знаю, как это случилось, но ко мне не приходил никто. Между тем приехали Задлер и Соломон. Шольц оставил больного, который добродушно пожал ему руку, но не сказал ни слова.
Скоро потом явился Арендт. Он с первого взгляда увидел, что не было никакой надежды. Первою заботою было остановить внутреннее кровотечение; начали прикладывать холодные со льдом примочки на живот и давать прохладительное питье; они произвели желанное действие, и кровотечение остановилось. Все это было поручено Спасскому, домовому доктору Пушкина, который явился за Арендтом и всю ночь остался при постеле страдальца. «Плохо мне», – сказал Пушкин, увидя Спасского и подавая ему руку. Спасский старался его успокоить; но Пушкин махнул рукою отрицательно. С этой минуты он как будто перестал заботиться о себе и все его мысли обратились на жену. «Не давайте излишних надежд жене, – говорил он Спасскому, – не скрывайте от нее, в чем дело; она не притворщица, вы ее хорошо знаете. Впрочем, делайте со мною что хотите, я на все согласен и на все готов».
Когда Арендт перед своим отъездом подошел к нему, он ему сказал: «Попросите государя, чтобы он меня простил; попросите за Данзаса, он мне брат, он невинен, я схватил его на улице». Арендт уехал. В это время уже собрались мы все, князь Вяземский, княгиня, граф Вьельгорский и я. Княгиня была с женою, которой состояние было невыразимо; как привидение, иногда прокрадывалась она в ту горницу, где лежал ее умирающий муж; он не мог ее видеть (он лежал на диване, лицом от окон к двери); но он боялся, чтобы она к нему подходила, ибо не хотел, чтобы она могла приметить его страдания, кои с удивительным мужеством пересиливал, и всякий раз, когда она входила или только останавливалась у дверей, он чувствовал ее присутствие. «Жена здесь, – говорил он. – Отведите ее». «Что делает жена? – спросил он однажды у Спасского. – Она, бедная, безвинно терпит! в свете ее заедят». Вообще с начала до конца своих страданий (кроме двух или трех часов первой ночи, в которые они превзошли всякую меру человеческого терпения) он был удивительно тверд. «Я был в тридцати сражениях, – говорил доктор Арендт, – я видел много умирающих, но мало видел подобного».
И особенно замечательно то, что в эти последние часы жизни он как будто сделался иной; буря, которая за несколько часов волновала его душу яростною страстию, исчезла, не оставив на нем никакого следа; ни слова, ниже воспоминания о поединке. Однажды только, когда Данзас упомянул о Геккерне, он сказал: «Не мстить за меня! Я все простил».
Но вот черта чрезвычайно трогательная. В самый день дуэля, рано поутру, получил он пригласительный билет на погребение Гречева сына. Он вспомнил об этом посреди всех страданий. «Если увидите Греча, – сказал он Спасскому, – поклонитесь ему и скажите, что я принимаю душевное участие в его потере». У него спросили: желает ли исповедаться и причаститься. Он согласился охотно, и положено было призвать священника утром.
В полночь доктор Арендт возвратился.
Покинув Пушкина, он отправился во дворец, но не застал государя, который был в театре, и сказал камердинеру, чтобы по возвращении его величества было донесено ему о случившемся. Около полуночи приезжал за Арендтом от государя фельдъегерь с повелением немедленно ехать к Пушкину, прочитать ему письмо, собственноручно государем к нему написанное, и тотчас обо всем донести. «Я не лягу, я буду ждать», – стояло в записке государя к Арендту. Письмо же приказано было возвратить. И что же стояло в этом письме? «Если бог не велит нам более увидеться, прими мое прощенье, а с ним и мой совет: кончить жизнь христиански. О жене и детях не беспокойся. Я их беру на свое попечение».
Как бы я желал выразить простыми словами то, что у меня движется в душе при перечитывании этих немногих строк. Какой трогательный конец земной связи между царем и тем, кого он когда-то отечески присвоил и кого до последней минуты не покинул: как много прекрасного, человеческого в этом порыве, в этой поспешности захватить душу Пушкина на отлете, очистить ее для будущей жизни и ободрить последним земным утешением. «Я не лягу, я буду ждать»! О чем же он думал в эти минуты, где он был своею мыслью? О, конечно, перед постелью умирающего, его добрым земным гением, его духовным отцом, его примирителем с небом и землею. В ту же минуту было исполнено угаданное желание государя. Послали за священником в ближнюю церковь. Умирающий исповедался и причастился с глубоким чувством. Когда Арендт прочитал Пушкину письмо государя, то он вместо ответа поцеловал его и долго не выпускал из рук; но Арендт не мог его оставить ему. Несколько раз Пушкин повторял: «Отдайте мне это письмо, я хочу умереть с ним. Письмо! где письмо?» Арендт успокоил его обещанием испросить на то позволение у государя. Он скоро потом уехал.
До пяти часов Пушкин страдал, но сносно. Кровотечение было остановлено холодными примочками. Но около пяти часов боль в животе сделалась нестерпимою, и сила ее одолела силу души; он начал стонать; послали за Арендтом. По приезде его нашли нужным поставить промывательное, но оно не помогло и только что усилило страдания, которые в чрезвычайной силе своей продолжались до семи часов утра.
Что было бы с бедною женою, если бы она в течение двух часов могла слышать эти крики: я уверен, что ее рассудок не вынес бы этой душевной пытки. Но вот что случилось: она в совершенном изнурении лежала в гостиной, головою к дверям, и они одни отделяли ее от постели мужа. При первом страшном крике его княгиня Вяземская, бывшая в той же горнице, бросилась к ней, опасаясь, чтобы с нею чего не сделалось. Но она лежала неподвижно (хотя за минуту говорила); тяжелый летаргический сон овладел ею; и этот сон, как будто нарочно посланный свыше, миновался в ту самую минуту, когда раздалось последнее стенание за дверями. И в эти минуты жесточайшего испытания, по словам Спасского и Арендта, во всей силе сказалась твердость души умирающего; готовый вскрикнуть, он только стонал, боясь, как он говорил, чтобы жена не слышала, чтобы ее не испугать. К семи часам боль утихла. Надобно заметить, что во все это время и до самого конца мысли его были светлы и память свежа. Еще до начала сильной боли он подозвал к себе Спасского, велел подать какую-то бумагу, по-русски написанную, и заставил ее сжечь. Потом призвал Данзаса и продиктовал ему записку о некоторых долгах своих. Это его, однако, изнурило, и после он уже не мог сделать никаких других распоряжений. Когда поутру кончились его сильные страдания, он сказал Спасскому: «Жену! позовите жену!» Этой прощальной минуты я тебе не стану описывать. Потом потребовал детей; они спали; их привели и принесли к нему полусонных. Он на каждого оборачивал глаза молча; клал ему на голову руку; крестил и потом движением руки отсылал от себя. «Кто здесь?» – спросил он Спасского и Данзаса. Назвали меня и Вяземского. «Позовите», – сказал он слабым голосом. Я подошел, взял его похолодевшую, протянутую ко мне руку, поцеловал ее: сказать ему ничего я не мог, он махнул рукою, я отошел. Так же простился он и с Вяземским. В эту минуту приехал граф Вьельгорский, и вошел к нему, и так же в последние подал ему живому руку. Было очевидно, что спешил сделать свой последний земной расчет и как будто подслушивал идущую к нему смерть. Взявши себя за пульс, он сказал Спасскому: «Смерть идет».
«Карамзина? тут ли Карамзина?» – спросил он спустя немного. Ее не было; за нею немедленно послали, и она скоро приехала. Свидание их продолжалось только минуту, но когда Катерина Андреевна отошла от постели, он ее кликнул и сказал: «Перекрестите меня!» Потом поцеловал у нее руку. В это время приехал доктор Арендт. «Жду царского слова, чтобы умереть спокойно», – сказал ему Пушкин. Это было для меня указанием, и я решился в ту же минуту ехать к государю, чтобы известить его величество о том, что слышал. Надобно знать, что, простившись с Пушкиным, я опять возвратился к его постели и сказал ему: «Может быть, я увижу государя; что мне сказать ему от тебя». – «Скажи ему, – отвечал он, – что мне жаль умереть; был бы весь его».
Сходя с крыльца, я встретился с фельдъегерем, посланным за мной от государя. «Извини, что я тебя потревожил», – сказал он мне при входе моем в кабинет. – «Государь, я сам спешил к вашему величеству в то время, когда встретился с посланным за мною». И я рассказал о том, что говорил Пушкин. «Я счел долгом сообщить эти слова немедленно вашему величеству. Полагаю, что он тревожится о участи Данзаса». – «Я не могу переменить законного порядка, – отвечал государь, – но сделаю все возможное. Скажи ему от меня, что я поздравляю его с исполнением христианского долга; о жене же и детях он беспокоиться не должен: они мои. Тебе же поручаю, если он умрет, запечатать его бумаги: ты после их сам рассмотришь».
Я возвратился к Пушкину с утешительным ответом государя. Выслушав меня, он поднял руки к небу с каким-то судорожным движением. «Вот как я утешен! – сказал он. – Скажи государю, что я желаю ему долгого, долгого царствования, что я желаю ему счастия в его сыне, что я желаю ему счастия в его России». Эти слова говорил слабо, отрывисто, но явственно. Между тем данный ему прием опиума несколько его успокоил. К животу вместо холодных примочек начали прикладывать мягчительные; это было приятно страждущему. И он начал послушно исполнять предписания докторов, которые прежде отвергал упрямо, будучи испуган своими муками и ожидая смерти для их прекращения. Он сделался послушным, как ребенок, сам накладывал компрессы на живот и помогал тем, кои около него суетились. Одним словом, он сделался гораздо спокойнее. В этом состоянии нашел его доктор Даль, пришедший к нему в два часа. «Плохо, брат», – сказал Пушкин, улыбаясь Далю. В это время он, однако, вообще был спокойнее; руки его были теплее, пульс явственнее. Даль, имевший сначала более надежды, нежели другие, начал его ободрять. «Мы все надеемся, – сказал он, – не отчаивайся и ты». – «Нет! – отвечал он, – мне здесь не житье; я умру, да, видно, так и надо». В это время пульс его был полнее и тверже. Начал показываться небольшой общий жар. Поставили пиявки. Пульс стал ровнее, реже и гораздо мягче. «Я ухватился, – говорит Даль, – как утопленник за соломинку, робким голосом провозгласил надежду и обманул было и себя и других». Пушкин, заметив, что Даль был пободрее, взял его за руку и спросил: «Никого тут нет?» – «Никого». – «Даль, скажи мне правду, скоро ли я умру?» – «Мы за тебя надеемся, Пушкин, право надеемся». – «Ну, спасибо!» – отвечал он. Но, по-видимому, только однажды и обольстился он надеждою, ни прежде, ни после этой минуты он ей не верил.
Почти всю ночь (на 29-е число; эту ночь всю Даль просидел у его постели, а я, Вяземский и Вьельгорский в ближней горнице) он продержал Даля за руку; часто брал по ложечке или по крупинке льда в рот и всегда все делал сам: брал стакан с ближней полки, тер себе виски льдом, сам накладывал на живот припарки, сам их снимал и проч. Он мучился менее от боли, нежели от чрезмерной тоски: «Ах! какая тоска! – иногда восклицал он, закидывая руки на голову. – Сердце изнывает!» Тогда просил он, чтобы подняли его, или поворотили на бок, или поправили ему подушку, и, не дав кончить этого, останавливал обыкновенно словами: «Ну! так, так – хорошо: вот и прекрасно, и довольно; теперь очень хорошо». Или: «Постой – не надо – потяни меня только за руку – ну вот и хорошо, и прекрасно». (Все это его точное выражение.) «Вообще, – говорит Даль, – в обращении со мною он был повадлив и послушен, как ребенок, и делал все, что я хотел».
Однажды он спросил у Даля: «Кто у жены моей?» Даль отвечал: «Много добрых людей принимают в тебе участие; зало и передняя полны с утра и до ночи». – «Ну, спасибо, – отвечал он, – однако же поди скажи жене, что все, слава богу, легко; а то ей там, пожалуй, наговорят». Даль его не обманул. С утра 28-го числа, в которое разнеслась по городу весть, что Пушкин умирает, передняя была полна приходящих. Одни осведомлялись о нем через посланных спрашивать об нем, другие – и люди всех состояний, знакомые и незнакомые – приходили сами. Трогательное чувство национальной, общей скорби выражалось в этом движении, произвольном, ничем не приготовленном. Число приходящих сделалось наконец так велико, что дверь прихожей (которая была подле кабинета, где лежал умирающий) беспрестанно отворялась и затворялась; это беспокоило страждущего; мы придумали запереть дверь из прихожей в сени, задвинули ее залавком и отворили другую, узенькую, прямо с лестницы в буфет, а гостиную от столовой отгородить ширмами (это распоряжение поймешь из приложенного плана). С этой минуты буфет был набит народом; в столовую входили только знакомые, на лицах выражалось простодушное участие, очень многие плакали.
Государь император получал известия от доктора Арендта (который раз по шести в день и по нескольку раз ночью приезжал навестить больного); государыня великая княгиня, очень любившая Пушкина, написала ко мне несколько записок, на которые я отдавал подробный отчет ее высочеству согласно с ходом болезни. Такое участие трогательно, но оно естественно; естественно и в государе, которому дорога народная слава, какого рода она бы ни была (а в этом отличительная черта нынешнего государя; он любит все русское; он ставит новые памятники и бережет старые); естественно и в нации, которая в этом случае не только заодно с своим государем, но этою общею любовью к отечественной славе укореняется между ими нравственная связь; государю естественно гордиться своим народом, как скоро этот народ понимает его высокое чувство и вместе с ним любит то, что славно отличает его от других народов или ставит с ним наряду; народу естественно быть благодарным своему государю, в котором он видит представителя своей чести.
Одним словом сии изъявления общего участия наших добрых русских меня глубоко трогали, но не удивляли. Участие иноземцев было для меня усладительною нечаятельностью. Мы теряли свое; мудрено ли, что мы горевали? Но их что так трогало? Что думал этот почтенный Барант, стоя долго в унынии посреди прихожей, где около его шептали с печальными лицами о том, что делалось за дверями. Отгадать нетрудно. Гений есть общее добро; в поклонении гению все народы родня! и когда он безвременно покидает землю, все провожают его с одинаковою братскою скорбию. Пушкин по своему гению был собственностию не одной России, но и целой Европы; потому-то и посол французский (сам знаменитый писатель) приходил к двери его с печалью собственною, и о нашем Пушкине пожалел как будто о своем. Потому же Люцероде, саксонский посланник, сказал собравшимся у него гостям в понедельник ввечеру: «Нынче у меня танцевать не будут, нынче похороны Пушкина».
Возвращаюсь к своему описанию. Послав Даля ободрить жену надеждою, Пушкин сам не имел никакой. Однажды спросил он: «Который час?» И на ответ Даля продолжал прерывающимся голосом: «Долго ли… мне… так мучиться?.. Пожалуйста, поскорей!..» Это повторил он несколько раз: «Скоро ли конец?..» И всегда прибавлял «Пожалуйста, поскорей!» Вообще (после мук первой ночи, продолжавшихся два часа) он был удивительно терпелив. Когда тоска и боль его одолевали, он делал движения руками или отрывисто кряхтел, но так, что его почти не могли слышать. «Терпеть надо, друг, делать нечего, – сказал ему Даль, – но не стыдись боли своей, стонай, тебе будет легче». – «Нет, – он отвечал перерывчиво, – нет… не надо… стонать… жена… услышит… Смешно же… чтоб этот… вздор… меня… пересилил… не хочу».
Я покинул его в 5 часов и через два часа возвратился. Видев, что ночь была довольно спокойна, я пошел к себе почти с надеждою, но, возвращаясь, нашел иное. Арендт сказал мне решительно, что все кончено и что ему не пережить дня. Действительно, пульс ослабел и начал упадать приметно; руки начали стыть. Он лежал с закрытыми глазами; иногда только подымал руки, чтобы взять льду и потереть им лоб.
Ударило два часа пополудни, и в Пушкине осталось жизни на три четверти часа. Он открыл глаза и попросил моченой морошки. Когда ее принесли, то он сказал внятно: «Позовите жену, пускай она меня покормит». Она пришла, опустилась на колена у изголовья, поднесла ему ложечку-другую морошки, потом прижалась лицом к лицу его; Пушкин погладил ее по голове и сказал: «Ну, ну, ничего; слава богу; все хорошо! поди». Спокойное выражение лица его и твердость голоса обманули бедную жену; она вышла как просиявшая от радости лицом. «Вот увидите, – сказала она доктору Спасскому, – он будет жив, он не умрет».
А в эту минуту уже начался последний процесс жизни. Я стоял вместе с графом Вьельгорским у постели его, в головах; сбоку стоял Тургенев. Даль шепнул мне: «Отходит». Но мысли его были светлы. Изредка только полудремотное забытье их отуманивало. Раз он подал руку Далю и, пожимая ее, проговорил: «Ну, подымай же меня, пойдем, да выше, выше… ну, пойдем!» Но, очнувшись, он сказал: «Мне было пригрезилось, что я с тобой лечу вверх по этим книгам и полкам; высоко… и голова закружилась». Немного погодя он опять, не раскрывая глаз, стал искать Далеву руку и, потянув ее, сказал: «Ну, пойдем же, пожалуйста, да вместе». Даль, по просьбе его, взял его под мышки и приподнял повыше; и вдруг, как будто проснувшись, он быстро раскрыл глаза, лицо его прояснилось, и он сказал: «Кончена жизнь». Даль, не расслышав, отвечал: «Да, кончено; мы тебя положили». «Жизнь кончена!» – повторил он внятно и положительно. «Тяжело дышать, давит!» – были последние слова его. В эту минуту я не сводил с него глаз и заметил, что движение груди, доселе тихое, сделалось прерывистым. Оно скоро прекратилось. Я смотрел внимательно, ждал последнего вздоха; но я его не приметил. Тишина, его объявшая, казалась мне успокоением. Все над ним молчали. Минуты через две я спросил: «Что он?» – «Кончилось», – отвечал мне Даль. Так тихо, так таинственно удалилась душа его. Мы долго стояли над ним молча, не шевелясь, не смея нарушить великого таинства смерти, которое совершилось перед нами во всей умилительной святыне своей.
Когда все ушли, я сел перед ним и долго один смотрел ему в лицо. Никогда на этом лице я не видал ничего подобного тому, что было на нем в эту первую минуту смерти. Голова его несколько наклонилась; руки, в которых было за несколько минут какое-то судорожное движение, были спокойно протянуты, как будто упавшие для отдыха после тяжелого труда. Но что выражалось на его лице, я сказать словами не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо! Это было не сон и не покой! Это не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу; это не было также и выражение поэтическое! нет! какая-то глубокая, удивительная мысль на нем развивалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубокое, удовольствованное знание. Всматриваясь в него, мне все хотелось у него спросить: «Что видишь, друг?» И что бы он отвечал мне, если бы мог на минуту воскреснуть? Вот минуты в жизни нашей, которые вполне достойны названия великих. В эту минуту, можно сказать, я видел самое смерть, божественно тайную, смерть без покрывала. Какую печать наложила она на лицо его и как удивительно высказала на нем и свою и его тайну. Я уверяю тебя, что никогда на лице его не видал я выражения такой глубокой, величественной, торжественной мысли. Она, конечно, проскакивала в нем и прежде. Но в этой чистоте обнаружилась только тогда, когда все земное отделилось от него с прикосновением смерти. Таков был конец нашего Пушкина.
Опишу в немногих словах то, что было после. К счастию, я вспомнил вовремя, что надобно с него снять маску. Это было исполнено немедленно; черты его еще не успели измениться. Конечно, того первого выражения, которое дала им смерть, в них не сохранилось; но все мы имеем отпечаток привлекательный; это не смерть, а сон. Спустя 3/4 часа после кончины (во все это время я не отходил от мертвого, мне хотелось вглядеться в прекрасное лицо его) тело вынесли в ближнюю горницу; а я, исполняя повеление государя императора, запечатал кабинет своею печатью. Не буду рассказывать того, что сделалось с печальною женою: при ней находились неотлучно княгиня Вяземская, Е. И. Загряжская, граф и графиня Строгановы. Граф взял на себя все распоряжения похорон. Побыв еще несколько времени в доме, я поехал к Вьельгорскому обедать; у него собрались и все другие, видевшие последнюю минуту Пушкина; и он сам был приглашен за гробом к этому обеду: это был день моего рождения. Я счел обязанностью донести государю императору о том, как умер Пушкин; он выслушал меня наедине в своем кабинете: этого прекрасного часа моей жизни я никогда не забуду.
На другой день мы, друзья, положили Пушкина своими руками в гроб; на следующий день, к вечеру, перенесли его в Конюшенную церковь. И в эти оба дни та горница, где он лежал в гробе, была беспрестанно полна народом. Конечно, более десяти тысяч человек приходило взглянуть на него: многие плакали; иные долго останавливались и как будто хотели всмотреться в лицо его; было что-то разительное в его неподвижности посреди этого движения и что-то умилительно таинственное в той молитве, которая так тихо, так однообразно слышалась посреди этого шума.
И особенно глубоко трогало мне душу то, что государь как будто соприсутствовал посреди своих русских, которые так просто и смиренно и с ним заодно выражали скорбь свою о утрате славного соотечественника. Всем было известно, как государь утешил последние минуты Пушкина, какое он принял участие в его христианском покаянии, что он сделал для его сирот, как почтил своего поэта и что в то же время (как судия, как верховный блюститель нравственности) произнес в осуждение бедственному делу, которое так внезапно лишило нас Пушкина. Редкий из посетителей, помолясь перед гробом, не помолился в то же время за государя, и можно сказать, что это изъявление национальной печали о поэте было самым трогательным прославлением его великодушного покровителя.
Отпевание происходило 1 февраля. Весьма многие из наших знакомых людей и все иностранные министры были в церкви. Мы на руках отнесли гроб в подвал, где надлежало ему остаться до вывоза из города. 3 февраля в 10 часов вечера собрались мы в последний раз к тому, что еще для нас оставалось от Пушкина; отпели последнюю панихиду; ящик с гробом поставили на сани; сани тронулись; при свете месяца несколько времени я следовал за ними; скоро они поворотили за угол дома; и все, что было земной Пушкин, навсегда пропало из глаз моих.
Пожар Зимнего дворца
17 декабря 1837 года
Жители Петербурга с печалию встретили 1838 год. Не пришли они, по старому обычаю, в Зимний дворец, где доныне более двадцати тысяч гостей собирались на семейный праздник царя своего, дабы поздравить его с наступающим новым годом. Зимний дворец, величественное жилище императоров русских, великолепнейшее и почти самое древнее здание северной столицы, не существует. Смотря на сии обгорелые стены, в коих за несколько дней блистало такое великолепие, кипела такая жизнь и кои теперь так пусты и мрачны, ощущаешь в душе невольное благоговение; не знаешь, чему дивиться, величию ли того, что погибло и что в самых развалинах своих является еще столь твердым; могуществу ли силы, которая так легко и так быстро уничтожила то, что казалось вечным.
Так, в зрелище сих развалин есть что-то невыразимое; как будто глазами видишь судьбу земную во всех ее переменах – из счастия в бедствие, из блеска во мрак, из славы в упадок. Какой-то чудный, всемирный образ стоит перед тобою и говорит тебе то, чего не выразит словом язык человеческий.
Зимний дворец, как здание, как царское жилище, может быть, не имел подобного в целой Европе. Своею огромностию он соответствовал той обширной империи, которой силам служил средоточием. Суровым величием, своей архитектурою, изображал он могущественный народ, столь недавно вступивший в среду образованных наций, но еще сохранивший свой первобытный, некогда дикий образ; а внутренним своим великолепием напоминал о той неисчерпаемой жизни, которая кипит во внутренности России. Иноземец, посещавший столицу Севера, останавливался в изумлении перед его громадою. Быть может, взыскательный вкус, рассматривая его по частям, мог оскорбиться и некоторою нестройностию их состава, и пестротою обветшалых украшений, и мелкостью бесчисленных колонн, и множеством колоссальных статуй, стоявших на этой массе как лес на скале огромной; но целое здание представляло какую-то разительную, гигантскую стройность: при виде Зимнего дворца всегда вспоминалась поэтическая мысль того зодчего, который из горы Афоса хотел вытесать статую Александра.
Но если Зимний дворец изумлял иноземца как чудный памятник искусства, то для нас русских имел он совсем иное значение. Зимний дворец был для нас представителем всего отечественного, русского, нашего. Для всех нас вместе он был то же, что для каждого из нас в особенности дом отеческий, где мы были молоды, откуда пустились в жизнь, куда из всех углов земли, из всех тревог житейских переносились душою, как будто в приют покоя. Кто из нас с тех пор, как начал себя помнить, не думал часто и с одинаким, всем нам общим чувством, о том, что происходило в этом царском жилище, и хотя каждый имел свои особенные заботы, с другими не разделяемые, но эти общие заботы о царском быте, в том месте, с которым мы все, и близкие и далекие, из детства так свыклись, было для всех нас какою-то родственною связию, и теперь, при мысли, что Зимний дворец наш не существует, пробуждается в душе что-то похожее на сиротство, и кажется, как будто нас что-то разрознило.
В отношении историческом Зимний дворец был то же для новой нашей истории, что Кремль для нашей истории древней. Кремль говорит о живых, младенческих и юношеских летах русского царства: смотря на стены его и башни, на Грановитую палату, на святые соборы, и слушая чудный голос колоколов, во все времена одинаково с нами слышанный и отцами и дедами, разгорячаешься воображением и чувствуешь себя так же расстроенным, как при мысли о собственных поэтических летах молодости. Здесь вся поэзия нашей истории. Но вид Зимнего дворца, который своею громадою (где великанское времен минувших так чудно сливалось с строгою правильностию настоящего) так могущественно, так одиноко возвышался посреди всех окружавших его зданий, говорил менее воображению нежели мысли. Здесь представлялась уже возмужавшая Россия, Россия сплоченная веками в твердую, грубую массу, такою перешедшая в руки Петра, им присвоенная Европе и со времен его до наших, под рукою своих императоров, завоеваниями, давшими ей все, что ей нужно, достигнувшая крайних пределов своего материального могущества. Здесь вся новейшая Россия в блистательнейшие дни европейской ее жизни.
Здесь самодержавие, перешедшее от царей к императорам, слившись с законностию и уважением к человечеству, преобразовалось из древнего безотчетного самовластия во власть благотворную, животворную, образовательную, на твердой неприкосновенности которой стоит бытие России, и внешняя сила ее и внутреннее ее благоденствие. Отсюда истекли все те законы и те политические изменения, кои в последнее восьмидесятилетие возвеличили, образовали, утвердили Россию и приготовили для нее великое будущее.
Здесь жила Екатерина, первая вступившая в стены дворца, воздвигнутые Елисаветою, но при ней еще не населенные. Имя Екатерины и теперь глубоко отзывается в каждом русском сердце. Хотя уже почти все соучастники ее царствования сошли со сцены, но предание о ней живо: оно перешло к нам из первых рук, во всей своей свежести, ибо каждый, чья жизнь началась в ее царствование, кто ее видел, еще более тот, кто имел счастие к ней приближаться, и теперь говорит об ней с тем пламенным вдохновением любви, с которым некогда говорила о ней вся Россия. Здесь произошли важнейшие явления царственной жизни Екатерины, которая по искусству царствования стоит на первой степени между всеми государями славными в истории: здесь начертала она свой Наказ, и поныне служащий основанием нашего гражданского порядка; отсюда устроила она свою обширную империю, отсюда посылала своих полководцев на север, запад и юг за победою, завоеваниями или славою. Здесь на каждом шагу могли мы следовать за государственною и частною ее жизнию; мы знали, где был ее кабинет, в котором уединенные часы свои посвящала она глубоким размышлениям и всеобъемлющим трудам царицы, мы знали, где являлась она во всем блеске самодержавной владычицы перед собранием представителей империи, между которыми блистали Потемкины, Румянцевы, Суворовы, Вяземские, Панины и Безбородко; знали, где она с царского трона принимала послов Европы и Востока, где совершались ее пышные праздники, где были ее веселые вечеринки, где она слушала вдохновенные песни своего Державина, где наконец отборный круг ее общества, из просвещеннейших соотечественников и иноземцев составленный, был услаждаем ее остроумною и в самой легкости глубокомысленною беседою.
Из Зимнего дворца император Павел послал Суворова испытать возмужавшую силу России против возрастающего могущества Франции и начать за горами Альпийскими то, что впоследствии довершено под стенами Парижа.
Зимний дворец был свидетелем и светлых и темных времен Александра I. Здесь, вдохновенный Промыслом, уже предавшим во власть его жребий Европы, решил он судьбу своей империи великим русским словом: не положу оружия, пока хотя единый враг останется на земле моей, и отдал Москву за Россию. Сюда возвратился он, совершивши чудную всемирную войну, благословенный свыше, увенчанный такою славою, какая ни одному из предшественников его не доставалась, и в этой славе смиренный перед избравшим его Богом. Здесь видели мы его и в страшную минуту испытания, когда столица его, обхваченная наводнением, трепетала и гибла. В эту роковую минуту явился он в той красоте своей, по которой принадлежал он к лучшим из всех украшавших землю созданий. Из окон дворца смотрел он на разрушение, производимое волнами, и горько плакал, порываясь спасать погибающих и чувствуя всю ничтожность своей власти перед бездушным могуществом стихии. И всем нам памятно, с какою заботливостию, с каким простодушным, родственным участием являлся он повсюду, где только побывало несчастие, особенно на развалинах хижин, дабы загладить следы разорения, возвратить утраченное ими, утешить горе о невозвратном. И в народе, одаренном памятию сердца, живо предание о сих прекрасных днях Александра, быть может, лучших в жизни его не по блестящим делам царя, а по тайным человеческим чувствам, и если история, провозглашающая только славное мира сего, скажет о них не громко, то – есть другое, высшее судилище, пред которым и тайные страдания души также имеют свое великолепие и свою знаменитость.
В Зимнем дворце проводила и кончила жизнь свою современница и соучастница всех царствований, коих событиям он был свидетель: здесь жила государыня Мария Феодоровна, супругою наследника империи, императрицею, матерью двух императоров. Сначала вся ее деятельность сосредоточивалась в тесном домашнем круге: вместе с прекрасными сыновьями и дочерями своими, сама (и до поздних лет) величественно прекрасная, она сначала была, так сказать, одним только отблеском великой Северной Царицы, которая приводила в неописанный восторг и русского и чужеземца, когда, окруженная очарованием исторической славы своей (придававшая лицу ее характер чего-то не земного), являлась она перед ними в сопутствии внуков и внучек, прелестных и красотою и молодостию и тою надеждою, которая в лице их так сладостно говорила сердцу. И в этом же дворце, когда не стало Екатерины Великой, увидели мы императрицу Марию Феодоровну матерью другого семейства, – целой России. Приготовленная к исполнению сих всеобъемлющих обязанностей строгим исполнением должностей домашних, она предалась им с беспримерным самоотвержением, и должность стала для нее религиею. С одной стороны, принявши под свой покров сиротство, нищету, вдовство и болезнь, она сделалась благотворительницею настоящею; с другой, приняв на себя заботы о женском воспитании в России, она явилась Провидением домашней жизни и нравов семейных русского народа и положила прочное основание будущему его благоденствию, коего источник есть нравственность жен и просвещенная деятельность матерей семейства. И сколько раз она сама, счастливая и достойная счастия мать, в великолепной дворцовой церкви присутствовала на радостных праздниках семейных, то подносила своих милых младенцев к св. причастию, то благословляла браки сыновей и дочерей своих, то предстояла св. купели, держа на руках своих внука или внучку. Наконец, в том же Зимнем дворце, где ни один из ее современников не провел столько лет, как она, прекратилась и чистая жизнь ее. И памятна еще нам та ночь, в которую императрица Мария Феодоровна покинула землю: кто видел ее через несколько минут после кончины, тот был поражен и глубоко растроган выражением ее лица, удивительно просветлевшего, как будто бы на нем величие земное вдруг перешло в величие небесное.
Из дверей Зимнего дворца император Николай Павлович вышел на площадь, кипящую народом, в первую и самую решительную минуту своего царствования, и эта минута как долгие годы познакомила Россию с новым ее императором и Европу с достойным преемником Александра.
Нам памятно, какое зрелище в день сей представило собрание чинов империи, соединившихся в залах дворцовых для молитвы за воцаряющегося государя, памятны и мертвая тишина, тогда оцепеневшая сие блестящее многолюдство, и мрачность лиц, столь разительная при блеске одежд торжественных, и шепот тревожных вестей, и тяжкая безызвестность о государе, который с утра до приближения ночи простоял в виду бунтовщиков на ружейный выстрел от их фронта, и общее движение всех, когда узнали, что государь возвратился, что бунт уничтожен, и, наконец, всего памятнее та минута, в которую он к нам вышел, рука об руку с императрицею, – он с каким-то новым никогда дотоле невиданным на лице его напечатлением, она с глубокою преданностию в волю Промысла, с смиренною возвышенностию над судьбою и с удивительным выражением всего, что в этот день перешло через ее душу, и между ними наследник, тогда еще младенец, ясный и беззаботный, как надежда.
И в этом же дворце, где таким великим событием ознаменовалось воцарение Николая, прошли и первые двенадцать лет его царствования, столь богатого тяжкими испытаниями для государя, но столь обильного делами благотворными для народа. Здесь совершилось замышленное Петром, приготовленное Екатериною и тщетно предпринятое Александром: воздвигнуто стройное, всем доступное здание русских законов и тем положено начало законности, без коей нет в государстве верного благоденствия. Наконец, в течение последних двенадцати лет, под кровом Зимнего дворца мы с умилением видели то, что редко встречается и в смиренном жилище частного человека, счастливую домашнюю жизнь, величественный пример всего нравственного для целой империи. Нежнейшее согласие супружеское, основанное на взаимном уважении друг к другу, заботливость отца и матери о детях, не скучающая никакими подробностями, их ребяческая ласковость с теми, кои еще во младенчестве, их попечительная заботливость о тех, кои достигли отроческих лет и коих воспитание пред глазами родителей совершается, их доверчивое товарищество с теми, кои уже вошли в возраст; с другой стороны – нежная к ним привязанность детей, которым нигде и ни с кем так не бывает весело, так не бывает свободно, как с добрым отцом и милою матерью и самым царским величием, только усиливающим в детях сердечное благоговение – вот то прекрасное, чего были свидетелями эти стены, столь прежде пышные, столь ныне печальные. Как ни горестно видеть в развалинах те величественные чертоги, которые так блистали во дни торжественные, но они скоро воздвигнутся снова и, может быть, великолепнее прежних; но то, что было освящено воспоминанием лучшего и драгоценнейшего в жизни, – убежища многих лет, из одного царского колена перешедшие к другому, свидетели детских игр, первых уроков, семейных праздников, они исчезли невозвратно и никакому зодчему не построить их по-прежнему. Был в Зимнем дворце ряд горниц, через которые ежедневно проходил государь Николай Павлович, начиная царственный день свой: в одних колыбели окружены были детскими игрушками; в других учебные предметы говорили о занятиях более строгих соответственно разным возрастам; в других являлось уже все, что принадлежало расцветшему юношеству, готовящемуся к деятельности житейской. – И проходя чрез них, счастливый отец встречаем был голосами любви, столь пленительными и в радостном ребяческом крике и в сердечном привете юношества. Из всех сих горниц особенно драгоценны по воспоминаниям, с ними соединявшимся, те, в коих провел свою молодость император Александр, которые при нем перешли к его младшим братьям и наконец при нынешнем государе достались цесаревичу. Из этого приюта первых лет, ознаменованных таким беззаботным счастием, наследник русской империи пустился в путь, указанный ему его государем. Ни одному из предшественников императора Николая Павловича не даровал Бог счастия показать такого милого сына такой великой империи. Мысль высокая и вместе трогательная, которую с глубокою благодарностию к царю своему вполне поняла Россия. Она увидела в этой поспешности государя познакомить молодого наследника с его будущею империею всю нежную заботливость и отца о сыне и государя о царстве. Она поняла, почему именно теперь, а не в другое время, и почти всю огромную Россию в немногие месяцы захотел показать государь своему сыну. Если царю необходимо быть любимым от своего народа, то ему еще необходимее любить народ свой. Но сие пламя любви не всякой душе дается, и счастлива та, в которой пробудится она рано. Такова была, очевидно, мысль государя: наследник во всем цвете молодости, с душою, еще не тронутою никакою заботою житейскою, никаким болезненным опытом, мешающим вере в человечество, был отдан им, так сказать, с рук на руки России, и она приняла его на руки с неописанною любовию. Ни один из русских государей не давал такого праздника своему царству; и все, от Балтийского моря до Черного, от пределов Польши до глубины Сибири, во всех областях, орошаемых великими нашими реками, Волгою, Камою, Иртышом, Днепром и Доном, оживо-творилось одинаким чувством, и это чувство не было ни любопытство, пробуждаемое в толпе явлением необычайного, ни робкое раболепство, ни своекорыстная надежда: это чувство было святая любовь русского народа, глубокая религия, перешедшая к нему по преданию от предков, религия, врезанная ему в душу его судьбою, воспитанная в нем и светлыми и темными временами его жизни, нечто такое, чего никакая власть произвести не может, что есть драгоценнейшее сокровище русского самодержца, твердейшая опора самодержавия, на чем незыблемо стоит Россия. Такое чувство встречало наследника. И он принял его на сердце свое в такую пору жизни, когда все впечатления неизгладимо в нас остаются. В зрелые годы свои он опять и не раз увидит Россию, и увидит ее с пользою иного рода; но такой союз, какой заключен между ими ныне, заключается только в свежие лета молодости, душою новою и жаждущею любить. И в зрелые годы свои он не забудет, что Россия была его первою любовию, и никогда не перестанут в памяти его отзываться те благословения, с которыми еще без всякой личной заслуги своей, а только потому, что он святыня, сын государя, он был повсюду принят добрым, умным, верным русским народом. Совершив благополучно сие путешествие, продолжавшееся более семи месяцев, наследник и государь император, обозревши со своей стороны западные и южные области от устьев Невы до подошвы Арарата, соединились со всем императорским семейством в Москве, где пробыли несколько недель, и наконец все вместе возвратились в Петербург, где ожидало их, по-видимому, сладкое отдохновение под кровлею царственного Зимнего дворца. И вдруг это могущественное здание, со всем своим великолепием, исчезло в несколько часов, как бедная хижина.
Хотя обстоятельства сего события, ужаснувшего Петербург и горестного для целой России, уже описаны другими, но мы почитаем не лишним сообщить читателям то, что было и нам рассказано очевидцами. Здесь всякая подробность драгоценна: мы даже не боимся повторить уже известное, ибо желаем составить нечто целое и полное: нам кажется, что мы исполняем священный долг перед отечеством, отдавая последнюю честь великому жилищу Екатерины и Александра, и платим сладкую дань благодарности всеобщей, скорбя о разрушении царского дома, где государь Николай Павлович был двенадцать лет так счастлив в своем семействе.
17 декабря 1837 года ознаменовалось сим бедственным происшествием. Было восемь часов вечера. Государь император с ее величеством императрицею, с их высочествами наследником, великим князем Михаилом Павловичем и великою княжною Мариею Николаевною находился в театре, когда ему донесено было, что в Зимнем дворце горит. Государь немедленно покинул театр и вместе с великими князьями отправился на место пожара. По-видимому, не представлялось большой трудности остановить его действие, но он уже начинал распространяться; уже Фельдмаршальская зала была вся в огне; зала Петра Великого загоралась и пламя начинало показываться в Белой зале.
Первою заботою государя императора была безопасность его семейства. Великие князья Константин, Николай и Михаил Николаевичи и великие княжны Ольга и Александра Николаевны находились в Зимнем дворце: им было приказано немедленно переехать в Собственный его величества дворец. В это время государыня императрица уже возвратилась из театра. Она была встречена в Большой Морской великим князем Михаилом Павловичем, посланным к ней от государя императора с извещением о случившемся. – Где дети? был первый вопрос ее величества. – Государь приказал перевезти их в Собственный дворец; он желает, чтобы и ваше величество ехали туда же. – Но перевезены ли дети? – Еще нет, но скоро. – Скажите государю, что мое место там, где мои дети, и что я до тех пор не покину дворца, пока они не будут отправлены, отвечала государыня и поехала на пожар. На лестнице она была встречена всеми детьми своими; младших несли на руках, полусонных. Государыня отпустила их, а сама прямо пошла к одной из своих фрейлин, которая жила в нижнем этаже и лежала в постели больная. Императрица при себе отправила ее из дворца и потом уже пошла (вместе с великою княжною Мариею Николаевною) в свои комнаты, от коих пожар еще был далеко. – Долго из окон, обращенных на внутренний двор, смотрела она, как на противоположной стороне свирепствовало пламя, как оно разрушило Белую и Фельдмаршальскую залы и как начало приближаться к той стороне, где жило императорское семейство. Наконец явился государь император и говорит императрице и великой княжне: «Уезжайте, через минуту огонь будет здесь». Они простились. Государь опять пошел на пожар. А государыня решилась переехать в дом министерства иностранных дел, из окон коего можно было глазами следовать за действием пламени. Но прежде нежели совсем оставить дворец, она захотела проститься с своим погибающим жилищем: зашла в свой кабинет и в детские горницы, в коих при свете пожарного зарева все еще было так спокойно, и помолившись в последний раз в малой дворцовой церкви, в коей столько времени все семейство ее собиралось на молитву, с благодарною горестию покинула те места, где на каждом шагу являлись ей милые воспоминания, где она встречена была невестою, где была приветствована императрицею, где провела мирные, первые годы супружеского и материнского счастия, о коем молится вся Россия. В доме министерства иностранных дел государыня пробыла до той минуты, в которую наследник известил ее величество, что для спасения дворца не осталось никакой надежды.
Вторым распоряжением государя императора было послать за войсками; первый баталион л.-г. Преображенского полка, как ближайший, явился прежде других, и в одну минуту знамена гвардейские и все портреты, украшавшие залу Фельдмаршальскую и галерею 1812 года, сняты и вынесены. В то же время закладены были кирпичом две двери, дабы отделить пылающую часть дворца от той, куда еще пламя не успело проникнуть; а часть собравшегося войска была отправлена на кровлю, дабы, разломав ее, успешнее противудействовать расширению пожара. Но здесь все усилия остались тщетны. Густой дым, развиваясь вихрем по всему чердаку, препятствовал видеть и дышать и не допустил никого приступить к делу. Тогда стало очевидно, что спасение дворца уже невозможно. Государь император, не желая подвергать опасности солдат, которые действовали с неимоверною отважностию и с удивительным самоотвержением, отдал повеление, чтобы все сошли с кровли и спешили спасать из внутренних комнат то, что спасти было возможно. Воля его величества была исполнена с быстротою и точностию, достойными удивления. Все, от генерала до простого солдата, принялись за дело; никто себя не жалел. Священные утвари, образа и ризы обеих церквей, императорские бриллианты, картины, драгоценные убранства дворца и все вещи, принадлежащие царской фамилии, были взяты и отнесены частию к Александровской колонне, частию в адмиралтейство.
В это время государь император был уведомлен, что в Галерной гавани загорелось несколько хижин. Он немедленно послал на спасение оных наследника. А сам, решившись пожертвовать главным зданием Зимнего дворца, которым пламя совершенно овладело, приказал исключительно обратить все усилия на защиту Эрмитажа. Немедленно крыши галерей, соединявших сие отделение дворца с главным корпусом, были разрушены, всякое сообщение между ними прервано. Таким образом пожар не достиг к Эрмитажу, хотя все пламя стремилось прямо на него по направлению сильного ветра. Здесь особенно оказалась неустрашимая спокойность пожарных и солдат; они, можно сказать, вступили в рукопашный бой с огнем и отважно закладывали окна и двери, несмотря на пламя и дым, которые с ними боролись, но их не отразили. Все они действовали под особенным надзором его высочества великого князя Михаила Павловича.
Между тем пожар, усиливаемый порывистым ветром, бежал по потолкам верхнего этажа; они разом во многих местах загорались, и падая с громом, зажигали полы и потолки среднего яруса, которые в свою очередь низвергались огромными огненными грудами на крепкие своды нижнего этажа, большею частию оставшегося целым. Зрелище, по сказанию очевидцев, было неописанное: посреди Петербурга вспыхнул вулкан. Сначала объята была пламенем та сторона дворца, которая обращена к Неве; противуположная сторона представляла темную громаду, над коею пылало и дымилось ночное небо: отсюда можно было следовать за постепенным распространением пожара; можно было видеть, как он, пробираясь по кровле, проникнул в верхний ярус; как в среднем ярусе все еще было темно (только горело несколько ночников и люди бегали со свечами по комнатам), в то время как над ним все уже пылало и разрушалось; как вдруг загорелись потолки и начали падать с громом, пламенем, искрами и вихрем дыма, и как наконец потоки огня полились отвсюду, наполнили внутренность здания и бросились в окна. Тогда вся громада дворца представляла огромный костер, с которого пламя то всходило к небу высоким столбом, под тяжкими тучами черного дыма, то волновалось как море, коего волны вскакивали огромными, зубчатыми языками, то вспыхивало снопом бесчисленных ракет, которые сыпали огненный дождь на все окрестные здания. В этом явлении было что-то невыразимое: дворец и в самом разрушении своем как будто неприкосновенно вырезывался со всеми своими окнами, колоннами и статуями неподвижною черною громадою на ярком трепетном пламени. А во внутренности его происходило что-то неестественное: какая-то адская сила там господствовала, какие-то враждебные духи, слетевшие на добычу и над ней разыгравшиеся, бешено мчались повсюду, сталкивались, разлетались, прядали с колонны на колонну, прилипали к люстрам, бегали по кровле, обвивались около статуй, выскакивали в окна и боролись с людьми, которые мелькали черными тенями, пробегая по яркому пламени. И в то время, когда сей ужасный пожар представлял такую разительную картину борьбы противуположных сил, разрушения и гибели, другая картина приводила в умиление душу своим торжественным, тихим величием. За цепью полков, окружавших дворцовую площадь, стоял народ бесчисленною толпою в мертвом молчании. Перед глазами его горело жилище царя: общая всем святыня погибала; объятая благоговейною скорбию, толпа стояла неподвижно; слышны были одни глубокие вздохи, и все молились за государя.
Пожар, начавшийся в 8-м часу вечера, продолжался во всей своей силе до восхождения солнца, и только в эту минуту государь император изволил возвратиться к своему семейству.
Так разрушился наш Зимний дворец, великолепный представитель последних славных времен России. Все, что может быть снова сооружено, погибло с главным зданием; но сокровища Эрмитажа, которые в течение стольких лет были собираемы государями русскими и коих утрату ничто бы не заменило, все без изъятия спасены. Утешением в сем печальном событии может послужить то, что никто из многочисленных жителей дворца не погиб и что весьма многие из них спасли свое достояние.
Но сие величественное царское жилище, ныне представляющее одни обгорелые развалины, скоро возобновится в новом блеске. Опять в великий день Светлого праздника будем, по старому обычаю, собираться на поздравление царя в той великолепной дворцовой церкви. Опять будем видеть русского царя, встречающего новый год в светлых чертогах своих вместе с своим народом. Опять, перед спасенным изображением Александра, будем воспоминать времена великой русской славы, петь многолетие Царю царствующему, возглашать вечную память Благословенному и славить его войско, некогда столь храбро отстоявшее Россию. Наконец опять посреди этих возобновленных палат императорских, увидим доброго отца народа веселым семьянином, окруженного мирным домашним счастием, которое да продлит Бог для блага России.
И царь и его Россия с благоговением приняли новое испытание, ниспосланное им всемогущим Промыслом, и это испытание, с одной стороны, даровало случай царю явить пред лицом народа своего покорность Божией власти; с другой – народу с новою силою выразить любовь свою к царю, и таким образом узами скорби еще сильнее скрепился союз между державным отцом и верными детьми его.
О молитве Письмо к Н. В. Гоголю
Я обещал присылать тебе замечания на твою книгу – и остался до сих пор при одном обещании; с того времени прошло почти год. Приступая наконец к исполнению обещанного, повторяю сказанное мною тогда, что я намерен писать не критику на твою книгу, а только то, что будет мне приходить случайно в мысли по поводу твоих мыслей; иногда, само собою разумеется, придется сказать слова два pro или contra о содержании самой книги, сделать критическую придирку и проч.; но на все это нет у меня никакого плана – что напишется, как напишется, тут весь и план. Притом же слишком взыскательная критика относительно твоей книги совсем неуместна: ты напечатал отрывки из писем (которых не имел намерения печатать). Характер писем есть свобода как в ходе мыслей, так и в их выражении; кто выдает письма в печать, тот необходимо должен сохранить им этот характер свободной неприготовленности; здесь сама небрежность имеет прелесть: она есть даже достоинство. В письмах выражаются не одни мысли, но и вся личность писателя: его голос, его жесты, его физиогномия; к слогу писем особенно относится то, что говорит Бюффон вообще о слоге: «Le style c’est l’homme» («слог – человек»). В письме каждая мысль наша, легко набросанная на бумагу, есть живое новорожденное дитя; переправлять с строгою отчетливостию ее выражение для печати, значит, натягивать морщины старости на свежее лицо младенца.
Правда, когда няня выносит ребенка из детской в гостиную, она его прежде умоет и оденет, но вся одежда его должна быть детская, а не парик отца и не чепец матери. И печатая письма, надобно, конечно, и приумыть и приодеть слог, но так, чтобы младенчество не перерядилось в старость.
Кстати, о слоге и о придирчивой критике. Живучи за границею и не получая наших журналов, я не мог знать, что было в них напечатано о твоей книге – читал одну прекрасную статью князя Вяземского, в которой, не осыпая тебя приторными похвалами, но и не скрывая слабых сторон твоих, он так мужественно, так трогательно защищает и твое произведение и твой характер против нападков несправедливости. Но чтение этой статьи заставило меня заключить, что тебе крепко досталось от наших аристархов; и я, признаться, попенял самому себе за то, что в одном случае не предохранил тебя от их ударов, тем более чувствительных, что они поделом тебе достались: именно виню себя в том, что не присоветовал тебе уничтожить твое завещание и многое переправить в твоем предисловии. Когда ты мне читал и то и другое – имея тебя самого перед глазами, я был занят твоею личностью, и зная, как все мною слышанное было искренним выражением тебя самого, зная, как ты далек от всякого самохвальства, от всякого смешного самобоготворения, я находил привлекательным то, что после, когда (вместо самого автора) явилась перед мною мертвая печатная книга и воображению моему представилась наша читающая публика, сидящая чином на креслах и стульях кругом чтеца, и в арьергарде фаланга журналистов, вооруженных дреколием порицания и крючьями придирки, то многое, мне прежде показавшееся столь привлекательно-оригинальным, представилось странным и неприличным. За то и твой смиренный вызов: простить тебе твои грехи вольные и невольные и с тобою христиански примириться возбудил в твоих пишущих собратиях одну нехристианскую насмешку и весьма языческое злоязычие. Да и сам я, вспомнив о твоем предисловии, намерен пристать на минуту к твоим порицателям. Это послужит тебе доказательством, что я пишу, как перо велит: взяв его в руки, я еще не знал, какое будет содержание письма моего.
Одно место в заключении твоего предисловия меня останавливает; в нем есть или неточность выражения, или самая выраженная мысль фальшива. Ты просишь, чтобы за тебя, идущего в путь далекий, в отечестве молились, просишь молитвы как от тех, которые смиренно не веруют в силу молитв своих, так и от тех, которые не веруют вовсе в молитву и даже не считают ее нужною, – другими словами: ты просишь от них невозможного, того, что им вовсе чуждо, чего они ни иметь, ни дать не могут, чего даже от них и просить не должно потому, что в том виде, в каком бы они его дали, если бы дать могли, оно не может быть никем желаемо и не принесет желающему никакой пользы. Может ли быть молитва без веры в молитву? И для кого может быть действительна подобная молитва, если только здесь у места имя молитвы? Что же хотел ты сказать? Не понимаю. Молитва не может существовать без молящегося; она тогда только получает жизнь, когда слова, ее выражающие, выражают в то же время и душу их произносящего: тогда совершается таинство смирения перед Богом в душе человеческой, таинство для нас неисповедимое, таинство, силою которого Всемогущий, всякое добро творящий по одной своей мудрости и благости, так сказать, покоряется бедному слову человека. В чем же это таинство, в чем его сила? В вере, приводящей в движение горы; в смирении, предающем нас безъизъятно в сильную руку Бога. Такой молитвы Он Сам от нас требует; такая молитва заключается в неисчерпаемой глубине тех слов, которые Сам Он научил произносить нас, человечески дав их человеку, дабы он мог непосредственно соединиться с сердцем Бога. Но и эти живые слова, из уст Божиих нам исшедшие, не будут иметь никакой живительной силы, если не будут словами смиренно верующего сердца.
Бог требует от нас молитвы. На что Ему наша молитва? спросит умствователь. Нужно ли Его преклонять на милость, когда Он по существу своему есть милость верховная? Нужно ли и Ему Самому устанавливать между собою и человеком обряд моления с словесною формою молитвы? Нужно ли говорить человеку: ты прежде потребуй, тогда Я дам, – когда Ему все, для человека необходимое, наперед известно и когда все благие даяния сами собою из Него истекают? В ответ на сии вопросы умствователя христианин, вместо всякого объяснения, укажет молча на Евангелие, где сказано: молитесь. А что сказано в Евангелии, то есть истина, без согласия ума доказанная верою. Но и ум согласен будет с словами евангельскими, если наперед постановить, что ум не из своих заключений извлекает убеждение в бытии Божием, а напротив, все свои выводы опирает на главной, коренной, центральной идее, принятой за аксиому, что Бог существует – не метафизический Бог пантеизма, безжизненная идея, но Бог живой, тройственный, лицо самобытное, Бог, во всякое мгновение вечного своего бытия, на всяком пункте неизмеримости, весь присутственный, постоянно, непрерывно, сознательно действующий, как на каждую пылинку создания своего отдельно, так и на все свое создание в совокупности. При таком признании бытия Божия, которое есть в то же время и откровение, все для нашей ограниченности несогласимые противоречия исчезают; ум останавливается перед указанными ему границами, признает неотрицаемость истин, одна другую исключающих, и смиренно передает вере их согласование, силе его неподвластное.
Не входя в бесполезное согласование противоречащих друг другу, но в существе своем неоспоримых истин и принимая с смиренною верою слова Евангелия, мы должны сказать, что в сем требовании от нас молитвы выражается вся благость Бога живого. Тогда как там в небесах, в неизмеримости пространства, посреди этого не имеющего берегов океана, в котором каждая капля есть солнце, неисчислимым звездам указываются пути их, и на каждой звезде устраивается судьба каждого ее атома по законам, однажды данным и вечно хранимым (не механическою необходимостию, а промыслительным, любящим всемогуществом), здесь, на нашей земной пылинке, совершается великое дело спасения души человеческой; вечный Бог вступает в братство с минутным жителем земной пылинки, вселяет божественное всемогущество в скинию человеческой ничтожности, чтобы дать душе человеческой в себе отца, и покоряет свою благость силе человеческого слова, говоря ему: Молися; когда в твоей молитве будет душа твоя, тогда и Я в твоей молитве буду с твоею душою. Тебе молитва нужна как Моя к тебе любовь, а Мне твоя молитва нужна как твоя любовь ко Мне… Нужна, нужна Богу! Здесь является перед нами во всей своей наготе бедный язык человека, который те же слова, какими выражается наша ничтожность, употребляет для выражения неизглаголанности Божией.
Остановимся на этом предмете. Когда мы умствуем о существе Бога, то есть когда наш ум, ограниченный тесным кругом, одними собственными способами силится обнять необъятное и, так сказать, в атом слова втеснить создание и создателя, мы беспрестанно попадаем на истины неразрешимо противоречащие одна другой. Сия неразрешимость не принадлежит существу самой истины – она есть только наша естественная неспособность собственными силами найти разрешение. Мы можем путем ума добираться до частных, отдельных, относительных истин, можем даже обнимать одним взглядом тот исторический порядок, в котором эти истины одна за другою или одна из другой следуют; но целого, но слияния всех истин в одну общую, основную, положительную, все проникающую своим светом, наш ум обнять не может; всякий результат наших умствований есть не иное что, как последнее звено цепи – все один отрывок. Когда мы умствуем о Боге, мы, с своей точки во времени и пространстве, смотрим на вечное и неизмеримое глазами, привыкшими видеть одно преходящее и ограниченное; для выражения сего вечного и неизмеримого мы употребляем язык, которого каждое слово есть знамение временного и мелкого. Чтобы постигнуть Бога и Его свойства, надлежит стать на Его место: иначе мы будем всюду видеть одни отрывочные, одна другой противоположные, следственно одна другую исключающие истины, но в то же время будет всегда в нас тревожное, темное чувство, что истина верховная таинственно соприсутствует нашему сомнению, что она, вопреки всем явным противоречиям, неотрицаема, но что для нас она неуловима и нашему убеждению недоступна. Какое тогда прибежище останется уму, если только он в своей гордости не рассечет Гордиева узла дерзостным отрицанием? Вера в откровение. Откровение есть голос, слышимый с Божия места: оно дополняет знание, мирит противоречия и ставит нас лицом к лицу перед вечною истиною. Один раз только эта истина сама явилась на земле глазам человека; и он ее видел без покрывала и не узнал ее. Когда Спаситель стоял перед судилищем Пилата и Пилат спросил у него, употребив, как римлянин, язык Рима: Quid est veritas? Что есть истина? – Господь не ответствовал. Но в ответе Его, если бы Он восхотел дать ответ, заключались бы все буквы слов вопроса с переменою только их порядка: est vir, qui adest, – есть муж, который предстоит. Истина есть Бог, а наш ум есть этот вопрошающий Пилат, который и не подозревает, что ответ на вопрос его заключается в самом его вопросе (понеже настоящий порядок ему неизвестен) и, председая гордо на судилище, не узнает божественного откровения, ему предстоящего в образе этого Всемогущего Узника, которого скоро с самовластием беспощадным предаст поруганию и смерти.
Однажды (это было в Висбадене) я шел перед вечером по берегу узкого канала; небо задернуто было синими облаками, из-под которых с чистого горизонта сияло заходящее солнце и золотило здания, деревья и зелень; этот яркий блеск составлял прекрасную противоположность с холодною мрачностью неба. Вдруг передо мною вода канала, дотоле спокойно неподвижная и стоявшая вровень с берегами (от плотины, которою был канал перерезан), быстро и с шумным кипением перелилась через край плотины в жерло водопровода (которым она далее текла под землею). На месте перелома, перед самым темным жерлом подземного свода, сверкала на солнце яркая, движущаяся полоса, и на этой полосе, от быстрого низвержения воды, взлетали бесчисленными, разной величины пылинками сияющие капли; одни подымались высоко, другие густо кипели на самом переломе, и все они на взлете и на падении яркими звездочками отделялись от темноты подземного свода, которым поглощалась вся влажная масса; мгновенное их появление, более или менее быстрое, вдруг прекращалось, уступая другому такому же, и все исчезали вместе с волною, их породившею, во тьме подземелья. Это было для меня чудным, символическим видением. С своего места, одним взглядом я обнимал движение бесчисленных миров; эти светлые, мгновенные капли, эти атомические звезды, все конечно населенные микроскопическими жителями (ибо здесь все преисполнено жизни), совершали, каждая как самобытный мир, свой круг определенный и каждый из обитателей всех этих минутных миров также совершал свой полный переход от рождения к смерти, – все это мне представлялось разом с той высшей точки зрения, вне того тесного пространства, на котором происходило видимое мною движение; я все мог обозреть в совокупности одним взглядом (хотя подробности были недоступны слабому моему зрению). Там все (от неимоверной быстроты движения) сливалось для меня воедино: не было ни настоящего, ни прошедшего, ни будущего; я разом видел начало и конец, но видел, конечно, слепыми глазами, не постигая видимого; тогда как в то же время неприметные жители бесчисленных водяных пылинок, так быстро подымавшихся на узкой полосе света, между двумя темными глубинами, имели каждый свою полную жизнь, свое начало и конец, свои годы, свои мгновения; но то, что было им полною жизнию на их месте, то было менее нежели тенью мгновения на моем. И какая разница между моими о них понятиями, с моей точки зрения, и теми, какие они могли иметь о себе на своей. Я видел вдруг и начало и конец того, что для них было только последствие, только переход, от начала к концу. Я, так сказать, смотрел на них из вечности, они же смотрели на себя во времени. Теперь вообразим ангела, стоящего превыше мироздания, посреди бесчисленного множества созвездий – ярких брызгов, взлетающих с великого потока, озаряемого незаходимым солнцем; что́ будет перед глазами его наша земная капля? Что будут наши мгновения, наши тысячелетия? Что будет рождение, могущество и падение наших великих империй? Одним словом, что будет он видеть с своего места – не то же ли, что́ я видел с моего, когда смотрел на мелкие брызги водоема? И в то же время с своего места не будет ли он так же далеко от вечности, как мы на своем далеко и от него, и от той же неизглаголанной вечности, и от ее источника Бога, для Которого нет изменений, нет конца и начала, нет противоречий, для Которого все есть постоянство, жизнь, свет и истина? Но чистый ангел, созерцающий лицо Бога, исчезает пред ним в блаженстве смирения, а мы?..
Р. S. Еще несколько слов о том же предмете.
Без самоотвержения нет молитвы; без молитвы нет самоотвержения. Для чего мы здесь? Для того ли, чтоб предаваться разнообразным впечатлениям внешнего, принадлежать каждому вполне на минуту и потом вполне – вслед за сими быстрыми минутами, как они – исчезнуть? Если бы это было так, то можно бы было утвердительно сказать, что мы создание случая, который сам есть нечто несущественное. Нет, мы здесь для Бога. Тот, Кто, создав нас, вложил в нашу душу стремление Его постигнуть и с Ним соединиться, не мог нас ни для чего иного создать, как для Самого Себя. Так говорит здравый философствующий ум. Но он только угадывает истину. Откровение являет ее в самом факте. Мы созданы Богом для Бога, мы помещены Им в этом мире, где каждому из нас Он указал свое место и свой круг действия, для того чтобы посреди сих изменяющихся, мгновенных, нас увлекающих явлений, постоянно искать Бога, неизменно к Нему стремиться и в Нем одном пребывать мыслию, волею и действием; для того чтобы все сии вечные, но отрывочно в разные мгновения временного бытия собранные о Нем понятия, сие извлечение вечного из временного, слиявшись с душою, по существу своему с Ним однородною, ее очистили, возвысили, преобразовали и с нею на всю вечность перешли в иную высшую жизнь; одним словом: мы здесь для самоотвержения. Чтобы отвергнуться самого себя, надлежит стать пред лицом Бога и в Его присутствии постигнуть всю ничтожность и нас самих и всего, нас окружающего, и все несказанное блаженство присутствия Божия, или, лучше сказать, нашей принадлежности Богу, Который сам так благостно нам дается. Сие предстание души пред лицо Бога есть молитва, и она бывает только тогда, когда перед душою нашею нет ничего, кроме Бога, – следовательно, когда мы вполне самих себя и всего нас окружающего отверглись. Итак, самоотвержением мы приходим к молитве, а молитва, будучи высшею степенью самоотвержения, усиливает его в душе нашей и им нас совершенствует. Молитва Господня есть голос и выражение чистейшего самоотвержения; уже и потому это так, что человек получил эту молитву из уст самого Бога-Спасителя. Один только Спаситель, то есть Бог любящий, мог научить человека предаться Богу Создателю, то есть Богу Отцу, и дать Ему истинное, исключительно Ему принадлежащее имя Отца, сущего на небеси. Молясь, мы должны не просить у Бога того, что ему одному принадлежит, а отдавать Богу то, что наше. В словах: Отче наш, иже еси на небеси, заключается полное самоотвержение, какое только бывает в младенце, бессознательно привыкшем повиноваться отцу своему; есть не только покорение своей воли воле сильнейшей, любящей и любимой, но и спокойное, беззаботное незнание своей воли, дающее чистому сердцу младенца тот полный, им еще не постигнутый, но глубоко его проникающий мир, который обращает его свежую жизнь в блаженство и которым так сладостно для нас воспоминание детских лет наших. Да святится имя Твое — имя Отца, имя небесного Отца. Что значит слово: да святится? Да будет произносимо устами сыновними так, как имя Божие произносимо быть должно, с полным уничтожением всего собственного, с полным ощущением всей святости этого имени и взаимного отношения между Отцом небесным и сыном земным, отношения, которое, с одной стороны, есть благость всемогущая и любовь спасающая и правда высшая, а с другой – полное уничтожение своей воли и признание одной воли всевышней, полное, самоотверженное предание себя и всего в сию волю. Да приидет царствие Твое — да все живущее и мыслящее совокупно отвергнется себя и да каждая отдельная воля сольется со всеми другими в одно всеобщее повиновение воле верховной. Да будет воля Твоя на земли, яко на небеси — то же самое, но в отношении к каждому человеку отдельно и к земной судьбе его: для нас в этой жизни нет ничего самобытно существенного, ничего такого, что бы могло иметь для нас цену по своему положительному достоинству: все имеет значение только по отношению к Богу; все наши здешние блага, и то, что мы называем ошибочно счастьем, и то, что наша слабость именует бедствием, все есть одно знамение Бога, есть его воля в разных видах, есть явление, происходящее перед нами только для того, чтобы мы имели повод сказать самоотверженным сердцем: да будет воля Твоя. Хлеб наш насущный даждь нам днесь — дай нам в это мгновение то, что нам в это мгновение нужно; не один хлеб, утоляющий голод телесный, но и хлеб, утоляющий голод души: чистые мысли и чувства, спокойствие в присутствии беды и горя, терпение в испытании, память долга в решительную минуту выбора воли, одним словом, самоотвержение, то есть произвольное, во всякую минуту, без малейшего тревожного взгляда за границу этой минуты, в душе пребывающее предание себя в хранящую волю Бога. Не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого — то же самое, только в смысле нашей внутренней жизни: там самозабвение относительно всех событий житейских, извне на нас действующих, здесь самоотвержение относительно событий внутренних, то есть действий нашей души, свободной, следственно, подлежащей искушению, но искушению, не Богом посылаемому (понеже Бог не творит зла и не влечет ко злу), а искушению, составляющему необходимое условие нашей свободной воли, которая тогда только теряет свою естественную шаткость, когда вполне, произвольно сливается с волею Бога и в ней исчезает. Но и самая сия произвольность дается ей Богом, все дающим: Он один, молитвою призванный, может отвесть нашу душу от бездны искушения, на краю которой идет дорога нашей земной жизни, и подать ей руку, когда, упадшая в эту бездну, она призовет Его, утопая.
Нечто о привидениях
Верить или не верить привидениям? Прежде нежели отвечать на этот вопрос, надлежит определить, что такое привидение? Я видел, значит: моим открытым глазам, наяву, представился предмет, подлежащий чувству зрения; мне приснилось, значит: я видел не наяву, с закрытыми глазами, предмет, не подлежащий чувству зрения; мне привиделось, значит: я видел наяву, открытыми глазами, предмет, не подлежащий чувству зрения. Итак, привидение есть вещественное явление предмета невещественного. Если этот предмет, который нам в минуту видения кажется существенным и от нас отдельным, есть не иное что, как нечто, внутри нас самих происходящее, то он сам по себе не существует: здесь нет еще привидения. Оно бывает тогда, когда перед нами совершается явление существ духовных, нами видимых, но не подлежащих чувству зрения. Итак, верить ли привидениям? значит: верить ли действительности таких существ и их чувственному с нами сообщению? Когда мы спим, действие внешнего на нас прекращается; и, видя сон, мы видим без предмета, не употребляя на то органов зрения. Если бы сновидения были не так обыкновенны, если бы иметь их могли весьма немногие, и те весьма редко, то и сновидения казались бы нам невероятными, ибо в них есть нечто, противоречащее естественному порядку. Бывают сны наяву, которые весьма близко подходят к тому, что мы назвали привидением. Иногда еще глаза не закрылись, еще все окружающие нас предметы нам видимы, а уже сон овладел нами, и уже в сновидении, в которое мы перешли нечувствительно, совершается перед нами что-то, совсем отличное от того состояния, в котором мы были за минуту, что-то странное, всегда более или менее приводящее в ужас; и если мы проснемся, не заметив быстрого нашего перехода от бдения ко сну и наоборот, то легко можем остаться с мыслию, что с нами случилось нечто неестественное. Вот пример: покойный А. М. Дружинин (бывший, кажется, в Москве главным директором училищ) рассказал мне следующий замечательный случай:
«Я был (так говорил он) коротко знаком с доктором Берковичем. Однажды (это было зимою) он пригласил меня вместе с г-жею Перец к себе на вечер; мы провели этот вечер весьма весело, и особенно весел был сам хозяин. Пробило десять часов; жена Берковича сказала ему: «поди, посмотри, накрывают ли на стол? Пора ужинать». Дверь из гостиной вела прямо в столовую. Беркович вышел и через минуту возвратился. «Скоро ли?» спросила жена. Он молча кивнул головою. Я посмотрел на него и увидел, что он был бледен как полотно; веселость его пропала; во весь остаток вечера он не сказал почти ни слова. Сели за стол, отужинали. Госпожа Перец собралась ехать к себе, и Беркович пошел проводить свою гостью с крыльца. Сажая ее в карету, он попал ногами в снег, который лежал сугробами кругом подъезда (во весь день была жестокая метель); весьма вероятно, что в эту минуту он простудился. На другой день пришли мне сказать, что Беркович в постели и что он зовет меня к себе; я сам хотел его навестить, ибо меня тревожила грустная мрачность, замеченная мною в нем накануне. И вот что он мне отвечал, когда я у него спросил о ее причине: мне скоро умереть; я видел своими глазами смерть мою. Когда вчера я вышел из гостиной в столовую, чтобы узнать, скоро ли подадут ужин, я увидел, что стол накрыт, что на столе гроб, окруженный свечами, и что в гробу лежу я сам. Будь уверен, что вы скоро меня похороните. – И действительно, Беркович через короткое время умер».
Весьма вероятно, что в теле его уже был зародыш болезни; простуда развила болезнь, а болезнь, с помощию воображения, испуганного призраком, произвела смерть. Но что же было этот призрак? Сон наяву, видение несущественного образа, такое же, какое бывает, когда сновидением выражается или тревожное состояние души нашей или болезненное расстройство нашего тела. Здесь было не иное что, как сновидение в состоянии бодрствования, происшедшее от той же причины, какая по большей части производит всякое другое сновидение; здесь видение не отделено от видящего, видение без предмета; здесь нет еще привидения в том смысле, в каком мы его определили, хотя и есть в самом событии что-то необычайное, естественному порядку не принадлежащее.
Бывают другого рода видения наяву, видения образов, действительно от нас отдельных и кажущихся нам вне нас существующими, самобытными, хотя на самом деле они не могут иметь ни существенности, ни самобытности. К сему роду принадлежит известное видение короля шведского Карла XI. Что́ он видел, то было описано им самим. Этот акт скреплен подписью самого короля и двух или трех находившихся при нем свидетелей. Я читал его в немецком литературном переводе, сделанном по требованию К. П. Не имея теперь перед глазами этого перевода, я должен следовать повествованию Проспера Мериме, которое во всем главном верно, хотя Мериме, по образу и подобию своих соотечественников, не мог воздержаться, чтобы не украсить простой истины вымыслом некоторых живописных обстоятельств. Расскажу коротко и просто. В то время, когда случилось описываемое здесь происшествие, король Карл XI, знаменитый отец Карла XII, жил в старом стокгольмском дворце (новый, ныне существующий и им заложенный, еще не был достроен). Этот дворец имел форму подковы; на конце одного флигеля был кабинет короля, на конце другого, окнами прямо против кабинета королевского, находилась палата государственных штатов. Было поздно; король сидел в своем кабинете перед камином; с ним, по словам Мериме, находились камергер Браге и доктор Баумгартен (в оригинальном акте названы, кажется, другие); король был задумчив и мрачен; встав с места, он начал, не говоря ни слова, ходить взад и вперед по горнице. Вдруг он остановился: он увидел, что в окнах противолежащей палаты был яркий свет; это не могло быть от луны – луна не светила и на небе лежали тучи; это не мог быть пожар – сияние было спокойное и не имело багряности пожарной; нельзя было также подумать, что там какой-нибудь из слуг придворных ходил с факелом – от одного факела не произошло бы такого яркого, повсеместного освещения. «Видите ли?» спросил король своих собеседников. «Что это значит?» Все были изумлены, и никто не мог придумать объяснения видимому. – «Велите позвать кастелана, чтобы он принес и ключ от палаты». Кастелан явился; король пошел с ним вместе через дворец, провожаемый и другими, которые несли свечи. Вступивши в пространную переднюю палаты, они увидели, что она вся была обтянута черным сукном; из-под дверей палаты яркою полосою светилось. Король приказал кастелану отворить дверь, но, приметя, что он, дрожа от страха, не мог попасть ключом в замочную скважину, взял ключ из его руки и, сказав: «с нами Бог», сам отпер двери. Он смело вошел в палату; за ним все другие. Они увидели, что палата была освещена множеством свеч и что в ней происходил совет государственных штатов. Члены молча сидели вдоль стен на банкетах; все были в трауре. Посреди палаты, кругом стола, покрытого черным сукном, заседали судьи, также одетые в траур; их президент имел перед собою раскрытую книгу. На троне, находившемся прямо против входа, лежал мертвый, покрытый порфирою; близ него был виден юноша, имевший на голове корону и в руке скипетр; с ним рядом стоял человек зрелых лет, в старинной одежде администраторов шведских; на полу между столом и троном лежала плаха и при ней топор. В ту минуту, когда король вступил в палату, президент ударил рукою по книге; по этому знаку боковая дверь отворилась, из нее вышло несколько человек благородной наружности, в богатых одеждах, но руки их были связаны на спине; за ними следовал палач. Тот, кто между ними казался главным, взглянул на труп, лежавший на троне: из раны трупа брызнула кровь, как будто в обличение убийства, и обличенный смело приблизился к плахе, положил на нее голову, палач взмахнул топор, отрубленная голова запрыгала и, перекатившись через всю палату, остановилась у ног короля: капля крови упала на одну из его туфель. До сей минуты он стоял неподвижно, смотря в безмолвном изумлении на происходившее; но тут он сделал быстро несколько шагов вперед и громко воскликнул, обратясь к тому, кто имел на себе одежду администратора: «Если ты от Бога, говори, а если от другого, исчезни». Тогда послышался голос: «Король Карл! Эта кровь не при тебе…» (тут звуки сделались менее внятны) «Еще пять царствований… горе потомству Вазы!» Голос замолчал, и в эту минуту все образы начали, как туман, редеть и делаться прозрачнее; скоро все исчезло, осталась одна пустая палата, темно освещенная свечами, горевшими в руках сопутников Карла. – Король возвратился в свой кабинет; он не мог сомневаться в существенности видения, которого неоспоримым свидетельством была капля крови, запекшаяся на его туфле. Полный еще свежего впечатления, он тут же записал со всеми подробностями то, что видел, скрепил описание своею подписью, с ним вместе подписались и все другие свидетели. Этот акт находится в государственном архиве шведском. Пять царствований прошли, и горе, произнесенное над потомством Вазы, совершилось: потомство Вазы утратило корону Швеции. А казнь убийцы, труп на троне, старый администратор и коронованный юноша прямо указывают на Анкерштрема, на застреленного им Густава III, на Карла XIII, бывшего регентом и королем, и на последнего Вазу, Густава Адольфа, своим упрямством сверженного с престола, но своим высоким характером достойного лучшей участи {1}.
Неоспоримое свидетельство утверждает действительность сего события, и все, что оно пророчествовало, совершилось; но само по себе оно навсегда останется непостижимым для нашего разума. Здесь нечто, еще не бывшее, принимает задолго до своего события существенный образ, видимый многими; и что же этот образ? Он не дух, пребывавший некогда в живом теле и продолжающий жить и являться, когда явление материальной жизни уже прекратилось. Здесь, напротив, является видимо образ чего-то не бывшего, а только возможного; что-то символическое приемлет характер вещественного; это дух происшествия, а не существа отдельного, цельный образ чего-то сборного, никакой личности не имеющего; это воздушная картина, соединяющая в одних рамах портреты, списанные кем-то с лиц, которых еще нет и которые когда-то будут.
Наконец привидения в собственном смысле, то есть явления духов, явления, в которых существа бестелесные, самобытные, произвольно представляются глазам нашим, при полном действии наших чувственных органов, при полном нашем сознании, что мы действительно видим (или слышим) то, что у нас совершается перед глазами. Расскажу два случая. Предание говорит, что в XVII веке, в Дюссельдорфе, в герцогском замке совершилось великое преступление. Тогда женою герцога юлихклевебергского, полоумного Иоанна Вильгельма, была Якоба, принцесса баденская. Она имела сердечную привязанность к графу Мандеру. Но ее выдали насильно за герцога. По наущению герцоговой сестры, Сибиллы, жестоко ненавидевшей Якобу, сия последняя была обвинена в нарушении супружеской верности; ее предали суду, заключили в темницу, но прежде нежели виновность ее (весьма, впрочем, сомнительная) могла быть доказана судом, она вдруг умерла скоропостижно; ее поспешно схоронили. Это произвело подозрение, что смерть ее была неестественная и что виновницею этой смерти была Сибилла. Теперь замок герцогов бергских, сцена этих древних ужасов, обращен в академию живописи; он столица знаменитой Дюссельдорфской школы; в нем царствует мирный гений искусства. Но предание о давнишнем убийстве, под кровлею его совершившемся, сохранилось в народе – и не одно предание: сама преступница, казнимая гневом небесным, посещает мрачною тенью то место, которое было свидетелем ее злодействия. Одним является она видимо; другие не видят ее, а только слышат; иных каким-нибудь знаком она извещает о своем таинственном присутствии. Вот что между прочим случилось с живописцем Бланком (это рассказано мне одним из его академических товарищей). Он сидел за работою в длинной зале, где находится картинная галерея и где обыкновенно бывает выставка живописи; из нее с одной стороны ход на парадное крыльцо, а с другой двери в меньшую залу академии, составляющую с другими горницами довольно длинную анфиладу. Начинало смеркаться; живописец был занят своею работою, спеша ее кончить до наступления темноты, – вдруг он слышит, что двери, ведущие с крыльца в галерею, отворились и что мимо его кто-то проходит, а кто – не видно. По шороху платья (похожему на шум от атласного шлейфа) – женщина. Она идет через галерею к зале, отворяет ее, идет далее через всю анфиладу, и слышно, как все двери одна за другою отворяются и затворяются; и наконец все утихает. Бланк остается в изумлении; предание о бродящей душе Сибиллы приходит ему на память… Но вот, пока он размышляет о том, что случилось, ему слышится, что самая дальняя дверь анфилады снова отворилась и что к следующей двери подходят… В ужасе он бросает свою работу и спешит выйти из галереи дверями, ведущими на крыльцо, дабы не встретиться с страшною гостьей. Это происшествие заставляет думать, что покойная, или беспокойная, Сибилла, посещающая невидимкою прежнее свое жилище, еще не износила и не скинула своего старинного атласного платья, которого шорох извещает живых о страшных прогулках мертвой. В 1841 году, когда я находился в Дюссельдорфе, профессор Зон писал портрет жены моей; каждый день в одиннадцать часов утра я приходил с женою в его рабочую, где сидение для портрета продолжалось около двух часов. Коридор, из которого ведет дверь в эту рабочую, находится в верхнем этаже академии; к нему из нижнего этажа, от парадного крыльца также идет коридор, упирающийся в узкую, довольно крутую лестницу, соединяющую средний этаж с верхним; эта лестница примыкает вверху к небольшой площадке, мимо которой надобно проходить к рабочим многих живописцев и которая составляет в верхнем коридоре пустое отделение, не имеющее никакого выхода. Однажды, идя в определенное время с женою к живописцу Зону, мы всходили по узкой лестнице, я впереди, жена за мною. Вдруг, став ногою на последнюю ступень, я увидел, что от меня что-то черное бросилось вправо и быстро исчезло в углу описанной мною выше площадки; какой оно имело образ, не знаю: перед глазами моими мелькнула черная полоса. Что это? спросили мы разом, я у жены, а жена у меня. Ответа не могло быть никакого. Но жена не только что видела, она в то же время и слышала; и это обстоятельство для нее осталось особенно памятно тем, что, подошедши к лестнице и желая мне что-то сказать, она оглянулась, дабы узнать, не было ли кого в нижнем коридоре; там было пусто. Когда же она, всходя за мною по лестнице, хотела начать говорить, ей послышалось, что кто-то за нею шел, и так близко, что она боялась оборотить голову, дабы лицом своим не столкнуться с лицом неучтивого своего спутника, и почти чувствовала, как нога его поспешно занимала место ее ноги при каждом ее шаге; в то же время ей слышался явственно как будто шорох от шелкового платья. На верхней ступени лестницы она вместе со мною увидела черную полосу, мелькнувшую мимо нас на площадку; когда же оглянулась, за нею не шел никто, в коридоре было по-прежнему пусто. Здесь рассказаны со всею историческою верностью одни подробности того, что с нами случилось, – а что случилось, мы не знаем. Опираясь на предание, о котором тогда только в первый раз услышал я от профессора Зона, можно бы было подумать, что дух Сибиллы удостоил нас своего внимания и хотел на себя обратить наше; но в подобных случаях всего вернее не делать никаких объяснений. – Другой случай. Вот что рассказывал мне о себе покойный Н. Н. Муравьев, человек необыкновенного ума, просвещенный и нимало не суеверный. «Я учился в Геттингене, так говорил мне Муравьев (не помню только, геттингенский ли университет был им назван или другой); между студентами был англичанин Стюарт, смешной чудак, над которым его товарищи, и я с другими, нередко шутили. Однажды он похвастал, что его нельзя ничем испугать; я побился с ним об заклад, что его испугаю, и это мне удалось; самолюбие Стюарта было сильно обижено, и он обещался мне отплатить. Прошло с тех пор довольно времени; Стюарт покинул университет, я забыл о случившемся. Однажды, после трудной работы над разрешением математической проблемы, я лег довольно поздно в постель; что воображение мое не было ничем разгорячено, тому свидетель моя сухая, отрезвляющая ум работа. Было за полночь, когда я кончил ее; полная луна сияла в мои окна; в горнице был яркий свет. Против моей постели у противоположной стены находился мой рабочий стол и перед ним большие кресла; в стене, направо от стола, против окон была дверь, которую, ложась в постель, я запер ключом изнутри; в одном углу стояла моя сабля. Я скоро заснул, но спал недолго; как будто кем пробужденный, подымаю голову, и что же вижу?.. В моих креслах, перед столом моим, сидит человеческая фигура и пристально на меня смотрит. Мне тотчас в мысли пришел Стюарт и обещанное им мщение. «Это ты, Стюарт, закричал я; ничуть не страшно: напрасно трудился, шутка твоя не удалась». Но мнимый Стюарт сидел неподвижно, уставив на меня темные глаза свои. Я сказал: «довольно, Стюарт, поди вон, я хочу спать». Он не дал ответа и продолжал сидеть по-прежнему. Я рассердился. «Говорят тебе, поди вон, не мешай мне», сказал я. Он все ни слова и все неподвижен по-прежнему. «Стюарт, я не шучу; в последний раз говорю тебе, поди вон; будет плохо». Так закричал я, чувствуя, к великой досаде своей, что меня от ужаса подирало по коже. Но гость мой продолжал по-прежнему пристально смотреть на меня и сидел недвижимо, как мраморный. Тут в судорожном страхе я вскочил с постели, схватил свою саблю, кинулся на сидевшего и дал ему сильный удар: сабля пролетела сквозь туловище его, как будто сквозь воздух; он не пошатнулся и продолжал смотреть на меня по-прежнему. В неописанном ужасе, я начал от него пятиться к моей постели, сел на нее, оперся на свою саблю и, как будто околдованный сверхъестественною силою, просидел всю ночь перед своим страшным гостем, который, недвижим, как холодная смерть, упирал в меня темные глаза свои и буровил ими всю мою душу. Занялось утро; он встал, медленными шагами пошел к дверям и исчез – отворил ли их или нет, не помню; очнувшись, я подхожу к ним: они заперты изнутри. Что это было, и теперь не знаю; о Стюарте же ни прежде, ни после я не имел никакого слуха».
К сему роду явлений относится в особенности наш вопрос: верить или не верить привидениям? Множество событий, достаточно засвидетельствованных, побуждают нас отвечать утвердительно; с другой стороны, невероятность самых событий, выходящих из обыкновенного порядка вещей, склоняет нас к отрицанию. Что же выбрать? Ни то, ни другое. Хотя весьма многие доказательства в пользу действительности привидений имеют такую же силу, какую имеют и все другие доказательства исторические, на основании которых мы признаем за истину происшествия, совершившияся за многие веки прежде нас; хотя нет причины принимать за невозможное то, чего мы вполне изъяснить не можем, и за несуществующее то, что не подлежит нашим чувствам, сии явления все останутся для нас навсегда между да и нет. В этой невозможности приобресть насчет их убеждение выражается для нас закон самого Создателя, Который, поместив нас на земле, дабы мы к здешнему, а не к другому какому порядку принадлежали, отделил нас от иного мира таинственною завесою. Эта завеса непроницаема; она порою сама перед нами приподымается, дабы мы знали, что за нею не пусто; но нашею силою никогда быть раздернута не может. Если бы хотя одно явление духа, говорит Р.<ейтерн>, могло быть доказано так убедительно, что оно для всего света без изъятия сделалось бы несомненно, то вера в бессмертие души преобратилась бы для всех в очевидность. Это правда; но сей-то очевидности нам и иметь не должно. Мир духовный есть таинственный мир веры; очевидность принадлежит миру материальному: она есть достояние здешней жизни, заключенной в пределах пространства и времени; наше верховное сокровище – знание, что Бог существует и что душа бессмертна, отдано на сохранение не мелкому рабу необходимости, уму, а вере, которая есть высшее выражение человеческой свободы. Эти явления духов, непостижимые рассудку нашему, строящему свои доказательства и извлекающему свои умственные выводы из материального, суть, так сказать, лучи света, иногда проникающие сквозь завесу, которою мы отделены от духовного мира; они будят душу посреди ленивого покоя земной очевидности, они обещают ей нечто высшее, но его не дают ей, дабы не произвести в ней раздора с тем, что ей дано здесь и чем она здесь должна быть ограничена и определена в своих действиях. Вот причина, почему и всякое явление духа производит в нас чувство ужаса, непохожего ни на какой земной ужас. По-настоящему всякое такое явление должно бы нас радовать, как явление друга из земли дальней, как весть желанная – напротив, при нем мы чувствуем себя в присутствии чего-то, нам чужого, с нами разнородного, нам недоступного, имеющего для души нашей такой же холод, какой имеет мертвый труп для нашего осязания. Это взгляд в глубину бездонного, где нет жизни, где ничто не имеет образа, где все неприкосновенно, – такой ужас не есть ли явный знак, что принадлежащее иному миру должно быть нам недоступно, пока мы сами принадлежим здешнему, и что оно может быть нашим по одной только вере? Итак, не отрицая ни существования духов, ни возможности их сообщения с нами, не будем преследовать их тайны своими умствованиями, вредными, часто гибельными для нашего разума; будем с смиренною верою стоять перед опущенною завесою, будем радоваться ее трепетанием, убеждающим нас, что за нею есть жизнь, но не дерзнем и желать ее губительного расторжения: оно было бы для нас вероубийством.
В заключение скажем о некоторых особенного рода видениях, которые составляют средину между обыкновенными сновидениями (то есть призраками, от нас неотдельными и не имеющими никакой самобытности) и настоящими привидениями (то есть призраками самобытными и от нас отдельными). Сии видения бывают двоякого рода: в одних наше близкое будущее или то́, что уже совершилось (то есть наше, еще нам неведомое, настоящее), предварительно сказываются душе нашей: сей бессловесный разговор чего-то с нашею душою мы называем предчувствием, в котором, как будто прежде самого события, подходит к нам его тень, чтобы нам предвозвестить его приближение и нас приготовить к его принятию. В других или совершается непосредственное сообщение душ, разрозненных пространством, соединенное с видимым образом, действующим на наши чувственные органы, или самой душе является нечто, из глубины ее непосредственно исходящее. Первые из сих видений суть просто предчувствия, как сказано выше; последние особенно принадлежат минуте смертной, минуте, в которую душа, готовая покинуть здешний мир и стоящая на пороге иного мира, полуотрешенная от тела, уже не зависит от пространства и места и действует непосредственнее, сливая там и здесь воедино. Иногда уходящая душа, в исполнение данного обета, возвещает свое отбытие каким-нибудь видимым знаком – здесь выражается только весть о смерти; иногда бесплотный образ милого нам человека неожиданно является перед глазами, и это явление, всегда современное минуте смертной, есть как будто последний взгляд прощальный, последний знак любви в пределах здешнего мира на свидание в жизни вечной; иногда, наконец, в вашей душе совершается нечто необычайное, которое не иное что, как сама олицетворяющаяся перед нами наша смерть. О таких событиях, выходящих из обыкновенного порядка и для нас неизъяснимых, есть много рассказов, не подверженных никакому сомнению; мы ограничимся здесь описанием двух случаев. Первый из них я расскажу в двух словах: он не требует никаких объяснений. За истину повествования ручаюсь. – В Москве одна грустная мать сидела ночью над колыбелью своего больного сына: все ее внимание обращено было на страждущего младенца, и все, что не он, было в такую минуту далеко от ее сердца. Вдруг она видит, что в дверях ее горницы стоит ее родственница М. (которая в это время находилась в Лифляндии и не могла от беременности предпринять путешествие); явление было так живо, что оно победило страдание матери. «Ах, М., это ты?» закричала она, кинувшись навстречу нежданной посетительнице. Но ее уже не было. В эту самую ночь, в этот самый час М. умерла родами в Дерпте.
Вот другой случай: он имеет глубокое психологическое значение; я должен рассказать его со всеми подробностями. Во Франкфурте-на-Майне, в смутное время первой революционной войны все вооружалось на отражение приближающейся французской армии. Некто Гофман, молодой человек, недавно обрученный с Марианною Р., которую нежно любил и которая всею душою была к нему привязана, схватил, как и другие, ружье и саблю, чтобы идти на защиту города, – он упал мертвый от первого неприятельского выстрела. Неожиданная весть об этом странным образом поразила невесту: услышав, что жених убит, Марианна побледнела, но она не заплакала, и никакая жалоба не сошла с языка ее; в ней во мгновение исчезла память, духовная жизнь ее вдруг остановилась, одна телесная жизнь осталась неприкосновенною. С этой поры все окружающее действовало на нее, так сказать, мимоходом, не производя в ней ни радостного, ни горестного участия; одни настоящие, материальные нужды были ей ощутительны; но все прошедшее, все былое в жизни вдруг задернулось покрывалом; о будущем же и самое понятие пропало: она не ждала ничего, и это неожидание было не следствие отчаянного горя, а просто неспособность желать, паралич, незапно обхвативший душу, которая в ней сохранилась только для того, чтобы механически служить живому телу, как служит пружина автомату, имеющему все признаки существа живого. Состояние Марианны Р. не могло быть названо сумасшествием: в ней не было ничего расстроенного, она была тиха, смиренна, никого ничем не тревожила; но ни в ком и ни в чем не принимала участия и жила в кругу людей, как будто не примечая, что она с ними; и все, знавшие грустную причину случившейся с нею перемены, оказывали ей нежное внимание, заботились о ней, как о беспомощном, осиротевшем ребенке. Так провела Марианна более тридцати лет; в последние годы особенно привязалась она к молодой дочери хозяина того дома, в котором жила. Луиза Д. (так называлась эта девушка) навещала ее часто, и ей одной оказывала Марианна что-то похожее на дружбу. Вдруг Луиза начала примечать какую-то необыкновенную живость в Марианне, дотоле тихой и ни на что не обращавшей внимания; казалось, что ее беспрестанно тревожила какая-то мысль, для нее самой непонятная; можно было также подумать, что в ее теле работала болезнь. Со дня на день сия тревога становилась сильнее и постояннее. Однажды, когда Луиза по обыкновению своему принесла обед Марианне, последняя сказала ей с таинственным видом: «знаешь ли что, Луиза?.. Он написал ко мне… Он ко мне будет…» – Кто он? спросила Луиза. – «Он… он…» отвечала та, потирая лоб и напрасно стараясь вспомнить… «ты знаешь… он… я жду его…» Более она не могла сказать ничего. «Я жду… он будет… он писал ко мне», эти слова она повторила с видимым волнением; воспоминание теснилось в ее душу, но душа еще была затворена для него. Дня через три Марианна сказала Луизе: «приходи ко мне завтра… я жду его… он будет у меня завтракать». И когда на другой день Луиза пришла, она увидела, что Марианна сидела в своем праздничном платье за накрытым столиком; глаза ее были ярки, щеки горели, она смотрела быстро на двери. Вдруг, подав знак рукою Луизе, чтобы молчала и не шевелилась, она сказала ей шепотом: «слушай… слушай… он идет…» Вдруг глаза ее вспыхнули, руки стремительно протянулись к дверям, она вскрикнула громко: «Гофман!» и упала мертвая на пол.
Главные обстоятельства этого замечательного события рассказаны мне почти очевидцем. Оно есть один из тех случаев, в которые нам удается проникнуть взглядом за таинственную завесу, отделяющую нас от мира духовного. В ту минуту, когда эта нежная, любящая душа так неожиданно потеряла все, что было ее истинною жизнию, она как будто оторвалась от всего житейского; но разрыв ее с телом не совершился: она осталась еще, так сказать, по одному механическому сцеплению, принадлежностию жизни телесной; но все, что в ней принадлежало жизни духовной и чего главною стихиею была эта любовь, ею вполне обладавшая, вдруг с утратою предмета любви оцепенело. И пока телесная жизнь была полна, пока в составе тела не было никакого расстройства, по тех пор эта скованная, совершенно подвластная телу душа ни в чем себя не проявляла; она была узником, невидимо обитавшим в темнице тела, с одним темным самоощущением, без всякого самопознания. Вдруг начинается процесс разрушения материальной власти тела. С развитием болезни и с постепенным приближением смерти мало-помалу совершается освобождение души, в ней оживает память прошедшего, сперва смутно, потом яснее, яснее… «Он будет… я жду его… он ко мне писал…» – все это еще одни слова сквозь сон, но слова, означающие близкое пробуждение жизни… и вдруг в последнем слове, в произнесении имени, в узнании образа, давно забытого, полное воскресение жизни и с ним конечное отрешение души от тела – смерть. Что же такое смерть? Свобода, положительная свобода, свобода души: ее полное самоузнание с сохранением всего, что ей дала временная жизнь и что ее здесь довершило для жизни вечной, с отпадением от нее всего, что не принадлежит ее существу, что было одним переходным, для нее испытательным и образовательным, но по своей натуре ничтожным, здешним ее достоянием.
О меланхолии в жизни и в поэзии
1. Отрывок письма
В Москвитянине было напечатано мое письмо о переводе Гомеровой Одиссеи. В нем между прочим сказано следующее:
…Какое очарование в этой работе, в этом подслушивании первых вздохов Анадиомены, рождающейся из пены моря (ибо она есть символ Гомеровой поэзии), в этом простодушии слова, в этой первобытности нравов, в этой смеси дикого с высоким, вдохновенным и прелестным, в этой живописности без излишества, в этой незатейливости и непорочности выражения, в этой болтовне, часто чересчур изобильной, но принадлежащей характеру безыскусственности и простоты, и особенно в этой меланхолии, которая нечувствительно, без ведома поэта, кипящего и живущего с окружающим его миром, все проникает, ибо эта меланхолия не есть дело фантазии, созидающей произвольно грустные, беспричинные сетования, а заключается в самой природе вещей тогдашнего мира, в котором все имело жизнь, пластически могучую в настоящем, но и все было ничтожно, ибо душа не имела за границей мира своего будущего и улетала с земли безжизненным призраком; и вера в бессмертие, посреди этого кипения жизни настоящей, никому не шептала своих великих, всеоживляющих утешений. Кажется, что г-жа Сталь первая произнесла, что с религиею христианскою вошла в поэзию и вообще в литературу меланхолия. Не думаю, чтобы это было справедливо. Что такое меланхолия? Грустное чувство, объемлющее душу при виде изменяемости и неверности благ житейских, чувство или предчувствие утраты невозвратимой и неизбежной. Таким чувством была проникнута светлая жизнь языческой древности, светлая, как украшенная жертва, ведомая с музыкою, пением и пляскою на заклание. Эта незаменяемость здешней жизни, раз утраченной, есть характер древности и ее поэзии; эта незаменяемость есть источник глубокой меланхолии, никогда не выражающейся в жизни, но всегда соприсутственной тайно, зато весьма часто выражающейся в поэзии. Кто из новейших имеет более меланхолии Горация? Но Горациева меланхолия понятна; она его естественная, неискусственная физиономия, тогда как меланхолия новейших поэтов бывает часто одно кривляние. Христианство и в этом отношении, как и во всяком другом, произвело решительный переворот: там, где есть Евангелие, не может уже быть той меланхолии, о которой я говорил выше, которой все запечатлено в доевангельском мире; теперь лучшее, верховное, все заменяющее благо – то, что одно неизменно, одно существенно, дано один раз навсегда душе человеческой Евангелием. Правда, мы можем и теперь, как и древние, говорить: земное на минуту, все изменяется, все гибнет; но мы говорим так о погибели одних внешних, чуждых нам призраков, заменяемых для нас верным, негибнущим, существенным, внутренним, нашим; а древние говорили о гибели того, что, раз погибнув, уже ничем заменяемо не было.
2. Замечания на письмо
На эту статью были сделаны весьма остроумные замечания; прилагаю их здесь с моим на них ответом:
«С большим удовольствием читал я в Москвитянине твои стихи и письмо, твою поэтическую исповедь. Что́ же касается до меланхолии, то прав и ты и права г-жа Сталь. Впрочем так и быть должно: нет ничего безусловного и отдельно целого. Конечно, в Горации есть уныние, но это уныние ведет к тому, что надобно торопиться жить, петь и веселиться; а новейшее или христианское уныние ведет к тому, что уныние есть обязанность, душа жизни. Ты говоришь: там, где есть Евангелие, не может уже быть той меланхолии, которою все запечатлено в доевангельском мире. Нет, где есть Евангелие, там не может или, по крайней мере, не должно быть отчаяния, а унынию есть место, и большое. Верую, Господи, помоги моему неверию: разве эта молитва не есть вопль уныния? А когда Христос молил, чтобы пронеслася мимо чаша, а когда с него падал кровавый пот, а когда он воскликнул: «прискорбна есть душа моя до смерти» – разве это не уныние? Религия древности есть наслаждение: ему строили алтари, и вся жизнь древняя была служением ему. Религия наша: страдание; страдание есть первое и последнее слово христианства на земле. Следовательно, с Евангелием должно было войти уныние в поэзию – стихия, совершенно чуждая древнему миру, по крайней мере в этом отношении. Не будь бессмертия души, не будет и сомнения и тоски. Смерть тогда – сон без пробуждения, и прекрасно! О чем тут тосковать? Все уныние, вся тоска в том, что, засыпая, не знаешь, где и как проснешься; тоска в том, что на жизнь смотришь, как на лоскуток чего-то, как на программу, как на лотерейный билет, не зная, что́ вынется. Незаменяемость здешней жизни, раз утраченной, ввиду чего-то, ввиду живого чувства, была бы грустью, но ввиду бесчувствия, ничтожества она, разумеется, и сама ничто. Кажется, Сенека сказал: «чего бояться смерти? При нас ее нет, при ней нас уже нет». Вот вероисповедание древнего мира. А у нас напротив: «смерть начало всего». Тут поневоле призадумаешься».
3. Ответ на замечания
…Жаль, что пред глазами моими нет моего письма, напечатанного в «Москвитянине» без моего ведома. Я не помню, что́ и как в нем сказано; следственно, не могу защищать своих выражений, может быть, и ошибочных, ибо письмо написано наскоро. Я, правда, перечитал его и про себя, и потом с Гоголем, но теперь ни слова не помню, и, конечно, многое в нем сказано неопределенно и многие выражения неточны. Мне остается возражать на твои мысли и на твои слова. – Мне кажется, что ты в своих положениях ошибаешься, и ошибаешься оттого, что не сделал для себя ясной дефиниции главного предмета, о котором говоришь. Ты смешиваешь два понятия, совершенно разные: меланхолию и печаль или скорбь (а не уныние, как ты выражаешься; уныние есть только следствие печали, овладевшей душою и преодолевшей силу ее).
Что такое меланхолия? Грустное состояние души, происходящее от невозвратной утраты – или уже совершившейся, или ожидаемой и неизбежной. Причины меланхолии суть причины внешние, истекающие из всего того, что нас окружает и что на нас извне действует. Скорбь или печаль есть состояние души, томимой внутреннею болезнию, из самой души истекающею; и хотя причины скорби могут быть внешние, но они, поразив душу, предают ее ей самой, и скорбь в ней тогда так же присутственна, как и сама жизнь. Меланхолия питается извне; без внешнего влияния она исчезает. Скорбь питается изнутри, и если душа, ею томимая, не одолеет ее, то она обращается в уныние, ведущее наконец к отчаянию; если же, напротив, душа с нею сладит, то враг обращается в друга-союзника и из расслабляющей душу силы (то есть из силы этой скорби, ее гнетущей) вдруг рождается великое могущество, удваивающее жизнь. Меланхолия есть ленивая нега, есть – так сказать – грустная роскошь, мало-помалу изнуряющая и наконец губящая душу. Скорбь, напротив, есть деятельность, столько же для победившей ее души образовательная и животворная, сколь она может быть разрушительна и убийственна для души, ею побежденной. Из всего сказанного ясно, что никак не должно смешивать понятия меланхолии с понятием скорби. Напоследок главное, существенное различие между Меланхолиею и скорбию – (я говорю здесь в смысле христианина, для которого в сем отношении нет ничего сомнительного, который все строит на твердом пункте откровения) – главное различие состоит в том, что меланхолия, грустное чувство, извлекаемое из неверности, непрочности и ничтожности всего житейского, ничем не заменяемого по утрате его, не может быть свойством, внутреннею принадлежностию души, по природе своей – бессмертной, а потому и чувствующей явно или тайно свое бессмертие, несовместное с чувством ничтожества, но что она входит в душу извне, из окружающего ее рыхлого мира, как нечто ей постороннее, и к ней прилипает, как нарост, как кора, ей чуждая; тогда как скорбь есть неотъемлемое свойство души, бессмертной по своей природе, божественной по своему происхождению, но падшей и носящей в себе, явно или тайно, грустное чувство сего падения, соединенное, однако, с чувством возможности вступить в первобытное свое величие. Откровение дает деятельную жизнь сему темному врожденному чувству, приводя его в ясность и указывая на средства исцелить недуг падения. Пока души не преобразовало откровение, по тех пор она, обретая в себе эту, ей еще и ясную скорбь, стремится к чему-то высшему, но ей неизвестному, и чем сильнее внутренняя жизнь ее, тем сильнее и это стремление, и тем глубже проникается она этою тайною скорбию. Но как скоро откровение осветило душу и вера сошла в нее, скорбь ее, не переменяя природы своей, обращается в высокую деятельность, благородствует душу и, не производя в ней раздора с окружающим миром, оценивает его блага, ничтожные сами по себе, но существенные, когда они подчинены благам вышним, которые их заменяют, не уничтожая временной значительности их в здешнем мире. Эта скорбь есть душа христианского мира. Пока она не оперлась на веру и откровение, она может повергнуть в уныние и безнадежность, ибо тогда врожденное стремление души не имеет предмета. С верою же (под словом вера я разумею одну только веру во Христа) она ведет к глубокому миру и наконец принимает на себя светлый образ этого мира, при котором все земное становится ясным и все наше драгоценнейшее верным! (Это состояние души не есть знание, ибо человек не создан знать, – но более, нежели знание: это вера, самый возвышенный, самый свободный и самобытный акт души человеческой, вера – дитя скорби.
Св. Августин, кажется, говорил: «мне не нужно знать, чтоб верить, но верить, чтоб знать»).
Покажется парадоксом, если сказать, что меланхолия есть элемент мира древнего (здесь под миром древним разумеется классический мир греков и римлян), но оно так! я говорю элемент, то есть состав, входящий в образование внутреннего характера жизни древних. Они имели вполне развитую гражданскую материальную жизнь, но не имели дополнения, необходимого этой жизни, того именно, что ее упрочивает и благородствует; их религия принадлежала тесным пределам этой материальной жизни; она не входила во внутренность души, напротив – извлекала ее из самой себя, наполняя внешний мир, ее окружающий, своими поэтическими созданиями, повторявшими, в другом только размере, все события ежедневной материальной жизни. Но замена земным утратам ничто не представляло. Отец богов, Юпитер, сам был великий развратник; утешить и подкрепить в бедах он не был способен, принимал экатомбы, но не мог ничего против слепого, безжалостного фатума. Все сокровища были на земле; все заключалось в земных радостях, и все с ними исчезало. Итак, естественно, что душа, ничего, кроме сих изменчивых благ, не имея, к ним с жадностию прилипала и предавалась их наслаждению, отвратив глаза от Парки, во всякое время с ним неразлучной. У каждого на пиру жизни висел над головою, на тонком волоске, меч Дамоклесов; но потому именно, что он у каждого висел над головою, все общею толпою шумели весело на пиру и спешили насытиться по горло. Каждый сам про себя, ясно или неясно, чувствовал, что когда соберут со стола, уж другого ему не накроют; но увлеченный общим шумным порывом, не обращал внимания на это чувство или вопреки ему удваивал свои подвиги на всемирной оргии. Иногда какой-нибудь Гораций, но и тот только для того, чтобы подстрекнуть наслаждение, восклицал посреди этой суматохи:
Лови, лови летящий час! Он, улетев, не возвратится!Эти слова меланхолически высказывают печальную истину; но только для того, чтоб сильнее прилепить к милому заблуждению, чтоб наложить новый блестящий покров на скелет жизни. Но этот скелет во всей своей отвратительностью выскакивал из цветов, на него набросанных беспечностию, когда какой-нибудь простодушный Гомер, совсем не мысля щеголять меланхолическими картинами, приводил своего Одиссея к вратам Аида и заставлял тени умерших высказывать ему тайну жизни. Все это доказывает, что в мире древнем меланхолия (в том смысле, который я к сему слову привязываю), будучи печальным, постоянным элементом самой жизни, потому именно не могла быть высказываема, а только временем бывала ощутительна в ее внешних явлениях. Древние брали жизнь целиком, спешили вполне ею воспользоваться; наслаждение было их единственною целью; далее здешней жизни ничто им не представлялось. И они умели употреблять ее по-своему; и это искусство употребления жизни особенно выражается в поэзии и в скульптуре; какая верность, свежесть, полнота форм, какое пластическое совершенство! И если что-нибудь меланхолическое проскакивает в этих пленительных, светлых образах, то это как будто ненароком; это тайна, невольно проговорившаяся; это колодник, заключенный в темном подвале под чертогом пиршественным, на минуту вырвавшийся из затвора и пробежавший перед толпою пирующих, чтоб снова попасть в руки тюремщиков и возвратиться в свое темное заключение. Христианство своим явлением все преобразило. И если велик переворот, в жизни общественной произведенный, то переворот, произведенный во внутренней жизни, гораздо обширнее и глубже. Откровение разоблачило перед человеком его высокую природу и возвеличило человеческую душу, указав ей ее падение и вместе с ним ее права на утраченную божественность, возвращенные ей искуплением. Из внешнего мира материальной жизни, где все прельщает и гибнет, оно обратило нас во внутренний мир души нашей; легкомысленное, ребяческое наслаждение внешним уступило место созерцанию внутреннему; за всякое заблуждение надежды, ласкавшейся обресть верное существенное в изменяющем внешнем, нашлось вознаграждение в сокровищнице веры, которая все наше драгоценное, все, существенно душе нашей принадлежащее, застраховала на уплату по смерти, в ином мире. Какое же место может в этом христианском мире найти меланхолия, которая не иное что, как тоска посреди разрушения и утрат, ничем не заменяемых, – тогда как в христианском мире по-настоящему нет утрат! Гибнет только то, что не наше; все же, что составляет верное достояние и сокровище нашей души, упрочено ей на всю вечность. До христианства душа, еще не воздвигнутая искуплением, была преисполнена темным чувством падения, тайною, часто неощутительною печалию (эта печаль относительно внешнего есть то, что я называю меланхолиею). Христианство, победив смерти и ничтожество, изменило и характер этой внутренней, врожденной печали. Из уныния, в которое она повергала и которое или приводило к безнадежности, губящей всякую внутреннюю деятельность, или насильственно влекло душу в заглушавшую ее материальность и в шум внешней жизни, – оно образовало эту животворную скорбь, о которой я говорил выше и которая есть для души источник самобытной, победоносной деятельности.
Но отчего выражения меланхолии мы не находим в поэзии древней и отчего им так изобильна поэзия христианская? Древние по той же причине не выражали меланхолии в идеальных произведениях поэзии и искусства, по которой они ее выгнали из своей действительной жизни. И мы видим, как все эти произведения чисты и далеки от всякой туманности, от всякой таинственности, придающей такую прелесть произведениям поэтов и артистов неклассических. Жизнь древних отразилась перед ними в созданиях искусства, во всей ее пластической определенности. (Ибо что иное искусство, как не слепок жизни и мира, сделанный таким точно, каким видит и понимает его душа наша?) Как же очутилось выражение меланхолии в поэзии христианской? Сперва надобно сделать в этом вопросе маленькую поправку: не в поэзии христианской, а в поэзии по распространении христианства. Великая разница. Поэт, наполненный духом Евангелия, – поэт христианин не может ни сам предаваться той меланхолии, о которой говорено выше, ни передавать ее поэзии. Его вдохновение имеет иной характер. В Данте нет меланхолии; в Шекспире ее нет; в Вальтер Скотте ее не найдешь. Но между тем она одна из самых звучных струн романтической лиры (то есть лиры, настроенной после распространения христианства). Этот феномен изъяснить нетрудно. Христианство открыло нам глубину нашей души, увлекло нас в духовное созерцание, соединило с миром внешним мир таинственный, усилило в нас все душевное – это отразилось в жизни действительной: страсти сделались глубже, геройство сделалось рыцарством, любовь – самоотвержением; все получило характер какой-то духовности. Это равномерно отразилось и в поэзии – и тогда, как древний поэт схватывает живо, свежо и резко окружающие его материальные образы и только поверхностно, но с удивительною верностию изображает страсти, столь же поверхностные, как и их изображение; поэт романтический, менее заботясь о верности своих очерков, менее заботясь о красоте пластической (в изображении которой, впрочем, и не сравнился бы он с древними, успевшими прежде его схватить все главные черты), углубляется в выражение таинственного, внутреннего, преследует душу во всех ее движениях и высказывает подробно все тайны. Теперь пускай поэт романтический, введенный христианством во все тайны души человеческой, не будет в собственной душе своей иметь христианского элемента; пусть будет он по своему вероисповеданию язычник (а язычник-романтик гораздо более язычник, нежели язычник-классик; сей последний – язычник по незнанию, а тот язычник по отрицанию), пусть будет он христианин только по эпохе, в которую живет, и неверующий по своему образу мнения и чувствования – в какую бездну меланхолии должна погрузиться душа его, обогащенная всеми сокровищами отрицаемого им христианства! В этом арсенале – то есть в арсенале меланхолии – найдет он самые сильные свои оружия, древним неизвестные и тем сильнейшие, что они будут в противоположности с окружающим его миром и что он сам от оппозиции с этим миром присоединит к сильному меланхолическому чувству силу негодования и презрения. Пример Байрон: конечно, обстоятельства жизни помогли освирепеть его гордому гению; но главный источник его меланхолического негодования есть скептицизм. Как поэтическая краска, меланхолия из всех поэтических красок самая сильная; поэзия живет контрастами. Самые привлекательные характеры (то есть поэтически привлекательные) в поэзии суть те, которые наиболее возбуждают чувство меланхолическое: сатана в Мильтоновом Раю, Аббадона у Клопштока. В христианском мире, где все ясно и прочно, картины меланхолические никого не пугают; мы наслаждаемся ими, как человек, сидящий на берегу, наслаждается зрелищем бури. И поэты романтические до излишества пользуются сим действительным способом производить поэтическое впечатление. Но их меланхолические жалобы, несовместимые ни с христианскою скорбию, ни с христианским покоем, из этой скорби истекающим, могут быть трогательны и действительны только тогда, когда выражают не вымышленное, а действительное страдание души, томимой чувством собственного ничтожества и неверности всего, что мило ей на свете, тем более резким, что они сами бежали с отвергнутого ими неба или не имели силы войти в его врата, отворенные христианством, и плачут о нем ввиду его света, как Аббадона, или негодуют на него, как сатана, его оттолкнувший. Самый меланхолический образ представляет нам сатана. Он пал произвольно; он все отверг по гордости; он все отрицает, зная наверное, что отрицаемое им есть истина. Итак, божественное ему ведомо, и оно было его собственностью, и он, зная его, произвольно свое знание отрицает… неверие с ясным убеждением, что предмет его есть верховная истина и что эта истина есть верховное благо, – что может быть ужаснее такого состояния души и в то же время что грустнее, когда представишь себе, что сей произвольный отрицатель был некогда светлый ангел!
Надобно кончить. Но я написал свое длинное рассуждение (короче написать не успел) по поводу твоих возражений, собственно в ответ на твои слова не сказал ничего. Следует на минуту и к ним обратиться. «Конечно, – говоришь ты, – в Горации есть уныние, но это уныние ведет к тому, что надобно торопиться жить, пить и веселиться». И я то же говорю; и эта поспешная жадность хватать наслаждение есть признак боязни, что оно быстро уйдет и навеки. «Христианское уныние ведет к тому, что уныние есть обязанность, душа жизни». Христианского уныния нет, а есть христианская скорбь; она не есть обязанность; она истекает из самой природы падшего и чувствующего свое падение человека; и потому она может назваться душою жизни; но она не парализирует, не расслабляет и не мрачит жизни, а животворит ее, дает ей сильную деятельность и стремит ее к свету. Без веры сия скорбь могла бы привесть к унынию и отчаянию; с верою она ведет к светлому миру и смирению. «Верую, Господи! помоги моему неверию!» Эту молитву я слишком знаю, но она есть крик не уныния, а скорби, и если этот крик вырывается из глубины сердца, то на него будет ответ несомненный, ибо сердце знает, к кому вопиет; знает, что этот, им призываемый, ему внемлет, что вера есть величайший дар его благодати и что он дает ее, когда произвольно и покорно протянешь руку для принятия его дара. Спаситель на горе скорбел, как человек, но он не унывал, и в эту минуту предпоследнего его земного поприща выразился в нем весь им преобразованный человек, во всей силе своего земного страдания (душа моя прискорбна до смерти; да пройдет чаша мимо) и во всей божественности своего ведущего к небу смирения (не якоже аз хочу, но якоже ты). Страдание и молитва на горе Елеонской есть верховное изображение жизни христианина, которая вся выражается в одном слове: смирение, – «Религия древних есть наслаждение; ему строили алтари, и вся жизнь древних была ему служением». Это совершенная правда; но это говорю и я. – «Религия наша есть страдание; оно первое и последнее слово христианина на земле». Вернее сказать: религия наша есть утешение! страдание есть принадлежность жизни. Ни мы сами не найдем, ни постановления гражданские не создадут для нас такого счастия земного, которое было бы без утрат, и никто не выгонит из жизни испытующего или губящего ее несчастия, из нас самих или из обстоятельств внешних истекающего. Одна религия – и религия христианская (ибо другой быть не может) – заговорила несчастие, заменила высшими, прочными благами блага минутные, и страдание, столь противное безверию, превратилось в драгоценнейшее земное сокровище. Что перед этим наслаждение (то есть наслаждение, взятое как главная пружина жизни)? Чувственное раздражение души, повергающее ее наконец в такое же состояние, в какое излишнее употребление опиума повергает тело. И что должно таиться в глубине той жизни, которая этому идолу строит алтари и ему одному себя покоряет? – «С Евангелием должно было войти уныние в поэзию». Правда! то же говорю и я; но это уныние, вошедшее вместе с Евангелием в поэзию, не из Евангелия вышло. Это объяснено выше.
Последняя твоя фраза весьма замечательна, как остроумное злоупотребление слова: «Не будь бессмертия души, не будет сомнения и тоски; смерть тогда сон без пробуждения, и прекрасно! О чем тут тосковать? Все уныние, вся тоска в том, что, засыпая, не знаешь, где и как проснешься; тоска в том, что на жизнь смотришь, как на лоскуток чего-то, как на программу, как на лотерейный билет, не зная, что вынешь. Незаменяемость здешней жизни, раз утраченной, ввиду чего-то, ввиду живого чувства, была бы грустью; но ввиду бесчувствия, ничтожества она и сама ничто. Кажется, Сенека сказал: «чего бояться смерти? При нас ее нет, при ней нас уже нет!» Вот вероисповедание древнего мира. А у нас напротив: смерть начало всего! Тут поневоле призадумаешься». Читая это, подумаешь, что оно написано не живым, а мертвецом, заснувшим тем непробудным сном, который так приятен и роскошен, когда он уже наступил и когда начал нежить усталые члены сибарита, им улелеянного и вбирающего в себя всю сладость усыпления, всю роскошь бесчувствия и самозабвения; подумаешь, что, полупробужденный на минуту каким-нибудь гальваническим процессом, этот мертвец высказал, без своего ведома, свою могильную тайну живущим, тайну, из которой следует, что сон ничтожности покоен. Хорошо для мертвых; но какая польза от этой тайны живущим, пока они живы, пока они действуют, любят, замышляют великое, страдают, терпят гонение и проч. и проч.? Хорошо же твое вероисповедание древнего мира! Если оно подлинно таково, то что безнадежнее и мрачнее? Если оно подлинно таково, то поневоле, как говоришь ты, призадумаешься; поневоле примешься потом плясать, пить, веселиться, и нет, чтобы как-нибудь докружиться до этого сна беспробудного, столь сладкого, как мгновенное последнее событие, и столь печального, как цель целой долговременной жизни. Чтоб отвечать ясно на твою последнюю фразу, надобно просто ее переписать, с некоторыми только вставками. Не будь бессмертия души, не будет и сомнения – а будет, напротив, полное убеждение, что жизнь есть дело случая, преданная во власть слепой необходимости, без ободрительного будущего, с прошедшим навеки утраченным, с одною мечтательною минутою настоящего, которую скорее надлежит заклеймить наслаждением, чтобы хоть что-нибудь урвать (без надежды его сохранить) у мимолетящего призрака жизни; не будет и тоски, то есть не будет стремления ни к чему, обещаемому надеждою, упроченному верою, ни к чему еще не нашему, но верному и заменяющему с лихвою наше здешнее неверное; смерть тогда сон без пробуждения, и это совсем не прекрасно! И есть о чем тут тосковать тому, перед кем мерещится вдали один только этот сон, как итог, как последний результат жизни; эта вся тоска особенно состоит в том, что, засыпая, он не знает, где и как проснется; не знает потому, что смотрит на жизнь сквозь черное стекло скептицизма, а не при свете истины Спасителя, который говорит: «Да не смущается сердце ваше! веруйте в Бога и в Меня веруйте; в дому Отца Моего обители многи суть; иду уготовать место ваше, да и вы там будете, где Я буду». Вся тоска в том, что он смотрит на жизнь, как на лоскуток чего-то, как на программу, как на лотерейный билет, не зная, что вынется;и смотрит так потому, что, заключив эту жизнь в тесных пределах здешнего праха, хочет ее разгадать своим умом, строящим свои доказательства из того же праха, по закону необходимости, признаваемой гордостью его за свободу, и не спрашивается с вечным откровением, которое на все дает ответ удовлетворительный, которое в мнимом лоскутке показало бы ему вечное целое, истолковало б ему непонятую им программу, в которой все содержание жизни с ее начала до вечности подробно означено, и убедило бы его, что жизнь не билет лотерейный, вынимаемый Паркою из урны фатума, а вечный жребий, благодатно даруемый свободной душе любовию и правосудием спасающего Бога. – Следующих строк я не совсем понимаю, потому и прохожу их мимо. А Сенека, по своему обыкновению, сумничал: мысль его в переводе на здравый смысл можно выразить так: пока мы живы, то еще не умерли; а когда умерли, то уже не живы. Нужно было играть словами, чтоб сказать такую великую истину! Наконец последнее: «А у нас напротив: смерть начало всего! Тут поневоле призадумаешься». Подумаешь, что, поставив эту смерть в противоположность с вероисповеданием древних, ты хочешь тем сказать, что у них всему начало жизнь. Правда, у древних все жизнь, но жизнь, заключенная в земных пределах; и далее ничего: с нею всему конец! У христиан все смерть, т. е. все земное, заключенное в тесных пределах мира, ничтожно, и все, что душа, – нетленно, все жизнь вечная. И все это оттого, что у них есть Один, Который смертию смерть попра и сущим во гробех живот дарова!
О внутренней христианской жизни
Случайно попалась мне в руки маленькая книжка: Das ferborgene Leben mit Christo im Gott (О тайной жизни с Христом в Боге), извлеченная из сочинений Берньера Лувиньи. Я прочитал ее с великим наслаждением и бросил на бумагу несколько мыслей, возбужденных ее содержанием. Сообщая читателю эти мысли в том порядке, в котором они мне при чтении приходили в голову, нахожу нужным сказать прежде несколько слов о самом Лувиньи. Следующее есть краткая выписка из предисловия к упомянутой книжке.
Жан Берньер Лувиньи, французский дворянин древней нормандской фамилии, жил в XVII ст. Знаменитость его рода, его добрые свойства, его приятность в обращении с людьми, его ум открыли ему весьма рано дорогу к почестям и к уважению общества. Но в самое то время, когда он быстро преследовал славу земную, был он настигнут на дороге своей Богом: просвещенный благодатию, он отвратился от ненадежного земного счастья и предал себя неразделимо в руки своего Создателя. Он следовал постоянно и без оглядки сему призванию свыше и до своего 57-летнего возраста вел удаленную от мира, святую жизнь. Его сочинения (изданные после его смерти) свидетельствуют о его внутренней жизни пред Богом, о свете и опытности его на дороге внутреннего христианства. Он сам описал свою жизнь; но это сочинение не было напечатано. О внешних его действиях известно только то, что он щедро делился светским добром своим с неимущими светскими братьями и что во всякое время готов был подавать им помощь материальную и духовную. Бог избрал его орудием для привлечения многих на стезю внутренней жизни. Но вообще он любил уединение, чуждался общества людей, особливо людей, отчуждивших себя от Бога, и посещал их по одной только необходимости. Об нем говорили, что он никогда не выходил из кабинета души своей, даже и в обращении с людьми, с которыми нередко должен был принимать участие в делах, требовавших напряжения всех умственных его способностей.
Ученый епископ Гюэ, живший в Каэне по соседству с нашим автором, говорит о нем следующее: «Сложив с себя звание королевского собирателя доходов, он выбрал для житья своего в городе самое уединенное, самое далекое от шума человеческого место; там он имел сообщение с весьма немногими сходными с ним в образе мыслей друзьями. Он вполне посвятил себя служению Богу: благотворил бедным и старался всеми средствами приносить человечеству пользу. Трудно определить, до какой обширности он распространил на земле царство Божие примером добрых дел и постоянством богоугодной своей жизни. Я был его близким соседом, видел своими глазами все его действия, и меня воспламенило сильное желание подражать ему. Но пылкость молодости, обольщения света и суетное честолюбие воспрепятствовали мне покориться Богу, столь благостно меня призывавшему».
Многие из ученых современников Лувиньи свидетельствовали о нем и о сочинениях его с великою похвалою. Аббат Бодран называет его великим, на пути внутренней жизни просвещенным служителем Божиим.
Он умер 3 мая 1659 года на 57-м году своей жизни. Смерть его была блаженная, сладостная смерть праведника, спокойный исход души из тела для соединения своего в жизни возвышеннейшей с Богом. Это случилось, когда он совершал свою вечернюю молитву. Он не был болен прежде, не имел никакого болезненного ощущения и в ту минуту, когда начал свою молитву. Его камердинер, видя, что он долее обыкновенного не зовет его к себе, вошел к нему сам и сказал: пора ложиться в постель, ваш час давно прошел. Но добродушный Лувиньи с своею всегдашнею ласковостью попросил его подождать еще несколько времени. Камердинер вышел. Спустя четверть часа он возвращается и видит, что господин его стоит на коленах и молится, – хочет начать с ним говорить, но скоро узнает, что душа его отошла. Так он в одну блаженную минуту перестал умирать и начал жить; телесные узы, которые могли бы еще долго препятствовать ему перейти к Отцу Небесному, были тихо разрешены в сладостном объятии Божием, и плод, созревший для вечности, без потрясения пал в отворенную для принятия его руку Божию.
Но святость жизни не спасла его от сатанинского гонения врагов Христовой церкви; он много претерпел посрамления, презрения и хулы.
Его сочинения были собраны после его смерти большею частию из его писем. Главное содержание их есть внутреннее и внешнее согласование жизни нашей с Иисусом Христом, особенно в любви к бедности, к презрению и к страданию – согласование, производимое посредством тесного с ним соединения, постоянною духовною молитвою, младенческим поведением в присутствии Бога. Он писал от сердца, и слова его проникают прямо в сердце. Книги его были так любимы и так жадно читаемы в то время всеми, что одна из них имела 12 изданий в один год и ее раскуплено было более 30 000 экземпляров. Другое его сочинение имело до двадцати изданий. Можно надеяться, что и в наше время найдутся сердца, доступные такому чтению; те же, для которых оно не будет привлекательно, не должны, по крайней мере, возбранять другим любить его, не должны порочить того, что им самим недоступно.
Блаженна душа, способная глубоко чувствовать, следовательно, способная любить и жертвовать своим любимым предмету любви верховной, способная предаваться ему и быть им преисполнена. Блаженна душа, способная глубоко мыслить и, следовательно, постигать величие Создателя и ничтожность создания и в сем постижении почерпать смирение. Итог сих двух верховных блаженств мысли и чувства есть уничтожение своей воли пред волею Божиею. Но что, если душа лишена и того и другого блаженства и если в то же время она, вполне ощущая свою нищету, знает, однако, в чем состоит верховное благо, и, зная это, равномерно знает, что это благо ей недоступно, что тогда? Тогда остается ей одно: принять, как крест, из рук Господних сию ничтожность, сию внутреннюю, из нее самой истекающую бедность с таким же смирением, с каким бы она приняла всякое внешнее, из воли Божией непосредственно истекающее бедствие, быть верною смирению и любви – без всякого ощущения их блаженства или даже вопреки сему врожденному неощущению. Одного душа не позволяй себе: ропота и отрицания. Это бедствие не от Бога. Все прочее есть им даруемый крест. Венец терновый – все венец, то есть цена и знак победы.
Уметь во всякое время, во всех обстоятельствах жизни произносить смиренно: да будет Твоя воля есть верховная наука жизни. Блажен, кто произносит это слово с глубоко чувствуемым убеждением, что Тот, к Кому он его обращает, соприсутствен, близко, слышит и ответствует. Но и для того, кто не имеет благодати такого чувства, великое утешение, по крайней мере, великая душевная опора, заключается в самом смысле этого слова. Никому не дано постигнуть цели наших земных страданий; но каждый может постигнуть, что они от Бога, который всемогущ, следственно, источник одного только блага. Наше дело только в знании, что все – его воля и есть благо. Понимать ее мы не можем и не должны заботиться о невозможном. Принимать ее без толкования и ропота, с смирением и обожанием – вот наше единое на потребу. В чем же бы состояла и покорность, если бы мы могли дать себе отчет в тех причинах, которые определяют ее, и если бы могли постигнуть ясно судьбы неисповедимые? Мы должны покоряться Богу потому, что он Бог; а как покоряться ему, тому научил он сам примером Христа, спасительным его страданием и смирением.
Мы оттого впадаем в сомнения и в неверие, что хотим обнять все и постигнуть всеобщий порядок. Тот, кому дано наукою рассмотреть частицу этого порядка, более других подвержен опасности впасть в безверие, ибо он свою частицу принимает за целое и ею это целое измеряет. Ему труднее других сказать: да будет Твоя воля.
Одно верно: Бог существует; все сотворил и всем управляет; все, что от Него происходит, есть благо, следственно, и все, происходящее с нами, происходя от Бога, должно быть благо, и благо не потому, что мы таким его признаем, а потому оно от Бога. Следственно – покорность без разбора, умствования и ропота.
Бог не может посылать человеку страданий только для того, чтоб душа его страдала. Но сколько, однако, таких страданий, которых мы цели понимать не можем! На что в таком случае опереться? На мысль о Боге. Страдание от Него, следовательно, дар Божий – следовательно, благо. «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте».
Искупление даровало нам возможность постигнуть Бога человеческим образом и снова вступить с Ним в союз первобытный. Без веры во Христа невозможна живая вера в Бога. И философические и все идолопоклоннические религии доказывают только одно: необходимость воплощения. Философическая религия доказывает сию необходимость невозможностию полного убеждения умственного, а религии идолопоклоннические доказывают ее необходимостию образа человеческого божеству, дабы оно было постигаемо нами как присутствующее, нам содействующее, нас любящее и требующее любви нашей.
Достоинство человека единственно в его смирении пред Богом и в его стремлении к Богу. Такое достоинство может иметь только христианин, понеже он один имеет веру в откровенного Бога. Веры в Бога, созданного нашим умом, мы иметь не можем: эта вера не имеет основания. Там нет веры, где ей должно предшествовать убеждение, основанное на очевидности. Откровение объясняет нам и природу человека, и отношение человека к Богу. Природа человека – свободный божественный дух, облеченный в тело, которым он может властвовать и быть обладаем. Вследствие сей свободы – падение, вследствие падения искупление, вследствие искупления возможность святости и спасение вечное.
Наше верховное благо состоит в признании воли Божией и в то же время в признании ее неисповедимости. Что́ бы мы были без этого верховного блага, посреди бесчисленного множества бедствий житейских, тем более ощутительных, чем способнее душа любить и мыслить. Или, не постигая наших бедствий, мы бы приписывали их слепой силе, владычествующей всем созданием и нашею судьбою. В таком случае наше терпение было бы не иное что, как механическая безнадежность в присутствии неизбежного, необходимого бедствия, – надменная сила стоиков или беспечная чувственность эпикурейцев, или просто тупоумие и безжизненная одеревенелость толпы, рабски согбенной под рукою железного фатума; в таком случае самым высоким, самым естественным актом жизни было бы самоубийство. Или мы бы старались постигнуть наши страдания и извлекать из этого ясное понятие о их необходимости, справедливости и всегда добрых их следствиях, наше понятие о Божием Промысле. Такое напрасное усилие ума нашего произвело бы действие совсем противное: оно бы уничтожило нашу доверенность к Промыслу. Наши страдания редко бывают для нас понятны и в причинах своих, и в цели своей, и в своих последствиях. И на этом понятии непонятного должны мы основывать свою доверенность к Промыслу Божию. Не потому должны мы признавать его благим, что понимаем ясно его благость в ее на нас действиях. Мы должны ему покорствовать потому, что он Бог и, следственно, благ, как в ощутительном, ясном для нас добре, которое мы сами называем добром, так и в неощутительном, непонятном для нас добре, которое мы ошибочно называем злом. В такой беспрекословной покорности нет колебания; везде и всегда она для нас одинакова; она не есть плата Богу по таксе, не есть размен нашего смирения на Его милость; она есть смиренная, любящая, покоряющая ум и волю вера, вера, что Он существует и что мы в руке Его, – несказанная, чудно крепящая и успокаивающая душу сила заключается в этой безусловной преданности в Вышнюю Волю, в которой, не стараясь ее постигать, мы видим верховную Благость, верховную мудрость, верховное могущество. Это не стоицизм, хвастливо опирающийся на свою независимую силу и на гордое презрение судьбы, – безотрадный обман нашего самолюбия; это не предание себя во власть необходимости, мертвого, механического предопределения, уничтожающее всякую нравственность, всякое достоинство человеческое; это – верховная свобода, верховное величие. Мы становимся содействователями самого Бога; мы говорим с святым Августином: Бог всегда исполняет мою волю, ибо моя воля есть всегда Его воля.
«Кто имеет Бога, тот легко теряет все ему милое и даже радуется его утрате», говорит Лувиньи. Это не есть равнодушие; выводить из любви исключительной к Богу равнодушие к земному милому было бы ложною мыслию. Мы не можем любить Бога тою любовию, какою мы любим сокровище земное. Мы можем Его любить как сокровище верховное, как такое сокровище, которое составляет, так сказать, прямое достоинство всего, что есть прекрасного, желанного и достойного любви в нашей жизни. Земное счастие может быть прекрасно и драгоценно только Богом, его дающим; земное страдание теряет свою мрачность потому, что являет нам Бога вблизи как помощника, кладущего руку свою в нашу руку. Итак из того, что земные блага имеют для нас свое достоинство только Богом, следует, что сии блага должны быть достойны Бога. Блага, Его недостойные, или пред Ним исчезают, или Его для нас заставляют исчезнуть. От этого всякий предмет нашей любви становится Его достойным, когда эта любовь освящена любовью к Нему; а любовь к Нему не уничтожает в нас нашей земной, достойной Его любви, но только дает ей надлежащую прочность, сделавшись ее основанием и опорою. Таким образом, и предметы нашей любви, опираясь на нашу любовь к Богу, становятся не подверженными утрате: они или в Нем для нас упрочиваются, или Он становится их заменою, и тогда мы, теряя их, только меняем худшее на лучшее. Тратя здоровье, богатство, почести, мы выигрываем терпение; тратя своих милых, мы только их передаем лучшему; за них мы радуемся, за себя плачем, но плачем на груди Отца Небесного, Который, облекая лицо их гробовым покровом, тем самым разоблачает для нас отеческое лицо Свое. В этом нет равнодушия к тому, что нам мило, и любовь к Богу не только не требует такого равнодушия; она производит противное. Любовь к Богу не потому благодетельна, что она мешает нам плакать о наших милых, а потому, что заставляет нас смотреть на нашу скорбь с высшей точки зрения, потому что крики скорби превращает в молитву, именующую и изъясняющую Бога.
Будь чист сердцем, и будет в нем присутствие Бога (блажении чистые сердцем, яко тии Бога узрят); но человеку не дано быть непрестанно в присутствии Божием – душа не снесла бы такого состояния. Как для жизни вообще нужно поддерживать тело (материальную оболочку души) пищею, сном, движением и проч. (действие чисто материальное); так для жизни духовной, для жизни в Боге нужно поддерживать жизнь душевную ее деятельностию посреди окружающего ее создания. Душа, образуемая сею деятельностию, устремленною на материальное, приобретает через то более способности для деятельности духовной; тогда имеет она минуты уединенные с Богом, минуты, проводимые не в мире внешнем с созданиями, а в своем внутреннем святилище с Богом-Создателем. Когда душа вступает в это святилище, тогда оно отовсюду затворяется, и в него она вносит одно чистейшее из внешнего мира: или чистую радость ощущаемого ею присутствия Божия, или чистую сладость праведности, или чистую скорбь покаяния. Там приносит она в жертву все житейское, ощущает всеуничтожающую прелесть божественного, им освящает все земное, и оттуда возвращается она с новым светом во мраке земного на указанное ей место житейской деятельности, которая тогда успешнее совершается в этом жизнедательном свете и посреди которой не только не забываются уединенные беседы в святилище, но усиливается стремление в него возвратиться для утверждения воли в добре, для успокоения сердца в страдании, для решения мучащих ум сомнений, для запасения себя новыми силами на борьбу с житейским, посреди которого в свою очередь собирается потом новый запас сил для возобновления беседы с Богом.
Что такое присутствие Божие? Что такое соединение души с Богом? На эти вопросы почти так же трудно отвечать, как на вопрос: что такое Бог? Это не есть мысль – всякая мысль выражается словом внутри души и получает определенный духовный образ: как же вместить в границы слова Бога и его присутствие? Это не есть чувство – в самом нежном чувстве есть нечто материальное, то есть нечто, непосредственно привязывающееся к какому-нибудь ощутительному предмету или из него истекающее. Что же оно такое, если не мысль и не чувство? Я бы сказал: уничтожение того и другого, чистое ощущение своего духовного бытия, вне всякой ограничивающей его мысли, без всякого особенного и его стесняющего чувства, а просто душа в полноте своего бытия, следственно, душа в Боге, ибо Он есть верховное бытие, а душа непосредственно из него истекает. Такое бытие есть синоним смерти, истребляющей в бытии все недуховное. Мы можем иметь только мгновения такого бытия, несовместного с земною жизнию; но сии мгновения суть мгновения вечные, обхватывающие временное и ему дарующие неизменяемую божественность, истребляя в нем мало-помалу все изменяющееся, житейское. Сие состояние, в котором душа чувствует свое чистое бытие или себя в присутствии Бога, может быть постоянным для тех, в которых совершилось полное преобразование. Но и для них безмятежное, постоянное пребывание в Боге не исключает разнообразной деятельности в мире; оно, так сказать, ее объемлет, ее проникает, как воздух, окружающий все создание. Оно возможно только христианину. Что такое искупление? Возвращение человеку утраченного им присутствия Божия. В сие присутствие он может быть введен только Христом. Бог сошел во Христе к человеку, человек только Христом может возвыситься к Богу. Аз есмь путь.
Состояние души в присутствии Бога и ее с Ним соединение есть сладчайшее чувство нашего частного бытия, погруженного в божественное, без всякой примеси чувственного, без всякого воспоминания о земном обладании, чувство внутреннего, полного покоя, с сладостным, произвольным смирением, с радостною преданностию, с глубоким ощущением своей безопасности, своей детской зависимости от благостного всемогущества. В этом чувстве нет ничего ни внешнего, предметного (objectif), ибо его предмет не извне на нас действует, ни личного (subjectif), ибо мы сами для себя в нем исчезаем; в нем соединяется и то и другое в какой-то необъяснимой для нас неопределенности, в какой-то неограниченной полноте, ясное, но вместе и непостижимое и невыразимое. Кто испытал подобное, тому, конечно, все иное становится безвкусным и нежеланным, но оно не для всех; души избранные или очищенные могут пребывать в этом неизглаголанном состоянии, – но вообще оно есть минутное преображение нашей души, напоминающее о том преображении Спасителя, которое совершилось мгновенно на вершине Фавора для избранных апостолов и разлияло свет свой на всю их жизнь, проводимую у подошвы горы, посреди забот житейских. Иди за Спасителем на вершину горы Фавора, озарись светом Его преображения, но на ней ты остаться не можешь.
Обращение, соединение с Богом внутри души – само по себе есть чувствование себя в присутствии Божества; сила, глубокость и влияние на нас такого чувствования зависят от большей или меньшей ясности для нас присутствия Божия, от большей или меньшей ясности нашего понятия о самом Боге (не философическом, умственном, из нашей идеи извлеченном Боге, а о Боге откровенном, чрез Христа Спасителя вошедшем в нашу жизнь). Неизглаголанно состояние души, в глубине которой присутствие невидимого Бога так же ощутительно, как присутствие всякого другого видимого предмета; но на такую высоту душа подымается не вдруг, а на крыльях, даруемых благодатию и обученных опытом держать ее на высоте. Иным избранным душам даны рано могучие крылья: на них они могут возлегать высоко (но с высоты падать); они по природе своей блаженствуют в сей божественной высоте. Другие, менее одаренные души, по природе своей без крыльев (но с способностию приобресть их, хотя часто обстоятельства замедляют развитие сей способности и даже ему противодействуют), они медленно тянутся вверх, и там, где другие избранные постигают блаженство обожания и созерцания, где другие веруют и любят, обретая в себе и во всем любимого ими Бога, они только знают Его, как решенную для них проблему, не отрицают, а смиренно покорствуют: в них еще нет ни надежды, ни любви, ни даже веры: в них одно только произвольное неотрицание, и вследствие его безропотная покорность. Все их земное сокровище состоит в слове: есть Бог, знаю и покоряюсь. И один только Бог Своею благодатию может им помочь не пасть под бременем сей произвольной, смиренной, безотрадной покорности, может прикрепить к их бедным плечам могучие крылья Своей благодати.
Не всем дано быть тем, что был Лувиньи. Отчего сие различие даров? Почему одним дано, у других отнято? Мы не знаем и в том (как и во всем) не должны требовать отчета от дающего. Ибо и самое отнятие, происходящее от Его воли, есть дар. Наш главный долг и в то же время наше главное благо: покорность. И всякому из нас открыта к Нему дорога; но почему одна из сих дорог идет через пышный луг, полный цветов, а другая через мерзлую тундру, это знает Он – наше дело знать, что у нас под ногами дорога и что она ведет к Нему. С моей тундры я могу видеть тот прекрасный луг, по которому идет Лувиньи, могу даже пользоваться цветами, которые он ко мне перебрасывает, но не властен из тундры моей создать его луг и даже не должен желать перейти на сей луг с указанного мне места; я должен покорно идти и знать, что все дороги наконец сольются у входа в одно общее пристанище, равно для всех, совершивших путь свой, блаженное. Будем же пользоваться цветами луга твоего, избранный Богом Лувиньи, не завидуя твоему избранию, благоговея пред твоим величием, смиренно признавая свое недостоинство. Не испытав никогда вполне того блаженства, которое так часто ощущаешь ты в собеседовании твоей освященной души с Богом и так понятно выражаешь твоим младенческим языком, я бы желал изъяснить словом то, что было тебе так ясно без слов, именно: что́ такое присутствие Божие и что́ такое соединение наше с Богом? Мы не можем беседовать с Богом, как мы беседуем с нашими друзьями. Чем мы уединеннее, чем отдельнее от всего внешнего, тем мы к Нему ближе, тем мы, так сказать, внутреннее с Ним; тем опустошеннее душа от всего житейского – но что же тогда в ней? Здесь постигаем все благо и всю истину христианства. В ней Бог, Сам по Себе невообразимый, невыразимый и недоступный; но в ней и Христос Спаситель, в Котором все земное, прекрасное, драгоценное, чистое слилось и божественно преобразилось, дабы недоступный, непостижимый, неизглаголанный Бог вселенные сделался сокровищем, собственностью, ясным предметом любви и собеседником всякой души человеческой отдельно. (Сие присутствие Бога и чувство, наполняющее душу в сем присутствии, можно сравнить с состоянием больного, близ задернутой постели которого сидит его друг (в то же время и его лекарь); страдалец знает об этом, и это знание служит ему отрадою в болезни, которой определенному ходу он беззаботно тогда предается.) Душа наша не снесла бы невместимого в нее Бога: ей не дано ни понимать Его мыслию, ни познавать Его очевидностию, ни выражать Его словом – между Им и ею бездна ее падения. Но в Христе Бог всемирный приближается к человеку братом, отцом, искупителем, наставником, образцом, и все сии имена, не уничтожая Его неизглаголанного, всемирного величия, делают Его человечески приблизимым, и душа, приближаясь к Нему, Его видит, слышит, чувствует, объемлет и любит. Без посредника мысль Божества была бы невыносима для души нашей (и по своей необъятности и по нашему падению). Доказательством служит тому то, что человек, не просвещенный откровением, или создает для себя идола, или впадает в метафизическое безверие. Там он делает себе Бога материально доступным; здесь он Его уничтожает, превращая Его в отвлеченное Понятие, никакой самобытности не имеющее: в обоих случаях он бессилен снести истинного Бога без откровения.
Могли ли бы мы (то есть мы, люди, с нашею человеческою природою) любить Бога, если бы мы были совершенно одиноки и вокруг нас ничто бы не существовало. Мы любим Бога в нашей любви к созданиям Божиим, в любви к добру, в любви к природе, в любви ко всему, что Его достойно, и в ненависти ко всему, что противоречит Ему. Сия любовь, обращающаяся на создание, есть, так сказать, видимый образ нашей любви к Создателю. Без первой последняя здесь существовать не может, как не может человек существовать без соединения тела с душою. Но как тело должно быть подчинено душе, так любовь к созданию должна быть подчинена любви к Создателю; как из бренного союза тела и души на земле – если душа удерживает над телом духовную власть свою – истекает впоследствии одна чистая, высшая жизнь духа в царствии Божием, так из сей любви к созданию, подчиненной любви к Создателю, истекает наконец чистая любовь к Богу – сия святость души, которой еще и в здешней жизни некоторым избранным бывает дано достигнуть.
«Какое мне дело до создания, когда Создатель со мною и я с Ним», говорит Лувиньи. В этой мысли, сколь ни высоко ее значение, есть нечто преувеличенное, следовательно, ложное. Мы на земле, в кругу созданий Божиих, на том месте, которое Им Самим нам указано, – следовательно, наше земное дело определено Им Самим; к такому назначению мы не можем и не должны быть равнодушны, ибо именно в том и состоит наша любовь к Создателю, что мы в указанном от Него нам деле видим и любим Его волю, постоянно, заботливо ее исполняем и таким образом в границах создания созреваем для Создателя; и эти границы (из которых, пока длится земная жизнь, мы выходить не должны) стесняют только для того нашу душу, чтобы, так сказать, питать и увеличивать эластическую силу ее стремления высшего. Итак, создание, нас окружающее, нам нужно; только посреди создания могу быть с Создателем и Он со мною.
Кто скорбит об отсутствии друга, говорит Лувиньи, тот еще не узнал вполне, еще не достиг до того света, что Друг Великий всегда с нами. Исключает ли такая скорбь ощущение величия и присутствия Божия? Напротив, она его усиливает и углубляет в душу. Не уничтожение привязанности к созданиям производит в нас полную любовь к Богу, но ее освящение мыслию о Его присутствии и, следственно, любовию к Присутствующему. Совершенное уничтожение такого рода привязанности столь же не нужно и бесполезно, как уничтожение наших телесных чувств, соединяющих нас с внешнею природою и не только не препятствующих, но дающих нашему внутреннему оку возможность видеть в ней Бога. Что бы в противном случае значила Божия заповедь: люби своего ближнего, как самого себя? Но, конечно, перед любовию к Богу и к Богу Христу исчезнет всякая любовь к созданию – исчезает, то есть не перестает быть, но становится подчиненною, не главным предметом, а только посредником между нами и главным. И любовию ко Христу всякая земная чистая любовь приобретает высокое свойство, ибо мы тогда любим то, что не в противоречии с святостию главной нашей любви и что, сею главною любовию освященное, приобретает от нее и высшее неизменяемое достоинство.
Сия живая, нежная, пламенная, благодарная, соединенная со взаимностию любовь к Богу, о которой говорит Лувиньи, возможна только к Богу откровенному, к Богу, узнанному нами в Христе Спасителе. Бог философический, на живую нитку сшитый нашим умом из клочков его умственных заключений, есть, так сказать, умственный идол, которому мы поклоняясь, мы поклоняемся сами себе и собственной нашей идее. Эта идея, нами созданная, есть нечто, не могущее иметь с нами никакой взаимности: в существовании этой взаимности не убедится тот, для кого Бог есть одна проблема, заданная умом, но умом неудовлетворительно разрешенная и не основанная ни на какой очевидности. Если некоторые возвышенные души и поклонялись своему метафизическому богу, то это есть только следствие их особенной природы: в них происходит нечто отдельное от умственных заключений, нечто как бы внутреннее откровение, которое они принимают независимо от убеждения умственного и даже вопреки ему. Вера в Бога может быть только откровение. Бог не есть идея; Он лицо, живой предмет; наша мысль Его изобресть не может. Но мы судим о предметах земных по впечатлениям чувственным, по очевидности; следственно, и о Боге, единственном предмете вне всяких чувственных впечатлений, мы должны также судить по очевидности, по внешнему. Но где очевидность? Где это внешнее? В откровении, то есть в произвольном, от нашего разума не зависящем, явлении самого Создателя душе, им созданной. Откровение есть живая, самобытная очевидность; оно действует на душу без посредничества органов чувственных, соединяющих ее с созданиями внешними. И впечатление, им на душу производимое, есть вера, принимаемая не умом, покорствующим необходимой очевидности, которая механически составляет последнее звено его логических выводов, а свободною волею, которая, покорствуя произвольно, принуждает покоряться и разум. Вера есть возвышеннейший акт человеческой воли: в ней соединяются воедино вышняя, ее дарующая благодать и человеческая свобода, принимающая благое даяние свыше; соединение обеих необходимо для произведения веры.
Энтузиазм и энтузиасты
Когда наиболее являются энтузиасты? Во времена смутные, во времена волнений гражданских и религиозных, в которые распространяется повсеместно какая-то вулканическая деятельность, не имеющая ясного предмета. Что пробуждает их в гражданском мире? Или несуществование власти верховной, отверзающее двери буйству, или злоупотребление верховной власти, возбуждающее силу противудействия. Сильное и правдивое правительство хранит не один материальный порядок, но и самую нравственность народа. Тогда внутреннее чувство каждого согласно с тем, что вне его в обществе существует; мы не в разладе ни с собою, ни с внешним устройством, и наше личное сливается с общественным в одно: мы дорожим сохранением царствующего хранительного порядка. При худом правительстве все теряет свою ясность; нет целого; наша особенная нравственность, требующая исполнения долга, находится в противоречии с нравственностию общею, которую тревожит и наконец превращает в безнравственность нарушение долга злоупотреблением власти. В такое время энтузиасту, то есть человеку сильного, страстного характера, самоотверженно предающемуся своим любимым идеям, легко отделить себя от общего; он творит для себя свою особенную совесть и, не видя добра существенного, создает для себя добро химерическое и действует по произволу, а не по долгу, руководствуясь одним собственным убеждением, и все остальное ему подчиняет.
Могут ли быть энтузиасты эгоизма? Так же точно, как энтузиасты добра. Чем живет энтузиазм? Чувством энергии: что сильно, то кажется великим. Для одного ничем не щадить в свою личную пользу – такая же святыня, как для другого всем жертвовать общему благу. И тот и другой враги порядка: первый тем, что хочет разрушить его для себя, второй тем, что хочет уничтожить его для своего мечтательного лучшего, которому самовольно жертвует существующим. Кто, вооружаясь на существующее зло в пользу будущего, неверного блага, нарушает вечные законы правды, тот злодей. Разбойник, без энтузиазма режущий прохожего для того, чтобы присвоить себе его кошелек, достоин виселицы. Но менее ли достоин такой награды разбойник-энтузиаст, который, вышед утром на дорогу, умерщвляет богатого путешественника для того, чтобы ввечеру отдать его золото нищему, которого надеется встретить на той же дороге? Но этот нищий может ему и не встретиться; и ночь прежде желанной встречи может застигнуть на дороге обоих, и мечтательного убийцу и ожидаемого им мечтательного путника. Сие страстное, ничем не обуздываемое стремление к идеальному благу есть отличительный характер энтузиазма, который и в самом благом направлении может быть источником великих злодеяний, при недостатке ясных, положительных правил нравственности, легко затемняемых софистическими умствованиями страсти. Существуй для всех одна, общая нравственность, утвержденная на христианстве, тогда и частная не поколеблется: общее мнение будет ее указателем и подпорою. Итак, энтузиазм благодетелен только тогда, когда он есть пламенная любовь к идеальному общему благу, соединенная с твердостию положительных правил нравственности, признанных веками за непреложные; скажу простее, когда он утвержден на вечном фундаменте христианства.
Примечания
1
Нам в области духов легко проникнуть; Нас ждут они, и молча стерегут, И, тихо внемля, в бурях вылетают. Шиллер. (Пер. В. А. Жуковского.) (обратно)2
Верь тому, что сердце скажет, Нет залогов от небес: Нам лишь чудо путь укажет В сей волшебный край чудес. Шиллер. (Пер. В. А. Жуковского.) (обратно)3
Васко Мусинхо де Квеведо Кастель Бранка, по свидетельству знатоков португальской литературы, более всех других поэтов Португалии приблизился к Камоэнсу. Его эпическая поэма «Альфонс Африканский», в которой особенно замечательны изображение мучений Фердинанда и описание сражения Алькассарского, издана в 1611 году. (Прим. В. А. Жуковского.)
(обратно)4
Ныне мутная Неглинная. (Прим. В. Жуковского.)
(обратно)5
Я ранен (фр.).
(обратно)6
Не трогайтесь с места; у меня еще достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел (фр.).
(обратно)7
Не входите (фр.).
(обратно)8
Благодарю вас, вы поступили по отношению ко мне как честный человек (фр.).
(обратно)9
Надо устроить мои домашние дела (фр.).
(обратно)(обратно)Комментарии
1
Вот несколько замечательных подробностей об этом короле: они заимствованы из рукописи, из дневных записок Гакстгаузена, известного своею прекрасною книгою о России, книгою, в которой он вернее и беспристрастнее всех иностранцев и даже лучше большей части русских, оценил наше отечество. // «В последних днях сентября 1832 года, – пишет Гакстгаузен, – приехал я в Ахен; по причине холеры там было весьма мало иностранцев. В трактире Bellevue, в котором мне должно было прожить с неделю, я не встретил ни одного проезжего. Будучи принужден по своим делам сидеть за работою в своей горнице, я не имел никакого общества и решился познакомиться с своими хозяевами, с которыми проводил по вечерам досужное время. Хозяин был трактирщик и более ничего; хозяйка была необразованная, но честного, старинного обычая женщина, добрая, простодушная, набожная и весьма словоохотливая; старшая дочь их, девушка 15 или 16 лет, хотя и не красавица, была привлекательна своею смышленостью, живостью, ласковою доверчивостью и притом имела удивительное дарование рассказывать. // В один вечер зашла речь о последнем короле шведском и о его низвержении с трона; тут я узнал от дочери моих хозяев, что он за год перед тем прожил несколько месяцев в их доме. И вот что она мне рассказала: // «Однажды, ввечеру, вошел к нам в двери человек замечательной наружности, довольно бедно одетый, с маленьким чемоданом под мышкою; он попросил, чтобы ему отвели небольшую каморку на двор окнами. В горнице тогда не случилось никого, кроме меня; я указала ему его квартиру. Несмотря на бедность его одежды, я догадалась, что он был человек не простого происхождения. И уходя, я спросила: «не прикажет ли он еще чего?» Он улыбнулся и отвечал: «нет, мое дитя, я ничего не приказываю ни тебе, ни другим; но я бы желал попросить тебя, чтобы ты мне принесла немного зелени от обеда ваших слуг, я очень голоден, но ем только то, за что могу заплатить». Я принесла ему зелени. Он спросил: «давно ли я служу в доме?» Узнав же, что я хозяйская дочь, вскочил в сердцах с своего места и спросил опять: «ты, верно, обо мне знаешь?» – «Нет, – отвечала я, – вы не сказали своего имени и еще не дали нам своего паспорта». Тут он отворотился от меня с досадою и сказал: «поди, я вижу, что и ты за мною шпионствуешь». Когда же отец получил от него паспорт, мы увидели, что гость наш был полковник Густавсон, прежний король шведский. Мы хотели отвести ему горницу получше, приносить ему другую пищу, ему служить и проч.; он во всем с большою досадою отказал нам. В первое время он выходил только один раз в день из горницы для прогулки; в горницу же к нему никто не смел войти, когда он там находился; он сам брал свой завтрак, состоявший из стакана молока и булки, и свой обед, который был не иное что, как блюдо зелени на 3 крейцера; всякой раз после обеда он платил за обед и за завтрак; при всем этом никогда не говорил ни слова. Однажды (прожив уже недели две в нашем доме) пришел он по обыкновению за своим обедом; в кухне тогда не случилось никого, кроме меня; к зелени я прибавила кусок битого мяса; увидя это, он сказал мне, чтобы я взяла мясо назад, что он за него заплатить не может. «Никто не требует платы – отвечала я; – но если вы ничего, кроме зелени, есть не будете, то ваше здоровье расстроится непременно; не презирайте же того, что вам от доброго сердца предлагают. Это уж было бы слишком гордо». Он улыбнулся и отвечал: «нет, мое дитя, с тобою гордым я не буду». И с этих пор он позволял мне всякий раз прибавлять кусок мяса к блюду его зелени, но только мне одной; когда в мое отсутствие хотела то же сделать кухарка, он с досадой ей отказывал. Со мною становился он час от часу ласковее. Однажды простудившись, он принужден был не выходить из горницы; я принесла ему его завтрак, потом его обед, он сделался со мною разговорчивее, посадил меня, даже позволил мне, чтобы я пришла к нему после обеда с своею работою часа на два; кончилось тем, что он согласился проводить свои вечера с нами. Когда, однако, приходил к нам кто посторонний, он удалялся; сначала и присутствие отца моего было ему неприятно. Мне же он рассказывал много о себе, но только все о своей молодости и о своих путешествиях в последние годы; он даже дружески отвечал мне, входил со мною в объяснения, когда я позволяла себе делать замечания на некоторые его странности. Например: я заметила, что из многих писем, которые к нему приходили, он принимал только те, на которых его адрес и особенно его имя Густавсон были написаны правильно; при малейшей неправильности адреса письмо было с досадою отвергнуто. Это привело однажды в затруднение и меня, когда я в его отсутствие приняла письмо, на котором вместо Gustavson стояло Gustawson; я никак не могла уговорить его распечатать это письмо. Когда же я после у него спросила: «для чего не принимает он таких писем, которые очевидно были к нему и которых неправильный адрес была просто ошибка, без всякого намерения сделать ему неприятность?» Он взял меня ласково за руку и сказал: «я знаю, моя милая, что ты благоразумна и понятлива; потому и соглашаюсь объяснить тебе, для чего я это делаю. Вот видишь ли: я родился государем, я был королем по праву, данному мне от Бога, а короли, с своей стороны, имеют право давать каждому имя в его неотъемлемую, вечную собственность. Когда я потерял свою корону, я в последний раз воспользовался моим королевским правом и дал себе имя: это имя есть моя последняя, моя единственная, неотъемлемая собственность; оно сохранится в памяти людей, и кто его у меня отымает или берет из него хотя одну букву, тот делает мне смертельную обиду». // Он не принимал ни от кого ни малейшей услуги; например: сам чистил свое платье и свои сапоги. Когда я спросила: «зачем он это делает?» Он отвечал: «несколько времени после, как я потерял корону, при мне еще были слуги; но когда мое имущество поуменьшилось, я должен был их отпустить и довольствоваться помощию слуг трактирных. Наконец я совсем обеднел, и вот что со мною однажды случилось во Франкфурте: я поставил ввечеру сапоги свои перед дверями моей горницы для того, чтобы их вычистил дворник; на другое утро нашел я их невычищенными, тогда как те, которые стояли у дверей моего соседа, были чисты. Тут я в первый раз узнал, что такое человеческое презрение, и с того времени не принимаю и не терплю от людей никакой услуги». // Когда он с нами проводил вечера без посторонних, он был разговорчив и говорил иногда по нескольку часов, сначала в связи, порядочно и ясно, потом путался в словах, и можно было заметить, что в голове его было много странных идей, им преобладавших; во время разговора он обыкновенно ходил взад и вперед по горнице. Иногда бывал он в сильном раздражении, иногда становился до крайности подозрителен и во всем видел злой против себя умысл; например: когда мальчишки играли и шумели перед его окнами, он говорил с великою досадою, что они подосланы правительством его сердить и мучить, что правительство было подкуплено его родными. Напротив, известно, что его родные употребляли все средства с ним сблизиться и ему помогать, но что он с гордостию отвергал всякую их помощь и всякое с ними сближение. Увидя, что мы, прощаясь с ним, плакали, подарил он мне маленькую железную цепочку, на которой носил прежде часы; отдавая ее, он сказал мне: «прошу тебя это беречь; это последний подарок обедневшего короля». – Прим. В. А. Жуковского.
(обратно)(обратно)


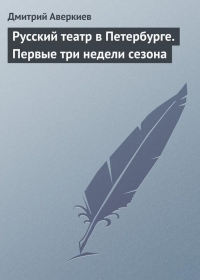




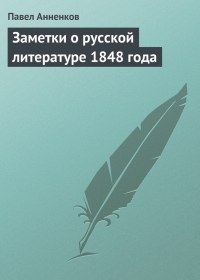
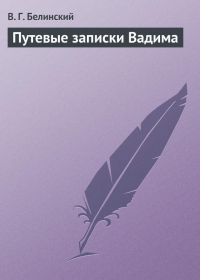

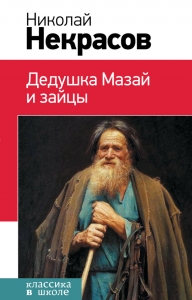
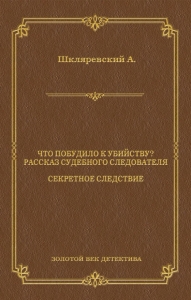
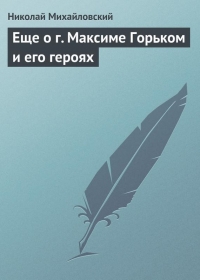
Комментарии к книге «Певец во стане русских воинов: Стихотворения. Баллады. Поэмы», Василий Андреевич Жуковский
Всего 0 комментариев