Федор Достоевский Детям (сборник)
Белые ночи[1] Сентиментальный роман (Из воспоминаний мечтателя)
…Иль был он создан для того, Чтобы побыть хотя мгновенье В соседстве сердца твоего?.. Ив. Тургенев[2]Ночь первая
Была чудная ночь, такая ночь, которая разве только и может быть тогда, когда мы молоды, любезный читатель. Небо было такое звездное, такое светлое небо, что, взглянув на него, невольно нужно было спросить себя: неужели же могут жить под таким небом разные сердитые и капризные люди? Это тоже молодой вопрос, любезный читатель, очень молодой, но пошли его вам Господь чаще на душу!.. Говоря о капризных и разных сердитых господах, я не мог не припомнить и своего благонравного поведения во весь этот день. С самого утра меня стала мучить какая-то удивительная тоска. Мне вдруг показалось, что меня, одинокого, все покидают и что все от меня отступаются. Оно, конечно, всякий вправе спросить: кто ж эти все? потому что вот уже восемь лет, как я живу в Петербурге и почти ни одного знакомства не умел завести. Но к чему мне знакомства? Мне и без того знаком весь Петербург; вот почему мне и показалось, что меня все покидают, когда весь Петербург поднялся и вдруг уехал на дачу. Мне страшно стало оставаться одному, и целых три дня я бродил по городу в глубокой тоске, решительно не понимая, что со мной делается. Пойду ли на Невский, пойду ли в сад, брожу ли по набережной – ни одного лица из тех, кого привык встречать в том же месте в известный час, целый год. Они, конечно, не знают меня, да я-то их знаю. Я коротко их знаю; я почти изучил их физиономии – и любуюсь на них, когда они веселы, и хандрю, когда они затуманятся. Я почти свел дружбу с одним старичком, которого встречаю каждый Божий день, в известный час, на Фонтанке. Физиономия такая важная, задумчивая; все шепчет под нос и махает левой рукой, а в правой у него длинная сучковатая трость с золотым набалдашником. Даже он заметил меня и принимает во мне душевное участие. Случись, что я не буду в известный час на том же месте Фонтанки, я уверен, что на него нападет хандра. Вот отчего мы иногда чуть не кланяемся друг с другом, особенно когда оба в хорошем расположении духа. Намедни, когда мы не видались целые два дня и на третий день встретились, мы уже было и схватились за шляпы, да благо опомнились во-время, опустили руки и с участием прошли друг подле друга. Мне тоже и дома знакомы. Когда я иду, каждый как будто забегает вперед меня на улицу, глядит на меня во все окна и чуть не говорит: «Здравствуйте; как ваше здоровье? и я, слава Богу, здоров, а ко мне в мае месяце прибавят этаж». Или: «Как ваше здоровье? а меня завтра в починку». Или: «Я чуть не сгорел и притом испугался» и т. д. Из них у меня есть любимцы, есть короткие приятели; один из них намерен лечиться это лето у архитектора. Нарочно буду заходить каждый день, чтоб не залечили как-нибудь, сохрани его Господи!.. Но никогда не забуду истории с одним прехорошеньким светло-розовым домиком. Это был такой миленький каменный домик, так приветливо смотрел на меня, так горделиво смотрел на своих неуклюжих соседей, что мое сердце радовалось, когда мне случалось проходить мимо. Вдруг на прошлой неделе я прохожу по улице, и как посмотрел на приятеля – слышу жалобный крик: «А меня красят в желтую краску!» Злодеи! варвары! они не пощадили ничего: ни колонн, ни карнизов, и мой приятель пожелтел, как канарейка. У меня чуть не разлилась желчь по этому случаю, и я еще до сих пор не в силах был повидаться с изуродованным моим бедняком, которого раскрасили под цвет небесной империи[3].
Итак, вы понимаете, читатель, каким образом я знаком со всем Петербургом.
Я уже сказал, что меня целые три дня мучило беспокойство, покамест я догадался о причине его. И на улице мне было худо (того нет, этого нет, куда делся такой-то?) – да и дома я был сам не свой. Два вечера добивался я: чего недостает мне в моем углу? отчего так неловко было в нем оставаться? – и с недоумением осматривал я свои зеленые, закоптелые стены, потолок, завешанный паутиной, которую с большим успехом разводила Матрена, пересматривал всю свою мебель, осматривал каждый стул, думая, не тут ли беда? (потому что коль у меня хоть один стул стоит не так, как вчера стоял, так я сам не свой) смотрел на окно, и все понапрасну… нисколько не было легче! Я даже вздумал было призвать Матрену и тут же сделал ей отеческий выговор за паутину и вообще за неряшество; но она только посмотрела на меня в удивлении и пошла прочь, не ответив ни слова, так что паутина еще до сих пор благополучно висит на месте. Наконец, я только сегодня поутру догадался, в чем дело. Э! да ведь они от меня удирают на дачу! Простите за тривиальное словцо, но мне было не до высокого слога… потому что ведь все, что только ни было в Петербурге, или переехало, или переезжало на дачу; потому что каждый почтенный господин солидной наружности, нанимавший извозчика, на глаза мои тотчас же обращался в почтенного отца семейства, который после обыденных должностных занятий отправляется налегке в недра своей фамилии, на дачу; потому что у каждого прохожего был теперь уже совершенно особый вид, который чуть-чуть не говорил всякому встречному: «Мы, господа, здесь только так, мимоходом, а вот через два часа мы уедем на дачу». Отворялось ли окно, по которому барабанили сначала тоненькие, белые, как сахар, пальчики, и высовывалась головка хорошенькой девушки, подзывавшей разносчика с горшками цветов, – мне тотчас же, тут же представлялось, что эти цветы только так покупаются, то есть вовсе не для того, чтоб наслаждаться весной и цветами в душной городской квартире, а что вот очень скоро все переедут на дачу и цветы с собою увезут. Мало того, я уже сделал такие успехи в своем новом, особенном роде открытий, что уже мог безошибочно, по одному виду, обозначить, на какой кто даче живет. Обитатели Каменного и Аптекарского островов или Петергофской дороги отличались изученным изяществом приемов, щегольскими летними костюмами и прекрасными экипажами, в которых они приехали в город. Жители Парголова и там, где подальше, с первого взгляда «внушали» своим благоразумием и солидностью; посетитель Крестовского острова отличался невозмутимо-веселым видом. Удавалось ли мне встретить длинную процессию ломовых извозчиков, лениво шедших с возжами в руках подле возов, нагруженных целыми горами всякой мебели, столов, стульев, диванов турецких и нетурецких и прочим домашним скарбом, на котором, сверх всего этого, зачастую восседала, на самой вершине воза, тщедушная кухарка, берегущая барское добро как зеницу ока; смотрел ли я на тяжело нагруженные домашнею утварью лодки, скользившие по Неве иль Фонтанке, до Черной речки или островов, – воза и лодки удесятерялись, усотерялись в глазах моих; казалось, все поднялось и поехало, все переселялось целыми караванами на дачу; казалось, весь Петербург грозил обратиться в пустыню, так что, наконец, мне стало стыдно, обидно и грустно; мне решительно некуда и незачем было ехать на дачу. Я готов был уйти с каждым возом, уехать с каждым господином почтенной наружности, нанимавшим извозчика; но ни один, решительно никто не пригласил меня; словно забыли меня, словно я для них был и в самом деле чужой!
Я ходил много и долго, так что уже совсем успел, по своему обыкновению, забыть, где я, как вдруг очутился у заставы. Вмиг мне стало весело, и я шагнул за шлагбаум, пошел между засеянных полей и лугов, не слышал усталости, но чувствовал только всем составом своим, что какое-то бремя спадает с души моей. Все проезжие смотрели на меня так приветливо, что решительно чуть не кланялись; все были так рады чему-то, все до одного курили сигары. И я был рад, как еще никогда со мной не случалось. Точно я вдруг очутился в Италии – так сильно поразила природа меня, полубольного горожанина, чуть не задохнувшегося в городских стенах.
Есть что-то неизъяснимо трогательное в нашей петербургской природе, когда она, с наступлением весны, вдруг выкажет всю мощь свою, все дарованные ей небом силы, опушится, разрядится, упестрится цветами… Как-то невольно напоминает она мне ту девушку, чахлую и хворую, на которую вы смотрите иногда с сожалением, иногда с какою-то сострадательною любовью, иногда же просто не замечаете ее, но которая вдруг, на один миг, как-то нечаянно сделается неизъяснимо, чудно прекрасною, а вы, пораженный, упоенный, невольно спрашиваете себя: какая сила заставила блистать таким огнем эти грустные, задумчивые глаза? что вызвало кровь на эти бледные, похудевшие щеки? что облило страстью эти нежные черты лица? отчего так вздымается эта грудь? что так внезапно вызвало силу, жизнь и красоту на лицо бедной девушки, заставило его заблистать такой улыбкой, оживиться таким сверкающим, искрометным смехом? Вы смотрите кругом, вы кого-то ищете, вы догадываетесь… Но миг проходит, и, может быть, назавтра же вы встретите опять тот же задумчивый и рассеянный взгляд, как и прежде, то же бледное лицо, ту же покорность и робость в движениях и даже раскаяние, даже следы какой-то мертвящей тоски и досады за минутное увлечение… И жаль вам, что так скоро, так безвозвратно завяла мгновенная красота, что так обманчиво и напрасно блеснула она перед вами – жаль оттого, что даже полюбить ее вам не было времени…
А все-таки моя ночь была лучше дня! Вот как это было.
Я пришел назад в город очень поздно, и уже пробило десять часов, когда я стал подходить к квартире. Дорога моя шла по набережной канала, на которой в этот час не встретишь живой души. Правда, я живу в отдаленнейшей части города. Я шел и пел, потому что, когда я счастлив, я непременно мурлыкаю что-нибудь про себя, как и всякий счастливый человек, у которого нет ни друзей, ни добрых знакомых и которому в радостную минуту не с кем разделить свою радость. Вдруг со мной случилось самое неожиданное приключение.
В сторонке, прислонившись к перилам канала, стояла женщина; облокотившись на решетку, она, по-видимому, очень внимательно смотрела на мутную воду канала. Она была одета в премиленькой желтой шляпке и в кокетливой черной мантильке. «Это девушка, и непременно брюнетка», – подумал я. Она, кажется, не слыхала шагов моих, даже не шевельнулась, когда я прошел мимо, затаив дыхание и с сильно забившимся сердцем. «Странно! – подумал я, – верно, она о чем-нибудь очень задумалась», и вдруг я остановился как вкопанный. Мне послышалось глухое рыдание. Да! я не обманулся: девушка плакала, и через минуту еще и еще всхлипывание. Боже мой! У меня сердце сжалось. И как я ни робок с женщинами, но ведь это была такая минута!.. Я воротился, нагнул к ней и непременно бы произнес: «Сударыня!» – если б только не знал, что это восклицание уже тысячу раз произносилось во всех русских великосветских романах. Это одно и остановило меня. Но покамест я приискивал слово, девушка очнулась, оглянулась, спохватилась, потупилась и скользнула мимо меня по набережной. Я тотчас же пошел вслед за ней, но она догадалась, оставила набережную, перешла через улицу и пошла по тротуару. Я не посмел перейти через улицу. Сердце мое трепетало, как у пойманной птички. Вдруг один случай пришел ко мне на помощь.
По той стороне тротуара, недалеко от моей незнакомки, вдруг появился господин во фраке, солидных лет, но нельзя сказать, чтоб солидной походки. Он шел, пошатываясь и осторожно опираясь об стенку. Девушка же шла, словно стрелка, торопливо и робко, как вообще ходят все девушки, которые не хотят, чтоб кто-нибудь вызвался провожать их ночью домой, и, конечно, качавшийся господин ни за что не догнал бы ее, если б судьба моя не надоумила его поискать искусственных средств. Вдруг, не сказав никому ни слова, мой господин срывается с места и летит со всех ног, бежит, догоняя мою незнакомку. Она шла как ветер, но колыхавшийся господин настигал, настиг, девушка вскрикнула – и… я благословляю судьбу за превосходную сучковатую палку, которая случилась на этот раз в моей правой руке. Я мигом очутился на той стороне тротуара, мигом незваный господин понял, в чем дело, принял в соображение неотразимый резон, замолчал, отстал и, только когда уже мы были очень далеко, протестовал против меня в довольно энергических терминах. Но до нас едва долетели слова его.
– Дайте мне руку, – сказал я моей незнакомке, – и он не посмеет больше к нам приставать.
Она молча подала мне свою руку, еще дрожавшую от волнения и испуга. О, незваный господин! как я благословлял тебя в ту минуту! Я мельком взглянул на нее: она была премиленькая и брюнетка – я угадал; на ее черных ресницах еще блестели слезинки недавнего испуга или прежнего горя, – не знаю. Но на губах уже сверкала улыбка. Она тоже взглянула на меня украдкой, слегка покраснела и потупилась.
– Вот видите, зачем же вы тогда отогнали меня? Если б я был тут, ничего бы не случилось…
– Но я вас не знала: думала, что вы тоже…
– А разве вы теперь меня знаете?
– Немножко. Вот, например, отчего вы дрожите?
– О, вы угадали с первого раза! – отвечал я в восторге, что моя девушка умница: это при красоте никогда не мешает. – Да, вы с первого взгляда угадали, с кем имеете дело. Точно, я робок с женщинами, я в волненье, не спорю, не меньше, как были вы минуту назад, когда этот господин испугал вас… Я в каком-то испуге теперь. Точно сон, а я даже и во сне не гадал, что когда-нибудь буду говорить с какой-нибудь женщиной.
– Как? не-уже-ли?
– Да, если рука моя дрожит, то это оттого, что никогда еще ее не обхватывала такая хорошенькая маленькая ручка, как ваша. Я совсем отвык от женщин; то есть я к ним и не привыкал никогда; я ведь один… Я даже не знаю, как говорить с ними. Вот и теперь не знаю – не сказал ли вам какой-нибудь глупости? Скажите мне прямо; предупреждаю вас, я не обидчив…
– Нет, ничего, ничего; напротив. И если уже вы требуете, чтоб я была откровенна, так я вам скажу, что женщинам нравится такая робость; а если вы хотите знать больше, то и мне она тоже нравится, и я не отгоню вас от себя до самого дома.
– Вы сделаете со мной, – начал я, задыхаясь от восторга, – что я тотчас же перестану робеть и тогда – прощай все мои средства!..
– Средства? какие средства, к чему? вот это уж дурно.
– Виноват, не буду, у меня с языка сорвалось; но как же вы хотите, чтоб в такую минуту не было желания…
– Понравиться, что ли?
– Ну да; да будьте, ради Бога, будьте добры. Посудите, кто я! Ведь вот уж мне двадцать шесть лет, а я никого никогда не видал. Ну, как же я могу хорошо говорить, ловко и кстати? Вам же будет выгоднее, когда все будет открыто, наружу… Я не умею молчать, когда сердце во мне говорит. Ну, да все равно… Поверите ли, ни одной женщины, никогда, никогда! Никакого знакомства! и только мечтаю каждый день, что наконец-то когда-нибудь я встречу кого-нибудь. Ах, если б вы знали, сколько раз я был влюблен таким образом!..
– Но как же, в кого же?..
– Да ни в кого, в идеал, в ту, которая приснится во сне. Я создаю в мечтах целые романы. О, вы меня не знаете! Правда, нельзя же без того, я встречал двух-трех женщин, но какие они женщины? это все такие хозяйки, что… Но я вас насмешу, я расскажу вам, что несколько раз думал заговорить, так, запросто, с какой-нибудь аристократкой на улице, разумеется, когда она одна; заговорить, конечно, робко, почтительно, страстно; сказать, что погибаю один, чтоб она не отгоняла меня, что нет средства узнать хоть какую-нибудь женщину; внушить ей, что даже в обязанностях женщины не отвергнуть робкой мольбы такого несчастного человека, как я. Что, наконец, и все, чего я требую, состоит в том только, чтоб сказать мне какие-нибудь два слова братские, с участием, не отогнать меня с первого шага, поверить мне на слово, выслушать, что я буду говорить, посмеяться надо мной, если угодно, обнадежить меня, сказать мне два слова, только два слова, потом пусть хоть мы с ней никогда не встречаемся!.. Но вы смеетесь… Впрочем, я для того и говорю…
– Не досадуйте; я смеюсь тому, что вы сами себе враг, и если б вы попробовали, то вам и удалось, может быть, хоть бы и на улице дело было; чем проще, тем лучше… Ни одна добрая женщина, если только она не глупа или особенно не сердита на что-нибудь в эту минуту, не решилась бы отослать вас без этих двух слов, которых вы так робко вымаливаете… Впрочем, что я! конечно, приняла бы вас за сумасшедшего. Я ведь судила по себе. Сама-то я много знаю, как люди на свете живут!
– О, благодарю вас, – закричал я, – вы не знаете, что вы для меня теперь сделали!
– Хорошо, хорошо! Но скажите мне, почему вы узнали, что я такая женщина, с которой… ну, которую вы считаете достойной… внимания и дружбы… одним словом, не хозяйка, как вы называете. Почему вы решились подойти ко мне?
– Почему? почему? Но вы были одни, тот господин был слишком смел, теперь ночь: согласитесь сами, что это обязанность…
– Нет, нет, еще прежде, там, на той стороне. Ведь вы хотели же подойти ко мне?
– Там, на той стороне? Но я, право, не знаю, как отвечать; я боюсь… Знаете ли, я сегодня был счастлив; я шел, пел; я был за городом; со мной еще никогда не бывало таких счастливых минут. Вы… мне, может быть, показалось… Ну, простите меня, если я напомню: мне показалось, что вы плакали, и я… я не мог слышать это… у меня стеснилось сердце… О Боже мой! Ну, да неужели же я не мог потосковать об вас? Неужели же был грех почувствовать к вам братское сострадание?.. Извините, я сказал сострадание… Ну, да, одним словом, неужели я мог вас обидеть тем, что невольно вздумалось мне к вам подойти?..
– Оставьте, довольно, не говорите… – сказала девушка, потупившись и сжав мою руку. – Я сама виновата, что заговорила об этом; но я рада, что не ошиблась в вас… но вот уже я дома; мне нужно сюда в переулок; тут два шага… Прощайте, благодарю вас…
– Так неужели же, неужели мы больше никогда не увидимся?.. Неужели это так и останется?
– Видите ли, – сказала, смеясь, девушка, – вы хотели сначала только двух слов, а теперь… Но, впрочем, я вам ничего не скажу… Может быть, встретимся…
– Я приду сюда завтра, – сказал я. – О, простите меня, я уже требую…
– Да, вы нетерпеливы… вы почти требуете…
– Послушайте, послушайте! – прервал я ее. – Простите, если я вам скажу опять что-нибудь такое… Но вот что: я не могу не прийти сюда завтра. Я мечтатель; у меня так мало действительной жизни, что я такие минуты, как эту, как теперь, считаю так редко, что не могу не повторять этих минут в мечтаньях. Я промечтаю об вас целую ночь, целую неделю, весь год. Я непременно приду сюда завтра, именно сюда, на это же место, именно в этот час, и буду счастлив, припоминая вчерашнее. Уж это место мне мило. У меня уже есть такие два-три места в Петербурге. Я даже один раз заплакал от воспоминанья, как вы… Почем знать, может быть, и вы, тому назад десять минут, плакали от воспоминанья… Но простите меня, я опять забылся; вы, может быть, когда-нибудь были здесь особенно счастливы…
– Хорошо, – сказала девушка, – я, пожалуй, приду сюда завтра, тоже в десять часов. Вижу, что я уже не могу вам запретить… Вот в чем дело, мне нужно быть здесь; не подумайте, чтоб я вам назначала свидание; я предупреждаю вас, мне нужно быть здесь для себя. Но вот… ну, уж я вам прямо скажу: это будет ничего, если и вы придете; во-первых, могут быть опять неприятности, как сегодня, но это в сторону… одним словом, мне просто хотелось бы вас видеть… чтоб сказать вам два слова. Только, видите ли, вы не осудите меня теперь? не подумайте, что я так легко назначаю свидания… Я бы и не назначила, если б… Но пусть это будет моя тайна! Только вперед уговор…
– Уговор! говорите, скажите, скажите все заранее; я на все согласен, на все готов, – вскричал я в восторге, – я отвечаю за себя – буду послушен, почтителен… вы меня знаете…
– Именно оттого, что знаю вас, и приглашаю вас завтра, – сказала, смеясь, девушка. – Я вас совершенно знаю. Но смотрите, приходите с условием; во-первых (только будьте добры, исполните, что я попрошу, – видите ли, я говорю откровенно), не влюбляйтесь в меня… Это нельзя, уверяю вас. На дружбу я готова, вот вам рука моя… А влюбиться нельзя, прошу вас!
– Клянусь вам, – закричал я, схватив ее ручку…
– Полноте, не клянитесь, я ведь знаю, вы способны вспыхнуть, как порох. Не осуждайте меня, если я так говорю. Если б вы знали… У меня тоже никого нет, с кем бы мне можно было слово сказать, у кого бы совета спросить. Конечно, не на улице же искать советников, да вы исключение. Я вас так знаю, как будто уже мы двадцать лет были друзьями… Не правда ли, вы не измените?..
– Увидите… только я не знаю, как уж я доживу хотя сутки.
– Спите покрепче; доброй ночи – и помните, что я вам вверилась. Но вы так хорошо воскликнули давеча: неужели ж давать отчет в каждом чувстве, даже в братском сочувствии! Знаете ли, это было так хорошо сказано, что у меня тотчас же мелькнула мысль довериться вам…
– Ради Бога, но в чем? что?
– До завтра. Пусть это будет покамест тайной. Тем лучше для вас; хоть издали будет на роман похоже. Может быть, я вам завтра же скажу, а может быть, нет… Я еще с вами наперед поговорю, мы познакомимся лучше…
– О, да я вам завтра же все расскажу про себя! Но что это? точно чудо со мной совершается… Где я, Боже мой? Ну, скажите, неужели вы недовольны тем, что не рассердились, как бы сделала другая, не отогнали меня в самом начале? Две минуты, и вы сделали меня навсегда счастливым. Да! счастливым; почем знать, может быть, вы меня с собой помирили, разрешили мои сомнения… Может быть, на меня находят такие минуты… Ну, да я вам завтра все расскажу, вы все узнаете, все…
– Хорошо, принимаю; вы и начнете…
– Согласен.
– До свиданья!
– До свиданья!
И мы расстались. Я ходил всю ночь; я не мог решиться воротиться домой. Я был так счастлив… до завтра!
Ночь вторая
– Ну, вот и дожили! – сказала она мне, смеясь и пожимая мне обе руки.
– Я здесь уже два часа; вы не знаете, что было со мной целый день!
– Знаю, знаю… но к делу. Знаете, зачем я пришла? Ведь не вздор болтать, как вчера. Вот что: нам нужно вперед умней поступать. Я обо всем этом вчера долго думала.
– В чем же, в чем быть умнее? С моей стороны, я готов; но, право, в жизнь не случалось со мною ничего умнее, как теперь.
– В самом деле? Во-первых, прошу вас, не жмите так моих рук; во-вторых, объявляю вам, что я об вас сегодня долго раздумывала.
– Ну, и чем же кончилось?
– Чем кончилось? Кончилось тем, что нужно все снова начать, потому что в заключение всего я решила сегодня, что вы еще мне совсем неизвестны, что я вчера поступила, как ребенок, как девочка, и, разумеется, вышло так, что всему виновато мое доброе сердце, то есть я похвалила себя, как и всегда кончается, когда мы начнем свое разбирать. И потому, чтоб поправить ошибку, я решила разузнать об вас самым подробнейшим образом. Но так как разузнавать о вас не у кого, то вы и должны мне сами все рассказать, всю подноготную. Ну, что вы за человек? Поскорее – начинайте же, рассказывайте свою историю.
– Историю! – закричал я, испугавшись, – историю! Но кто вам сказал, что у меня есть моя история? у меня нет истории…
– Так как же вы жили, коль нет истории? – перебила она смеясь.
– Совершенно без всяких историй! так жил, как у нас говорится, сам по себе, то есть один совершенно, – один, один вполне, – понимаете, что такое один?
– Да как один? То есть вы никого никогда не видали?
– О нет, видеть-то вижу, – а все-таки я один…
– Что же, вы разве не говорите ни с кем?
– В строгом смысле, ни с кем.
– Да кто же вы такой, объяснитесь! Постойте, я догадываюсь: у вас, верно, есть бабушка, как и у меня. Она слепая, и вот уже целую жизнь меня никуда не пускает, так что я почти разучилась совсем говорить. А когда я нашалила тому назад года два, так она видит, что меня не удержишь, взяла призвала меня, да и пришпилила булавкой мое платье к своему – и так мы с тех пор и сидим по целым дням; она чулок вяжет, хоть и слепая; а я подле нее сиди, шей или книжку вслух ей читай – такой странный обычай, что вот уже два года пришпиленная…
– Ах, Боже мой, какое несчастье! Да нет же, у меня нет никакой бабушки.
– А коль нет, так как это вы можете дома сидеть?..
– Послушайте, вы хотите знать, кто я таков?
– Ну, да, да!
– В строгом смысле слова?
– В самом строгом смысле слова!
– Извольте, я – тип.
– Тип, тип! какой тип? – закричала девушка, захохотав так, как будто ей целый год не удавалось смеяться. – Да с вами превесело! Смотрите: вот здесь есть скамейка; сядем! Здесь никто не ходит, нас никто не услышит, и – начинайте же вашу историю! потому что, уж вы меня не уверите, у вас есть история, а вы только скрываетесь. Во-первых, что это такое тип?
– Тип? тип – это оригинал, это такой смешной человек! – отвечал я, сам расхохотавшись вслед за ее детским смехом. – Это такой характер. Слушайте: знаете вы, что такое мечтатель?
– Мечтатель! позвольте, да как не знать? я сама мечтатель! Иной раз сидишь подле бабушки и чего-чего в голову не войдет. Ну, вот и начнешь мечтать, да так раздумаешься – ну, просто за китайского принца выхожу… А ведь это в другой раз и хорошо – мечтать! Нет, впрочем, Бог знает! Особенно если есть и без этого о чем думать, – прибавила девушка на этот раз довольно серьезно.
– Превосходно! Уж коли раз вы выходили за богдыхана китайского, так, стало быть, совершенно поймете меня. Ну, слушайте… Но позвольте: ведь я еще не знаю, как вас зовут?
– Наконец-то! вот рано вспомнили!
– Ах, Боже мой! да мне и на ум не пришло, мне было и так хорошо…
– Меня зовут – Настенька.
– Настенька! и только?
– Только! да неужели вам мало, ненасытный вы этакой!
– Мало ли? Много, много, напротив, очень много, Настенька, добренькая вы девушка, коли с первого разу вы для меня стали Настенькой!
– То-то же! ну!
– Ну, вот, Настенька, слушайте-ка, какая тут выходит смешная история.
Я уселся подле нее, принял педантски-серьезную позу и начал словно по-писаному:
– Есть, Настенька, если вы того не знаете, есть в Петербурге довольно странные уголки. В эти места как будто не заглядывает то же солнце, которое светит для всех петербургских людей, а заглядывает какое-то другое, новое, как будто нарочно заказанное для этих углов, и светит на все иным, особенным светом. В этих углах, милая Настенька, выживается как будто совсем другая жизнь, не похожая на ту, которая возле нас кипит, а такая, которая может быть в тридесятом неведомом царстве, а не у нас, в наше серьезное-пресерьезное время. Вот эта-то жизнь и есть смесь чего-то чисто фантастического, горячо-идеального и вместе с тем (увы, Настенька!) тускло-прозаичного и обыкновенного, чтоб не сказать: до невероятности пошлого.
– Фу! Господи Боже мой! какое предисловие! Что же это я такое услышу?
– Услышите вы, Настенька (мне кажется, я никогда не устану называть вас Настенькой), услышите вы, что в этих углах проживают странные люди – мечтатели. Мечтатель – если нужно его подробное определение – не человек, а, знаете, какое-то существо среднего рода. Селится он большею частию где-нибудь в неприступном углу, как будто таится в нем даже от дневного света, и уж если заберется к себе, то так и прирастет к своему углу, как улитка, или по крайней мере он очень похож в этом отношении на то занимательное животное, которое и животное и дом вместе, которое называется черепахой. Как вы думаете, отчего он так любит свои четыре стены, выкрашенные непременно зеленою краскою, закоптелые, унылые и непозволительно обкуренные? Зачем этот смешной господин, когда его приходит навестить кто-нибудь из его редких знакомых (а кончает он тем, что знакомые у него все переводятся), зачем этот смешной человек встречает его так сконфузившись, так изменившись в лице и в таком замешательстве, как будто он только что сделал в своих четырех стенах преступление, как будто он фабриковал фальшивые бумажки или какие-нибудь стишки для отсылки в журнал при анонимном письме, в котором обозначается, что настоящий поэт уже умер и что друг его считает священным долгом опубликовать его вирши? Отчего, скажите мне, Настенька, разговор так не вяжется у этих двух собеседников? отчего ни смех, ни какое-нибудь бойкое словцо не слетает с языка внезапно вошедшего и озадаченного приятеля, который в другом случае очень любит и смех, и бойкое словцо, и разговоры о прекрасном поле, и другие веселые темы? Отчего же, наконец, этот приятель, вероятно недавний знакомый, и при первом визите, – потому что второго в таком случае уже не будет, и приятель другой раз не придет, – отчего сам приятель так конфузится, так костенеет, при всем своем остроумии (если только оно есть у него), глядя на опрокинутое лицо хозяина, который в свою очередь уже совсем успел потеряться и сбиться с последнего толка после исполинских, но тщетных усилий разгладить и упестрить разговор, показать, и с своей стороны, знание светскости, тоже заговорить о прекрасном поле и хоть такою покорностию понравиться бедному, не туда попавшему человеку, который ошибкою пришел к нему в гости? Отчего, наконец, гость вдруг хватается за шляпу и быстро уходит, внезапно вспомнив о самонужнейшем деле, которого никогда не бывало, и кое-как высвобождает свою руку из жарких пожатий хозяина, всячески старающегося показать свое раскаяние и поправить потерянное? Отчего уходящий приятель хохочет, выйдя за дверь, тут же дает самому себе слово никогда не приходить к этому чудаку, хотя этот чудак в сущности и превосходнейший малый, и в то же время никак не может отказать своему воображению в маленькой прихоти: сравнить, хоть отдаленным образом, физиономию своего недавнего собеседника во все время свидания с видом того несчастного котеночка, которого измяли, застращали и всячески обидели дети, вероломно захватив его в плен, сконфузили в прах, который забился, наконец, от них под стул, в темноту, и там целый час на досуге принужден ощетиниваться, отфыркиваться и мыть свое обиженное рыльце обеими лапами и долго еще после того враждебно взирать на природу и жизнь и даже на подачку с господского обеда, припасенную для него сострадательною ключницею?
– Послушайте, – перебила Настенька, которая все время слушала меня в удивлении, открыв глаза и ротик, – послушайте: я совершенно не знаю, отчего все это произошло и почему именно вы мне предлагаете такие смешные вопросы; но что я знаю наверно, так то, что все эти приключения случились непременно с вами, от слова до слова.
– Без сомнения, – отвечал я с самою серьезной миной.
– Ну, коли без сомнения, так продолжайте, – ответила Настенька, – потому что мне очень хочется знать, чем это кончится.
– Вы хотите знать, Настенька, что такое делал в своем углу наш герой, или, лучше сказать, я, потому что герой всего дела – я, своей собственной скромной особой; вы хотите знать, отчего я так переполошился и потерялся на целый день от неожиданного визита приятеля? Вы хотите знать, отчего я так вспорхнулся, так покраснел, когда отворили дверь в мою комнату, почему я не сумел принять гостя и так постыдно погиб под тяжестью собственного гостеприимства?
– Ну да, да! – отвечала Настенька, – в этом и дело. Послушайте: вы прекрасно рассказываете, но нельзя ли рассказывать как-нибудь не так прекрасно? А то вы говорите, точно книгу читаете.
– Настенька! – отвечал я важным и строгим голосом, едва удерживаясь от смеха, – милая Настенька, я знаю, что я рассказываю прекрасно, но – виноват, иначе я рассказывать не умею. Теперь, милая Настенька, теперь я похож на дух царя Соломона, который был тысячу лет в кубышке, под семью печатями, и с которого, наконец, сняли все эти семь печатей. Теперь, милая Настенька, когда мы сошлись опять после такой долгой разлуки, – потому что я вас давно уже знал, Настенька, потому что я уже давно кого-то искал, а это знак, что я искал именно вас, и что нам было суждено теперь свидеться, – теперь в моей голове открылись тысячи клапанов, и я должен пролиться рекою слов, не то я задохнусь. Итак, прошу не перебивать меня, Настенька, а слушать и покорно и послушно; иначе – я замолчу.
– Ни-ни-ни! никак! говорите! Теперь я не скажу ни слова.
– Продолжаю: есть, друг мой Настенька, в моем дне один час, который я чрезвычайно люблю. Это тот самый час, когда кончаются почти всякие дела, должности и обязательства, и все спешат по домам пообедать, прилечь отдохнуть, и тут же, в дороге, изобретают и другие веселые темы, касающиеся вечера, ночи и всего остающегося свободного времени. В этот час и наш герой, – потому что уж позвольте мне, Настенька, рассказывать в третьем лице, затем, что в первом лице все это ужасно стыдно рассказывать, – итак, в этот час и наш герой, который тоже был не без дела, шагает за прочими. Но странное чувство удовольствия играет на его бледном, как будто несколько измятом лице. Неравнодушно смотрит он на вечернюю зарю, которая медленно гаснет на холодном петербургском небе. Когда я говорю – смотрит, так я лгу: он не смотрит, но созерцает как-то безотчетно, как будто усталый или занятый в то же время каким-нибудь другим, более интересным предметом, так что разве только мельком, почти невольно, может уделить время на все окружающее. Он доволен, потому что покончил до завтра с досадными для него делами, и рад, как школьник, которого выпустили с классной скамьи к любимым играм и шалостям. Посмотрите на него сбоку, Настенька: вы тотчас увидите, что радостное чувство уже счастливо подействовало на его слабые нервы и болезненно раздраженную фантазию. Вот он об чем-то задумался… Вы думаете об обеде? о сегодняшнем вечере? На что он так смотрит? На этого ли господина солидной наружности, который так картинно поклонился даме, прокатившейся мимо него на резвоногих конях в блестящей карете? Нет, Настенька, что ему теперь до всей этой мелочи! Он теперь уже богат своею особенною жизнью; он как-то вдруг стал богатым, и прощальный луч потухающего солнца не напрасно так весело сверкнул перед ним и вызвал из согретого солнца целый рой впечатлений. Теперь он едва замечает ту дорогу, на которой прежде самая мелкая мелочь могла поразить его. Теперь «богиня фантазии» (если вы читали Жуковского, милая Настенька) уже заткала прихотливою рукою свою золотую основу и пошла развивать перед ним узоры небывалой, причудливой жизни – и, кто знает, может, перенесла его прихотливой рукою на седьмое хрустальное небо с превосходного гранитного тротуара, по которому он идет восвояси. Попробуйте остановить его теперь, спросите его вдруг: где он теперь стоит, по каким улицам шел? – он наверно бы ничего не припомнил, ни того, где ходил, ни того, где стоял теперь, и, покраснев с досады, непременно солгал бы что-нибудь для спасения приличий. Вот почему он так вздрогнул, чуть не закричал и с испугом огляделся кругом, когда одна очень почтенная старушка учтиво остановила его посреди тротуара и стала расспрашивать его о дороге, которую она потеряла. Нахмурясь с досады, шагает он дальше, едва замечая, что не один прохожий улыбнулся, на него глядя, и обратился ему вслед и что какая-нибудь маленькая девочка, боязливо уступившая ему дорогу, громко засмеялась, посмотрев во все глаза на его широкую созерцательную улыбку и жесты руками. Но все та же фантазия подхватила на своем игривом полете и старушку, и любопытных прохожих, и смеющуюся девочку, и мужичков, которые тут же вечеряют на своих барках, запрудивших Фонтанку (положим, в это время по ней проходил наш герой), заткала шаловливо всех и все в свою канву, как мух в паутину, и с новым приобретением чудак уже вошел к себе в отрадную норку, уже сел за обед, уже давно отобедал и очнулся только тогда, когда задумчивая и вечно печальная Матрена, которая ему прислуживает, уже все прибрала со стола и подала ему трубку, очнулся и с удивлением вспомнил, что он уже совсем пообедал, решительно проглядев, как это сделалось. В комнате потемнело; на душе его пусто и грустно; целое царство мечтаний рушилось вокруг него, рушилось без следа, без шума и треска, пронеслось, как сновидение, а он и сам не помнит, что ему грезилось. Но какое-то темное ощущение, от которого слегка заныла и волнуется грудь его, какое-то новое желание соблазнительно щекочет и раздражает его фантазию и незаметно сзывает целый рой новых призраков. В маленькой комнате царствует тишина; уединение и лень нежат воображение; оно воспламеняется слегка, слегка закипает, как вода в кофейнике старой Матрены, которая безмятежно возится рядом, в кухне, стряпая свой кухарочный кофе. Вот оно уже слегка прорывается вспышками, вот уже и книга, взятая без цели и наудачу, выпадает из рук моего мечтателя, не дошедшего и до третьей страницы. Воображение его снова настроено, возбуждено, и вдруг опять новый мир, новая, очаровательная жизнь блеснула перед ним в блестящей своей перспективе. Новый сон – новое счастие! Новый прием утонченного, сладострастного яда! О, что ему в нашей действительной жизни! На его подкупленный взгляд мы с вами, Настенька, живем так лениво, медленно, вяло; на его взгляд мы все так недовольны нашею судьбою, так томимся нашею жизнью! Да и вправду, смотрите, в самом деле, как на первый взгляд все между нами холодно, угрюмо, точно сердито… «Бедные!» – думает мой мечтатель. Да и не диво, что думает! Посмотрите на эти волшебные призраки, которые так очаровательно, так прихотливо, так безбрежно и широко слагаются перед ним в такой волшебной, одушевленной картине, где на первом плане, первым лицом, уж, конечно, он сам, наш мечтатель, своею дорогою особою. Посмотрите, какие разнообразные приключения, какой бесконечный рой восторженных грез. Вы спросите, может быть, о чем он мечтает? К чему это спрашивать! да обо всем… об роли поэта, сначала непризнанного, а потом увенченного; о дружбе с Гофманом[4]; Варфоломеевская ночь[5], Диана Вернон, геройская роль при взятии Казани Иваном Васильевичем, Клара Мовбрай, Евфия Денс, собор прелатов и Гус перед ними[6], восстание мертвецов в Роберте[7] (помните музыку? Кладбищем пахнет!), Минна и Бренда, сражение при Березине, чтение поэмы у графини В‑й‑Д‑й[8], Дантон[9], Клеопатра ei suoi amanti[10], домик в Коломне[11], свой уголок, а подле милое создание, которое слушает вас в зимний вечер, раскрыв ротик и глазки, как слушаете вы теперь меня, мой маленький ангельчик… Нет, Настенька, что ему, что ему, сладострастному ленивцу, в той жизни, в которую нам так хочется с вами? он думает, что это бедная, жалкая жизнь, не предугадывая, что и для него, может быть, когда-нибудь пробьет грустный час, когда он за один день этой жалкой жизни отдаст все свои фантастические годы, и еще не за радость, не за счастие отдаст, и выбирать не захочет в тот час грусти, раскаяния и невозбранного горя. Но покамест еще не настало оно, это грозное время – он ничего не желает, потому что он выше желаний, потому что с ним всё, потому что он пресыщен, потому что он сам художник своей жизни и творит ее себе каждый час по новому произволу. И ведь так легко, так натурально создается этот сказочный, фантастический мир! Как будто и впрямь все это не призрак! Право, верить готов в иную минуту, что вся эта жизнь не возбуждения чувства, не мираж, не обман воображения, а что это и впрямь действительное, настоящее, сущее! Отчего ж, скажите, Настенька, отчего же в такие минуты стесняется дух? отчего же каким-то волшебством, по какому-то неведомому произволу ускоряется пульс, брызжут слезы из глаз мечтателя, горят его бледные, увлажненные щеки и такой неотразимой отрадой наполняется все существование его? Отчего же целые бессонные ночи проходят, как один миг, в неистощимом веселии и счастии, и когда заря блеснет розовым лучом в окна и рассвет осветит угрюмую комнату своим сомнительным фантастическим светом, как у нас, в Петербурге, наш мечтатель, утомленный, измученный, бросается на постель и засыпает в замираниях от восторга своего болезненно-потрясенного духа и с такою томительно-сладкою болью в сердце? Да, Настенька, обманешься и невольно вчуже поверишь, что страсть настоящая, истинная волнует душу его, невольно поверишь, что есть живое, осязаемое в его бесплотных грезах! И ведь какой обман – вот, например, любовь сошла в его грудь со всею неистощимою радостью, со всеми томительными мучениями… Только взгляните на него и убедитесь! Верите ли вы, на него глядя, милая Настенька, что действительно он никогда не знал той, которую он так любил в своем исступленном мечтании? Неужели он только и видел ее в одних обольстительных призраках и только лишь снилась ему эта страсть? Неужели и впрямь не прошли они рука в руку столько годов своей жизни – одни, вдвоем, отбросив весь мир и соединив каждый свой мир, свою жизнь с жизнью друга? Неужели не она, в поздний час, когда настала разлука, не она лежала, рыдая и тоскуя, на груди его, не слыша бури, разыгравшейся под суровым небом, не слыша ветра, который срывал и уносил слезы с черных ресниц ее? Неужели все это была мечта – и этот сад, унылый, заброшенный и дикий, с дорожками, заросшими мхом, уединенный, угрюмый, где они так часто ходили вдвоем, надеялись, тосковали, любили, любили друг друга так долго, «так долго и нежно»! И этот странный, прадедовский дом, в котором жила она столько времени уединенно и грустно, с старым, угрюмым мужем, вечно молчаливым и желчным, пугавшим их, робких, как детей, уныло и боязливо таивших друг от друга любовь свою? Как они мучились, как боялись они, как невинна, чиста была их любовь и как (уж, разумеется, Настенька) злы были люди! И Боже мой, неужели не ее встретил он потом, далеко от берегов своей родины, под чужим небом, полуденным, жарким, в дивном вечном городе, в блеске бала, при громе музыки, в палаццо (непременно в палаццо), потонувшем в море огней, на этом балконе, увитом миртом и розами, где она, узнав его, так поспешно сняла свою маску и, прошептав: «Я свободна», задрожав, бросилась в его объятия, и, вскрикнув от восторга, прижавшись друг к другу, они в один миг забыли и горе, и разлуку, и все мучения, и угрюмый дом, и старика, и мрачный сад в далекой родине, и скамейку, на которой, с последним, страстным поцелуем, она вырвалась из занемевших в отчаянной муке объятий его… О, согласитесь, Настенька, что вспорхнешься, смутишься и покраснеешь, как школьник, только что запихавший в карман украденное из соседнего сада яблоко, когда какой-нибудь длинный, здоровый парень, весельчак и балагур, ваш незваный приятель, отворит вашу дверь и крикнет, как будто ничего не бывало: «А я, брат, сию минуту из Павловска!». Боже мой! старый граф умер, настает неизреченное счастие, – а тут люди приезжают из Павловска!
Я патетически замолчал, кончив мои патетические возгласы. Помню, что мне ужасно хотелось как-нибудь через силу захохотать, потому что я уже чувствовал, что во мне зашевелился какой-то враждебный бесенок, что мне уже начинало захватывать горло, подергивать подбородок и что все более и более влажнели глаза мои… Я ожидал, что Настенька, которая слушала меня, открыв свои умные глазки, захохочет всем своим детским, неудержимо-веселым смехом, и уже раскаивался, что зашел далеко, что напрасно рассказал то, что уже давно накипело в моем сердце, о чем я мог говорить как по-писаному, потому что уже давно приготовил я над самим собой приговор, и теперь не удержался, чтоб не прочесть его, признаться, не ожидая, что меня поймут; но, к удивлению моему, она промолчала, погодя немного слегка пожала мне руку и с каким-то робким участием спросила:
– Неужели и в самом деле вы так прожили всю свою жизнь?
– Всю жизнь, Настенька, – отвечал я, – всю жизнь, и, кажется, так и окончу!
– Нет, этого нельзя, – сказала она беспокойно, – этого не будет; этак, пожалуй, и я проживу всю жизнь подле бабушки. Послушайте, знаете ли, что это вовсе нехорошо так жить?
– Знаю, Настенька, знаю! – вскричал я, не удерживая более своего чувства. – И теперь знаю больше, чем когда-нибудь, что я даром потерял все свои лучшие годы! Теперь это я знаю, и чувствую больнее от такого сознания, потому что сам Бог послал мне вас, моего доброго ангела, чтоб сказать мне это и доказать. Теперь, когда я сижу подле вас и говорю с вами, мне уж и страшно подумать о будущем, потому что в будущем – опять одиночество, опять эта затхлая, ненужная жизнь; и о чем мечтать будет мне, когда я уже наяву подле вас был так счастлив! О, будьте благословенны, вы, милая девушка, за то, что не отвергли меня с первого раза, за то, что уже я могу сказать, что я жил хоть два вечера в моей жизни!
– Ох, нет, нет! – закричала Настенька, и слезинки заблестали на глазах ее, – нет, так не будет больше; мы так не расстанемся! Что такое два вечера!
– Ох, Настенька, Настенька! знаете ли, как надолго вы помирили меня с самим собою? знаете ли, что уже я теперь не буду о себе думать так худо, как думал в иные минуты? Знаете ли, что уже я, может быть, не буду более тосковать о том, что сделал преступление и грех в моей жизни, потому что такая жизнь есть преступление и грех? И не думайте, чтоб я вам преувеличивал что-нибудь, ради Бога не думайте этого, Настенька, потому что на меня иногда находят минуты такой тоски, такой тоски… Потому что мне уже начинает казаться в эти минуты, что я никогда не способен начать жить настоящею жизнию, потому что мне уже казалось, что я потерял всякий такт, всякое чутье в настоящем, действительном; потому что, наконец, я проклинал сам себя; потому что после моих фантастических ночей на меня уже находят минуты отрезвления, которые ужасны! Между тем слышишь, как кругом тебя гремит и кружится в жизненном вихре людская толпа, слышишь, видишь, как живут люди – живут наяву, видишь, что жизнь для них не заказана, что их жизнь не разлетится, как сон, как видение, что их жизнь вечно обновляющаяся, вечно юная, и ни один час ее не похож на другой, тогда как уныла и до пошлости однообразна пугливая фантазия, раба тени, идеи, раба первого облака, которое внезапно застелет солнце и сожмет тоскою настоящее петербургское сердце, которое так дорожит своим солнцем, – а уж в тоске какая фантазия! Чувствуешь, что она, наконец, устает, истощается в вечном напряжении эта неистощимая фантазия, потому что ведь мужаешь, выживаешь, из прежних своих идеалов: они разбиваются в пыль, в обломки; если ж нет другой жизни, так приходится строить ее из этих же обломков. А между тем чего-то другого просит и хочет душа! И напрасно мечтатель роется, как в золе, в своих старых мечтаниях, ища в этой золе хоть какой-нибудь искорки, чтоб раздуть ее, возобновленным огнем пригреть похолодевшее сердце и воскресить в нем снова все, что было прежде так мило, что трогало душу, что кипятило кровь, что вырывало слезы из глаз и так роскошно обманывало! Знаете ли, Настенька, до чего я дошел? знаете ли, что я уже принужден справлять годовщину своих ощущений, годовщину того, что было прежде так мило, чего в сущности никогда не бывало, – потому что эта годовщина справляется все по тем же глупым, бесплотным мечтаниям, – и делать это, потому что и этих-то глупых мечтаний нет, затем, что нечем их выжить: ведь и мечты выживаются! Знаете ли, что я люблю теперь припомнить и посетить в известный срок те места, где был счастлив когда-то по-своему, люблю построить свое настоящее под лад уже безвозвратно прошедшему, и часто брожу, как тень, без нужды и без цели, уныло и грустно по петербургским закоулкам и улицам. Какие все воспоминания! Припоминается, например, что вот здесь ровно год тому назад, ровно в это же время, в этот же час, по этому же тротуару бродил так же одиноко, так же уныло, как и теперь! И припоминаешь, что и тогда мечты были грустны, и хоть и прежде было не лучше, но все как-то чувствуешь, что как будто и легче и покойнее было жить, что не было этой черной думы, которая теперь привязалась ко мне; что не было этих угрызений совести, угрызений мрачных, угрюмых, которые ни днем, ни ночью теперь не дают покоя. И спрашиваешь себя: где же мечты твои? и покачиваешь головою, говоришь: как быстро летят годы! И опять спрашиваешь себя: что же ты сделал с своими годами? куда ты схоронил свое лучшее время? Ты жил или нет? Смотри, говоришь себе, смотри, как на свете становится холодно. Еще пройдут годы и за ними придет угрюмое одиночество, придет с клюкой трясучая старость, а за ними тоска и уныние. Побледнеет твой фантастический мир, замрут, увянут мечты твои и осыплются как желтые листья с деревьев… О Настенька! ведь грустно будет оставаться одному, одному совершенно, и даже не иметь чего пожалеть – ничего, ровно ничего… потому что все, что потерял-то, все это, все было ничто, глупый, круглый нуль, было одно лишь мечтанье!
– Ну, не разжалобливайте меня больше! – проговорила Настенька, утирая слезинку, которая выкатилась из глаз ее. – Теперь кончено! Теперь мы будем вдвоем; теперь что ни случись со мной, уж мы никогда не расстанемся. Послушайте. Я простая девушка, я мало училась, хотя мне бабушка и нанимала учителя; но, право, я вас понимаю, потому что все, что вы мне пересказали теперь, я уж сама прожила, когда бабушка меня пришпилила к платью. Конечно, я бы так не рассказала хорошо, как вы рассказали, я не училась, – робко прибавила она, потому что все еще чувствовала какое-то уважение к моей патетической речи и к моему высокому слогу, – но я очень рада, что вы совершенно открылись мне. Теперь я вас знаю, совсем, всего знаю. И знаете что? я вам хочу рассказать и свою историю, всю без утайки, а вы мне после за то дадите совет. Вы очень умный человек; обещаетесь ли вы, что вы дадите мне этот совет?
– Ах, Настенька, – отвечал я, – я хоть и никогда не был советником, и тем более умным советником, но теперь вижу, что если мы всегда будем так жить, то это будет как-то очень умно, и каждый друг другу надает премного умных советов! Ну, хорошенькая моя Настенька, какой же вам совет? Говорите мне прямо; я теперь так весел, счастлив, смел и умен, что за словом не полезу в карман.
– Нет, нет! – перебила Настенька, засмеявшись, – мне нужен не один умный совет, мне нужен совет сердечный, братский, так как бы вы уже век свой любили меня!
– Идет, Настенька, идет! – закричал я в восторге, – и если б я уже двадцать лет вас любил, то все-таки не любил бы сильнее теперешнего!
– Руку вашу! – сказала Настенька.
– Вот она! – отвечал я, подавая ей руку.
– Итак, начнемте мою историю!
История Настеньки
– Половину истории вы уже знаете, то есть вы знаете, что у меня есть старая бабушка…
– Если другая половина так же недолга, как и эта… – перебил было я засмеявшись.
– Молчите и слушайте. Прежде всего уговор: не перебивать меня, а не то я, пожалуй, собьюсь. Ну, слушайте же смирно.
Есть у меня старая бабушка. Я к ней попала еще очень маленькой девочкой, потому что у меня умерли и мать и отец. Надо думать, что бабушка была прежде богаче, потому что и теперь вспоминает о лучших днях. Она же меня выучила по-французски и потом наняла мне учителя. Когда мне было пятнадцать лет (а теперь мне семнадцать), учиться мы кончили. Вот в это время я и нашалила; уж что я сделала – я вам не скажу; довольно того, что проступок был небольшой. Только бабушка подозвала меня к себе в одно утро и сказала, что так как она слепа, то за мной не усмотрит, взяла булавку и пришпилила мое платье к своему, да тут и сказала, что так мы будем всю жизнь сидеть, если, разумеется, я не сделаюсь лучше. Одним словом, в первое время отойти никак нельзя было: и работай, и читай, и учись – все подле бабушки. Я было попробовала схитрить один раз и уговорила сесть на мое место Феклу. Фекла – наша работница, она глуха. Фекла села вместо меня; бабушка в это время заснула в креслах, а я отправилась недалеко к подруге. Ну, худо и кончилось. Бабушка без меня проснулась и о чем-то спросила, думая, что я все еще сижу смирно на месте. Фекла-то видит, что бабушка спрашивает, а сама не слышит про что, думала, думала, что ей делать, отстегнула булавку, да и пустилась бежать…
Тут Настенька остановилась и начала хохотать. Я засмеялся вместе с нею. Она тотчас же перестала.
– Послушайте, вы не смейтесь над бабушкой. Это я смеюсь, оттого что смешно… Что же делать, когда бабушка, право, такая, а только я ее все-таки немножко люблю. Ну, да тогда и досталось мне: тотчас меня опять посадили на место и уж ни-ни, шевельнуться было нельзя.
Ну-с, я вам еще позабыла сказать, что у нас, то есть у бабушки, свой дом, то есть маленький домик, всего три окна, совсем деревянный и такой же старый, как бабушка; а наверху мезонин; вот и переехал к нам в мезонин новый жилец…
– Стало быть, был и старый жилец? – заметил я мимоходом.
– Уж, конечно, был, – отвечала Настенька, – и который умел молчать лучше вас. Правда, уж он едва языком ворочал. Это был старичок, сухой, немой, слепой, хромой, так что, наконец, ему стало нельзя жить на свете, он и умер; а затем и понадобился новый жилец, потому что нам без жильца жить нельзя: это с бабушкиным пенсионом почти весь наш доход. Новый жилец, как нарочно, был молодой человек, не здешний, заезжий. Так как он не торговался, то бабушка и пустила его, а потом и спрашивает: «Что, Настенька, наш жилец молодой или нет?» Я солгать не хотела: «Так, говорю, бабушка, не то чтоб совсем молодой, а так, не старик». «Ну, и приятной наружности?» – спрашивает бабушка.
Я опять лгать не хочу. «Да, приятной, говорю, наружности, бабушка!» А бабушка говорит: «Ах! наказанье, наказанье! Я это, внучка, тебе для того говорю, чтоб ты на него не засматривалась. Экой век какой! поди, такой мелкий жилец, а ведь тоже приятной наружности: не то в старину!»
А бабушке все бы в старину! И моложе-то она была в старину, и солнце-то было в старину теплее, и сливки в старину не так скоро кисли, – все в старину! Вот я сижу и молчу, а про себя думаю: что же это бабушка сама меня надоумливает, спрашивает, хорош ли, молод ли жилец? Да только так, только подумала, и тут же стала опять петли считать, чулок вязать, а потом совсем позабыла.
Вот раз поутру к нам и приходит жилец, спросить о том, что ему комнату обещали обоями оклеить. Слово за слово, бабушка же болтлива, и говорит: «Сходи, Настенька, ко мне в спальню, принеси счеты». Я тотчас же вскочила, вся, не знаю отчего, покраснела, да и позабыла, что сижу пришпиленная; нет, чтоб тихонько отшпилить, чтоб жилец не видал, – рванулась так, что бабушкино кресло поехало. Как я увидела, что жилец все теперь узнал про меня, покраснела, стала на месте как вкопанная, да вдруг и заплакала, – так стыдно и горько стало в эту минуту, что хоть на свет не глядеть! Бабушка кричит: «Что ж ты стоишь?» – а я еще пуще… Жилец как увидел, увидел, что мне его стыдно стало, откланялся и тотчас ушел!
С тех пор я, чуть шум в сенях, как мертвая. Вот, думаю, жилец идет, да потихоньку на всякий случай и отшпилю булавку. Только все был не он, не приходил. Прошло две недели; жилец и присылает сказать с Феклой, что у него книг много французских и что все хорошие книги, так что можно читать; так не хочет ли бабушка, чтоб я их ей почитала, чтоб не было скучно? Бабушка согласилась с благодарностью, только все спрашивала, нравственные книги или нет, потому что если книги безнравственные, так тебе, говорит, Настенька, читать никак нельзя, ты дурному научишься.
– А чему ж научусь, бабушка? Что там написано?
– А! – говорит, – описано в них, как молодые люди соблазняют благонравных девиц, как они, под предлогом того, что хотят их взять за себя, увозят их из дому родительского, как потом оставляют этих несчастных девиц на волю судьбы, и они погибают самым плачевным образом. Я, – говорит бабушка, – много таких книжек читала, и все, говорит, так прекрасно описано, что ночь сидишь, тихонько читаешь. Так ты, – говорит, – Настенька, смотри, их не прочти. Каких это, – говорит, – он книг прислал?
– А все Вальтера Скотта романы, бабушка.
– Вальтера Скотта романы! А полно, нет ли тут каких-нибудь шашней? Посмотри-ка, не положил ли он в них какой-нибудь любовной записочки?
– Нет, – говорю, – бабушка, нет записки.
– Да ты под переплетом посмотри; они иногда в переплет запихают, разбойники!..
– Нет, бабушка, и под переплетом нет ничего.
– Ну, то-то же!
Вот мы и начали читать Вальтера Скотта и в какой-нибудь месяц почти половину прочли. Потом он еще и еще присылал, Пушкина присылал, так что, наконец, я без книг и быть не могла и перестала думать, как бы выйти за китайского принца.
Так было дело, когда один раз мне случилось повстречаться с нашим жильцом на лестнице. Бабушка за чем-то послала меня. Он остановился, я покраснела, и он покраснел; однако засмеялся, поздоровался, о бабушкином здоровье спросил и говорит: «Что, вы книги прочли?» Я отвечала: «Прочла». – «Что же, говорит, вам больше понравилось?» Я и говорю: «Ивангое[12] да Пушкин больше всех понравились». На этот раз тем и кончилось.
Через неделю я ему опять попалась на лестнице. В этот раз бабушка не посылала, а мне самой надо было зачем-то. Был третий час, а жилец в это время домой приходил. «Здравствуйте!» – говорит. Я ему: «Здравствуйте!»
– А что, – говорит, – вам не скучно целый день сидеть вместе с бабушкой?
Как он это у меня спросил, я, уж не знаю отчего, покраснела, застыдилась, и опять мне стало обидно, видно оттого, что уж другие про это дело расспрашивать стали. Я уж было хотела не отвечать и уйти, да сил не было.
– Послушайте, – говорит, – вы добрая девушка! Извините, что я с вами так говорю, но, уверяю вас, я вам лучше бабушки вашей желаю добра. У вас подруг нет никаких, к которым бы можно было в гости пойти?
Я говорю, что никаких, что была одна, Машенька, да и та в Псков уехала.
– Послушайте, – говорит, – хотите со мною в театр поехать?
– В театр? как же бабушка-то?
– Да вы, – говорит, – тихонько от бабушки…
– Нет, – говорю, – я бабушку обманывать не хочу. Прощайте-с!
– Ну, прощайте, – говорит, а сам ничего не сказал.
Только после обеда и приходит он к нам; сел, долго говорил с бабушкой, расспрашивал, что она выезжает ли куда-нибудь, есть ли знакомые – да вдруг и говорит: «А сегодня я было ложу взял в оперу; «Севильского цирюльника» дают; знакомые ехать хотели, да потом отказались, у меня и остался билет на руках».
– «Севильского цирюльника»! – закричала бабушка, – да это тот самый цирюльник, которого в старину давали?
– Да, – говорит, – это тот самый цирюльник, – да и взглянул на меня. А я уж все поняла, покраснела, и у меня сердце от ожидания запрыгало!
– Да как же, – говорит бабушка, – как не знать! Я сама в старину на домашнем театре Розину играла!
– Так не хотите ли ехать сегодня? – сказал жилец. – У меня билет пропадает же даром.
– Да, пожалуй, поедем, – говорит бабушка, – отчего ж не поехать? А вот у меня Настенька в театре никогда не была.
Боже мой, какая радость! Тотчас же мы собрались, снарядились и поехали. Бабушка хоть и слепа, а все-таки ей хотелось музыку слушать, да, кроме того, она старушка добрая: больше меня потешить хотела, сами-то мы никогда бы не собрались. Уж какое было впечатление от «Севильского цирюльника», я вам не скажу, только во весь этот вечер жилец наш так хорошо смотрел на меня, так хорошо говорил, что я тотчас увидела, что он меня хотел испытать поутру, предложив, чтоб я одна с ним поехала. Ну, радость какая! Спать я легла такая гордая, такая веселая, так сердце билось, что сделалась маленькая лихорадка, и я всю ночь бредила о «Севильском цирюльнике».
Я думала, что после этого он все будет заходить чаще и чаще, – не тут-то было. Он почти совсем перестал. Так, один раз в месяц, бывало, зайдет, и то только с тем, чтоб в театр пригласить. Раза два мы опять потом съездили. Только уж этим я была совсем недовольна. Я видела, что ему просто жалко было меня за то, что я у бабушки в таком загоне, а больше-то и ничего. Дальше и дальше, и нашло на меня: и сидеть-то я не сижу, и читать-то я не читаю, и работать не работаю, иногда смеюсь и бабушке что-нибудь назло делаю, другой раз просто плачу. Наконец, я похудела и чуть было не стала больна. Оперный сезон прошел, и жилец к нам совсем перестал заходить; когда же мы встречались – все на той же лестнице, разумеется, – он так молча поклонится, так серьезно, как будто и говорить не хочет, и уж сойдет совсем на крыльцо, а я все еще стою на половине лестницы, красная, как вишня, потому что у меня вся кровь начала бросаться в голову, когда я с ним встречаюсь.
Теперь сейчас и конец. Ровно год тому, в мае месяце, жилец к нам приходит и говорит бабушке, что он выхлопотал здесь совсем свое дело и что должно ему опять уехать на год в Москву. Я как услышала, побледнела и упала на стул, как мертвая. Бабушка ничего не заметила, а он, объявив, что уезжает от нас, откланялся нам и ушел.
Что мне делать? Я думала-думала, тосковала-тосковала, да, наконец, и решилась. Завтра ему уезжать, а я порешила, что все кончу вечером, когда бабушка уйдет спать. Так и случилось. Я навязала в узелок все, что было платьев, сколько нужно белья, и с узелком в руках, ни жива ни мертва, пошла в мезонин к нашему жильцу. Думаю, я шла целый час по лестнице. Когда же отворила к нему дверь, он так и вскрикнул, на меня глядя. Он думал, что я привидение, и бросился мне воды подать, потому что я едва стояла на ногах. Сердце так билось, что в голове больно было, и разум мой помутился. Когда же я очнулась, то начала прямо тем, что положила свой узелок к нему на постель, сама села подле, закрылась руками и заплакала в три ручья. Он, кажется, мигом все понял и стоял передо мной бледный и так грустно глядел на меня, что во мне сердце надорвало.
– Послушайте, – начал он, – послушайте, Настенька, я ничего не могу; я человек бедный; у меня покамест нет ничего, даже места порядочного; как же мы будем жить, если б я и женился на вас?
Мы долго говорили, но я, наконец, пришла в исступление, сказала, что не могу жить у бабушки, что убегу от нее, что не хочу, чтоб меня булавкой пришпиливали, и что я, как он хочет, поеду с ним в Москву, потому что без него жить не могу. И стыд, и любовь, и гордость – все разом говорило во мне, и я чуть не в судорогах упала на постель. Я так боялась отказа!
Он несколько минут сидел молча, потом встал, подошел ко мне и взял меня за руку.
– Послушайте, моя добрая, моя милая Настенька! – начал он тоже сквозь слезы, – послушайте. Клянусь вам, что если когда-нибудь я буду в состоянии жениться, то непременно вы составите мое счастие; уверяю, теперь только одни вы можете составить мое счастие. Слушайте: я еду в Москву и пробуду там ровно год. Я надеюсь устроить свои дела. Когда ворочусь, и если вы меня не разлюбите, клянусь вам, мы будем счастливы. Теперь же невозможно, я не могу, я не вправе хоть что-нибудь обещать. Но повторяю, если через год это не сделается, то хоть когда-нибудь непременно будет; разумеется, – в том случае, если вы не предпочтете мне другого, потому что связывать вас каким-нибудь словом я не могу и не смею.
Вот что он сказал мне и назавтра уехал. Положено было сообща бабушке не говорить об этом ни слова. Так он захотел. Ну, вот теперь почти и кончена вся моя история. Прошел ровно год. Он приехал, он уж здесь целые три дня и, и…
– И что же? – закричал я в нетерпении услышать конец.
– И до сих пор не являлся! – отвечала Настенька, как будто собираясь с силами, – ни слуху, ни духу…
Тут она остановилась, помолчала немного, опустила голову и вдруг, закрывшись руками, зарыдала так, что во мне сердце перевернулось от этих рыданий.
Я никак не ожидал подобной развязки.
– Настенька! – начал я робким и вкрадчивым голосом, – Настенька! ради Бога, не плачьте! Почему вы знаете? может быть, его еще нет…
– Здесь, здесь! – подхватила Настенька. – Он здесь, я это знаю. У нас было условие, тогда еще, в тот вечер, накануне отъезда: когда уже мы сказали все, что я вам пересказала, и условились, мы вышли сюда гулять, именно на эту набережную. Было десять часов; мы сидели на этой скамейке; я уже не плакала, мне было сладко слушать то, что он говорил… Он сказал, что тотчас же по приезде придет к нам, и если я не откажусь от него, то мы скажем обо всем бабушке. Теперь он приехал, я это знаю, и его нет, нет!
И она снова ударилась в слезы.
– Боже мой! Да разве никак нельзя помочь горю? – закричал я, вскочив со скамейки в совершенном отчаянии. – Скажите, Настенька, нельзя ли будет хоть мне сходить к нему?
– Разве это возможно? – сказала она, вдруг подняв голову.
– Нет, разумеется, нет! – заметил я, спохватившись. – А вот что: напишите письмо.
– Нет, это невозможно, это нельзя! – отвечала она решительно, но уже потупив голову и не смотря на меня.
– Как нельзя? отчего ж нельзя? – продолжал я, ухватившись за свою идею. – Но, знаете, Настенька, какое письмо! Письмо письму рознь и… Ах, Настенька, это так! Вверьтесь мне, вверьтесь! Я вам не дам дурного совета. Все это можно устроить. Вы же начали первый шаг – отчего же теперь…
– Нельзя, нельзя! Тогда я как будто навязываюсь…
– Ах, добренькая моя Настенька! – перебил я, не скрывая улыбки, – нет же, нет; вы, наконец, вправе, потому что он вам обещал. Да и по всему я вижу, что он человек деликатный, что он поступил хорошо, – продолжал я все более и более восторгаясь от логичности собственных доводов и убеждений, – он как поступил? Он себя связал обещанием. Он сказал, что ни на ком не женится, кроме вас, если только женится; вам же он оставил полную свободу хоть сейчас от него отказаться… В таком случае вы можете сделать первый шаг, вы имеете право, вы имеете перед ним преимущество, хотя бы, например, если б захотели развязать его от данного слова…
– Послушайте, вы как бы написали?
– Что?
– Да это письмо.
– Я бы вот как написал: «Милостивый государь…»
– Это так непременно нужно – милостивый государь?
– Непременно! Впрочем, отчего ж? я думаю…
– Ну, ну! дальше!
– «Милостивый государь! Извините, что я…» Впрочем, нет, не нужно никаких извинений! Тут самый факт все оправдывает, пишите просто:
«Я пишу к вам. Простите мне мое нетерпение; но я целый год была счастлива надеждой; виновата ли я, что не могу теперь вынести и дня сомнения? Теперь, когда вы уже приехали, может быть, вы уже изменили свои намерения. Тогда это письмо скажет вам, что я не ропщу и не обвиняю вас. Я не обвиняю вас за то, что не властна над вашим сердцем; такова уж судьба моя!
Вы благородный человек. Вы не улыбнетесь и не подосадуете на мои нетерпеливые строки. Вспомните, что их пишет бедная девушка, что она одна, что некому ни научить ее, ни посоветовать ей и что она никогда не умела сама совладеть с своим сердцем. Но простите меня, что в мою душу хотя на один миг закралось сомнение. Вы неспособны даже и мысленно обидеть ту, которая вас так любила и любит».
– Да, да! это точно так, как я думала! – закричала Настенька, и радость засияла в глазах ее. – О! вы разрешили мои сомнения, вас мне сам Бог послал! Благодарю, благодарю вас!
– За что? за то, что меня Бог послал? – отвечал я, глядя в восторге на ее радостное личико.
– Да, хоть за то.
– Ах, Настенька! Ведь благодарим же мы иных людей хоть за то, что они живут вместе с нами. Я благодарю вас за то, что вы мне встретились, за то, что целый век мой буду вас помнить!
– Ну, довольно, довольно! А теперь вот что, слушайте-ка: тогда было условие, что как только приедет он, так тотчас даст знать о себе тем, что оставит мне письмо в одном месте у одних моих знакомых, добрых и простых людей, которые ничего об этом не знают; или если нельзя будет написать ко мне письма, затем, что в письме не всегда все расскажешь, то он в тот же день, как приедет, будет сюда ровно в десять часов, где мы и положили с ним встретиться. О приезде его я уже знаю; но вот уже третий день нет ни письма, ни его. Уйти мне от бабушки поутру никак нельзя. Отдайте письмо мое завтра вы сами тем добрым людям, о которых я вам говорила: они уже перешлют; а если будет ответ, то сами вы принесете его вечером в десять часов.
– Но, письмо, письмо! Ведь прежде нужно письмо написать! Так разве послезавтра все это будет.
– Письмо… – отвечала Настенька, немного смешавшись, – письмо… но…
Но она не договорила. Она сначала отвернула от меня свое личико, покраснела, как роза, и вдруг я почувствовал в моей руке письмо, по-видимому уже давно написанное, совсем приготовленное и запечатанное. Какое-то знакомое, милое, грациозное воспоминание пронеслось в моей голове.
– R,o – Ro, s,i – si, n,a – na, – начал я.
– Rosina! – запели мы оба, я, чуть не обнимая ее от восторга, она, покраснев, как только могла покраснеть, и смеясь сквозь слезы, которые, как жемчужинки, дрожали на ее черных ресницах.
– Ну, довольно, довольно! Прощайте теперь! – сказала она скороговоркой. – Вот вам письмо, вот и адрес, куда снести его. Прощайте! до свидания! до завтра!
Она крепко сжала мне обе руки, кивнула головой и мелькнула, как стрелка, в свой переулок. Я долго стоял на месте, провожая ее глазами.
«До завтра! до завтра!» – пронеслось в моей голове, когда она скрылась из глаз моих.
Ночь третья
Сегодня был день печальный, дождливый, без просвета, точно будущая старость моя. Меня теснят такие странные мысли, такие темные ощущения, такие еще не ясные для меня вопросы толпятся в моей голове – а как-то нет ни силы, ни хотения их разрешить. Не мне разрешить все это!
Сегодня мы не увидимся. Вчера, когда мы прощались, облака стали заволакивать небо и подымался туман. Я сказал, что завтра будет дурной день; она не отвечала, она не хотела против себя говорить; для нее этот день и светел и ясен, и ни одна тучка не застелет ее счастия.
– Коли будет дождь, мы не увидимся! – сказала она, – я не приду.
Я думал, что она и не заметила сегодняшнего дождя, а между тем не пришла.
Вчера было наше третье свидание, наша третья белая ночь…
Однако как радость и счастие делают человека прекрасным! как кипит сердце любовью! Кажется, хочешь излить все свое сердце в другое сердце, хочешь, чтоб все было весело, все смеялось. И как заразительна эта радость! Вчера в ее словах было столько неги, столько доброты ко мне в сердце… Как она ухаживала за мной, как ласкалась ко мне, как ободряла и нежила мое сердце! О, сколько кокетства от счастия! А я… Я принимал все за чистую монету; я думал, что она…
Но, Боже мой, как же мог я это думать? как же мог я быть так слеп, когда уже все взято другим, все не мое; когда, наконец, даже эта самая нежность ее, ее забота, ее любовь… да, любовь ко мне, – была не что иное, как радость о скором свидании с другим, желание навязать и мне свое счастие?.. Когда он не пришел, когда мы прождали напрасно, она же нахмурилась, она же заробела и струсила. Все движения ее, все слова ее уже стали не так легки, игривы и веселы. И, странное дело, – она удвоила ко мне свое внимание, как будто инстинктивно желая на меня излить то, чего сама желала себе, за что сама боялась, если б оно не сбылось. Моя Настенька так оробела, так перепугалась, что, кажется, поняла, наконец, что я люблю ее, и сжалилась над моей бедной любовью. Так, когда мы несчастны, мы сильнее чувствуем несчастие других; чувство не разбивается, а сосредоточивается…
Я пришел к ней с полным сердцем и едва дождался свидания. Я не предчувствовал того, что буду теперь ощущать, не предчувствовал, что все это не так кончится. Она сияла радостью, она ожидала ответа. Ответ был он сам. Он должен был прийти, прибежать на ее зов. Она пришла раньше меня целым часом. Сначала она всему хохотала, всякому слову моему смеялась. Я начал было говорить и умолк.
– Знаете ли, отчего я так рада? – сказала она, – так рада на вас смотреть? так люблю вас сегодня?
– Ну? – спросил я, и сердце мое задрожало.
– Я оттого люблю вас, что вы не влюбились в меня. Ведь вот иной, на вашем месте, стал бы беспокоить, приставать, разохался бы, разболелся, а вы такой милый!
Тут она так сжала мою руку, что я чуть не закричал. Она засмеялась.
– Боже! какой вы друг! – начала она через минуту очень серьезно. – Да вас Бог мне послал! Ну, что бы со мной было, если б вас со мной теперь не было? Какой вы бескорыстный! Как хорошо вы меня любите! Когда я выйду замуж, мы будем очень дружны, больше, чем как братья. Я буду вас любить почти так, как его…
Мне стало как-то ужасно грустно в это мгновение; однако ж что-то похожее на смех зашевелилось в душе моей.
– Вы в припадке, – сказал я, – вы трусите; вы думаете, что он не придет.
– Бог с вами! – отвечала она, – если б я была меньше счастлива, я бы, кажется, заплакала от вашего неверия, от ваших упреков. Впрочем, вы меня навели на мысль и задали мне долгую думу; но я подумаю после, а теперь признаюсь вам, что правду вы говорите. Да! я как-то сама не своя; я как-то вся в ожидании и чувствую все как-то слишком легко. Да полноте, оставим про чувства!..
В это время послышались шаги, и в темноте показался прохожий, который шел к нам навстречу. Мы оба задрожали; она чуть не вскрикнула. Я опустил ее руку и сделал жест, как будто хотел отойти. Но мы обманулись: это был не он.
– Чего вы боитесь? Зачем вы бросили мою руку? – сказала она, подавая мне ее опять. – Ну, что же? мы встретим его вместе. Я хочу, чтоб он видел, как мы любим друг друга.
– Как мы любим друг друга! – закричал я.
«О Настенька, Настенька! – подумал я, – как этим словом ты много сказала! От этакой любви, Настенька, в иной час холодеет на сердце и становится тяжело на душе. Твоя рука холодная, моя горячая, как огонь. Какая слепая ты, Настенька!.. О! как несносен счастливый человек в иную минуту! Но я не мог на тебя рассердиться!..»
Наконец, сердце мое переполнилось.
– Послушайте, Настенька! – закричал я, – знаете ли, что со мной было весь день?
– Ну, что, что такое? рассказывайте скорее! Что ж вы до сих пор все молчали!
– Во-первых, Настенька, когда я исполнил все ваши комиссии, отдал письмо, был у ваших добрых людей, потом… потом я пришел домой и лег спать.
– Только-то? – перебила она засмеявшись.
– Да, почти только-то, – отвечал я скрепя сердце, потому что в глазах моих уже накипали глупые слезы. – Я проснулся за час до нашего свидания, но как будто и не спал. Не знаю, что было со мною. Я шел, чтоб вам это все рассказать, как будто время для меня остановилось, как будто одно ощущение, одно чувство должно было остаться с этого времени во мне навечно, как будто одна минута должна была продолжаться целую вечность и словно вся жизнь остановилась для меня… Когда я проснулся, мне казалось, что какой-то музыкальный мотив, давно знакомый, где-то прежде слышанный, забытый и сладостный, теперь вспоминался мне. Мне казалось, что он всю жизнь просился из души моей, и только теперь…
– Ах, Боже мой, Боже мой! – перебила Настенька, – как же это все так? Я не понимаю ни слова.
– Ах, Настенька! мне хотелось как-нибудь передать вам это странное впечатление… – начал я жалобным голосом, в котором скрывалась еще надежда, хотя весьма отдаленная.
– Полноте, перестаньте, полноте! – заговорила она, и в один миг она догадалась, плутовка!
Вдруг она сделалась как-то необыкновенно говорлива, весела, шаловлива. Она взяла меня под руку, смеялась, хотела, чтоб и я тоже смеялся, и каждое смущенное слово мое отзывалось в ней таким звонким, таким долгим смехом… Я начинал сердиться, она вдруг пустилась кокетничать.
– Послушайте, – начала она, – а ведь мне немножко досадно, что вы не влюбились в меня. Разберите-ка после этого человека! Но все-таки, господин непреклонный, вы не можете не похвалить меня за то, что я такая простая. Я вам все говорю, все говорю, какая бы глупость ни промелькнула у меня в голове.
– Слушайте! Это одиннадцать часов, кажется? – сказал я, когда мерный звук колокола загудел с отдаленной городской башни. Она вдруг остановилась, перестала смеяться и начала считать.
– Да, одиннадцать, – сказала она, наконец, робким, нерешительным голосом.
Я тотчас же раскаялся, что напугал ее, заставил считать часы, и проклял себя за припадок злости. Мне стало за нее грустно, и я не знал, как искупить свое прегрешение. Я начал ее утешать, выискивать причины его отсутствия, подводить разные доводы, доказательства. Никого нельзя было легче обмануть, как ее, в эту минуту, да и всякий в эту минуту как-то радостно выслушивает хоть какое бы то ни было утешение, и рад-рад, коли есть хоть тень оправдания.
– Да и смешное дело, – начал я, все более и более горячась и любуясь на необыкновенную ясность своих доказательств, – да и не мог он прийти; вы и меня обманули и завлекли, Настенька, так что я и времени счет потерял… Вы только подумайте: он едва мог получить письмо; положим, ему нельзя прийти, положим, он будет отвечать, так письмо придет не раньше, как завтра. Я за ним завтра чем свет схожу и тотчас же дам знать. Предположите, наконец, тысячу вероятностей: ну, его не было дома, когда пришло письмо, и он, может быть, его и до сих пор не читал? Ведь все может случиться.
– Да, да! – отвечала Настенька, – я и не подумала; конечно, все может случиться, – продолжала она самым сговорчивым голосом, но в котором, как досадный диссонанс, слышалась какая-то другая отдаленная мысль. – Вот что вы сделайте, – продолжала она, – вы идите завтра, как можно раньше, и если получите что-нибудь, тотчас же дайте мне знать. Вы ведь знаете, где я живу? – И она начала повторять мне свой адрес.
Потом она вдруг стала так нежна, так робка со мною… Она, казалось, слушала внимательно, что я ей говорил; но когда я обратился к ней с каким-то вопросом, она смолчала, смешалась и отворотила от меня головку. Я заглянул ей в глаза – так и есть: она плакала.
– Ну, можно ли, можно ли? Ах, какое вы дитя! Какое ребячество!.. Полноте!
Она попробовала улыбнуться, успокоиться, но подбородок ее дрожал и грудь все еще колыхалась.
– Я думаю об вас, – сказала она мне после минутного молчания, – вы так добры, что я была бы каменная, если б не чувствовала этого… Знаете ли, что мне пришло теперь в голову? Я вас обоих сравнивала. Зачем он – не вы? Зачем он не такой, как вы? Он хуже вас, хоть я и люблю его больше вас.
Я не отвечал ничего. Она, казалось, ждала, чтоб я сказал что-нибудь.
– Конечно, я, может быть, не совсем еще его понимаю, не совсем его знаю. Знаете, я как будто всегда боялась его; он всегда был такой серьезный, такой как будто гордый. Конечно, я знаю, что это он только смотрит так, что в сердце его больше, чем в моем, нежности… Я помню, как он посмотрел на меня тогда, как я, помните, пришла к нему с узелком; но все-таки я его как-то слишком уважаю, а ведь это как будто бы мы и неровня?
– Нет, Настенька, нет, – отвечал я, это значит, что вы его больше всего на свете любите, и гораздо больше себя самой любите.
– Да, положим, что это так, – отвечала наивная Настенька, – но знаете ли, что мне пришло теперь в голову? Только я теперь не про него буду говорить, а так вообще; мне уже давно все это приходило в голову. Послушайте, зачем мы все не так, как бы братья с братьями? Зачем самый лучший человек всегда как будто что-то таит от другого и молчит от него? Зачем прямо, сейчас, не сказать, что есть на сердце, коли знаешь, что не на ветер свое слово скажешь? А то всякий так смотрит, как будто он суровее, чем он есть на самом деле, как будто все боятся оскорбить свои чувства, коли очень скоро выкажут их…
– Ах, Настенька! правду вы говорите; да ведь это происходит от многих причин, – перебил я, сам более чем когда-нибудь в эту минуту стеснявший свои чувства.
– Нет, нет! – отвечала она с глубоким чувством. – Вот вы, например, не таков, как другие! Я, право, не знаю, как бы вам это рассказать, что я чувствую; но мне кажется, вы вот, например… хоть бы теперь… мне кажется, вы чем-то для меня жертвуете, – прибавила она робко, мельком взглянув на меня. – Вы меня простите, если я вам так говорю: я ведь простая девушка; я ведь мало еще видела на свете и, право, не умею иногда говорить, – прибавила она голосом, дрожащим от какого-то затаенного чувства, и стараясь между тем улыбнуться, – но мне только хотелось сказать вам, что я благодарна, что я тоже все это чувствую… О, дай вам Бог за это счастия! Вот то, что вы мне насказали тогда о вашем мечтателе, совершенно неправда, то есть, я хочу сказать, совсем до вас не касается. Вы выздоравливаете, вы, право, совсем другой человек, чем как вы себя описали. Если вы когда-нибудь полюбите, то дай вам Бог счастия с нею! А ей я ничего не желаю, потому что она будет счастлива с вами. Я знаю, я сама женщина, и вы должны мне верить, если я вам так говорю…
Она замолкла и крепко пожала руку мне. Я тоже не мог ничего говорить от волнения. Прошло несколько минут.
– Да, видно, что он не придет сегодня! – сказала она, наконец, подняв голову. – Поздно!..
– Он придет завтра, – сказал я самым уверительным и твердым голосом.
– Да, – прибавила она, развеселившись, – я сама теперь вижу, что он придет только завтра. Ну, так до свидания! до завтра! Если будет дождь, я, может быть, не приду. Но послезавтра я приду, непременно приду, что бы со мной ни было; будьте здесь непременно; я хочу вас видеть, я вам все расскажу.
И потом, когда мы прощались, она подала мне руку и сказала, ясно взглянув на меня:
– Ведь мы теперь навсегда вместе, не правда ли?
О! Настенька, Настенька! Если б ты знала, в каком я теперь одиночестве!
Когда пробило девять часов, я не мог усидеть в комнате, оделся и вышел, несмотря на ненастное время. Я был там, сидел на нашей скамейке. Я было пошел в их переулок, но мне стало стыдно, и я воротился, не взглянув на их окна, не дойдя двух шагов до их дома. Я пришел домой в такой тоске, в какой никогда не бывал. Какое сырое, скучное время! Если б была хорошая погода, я бы прогулял там всю ночь…
Но до завтра, до завтра! Завтра она мне все расскажет.
Однако письма сегодня не было. Но, впрочем, так и должно было быть. Они уже вместе…
Ночь четвертая
Боже, как все это кончилось! Чем все это кончилось!
Я пришел в девять часов. Она была уже там. Я еще издали заметил ее; она стояла, как тогда, в первый раз, облокотясь на перила набережной, и не слыхала, как я подошел к ней.
– Настенька! – окликнул я ее, через силу подавляя свое волнение.
Она быстро обернулась ко мне.
– Ну! – сказала она, – ну! поскорее!
Я смотрел на нее в недоумении.
– Ну, где же письмо? Вы принесли письмо? – повторила она, схватившись рукой за перила.
– Нет, у меня нет письма, – сказал я, наконец, – разве он еще не был?
Она страшно побледнела и долгое время смотрела на меня неподвижно. Я разбил последнюю ее надежду.
– Ну, Бог с ним! – проговорила она, наконец, прерывающимся голосом, – Бог с ним, если он так оставляет меня.
Она опустила глаза, потом хотела взглянуть на меня, но не могла. Еще несколько минут она пересиливала свое волнение, но вдруг отворотилась, облокотясь на балюстраду набережной, и залилась слезами.
– Полноте, полноте! – заговорил было я, но у меня сил не достало продолжать, на нее глядя, да и что бы я стал говорить?
– Не утешайте меня, – говорила она плача, – не говорите про него, не говорите, что он придет, что он не бросил меня так жестоко, так бесчеловечно, как он это сделал. За что, за что? Неужели что-нибудь было в моем письме, в этом несчастном письме?..
Тут рыдания пересекли ее голос; у меня сердце разрывалось, на нее глядя.
– О, как это бесчеловечно-жестоко! – начала она снова. – И ни строчки, ни строчки! Хоть бы отвечал, что я не нужна ему, что он отвергает меня; а то ни одной строчки в целые три дня! Как легко ему оскорбить, обидеть бедную, беззащитную девушку, которая тем и виновата, что любит его! О, сколько я вытерпела в эти три дня! Боже мой! Боже мой! Как вспомню, что я пришла к нему в первый раз сама, что я перед ним унижалась, плакала, что я вымаливала у него хоть каплю любви… И после этого!.. Послушайте, – заговорила она, обращаясь ко мне, и черные глазки ее засверкали, – да это не так! Это не может быть так; это ненатурально! Или вы, или я обманулись; может быть, он письма не получал? Может быть, он до сих пор ничего не знает? Как же можно, судите сами, скажите мне, ради Бога, объясните мне – я этого не могу понять, – как можно так варварски-грубо поступить, как он поступил со мною! Ни одного слова! Но к последнему человеку на свете бывают сострадательнее. Может быть, он что-нибудь слышал, может быть, кто-нибудь ему насказал обо мне? – закричала она, обратившись ко мне с вопросом. – Как, как вы думаете?
– Слушайте, Настенька, я пойду завтра к нему от вашего имени.
– Ну!
– Я спрошу его обо всем, расскажу ему все.
– Ну, ну!
– Вы напишите письмо. Не говорите нет, Настенька, не говорите нет! Я заставлю его уважать ваш поступок, он все узнает, и если…
– Нет, мой друг, нет, – перебила она. – Довольно! Больше ни слова, ни одного слова от меня, ни строчки – довольно! Я его не знаю, я не люблю его больше, я его по…за…буду…
Она не договорила.
– Успокойтесь, успокойтесь! Сядьте здесь, Настенька, – сказал я, усаживая ее на скамейку.
– Да я спокойна. Полноте! Это так! Это слезы, это просохнет! Что вы думаете, что я сгублю себя, что я утоплюсь?..
Сердце мое было полно; я хотел было заговорить, но не мог.
– Слушайте! – продолжала она, взяв меня за руку, – скажите: вы бы не так поступили? вы бы не бросили той, которая бы сама к вам пришла, вы бы не бросили ей в глаза бесстыдной насмешки над ее слабым, глупым сердцем? Вы поберегли бы ее? Вы бы представили себе, что она была одна, что она не умела усмотреть за собой, что она не умела себя уберечь от любви к вам, что она не виновата, что она, наконец, не виновата… что она ничего не сделала!.. О Боже мой, Боже мой…
– Настенька! – закричал я, наконец, не будучи в силах преодолеть свое волнение. – Настенька! вы терзаете меня! Вы язвите сердце мое, вы убиваете меня, Настенька! Я не могу молчать! Я должен, наконец, говорить, высказать, что у меня накипело тут в сердце…
Говоря это, я привстал со скамейки. Она взяла меня за руку и смотрела на меня в удивлении.
– Что с вами? – проговорила она, наконец.
– Слушайте! – сказал я решительно. – Слушайте меня, Настенька! Что я буду теперь говорить, все вздор, все несбыточно, все глупо! Я знаю, что этого никогда не может случиться, но не могу же я молчать. Именем того, чем вы теперь страдаете, заранее молю вас, простите меня!..
– Ну, что, что? – говорила она, перестав плакать и пристально смотря на меня, тогда как странное любопытство блистало в ее удивленных глазках, – что с вами?
– Это несбыточно, но я вас люблю, Настенька! вот что! Ну, теперь все сказано! – сказал я, махнув рукой. – Теперь вы увидите, можете ли вы так говорить со мной, как сейчас говорили, можете ли вы, наконец, слушать то, что я буду вам говорить…
– Ну, что ж, что же? – перебила Настенька, – что ж из этого? Ну, я давно знала, что вы меня любите, но только мне все казалось, что вы меня так, просто, как-нибудь любите… Ах Боже мой, Боже мой!
– Сначала было просто, Настенька, а теперь, теперь… я точно так же, как вы, когда вы пришли к нему тогда с вашим узелком. Хуже, чем как вы, Настенька, потому что он тогда никого не любил, а вы любите.
– Что это вы мне говорите! Я, наконец, вас совсем не понимаю. Но послушайте, зачем же это, то есть не зачем, а почему же это вы так, и так вдруг… Боже! я говорю глупости! Но вы…
И Настенька совершенно смешалась. Щеки ее вспыхнули; она опустила глаза.
– Что же делать, Настенька, что ж мне делать! я виноват, я употребил во зло… Но нет же, нет, не виноват я, Настенька; я это слышу, чувствую, потому что мое сердце мне говорит, что я прав, потому что я вас ничем не могу обидеть, ничем оскорбить! Я был друг ваш; ну, вот я и теперь друг; я ничему не изменял. Вот у меня теперь слезы текут, Настенька. Пусть их текут, пусть текут – они никому не мешают. Они высохнут, Настенька…
– Да сядьте же, сядьте, – сказала она, сажая меня на скамейку, – ох, Боже мой!
– Нет! Настенька, я не сяду; я уже более не могу быть здесь, вы уже меня более не можете видеть; я все скажу и уйду. Я только хочу сказать, что вы бы никогда не узнали, что я вас люблю. Я бы сохранил свою тайну. Я бы не стал вас терзать теперь, в эту минуту, моим эгоизмом. Нет! но я не мог теперь вытерпеть; вы сами заговорили об этом, вы виноваты, вы во всем виноваты, а я не виноват. Вы не можете прогнать меня от себя…
– Да нет же, нет, я не отгоняю вас, нет! – говорила Настенька, скрывая, как только могла, свое смущение, бедненькая.
– Вы меня не гоните? нет! а я было сам хотел бежать от вас. Я и уйду, только я все скажу сначала, потому что, когда вы здесь говорили, я не мог усидеть, когда вы здесь плакали, когда вы терзались оттого, ну оттого (уж я назову это, Настенька), оттого, что вас отвергают, оттого, что оттолкнули вашу любовь, я почувствовал, я услышал, что в моем сердце столько любви для вас, Настенька, столько любви!.. И мне стало так горько, что я не могу помочь вам этой любовью… что сердце разорвалось, и я, я – не мог молчать, я должен был говорить, Настенька, я должен был говорить!..
– Да, да! говорите мне, говорите со мною так! – сказала Настенька с неизъяснимым движением. – Вам, может быть, странно, что я с вами так говорю, но… говорите! я вам после скажу! я вам все расскажу!
– Вам жаль меня, Настенька; вам просто жаль меня, дружочек мой! Уж что пропало, то пропало! уж что сказано, того не воротишь! Не так ли? Ну, так вы теперь знаете все. Ну, вот это точка отправления. Ну, хорошо! теперь все это прекрасно; только послушайте. Когда вы сидели и плакали, я про себя думал (ох, дайте мне сказать, что я думал!), я думал, что (ну, уж, конечно, этого не может быть, Настенька), я думал, что вы… я думал, что вы как-нибудь там… ну, совершенно посторонним каким-нибудь образом, уж больше его не любите. Тогда – я это и вчера и третьего дня уже думал, Настенька, – тогда я бы сделал так, я бы непременно сделал так, что вы бы меня полюбили: ведь вы сказали, ведь вы сами говорили, Настенька, что вы меня уже почти совсем полюбили. Ну, что ж дальше? Ну, вот почти и все, что я хотел сказать; остается только сказать, что бы тогда было, если б вы меня полюбили, только это, больше ничего!» Послушайте же, друг мой, – потому что вы все-таки мой друг, – я, конечно, человек простой, бедный, такой незначительный, только не в том дело (я как-то все не про то говорю, это от смущения, Настенька), а только я бы вас так любил, так любил, что если б вы еще и любили его и продолжали любить того, которого я не знаю, то все-таки не заметили бы, что моя любовь как-нибудь там для вас тяжела. Вы бы только слышали, вы бы только чувствовали каждую минуту, что подле вас бьется благодарное, благодарное сердце, горячее сердце, которое за вас… Ох, Настенька, Настенька! что вы со мной сделали!..
– Не плачьте же, я не хочу, чтоб вы плакали, – сказала Настенька, быстро вставая со скамейки, – пойдемте, встаньте, пойдемте со мной, не плачьте же, не плачьте, – говорила она, утирая мои слезы своим платком, – ну, пойдемте теперь; я вам, может быть, скажу что-нибудь… Да, уж коли теперь он оставил меня, коль он позабыл меня, хотя я еще и люблю его (не хочу вас обманывать)… но, послушайте, отвечайте мне. Если б я, например, вас полюбила, то есть если б я только… Ох, друг мой, друг мой! как я подумаю, как подумаю, что я вас оскорбляла тогда, что смеялась над вашей любовью, когда вас хвалила за то, что вы не влюбились!.. О Боже! да как же я этого не предвидела, как я не предвидела, как я была так глупа, но… ну, ну, я решилась, я все скажу…
– Послушайте, Настенька, знаете что? я уйду от вас, вот что! Просто я вас только мучаю. Вот у вас теперь угрызения совести за то, что вы насмехались, а я не хочу, да, не хочу, чтоб вы, кроме вашего горя… я, конечно, виноват, Настенька, но прощайте!
– Стойте, выслушайте меня: вы можете ждать?
– Чего ждать, как?
– Я его люблю; но это пройдет, это должно пройти, это не может не пройти; уж проходит, я слышу… Почем знать, может быть, сегодня же кончится, потому что я его ненавижу, потому что он надо мной насмеялся, тогда как вы плакали здесь вместе со мною, потому-то вы не отвергли бы меня, как он, потому что вы любите, а он не любил меня, потому что я вас, наконец, люблю сама… да, люблю! люблю, как вы меня любите; я же ведь сама еще прежде вам это сказала, вы сами слышали, – потому люблю, что вы лучше его, потому, что вы благороднее его, потому, потому, что он…
Волнение бедняжки было так сильно, что она не докончила, положила свою голову мне на плечо, потом на грудь, и горько заплакала. Я утешал, уговаривал ее, но она не могла перестать; она все жала мне руку и говорила между рыданьями: «Подождите, подождите; вот я сейчас перестану! Я вам хочу сказать… вы не думайте, чтоб эти слезы – это так, от слабости, подождите, пока пройдет…» Наконец, она перестала, отерла слезы, и мы снова пошли. Я было хотел говорить, но она долго еще все просила меня подождать. Мы замолчали… Наконец, она собралась с духом и начала говорить…
– Вот что, – начала она слабым и дрожащим голосом, но в котором вдруг зазвенело что-то такое, что вонзилось мне прямо в сердце и сладко заныло в нем, – не думайте, что я так непостоянна и ветрена, не думайте, что я могу так легко и скоро позабыть и изменить… Я целый год его любила и Богом клянусь, что никогда, никогда даже мыслью не была ему неверна. Он презрел это; он насмеялся надо мною, – Бог с ним! Но он уязвил меня и оскорбил мое сердце. Я – я не люблю его, потому что я могу любить только то, что великодушно, что понимает меня, что благородно; потому что я сама такова, и он недостоин меня – ну, Бог с ним! Он лучше сделал, чем когда бы я потом обманулась в своих ожиданиях и узнала, кто он таков… Ну, кончено! Но почем знать, добрый друг мой, – продолжала она, пожимая мне руку, – почем знать, может быть, и вся любовь моя была обман чувств, воображения, может быть, началась она шалостью, пустяками, оттого, что я была под надзором у бабушки? Может быть, я должна любить другого, а не его, не такого человека, другого, который пожалел бы меня и, и… Ну, оставим, оставим это, – перебила Настенька, задыхаясь от волнения, – я вам только хотела сказать… я вам хотела сказать, что если, несмотря на то, что я люблю его (нет, любила его), если, несмотря на то, вы еще скажете… если вы чувствуете, что ваша любовь так велика, что может, наконец, вытеснить из моего сердца прежнюю… если вы захотите сжалиться надо мною, если вы не захотите меня оставить одну в моей судьбе, без утешения, без надежды, если вы захотите любить меня всегда, как теперь меня любите, то клянусь, что благодарность… что любовь моя будет, наконец, достойна вашей любви… Возьмете ли вы теперь мою руку?
– Настенька, – закричал я, задыхаясь от рыданий, – Настенька!.. О Настенька!..
– Ну, довольно, довольно! ну, теперь совершенно довольно! – заговорила она, едва пересиливая себя, – ну, теперь уже все сказано; не правда ли? так? Ну, и вы счастливы, и я счастлива; ни слова же об этом больше; подождите; пощадите меня… Говорите о чем-нибудь другом, ради Бога!..
– Да, Настенька, да! довольно об этом, теперь я счастлив, я… Ну, Настенька, ну, заговорим о другом, поскорее, поскорее заговорим; да! я готов…
И мы не знали, что говорить, мы смеялись, мы плакали, мы говорили тысячи слов без связи и мысли; мы то ходили по тротуару, то вдруг возвращались назад и пускались переходить через улицу; потом останавливались и опять переходили на набережную; мы были как дети…
– Я теперь живу один, Настенька, – заговаривал я, – а завтра… Ну, конечно, я, знаете, Настенька, беден, у меня всего тысяча двести, но это ничего…
– Разумеется, нет, а у бабушки пенсион; так она нас не стеснит. Нужно взять бабушку.
– Конечно, нужно взять бабушку… Только вот Матрена…
– Ах, да и у нас тоже Фекла!
– Матрена добрая, только один недостаток: у ней нет воображения, Настенька, совершенно никакого воображения; но это ничего!..
– Все равно; они обе могут быть вместе; только вы завтра к нам переезжайте.
– Как это? к вам! Хорошо, я готов…
– Да, вы наймите у нас. У нас, там, наверху, мезонин; он пустой; жилица была, старушка, дворянка, она съехала, и бабушка, я знаю, хочет молодого человека пустить; я говорю: «Зачем же молодого человека?» А она говорит: «Да так, я уже стара, а только ты не подумай, Настенька, что я за него тебя хочу замуж сосватать». Я и догадалась, что это для того…
– Ах, Настенька!..
И оба мы засмеялись.
– Ну, полноте же, полноте. А где вы живете? я и забыла.
– Там у – ского моста, в доме Баранникова.
– Это такой большой дом?
– Да, такой большой дом.
– Ах, знаю, хороший дом; только вы, знаете, бросьте его и переезжайте к нам поскорее…
– Завтра же, Настенька, завтра же; я там немножко должен за квартиру, да это ничего… Я получу скоро жалованье…
– А знаете, я, может быть, буду уроки давать; сама выучусь и буду давать уроки…
– Ну вот и прекрасно… а я скоро награждение получу, Настенька…
– Так вот вы завтра и будете мой жилец…
– Да, и мы поедем в «Севильского цирюльника», потому что его теперь опять дадут скоро.
– Да, поедем, – сказала, смеясь, Настенька, – нет, лучше мы будем слушать не «Цирюльника», а что-нибудь другое…
– Ну, хорошо, что-нибудь другое; конечно, это будет лучше, а то я не подумал…
Говоря это, мы ходили оба как будто в чаду, в тумане, как будто сами не знали, что с нами делается. То останавливались и долго разговаривали на одном месте, то опять пускались ходить и заходили Бог знает куда, и опять смех, опять слезы… То Настенька вдруг захочет домой, я не смею удерживать и захочу проводить ее до самого дома; мы пускаемся в путь и вдруг через четверть часа находим себя на набережной у нашей скамейки. То она вздохнет, и снова слезинка набежит на глаза; я оробею, похолодею… Но она тут же жмет мою руку и тащит меня снова ходить, болтать, говорить…
– Пора теперь, пора мне домой; я думаю, очень поздно, – сказала, наконец, Настенька, – полно нам так ребячиться!
– Да, Настенька, только уж я теперь не засну; я домой не пойду.
– Я тоже, кажется, не засну; только вы проводите меня…
– Непременно!
– Но уж теперь мы непременно дойдем до квартиры.
– Непременно, непременно…
– Честное слово?.. потому что ведь нужно же когда-нибудь воротиться домой!
– Честное слово, – отвечал я смеясь…
– Ну, пойдемте!
– Пойдемте!
– Посмотрите на небо, Настенька, посмотрите! Завтра будет чудесный день; какое голубое небо, какая луна! Посмотрите: вот это желтое облако, теперь застилает ее, смотрите, смотрите!.. Нет, оно прошло мимо. Смотрите же, смотрите!..
Но Настенька не смотрела на облако, она стояла молча как вкопанная; через минуту она стала как-то робко, тесно прижиматься ко мне. Рука ее задрожала в моей руке; я поглядел на нее… Она оперлась на меня еще сильнее.
В эту минуту мимо нас прошел молодой человек. Он вдруг остановился, пристально посмотрел на нас и потом опять сделал несколько шагов. Сердце во мне задрожало…
– Настенька, – сказал я вполголоса, – кто это, Настенька?
– Это он! – отвечала она шепотом, еще ближе, еще трепетнее прижимаясь ко мне… Я едва устоял на ногах.
– Настенька! Настенька! это ты! – послышался голос за нами, и в ту же минуту молодой человек сделал к нам несколько шагов…
Боже, какой крик! как она вздрогнула! как она вырвалась из рук моих и порхнула к нему навстречу!.. Я стоял и смотрел на них, как убитый. Но она едва подала ему руку, едва бросилась в его объятия, как вдруг снова обернулась ко мне, очутилась подле меня, как ветер, как молния, и, прежде чем успел я опомниться, обхватила мою шею обеими руками и крепко, горячо поцеловала меня. Потом, не сказав мне ни слова, бросилась снова к нему, взяла его за руки и повлекла его за собою.
Я долго стоял и глядел им вслед… Наконец, оба они исчезли из глаз моих.
Утро
Мои ночи кончились утром. День был нехороший. Шел дождь и уныло стучал в мои стекла; в комнатке было темно, на дворе пасмурно. Голова у меня болела и кружилась; лихорадка прокрадывалась по моим членам.
– Письмо к тебе, батюшка, по городской почте почтарь принес, – проговорила надо мною Матрена.
– Письмо! от кого? – закричал я, вскакивая со стула.
– А не ведаю, батюшка, посмотри, может, там и написано от кого.
Я сломал печать. Это от нее!
«О, простите, простите меня! – писала мне Настенька, – на коленях умоляю вас, простите меня! Я обманула и вас и себя. Это был сон, призрак… Я изныла за вас сегодня; простите, простите меня!..
Не обвиняйте меня, потому что я ни в чем не изменилась пред вами; я сказала, что буду любить вас, я и теперь вас люблю, больше чем люблю. О Боже! если б я могла любить вас обоих разом! О, если б вы были он!»
«О, если б он были вы!» – пролетело в моей голове. Я вспомнил твои же слова, Настенька!
«Бог видит, что бы я теперь для вас сделала! Я знаю, что вам тяжело и грустно. Я оскорбила вас, но вы знаете – коли любишь, долго ли помнишь обиду. А вы меня любите!
Благодарю! да! благодарю вас за эту любовь. Потому что в памяти моей она напечатлелась, как сладкий сон, который долго помнишь после пробуждения; потому что я вечно буду помнить тот миг, когда вы так братски открыли мне свое сердце и так великодушно приняли в дар мое, убитое, чтоб его беречь, лелеять, вылечить его… Если вы простите меня, то память об вас будет возвышена во мне вечным, благодарным чувством к вам, которое никогда не изгладится из души моей… Я буду хранить эту память, буду ей верна, не изменю ей, не изменю своему сердцу: оно слишком постоянно. Оно еще вчера так скоро воротилось к тому, которому принадлежало навеки.
Мы встретимся, вы придете к нам, вы нас не оставите, вы будете вечно другом, братом моим… И когда вы увидите меня, вы подадите мне руку… да? вы подадите мне ее, вы простили меня, не правда ли? Вы меня любите по-прежнему?
О, любите меня, не оставляйте меня, потому что я вас так люблю в эту минуту, потому что я достойна любви вашей, потому что я заслужу ее… друг мой милый! На будущей неделе я выхожу за него. Он воротился влюбленный, он никогда не забывал обо мне… Вы не рассердитесь за то, что я об нем написала. Но я хочу прийти к вам вместе с ним; вы его полюбите, не правда ли?..
Простите нас, помните и любите вашу
Настеньку».
Я долго перечитывал это письмо; слезы просились из глаз моих. Наконец, оно выпало у меня из рук, и я закрыл лицо.
– Касатик! а касатик! – начала Матрена.
– Что, старуха?
– А паутину-то я всю с потолка сняла; теперь хоть женись, гостей созывай, так в ту ж пору…
Я посмотрел на Матрену… Это была еще бодрая, молодая старуха, но, не знаю отчего, вдруг она представилась мне с потухшим взглядом, с морщинами на лице, согбенная, дряхлая… Не знаю отчего, мне вдруг представилось, что комната моя постарела так же, как и старуха. Стены и полы облиняли, все потускнело; паутины развелось еще больше. Не знаю отчего, когда я взглянул в окно, мне показалось, что дом, стоявший напротив, тоже одряхлел и потускнел в свою очередь, что штукатурка на колоннах облупилась и осыпалась, что карнизы почернели и растрескались и стены из темно-желтого яркого цвета стали пегие…
Или луч солнца, внезапно выглянув из-за тучи, опять спрятался под дождевое облако, и все опять потускнело в глазах моих; или, может быть, передо мною мелькнула так неприветно и грустно вся перспектива моего будущего, и я увидел себя таким, как я теперь, ровно через пятнадцать лет, постаревшим, в той же комнате, так же одиноким, с той же Матреной, которая нисколько не поумнела за все эти годы.
Но чтоб я помнил обиду мою, Настенька! Чтоб я нагнал темное облако на твое ясное, безмятежное счастие, чтоб я, горько упрекнув, нагнал тоску на твое сердце, уязвил его тайным угрызением и заставил его тоскливо биться в минуту блаженства, чтоб я измял хоть один из этих нежных цветков, которые ты вплела в свои черные кудри, когда пошла вместе с ним к алтарю… О, никогда, никогда! Да будет ясно твое небо, да будет светла и безмятежна милая улыбка твоя, да будешь ты благословенна за минуту блаженства и счастия, которое ты дала другому, одинокому, благодарному сердцу!
Боже мой! Целая минута блаженства! Да разве этого мало хоть бы и на всю жизнь человеческую?..
Мальчики Главы из романа «Братья Карамазовы»
I. Коля Красоткин
Ноябрь в начале. У нас стал мороз градусов в одиннадцать, а с ним гололедица. На мерзлую землю упало в ночь немного сухого снегу, и ветер «сухой и острый»[13] подымает его и метет по скучным улицам нашего городка и особенно по базарной площади. Утро мутное, но снежок перестал. Недалеко от площади, поблизости от лавки Плотниковых, стоит небольшой, очень чистенький и снаружи и снутри домик вдовы чиновника Красоткиной. Сам губернский секретарь Красоткин помер уже очень давно, тому назад почти четырнадцать лет, но вдова его, тридцатилетняя и до сих пор еще весьма смазливая собою дамочка, жива и живет в своем чистеньком домике «своим капиталом». Живет она честно и робко, характера нежного, но довольно веселого. Осталась она после мужа лет восемнадцати, прожив с ним всего лишь около году и только что родив ему сына. С тех пор, с самой его смерти, она посвятила всю себя воспитанию этого своего нещечка[14] мальчика Коли, и хоть любила его все четырнадцать лет без памяти, но уж, конечно, перенесла с ним несравненно больше страданий, чем выжила радостей, трепеща и умирая от страха чуть не каждый день, что он заболеет, простудится, нашалит, полезет на стул и свалится, и проч., и проч. Когда же Коля стал ходить в школу и потом в нашу прогимназию, то мать бросилась изучать вместе с ним все науки, чтобы помогать ему и репетировать с ним уроки, бросилась знакомиться с учителями и с их женами, ласкала даже товарищей Коли, школьников, и лисила пред ними, чтобы не трогали Колю, не насмехались над ним, не прибили его. Довела до того, что мальчишки и в самом деле стали было чрез нее над ним насмехаться и начали дразнить его тем, что он маменькин сынок. Но мальчик сумел отстоять себя. Был он смелый мальчишка, «ужасно сильный», как пронеслась и скоро утвердилась молва о нем в классе, был ловок, характера упорного, духа дерзкого и предприимчивого. Учился он хорошо, и шла даже молва, что он и из арифметики, и из всемирной истории собьет самого учителя Дарданелова. Но мальчик хоть и смотрел на всех свысока, вздернув носик, но товарищем был хорошим и не превозносился. Уважение школьников принимал как должное, но держал себя дружелюбно. Главное, знал меру, умел при случае сдержать себя самого, а в отношениях к начальству никогда не переступал некоторой последней и заветной черты, за которую уже проступок не может быть терпим, обращаясь в беспорядок, бунт и в беззаконие. И однако, он очень, очень не прочь был пошалить при всяком удобном случае, пошалить как самый последний мальчишка, и не столько пошалить, сколько что-нибудь намудрить, начудесить, задать «экстрафеферу»[15], шику, порисоваться. Главное, был очень самолюбив. Даже свою маму сумел поставить к себе в отношения подчиненные, действуя на нее почти деспотически. Она и подчинилась, о, давно уже подчинилась, и лишь не могла ни за что перенести одной только мысли, что мальчик ее «мало любит». Ей беспрерывно казалось, что Коля к ней «бесчувствен», и бывали случаи, что она, обливаясь истерическими слезами, начинала упрекать его в холодности. Мальчик этого не любил, и чем более требовали от него сердечных излияний, тем как бы нарочно становился неподатливее. Но происходило это у него не нарочно, а невольно – таков уж был характер. Мать ошибалась: маму свою он очень любил, а не любил только «телячьих нежностей», как выражался он на своем школьническом языке. После отца остался шкап, в котором хранилось несколько книг; Коля любил читать и про себя прочел уже некоторые из них. Мать этим не смущалась и только дивилась иногда, как это мальчик, вместо того, чтоб идти играть, простаивает у шкапа по целым часам над какою-нибудь книжкой.
И таком образом Коля прочел кое-что, чего бы ему нельзя еще было давать читать в его возрасте. Впрочем, в последнее время хоть мальчик и не любил переходить в своих шалостях известной черты, но начались шалости, испугавшие мать не на шутку, – правда, не безнравственные какие-нибудь, зато отчаянные, головорезные. Как раз в это лето, в июле месяце, во время вакаций[16], случилось так, что маменька с сынком отправились погостить на недельку в другой уезд, за семьдесят верст, к одной дальней родственнице, муж которой служил на станции железной дороги (той самой, ближайшей от нашего города станции, с которой Иван Федорович Карамазов месяц спустя отправился в Москву). Там Коля начал с того, что оглядел железную дорогу в подробности, изучил распорядки, понимая, что новыми знаниями своими может блеснуть, возвратясь домой, между школьниками своей прогимназии. Но нашлись там как раз в то время и еще несколько мальчиков, с которыми он и сошелся; одни из них проживали на станции, другие по соседству – всего молодого народа от двенадцати до пятнадцати лет сошлось человек шесть или семь, а из них двое случились и из нашего городка. Мальчики вместе играли, шалили, и вот на четвертый или на пятый день гощения на станции состоялось между глупою молодежью одно преневозможное пари в два рубля, именно: Коля, почти из всех младший, а потому несколько презираемый старшими, из самолюбия или из беспардонной отваги, предложил, что он, ночью, когда придет одиннадцатичасовой поезд, ляжет между рельсами ничком и пролежит недвижимо, пока поезд пронесется над ним на всех парах. Правда, сделано было предварительное изучение, из которого оказалось, что действительно можно так протянуться и сплющиться вдоль между рельсами, что поезд, конечно, пронесется и не заденет лежащего, но, однакоже, каково пролежать! Коля стоял твердо, что пролежит. Над ним сначала смеялись, звали лгунишкой, фанфароном, но тем пуще его подзадорили. Главное, эти пятнадцатилетние слишком уж задирали пред ним нос и сперва даже не хотели считать его товарищем, как «маленького», что было уже нестерпимо обидно. И вот решено было отправиться с вечера за версту от станции, чтобы поезд, снявшись со станции, успел уже совсем разбежаться. Мальчишки собрались. Ночь настала безлунная, не то что темная, а почти черная. В надлежащий час Коля лег между рельсами. Пятеро остальных, державших пари, с замиранием сердца, а наконец в страхе и с раскаянием, ждали внизу насыпи подле дороги в кустах. Наконец загремел вдали поезд, снявшийся со станции. Засверкали из тьмы два красные фонаря, загрохотало приближающееся чудовище. «Беги, беги долой с рельсов!» – закричали Коле из кустов умиравшие от страха мальчишки, но было уже поздно: поезд наскакал и промчался мимо. Мальчишки бросились к Коле: он лежал недвижимо. Они стали его теребить, начали подымать. Он вдруг поднялся и молча сошел с насыпи. Сойдя вниз, он объявил, что нарочно лежал как без чувств, чтоб их испугать, но правда была в том, что он и в самом деле лишился чувств, как и признался потом сам, уже долго спустя, своей маме. Таким образом, слава «отчаянного» за ним укрепилась навеки. Воротился он домой на станцию бледный как полотно. На другой день заболел слегка нервною лихорадкой, но духом был ужасно весел, рад и доволен. Происшествие огласилось не сейчас, а уже в нашем городе, проникло в прогимназию и достигло до ее начальства. Но тут маменька Коли бросилась молить начальство за своего мальчика и кончила тем, что его отстоял и упросил за него уважаемый и влиятельный учитель Дарданелов, и дело оставили втуне, как не бывшее вовсе. Этот Дарданелов, человек холостой и нестарый, был страстно и уже многолетне влюблен в госпожу Красоткину и уже раз, назад тому с год, почтительнейше и замирая от страха и деликатности, рискнул было предложить ей свою руку; но она наотрез отказала, считая согласие изменой своему мальчику, хотя Дарданелов, по некоторым таинственным признакам, даже, может быть, имел бы некоторое право мечтать, что он не совсем противен прелестной, но уже слишком целомудренной и нежной вдовице. Сумасшедшая шалость Коли, кажется, пробила лед, и Дарданелову за его заступничество сделан был намек о надежде, правда отдаленной, но и сам Дарданелов был феноменом чистоты и деликатности, а потому с него и того было покамест довольно для полноты его счастия. Мальчика он любил, хотя считал бы унизительным пред ним заискивать, и относился к нему в классах строго и требовательно. Но Коля и сам держал его на почтительном расстоянии, уроки готовил отлично, был в классе вторым учеником, обращался к Дарданелову сухо, и весь класс твердо верил, что во всемирной истории Коля так силен, что «собьет» самого Дарданелова. И действительно, Коля задал ему раз вопрос: «Кто основал Трою?» – на что Дарданелов отвечал лишь вообще про народы, их движения и переселения, про глубину времен, про баснословие, но на то, кто именно основал Трою, то есть какие именно лица, ответить не мог, и даже вопрос нашел почему-то праздным и несостоятельным. Но мальчики так и остались в уверенности, что Дарданелов не знает, кто основал Трою. Коля ж вычитал об основателях Трои у Смарагдова, хранившегося в шкапе с книгами, который остался после родителя. Кончилось тем, что всех даже мальчиков стало, наконец, интересовать: кто ж именно основал Трою, но Красоткин своего секрета не открывал, и слава знания оставалась за ним незыблемо.
После случая на железной дороге у Коли в отношениях к матери произошла некоторая перемена. Когда Анна Федоровна (вдова Красоткина) узнала о подвиге сынка, то чуть не сошла с ума от ужаса. С ней сделались такие страшные истерические припадки, продолжавшиеся с перемежками несколько дней, что испуганный уже серьезно Коля дал ей честное и благородное слово, что подобных шалостей уже никогда не повторится. Он поклялся на коленях пред образом и поклялся памятью отца, как потребовала сама госпожа Красоткина, причем «мужественный» Коля сам расплакался, как шестилетний мальчик, от «чувств», и мать и сын во весь тот день бросались друг другу в объятия и плакали сотрясаясь. На другой день Коля проснулся по-прежнему «бесчувственным», однако стал молчаливее, скромнее, строже, задумчивее. Правда, месяца чрез полтора он опять было попался в одной шалости, и имя его сделалось даже известным нашему мировому судье, но шалость была уже совсем в другом роде, даже смешная и глупенькая, да и не сам он, как оказалось, совершил ее, а только очутился в нее замешанным. Но об этом как-нибудь после. Мать продолжала трепетать и мучиться, а Дарданелов по мере тревог ее все более и более воспринимал надежду. Надо заметить, что Коля понимал и разгадывал с этой стороны Дарданелова и, уж разумеется, глубоко презирал его за его «чувства»; прежде даже имел неделикатность выказывать это презрение свое пред матерью, отдаленно намекая ей, что понимает, чего добивается Дарданелов. Но после случая на железной дороге он и на этот счет изменил свое поведение: намеков себе уже более не позволял, даже самых отдаленных, а о Дарданелове при матери стал отзываться почтительнее, что тотчас же с беспредельною благодарностью в сердце своем поняла чуткая Анна Федоровна, но зато при малейшем, самом нечаянном слове даже от постороннего какого-нибудь гостя о Дарданелове, если при этом находился Коля, вдруг вся вспыхивала от стыда, как роза. Коля же в эти мгновения или смотрел нахмуренно в окно, или разглядывал, не просят ли у него сапоги каши, или свирепо звал Перезвона, лохматую, довольно большую и паршивую собаку, которую с месяц вдруг откуда-то приобрел, втащил в дом и держал почему-то в секрете в комнатах, никому ее не показывая из товарищей. Тиранил же ужасно, обучая ее всяким штукам и наукам, и довел бедную собаку до того, что та выла без него, когда он отлучался в классы, а когда приходил, визжала от восторга, скакала как полоумная, служила, валилась на землю и притворялась мертвою и проч., словом, показывала все штуки, которым ее обучили, уже не по требованию, а единственно от пылкости своих восторженных чувств и благодарного сердца.
Кстати: я и забыл упомянуть, что Коля Красоткин был тот самый мальчик, которого знакомый уже читателю мальчик Илюша, сын отставного штабс-капитана Снегирева, пырнул перочинным ножичком в бедро, заступаясь за отца, которого школьники задразнили «мочалкой».
II. Детвора
Итак, в то морозное и сиверкое ноябрьское утро[17] мальчик Коля Красоткин сидел дома. Было воскресенье, и классов не было. Но пробило уже одиннадцать часов, а ему непременно надо было идти со двора «по одному весьма важному делу», а между тем он во всем доме оставался один и решительно как хранитель его, потому что так случилось, что все его старшие обитатели, по некоторому экстренному и оригинальному обстоятельству, отлучились со двора. В доме вдовы Красоткиной, чрез сени от квартиры, которую занимала она сама, отдавалась еще одна и единственная в доме квартирка из двух маленьких комнат внаймы, и занимала ее докторша с двумя малолетними детьми. Эта докторша была одних лет с Анной Федоровной и большая ее приятельница, сам же доктор вот уже с год заехал куда-то сперва в Оренбург, а потом в Ташкент, и уже с полгода как от него не было ни слуху ни духу, так что если бы не дружба с госпожою Красоткиной, несколько смягчавшая горе оставленной докторши, то она решительно бы истекла от этого горя слезами. И вот надобно же было так случиться к довершению всех угнетений судьбы, что в эту же самую ночь, с субботы на воскресенье, Катерина, единственная служанка докторши, вдруг и совсем неожиданно для своей барыни объявила ей, что намерена родить к утру ребеночка. Как случилось, что никто этого не заметил заранее, было для всех почти чудом. Пораженная докторша рассудила, пока есть еще время, свезти Катерину в одно приспособленное к подобным случаям в нашем городке заведение у повивальной бабушки. Так как служанкою этой она очень дорожила, то немедленно и исполнила свой проект, отвезла ее и, сверх того, осталась там при ней. Затем уже утром понадобилось почему-то все дружеское участие и помощь самой госпожи Красоткиной, которая при этом случае могла кого-то о чем-то попросить и оказать какое-то покровительство. Таким образом, обе дамы были в отлучке, служанка же самой госпожи Красоткиной, баба Агафья, ушла на базар, и Коля очутился таким образом на время хранителем и караульщиком «пузырей», то есть мальчика и девочки докторши, оставшихся одинешенькими. Караулить дом Коля не боялся, с ним к тому же был Перезвон, которому повелено было лежать ничком в передней под лавкой «без движений» и который именно поэтому каждый раз, как входил в переднюю расхаживавший по комнатам Коля, вздрагивал головой и давал два твердые и заискивающие удара хвостом по полу, но увы, призывного свиста не раздавалось. Коля грозно взглядывал на несчастного пса, и тот опять замирал в послушном оцепенении. Но если что смущало Колю, то единственно «пузыри». На нечаянное приключение с Катериной он, разумеется, смотрел с самым глубоким презрением, но осиротевших пузырей он очень любил и уже снес им какую-то детскую книжку. Настя, старшая девочка, восьми уже лет, умела читать, а младший пузырь, семилетний мальчик Костя, очень любил слушать, когда Настя ему читает. Разумеется, Красоткин мог бы их занять интереснее, то есть поставить обоих рядом и начать с ними играть в солдаты или прятаться по всему дому. Это он не раз уже делал прежде и не брезгал делать, так что даже в классе у них разнеслось было раз, что Красоткин у себя дома играет с маленькими жильцами своими в лошадки, прыгает за пристяжную и гнет голову, но Красоткин гордо отпарировал это обвинение, выставив на вид, что со сверстниками, с тринадцатилетними, действительно было бы позорно играть «в наш век» в лошадки, но что он делает это для «пузырей», потому что их любит, а в чувствах его никто не смеет у него спрашивать отчета. Зато и обожали же его оба «пузыря». Но на сей раз было не до игрушек. Ему предстояло одно очень важное собственное дело, и на вид какое-то почти даже таинственное, между тем время уходило, а Агафья, на которую можно бы было оставить детей, все еще не хотела возвратиться с базара. Он несколько раз уже переходил чрез сени, отворял дверь к докторше и озабоченно оглядывал «пузырей», которые, по его приказанию, сидели за книжкой, и каждый раз, как он отворял дверь, молча улыбались ему во весь рот, ожидая, что вот он войдет и сделает что-нибудь прекрасное и забавное. Но Коля был в душевной тревоге и не входил. Наконец пробило одиннадцать, и он твердо и окончательно решил, что если через десять минут «проклятая» Агафья не воротится, то он уйдет со двора, ее не дождавшись, разумеется взяв с «пузырей» слово, что они без него не струсят, не нашалят и не будут от страха плакать. В этих мыслях он оделся в свое ватное зимнее пальтишко с меховым воротником из какого-то котика, навесил через плечо свою сумку и, несмотря на прежние неоднократные мольбы матери, чтоб он по «такому холоду», выходя со двора, всегда надевал калошки, только с презрением посмотрел на них, проходя через переднюю, и вышел в одних сапогах. Перезвон, завидя его одетым, начал было усиленно стучать хвостом по полу, нервно подергиваясь всем телом, и даже испустил было жалобный вой, но Коля, при виде такой страстной стремительности своего пса, заключил, что это вредит дисциплине, и хоть минуту, а выдержал его еще под лавкой и, уже отворив только дверь в сени, вдруг свистнул его. Пес вскочил как сумасшедший и бросился скакать пред ним от восторга. Перейдя сени, Коля отворил дверь к «пузырям». Оба по-прежнему сидели за столиком, но уже не читали, а жарко о чем-то спорили. Эти детки часто друг с другом спорили о разных вызывающих житейских предметах, причем Настя, как старшая, всегда одерживала верх; Костя же, если не соглашался с нею, то всегда почти шел апеллировать к Коле Красоткину, и уж как тот решал, так оно и оставалось в виде абсолютного приговора для всех сторон. На этот раз спор «пузырей» несколько заинтересовал Красоткина, и он остановился в дверях послушать. Дети видели, что он слушает, и тем еще с большим азартом продолжали свое препирание.
– Никогда, никогда я не поверю, – горячо лепетала Настя, – что маленьких деток повивальные бабушки находят в огороде, между грядками с капустой. Теперь уж зима, и никаких грядок нет, и бабушка не могла принести Катерине дочку.
– Фью! – присвистнул про себя Коля.
– Или вот как: они приносят откуда-нибудь, но только тем, которые замуж выходят.
Коля пристально смотрел на Настю, глубокомысленно слушал и соображал.
– Настя, какая ты дура, – произнес он, наконец, твердо и не горячась, – какой же может быть у Катерины ребеночек, когда она не замужем?
Настя ужасно загорячилась.
– Ты ничего не понимаешь, – раздражительно оборвала она, – может, у нее муж был, но только в тюрьме сидит, а она вот и родила.
– Да разве у нее муж в тюрьме сидит? – важно осведомился положительный Костя.
– Или вот что, – стремительно перебила Настя, совершенно бросив и забыв свою первую гипотезу, – у нее нет мужа, это ты прав, но она хочет выйти замуж, вот и стала думать, как выйдет замуж, и все думала, все думала и до тех пор думала, что вот он у ней и стал не муж, а ребеночек.
– Ну разве так, – согласился совершенно побежденный Костя, – а ты этого раньше не сказала, так как же я мог знать.
– Ну, детвора, – произнес Коля, шагнув к ним в комнату, – опасный вы, я вижу, народ!
– И Перезвон с вами? – осклабился Костя и начал прищелкивать пальцами и звать Перезвона.
– Пузыри, я в затруднении, – начал важно Красоткин, – и вы должны мне помочь: Агафья, конечно, ногу сломала, потому что до сих пор не является, это решено и подписано, мне же необходимо со двора. Отпустите вы меня али нет?
Дети озабоченно переглянулись друг с другом, осклабившиеся лица их стали выражать беспокойство. Они, впрочем, еще не понимали вполне, чего от них добиваются.
– Шалить без меня не будете? Не полезете на шкап, не сломаете ног? Не заплачете от страха одни?
На лицах детей выразилась страшная тоска.
– А я бы вам за то мог вещицу одну показать, пушечку медную, из которой можно стрелять настоящим порохом.
Лица деток мгновенно прояснились.
– Покажите пушечку, – весь просиявший, проговорил Костя.
Красоткин запустил руку в свою сумку и, вынув из нее маленькую бронзовую пушечку, поставил ее на стол.
– То-то покажите! Смотри, на колесках, – прокатил он игрушку по столу, – и стрелять можно. Дробью зарядить и стрелять.
– И убьет?
– Всех убьет, только стоит навести, – и Красоткин растолковал, куда положить порох, куда вкатить дробинку, показал на дырочку в виде затравки и рассказал, что бывает откат. Дети слушали со страшным любопытством. Особенно поразило их воображение, что бывает откат.
– А у вас есть порох? – осведомилась Настя.
– Есть.
– Покажите и порох, – протянула она с просящею улыбкой.
Красоткин опять слазил в сумку и вынул из нее маленький пузырек, в котором действительно было насыпано несколько настоящего пороха, а в свернутой бумажке оказалось несколько крупинок дроби. Он даже откупорил пузырек и высыпал немножко пороху на ладонь.
– Вот, только не было бы где огня, а то так и взорвет и нас всех перебьет, – предупредил для эффекта Красоткин.
Дети рассматривали порох с благоговейным страхом, еще усилившим наслаждение. Но Косте больше понравилась дробь.
– А дробь не горит? – осведомился он.
– Дробь не горит.
– Подарите мне немножко дроби, – проговорил он умоляющим голоском.
– Дроби немножко подарю, вот, бери, только маме своей до меня не показывай, пока я не приду обратно, а то подумает, что это порох, и так и умрет от страха, а вас выпорет.
– Мама нас никогда не сечет розгой, – тотчас же заметила Настя.
– Знаю, я только для красоты слога сказал. И маму вы никогда не обманывайте, но на этот раз – пока я приду. Итак, пузыри, можно мне идти или нет? Не заплачете без меня от страха?
– За-пла-чем, – протянул Костя, уже приготовляясь плакать.
– Заплачем, непременно заплачем! – подхватила пугливою скороговоркой и Настя.
– Ох, дети, дети, как опасны ваши лета.[18] Нечего делать, птенцы, придется с вами просидеть не знаю сколько. А время-то, время-то, ух!
– А прикажите Перезвону мертвым притвориться, – попросил Костя.
– Да уж нечего делать, придется прибегнут и к Перезвону. Иси, Перезвон! – И Коля начал повелевать собаке, а та представлять все, что знала. Это была лохматая собака, величиной с обыкновенную дворняжку, какой-то серо-лиловой шерсти. Правый глаз ее был крив, а левое ухо почему-то с разрезом. Она взвизгивала и прыгала, служила, ходила на задних лапах, бросалась на спину всеми четырьмя лапами вверх и лежала без движения как мертвая. Во время этой последней штуки отворилась дверь, и Агафья, толстая служанка госпожи Красоткиной, рябая баба лет сорока, показалась на пороге, возвратясь с базара с кульком накупленной провизии в руке. Она стала и, держа в левой руке на отвесе кулек, принялась глядеть на собаку. Коля, как ни ждал Агафьи, представления не прервал и, выдержав Перезвона определенное время мертвым, наконец-то свистнул ему: собака вскочила и пустилась прыгать от радости, что исполнила свой долг.
– Вишь, пес! – проговорила назидательно Агафья.
– А ты чего, женский пол, опоздала? – спросил грозно Красоткин.
– Женский пол, ишь пупырь!
– Пупырь?
– И пупырь. Что тебе, что я опоздала, значит так надо, коли опоздала, – бормотала Агафья, принимаясь возиться около печки, но совсем не недовольным и не сердитым голосом, а, напротив, очень довольным, как будто радуясь случаю позубоскалить с веселым барчонком.
– Слушай, легкомысленная старуха, – начал, вставая с дивана, Красоткин, – можешь ты мне поклясться всем, что есть святого в этом мире, и сверх того чем-нибудь еще, что будешь наблюдать за пузырями в мое отсутствие неустанно? Я ухожу со двора.
– А зачем я тебе клястись стану? – засмеялась Агафья, – и так присмотрю.
– Нет, не иначе как поклявшись вечным спасением души твоей. Иначе не уйду.
– И не уходи. Мне како дело, на дворе мороз, сиди дома.
– Пузыри, – обратился Коля к деткам, – эта женщина останется с вами до моего прихода или до прихода вашей мамы, потому что и той давно бы воротиться надо. Сверх того, даст вам позавтракать. Дашь чего-нибудь им, Агафья?
– Это возможно.
– До свидания, птенцы, ухожу со спокойным сердцем. А ты, бабуся, – вполголоса и важно проговорил он, проходя мимо Агафьи, – надеюсь, не станешь им врать обычные ваши бабьи глупости про Катерину, пощадишь детский возраст. Иси, Перезвон!
– И ну тебя к Богу, – огрызнулась уже с сердцем Агафья. – Смешной! Выпороть самого-то, вот что, за такие слова.
III. Школьник
Но Коля уже не слушал. Наконец-то он мог уйти. Выйдя за ворота, он огляделся, передернул плечиками и, проговорив: «Мороз!», направился прямо по улице и потом направо по переулку к базарной площади. Не доходя одного дома до площади, он остановился у ворот, вынул из кармашка свистульку и свистнул изо всей силы, как бы подавая условный знак. Ему пришлось ждать не более минуты, из калитки вдруг выскочил к нему румяненький мальчик, лет одиннадцати, тоже одетый в теплое, чистенькое и даже щегольское пальтецо. Это был мальчик Смуров, состоявший в приготовительном классе (тогда как Коля Красоткин был уже двумя классами выше), сын зажиточного чиновника и которому, кажется, не позволяли родители водиться с Красоткиным как с известнейшим отчаянным шалуном, так что Смуров, очевидно, выскочил теперь украдкой. Этот Смуров, если не забыл читатель, был один из той группы мальчиков, которые два месяца тому назад кидали камнями через канаву в Илюшу и который рассказывал тогда про Илюшу Алеше Карамазову.
– Я вас уже целый час жду, Красоткин, – с решительным видом проговорил Смуров, и мальчики зашагали к площади.
– Запоздал, – ответил Красоткин. – Есть обстоятельства. Тебя не выпорют, что ты со мной?
– Ну полноте, разве меня порют? И Перезвон с вами?
– И Перезвон!
– Вы и его туда?
– И его туда.
– Ах, кабы Жучка!
– Нельзя Жучку. Жучка не существует. Жучка исчезла во мраке неизвестности.
– Ах, нельзя ли бы так, – приостановился вдруг Смуров, – ведь Илюша говорит, что Жучка тоже была лохматая и тоже такая же седая, дымчатая, как и Перезвон, – нельзя ли сказать, что это та самая Жучка и есть, он, может быть, и поверит?
– Школьник, гнушайся лжи, это раз; даже для доброго дела, два. А главное, надеюсь, ты там не объявлял ничего о моем приходе.
– Боже сохрани, я ведь понимаю же. Но Перезвоном его не утешишь, – вздохнул Смуров. – Знаешь что: отец этот, капитан, мочалка-то, говорил нам, что сегодня щеночка ему принесет, настоящего меделянского[19], с черным носом; он думает, что этим утешит Илюшу, только вряд ли?
– А каков он сам, Илюша-то?
– Ах, плох, плох! Я думаю, у него чахотка. Он весь в памяти, только так дышит-дышит, нехорошо он дышит. Намедни попросил, чтоб его поводили, обули его в сапожки, пошел было, да и валится. «Ах, говорит, я говорил тебе, папа, что у меня дурные сапожки, прежние, в них и прежде было неловко ходить». Это он думал, что он от сапожек с ног валится, а он просто от слабости. Недели не проживет. Герценштубе ездит. Теперь они опять богаты, у них много денег.
– Шельмы.
– Кто шельмы?
– Доктора, и вся медицинская сволочь, говоря вообще, и, уж разумеется, в частности. Я отрицаю медицину. Бесполезное учреждение. Я, впрочем, все это исследую. Что это у вас там за сентиментальности, однако, завелись? Вы там всем классом, кажется, пребываете?
– Не всем, а так человек десять наших ходит туда, всегда, всякий день. Это ничего.
– Удивляет меня во всем этом роль Алексея Карамазова: брата его завтра или послезавтра судят за такое преступление, а у него столько времени на сентиментальничанье с мальчиками!
– Совсем тут никакого нет сентиментальничанья. Сам же вот идешь теперь с Илюшей мириться.
– Мириться? Смешное выражение. Я, впрочем, никому не позволяю анализировать мои поступки.
– А как Илюша будет тебе рад! Он и не воображает, что ты придешь. Почему, почему ты так долго не хотел идти? – воскликнул вдруг с жаром Смуров.
– Милый мальчик, это мое дело, а не твое. Я иду сам по себе, потому что такова моя воля, а вас всех притащил туда Алексей Карамазов, значит разница. И почем ты знаешь, я, может, вовсе не мириться иду? Глупое выражение.
– Вовсе не Карамазов, совсем не он. Просто наши сами туда стали ходить, конечно сперва с Карамазовым. И ничего такого не было, никаких глупостей. Сначала один, потом другой. Отец был ужасно нам рад. Ты знаешь, он просто с ума сойдет, коль умрет Илюша. Он видит, что Илюша умрет. А нам-то как рад, что мы с Илюшей помирились. Илюша о тебе спрашивал, ничего больше не прибавил. Спросит и замолчит. А отец с ума сойдет или повесится. Он ведь и прежде держал себя как помешанный. Знаешь, он благородный человек, и тогда вышла ошибка. Все этот отцеубийца виноват, что избил его тогда.
– А все-таки Карамазов для меня загадка. Я мог бы и давно с ним познакомиться, но я в иных случаях люблю быть гордым. Притом я составил о нем некоторое мнение, которое надо еще проверить и разъяснить.
Коля важно примолк; Смуров тоже. Смуров, разумеется, благоговел пред Колей Красоткиным и не смел и думать равняться с ним. Теперь же был ужасно заинтересован, потому что Коля объяснил, что идет «сам по себе», и была тут, стало быть, непременно какая-то загадка в том, что Коля вдруг вздумал теперь и именно сегодня идти. Они шли по базарной площади, на которой на этот раз стояло много приезжих возов и было много пригнанной птицы. Городские бабы торговали под своими навесами бубликами, нитками и проч. Такие воскресные съезды наивно называются у нас в городке ярмарками, и таких ярмарок бывает много в году. Перезвон бежал в веселейшем настроении духа, уклоняясь беспрестанно направо и налево где-нибудь что-нибудь понюхать. Встречаясь с другими собачонками, с необыкновенною охотой с ними обнюхивался по всем собачьим правилам.
– Я люблю наблюдать реализм, Смуров, – заговорил вдруг Коля. – Заметил ты, как собаки встречаются и обнюхиваются? Тут какой-то общий у них закон природы.
– Да, какой-то смешной.
– То есть не смешной, это ты неправильно. В природе ничего нет смешного, как бы там ни казалось человеку с его предрассудками. Если бы собаки могли рассуждать и критиковать, то наверно бы нашли столько же для себя смешного, если не гораздо больше, в социальных отношениях между собою людей, их повелителей, – если не гораздо больше; это я повторяю потому, что я твердо уверен, что глупостей у нас гораздо больше. Это мысль Ракитина, мысль замечательная. Я социалист, Смуров.
– А что такое социалист? – спросил Смуров.
– Это коли все равны, у всех одно общее имение, нет браков, а религия и все законы как кому угодно, ну и там все остальное. Ты еще не дорос до этого, тебе рано. Холодно, однако.
– Да. Двенадцать градусов. Давеча отец смотрел на термометре.
– И заметил ты, Смуров, что в средине зимы, если градусов пятнадцать или даже восемнадцать, то кажется не так холодно, как например теперь, в начале зимы, когда вдруг нечаянно ударит мороз, как теперь, в двенадцать градусов, да еще когда снегу мало. Это значит, люди еще не привыкли. У людей все привычка, во всем, даже в государственных и в политических отношениях. Привычка – главный двигатель. Какой смешной, однако, мужик.
Коля указал на рослого мужика в тулупе, с добродушною физиономией, который у своего воза похлопывал от холода ладонями в рукавицах. Длинная русая борода его вся заиндевела от мороза.
– У мужика борода замерзла! – громко и задирчиво крикнул Коля, проходя мимо него.
– У многих замерзла, – спокойно и сентенциозно промолвил в ответ мужик.
– Не задирай его, – заметил Смуров.
– Ничего, не осердится, он хороший. Прощай, Матвей.
– Прощай.
– А ты разве Матвей?
– Матвей. А ты не знал?
– Не знал; я наугад сказал.
– Ишь ведь. В школьниках небось?
– В школьниках.
– Что ж тебя, порют?
– Не то чтобы, а так.
– Больно?
– Не без того!
– Эх, жисть! – вздохнул мужик от всего сердца.
– Прощай, Матвей.
– Прощай. Парнишка ты милый, вот что.
Мальчики пошли дальше.
– Это хороший мужик, – заговорил Коля Смурову. – Я люблю поговорить с народом и всегда рад отдать ему справедливость.
– Зачем ты ему соврал, что у нас секут? – спросил Смуров.
– Надо же было его утешить?
– Чем это?
– Видишь, Смуров, не люблю я, когда переспрашивают, если не понимают с первого слова. Иного и растолковать нельзя. По идее мужика, школьника порют и должны пороть: что, дескать, за школьник, если его не порют? И вдруг я скажу ему, что у нас не порют, ведь он этим огорчится. А впрочем, ты этого не понимаешь. С народом надо умеючи говорить.
– Только не задирай, пожалуйста, а то опять выйдет история, как тогда с этим гусем.
– А ты боишься?
– Не смейся, Коля, ей-Богу боюсь. Отец ужасно рассердится. Мне строго запрещено ходить с тобой.
– Не беспокойся, нынешний раз ничего не произойдет. Здравствуй, Наташа, – крикнул он одной из торговок под навесом.
– Какая я тебе Наташа, я Марья, – крикливо ответила торговка, далеко еще не старая женщина.
– Это хорошо, что Марья, прощай.
– Ах ты постреленок, от земли не видать, а туда же!
– Некогда, некогда мне с тобой, в будущее воскресенье расскажешь, – замахал руками Коля, точно она к нему приставала, а не он к ней.
– А что мне тебе рассказывать в воскресенье? Сам привязался, а не я к тебе, озорник, – раскричалась Марья, – выпороть тебя, вот что, обидчик ты известный, вот что!
Между другими торговками, торговавшими на своих лотках рядом с Марьей, раздался смех, как вдруг из-под аркады городских лавок выскочил ни с того ни с сего один раздраженный человек вроде купеческого приказчика и не наш торговец, а из приезжих, в длиннополом синем кафтане, в фуражке с козырьком, еще молодой, в темно-русых кудрях и с длинным, бледным, рябоватым лицом. Он был в каком-то глупом волнении и тотчас принялся грозить Коле кулаком.
– Я тебя знаю, – восклицал он раздраженно, – я тебя знаю!
Коля пристально поглядел на него. Он что-то не мог припомнить, когда он с этим человеком мог иметь какую-нибудь схватку. Но мало ли у него было схваток на улицах, всех и припомнить было нельзя.
– Знаешь? – иронически спросил он его.
– Я тебя знаю! Я тебя знаю! – наладил как дурак мещанин.
– Тебе же лучше. Ну, некогда мне, прощай!
– Чего озорничаешь? – закричал мещанин. – Ты опять озорничаешь? Я тебя знаю! Ты опять озорничать?
– Это, брат, не твое теперь дело, что я озорничаю, – произнес Коля, остановясь и продолжая его разглядывать.
– Как не мое?
– Так, не твое.
– А чье же? Чье же? Ну, чье же?
– Это, брат, теперь Трифона Никитича дело, а не твое.
– Какого такого Трифона Никитича? – с дурацким удивлением, хотя все так же горячась, уставился на Колю парень. Коля важно обмерил его взглядом.
– К Вознесенью ходил? – строго и настойчиво вдруг спросил он его.
– К какому Вознесенью? Зачем? Нет, не ходил, – опешил немного парень.
– Сабанеева знаешь? – еще настойчивее и еще строже продолжал Коля.
– Какого те Сабанеева? Нет, не знаю.
– Ну и черт с тобой после этого! – отрезал вдруг Коля и, круто повернув направо, быстро зашагал своею дорогой, как будто и говорить презирая с таким олухом, который Сабанеева даже не знает.
– Стой ты, эй! Какого те Сабанеева? – опомнился парень, весь опять заволновавшись. – Это он чего такого говорил? – повернулся он вдруг к торговкам, глупо смотря на них.
Бабы рассмеялись.
– Мудреный мальчишка, – проговорила одна.
– Какого, какого это он Сабанеева? – все неистово повторял парень, махая правою рукой.
– А это, надоть быть, Сабанеева, который у Кузьмичевых служил, вот как, надоть быть, – догадалась вдруг одна баба.
Парень дико на нее уставился.
– Кузь-ми-чева? – переговорила другая баба, – да какой он Трифон? Тот Кузьма, а не Трифон, а парнишка Трифоном Никитичем называл, стало, не он.
– Это, вишь, не Трифон и не Сабанеев, это Чижов, – подхватила вдруг третья баба, доселе молчавшая и серьезно слушавшая, – Алексей Иванычем звать его. Чижов, Алексей Иванович.
– Это так и есть, что Чижов, – настойчиво подтвердила четвертая баба.
Ошеломленный парень глядел то на ту, то на другую.
– Да зачем он спрашивал, спрашивал-то он зачем, люди добрые! – восклицал он уже почти в отчаянии, – «Сабанеева знаешь?» А черт его знает, какой он есть таков Сабанеев!
– Бестолковый ты человек, говорят те – не Сабанеев, а Чижов, Алексей Иванович Чижов, вот кто! – внушительно крикнула ему одна торговка.
– Какой Чижов? Ну, какой? Говори, коли знаешь.
– А длинный, возгривый, летось на базаре сидел.
– А на кой ляд мне твово Чижова, люди добрые, а?
– А я почем знаю, на кой те ляд Чижова.
– А кто тебя знает, на что он тебе, – подхватила другая, – сам должен знать, на что его тебе надо, коли галдишь. Ведь он тебе говорил, а не нам, глупый ты человек. Аль вправду не знаешь?
– Кого?
– Чижова.
– А черт его дери, Чижова, с тобой вместе! Отколочу его, вот что! Смеялся он надо мной!
– Чижова-то отколотишь? Либо он тебя! Дурак ты, вот что!
– Не Чижова, не Чижова, баба ты злая, вредная, мальчишку отколочу, вот что! Давайте его, давайте его сюда, смеялся он надо мной!
Бабы хохотали. А Коля шагал уже далеко с победоносным выражением в лице. Смуров шел подле, оглядываясь на кричащую вдали группу. Ему тоже было очень весело, хотя он все еще опасался, как бы не попасть с Колей в историю.
– Про какого ты его спросил Сабанеева? – спросил он Колю, предчувствуя ответ.
– А почем я знаю, про какого? Теперь у них до вечера крику будет. Я люблю расшевелить дураков во всех слоях общества. Вот и еще стоит олух, вот этот мужик. Заметь себе, говорят: «Ничего нет глупее глупого француза», но и русская физиономия выдает себя. Ну не написано ль у этого на лице, что он дурак, вот у этого мужика, а?
– Оставь его, Коля, пройдем мимо.
– Ни за что не оставлю, я теперь поехал. Эй! здравствуй, мужик!
Дюжий мужик, медленно проходивший мимо и уже, должно быть, выпивший, с круглым простоватым лицом и с бородой с проседью, поднял голову и посмотрел на парнишку.
– Ну, здравствуй, коли не шутишь, – неторопливо проговорил он в ответ.
– А коль шучу?
– А шутишь, так и шути, Бог с тобой. Ничего, это можно. Это всегда возможно, чтоб пошутить.
– Виноват, брат, пошутил.
– Ну и Бог те прости.
– Ты-то прощаешь ли?
– Оченно прощаю. Ступай.
– Вишь ведь ты, да ты, пожалуй, мужик умный.
– Умней тебя, – неожиданно и по-прежнему важно ответил мужик.
– Вряд ли, – опешил несколько Коля.
– Верно говорю.
– А пожалуй что и так.
– То-то, брат.
– Прощай, мужик.
– Прощай.
– Мужики бывают разные, – заметил Коля Смурову после некоторого молчания. – Почем же я знал, что нарвусь на умника. Я всегда готов признать ум в народе.
Вдали на соборных часах пробило половину двенадцатого. Мальчики заспешили и остальной довольно еще длинный путь до жилища штабс-капитана Снегирева прошли быстро и почти уже не разговаривая. За двадцать шагов до дома Коля остановился и велел Смурову пойти вперед и вызвать ему сюда Карамазова.
– Надо предварительно обнюхаться, – заметил он Смурову.
– Да зачем вызывать, – возразил было Смуров, – войди и так, тебе ужасно обрадуются. А то что же на морозе знакомиться?
– Это уж я знаю, зачем мне его надо сюда на мороз, – деспотически отрезал Коля (что ужасно любил делать с этими «маленькими»), и Смуров побежал исполнять приказание.
IV. Жучка
Коля с важною миной в лице прислонился к забору и стал ожидать появления Алеши. Да, с ним ему давно уже хотелось встретиться. Он много наслышался о нем от мальчиков, но до сих пор всегда наружно выказывал презрительно равнодушный вид, когда ему о нем говорили, даже «критиковал» Алешу, выслушивая то, что о нем ему передавали. Но про себя очень, очень хотел познакомиться: что-то было во всех выслушанных им рассказах об Алеше симпатическое и влекущее. Таким образом, теперешняя минута была важная; во-первых, надо было себя в грязь лицом не ударить, показать независимость: «А то подумает, что мне тринадцать лет, и примет меня за такого же мальчишку, как и эти. И что ему эти мальчишки? Спрошу его, когда сойдусь. Скверно, однакоже, то, что я такого маленького роста. Тузиков моложе меня, а на полголовы выше. Лицо у меня, впрочем, умное; я не хорош, я знаю, что я мерзок лицом, но лицо умное. Тоже надо не очень высказываться, а то сразу-то с объятиями, он и подумает… Тьфу, какая будет мерзость, если подумает!..»
Так волновался Коля, изо всех сил стараясь принять самый независимый вид. Главное, его мучил маленький его рост, не столько «мерзкое» лицо, сколько рост. У него дома, в углу на стене, еще с прошлого года была сделана карандашом черточка, которою он отметил свой рост, и с тех пор каждые два месяца он с волнением подходил опять мериться: на сколько успел вырасти? Но увы! вырастал он ужасно мало, и это приводило его порой просто в отчаяние. Что же до лица, то было оно вовсе не «мерзкое», напротив, довольно миловидное; беленькое, бледненькое, с веснушками. Серые, небольшие, но живые глазки смотрели смело и часто загорались чувством. Скулы были несколько широки, губы маленькие, не очень толстые, но очень красные; нос маленький и решительно вздернутый: «Совсем курносый, совсем курносый!» – бормотал про себя Коля, когда смотрелся в зеркало, и всегда отходил от зеркала с негодованием. «Да вряд ли и лицо умное?» – подумывал он иногда, даже сомневаясь и в этом. Впрочем, не надо полагать, что забота о лице и о росте поглощала всю его душу. Напротив, как ни язвительны были минуты пред зеркалом, но он быстро забывал о них, и даже надолго, «весь отдаваясь идеям и действительной жизни», как определял он сам свою деятельность.
Алеша появился скоро и спеша подошел к Коле; за несколько шагов еще тот разглядел, что у Алеши было какое-то совсем радостное лицо. «Неужели так рад мне?» – с удовольствием подумал Коля. Здесь кстати заметим, что Алеша очень изменился с тех пор, как мы его оставили: он сбросил подрясник и носил теперь прекрасно сшитый сюртук, мягкую круглую шляпу и коротко обстриженные волосы. Все это очень его красило, и смотрел он совсем красавчиком. Миловидное лицо его имело всегда веселый вид, но веселость эта была какая-то тихая и спокойная. К удивлению Коли, Алеша вышел к нему в том, в чем сидел в комнате, без пальто, видно, что поспешил. Он прямо протянул Коле руку.
– Вот и вы наконец, как мы вас все ждали.
– Были причины, о которых сейчас узнаете. Во всяком случае, рад познакомиться. Давно ждал случая и много слышал, – пробормотал, немного задыхаясь, Коля.
– Да мы с вами и без того бы познакомились, я сам о вас много слышал, но здесь-то, сюда-то вы запоздали.
– Скажите, как здесь?
– Илюша очень плох, он непременно умрет.
– Что вы! Согласитесь, что медицина подлость, Карамазов, – с жаром воскликнул Коля.
– Илюша часто, очень часто поминал об вас, даже, знаете, во сне, в бреду. Видно, что вы ему очень, очень были дороги прежде… до того случая… с ножиком. Тут есть и еще причина… Скажите, это ваша собака?
– Моя. Перезвон.
– А не Жучка? – жалостно поглядел Алеша в глаза Коле. – Та уже так и пропала?
– Знаю, что вам хотелось бы всем Жучку, слышал все-с, – загадочно усмехнулся Коля. – Слушайте, Карамазов, я вам объясню все дело, я, главное, с тем и пришел, для этого вас и вызвал, чтобы вам предварительно объяснить весь пассаж, прежде чем мы войдем, – оживленно начал он. – Видите, Карамазов, весной Илюша поступает в приготовительный класс. Ну, известно, наш приготовительный класс: мальчишки, детвора. Илюшу тотчас же начали задирать. Я двумя классами выше и, разумеется, смотрю издали, со стороны. Вижу, мальчик маленький, слабенький, но не подчиняется, даже с ними дерется, гордый, глазенки горят. Я люблю этаких. А они его пуще. Главное, у него тогда было платьишко скверное, штанишки наверх лезут, а сапоги каши просят. Они его и за это. Унижают. Нет, это уж я не люблю, тотчас заступился и экстрафеферу задал. Я ведь их бью, а они меня обожают, вы знаете ли это, Карамазов? – экспансивно похвастался Коля. – Да и вообще люблю детвору. У меня и теперь на шее дома два птенца сидят, даже сегодня меня задержали. Таким образом, Илюшу перестали бить, и я взял его под мою протекцию. Вижу, мальчик гордый, это я вам говорю, что гордый; но кончил тем, что предался мне рабски, исполняет малейшие мои повеления, слушает меня как бога, лезет мне подражать. В антрактах между классами сейчас ко мне, и мы вместе с ним ходим. По воскресеньям тоже. У нас в гимназии смеются, когда старший сходится на такую ногу с маленьким, но это предрассудок. Такова моя фантазия, и баста, не правда ли? Я его учу, развиваю – почему, скажите, я не могу его развивать, если он мне нравится? Ведь вот вы же, Карамазов, сошлись со всеми этими птенцами, значит, хотите действовать на молодое поколение, развивать, быть полезным? И признаюсь, эта черта в вашем характере, которую я узнал понаслышке, всего более заинтересовала меня. Впрочем, к делу: примечаю, что в мальчике развивается какая-то чувствительность, сентиментальность, а я, знаете, решительный враг всяких телячьих нежностей, с самого моего рождения. И к тому же противоречия: горд, а мне предан рабски – предан рабски, а вдруг засверкают глазенки и не хочет даже соглашаться со мной, спорит, на стену лезет. Я проводил тогда разные идеи: он не то что с идеями не согласен, а просто вижу, что он лично против меня бунтует, потому что я на его нежности отвечаю хладнокровием. И вот, чтобы его выдержать, я, чем он нежнее, тем становлюсь еще хладнокровнее, нарочно так поступаю, таково мое убеждение. Я имел в виду вышколить характер, выровнять, создать человека… ну и там… вы, разумеется, меня с полслова понимаете. Вдруг замечаю, он день, другой, третий смущен, скорбит, но уж не о нежностях, а о чем-то другом, сильнейшем, высшем. Думаю, что за трагедия? Наступаю на него и узнаю штуку: каким-то он образом сошелся с лакеем покойного отца вашего (который тогда еще был в живых) Смердяковым, а тот и научи его, дурачка, глупой шутке, то есть зверской шутке, подлой шутке – взять кусок хлеба, мякишу, воткнуть в него булавку и бросить какой-нибудь дворовой собаке, из таких, которые с голодухи кусок, не жуя, глотают, и посмотреть, что из этого выйдет. Вот и смастерили они такой кусок и бросили вот этой самой лохматой Жучке, о которой теперь такая история, одной дворовой собаке из такого двора, где ее просто не кормили, а она-то весь день на ветер лает. (Любите вы этот глупый лай, Карамазов? Я терпеть не могу.) Так и бросилась, проглотила и завизжала, завертелась и пустилась бежать, бежит и все визжит, и исчезла – так мне описывал сам Илюша. Признается мне, а сам плачет-плачет, обнимает меня, сотрясается: «Бежит и визжит, бежит и визжит» – только это и повторяет, поразила его эта картина. Ну, вижу, угрызения совести. Я принял серьезно. Мне, главное, и за прежнее хотелось его прошколить, так что, признаюсь, я тут схитрил, притворился, что в таком негодовании, какого, может, и не было у меня вовсе: «Ты, говорю, сделал низкий поступок, ты подлец, я, конечно, не разглашу, но пока прерываю с тобою сношения. Дело это обдумаю и дам тебе знать через Смурова (вот этого самого мальчика, который теперь со мной пришел и который всегда мне был предан): буду ли продолжать с тобою впредь отношения, или брошу тебя навеки, как подлеца». Это страшно его поразило. Я, признаюсь, тогда же почувствовал, что, может быть, слишком строго отнесся, но что делать, такова была моя тогдашняя мысль. День спустя посылаю к нему Смурова и чрез него передаю, что я с ним больше «не говорю», то есть это так у нас называется, когда два товарища прерывают между собой сношения. Тайна в том, что я хотел его выдержать на фербанте[20] всего только несколько дней, а там, видя раскаяние, опять протянуть ему руку. Это было твердое мое намерение. Но что же вы думаете: выслушал от Смурова, и вдруг у него засверкали глаза. «Передай, – закричал он, – от меня Красоткину, что я всем собакам буду теперь куски с булавками кидать, всем, всем!» – «А, думаю, вольный душок завелся, его надо выкурить», – и стал ему выказывать полное презрение, при всякой встрече отвертываюсь или иронически улыбаюсь. И вдруг тут происходит этот случай с его отцом, помните, мочалка-то? Поймите, что он таким образом уже предварительно приготовлен был к страшному раздражению. Мальчики, видя, что я его оставил, накинулись на него, дразнят: «Мочалка, мочалка». Вот тут-то у них и начались баталии, о которых я страшно сожалею, потому что его, кажется, очень больно тогда раз избили. Вот раз он бросается на всех во дворе, когда выходили из классов, а я как раз стою в десяти шагах и смотрю на него. И клянусь, я не помню, чтоб я тогда смеялся, напротив, мне тогда очень, очень стало жалко его, и еще миг, и я бы бросился его защищать. Но он вдруг встретил мой взгляд: что ему показалось – не знаю, но он выхватил перочинный ножик, бросился на меня и ткнул мне его в бедро, вот тут, у правой ноги. Я не двинулся, я, признаюсь, иногда бываю храбр, Карамазов, я только посмотрел с презрением, как бы говоря взглядом: «Не хочешь ли, мол, еще, за всю мою дружбу, так я к твоим услугам». Но он другой раз не пырнул, он не выдержал, он сам испугался, бросил ножик, заплакал в голос и пустился бежать. Я, разумеется, не фискалил и приказал всем молчать, чтобы не дошло до начальства, даже матери сказал, только когда все зажило, да и ранка была пустая, царапина. Потом слышу, в тот же день он бросался камнями и вам палец укусил, – но, понимаете, в каком он был состоянии! Ну что делать, я сделал глупо: когда он заболел, я не пошел его простить, то есть помириться, теперь раскаиваюсь. Но тут уж у меня явились особые цели. Ну вот и вся история… только, кажется, я сделал глупо…
– Ах, как это жаль, – воскликнул с волнением Алеша, – что я не знал ваших этих с ним отношений раньше, а то бы я сам давно уже пришел к вам вас просить пойти к нему со мной вместе. Верите ли, в жару, в болезни, он бредил вами. Я и не знал, как вы ему дороги! И неужели, неужели вы так и не отыскали эту Жучку? Отец и все мальчики по всему городу разыскивали. Верите ли, он, больной, в слезах, три раза при мне уж повторял отцу: «Это оттого я болен, папа, что я Жучку тогда убил, это меня Бог наказал», – не собьешь его с этой мысли! И если бы только достали теперь эту Жучку и показали, что она не умерла, а живая, то, кажется, он бы воскрес от радости. Все мы на вас надеялись.
– Скажите, с какой же стати надеялись, что я отыщу Жучку, то есть что именно я отыщу? – с чрезвычайным любопытством спросил Коля, – почему именно на меня рассчитывали, а не на другого?
– Какой-то слух был, что вы ее отыскиваете и что когда отыщете ее, то приведете. Смуров что-то говорил в этом роде. Мы, главное, все стараемся уверить, что Жучка жива, что ее где-то видели. Мальчики ему живого зайчика откуда-то достали, только он посмотрел, чуть-чуть улыбнулся и попросил, чтобы выпустили его в поле. Так мы и сделали. Сию минуту отец воротился и ему щенка меделянского принес, тоже достал откуда-то, думал этим утешить, только хуже еще, кажется, вышло…
– Еще скажите, Карамазов: что такое этот отец? Я его знаю, но что он такое по вашему определению: шут, паяц?
– Ах нет, есть люди глубоко чувствующие, но как-то придавленные. Шутовство у них вроде злобной иронии на тех, которым в глаза они не смеют сказать правды от долговременной унизительной робости пред ними. Поверьте, Красоткин, что такое шутовство чрезвычайно иногда трагично. У него все теперь, все на земле совокупилось в Илюше, и умри Илюша, он или с ума сойдет с горя, или лишит себя жизни. Я почти убежден в этом, когда теперь на него смотрю!
– Я вас понимаю, Карамазов, я вижу, вы знаете человека, – прибавил проникновенно Коля.
– А я, как увидал вас с собакой, так и подумал, что вы это привели ту самую Жучку.
– Подождите, Карамазов, может быть, мы ее и отыщем, а эта – Перезвон. Я впущу ее теперь в комнату и, может быть, развеселю Илюшу побольше, чем меделянским щенком. Подождите, Карамазов, вы кой-что сейчас узнаете. Ах, Боже мой, что ж я вас держу! – вскричал вдруг стремительно Коля. – Вы в одном сюртучке на таком холоде, а я вас задерживаю; видите, видите, какой я эгоист! О, все мы эгоисты, Карамазов![21]
– Не беспокойтесь; правда, холодно, но я не простудлив. Пойдемте, однакоже. Кстати, как ваше имя, я знаю, что Коля, а дальше?
– Николай, Николай Иванов Красоткин, или как говорят по-казенному, сын Красоткин, – чему-то засмеялся Коля, но вдруг прибавил: – Я, разумеется, ненавижу мое имя Николай.
– Почему же?
– Тривиально, казенно…
– Вам тринадцатый год? – спросил Алеша.
– То есть четырнадцатый, через две недели четырнадцать, весьма скоро. Признаюсь пред вами заранее в одной слабости, Карамазов, это уж так пред вами, для первого знакомства, чтобы вы сразу увидели всю мою натуру: я ненавижу, когда меня спрашивают про мои года, более чем ненавижу… и наконец… про меня, например, есть клевета, что я на прошлой неделе с приготовительными в разбойники играл. То, что я играл, это действительность, но что я для себя играл, для доставления себе самому удовольствия, то это решительно клевета. Я имею основание думать, что до вас это дошло, но я не для себя играл, а для детворы играл, потому что они ничего без меня не умели выдумать. И вот у нас всегда вздор распустят. Это город сплетен, уверяю вас.
– А хоть бы и для своего удовольствия играли, что ж тут такого?
– Ну для себя… Не станете же вы в лошадки играть?
– А вы рассуждайте так, – улыбнулся Алеша, – в театр, например, ездят же взрослые, а в театре тоже представляют приключения всяких героев, иногда тоже с разбойниками и с войной – так разве это не то же самое, в своем, разумеется, роде? А игра в войну у молодых людей, в рекреационное время[22], или там в разбойники – это ведь тоже зарождающееся искусство, зарождающаяся потребность искусства в юной душе, и эти игры иногда даже сочиняются складнее, чем представления на театре, только в том разница, что в театр ездят смотреть актеров, а тут молодежь сами актеры. Но это только естественно.
– Вы так думаете? Таково ваше убеждение? – пристально смотрел на него Коля. – Знаете, вы довольно любопытную мысль сказали; я теперь приду домой и шевельну мозгами на этот счет. Признаюсь, я так и ждал, что от вас можно кой-чему поучиться. Я пришел у вас учиться, Карамазов, – проникновенным и экспансивным голосом заключил Коля.
– А я у вас, – улыбнулся Алеша, пожав ему руку.
Коля был чрезвычайно доволен Алешей. Его поразило то, что с ним он в высшей степени на ровной ноге и что тот говорит с ним как с «самым большим».
– Я вам сейчас один фортель покажу, Карамазов, тоже одно театральное представление, – нервно засмеялся он, – я с тем и пришел.
– Зайдем сначала налево к хозяевам, там все ваши свои пальто оставляют, потому что в комнате тесно и жарко.
– О, ведь я на мгновение, я войду и просижу в пальто. Перезвон останется здесь в сенях и умрет: «Иси, Перезвон, куш и умри!» – видите, он и умер. А я сначала войду, высмотрю обстановку и потом, когда надо будет, свистну: «Иси, Перезвон!» и вы увидите, он тотчас же влетит как угорелый. Только надо, чтобы Смуров не забыл отворить в то мгновение дверь. Уж я распоряжусь, и вы увидите фортель…
V. У Илюшиной постельки
В знакомой уже нам комнате, в которой обитало семейство известного нам отставного штабс-капитана Снегирева, было в эту минуту и душно и тесно от многочисленной набравшейся публики. Несколько мальчиков сидели в этот раз у Илюши, и хоть все они готовы были, как и Смуров, отрицать, что помирил и свел их с Илюшей Алеша, но это было так. Все искусство его в этом случае состояло в том, что свел он их с Илюшей, одного за другим, без «телячьих нежностей», а совсем как бы не нарочно и нечаянно. Илюше же это принесло огромное облегчение в его страданиях. Увидев почти нежную дружбу и участие к себе всех этих мальчиков, прежних врагов своих, он был очень тронут. Одного только Красоткина недоставало, и это лежало на его сердце страшным гнетом. Если было в горьких воспоминаниях Илюшечки нечто самое горьчайшее, то это именно весь этот эпизод с Красоткиным, бывшим единственным другом его и защитником, на которого он бросился тогда с ножиком. Так думал и умненький мальчик Смуров (первый пришедший помириться с Илюшей). Но сам Красоткин, когда Смуров отдаленно сообщил ему, что Алеша хочет к нему прийти «по одному делу», тотчас же оборвал и отрезал подход, поручив Смурову немедленно сообщить «Карамазову», что он сам знает, как поступать, что советов ни от кого не просит и что если пойдет к больному, то сам знает, когда пойти, потому что у него «свой расчет». Это было еще недели за две до этого воскресенья. Вот почему Алеша и не пошел к нему сам, как намеревался. Впрочем, он хоть и подождал, но, однакоже, послал Смурова к Красоткину еще раз и еще раз. Но в оба эти раза Красоткин ответил уже самым нетерпеливым и резким отказом, передав Алеше, что если тот придет за ним сам, то он за это никогда не пойдет к Илюше, и чтоб ему больше не надоедали. Даже до самого этого последнего дня сам Смуров не знал, что Коля решил отправиться к Илюше в это утро, и только накануне вечером, прощаясь со Смуровым, Коля вдруг резко объявил ему, чтоб он ждал его завтра утром дома, потому что пойдет вместе с ним к Снегиревым, но чтобы не смел, однакоже, никого уведомлять о его прибытии, так как он хочет прийти нечаянно. Смуров послушался. Мечта же о том, что он приведет пропавшую Жучку, явилась у Смурова на основании раз брошенных мельком слов Красоткиным, что «ослы они все, коли не могут отыскать собаку, если только она жива». Когда же Смуров робко, выждав время, намекнул о своей догадке насчет собаки Красоткину, тот вдруг ужасно озлился: «Что я за осел, чтоб искать чужих собак по всему городу, когда у меня свой Перезвон? И можно ли мечтать, чтобы собака, проглотившая булавку, осталась жива? Телячьи нежности, больше ничего!»
Между тем Илюша уже недели две как почти не сходил с своей постельки, в углу, у образов. В классы же не ходил с самого того случая, когда встретился с Алешей и укусил ему палец. Впрочем, он с того же дня и захворал, хотя еще с месяц мог кое-как ходить изредка по комнате и в сенях, изредка вставая с постельки. Наконец совсем обессилел, так что без помощи отца не мог двигаться. Отец трепетал над ним, перестал даже совсем пить, почти обезумел от страха, что умрет его мальчик, и часто, особенно после того, как проведет, бывало, его по комнате под руку и уложит опять в постельку, – вдруг выбегал в сени, в темный угол и, прислонившись лбом к стене, начинал рыдать каким-то заливчатым, сотрясающимся плачем, давя свой голос, чтобы рыданий его не было слышно у Илюшечки.
Возвращаясь же в комнату, начинал обыкновенно чем-нибудь развлекать и утешать своего дорогого мальчика, рассказывал ему сказки, смешные анекдоты или представлял из себя разных смешных людей, которых ему удавалось встречать, даже подражал животным, как они смешно воют или кричат. Но Илюша очень не любил, когда отец коверкался и представлял из себя шута. Мальчик хоть и старался не показывать, что ему это неприятно, но с болью сердца сознавал, что отец в обществе унижен, и всегда, неотвязно, вспоминал о «мочалке» и о том «страшном дне». Ниночка, безногая, тихая и кроткая сестра Илюшечки, тоже не любила, когда отец коверкался (что же до Варвары Николаевны, то она давно уже отправилась в Петербург слушать курсы), зато полоумная маменька очень забавлялась и от всего сердца смеялась, когда ее супруг начнет, бывало, что-нибудь представлять или выделывать какие-нибудь смешные жесты. Этим только ее и можно было утешить, во все же остальное время она беспрестанно брюзжала и плакалась, что теперь все ее забыли, что ее никто не уважает, что ее обижают и проч., и проч. Но в самые последние дни и она вдруг как бы вся переменилась. Она часто начала смотреть в уголок на Илюшу и стала задумываться. Стала гораздо молчаливее, притихла, и если принималась плакать, то тихо, чтобы не слыхали. Штабс-капитан с горьким недоумением заметил эту в ней перемену. Посещения мальчиков ей сначала не понравились и только сердили ее, но потом веселые крики и рассказы детей стали развлекать и ее и до того под конец ей понравились, что, перестань ходить эти мальчики, она бы затосковала ужасно. Когда дети что рассказывали или начинали играть, она смеялась и хлопала в ладошки. Иных подзывала к себе и целовала. Мальчика Смурова полюбила особенно. Что же до штабс-капитана, то появление в его квартире детей, приходивших веселить Илюшу, наполнило душу его с самого начала восторженною радостью и даже надеждой, что Илюша перестанет теперь тосковать и, может быть, оттого скорее выздоровеет. Он ни одной минуты, до самого последнего времени, не сомневался, несмотря на весь свой страх за Илюшу, что его мальчик вдруг выздоровеет. Он встречал маленьких гостей с благоговением, ходил около них, услуживал, готов был их на себе возить, и даже впрямь начал было возить, но Илюше эти игры не понравились и были оставлены. Стал для них покупать гостинцев, пряничков, орешков, устраивал чай, намазывал бутерброды. Надо заметить, что во все это время деньги у него не переводились. Тогдашние двести рублей от Катерины Ивановны он принял точь-в‑точь по предсказанию Алеши. А потом Катерина Ивановна, разузнав подробнее об их обстоятельствах и о болезни Илюши, сама посетила их квартиру, познакомилась со всем семейством и даже сумела очаровать полоумную штабс-капитаншу. С тех пор рука ее не оскудевала, а сам штабс-капитан, подавленный ужасом при мысли, что умрет его мальчик, забыл свой прежний гонор и смиренно принимал подаяние. Все это время доктор Герценштубе, по приглашению Катерины Ивановны, ездил постоянно и аккуратно через день к больному, но толку от его посещений выходило мало, а пичкал он его лекарствами ужасно. Но зато в этот день, то есть в это воскресенье утром, у штабс-капитана ждали одного нового доктора, приезжего из Москвы и считавшегося в Москве знаменитостью. Его нарочно выписала и пригласила из Москвы Катерина Ивановна за большие деньги – не для Илюшечки, а для другой одной цели, о которой будет сказано ниже и в своем месте, но уж так как он прибыл, то и попросила его навестить и Илюшечку, о чем штабс-капитан был заранее предуведомлен. О прибытии же Коли Красоткина он не имел никакого предчувствия, хотя уже давно желал, чтобы пришел, наконец, этот мальчик, по котором так мучился его Илюшечка. В то самое мгновение, когда Красоткин отворил дверь и появился в комнате, все, штабс-капитан и мальчики, столпились около постельки больного и рассматривали только что принесенного крошечного меделянского щенка, вчера только родившегося, но еще за неделю заказанного штабс-капитаном, чтобы развлечь и утешить Илюшечку, все тосковавшего об исчезнувшей и, конечно, уже погибшей Жучке. Но Илюша, уже слышавший и знавший еще за три дня, что ему подарят маленькую собачку, и не простую, а настоящую меделянскую (что, конечно, было ужасно важно), хотя и показывал из тонкого и деликатного чувства, что рад подарку, но все, и отец и мальчики, ясно увидели, что новая собачка, может быть, только еще сильнее шевельнула в его сердечке воспоминание о несчастной, им замученной Жучке. Щеночек лежал и копошился подле него, и он, болезненно улыбаясь, гладил его своею тоненькою, бледненькою, высохшею ручкой; даже видно было, что собачка ему понравилась, но… Жучки все же не было, все же это не Жучка, а вот если бы Жучка и щеночек вместе, тогда бы было полное счастие!
– Красоткин! – крикнул вдруг один из мальчиков, первый завидевший вошедшего Колю. Произошло видимое волнение, мальчики расступились и стали по обе стороны постельки, так что вдруг открыли всего Илюшечку. Штабс-капитан стремительно бросился навстречу Коле.
– Пожалуйте, пожалуйте… дорогой гость! – залепетал он ему. – Илюшечка, господин Красоткин к тебе пожаловал…
Но Красоткин, наскоро подав ему руку, мигом выказал и чрезвычайное свое знание светских приличий. Он тотчас же и прежде всего обратился к сидевшей в своем кресле супруге штабс-капитана (которая как раз в ту минуту была ужасно как недовольна и брюзжала на то, что мальчики заслонили собою постельку Илюши и не дают ей поглядеть на новую собачку) и чрезвычайно вежливо шаркнул пред нею ножкой, а затем, повернувшись к Ниночке, отдал и ей, как даме, такой же поклон. Этот вежливый поступок произвел на больную даму необыкновенно приятное впечатление.
– Вот и видно сейчас хорошо воспитанного молодого человека, – громко произнесла она, разводя руками, – а то что прочие-то наши гости: один на другом приезжают.
– Как же, мамочка, один-то на другом, как это так? – хоть и ласково, но опасаясь немного за «мамочку», пролепетал штабс-капитан.
– А так и въезжают. Сядет в сенях один другому верхом на плечи, да в благородное семейство и въедет, сидя верхом. Какой же это гость?
– Да кто же, кто же, мамочка, так въезжал, кто же?
– Да вот этот мальчик на этом мальчике сегодня въехал, а вот тот на том…
Но Коля уже стоял у постельки Илюши. Больной видимо побледнел. Он приподнялся на кроватке и пристально-пристально посмотрел на Колю. Тот не видал своего прежнего маленького друга уже месяца два и вдруг остановился пред ним совсем пораженный: он и вообразить не мог, что увидит такое похудевшее и пожелтевшее личико, такие горящие в лихорадочном жару и как будто ужасно увеличившиеся глаза, такие худенькие ручки. С горестным удивлением всматривался он, что Илюша так глубоко и часто дышит и что у него так ссохлись губы. Он шагнул к нему, подал руку и, почти совсем потерявшись, проговорил:
– Ну что, старик… как поживаешь?
Но голос его пресекся, развязности не хватило, лицо как-то вдруг передернулось, и что-то задрожало около его губ. Илюша болезненно ему улыбался, все еще не в силах сказать слова. Коля вдруг поднял руку и провел для чего-то своею ладонью по волосам Илюши.
– Ни-че-го! – пролепетал он ему тихо, не то ободряя его, не то сам не зная, зачем это сказал. С минутку опять помолчали.
– Что это у тебя, новый щенок? – вдруг самым бесчувственным голосом спросил Коля.
– Да-а-а! – ответил Илюша длинным шепотом, задыхаясь.
– Черный нос, значит, из злых, из цепных, – важно и твердо заметил Коля, как будто все дело было именно в щенке и в его черном носе. Но главное было в том, что он все еще изо всех сил старался побороть в себе чувство, чтобы не заплакать как «маленький», и все еще не мог побороть. – Подрастет, придется посадить на цепь, уж я знаю.
– Он огромный будет, – воскликнул один мальчик из толпы.
– Известно, меделянский, огромный, вот этакий, с теленка, – раздалось вдруг несколько голосов.
– С теленка, с настоящего теленка-с, – подскочил штабс-капитан, – я нарочно отыскал такого, самого-самого злющего, и родители его тоже огромные и самые злющие, вот этакие от полу ростом… Присядьте-с, вот здесь на кроватке у Илюши, а не то здесь на лавку. Милости просим, гость дорогой, гость долгожданный… С Алексеем Федоровичем изволили прибыть-с?
Красоткин присел на постельке, в ногах у Илюши. Он хоть, может быть, и приготовил дорогой, с чего развязно начать разговор, но теперь решительно потерял нитку.
– Нет… я с Перезвоном… У меня такая собака теперь, Перезвон. Славянское имя. Там ждет… свистну, и влетит. Я тоже с собакой, – оборотился он вдруг к Илюше, – помнишь, старик, Жучку? – вдруг огрел он его вопросом.
Личико Илюшечки перекосилось. Он страдальчески посмотрел на Колю. Алеша, стоявший у дверей, нахмурился и кивнул было Коле украдкой, чтобы тот не заговаривал про Жучку, но тот не заметил или не захотел заметить.
– Где же… Жучка? – надорванным голоском спросил Илюша.
– Ну, брат, твоя Жучка – фью! Пропала твоя Жучка!
Илюша смолчал, но пристально-пристально посмотрел еще раз на Колю. Алеша, поймав взгляд Коли, изо всех сил опять закивал ему, но тот снова отвел глаза, сделав вид, что и теперь не заметил.
– Забежала куда-нибудь и пропала. Как не пропасть после такой закуски, – безжалостно резал Коля, а между тем сам как будто стал от чего-то задыхаться. – У меня зато Перезвон… Славянское имя… Я к тебе привел…
– Не на-до! – проговорил вдруг Илюшечка.
– Нет, нет, надо, непременно посмотри… Ты развлечешься. Я нарочно привел… такая же лохматая, как и та… Вы позволите, сударыня, позвать сюда мою собаку? – обратился он вдруг к госпоже Снегиревой в каком-то совсем уже непостижимом волнении.
– Не надо, не надо! – с горестным надрывом в голосе воскликнул Илюша. Укор загорелся в глазах его.
– Вы бы-с… – рванулся вдруг штабс-капитан с сундука у стенки, на котором было присел, – вы бы-с… в другое время-с… – пролепетал он, но Коля, неудержимо настаивая и спеша, вдруг крикнул Смурову: «Смуров, отвори дверь!» – и только что тот отворил, свистнул в свою свистульку. Перезвон стремительно влетел в комнату.
– Прыгай, Перезвон, служи! Служи! – завопил Коля, вскочив с места, и собака, став на задние лапы, вытянулась прямо пред постелькой Илюши. Произошло никем не ожиданное: Илюша вздрогнул и вдруг с силой двинулся весь вперед, нагнулся к Перезвону и, как бы замирая, смотрел на него.
– Это… Жучка! – прокричал он вдруг надтреснутым от страдания и счастия голоском.
– А ты думал кто? – звонким, счастливым голосом изо всей силы завопил Красоткин и, нагнувшись к собаке, обхватил ее и приподнял к Илюше.
– Гляди, старик, видишь, глаз кривой и левое ухо надрезано, точь-в‑точь те приметы, как ты мне рассказал. Я его по этим приметам и разыскал! Тогда же разыскал, вскорости. Она ведь ничья была, она ведь была ничья! – пояснял он, быстро оборачиваясь к штабс-капитану, к супруге его, к Алеше и потом опять к Илюше, – она была у Федотовых на задворках, прижилась было там, но те ее не кормили, а она беглая, она забеглая из деревни… Я ее и разыскал… Видишь, старик, она тогда твой кусок, значит, не проглотила. Если бы проглотила, так уж конечно бы померла, ведь уж конечно! Значит, успела выплюнуть, коли теперь жива. А ты и не заметил, что она выплюнула. Выплюнула, а язык себе все-таки уколола, вот отчего тогда и завизжала. Бежала и визжала, а ты и думал, что она совсем проглотила. Она должна была очень визжать, потому что у собаки очень нежная кожа во рту… нежнее, чем у человека, гораздо нежнее! – восклицал неистово Коля, с разгоревшимся и с сияющим от восторга лицом.
Илюша же и говорить не мог. Он смотрел на Колю своими большими и как-то ужасно выкатившимися глазами, с раскрытым ртом и побледнев как полотно. И если бы только знал не подозревавший ничего Красоткин, как мучительно и убийственно могла влиять такая минута на здоровье больного мальчика, то ни за что бы не решился выкинуть такую штуку, какую выкинул. Но в комнате понимал это, может быть, лишь один Алеша. Что же до штабс-капитана, то он весь как бы обратился в самого маленького мальчика.
– Жучка! так это-то Жучка? – выкрикивал он блаженным голосом. – Илюшечка, ведь это Жучка, твоя Жучка! Маменька, ведь это Жучка! – Он чуть не плакал.
– А я-то и не догадался! – горестно воскликнул Смуров. – Ай да Красоткин, я говорил, что он найдет Жучку, вот и нашел!
– Вот и нашел! – радостно отозвался еще кто-то.
– Молодец Красоткин! – прозвенел третий голосок.
– Молодец, молодец! – закричали все мальчики и начали аплодировать.
– Да стойте, стойте, – силился всех перекричать Красоткин, – я вам расскажу, как это было, штука в том, как это было, а не в чем другом! Ведь я его разыскал, затащил к себе и тотчас же спрятал, и дом на замок, и никому не показывал до самого последнего дня. Только один Смуров узнал две недели назад, но я уверил его, что это Перезвон, и он не догадался, а я в антракте научил Жучку всем наукам, вы посмотрите, посмотрите только, какие он штуки знает! Для того и учил, чтоб уж привесть к тебе, старик, обученного, гладкого: вот, дескать, старик, какая твоя Жучка теперь! Да нет ли у вас какого-нибудь кусочка говядинки, он вам сейчас одну такую штуку покажет, что вы со смеху упадете, – говядинки, кусочек, ну неужели же у вас нет?
Штабс-капитан стремительно кинулся через сени в избу к хозяевам, где варилось и штабс-капитанское кушанье. Коля же, чтобы не терять драгоценного времени, отчаянно спеша, крикнул Перезвону: «Умри!» И тот вдруг завертелся, лег на спину и замер неподвижно всеми четырьмя своими лапками вверх. Мальчики смеялись, Илюша смотрел с прежнею страдальческою своею улыбкой, но всех больше понравилось, что умер Перезвон, «маменьке». Она расхохоталась на собаку и принялась щелкать пальцами и звать:
– Перезвон, Перезвон!
– Ни за что не подымется, ни за что, – победоносно и справедливо гордясь, прокричал Коля, – хоть весь свет кричи, а вот я крикну, и в один миг вскочит! Иси, Перезвон!
Собака вскочила и принялась прыгать, визжа от радости. Штабс-капитан вбежал с куском вареной говядины.
– Не горяча? – торопливо и деловито осведомился Коля, принимая кусок, – нет, не горяча, а то собаки не любят горячего. Смотрите же все, Илюшечка, смотри, да смотри же, смотри, старик, что же ты не смотришь? Я привел, а он не смотрит!
Новая штука состояла в том, чтобы неподвижно стоящей и протянувшей свой нос собаке положить на самый нос лакомый кусочек говядины. Несчастный пес, не шевелясь, должен был простоять с куском на носу сколько велит хозяин, не двинуться, не шевельнуться, хоть полчаса. Но Перезвона выдержали только самую маленькую минутку.
– Пиль! – крикнул Коля, и кусок в один миг перелетел с носу в рот Перезвона. Публика, разумеется, выразила восторженное удивление.
– И неужели, неужели вы из-за того только, чтоб обучить собаку, все время не приходили! – воскликнул с невольным укором Алеша.
– Именно для того, – прокричал простодушнейшим образом Коля. – Я хотел показать его во всем блеске!
– Перезвон! Перезвон! – защелкал вдруг своими худенькими пальчиками Илюша, маня собаку.
– Для чего тебе! Пусть он к тебе на постель сам вскочит. Иси, Перезвон! – стукнул ладонью по постели Коля, и Перезвон как стрела влетел к Илюше. Тот стремительно обнял его голову обеими руками, а Перезвон мигом облизал ему за это щеку. Илюшечка прижался к нему, протянулся на постельке и спрятал от всех в его косматой шерсти свое лицо.
– Господи, Господи! – восклицал штабс-капитан.
Коля присел опять на постель к Илюше.
– Илюша, я тебе могу еще одну штуку показать. Я тебе пушечку принес. Помнишь, я тебе еще тогда говорил про эту пушечку, а ты сказал: «Ах, как бы и мне ее посмотреть!» Ну вот, я теперь и принес.
И Коля, торопясь, вытащил из своей сумки свою бронзовую пушечку. Торопился он потому, что уж сам был очень счастлив: в другое время так выждал бы, когда пройдет эффект, произведенный Перезвоном, но теперь поспешил, презирая всякую выдержку: «уж и так счастливы, так вот вам и еще счастья!» Сам уж он был очень упоен.
– Я эту штучку давно уже у чиновника Морозова наглядел – для тебя, старик, для тебя. Она у него стояла даром, от брата ему досталась, я и выменял ему на книжку[23], из папина шкапа: «Родственник Магомета, или Целительное дурачество». Сто лет книжке, забубенная, в Москве вышла, когда еще цензуры не было, а Морозов до этих штучек охотник. Еще поблагодарил…
Пушечку Коля держал в руке пред всеми, так что все могли видеть и наслаждаться. Илюша приподнялся и, продолжая правою рукой обнимать Перезвона, с восхищением разглядывал игрушку. Эффект дошел до высокой степени, когда Коля объявил, что у него есть и порох и что можно сейчас же и выстрелить, «если это только не обеспокоит дам». «Маменька» немедленно попросила, чтоб ей дали поближе посмотреть на игрушку, что тотчас и было исполнено. Бронзовая пушечка на колесках ей ужасно понравилась, и она принялась ее катать на своих коленях. На просьбу о позволении выстрелить отвечала самым полным согласием, не понимая, впрочем, о чем ее спрашивают. Коля показал порох и дробь. Штабс-капитан, как бывший военный человек, сам распорядился зарядом, всыпав самую маленькую порцию пороху, дробь же попросил отложить до другого раза. Пушку поставили на пол, дулом в пустое место, втиснули в затравку три порошинки и зажгли спичкой. Произошел самый блистательный выстрел. Маменька вздрогнула было, но тотчас же засмеялась от радости. Мальчики смотрели с молчаливым торжеством, но более всего блаженствовал, смотря на Илюшу, штабс-капитан. Коля поднял пушечку и немедленно подарил ее Илюше, вместе с дробью и с порохом.
– Это я для тебя, для тебя! Давно приготовил, – повторил он еще раз, в полноте счастья.
– Ах, подарите мне! Нет, подарите пушечку лучше мне! – вдруг, точно маленькая, начала просить маменька. Лицо ее изобразило горестное беспокойство от боязни, что ей не подарят. Коля смутился. Штабс-капитан беспокойно заволновался.
– Мамочка, мамочка! – подскочил он к ней, – пушечка твоя, твоя, но пусть она будет у Илюши, потому что ему подарили, но она все равно что твоя, Илюшечка всегда тебе даст поиграть, она у вас будет общая, общая…
– Нет, не хочу, чтоб общая, нет, чтобы совсем моя была, а не Илюшина, – продолжала маменька, приготовляясь уже совсем заплакать.
– Мама, возьми себе, вот возьми себе! – крикнул вдруг Илюша. – Красоткин, можно мне ее маме подарить? – обратился он вдруг с молящим видом к Красоткину, как бы боясь, чтобы тот не обиделся, что он его подарок другому дарит.
– Совершенно возможно! – тотчас же согласился Красоткин и, взяв пушечку из рук Илюши, сам и передал ее с самым вежливым поклоном маменьке. Та даже расплакалась от умиления.
– Илюшечка, милый, вот кто мамочку свою любит! – умиленно воскликнула она и немедленно опять принялась катать пушку на своих коленях.
– Маменька, дай я тебе ручку поцелую, – подскочил к ней супруг и тотчас же исполнил намерение.
– И кто еще самый милый молодой человек, так вот этот добрый мальчик! – проговорила благодарная дама, указывая на Красоткина.
– А пороху я тебе, Илюша, теперь сколько угодно буду носить. Мы теперь сами порох делаем. Боровиков узнал состав: двадцать четыре части селитры, десять серы и шесть березового угля, все вместе столочь, влить воды, смешать в мякоть и протереть через барабанную шкуру – вот и порох.
– Мне Смуров про ваш порох уже говорил, а только папа говорит, что это не настоящий порох, – отозвался Илюша.
– Как не настоящий? – покраснел Коля, – у нас горит. Я, впрочем, не знаю…
– Нет-с, я ничего-с, – подскочил вдруг с виноватым видом штабс-капитан. – Я, правда, говорил, что настоящий порох не так составляется, но это ничего-с, можно и так-с.
– Не знаю, вы лучше знаете. Мы в помадной каменной банке зажгли, славно горел, весь сгорел, самая маленькая сажа осталась. Но ведь это только мякоть, а если протереть через шкуру… А впрочем, вы лучше знаете, я не знаю… А Булкина отец выдрал за наш порох, ты слышал? – обратился он вдруг к Илюше.
– Слышал, – ответил Илюша. Он с бесконечным интересом и наслаждением слушал Колю.
– Мы целую бутылку пороху заготовили, он под кроватью и держал. Отец увидал. Взорвать, говорит, может. Да и высек его тут же. Хотел в гимназию на меня жаловаться. Теперь со мной его не пускают, теперь со мной никого не пускают. Смурова тоже не пускают, у всех прославился; говорят, что я «отчаянный», – презрительно усмехнулся Коля. – Это все с железной дороги здесь началось.
– Ах, мы слышали и про этот ваш пассаж! – воскликнул штабс-капитан, – как это вы там пролежали? И неужели вы так ничего совсем и не испугались, когда лежали под поездом. Страшно вам было-с?
Штабс-капитан ужасно лисил пред Колей.
– Н-не особенно! – небрежно отозвался Коля. – Репутацию мою пуще всего здесь этот проклятый гусь подкузьмил, – повернулся он опять к Илюше. Но хоть он и корчил, рассказывая, небрежный вид, а все еще не мог совладать с собою и продолжал как бы сбиваться с тону.
– Ах, я и про гуся слышал! – засмеялся, весь сияя, Илюша, – мне рассказывали, да я не понял, неужто тебя у судьи судили?
– Самая безмозглая штука, самая ничтожная, из которой целого слона, по обыкновению, у нас сочинили, – начал развязно Коля. – Это я раз тут по площади шел, а как раз пригнали гусей. Я остановился и смотрю на гусей. Вдруг один здешний парень, Вишняков, он теперь у Плотниковых рассыльным служит, смотрит на меня да и говорит: «Ты чего на гусей глядишь?» Я смотрю на него: глупая, круглая харя, парню двадцать лет, я, знаете, никогда не отвергаю народа. Я люблю с народом… Мы отстали от народа – это аксиома – вы, кажется, изволите смеяться, Карамазов?
– Нет, Боже сохрани, я вас очень слушаю, – с самым простодушнейшим видом отозвался Алеша, и мнительный Коля мигом ободрился.
– Моя теория, Карамазов, ясна и проста, – опять радостно заспешил он тотчас же. – Я верю в народ и всегда рад отдать ему справедливость, но отнюдь не балуя его, это sine qua…[24] Да, ведь я про гуся. Вот обращаюсь я к этому дураку и отвечаю ему: «А вот думаю, о чем гусь думает». Глядит он на меня совершенно глупо: «А об чем, говорит, гусь думает?» – «А вот видишь, говорю, телега с овсом стоит. Из мешка овес сыплется, а гусь шею протянул под самое колесо и зерно клюет – видишь?» – «Это я оченно вижу», – говорит. «Ну так вот, говорю, если эту самую телегу чуточку теперь тронуть вперед – перережет гусю шею колесом или нет?» – «Беспременно, говорит, перережет», – а сам уж ухмыляется во весь рот, так весь и растаял. «Ну так пойдем, говорю, парень, давай». – «Давай», – говорит. И недолго нам пришлось мастерить: он этак неприметно около узды стал, а я сбоку, чтобы гуся направить. А мужик на ту пору зазевался, говорил с кем-то, так что совсем мне и не пришлось направлять: прямо гусь сам собой так и вытянул шею за овсом, под телегу, под самое колесо. Я мигнул парню, он дернул и – к-крак, так и переехало гусю шею пополам! И вот надо ж так, что в ту ж секунду все мужики увидали нас, ну и загалдели разом: «Это ты нарочно!» – «Нет, не нарочно», – «Нет, нарочно!» Ну, галдят: «К мировому?» Захватили и меня: «И ты тут, дескать, был, ты подсоблял, тебя весь базар знает!» А меня действительно почему-то весь базар знает, – прибавил самолюбиво Коля. – Потянулись мы все к мировому, несут и гуся. Смотрю, а парень мой струсил и заревел, право, ревет как баба. А гуртовщик кричит: «Этаким манером их, гусей, сколько угодно передавить можно!» Ну, разумеется, свидетели. Мировой мигом кончил: за гуся отдать гуртовщику рубль, а гуся пусть парень берет себе. Да впредь чтобы таких шуток отнюдь не позволять себе. А парень все ревет как баба: «Это не я, говорит, это он меня наустил», – да на меня и показывает. Я отвечаю с полным хладнокровием, что я отнюдь не учил, что я только выразил основную мысль и говорил лишь в проекте. Мировой Нефедов усмехнулся, да и рассердился сейчас на себя за то, что усмехнулся: «Я вас, – говорит мне, – сейчас же вашему начальству аттестую, чтобы вы в такие проекты впредь не пускались, вместо того чтобы за книгами сидеть и уроки ваши учить». Начальству-то он меня не аттестовал, это шутки, но дело действительно разнеслось и достигло ушей начальства: уши-то ведь у нас длинные! Особенно поднялся классик Колбасников, да Дарданелов опять отстоял. А Колбасников зол теперь у нас на всех, как зеленый осел. Ты, Илюша, слышал, он ведь женился, взял у Михайловых приданого тысячу рублей, а невеста рыловорот первой руки и последней степени. Третьеклассники тотчас же эпиграмму сочинили:
Поразила весть третьеклассников, Что женился неряха Колбасников.Ну и там дальше, очень смешно, я тебе потом принесу. Я про Дарданелова ничего не говорю: человек с познаниями, с решительными познаниями. Этаких я уважаю и вовсе не из-за того, что он меня отстоял…
– Однакож ты сбил его на том, кто основал Трою! – ввернул вдруг Смуров, решительно гордясь в эту минуту Красоткиным. Очень уж ему понравился рассказ про гуся.
– Неужто так и сбили-с? – льстиво подхватил штабс-капитан. – Это про то, кто основал Трою-с? Это мы уже слышали, что сбили-с. Илюшечка мне тогда же и рассказал-с…
– Он, папа, все знает, лучше всех у нас знает! – подхватил и Илюшечка, – он ведь только прикидывается, что он такой, а он первый у нас ученик по всем предметам…
Илюша с беспредельным счастием смотрел на Колю.
– Ну это о Трое вздор, пустяки. Я сам этот вопрос считаю пустым, – с горделивою скромностью отозвался Коля. Он уже успел вполне войти в тон, хотя, впрочем, был и в некотором беспокойстве: он чувствовал, что находится в большом возбуждении и что о гусе, например, рассказал слишком уж от всего сердца, а между тем Алеша молчал все время рассказа и был серьезен, и вот самолюбивому мальчику мало-помалу начало уже скрести по сердцу: «Не оттого ли-де он молчит, что меня презирает, думая, что я его похвалы ищу? В таком случае, если он осмеливается это думать, то я…»
– Я считаю этот вопрос решительно пустым, – отрезал он еще раз горделиво.
– А я знаю, кто основал Трою, – вдруг проговорил совсем неожиданно один доселе ничего почти еще не сказавший мальчик, молчаливый и, видимо, застенчивый, очень собою хорошенький, лет одиннадцати, по фамилии Карташов. Он сидел у самых дверей. Коля с удивлением и важностию поглядел на него. Дело в том, что вопрос: «Кто именно основал Трою?» – решительно обратился во всех классах в секрет, и чтобы проникнуть его, надо было прочесть у Смарагдова. Но Смарагдова ни у кого, кроме Коли, не было. И вот раз мальчик Карташов потихоньку, когда Коля отвернулся, поскорей развернул лежащего между его книгами Смарагдова и прямо попал на то место, где говорилось об основателях Трои. Случилось это довольно уже давно, но он все как-то конфузился и не решался открыть публично, что и он знает, кто основал Трою, опасаясь, чтобы не вышло чего-нибудь и чтобы не сконфузил его как-нибудь за это Коля. А теперь вдруг почему-то не утерпел и сказал. Да и давно ему хотелось.
– Ну, кто же основал? – надменно и свысока повернулся к нему Коля, уже по лицу угадав, что тот действительно знает и, разумеется, тотчас же приготовившись ко всем последствиям. В общем настроении произошел, что называется, диссонанс.
– Трою основали Тевкр, Дардан, Иллюс и Трос, – разом отчеканил мальчик и в один миг весь покраснел, так покраснел, что на него жалко стало смотреть. Но мальчики все на него глядели в упор, глядели целую минуту, и потом вдруг все эти глядящие в упор глаза разом повернулись к Коле. Тот с презрительным хладнокровием все еще продолжал обмеривать взглядом дерзкого мальчика.
– То есть как же это они основали? – удостоил он, наконец, проговорить, – да и что значит вообще основать город или государство? Что ж они: пришли и по кирпичу положили, что ли?
Раздался смех. Виноватый мальчик из розового стал пунцовым. Он молчал, он готов был заплакать. Коля выдержал его так еще с минутку.
– Чтобы толковать о таких исторических событиях, как основание национальности, надо прежде всего понимать, что это значит, – строго отчеканил он в назидание. – Я, впрочем, не придаю всем этим бабьим сказкам важности, да и вообще всемирную историю не весьма уважаю, – прибавил он вдруг небрежно, обращаясь уже ко всем вообще.
– Это всемирную-то историю-с? – с каким-то вдруг испугом осведомился штабс-капитан.
– Да, всемирную историю. Изучение ряда глупостей человеческих, и только. Я уважаю одну математику и естественные, – сфорсил Коля и мельком глянул на Алешу: его только одного мнения он здесь и боялся. Но Алеша все молчал и был все по-прежнему серьезен. Если бы сказал что-нибудь сейчас Алеша, на том бы оно и покончилось, но Алеша смолчал, а «молчание его могло быть презрительным», и Коля раздражился уже совсем.
– Опять эти классические теперь у нас языки: одно сумасшествие и ничего больше… Вы опять, кажется, не согласны со мной, Карамазов?
– Не согласен, – сдержанно улыбнулся Алеша.
– Классические языки, если хотите все мое о них мнение, – это полицейская мера[25], вот для чего единственно они заведены, – мало-помалу начал вдруг опять задыхаться Коля, – они заведены потому, что скучны, и потому, что отупляют способности. Было скучно, так вот как сделать, чтоб еще больше было скуки? Было бестолково, так как сделать, чтобы стало еще бестолковее? Вот и выдумали классические языки. Вот мое полное о них мнение, и надеюсь, что я никогда не изменю его, – резко закончил Коля. На обеих щеках его показалось по красной точке румянца.
– Это правда, – звонким и убежденным голоском согласился вдруг прилежно слушавший Смуров.
– А сам первый по латинскому языку! – вдруг крикнул из толпы один мальчик.
– Да, папа, он сам говорит, а сам у нас первый по латинскому в классе, – отозвался и Илюша.
– Что ж такое? – счел нужным оборониться Коля, хотя ему очень приятна была и похвала. – Латынь я зубрю, потому что надо, потому что я обещался матери кончить курс, а по-моему, за что взялся, то уж делать хорошо, но в душе глубоко презираю классицизм и всю эту подлость… Не соглашаетесь, Карамазов?
– Ну зачем же «подлость»? – усмехнулся опять Алеша.
– Да помилуйте, ведь классики все переведены на все языки, стало быть, вовсе не для изучения классиков понадобилась им латынь, а единственно для полицейских мер и для отупления способностей. Как же после того не подлость?
– Ну кто вас этому всему научил? – воскликнул удивленный наконец Алеша.
– Во-первых, я и сам могу понимать, без научения, а во-вторых, знайте, вот это же самое, что я вам сейчас толковал про переведенных классиков, говорил вслух всему третьему классу сам преподаватель Колбасников…
– Доктор приехал! – воскликнула вдруг все время молчавшая Ниночка.
Действительно, к воротам дома подъехала принадлежавшая госпоже Хохлаковой карета. Штабс-капитан, ждавший все утро доктора, сломя голову бросился к воротам встречать его. Маменька подобралась и напустила на себя важности. Алеша подошел к Илюше и стал оправлять ему подушку. Ниночка, из своих кресел, с беспокойством следила за тем, как он оправляет постельку. Мальчики торопливо стали прощаться, некоторые из них пообещались зайти вечером. Коля крикнул Перезвона, и тот соскочил с постели.
– Я не уйду, не уйду! – проговорил впопыхах Коля Илюше, – я пережду в сенях и приду опять, когда уедет доктор, приду с Перезвоном.
Но уже доктор входил – важная фигура в медвежьей шубе, с длинными темными бакенбардами и с глянцевито выбритым подбородком. Ступив через порог, он вдруг остановился, как бы опешив: ему, верно, показалось, что он не туда зашел: «Что это? Где я?» – пробормотал он, не скидая с плеч шубы и не снимая котиковой фуражки с котиковым же козырьком с своей головы. Толпа, бедность комнаты, развешанное в углу на веревке белье сбили его с толку. Штабс-капитан согнулся перед ним в три погибели.
– Вы здесь-с, здесь-с, – бормотал он подобострастно, – вы здесь-с, у меня-с, вам ко мне-с…
– Сне-ги-рев? – произнес важно и громко доктор. – Господин Снегирев – это вы?
– Это я-с!
– А!
Доктор еще раз брезгливо оглядел комнату и сбросил с себя шубу. Всем в глаза блеснул важный орден на шее. Штабс-капитан подхватил на лету шубу, а доктор снял фуражку.
– Где же пациент? – спросил он громко и настоятельно.
VI. Раннее развитие
– Как вы думаете, что ему скажет доктор? – скороговоркой проговорил Коля, – какая отвратительная, однакоже, харя, не правда ли? Терпеть не могу медицину!
– Илюша умрет. Это, мне кажется, уж наверно, – грустно ответил Алеша.
– Шельмы! Медицина шельма! Я рад, однако, что узнал вас, Карамазов. Я давно хотел вас узнать. Жаль только, что мы так грустно встретились…
Коле очень бы хотелось что-то сказать еще горячее, еще экспансивнее, но как будто что-то его коробило. Алеша это заметил, улыбнулся и пожал ему руку.
– Я давно научился уважать в вас редкое существо, – пробормотал опять Коля, сбиваясь и путаясь. – Я слышал, вы мистик и были в монастыре. Я знаю, что вы мистик, но… это меня не остановило. Прикосновение к действительности вас излечит… С натурами, как вы, не бывает иначе.
– Что вы называете мистиком? От чего излечит? – удивился немного Алеша.
– Ну там Бог и прочее.
– Как, да разве вы в Бога не веруете?
– Напротив, я ничего не имею против Бога. Конечно, Бог есть только гипотеза… но… я признаю, что он нужен, для порядка… для мирового порядка и так далее… и если б его не было, то надо бы его выдумать, – прибавил Коля, начиная краснеть. Ему вдруг вообразилось, что Алеша сейчас подумает, что он хочет выставить свои познания и показать, какой он «большой». «А я вовсе не хочу выставлять перед ним мои познания», – с негодованием подумал Коля. И ему вдруг стало ужасно досадно.
– Я, признаюсь, терпеть не могу вступать во все эти препирания, – отрезал он, – можно ведь и не веруя в Бога любить человечество, как вы думаете? Вольтер же не веровал в Бога, а любил человечество?[26] («Опять, опять!» – подумал он про себя.)
– Вольтер в Бога верил, но, кажется, мало и, кажется, мало любил и человечество, – тихо, сдержанно и совершенно натурально произнес Алеша, как бы разговаривая с себе равным по летам или даже со старшим летами человеком. Колю именно поразила эта как бы неуверенность Алеши в свое мнение о Вольтере и что он как будто именно ему, маленькому Коле, отдает этот вопрос на решение.
– А вы разве читали Вольтера? – заключил Алеша.
– Нет, не то чтобы читал… Я, впрочем, «Кандида» читал[27], в русском переводе… в старом, уродливом переводе, смешном… (Опять, опять!)
– И поняли?
– О да, все… то есть… почему же вы думаете, что я бы не понял? Там, конечно, много сальностей… Я, конечно, в состоянии понять, что это роман философский и написан, чтобы провести идею… – запутался уже совсем Коля. – Я социалист, Карамазов, я неисправимый социалист[28], – вдруг оборвал он ни с того ни с сего.
– Социалист? – засмеялся Алеша, – да когда это вы успели? Ведь вам еще только тринадцать лет, кажется?
Колю скрючило.
– Во-первых, не тринадцать, а четырнадцать, через две недели четырнадцать, – так и вспыхнул он, – а во-вторых, совершенно не понимаю, к чему тут мои лета? Дело в том, каковы мои убеждения, а не который мне год, не правда ли?
– Когда вам будет больше лет, то вы сами увидите, какое значение имеет на убеждение возраст. Мне показалось тоже, что вы не свои слова говорите, – скромно и спокойно ответил Алеша, но Коля горячо его прервал.
– Помилуйте, вы хотите послушания и мистицизма. Согласитесь в том, что, например, христианская вера послужила лишь богатым и знатным[29], чтобы держать в рабстве низший класс, не правда ли?
– Ах, я знаю, где вы это прочли, и вас непременно кто-нибудь научил! – воскликнул Алеша.
– Помилуйте, зачем же непременно прочел? И никто ровно не научил. Я и сам могу… И если хотите, я не против Христа. Это была вполне гуманная личность, и живи он в наше время, он бы прямо примкнул к революционерам и, может быть, играл бы видную роль… Это даже непременно.
– Ну где, ну где вы этого нахватались! С каким это дураком вы связались? – воскликнул Алеша.
– Помилуйте, правды не скроешь. Я, конечно, по одному случаю, часто говорю с господином Ракитиным, но… Это еще старик Белинский тоже, говорят, говорил.
– Белинский? Не помню. Он этого нигде не написал.
– Если не написал, то, говорят, говорил. Я это слышал от одного… впрочем, черт…
– А Белинского вы читали?
– Видите ли… нет… я не совсем читал, но… место о Татьяне, зачем она не пошла с Онегиным, я читал.[30]
– Как не пошла с Онегиным? Да разве вы это уж… понимаете?
– Помилуйте, вы, кажется, принимаете меня за мальчика Смурова, – раздражительно осклабился Коля.
– Впрочем, пожалуйста, не думайте, что я уж такой революционер. Я очень часто не согласен с господином Ракитиным. Если я о Татьяне, то я вовсе не за эманципацию женщин. Я признаю, что женщина есть существо подчиненное и должна слушаться. Les femmes tricottent[31], как сказал Наполеон, – усмехнулся почему-то Коля, – и по крайней мере в этом я совершенно разделяю убеждение этого псевдовеликого человека. Я тоже, например, считаю, что бежать в Америку из отечества – низость, хуже низости – глупость. Зачем в Америку, когда и у нас можно много принести пользы для человечества? Именно теперь. Целая масса плодотворной деятельности. Так я и отвечал.
– Как отвечали? Кому? Разве вас кто-нибудь уже приглашал в Америку?
– Признаюсь, меня подбивали, но я отверг. Это, разумеется, между нами, Карамазов, слышите, никому ни слова. Это я вам только. Я совсем не желаю попасть в лапки Третьего отделения и брать уроки у Цепного моста[32],
Будешь помнить здание У Цепного моста![33]Помните? Великолепно! Чему вы смеетесь? Уж не думаете ли вы, что я вам все наврал? («А что, если он узнает, что у меня в отцовском шкафу всего только и есть один этот нумер «Колокола»[34], а больше я из этого ничего не читал?» – мельком, но с содроганием подумал Коля.)
– Ох нет, я не смеюсь и вовсе не думаю, что вы мне налгали. Вот то-то и есть, что этого не думаю, потому что все это, увы, сущая правда! Ну скажите, а Пушкина-то вы читали, «Онегина»-то… Вот вы сейчас говорили о Татьяне?
– Нет, еще не читал, но хочу прочесть. Я без предрассудков, Карамазов. Я хочу выслушать и ту и другую сторону. Зачем вы спросили?
– Так.
– Скажите, Карамазов, вы ужасно меня презираете? – отрезал вдруг Коля и весь вытянулся пред Алешей, как бы став в позицию. – Сделайте одолжение, без обиняков.
– Презираю вас? – с удивлением посмотрел на него Алеша. – Да за что же? Мне только грустно, что прелестная натура, как ваша, еще и не начавшая жить, уже извращена всем этим грубым вздором.
– Об моей натуре не заботьтесь, – не без самодовольства перебил Коля, – а что я мнителен, то это так. Глупо мнителен, грубо мнителен. Вы сейчас усмехнулись, мне и показалось, что вы как будто…
– Ах, я усмехнулся совсем другому. Видите, чему я усмехнулся: я недавно прочел один отзыв одного заграничного немца, жившего в России, об нашей теперешней учащейся молодежи: «Покажите вы, – он пишет, – русскому школьнику карту звездного неба, о которой он до тех пор не имел никакого понятия, и он завтра же возвратит вам эту карту исправленною». Никаких знаний и беззаветное самомнение – вот что хотел сказать немец про русского школьника.
– Ах, да ведь это совершенно верно! – захохотал вдруг Коля, – верниссимо, точь-в‑точь! Браво, немец! Однакож чухна не рассмотрел и хорошей стороны, а, как вы думаете? Самомнение – это пусть, это от молодости, это исправится, если только надо, чтоб это исправилось, но зато и независимый дух, с самого чуть не детства, зато смелость мысли и убеждения, а не дух ихнего колбаснического раболепства пред авторитетами… Но все-таки немец хорошо сказал! Браво, немец! Хотя все-таки немцев надо душить. Пусть они там сильны в науках, а их все-таки надо душить…
– За что же душить-то? – улыбнулся Алеша.
– Ну я соврал, может быть, соглашаюсь. Я иногда ужасный ребенок, и когда рад чему, то не удерживаюсь и готов наврать вздору. Слушайте, мы с вами, однакоже, здесь болтаем о пустяках, а этот доктор там что-то долго застрял. Впрочем, он, может, там и «мамашу» осмотрит и эту Ниночку безногую. Знаете, эта Ниночка мне понравилась. Она вдруг мне прошептала, когда я выходил: «Зачем вы не приходили раньше?» И таким голосом, с укором! Мне кажется, она ужасно добрая и жалкая.
– Да, да! Вот вы будете ходить, вы увидите, что это за существо. Вам очень полезно узнавать вот такие существа, чтоб уметь ценить и еще многое другое, что узнаете именно из знакомства с этими существами, – с жаром заметил Алеша. – Это лучше всего вас переделает.
– О, как я жалею и браню всего себя, что не приходил раньше! – с горьким чувством воскликнул Коля.
– Да, очень жаль. Вы видели сами, какое радостное вы произвели впечатление на бедного малютку! И как он убивался, вас ожидая!
– Не говорите мне! Вы меня растравляете. А впрочем, мне поделом: я не приходил из самолюбия, из эгоистического самолюбия и подлого самовластия, от которого всю жизнь не могу избавиться, хотя всю жизнь ломаю себя. Я теперь это вижу, я во многом подлец, Карамазов!
– Нет, вы прелестная натура, хотя и извращенная, и я слишком понимаю, почему вы могли иметь такое влияние на этого благородного и болезненно-восприимчивого мальчика! – горячо ответил Алеша.
– И это вы говорите мне! – вскричал Коля, – а я, представьте, я думал – я уже несколько раз, вот теперь как я здесь, думал, что вы меня презираете! Если б вы только знали, как я дорожу вашим мнением!
– Но неужели вы вправду так мнительны? В таких летах! Ну представьте же себе, я именно подумал там в комнате, глядя на вас, когда вы рассказывали, что вы должны быть очень мнительны.
– Уж и подумали? Какой, однакоже, у вас глаз, видите, видите! Бьюсь об заклад, что это было на том месте, когда я про гуся рассказывал. Мне именно в этом месте вообразилось, что вы меня глубоко презираете за то, что я спешу выставиться молодцом, и я даже вдруг возненавидел вас за это и начал нести ахинею. Потом мне вообразилось (это уже сейчас, здесь) на том месте, когда я говорил: «Если бы не было Бога, то его надо выдумать», что я слишком тороплюсь выставить мое образование, тем более что эту фразу я в книге прочел. Но клянусь вам, я торопился выставить не от тщеславия, а так, не знаю отчего, от радости, ей-Богу как будто от радости… хотя это глубоко постыдная черта, когда человек всем лезет на шею от радости. Я это знаю. Но я зато убежден теперь, что вы меня не презираете, а все это я сам выдумал. О Карамазов, я глубоко несчастен. Я воображаю иногда Бог знает что, что надо мной все смеются, весь мир, и я тогда, я просто готов тогда уничтожить весь порядок вещей.
– И мучаете окружающих, – улыбнулся Алеша.
– И мучаю окружающих, особенно мать. Карамазов, скажите, я очень теперь смешон?
– Да не думайте же про это, не думайте об этом совсем! – воскликнул Алеша. – Да и что такое смешон? Мало ли сколько раз бывает или кажется смешным человек? Притом же нынче почти все люди со способностями ужасно боятся быть смешными и тем несчастны. Меня только удивляет, что вы так рано стали ощущать это, хотя, впрочем, я давно уже замечаю это и не на вас одних. Нынче даже почти дети начали уж этим страдать. Это почти сумасшествие. В это самолюбие воплотился черт и залез во все поколение, именно черт, – прибавил Алеша, вовсе не усмехнувшись, как подумал было глядевший в упор на него Коля. – Вы, как и все, – заключил Алеша, – то есть как очень многие, только не надо быть таким, как все, вот что.
– Даже несмотря на то, что все такие?
– Да, несмотря на то, что все такие. Один вы и будьте не такой. Вы и в самом деле не такой, как все: вы вот теперь не постыдились же признаться в дурном и даже смешном. А нынче кто в этом сознается? Никто, да и потребность даже перестали находить в самоосуждении. Будьте же не такой, как все; хотя бы только вы один оставались не такой, а все-таки будьте не такой.
– Великолепно! Я в вас не ошибся. Вы способны утешить. О, как я стремился к вам, Карамазов, как давно уже ищу встречи с вами! Неужели и вы обо мне тоже думали? Давеча вы говорили, что вы обо мне тоже думали?
– Да, я слышал об вас и об вас тоже думал… и если отчасти и самолюбие заставило вас теперь это спросить, то это ничего.
– Знаете, Карамазов, наше объяснение похоже на объяснение в любви, – каким-то расслабленным и стыдливым голосом проговорил Коля. – Это не смешно, не смешно?
– Совсем не смешно, да хоть бы и смешно, так это ничего, потому что хорошо, – светло улыбнулся Алеша.
– А знаете, Карамазов, согласитесь, что и вам самим теперь немного со мною стыдно… Я вижу по глазам, – как-то хитро, но и с каким-то почти счастьем усмехнулся Коля.
– Чего же это стыдно?
– А зачем вы покраснели?
– Да это вы так сделали, что я покраснел! – засмеялся Алеша и действительно весь покраснел. – Ну да, немного стыдно, Бог знает отчего, не знаю отчего… – бормотал он, почти даже сконфузившись.
– О, как я вас люблю и ценю в эту минуту, именно за то, что и вам чего-то стыдно со мной! Потому что и вы точно я! – в решительном восторге воскликнул Коля. Щеки его пылали, глаза блестели.
– Послушайте, Коля, вы, между прочим, будете и очень несчастный человек в жизни, – сказал вдруг отчего-то Алеша.
– Знаю, знаю. Как вы это все знаете наперед! – тотчас же подтвердил Коля.
– Но в целом все-таки благословите жизнь.
– Именно! Ура! Вы пророк! О, мы сойдемся, Карамазов. Знаете, меня всего более восхищает, что вы со мной совершенно как с ровней. А мы не ровня, нет, не ровня, вы выше! Но мы сойдемся. Знаете, я весь последний месяц говорил себе: «Или мы разом с ним сойдемся друзьями навеки, или с первого же разу разойдемся врагами до гроба!»
– И говоря так, уж, конечно, любили меня! – весело смеялся Алеша.
– Любил, ужасно любил, любил и мечтал об вас! И как это вы знаете все наперед? Ба, вот и доктор. Господи, что-то скажет, посмотрите, какое у него лицо!
VII. Илюша
Доктор выходил из избы уже закутанный в шубу и с фуражкой на голове. Лицо его было почти сердитое и брезгливое, как будто он все боялся обо что-то запачкаться. Мельком окинул он глазами сени и при этом строго глянул на Алешу и Колю. Алеша махнул из дверей кучеру, и карета, привезшая доктора, подъехала к выходным дверям. Штабс-капитан стремительно выскочил вслед за доктором и, согнувшись, почти извиваясь пред ним, остановил его для последнего слова. Лицо бедняка было убитое, взгляд испуганный:
– Ваше превосходительство, ваше превосходительство… неужели? – начал было он и не договорил, а лишь всплеснул руками в отчаянии, хотя все еще с последнею мольбой смотрел на доктора, точно в самом деле от теперешнего слова доктора мог измениться приговор над бедным мальчиком.
– Что делать! Я не Бог, – небрежным, хотя и привычно внушительным голосом ответил доктор.
– Доктор… Ваше превосходительство… и скоро это, скоро?
– При-го-товь-тесь ко всему, – отчеканил, ударяя на каждом слогу, доктор и, склонив взор, сам приготовился было шагнуть за порог к карете.
– Ваше превосходительство, ради Христа! – испуганно остановил его еще раз штабс-капитан, – ваше превосходительство!.. так разве ничего, неужели ничего, совсем ничего теперь не спасет?..
– Не от меня теперь за-ви-сит, – нетерпеливо проговорил доктор, – и, однакоже, гм, – приостановился он вдруг, – если б вы, например, могли… на-пра-вить… вашего пациента… сейчас и нимало не медля (слова «сейчас и нимало не медля» доктор произнес не то что строго, а почти гневно, так что штабс-капитан даже вздрогнул) в Си-ра-ку-зы, то… вследствие новых бла-го-при-ятных кли-ма-ти-ческих условий… могло бы, может быть, про-изойти…
– В Сиракузы! – вскричал штабс-капитан, как бы ничего еще не понимая.
– Сиракузы – это в Сицилии[35], – отрезал вдруг громко Коля, для пояснения. Доктор поглядел на него.
– В Сицилию! Батюшка, ваше превосходительство, – потерялся штабс-капитан, – да ведь вы видели! – обвел он обеими руками кругом, указывая на свою обстановку, – а маменька-то, а семейство-то?
– Н-нет, семейство не в Сицилию, а семейство ваше на Кавказ, раннею весной… дочь вашу на Кавказ, а супругу… продержав курс вод тоже на Кав-ка-зе ввиду ее ревматизмов… немедленно после того на-пра-вить в Париж, в лечебницу доктора пси-хи-атра Ле-пель-летье, я бы мог вам дать к нему записку, и тогда… могло бы, может быть, произойти…
– Доктор, доктор! Да ведь вы видите! – размахнул вдруг опять руками штабс-капитан, указывая в отчаянии на голые бревенчатые стены сеней.
– А, это уж не мое дело, – усмехнулся доктор, – я лишь сказал то, что могла сказать на-у-ка на ваш вопрос о последних средствах, а остальное… к сожалению моему…
– Не беспокойтесь, лекарь, моя собака вас не укусит, – громко отрезал Коля, заметив несколько беспокойный взгляд доктора на Перезвона, ставшего на пороге. Гневная нотка прозвенела в голосе Коли. Слово же «лекарь», вместо доктор, он сказал нарочно и, как сам объявил потом, «для оскорбления сказал».
– Что та-ко-е? – вскинул головой доктор, удивленно уставившись на Колю. – Ка-кой это? – обратился он вдруг к Алеше, будто спрашивая у того отчета.
– Это хозяин Перезвона, лекарь, не беспокойтесь о моей личности, – отчеканил опять Коля.
– Звон? – переговорил доктор, не поняв, что такое Перезвон.
– Да не знает, где он. Прощайте, лекарь, увидимся в Сиракузах.
– Кто эт-то? Кто, кто? – вдруг закипятился ужасно доктор.
– Это здешний школьник, доктор, он шалун, не обращайте внимания, – нахмурившись и скороговоркой проговорил Алеша. – Коля, молчите! – крикнул он Красоткину. – Не надо обращать внимания, доктор, – повторил он уже несколько нетерпеливее.
– Выс-сечь, выс-сечь надо, выс-сечь! – затопал было ногами слишком уж почему-то взбесившийся доктор.
– А знаете, лекарь, ведь Перезвон-то у меня пожалуй что и кусается! – проговорил Коля задрожавшим голоском, побледнев и сверкнув глазами. – Иси, Перезвон!
– Коля, если вы скажете еще одно только слово, то я с вами разорву навеки! – властно крикнул Алеша.
– Лекарь, есть только одно существо в целом мире, которое может приказывать Николаю Красоткину, это вот этот человек, – Коля указал на Алешу, – ему повинуюсь, прощайте!
Он сорвался с места и, отворив дверь, быстро прошел в комнату. Перезвон бросился за ним. Доктор постоял было еще секунд пять как бы в столбняке, смотря на Алешу, потом вдруг плюнул и быстро пошел к карете, громко повторяя: «Этта, этта, этта, я не знаю, что этта!» Штабс-капитан бросился его подсаживать. Алеша прошел в комнату вслед за Колей. Тот стоял уже у постельки Илюши. Илюша держал его за руку и звал папу. Через минуту воротился и штабс-капитан.
– Папа, папа, поди сюда… мы… – пролепетал было Илюша в чрезвычайном возбуждении, но, видимо не в силах продолжать, вдруг бросил свои обе исхудалые ручки вперед и крепко, как только мог, обнял их обоих разом, и Колю и папу, соединив их в одно объятие и сам к ним прижавшись. Штабс-капитан вдруг весь так и затрясся от безмолвных рыданий, а у Коли задрожали губы и подбородок.
– Папа, папа! Как мне жалко тебя, папа! – горько простонал Илюша.
– Илюшечка… голубчик… доктор сказал… будешь здоров… будем счастливы… доктор… – заговорил было штабс-капитан.
– Ах, папа! Я ведь знаю, что тебе новый доктор про меня сказал… Я ведь видел! – воскликнул Илюша и опять крепки, изо всей силы прижал их обоих к себе, спрятав на плече у папы свое лицо.
– Папа, не плачь… а как я умру, то возьми ты хорошего мальчика, другого… сам выбери из них из всех, хорошего, назови его Илюшей и люби его вместо меня…
– Молчи, старик, выздоровеешь! – точно осердившись, крикнул вдруг Красоткин.
– А меня, папа, меня не забывай никогда, – продолжал Илюша, – ходи ко мне на могилку… да вот что, папа, похорони ты меня у нашего большого камня, к которому мы с тобой гулять ходили, и ходи ко мне туда с Красоткиным, вечером… И Перезвон… А я буду вас ждать… Папа, папа!
Его голос пресекся, все трое стояли обнявшись и уже молчали. Плакала тихо на своем кресле и Ниночка, и вдруг, увидав всех плачущими, залилась слезами и мамаша.
– Илюшечка! Илюшечка! – восклицала она.
Красоткин вдруг высвободился из объятий Илюши.
– Прощай, старик, меня ждет мать к обеду, – проговорил он скороговоркой. – Как жаль, что я ее не предуведомил! Очень будет беспокоиться… Но после обеда я тотчас к тебе, на весь день, на весь вечер, и столько тебе расскажу, столько расскажу! И Перезвона приведу, а теперь с собой уведу, потому что он без меня выть начнет и тебе мешать будет; до свиданья!
И он выбежал в сени. Ему не хотелось расплакаться, но в сенях он-таки заплакал. В этом состоянии нашел его Алеша.
– Коля, вы должны непременно сдержать слово и прийти, а то он будет в страшном горе, – настойчиво проговорил Алеша.
– Непременно! О, как я кляну себя, что не приходил раньше, – плача и уже не конфузясь, что плачет, пробормотал Коля. В эту минуту вдруг словно выскочил из комнаты штабс-капитан и тотчас затворил за собою дверь. Лицо его было исступленное, губы дрожали. Он стал пред обоими молодыми людьми и вскинул вверх обе руки.
– Не хочу хорошего мальчика! Не хочу другого мальчика! – прошептал он диким шепотом, скрежеща зубами. – Аще забуду тебе, Иерусалиме[36], да прильпнет…
Он не договорил, как бы захлебнувшись, и опустился в бессилии пред деревянною лавкой на колени. Стиснув обоими кулаками свою голову, он начал рыдать, как-то нелепо взвизгивая, изо всей силы крепясь, однако, чтобы не услышали его взвизгов в избе. Коля выскочил на улицу.
– Прощайте, Карамазов! Сами-то придете? – резко и сердито крикнул он Алеше.
– Вечером непременно буду.
– Что он это такое про Иерусалим… Это что еще такое?
– Это из Библии: «Аще забуду тебе, Иерусалиме», то есть если забуду все, что есть самого у меня драгоценного, если променяю на что, то да поразит…
– Понимаю, довольно! Сами-то приходите! Иси, Перезвон! – совсем уже свирепо прокричал он собаке и большими, скорыми шагами зашагал домой.
Маленький герой Из неизвестных мемуаров
[37]
Было мне тогда без малого одиннадцать лет.
В июле отпустили меня гостить в подмосковную деревню, к моему родственнику, Т‑ву, к которому в то время съехалось человек пятьдесят, а может быть, и больше, гостей… не помню, не сосчитал. Было шумно и весело. Казалось, это был праздник, который с тем и начался, чтоб никогда не кончиться. Казалось, наш хозяин дал себе слово как можно скорее промотать все свое огромное состояние, и ему удалось-таки недавно оправдать эту догадку, то есть промотать все, дотла, дочиста, до последней щепки. Поминутно наезжали новые гости. Москва же была в двух шагах, на виду, так что уезжавшие только уступали место другим, а праздник шел своим чередом. Увеселения сменялись одни другими, и затеям конца не предвиделось. То верховая езда по окрестностям, целыми партиями, то прогулки в бор или по реке; пикники, обеды в поле; ужины на большой террасе дома, обставленной тремя рядами драгоценных цветов, заливавших ароматами свежий ночной воздух, при блестящем освещении, от которого наши дамы, и без того почти все до одной хорошенькие, казались еще прелестнее с их одушевленными от дневных впечатлений лицами, с их сверкавшими глазками, с их перекрестною резвою речью, переливавшеюся звонким, как колокольчик, смехом; танцы, музыка, пение; если хмурилось небо, сочинялись живые картины, шарады, пословицы; устраивался домашний театр. Явились краснобаи, рассказчики, бонмотисты.
Несколько лиц резко обрисовалось на первом плане. Разумеется, злословие, сплетни шли своим чередом, так как без них и свет не стоит, и миллионы особ перемерли бы от тоски, как мухи. Но так как мне было одиннадцать лет, то я и не замечал тогда этих особ, отвлеченный совсем другим, а если и заметил что, так не все. После уже кое-что пришлось вспомнить. Только одна блестящая сторона картины могла броситься в мои детские глаза, и это всеобщее одушевление, блеск, шум – все это, доселе невиданное и неслыханное мною, так поразило меня, что я в первые дни совсем растерялся, и маленькая голова моя закружилась.
Но я все говорю про свои одиннадцать лет, и, конечно, я был ребенок, не более как ребенок. Многие из этих прекрасных женщин, лаская меня, еще не думали справляться с моими годами. Но – странное дело! – какое-то непонятное мне самому ощущение уже овладело мною; что-то шелестило уже по моему сердцу, до сих пор незнакомое и неведомое ему; но отчего оно подчас горело и билось, будто испуганное, и часто неожиданным румянцем обливалось лицо мое. Порой мне как-то стыдно и даже обидно было за разные детские мои привилегии. Другой раз как будто удивление одолевало меня, и я уходил куда-нибудь, где бы не могли меня видеть, как будто для того, чтоб перевести дух и что-то припомнить, что-то такое, что до сих пор, казалось мне, я очень хорошо помнил и про что теперь вдруг позабыл, но без чего, однакож, мне покуда нельзя показаться и никак нельзя быть.
То, наконец, казалось мне, что я что-то затаил от всех, но ни за что и никому не сказывал об этом, затем, что стыдно мне, маленькому человеку, до слез. Скоро среди вихря, меня окружавшего, почувствовал я какое-то одиночество. Тут были и другие дети, но все – или гораздо моложе, или гораздо старше меня; да, впрочем, не до них было мне. Конечно, ничего б и не случилось со мною, если б я не был в исключительном положении. На глаза всех этих прекрасных дам, я все еще был то же маленькое, неопределенное существо, которое они подчас любили ласкать и с которым им можно было играть, как с маленькой куклой. Особенно одна из них, очаровательная блондинка, с пышными, густейшими волосами, каких я никогда потом не видел и, верно, никогда не увижу, казалось, поклялась не давать мне покоя. Меня смущал, а ее веселил смех, раздававшийся кругом нас, который она поминутно вызывала своими резкими, взбалмошными выходками со мною, что, видно, доставляло ей огромное наслаждение. В пансионах, между подругами, ее наверное прозвали бы школьницей. Она была чудно хороша, и что-то было в ее красоте, что так и металось в глаза с первого взгляда. И, уж конечно, она непохожа была на тех маленьких стыдливеньких блондиночек, беленьких, как пушок, и нежных, как белые мышки или пасторские дочки. Ростом она была невысока и немного полна, но с нежными, тонкими линиями лица, очаровательно нарисованными. Что-то как молния сверкающее было в этом лице, да и вся она – как огонь, живая, быстрая, легкая. Из ее больших открытых глаз будто искры сыпались; они сверкали, как алмазы, и никогда я не променяю таких голубых, искрометных глаз ни на какие черные, будь они чернее самого черного андалузского взгляда, да и блондинка моя, право, стоила той знаменитой брюнетки, которую воспел один известный и прекрасный поэт и который еще в таких превосходных стихах поклялся всей Кастилией, что готов переломать себе кости, если позволят ему только кончиком пальца прикоснуться к мантилье его красавицы. Прибавь к тому, что моя красавица была самая веселая из всех красавиц в мире, самая взбалмошная хохотунья, резвая, как ребенок, несмотря на то, что лет пять как была уже замужем. Смех не сходил с ее губ, свежих, как свежа утренняя роза, только что успевшая раскрыть, с первым лучом солнца, свою алую, ароматную почку, на которой еще не обсохли холодные, крупные капли росы.
Помню, что на второй день моего приезда был устроен домашний театр. Зала была, как говорится, набита битком; не было ни одного места свободного; а так как мне привелось почему-то опоздать, то я и принужден был наслаждаться спектаклем стоя. Но веселая игра все более и более тянула меня вперед, и я незаметно пробрался до самых первых рядов, где и стал, наконец, облокотясь на спинку кресел, в которых сидела одна дама. Это была моя блондинка; но мы еще знакомы не были. И вот, как-то невзначай, засмотрелся я на ее чудно-округленные, соблазнительные плечи, полные, белые, как молочный кипень, хотя мне решительно все равно было смотреть: на чудесные женские плечи или на чепец с огненными лентами, скрывавший седины одной почтенной дамы в первом ряду. Возле блондинки сидела перезрелая дева, одна из тех, которые, как случалось мне потом замечать, вечно ютятся где-нибудь как можно поближе к молоденьким и хорошеньким женщинам, выбирая таких, которые не любят гонять от себя молодежь. Но не в том дело; только эта дева подметила мои наблюдения, нагнулась к соседке и, хихикая, пошептала ей что-то на ухо. Соседка вдруг обернулась, и помню, что огневые глаза ее так сверкнули на меня в полусумраке, что я, не приготовленный к встрече, вздрогнул, как будто обжегшись. Красавица улыбнулась.
– Нравится вам, что играют? – спросила она, лукаво и насмешливо посмотрев мне в глаза.
– Да, – отвечал я, все еще смотря на нее в каком-то удивлении, которое ей в свою очередь, видимо, нравилось.
– А зачем же вы стоите? Так устанете; разве вам места нет?
– То-то и есть, что нет, – отвечал я, на этот раз более занятый заботой, чем искрометными глазами красавицы, и пресерьезно обрадовавшись, что нашлось, наконец, доброе сердце, которому можно открыть свое горе. – Я уж искал, да все стулья заняты, – прибавил я, как будто жалуясь ей на то, что все стулья заняты.
– Ступай сюда, – живо заговорила она, скорая на все решения так же, как и на всякую сумасбродную идею, какая бы ни мелькнула в взбалмошной ее голове, – ступай сюда, ко мне и садись мне на колени.
– На колени?.. – повторил я, озадаченный.
Я уже сказал, что мои привилегии серьезно начали меня обижать и совестить. Эта, будто на смех, не в пример другим далеко заходила. К тому же я, и без того всегда робкий и стыдливый мальчик, теперь как-то особенно начал робеть перед женщинами и потому ужасно сконфузился.
– Ну да, на колени! Отчего же ты не хочешь сесть ко мне на колени? – настаивала она, начиная смеяться все сильнее и сильнее, так что, наконец, просто принялась хохотать Бог знает чему, может быть, своей же выдумке или обрадовавшись, что я так сконфузился. Но ей того-то и нужно было.
Я покраснел и в смущении осматривался кругом, приискивая – куда бы уйти; но она уже предупредила меня, как-то успев поймать мою руку, именно для того, чтоб я не ушел, и, притянув ее к себе, вдруг, совсем неожиданно, к величайшему моему удивлению, пребольно сжала ее в своих шаловливых, горячих пальчиках и начала ломать мои пальцы, но так больно, что я напрягал все усилия, чтоб не закричать, и при этом делал пресмешные гримасы. Кроме того, я был в ужаснейшем удивлении, недоумении, ужасе даже, узнав, что есть такие смешные и злые дамы, которые говорят с мальчиками про такие пустяки да еще больно так щиплются, Бог знает за что и при всех. Вероятно, мое несчастное лицо отражало все мои недоумения, потому что шалунья хохотала мне в глаза, как безумная, а между тем все сильнее и сильнее щипала и ломала мои бедные пальцы. Она была вне себя от восторга, что удалось-таки нашкольничать, сконфузить бедного мальчика и замистифировать его в прах. Положение мое было отчаянное. Во-первых, я горел от стыда, потому что все почти кругом нас оборотились к нам, одни в недоумении, другие со смехом, сразу поняв, что красавица что-нибудь напроказила. Кроме того, мне страх как хотелось кричать, потому что она ломала мои пальцы с каким-то ожесточением, именно за то, что я не кричу; а я, как спартанец, решился выдерживать боль, боясь наделать криком суматоху, после которой уж не знаю, что бы сталось со мною. В припадке совершенного отчаяния начал я, наконец, борьбу и принялся из всех сил тянуть к себе свою собственную руку, но тиранка моя была гораздо меня сильнее. Наконец, я не выдержал, вскрикнул, – того только и ждала! Мигом она бросила меня и отвернулась, как ни в чем не бывала, как будто и не она напроказила, а кто другой, ну точь-в‑точь какой-нибудь школьник, который, чуть отвернулся учитель, уже успел напроказить где-нибудь по соседству, щипнуть какого-нибудь крошечного слабосильного мальчика, дать ему щелчка, пинка, подтолкнуть ему локоть и мигом опять повернуться, поправиться, уткнувшись в книгу, начать долбить свой урок и, таким образом, оставить разгневанного господина учителя, бросившегося, подобно ястребу, на шум, – с предлинным и неожиданным носом.
Но, к моему счастью, общее внимание увлечено было в эту минуту мастерской игрой нашего хозяина, который исполнял в игравшейся пьеске, какой-то скрибовской комедии, главную роль. Все зааплодировали; я, под шумок, скользнул из ряда и забежал на самый конец залы, в противоположный угол, откуда, притаясь за колонной, с ужасом смотрел туда, где сидела коварная красавица. Она все еще хохотала, закрыв платком свои губки. И долго еще она оборачивалась назад, выглядывая меня по всем углам, – вероятно, очень жалея, что так скоро кончилась наша сумасбродная схватка, и придумывая, как бы еще что-нибудь напроказить.
Этим началось наше знакомство, и с этого вечера она уже не отставала от меня ни на шаг. Она преследовала меня без меры и совести, сделалась гонительницей, тиранкой моей. Весь комизм ее проделок со мной заключался в том, что она сказалась влюбленною в меня по уши и резала меня при всех. Разумеется, мне, прямому дикарю, все это до слез было тяжело и досадно, так что я уже несколько раз был в таком серьезном и критическом положении, что готов был подраться с моей коварной обожательницей. Мое наивное смущение, моя отчаянная тоска как будто окрыляли ее преследовать меня до конца. Она не знала жалости, а я не знал – куда от нее деваться. Смех, раздававшийся кругом нас и который она умела-таки вызвать, только поджигал ее на новые шалости. Но стали, наконец, находить ее шутки немного слишком далекими. Да и вправду, как пришлось теперь вспомнить, она уже чересчур позволяла себе с таким ребенком, как я.
Но уж такой был характер; была она, по всей форме, баловница. Я слышал потом, что избаловал ее всего более ее же собственный муж, очень толстенький, очень невысокий и очень красный человек, очень богатый и очень деловой, по крайней мере с виду: вертлявый, хлопотливый; он двух часов не мог прожить на одном месте. Каждый день ездил он от нас в Москву, иногда по два раза, и все, как сам уверял, по делам. Веселее и добродушнее этой комической и между тем всегда порядочной физиономии трудно было сыскать. Он мало того, что любил жену до слабости, до жалости, – он просто поклонялся ей, как идолу.
Он не стеснял ее ни в чем. Друзей и подруг у ней было множество. Во-первых, ее мало кто не любил, а во-вторых, ветреница и сама была не слишком разборчива в выборе друзей своих, хотя в основе ее характера было гораздо более серьезного, чем сколько можно предположить, судя по тому, что я теперь рассказал. Но из всех подруг своих она всех больше любила и отличала одну молодую даму, свою дальнюю родственницу, которая теперь тоже была в нашем обществе. Между ними была какая-то нежная, утонченная связь, одна из тех связей, которые зарождаются иногда при встрече двух характеров, часто совершенно противоположных друг другу, но из которых один и строже, и глубже, и чище другого, тогда как другой, с высоким смирением и с благородным чувством самооценки, любовно подчиняется ему, почувствовав все превосходство его над собою, и, как счастье, заключает в сердце своем его дружбу. Тогда-то начинается эта нежная и благородная утонченность в отношениях таких характеров: любовь и снисхождение до конца, с одной стороны, любовь и уважение – с другой, уважение, доходящее до какого-то страха, до боязни за себя в глазах того, кем так высоко дорожишь, и до ревнивого, жадного желания с каждым шагом в жизни все ближе и ближе подходить к его сердцу. Обе подруги были одних лет, но между ними была неизмеримая разница во всем, начиная с красоты. M‑me M* была тоже очень хороша собой, но в красоте ее было что-то особенное, резко отделявшее ее от толпы хорошеньких женщин; было что-то в лице ее, что тотчас же неотразимо влекло к себе все симпатии, или, лучше сказать, что пробуждало благородную, возвышенную симпатию в том, кто встречал ее. Есть такие счастливые лица. Возле нее всякому становилось как-то лучше, как-то свободнее, как-то теплее, и, однакож, ее грустные, большие глаза, полные огня и силы, смотрели робко и беспокойно, будто под ежеминутным страхом чего-то враждебного и грозного, и эта странная робость таким унынием покрывала подчас ее тихие, кроткие черты, напоминавшие светлые лица итальянских мадонн, что, смотря на нее, самому становилось скоро так же грустно, как за собственную, как за родную печаль. Это бледное, похудевшее лицо, в котором сквозь безукоризненную красоту чистых, правильных линий и унылую суровость глухой, затаенной тоски еще так часто просвечивал первоначальный детски ясный облик, – образ еще недавних доверчивых лет и, может быть, наивного счастья; эта тихая, но несмелая, колебавшаяся улыбка – все это поражало таким безотчетным участием к этой женщине, что в сердце каждого невольно зарождалась сладкая, горячая забота, которая громко говорила за нее еще издали и еще вчуже роднила с нею. Но красавица казалась как-то молчаливою, скрытною, хотя, конечно, не было существа более внимательного и любящего, когда кому-нибудь надобилось сочувствие. Есть женщины, которые точно сестры милосердия в жизни. Перед ними можно ничего не скрывать, по крайней мере ничего, что есть больного и уязвленного в душе. Кто страждет, тот смело и с надеждой иди к ним и не бойся быть в тягость, затем, что редкий из нас знает, насколько может быть бесконечно терпеливой любви, сострадания и всепрощения в ином женском сердце. Целые сокровища симпатии, утешения, надежды хранятся в этих чистых сердцах, так часто тоже уязвленных, потому что сердце, которое много любит, много грустит, но где рана бережливо закрыта от любопытного взгляда, затем, что глубокое горе всего чаще молчит и таится. Их же не испугает ни глубина раны, ни гной ее, ни смрад ее: кто к ним подходит, тот уж их достоин; да они, впрочем, как будто и родятся на подвиг… M‑me M* была высока ростом, гибка и стройна, но несколько тонка. Все движения ее были как-то неровны, то медленны, плавны и даже как-то важны, то детски скоры, а вместе с тем и какое-то робкое смирение проглядывало в ее жесте, что-то как будто трепещущее и незащищенное, но никого не просившее и не молившее о защите.
Я уже сказал, что непохвальные притязания коварной блондинки стыдили меня, резали меня, язвили меня до крови. Но этому была еще причина тайная, странная, глупая, которую я таил, за которую дрожал, как кащей, и даже при одной мысли о ней, один на один с опрокинутой моей головою, где-нибудь в таинственном, темном углу, куда не досягал инквизиторский, насмешливый взгляд никакой голубоокой плутовки, при одной мысли об этом предмете я чуть не задыхался от смущения, стыда и боязни, – словом, я был влюблен, то есть положим, что я сказал вздор: этого быть не могло; но отчего же из всех лиц, меня окружавших, только одно лицо уловлялось моим вниманием? Отчего только за нею я любил следить взглядом, хотя мне решительно не до того было тогда, чтоб выглядывать дам и знакомиться с ними? Случалось это всего чаще по вечерам, когда ненастье запирало всех в комнаты и когда я, одиноко притаясь где-нибудь в углу залы, беспредметно глазел по сторонам, решительно не находя никакого другого занятия, потому что со мной, исключая моих гонительниц, редко кто говорил, и было мне в такие вечера нестерпимо скучно. Тогда всматривался я в окружавшие меня лица, вслушивался в разговор, в котором часто не понимал ни слова, и вот в это-то время тихие взгляды, кроткая улыбка и прекрасное лицо m‑me M* (потому что это была она), Бог знает почему, уловлялись моим зачарованным вниманием, и уж не изглаживалось это странное, неопределенное, но непостижимо-сладкое впечатление мое. Часто по целым часам я как будто уж и не мог от нее оторваться; я заучил каждый жест, каждое движение ее, вслушался в каждую вибрацию густого серебристого, но несколько заглушенного голоса, и – странное дело! – из всех наблюдений своих вынес, вместе с робким и сладким впечатлением, какое-то непостижимое любопытство. Похоже было на то, как будто я допытывался какой-нибудь тайны…
Всего мучительнее для меня были насмешки в присутствии m‑me M*. Эти насмешки и комические гонения, по моим понятиям, даже унижали меня. И когда, случалось, раздавался общий смех на мой счет, в котором даже m‑me M* иногда невольно принимала участие, тогда я, в отчаянии, вне себя от горя, вырывался от своих тиранок и убегал наверх, где и дичал остальную часть дня, не смея показать своего лица в зале. Впрочем, я и сам еще не понимал ни своего стыда, ни волнения; весь процесс переживался во мне бессознательно. С m‑me M* я почти не сказал еще и двух слов, да и, конечно, не решился бы на это. Но вот однажды вечером, после несноснейшего для меня дня, отстал я от других на прогулке, ужасно устал и пробирался домой через сад. На одной скамье, в уединенной аллее, увидел я m‑me M*. Она сидела одна-одинехонька, как будто нарочно выбрав такое уединенное место, склонив голову на грудь и машинально перебирая в руках платок. Она была в такой задумчивости, что и не слыхала, как я с ней поровнялся.
Заметив меня, она быстро поднялась со скамьи, отвернулась и, я увидел, наскоро отерла глаза платком. Она плакала. Осушив глаза, она улыбнулась мне и пошла вместе со мною домой. Уж не помню, о чем мы с ней говорили; но она поминутно отсылала меня под разными предлогами: то просила сорвать ей цветок, то посмотреть, кто едет верхом по соседней аллее. И когда я отходил от нее, она тотчас же опять подносила платок к глазам своим и утирала непослушные слезы, которые никак не хотели покинуть ее, все вновь и вновь накипали в сердце и все лились из ее бедных глаз. Я понимал, что, видно, я ей очень в тягость, когда она так часто меня отсылает, да и сама она уже видела, что я все заметил, но только не могла удержаться, и это меня еще более за нее надрывало. Я злился на себя в эту минуту почти до отчаяния, проклинал себя за неловкость и ненаходчивость и все-таки не знал, как ловче отстать от нее, не выказав, что заметил ее горе, но шел рядом с нею, в грустном изумлении, даже в испуге, совсем растерявшись и решительно не находя ни одного слова для поддержки оскудевшего нашего разговора.
Эта встреча так поразила меня, что я весь вечер с жадным любопытством следил потихоньку за m‑me M* и не спускал с нее глаз. Но случилось так, что она два раза застала меня врасплох среди моих наблюдений, и во второй раз, заметив меня, улыбнулась. Это была ее единственная улыбка за весь вечер. Грусть еще не сходила с лица ее, которое было теперь очень бледно. Все время она тихо разговаривала с одной пожилой дамой, злой и сварливой старухой, которой никто не любил за шпионство и сплетни, но которой все боялись, а потому и принуждены были всячески угождать ей, волей-неволей…
Часов в десять приехал муж m‑me M*. До сих пор я наблюдал за ней очень пристально, не отрывая глаз от ее грустного лица; теперь же, при неожиданном входе мужа, я видел, как она вся вздрогнула и лицо ее, и без того уж бледное, сделалось вдруг белее платка. Это было так приметно, что и другие заметили: я расслышал в стороне отрывочный разговор, из которого кое-как догадался, что бедной m‑me M* не совсем хорошо. Говорили, что муж ее ревнив, как арап, не из любви, а из самолюбия. Прежде всего это был европеец, человек современный, с образчиками новых идей и тщеславящийся своими идеями. С виду это был черноволосый, высокий и особенно плотный господин, с европейскими бакенбардами, с самодовольным, румяным лицом, с белыми, как сахар, зубами и с безукоризненной джентльменской осанкой. Называли его умным человеком. Так в иных кружках называют одну особую породу растолстевшего на чужой счет человечества, которая ровно ничего не делает, которая ровно ничего не хочет делать и у которой, от вечной лености и ничегонеделания, вместо сердца кусок жира. От них же поминутно слышишь, что им нечего делать вследствие каких-то очень запутанных, враждебных обстоятельств, которые «утомляют их гений», и что на них поэтому «грустно смотреть». Это уж у них такая пышная фраза, их mot d’ordre, их пароль и лозунг, фраза, которую мои сытые толстяки расточают везде поминутно, что уже давно начинает надоедать, как отъявленное тартюфство и пустое слово. Впрочем, некоторые из этих забавников, никак не могущих найти, что им делать, – чего, впрочем, никогда и не искали они, – именно на то метят, чтоб все думали, что у них вместо сердца не жир, а, напротив, говоря вообще, что-то очень глубокое, но что именно – об этом не сказал бы ничего самый первейший хирург, конечно, из учтивости. Эти господа тем и пробиваются на свете, что устремляют все свои инстинкты на грубое зубоскальство, самое близорукое осуждение и безмерную гордость. Так как им нечего больше делать, как подмечать и затверживать чужие ошибки и слабости, и так как в них доброго чувства ровнешенько настолько, сколько дано его в удел устрице, то им и нетрудно, при таких предохранительных средствах, прожить с людьми довольно осмотрительно. Этим они чрезмерно тщеславятся. Они, например, почти уверены, что у них чуть ли не весь мир на оброке; что он у них, как устрица, которую они берут про запас; что все, кроме них, дураки; что всяк похож на апельсин или на губку, которую они нет-нет да и выжмут, пока сок надобится; что они всему хозяева и что весь этот похвальный порядок вещей происходит именно оттого, что они такие умные и характерные люди. В своей безмерной гордости они не допускают в себе недостатков. Они похожи на ту породу житейских плутов, прирожденных Тартюфов и Фальстафов[38], которые до того заплутовались, что, наконец, и сами уверились, что так и должно тому быть, то есть чтоб жить им да плутовать; до того часто уверяли всех, что они честные люди, что, наконец, и сами уверились, будто они действительно честные люди и что их плутовство-то и есть честное дело. Для совестного внутреннего суда, для благородной самооценки их никогда не хватит: для иных вещей они слишком толсты. На первом плане у них всегда и во всем их собственная золотая особа, их Молох и Ваал, их великолепное я. Вся природа, весь мир для них не более, как одно великолепное зеркало, которое и создано для того, чтоб мой божок беспрерывно в него на себя любовался и из-за себя никого и ничего не видел; после этого и не мудрено, что все на свете видит он в таком безобразном виде. На все у него припасена готовая фраза, и – что, однакож, верх ловкости с их стороны – самая модная фраза. Даже они-то и способствуют этой моде, голословно распространяя по всем перекресткам ту мысль, которой почуют успех. Именно у них есть чутье, чтоб пронюхать такую модную фразу и раньше других усвоить ее себе, так, что как будто она от них и пошла. Особенно же запасаются они своими фразами на изъявление своей глубочайшей симпатии к человечеству, на определение, что такое самая правильная и оправданная рассудком филантропия и, наконец, чтоб безостановочно карать романтизм, то есть зачастую все прекрасное и истинное, каждый атом которого дороже всей их слизняковой породы. Но грубо не узнают они истины в уклоненной, переходной и неготовой форме и отталкивают все, что еще не поспело, не устоялось и бродит. Упитанный человек всю жизнь прожил навеселе, на всем готовом, сам ничего не сделал и не знает, как трудно всякое дело делается, а потому беда какой-нибудь шероховатостью задеть его жирные чувства: за это он никогда не простит, всегда припомнит и отомстит с наслаждением. Итог всему выйдет, что мой герой есть не более не менее, как исполинский, донельзя раздутый мешок, полный сентенций, модных фраз и ярлыков всех родов и сортов.
Но, впрочем, m‑r М* имел и особенность, был человек примечательный: это был остряк, говорун и рассказчик, и в гостиных кругом него всегда собирался кружок. В тот вечер особенно ему удалось произвесть впечатление. Он овладел разговором; он был в ударе, весел, чему-то рад и заставил-таки всех глядеть на себя. Но m‑me M* все время была как больная; лицо ее было такое грустное, что мне поминутно казалось, что вот-вот сейчас задрожат на ее длинных ресницах давешние слезы. Все это, как я сказал, поразило и удивило меня чрезвычайно. Я ушел с чувством какого-то странного любопытства, и всю ночь снился мне m‑r М*, тогда как до тех пор я редко видывал безобразные сны.
На другой день рано поутру позвали меня на репетицию живых картин, в которых и у меня была роль. Живые картины, театр и потом бал – все в один вечер, назначались не далее как дней через пять, по случаю домашнего праздника – дня рождения младшей дочери нашего хозяина. На праздник этот, почти импровизированный, приглашены были из Москвы и из окрестных дач еще человек сто гостей, так что много было и возни, и хлопот, и суматохи. Репетиции, или, лучше сказать, смотр костюмов, назначены были не во-время, поутру, потому что наш режиссер, известный художник Р*, приятель и гость нашего хозяина, по дружбе к нему согласившийся взять на себя сочинение и постановку картин, а вместе с тем и нашу выучку, спешил теперь в город для закупок по бутафорской части и для окончательных заготовлений к празднику, так что времени терять было некогда. Я участвовал в одной картине, вдвоем с m‑me M*. Картина выражала сцену из средневековой жизни и называлась: «Госпожа замка и ее паж».
Я почувствовал неизъяснимое смущение, сошедшись с m‑me M* на репетиции. Мне так и казалось, что она тотчас же вычитает из глаз моих все думы, сомнения, догадки, зародившиеся со вчерашнего дня в голове моей. К тому же мне все казалось, что я как будто бы виноват пред нею, застав вчера ее слезы и помешав ее горю, так что она поневоле должна будет коситься на меня, как на неприятного свидетеля и непрошенного участника ее тайны. Но, слава Богу, дело обошлось без больших хлопот: меня просто не заметили. Ей, кажется, было вовсе не до меня и не до репетиции: она была рассеянна, грустна и мрачно задумчива; видно было, что ее мучила какая-то большая забота. Покончив с моею ролью, я побежал переодеться и через десять минут вышел на террасу в сад. Почти в то же время из других дверей вышла и m‑me M*, и как раз нам напротив появился самодовольный супруг ее, который возвращался из сада, только что проводив туда целую группу дам и там успев сдать их с рук на руки какому-то досужему cavalier servant[39]. Встреча мужа и жены, очевидно, была неожиданна. M‑me M*, неизвестно почему-то, вдруг смутилась, и легкая досада промелькнула в ее нетерпеливом движении. Супруг, беспечно насвистывавший арию и во всю дорогу глубокомысленно охорашивавший свои бакенбарды, теперь, при встрече с женою, нахмурился и оглядел ее, как припоминаю теперь, решительно инквизиторским взглядом.
– Вы в сад? – спросил он, заметив омбрельку и книгу в руках жены.
– Нет, в рощу, – отвечала она, слегка покраснев.
– Одни?
– С ним… – проговорила m‑me M*, указав на меня. – Я гуляю поутру одна, – прибавила она каким-то неровным, неопределенным голосом, точно таким, когда лгут первый раз в жизни.
– Гм… А я только что проводил туда целую компанию. Там все собираются у цветочной беседки провожать Н‑го. Он едет, вы знаете… у него какая-то беда случилась там, в Одессе… Ваша кузина (он говорил о блондинке) и смеется и чуть не плачет, все разом, не разберешь ее. Она мне, впрочем, сказала, что вы за что-то сердиты на Н‑го и потому не пошли его провожать. Конечно, вздор?
– Она смеется, – отвечала m‑me M*, сходя со ступенек террасы.
– Так это ваш каждодневный cavalier servant? – прибавил m‑r М*, скривив рот и наведя на меня свой лорнет.
– Паж! – закричал я, рассердившись на лорнет и насмешку, и, захохотав ему прямо в лицо, разом перепрыгнул три ступеньки террасы…
– Счастливый путь! – пробормотал m‑r М* и пошел своею дорогой.
Конечно, я тотчас же подошел к m‑me M*, как только она указала на меня мужу, и глядел так, как будто она меня уже целый час назад пригласила и как будто я уже целый месяц ходил с ней гулять по утрам. Но я никак не мог разобрать: зачем она так смутилась, сконфузилась и что такое было у ней на уме, когда она решилась прибегнуть к своей маленькой лжи? Зачем она просто не сказала, что идет одна? Теперь я не знал, как и глядеть на нее; но, пораженный удивлением, я, однакож, пренаивно начал помаленьку заглядывать ей в лицо; но так же, как и час назад, на репетиции, она не примечала ни подглядываний, ни немых вопросов моих. Все та же мучительная забота, но еще явственнее, еще глубже, чем тогда, отражалась в ее лице, в ее волнении, в походке. Она спешила куда-то, все более и более ускоряя шаг, и с беспокойством заглядывала в каждую аллею, в каждую просеку рощи, оборачиваясь к стороне сада. И я тоже ожидал чего-то. Вдруг за нами раздался лошадиный топот. Это была целая кавалькада наездниц и всадников, провожавших того Н‑го, который так внезапно покидал наше общество.
Между дамами была и моя блондинка, про которую говорил m‑r М*, рассказывая о слезах ее. Но, по своему обыкновению, она хохотала, как ребенок, и резво скакала на прекрасном гнедом коне. Поравнявшись с нами, Н‑й снял шляпу, но не остановился и не сказал с m‑me M* ни слова. Скоро вся ватага исчезла из глаз. Я взглянул на m‑me M* и чуть не вскрикнул от изумления: она стояла бледная, как платок, и крупные слезы пробивались из глаз ее. Случайно наши взгляды встретились: m‑me M* вдруг покраснела, на миг отвернулась, и беспокойство и досада ясно замелькали на лице ее. Я был лишний, хуже, чем вчера, – это яснее дня, но куда мне деваться?
Вдруг m‑me M*, как будто догадавшись, развернула книгу, которая была у нее в руках, и, закрасневшись, очевидно стараясь не смотреть на меня, сказала, как будто сейчас только спохватилась:
– Ах! это вторая часть, я ошиблась; пожалуйста, принеси мне первую.
Как не понять! моя роль кончилась, и нельзя было прогнать меня по более прямой дороге.
Я убежал с ее книгой и не возвращался. Первая часть преспокойно пролежала на столе это утро…
Но я был сам не свой; у меня билось сердце, как будто в беспрерывном испуге. Всеми силами старался я как-нибудь не повстречать m‑me M*. Зато я с каким-то диким любопытством глядел на самодовольную особу m‑r М*, как будто в нем теперь непременно должно было быть что-то особенное. Решительно не понимаю, что было в этом комическом любопытстве моем; помню только, что я был в каком-то странном удивлении от всего, что привелось мне увидеть в это утро. Но мой день только что начинался, и для меня он был обилен происшествиями.
Обедали на этот раз очень рано. К вечеру назначена была общая увеселительная поездка в соседнее село, на случившийся там деревенский праздник, и потому нужно было время, чтоб приготовиться. Я уж за три дня мечтал об этой поездке, ожидая бездну веселья. Пить кофе почти все собрались на террасе. Я осторожно пробрался за другими и спрятался за тройным рядом кресел. Меня влекло любопытство, и между тем я ни за что не хотел показаться на глаза m‑me M*. Но случаю угодно было поместить меня недалеко от моей гонительницы-блондинки. На этот раз с ней приключилось чудо, невозможное дело: она вдвое похорошела. Уж не знаю, как и отчего это делается, но с женщинами такие чудеса бывают даже нередко. Меж нами в эту минуту был новый гость, высокий, бледнолицый молодой человек, записной поклонник нашей блондинки, только что приехавший к нам из Москвы, как будто нарочно за тем, чтоб заменить собой отбывшего Н‑го, про которого шла молва, что он отчаянно влюблен в нашу красавицу. Что же касается приезжего, то он уж издавна был с нею в таких же точно отношениях, как Бенедикт к Беатриче в шекспировском «Много шума из пустяков». Короче, наша красавица в этот день была в чрезвычайном успехе. Ее шутки и болтовня были так грациозны, так доверчиво-наивны, так простительно-неосторожны; она с такою грациозною самонадеянностию была уверена во всеобщем восторге, что действительно все время была в каком-то особенном поклонении. Вокруг нее не разрывался тесный кружок удивленных, залюбовавшихся на нее слушателей, и никогда еще не была она так обольстительна. Всякое слово ее было в соблазн и в диковинку, ловилось, передавалось вкруговую, и ни одна шутка ее, ни одна выходка не пропала даром. От нее, кажется, и не ожидал никто столько вкуса, блеска, ума. Все лучшие качества ее повседневно были погребены в самом своевольном сумасбродстве, в самом упрямом школьничестве, доходившем чуть ли не до шутовства; их редко кто замечал; а если замечал, так не верил им, так что теперь необыкновенный успех ее встречен был всеобщим страстным шепотом изумления.
Впрочем, этому успеху содействовало одно особенное, довольно щекотливое обстоятельство, по крайней мере судя по той роли, которую играл в то же время муж m‑me M*. Проказница решилась – и нужно прибавить: почти ко всеобщему удовольствию или по крайней мере к удовольствию всей молодежи – ожесточенно атаковать его вследствие многих причин, вероятно, очень важных в ее глазах. Она завела с ним целую перестрелку острот, насмешек, сарказмов самых неотразимых и скользких, самых коварных, замкнутых и гладких со всех сторон, таких, которые бьют прямо в цель, но к которым ни с одной стороны нельзя прицепиться для отпора и которые только истощают в бесплодных усилиях жертву, доводя ее до бешенства и до самого комического отчаяния.
Наверно не знаю, но, кажется, вся эта выходка была преднамеренная, а не импровизированная. Еще за обедом начался этот отчаянный поединок. Я говорю «отчаянный», потому что m‑r М* не скоро положил оружие. Ему нужно было собрать все присутствие духа, все остроумие, всю свою редкую находчивость, чтоб не быть разбитым в прах, наголову и не покрыться решительным бесславием. Дело шло при непрерывном и неудержимом смехе всех свидетелей и участников боя. По крайней мере сегодня непохоже было для него на вчера. Приметно было, что m‑me M* несколько раз порывалась остановить своего неосторожного друга, которому в свою очередь непременно хотелось нарядить ревнивого мужа в самый шутовской и смешной костюм, и должно полагать, в костюм «Синей Бороды», судя по всем вероятностям, судя по тому, что у меня осталось в памяти, и, наконец, по той роли, которую мне самому привелось играть в этой сшибке.
Это случилось вдруг, самым смешным образом, совсем неожиданно, и, как нарочно, в эту минуту я стоял на виду, не подозревая зла и даже забыв о недавних моих предосторожностях. Вдруг я был выдвинут на первый план, как заклятый враг и естественный соперник m‑r М*, как отчаянно, до последней степени влюбленный в жену его, в чем тиранка моя тут же поклялась, дала слово, сказала, что у ней есть доказательства и что не далее, как, например, сегодня в лесу она видела…
Но она не успела договорить, я прервал ее в самую отчаянную для меня минуту. Эта минута была так безбожно рассчитана, так изменнически подготовлена к самому концу, к шутовской развязке, и так уморительно смешно обставлена, что целый взрыв ничем неудержимого, всеобщего смеха отсалютовал эту последнюю выходку. И хотя тогда же я догадался, что не на мою долю выпадала самая досадная роль, однакож был до того смущен, раздражен и испуган, что, полный слез, тоски и отчаяния, задыхаясь от стыда, прорвался чрез два ряда кресел, ступил вперед и, обращаясь к моей тиранке, закричал прерывающимся от слез и негодования голосом:
– И не стыдно вам… вслух… при всех дамах… говорить такую худую… неправду?!. вам, точно маленькой… при всех мужчинах… Что они скажут?.. вы – такая большая… замужняя!..
Но я не докончил, – раздался оглушительный аплодисмент. Моя выходка произвела настоящий furore. Мой наивный жест, мои слезы, а главное, то, что я как будто выступил защищать m‑r М*, все это произвело такой адский смех, что даже и теперь, при одном воспоминании, мне самому становится ужасно смешно… Я оторопел, почти обезумел от ужаса и, сгорев, как порох, закрыв лицо руками, бросился вон, выбил в дверях поднос из рук входившего лакея и полетел наверх, в свою комнату. Я вырвал из дверей ключ, торчавший наружу, и заперся изнутри. Сделал я хорошо, потому что за мною была погоня. Не прошло минуты, как мои двери осадила целая ватага самых хорошеньких из всех наших дам. Я слышал их звонкий смех, частый говор, их заливавшиеся голоса; они щебетали все разом, как ласточки. Все они, все до одной, просили, умоляли меня отворить хоть на одну минуту; клялись, что не будет мне ни малейшего зла, а только зацелуют они меня всего в прах. Но… что ж могло быть ужаснее еще этой новой угрозы? Я только горел от стыда за моею дверью, спрятав в подушки лицо, и не отпер, даже не отозвался. Они еще долго стучались и молили меня, но я был бесчувствен и глух, как одиннадцатилетний.
Ну, что ж теперь делать? все открыто, все обнаружилось, все, что я так ревниво сберегал и таил… На меня падет вечный стыд и позор!.. По правде, я и сам не умел назвать того, за что так страшился и что хотел бы скрыть; но ведь, однакож, я страшился чего-то, за обнаружение этого чего-то я трепетал до сих пор, как листочек. Одного только я не знал до этой минуты, что оно такое: годится оно или не годится, славно или позорно, похвально или не похвально? Теперь же, в мучениях и насильной тоске, узнал, что оно смешно и стыдно! Инстинктом чувствовал я в то же время, что такой приговор и ложен, и бесчеловечен, и груб; но я был разбит, уничтожен; процесс сознания как бы остановился и запутался во мне; я не мог ни противостоять этому приговору, ни даже обсудить его хорошенько: я был отуманен; слышал только, что мое сердце бесчеловечно, бесстыдно уязвлено, и заливался бессильными слезами. Я был раздражен; во мне кипели негодование и ненависть, которой я доселе не знал никогда, потому что только в первый раз в жизни испытал серьезное горе, оскорбление, обиду; и все это было действительно так, без всяких преувеличений. Во мне, в ребенке, было грубо затронуто первое, неопытное еще, необразовавшееся чувство, был так рано обнажен и поруган первый благоуханный девственный стыд и осмеяно первое и, может быть, очень серьезное эстетическое впечатление. Конечно, насмешники мои многого не знали и не предчувствовали в моих мучениях. Наполовину входило сюда одно сокровенное обстоятельство, которого сам я и не успел и как-то пугался до сих пор разбирать. В тоске и в отчаянии продолжал я лежать на своей постели, укрыв в подушки лицо; и жар и дрожь обливали меня попеременно. Меня мучили два вопроса: что такое видела и что именно могла увидать негодная блондинка сегодня в роще между мною и m‑me M*? И, наконец, второй вопрос: как, какими глазами, каким средством могу я взглянуть теперь в лицо m‑me M* и не погибнуть в ту же минуту на том же месте от стыда и отчаяния.
Необыкновенный шум на дворе вызвал, наконец, меня из полубеспамятства, в котором я находился. Я встал и подошел к окну. Весь двор был загроможден экипажами, верховыми лошадьми и суетившимися слугами. Казалось, все уезжали; несколько всадников уже сидели на конях; другие гости размещались по экипажам… Тут вспомнил я о предстоящей поездке, и вот мало-помалу беспокойство начало проникать в мое сердце; я пристально начал выглядывать на дворе своего клепера; но клепера не было, – стало быть, обо мне позабыли. Я не выдержал и опрометью побежал вниз, уж не думая ни о неприятных встречах, ни о недавнем позоре своем…
Грозная новость ожидала меня. Для меня на этот раз не было ни верховой лошади, ни места в экипаже: все было разобрано, занято, и я принужден уступить другим.
Пораженный новым горем, остановился я на крыльце и печально смотрел на длинный ряд карет, кабриолетов, колясок, в которых не было для меня и самого маленького уголка, и на нарядных наездниц, под которыми гарцевали нетерпеливые кони.
Один из всадников почему-то замешкался. Ждали только его, чтоб отправиться. У подъезда стоял конь его, грызя удила, роя копытами землю, поминутно вздрагивая и дыбясь от испуга. Два конюха осторожно держали его под уздцы, и все опасливо стояли от него в почтительном отдалении.
В самом деле, случилось предосадное обстоятельство, по которому мне нельзя было ехать. Кроме того, что наехали новые гости и разобрали все места и всех лошадей, заболели две верховые лошади, из которых одна была мой клепер. Но не мне одному пришлось пострадать от этого обстоятельства: открылось, что для нового нашего гостя, того бледнолицего молодого человека, о котором я уже говорил, тоже нет верхового коня. Чтоб отвратить неприятность, хозяин наш принужден был прибегнуть к крайности: рекомендовать своего бешеного, невыезженного жеребца, прибавив, для очистки совести, что на нем никак нельзя ездить и что его давно уж положили продать за дикость характера, если, впрочем, найдется на него покупщик. Но предупрежденный гость объявил, что ездит порядочно, да и во всяком случае готов сесть на что угодно, только бы ехать. Хозяин тогда промолчал, но теперь показалось мне, что какая-то двусмысленная и лукавая улыбка бродила на губах его. В ожидании наездника, похвалившегося своим искусством, он сам еще не садился на свою лошадь, с нетерпением потирал руки и поминутно взглядывал на дверь. Даже что-то подобное сообщилось и двум конюхам, удерживавшим жеребца и чуть не задыхавшимся от гордости, видя себя пред всей публикой при таком коне, который нет-нет да и убьет человека ни за что ни про что. Что-то похожее на лукавую усмешку их барина отсвечивалось и в их глазах, выпученных от ожидания и тоже устремленных на дверь, из которой должен был появиться приезжий смельчак. Наконец, и сам конь держал себя так, как будто тоже сговорился с хозяином и вожатыми: он вел себя гордо и заносчиво, словно чувствуя, что его наблюдают несколько десятков любопытных глаз и словно гордясь пред всеми зазорной своей репутацией, точь-в‑точь, как иной неисправимый повеса гордится своими висельными проделками. Казалось, он вызывал смельчака, который бы решился посягнуть на его независимость.
Этот смельчак, наконец, показался. Совестясь, что заставил ждать себя, и торопливо натягивая перчатки, он шел вперед не глядя, спустился по ступенькам крыльца и поднял глаза только тогда, когда протянул было руку, чтоб схватить за холку заждавшегося коня, но вдруг был озадачен бешеным вскоком его на дыбы и предупредительным криком всей испуганной публики. Молодой человек отступил и с недоумением посмотрел на дикую лошадь, которая вся дрожала, как лист, храпела от злости и дико поводила налившимися кровью глазами, поминутно оседая на задние ноги и приподымая передние, словно собираясь рвануться на воздух и унесть вместе с собою обоих вожатых своих. С минуту он стоял совсем озадаченный; потом, слегка покраснев от маленького замешательства, поднял глаза, обвел их кругом и поглядел на перепуганных дам.
– Конь очень хороший! – проговорил он как бы про себя, – и, судя по всему, на нем, должно быть, очень приятно ездить, но… но, знаете что? Ведь я-то не поеду, – заключил он, обращаясь к нашему хозяину с своей широкой, простодушной улыбкой, которая так шла к доброму и умному лицу его.
– И все-таки я вас считаю превосходным ездоком, клянусь вам, – отвечал обрадованный владетель недоступного коня, горячо и даже с благодарностью пожимая руку своего гостя, – именно за то, что вы с первого раза догадались, с каким зверем имеете дело, – прибавил он с достоинством. – Поверите ли мне, я, двадцать три года прослуживший в гусарах, уже три раза имел наслаждение лежать на земле по его милости, то есть ровно столько раз, сколько садился на этого… дармоеда. Танкред, друг мой, здесь не по тебе народ; видно, твой седок какой-нибудь Илья Муромец и сидит теперь сиднем в селе Карачарове да ждет, чтоб у тебя выпали зубы. Ну, уведите его! Полно ему людей пугать! Напрасно только выводили, – заключил он, самодовольно потирая руки.
Нужно заметить, что Танкред не приносил ему ни малейшей пользы, только даром хлеб ел; кроме того, старый гусар погубил на нем всю свою бывалую ремонтерскую славу, заплатив баснословную цену за негодного дармоеда, который выезжал разве только на своей красоте… Все-таки теперь был он в восторге, что его Танкред не уронил своего достоинства, спешил еще одного наездника и тем стяжал себе новые, бестолковые лавры.
– Как, вы не едете? – закричала блондинка, которой непременно нужно было, чтоб ее cavalier servant на этот раз был при ней, – неужели вы трусите?
– Ей-Богу же так! – отвечал молодой человек.
– И вы говорите серьезно?
– Послушайте, неужели ж вам хочется, чтоб я сломал себе шею?
– Так садитесь же скорее на мою лошадь: не бойтесь, она пресмирная. Мы не задержим; вмиг переседлают! Я попробую взять вашу; не может быть, чтоб Танкред всегда был такой неучтивый.
Сказано – сделано! Шалунья выпрыгнула из седла и договорила последнюю фразу, уже остановясь перед нами.
– Плохо ж вы знаете Танкреда, коли думаете, что он позволит оседлать себя вашим негодным седлом! Да и вас я не пущу сломать себе шею; это, право, было бы жалко! – проговорил наш хозяин, аффектируя, в эту минуту внутреннего довольства, по своей всегдашней привычке, и без того уже аффектированную и изученную резкость и даже грубость своей речи, что, по его мнению, рекомендовало добряка, старого служаку и особенно должно было нравиться дамам. Это была одна из его фантазий, его любимый, всем нам знакомый конек.
– Ну-тка ты, плакса, не хочешь ли попробовать? тебе же так хотелось ехать, – сказала храбрая наездница, заметив меня, и, поддразнивая, кивнула на Танкреда – собственно для того, чтоб не уходить ни с чем, коли уж даром пришлось встать с коня и не оставить меня без колючего словца, коли уж я сам оплошал, на глаза подвернулся.
– Ты, верно, не таков, как… ну, да что говорить, известный герой и постыдишься струсить; особенно когда на вас будут смотреть, прекрасный паж, – прибавила она, бегло взглянув на m‑me M*, экипаж которой был всех ближе от крыльца.
Ненависть и чувство мщения заливали мое сердце, когда прекрасная амазонка подошла к нам в намерении сесть на Танкреда… Но не могу рассказать, что ощутил я при этом неожиданном вызове школьницы. Я как будто света невзвидел, когда поймал ее взгляд на m‑me M*. Вмиг в голове у меня загорелась идея… да, впрочем, это был только миг, менее чем миг, как вспышка пороха, или уж переполнилась мера и я вдруг теперь возмутился всем воскресшим духом моим, да так, что мне вдруг захотелось срезать наповал всех врагов моих и отомстить им за все и при всех, показав теперь, каков я человек; или, наконец, каким-нибудь дивом научил меня кто-нибудь в это мгновение средней истории, в которой я до сих пор еще не знал ни аза, и в закружившейся голове моей замелькали турниры, паладины, герои, прекрасные дамы, слава и победители; послышались трубы герольдов, звуки шпаг, крики и плески толпы, и между всеми этими криками один робкий крик одного испуганного сердца, который нежит гордую душу слаще победы и славы, – уж не знаю, случился ли тогда весь этот вздор в голове моей, или, толковее, предчувствие этого, еще грядущего и неизбежного вздора, но только я услышал, что бьет мой час. Сердце мое вспрыгнуло, дрогнуло, и сам уж не помню, как в один прыжок соскочил я с крыльца и очутился подле Танкреда.
– А вы думаете, что я испугаюсь? – вскрикнул я дерзко и гордо, невзвидев света от своей горячки, задыхаясь от волнения и закрасневшись так, что слезы обожгли мне щеки. – А вот увидите! – И, схватившись за холку Танкреда, я стал ногой в стремя, прежде чем успели сделать малейшее движение, чтоб удержать меня; но в этот миг Танкред взвился на дыбы, взметнул головой, одним могучим скачком вырвался из рук остолбеневших конюхов и полетел, как вихрь, только все ахнули и вскрикнули.
Уж Бог знает, как удалось мне занесть другую ногу на всем лету; не постигаю также, каким образом случилось, что я не потерял поводов. Танкред вынес меня за решетчатые ворота, круто повернул направо и пустился мимо решетки зря, не разбирая дороги. Только в это мгновение расслышал я за собою крик пятидесяти голосов, и этот крик отдался в моем замирающем сердце таким чувством довольства и гордости, что я никогда не забуду этой сумасшедшей минуты моей детской жизни. Вся кровь мне хлынула в голову, оглушила меня и залила, задавила мой страх. Я себя не помнил. Действительно, как пришлось теперь вспомнить, во всем этом было как будто и впрямь что-то рыцарское.
Впрочем, все мое рыцарство началось и кончилось менее чем в миг, не то рыцарю было бы худо. Да и тут я не знаю, как спасся. Ездить-то верхом я умел: меня учили. Но мой клепер походил скорее на овцу, чем на верхового коня. Разумеется, я бы слетел с Танкреда, если б ему было только время сбросить меня; но, проскакав шагов пятьдесят, он вдруг испугался огромного камня, который лежал у дороги, и шарахнулся назад. Он повернул на лету, но так круто, как говорится, очертя голову, что мне и теперь задача: каким образом я не выпрыгнул из седла, как мячик, сажени на три, и не разбился вдребезги, а Танкред от такого крутого поворота не сплечил себе ног. Он бросился назад к воротам, яростно мотая головой, прядая из стороны в сторону, будто охмелевший от бешенства, взметывая ноги как попало на воздух и с каждым прыжком стрясая меня со спины, точно как будто на него вспрыгнул тигр и впился в его мясо зубами и когтями. Еще мгновение – и я бы слетел; я уже падал; но уже несколько всадников летело спасать меня. Двое из них перехватили дорогу в поле; двое других подскакали так близко, что чуть не раздавили мне ног, стиснув с обеих сторон Танкреда боками своих лошадей, и оба уже держали его за поводья. Через несколько секунд мы были у крыльца.
Меня сняли с коня, бледного, чуть дышавшего. Я весь дрожал, как былинка под ветром, так же как и Танкред, который стоял, упираясь всем телом назад, неподвижно, как будто врывшись копытами в землю, тяжело выпуская пламенное дыхание из красных, дымящихся ноздрей, весь дрожа, как лист, мелкой дрожью и словно остолбенев от оскорбления и злости за ненаказанную дерзость ребенка. Кругом меня раздавались крики смятения, удивления, испуга.
В эту минуту блуждавший взгляд мой встретился со взглядом m‑me M*, встревоженной, побледневшей, и – я не могу забыть этого мгновения – вмиг все лицо мое облилось румянцем, зарделось, загорелось, как огонь; я уж не знаю, что со мной сделалось, но, смущенный и испуганный собственным своим ощущением, я робко опустил глаза в землю. Но мой взгляд был замечен, пойман, украден у меня. Все глаза обратились к m‑me M*, и, застигнутая всеобщим вниманием врасплох, она вдруг сама, как дитя, закраснелась от какого-то противовольного и наивного чувства и через силу, хотя весьма неудачно, старалась подавить свою краску смехом…
Все это, если взглянуть со стороны, конечно, было очень смешно; но в это мгновение одна пренаивная и нежданная выходка спасла меня от всеобщего смеха, придав особый колорит всему приключению. Виновница всей суматохи, та, которая до сих пор была непримиримым врагом моим, прекрасная тиранка моя, вдруг бросилась ко мне обнимать и целовать меня. Она смотрела, не веря глазам своим, когда я осмелился принять ее вызов и поднять перчатку, которую она бросила мне, взглянув на m‑me M*. Она чуть не умерла за меня от страха и укоров совести, когда я летал на Танкреде; теперь же, когда все было кончено и особенно когда она поймала, весте с другими, мой взгляд, брошенный на m‑me M*, мое смущение, мою внезапную краску, когда, наконец, удалось ей придать этому мгновению, по романтическому настроению своей легкодумной головки, какую-то новую, потаенную, недосказанную мысль, – теперь, после всего этого, она пришла в такой восторг от моего «рыцарства», что бросилась ко мне и прижала меня к груди своей, растроганная, гордая за меня, радостная. Через минуту она подняла на всех толпившихся около нас обоих самое наивное, самое строгое личико, на котором дрожали и светились две маленькие, хрустальные слезинки, и серьезным, важным голоском, какого от нее никогда не слыхали, сказала, указав на меня: «Mais c’est très serieux, messieurs, ne riez pas!»[40] – не замечая того, что все стоят перед нею, как завороженные, залюбовавшись на ее светлый восторг. Все это неожиданное, быстрое движение ее, это серьезное личико, эта простодушная наивность, эти неподозреваемые до сих пор сердечные слезы, накипевшие в ее вечно смеющихся глазках, были в ней таким неожиданным дивом, что все стояли перед нею как будто наэлектризованные ее взглядом, скорым, огневым словом и жестом. Казалось, никто не мог свести с нее глаз, боясь опустить эту редкую минуту в ее вдохновенном лице. Даже сам хозяин наш покраснел, как тюльпан, и уверяют, будто бы слышали, как он потом признавался, что, «к стыду своему», чуть ли не целую минуту был влюблен в свою прекрасную гостью. Ну, уж разумеется, что после всего этого я был рыцарь, герой.
– Делорж! Тогенбург![41] – раздавалось кругом.
Послышались рукоплескания.
– Ай да грядущее поколение! – прибавил хозяин.
– Но он поедет, он непременно поедет с нами! – закричала красавица, – мы найдем и должны найти ему место. Он сядет рядом со мною, ко мне на колени… иль нет, нет! я ошиблась!.. – поправилась она, захохотав и будучи не в силах удержать своего смеха при воспоминании о нашем первом знакомстве. Но, хохоча, она нежно гладила мою руку, всеми силами старалась меня заласкать, чтоб я не обиделся.
– Непременно! непременно! – подхватили несколько голосов, – он должен ехать, он завоевал себе место. И мигом разрешилось дело. Та самая старая дева, которая познакомила меня с блондинкой, тотчас же была засыпана просьбами всей молодежи остаться дома и уступить мне свое место, на что и принуждена была согласиться, к своей величайшей досаде, улыбаясь и втихомолку шипя от злости. Ее протектриса, около которой витала она, мой бывший враг и недавний друг, кричала ей, уже галопируя на своем резвом коне и хохоча, как ребенок, что завидует ей и сама бы рада была с ней остаться, потому что сейчас будет дождь и нас всех перемочит.
И она точно напророчила дождь. Через час поднялся целый ливень, и прогулка наша пропала. Пришлось переждать несколько часов сряду в деревенских избах и возвращаться домой уже в десятом часу, в сырое, последождевое время. У меня началась маленькая лихорадка. В ту самую минуту, как надо было садиться и ехать, m‑me M* подошла ко мне и удивилась, что я в одной курточке и с открытой шеей. Я отвечал, что не успел захватить с собою плаща. Она взяла булавку и, зашпилив повыше сборчатый воротничок моей рубашки, сняла с своей шеи газовый пунцовый платочек и обвязала мне шею, чтоб я не простудил горло. Она так торопилась, что я даже не успел поблагодарить ее.
Но когда приехали домой, я отыскал ее в маленькой гостиной, вместе с блондинкой и бледнолицым молодым человеком, который стяжал сегодня славу наездника тем, что побоялся сесть на Танкреда. Я подошел благодарить и отдать платок. Но теперь, после всех моих приключений, мне было как будто чего-то совестно; мне скорее хотелось уйти наверх и там, на досуге, что-то обдумать и рассудить. Я был переполнен впечатлениями. Отдавая платок, я, как водится, покраснел до ушей.
– Бьюсь об заклад, что ему хотелось удержать платок у себя, – сказал молодой человек засмеявшись, – по глазам видно, что ему жаль расстаться с вашим платком.
– Именно, именно так! – подхватила блондинка. – Экой! ах!.. – проговорила она с приметной досадой и покачав головой, но остановилась во-время перед серьезным взглядом m‑me M*, которой не хотелось заводить далеко шутки.
Я поскорее отошел.
– Ну, какой же ты! – заговорила школьница, нагнав меня в другой комнате и дружески взяв за обе руки, – да ты бы просто не отдавал косынки, если тебе так хотелось иметь ее. Сказал, что где-нибудь положил, и дело с концом. Какой же ты! этого не умел сделать! Экой смешной!
И тут она слегка ударила меня пальцем по подбородку, засмеявшись тому, что я покраснел, как мак:
– Ведь я твой друг теперь, так ли? Кончена ли наша вражда, а? да или нет?
Я засмеялся и молча пожал ее пальчики.
– Ну, то-то же!.. Отчего ты так теперь бледен и дрожишь? У тебя озноб?
– Да, я нездоров.
– Ах, бедняжка! это у него от сильных впечатлений! Знаешь что? иди-ка лучше спать, не дожидаясь ужина, и за ночь пройдет. Пойдем.
Она отвела меня наверх, и казалось, уходам за мною не будет конца. Оставив меня раздеваться, она сбежала вниз, достала мне чаю и принесла его сама, когда уже я улегся. Она принесла мне тоже теплое одеяло. Меня очень поразили и растрогали все эти уходы и заботы обо мне, или уж я был так настроен целым днем, поездкой, лихорадкой; но, прощаясь с нею, я крепко и горячо ее обнял, как самого нежного, как самого близкого друга, и уж тут все впечатления разом прихлынули к моему ослабевшему сердцу; я чуть не плакал, прижавшись к груди ее. Она заметила мою впечатлительность, и, кажется, моя шалунья сама была немного тронута…
– Ты предобрый мальчик, – прошептала она, смотря на меня тихими глазками, – пожалуйста же, не сердись на меня, а? не будешь?
Словом, мы стали самыми нежными, самыми верными друзьями.
Было довольно рано, когда я проснулся, но солнце заливало уже ярким светом всю комнату. Я вскочил с постели, совершенно здоровый и бодрый, как будто и не бывало вчерашней лихорадки, вместо которой теперь ощущал я в себе неизъяснимую радость. Я вспомнил вчерашнее и почувствовал, что отдал бы целое счастье, если б мог в эту минуту обняться, как вчера, с моим новым другом, с белокурой нашей красавицей; но еще было очень рано и все спали. Наскоро одевшись, сошел я в сад, а оттуда в рощу. Я пробирался туда, где гуще зелень, где смолистее запах деревьев и куда веселее заглядывал солнечный луч, радуясь, что удалось там и сям пронизать мглистую густоту листьев. Было прекрасное утро.
Незаметно пробираясь все далее и далее, я вышел, наконец, на другой край рощи, к Москве-реке. Она текла шагов двести впереди, под горою. На противоположном берегу косили сено. Я засмотрелся, как целые ряды острых кос, с каждым взмахом косца, дружно обливались светом и потом вдруг опять исчезали, как огненные змейки, словно куда прятались; как срезанная с корня трава, густыми жирными грудками отлетала в стороны и укладывалась в прямые, длинные борозды. Уж не помню, сколько времени провел я в созерцании, как вдруг очнулся, расслышав в роще, шагах от меня в двадцати, в просеке, которая пролегала от большой дороги к господскому дому, храп и нетерпеливый топот коня, рывшего копытом землю. Не знаю, заслышал ли я этого коня тотчас же, как подъехал и остановился всадник, или уж долго мне слышался шум, но только напрасно щекотал мне ухо, бессильный оторвать меня от моих мечтаний. С любопытством вошел я в рощу и, пройдя несколько шагов, услышал голоса, говорившие скоро, но тихо. Я подошел еще ближе, бережно раздвинул последние ветви последних кустов, окаймлявших просеку, и тотчас же отпрянул назад в изумлении: в глазах моих мелькнуло белое знакомое платье, и тихий женский голос отдался в моем сердце как музыка. Это была m‑me M*. Она стояла возле всадника, который торопливо говорил ей с лошади, и, к моему удивлению, я узнал в нем Н‑го, того молодого человека, который уехал от нас еще вчера поутру и о котором так хлопотал m‑r М*. Но тогда говорили, что он уезжает куда-то очень далеко, на юг России, а потому я очень удивился, увидев его опять у нас так рано и одного с m‑me M*.
Она была одушевлена и взволнована, как никогда еще я не видал ее, и на щеках ее светились слезы. Молодой человек держал ее за руку, которую целовал, нагибаясь с седла. Я застал уже минуту прощанья. Кажется, они торопились. Наконец, он вынул из кармана запечатанный пакет, отдал его m‑me M*, обнял ее одною рукою, как и прежде, не сходя с лошади, и поцеловал крепко и долго. Мгновение спустя он ударил коня и промчался мимо меня, как стрела. M‑me M* несколько секунд провожала его глазами, потом задумчиво и уныло направилась к дому. Но, сделав несколько шагов по просеке, вдруг как будто очнулась, торопливо раздвинула кусты и пошла через рощу.
Я пошел вслед за нею, смятенный и удивленный всем тем, что увидел. Сердце мое билось крепко, как от испуга. Я был как оцепенелый, как отуманенный; мысли мои были разбиты и рассеяны; но помню, что было мне отчего-то ужасно грустно. Изредка мелькало передо мною сквозь зелень ее белое платье. Машинально следовал я за нею, не упуская ее из вида, но трепеща, чтоб она меня не заметила. Наконец, она вышла на дорожку, которая вела в сад. Переждав с полминуты, вышел и я; но каково же было мое изумление, когда вдруг заметил я на красном песке дорожки запечатанный пакет, который узнал с первого взгляда, – тот самый, который десять минут назад был вручен m‑me M*.
Я поднял его: со всех сторон белая бумага, никакой надписи, на взгляд – небольшой, но тугой и тяжелый, как будто в нем было листа три и более почтовой бумаги.
Что значит этот пакет? Без сомнения, им объяснилась бы вся эта тайна. Может быть, в нем досказано было то, чего не надеялся высказать Н‑ой за короткостью торопливого свидания. Он даже не сходил с лошади… Торопился ли он, или, может быть, боялся изменить себе в час прощания, – Бог знает…
Я остановился, не выходя на дорожку, бросил на нее пакет на самое видное место и не спускал с него глаз, полагая, что m‑me M* заметит потерю, воротится, будет искать. Но, прождав минуты четыре, я не выдержал, поднял опять свою находку, положил в карман и пустился догонять m‑me M*. Я настиг ее уже в саду, в большой аллее; она шла прямо домой, скорой и торопливой походкой, но задумавшись и потупив глаза в землю. Я не знал, что делать. Подойти, отдать? Это значило сказать, что я знаю все, видел все. Я изменил бы себе с первого слова. И как я буду смотреть на нее? Как она будет смотреть на меня?.. Я все ожидал, что она опомнится, хватится потерянного, воротится по следам своим. Тогда бы я мог, незамеченный, бросить пакет на дорогу, и она бы нашла его. Но нет! Мы уже подходили к дому; ее уже заметили…
В это утро, как нарочно, почти все поднялись очень рано, потому что еще вчера, вследствие неудавшейся поездки, задумали новую, о которой я и не знал. Все готовились к отъезду и завтракали на террасе. Я переждал минут десять, чтоб не видели меня с m‑me M*, и, обойдя сад, вышел к дому с другой стороны, гораздо после нее. Она ходила взад и вперед по террасе, бледная и встревоженная, скрестив на груди руки и, по всему было видно, крепясь и усиливаясь подавить в себе мучительную, отчаянную тоску, которая так и вычитывалась в ее глазах, в ее ходьбе, во всяком движении. Иногда сходила она со ступенек и проходила несколько шагов между клумбами по направлению к саду; глаза ее нетерпеливо, жадно, даже неосторожно искали чего-то на песке дорожек и на полу террасы. Не было сомнения: она хватилась потери и, кажется, думает, что обронила пакет где-нибудь здесь, около дома, – да, это так, и она в этом уверена!
Кто-то, а затем и другие, заметили, что она бледна и встревожена. Посыпались вопросы о здоровье, досадные сетования; она должна была отшучиваться, смеяться, казаться веселою. Изредка взглядывала она на мужа, который стоял в конце террасы, разговаривая с двумя дамами, и та же дрожь, то же смущение, как и тогда, в первый вечер приезда его, охватывали бедную. Засунув руку в карман и крепко держа в ней пакет, я стоял поодаль от всех, моля судьбу, чтоб m‑me M* меня заметила. Мне хотелось ободрить, успокоить ее, хоть бы только взглядом; сказать ей что-нибудь мельком, украдкой. Но когда она случайно взглянула на меня, я вздрогнул и потупил глаза.
Я видел ее мучения и не ошибся. Я до сих пор не знаю этой тайны, ничего не знаю, кроме того, что сам видел и что сейчас рассказал. Эта связь, может быть, не такова, как о ней предположить можно с первого взгляда. Может быть, этот поцелуй был прощальный, может быть, он был последнею, слабой наградой за жертву, которая была принесена ее спокойствию и чести. Н‑ой уезжал; он оставлял ее, может быть, навсегда. Наконец, даже письмо это, которое я держал в руках, – кто знает, что оно заключало? Как судить и кому осуждать? А между тем, в этом нет сомнения, внезапное обнаружение тайны было бы ужасом, громовым ударом в ее жизни. Я еще помню лицо ее в ту минуту: нельзя было больше страдать. Чувствовать, знать, быть уверенной, ждать как казни, что через четверть часа, через минуту могло быть обнаружено все; пакет кем-нибудь найден, поднят; он без надписи, его могут вскрыть, а тогда… что тогда? Какая казнь ужаснее той, которая ее ожидает? Она ходила между будущих судей своих. Через минуту их улыбавшиеся, льстивые лица будут грозны и неумолимы. Она прочтет насмешку, злость и ледяное презрение на этих лицах, а потом настанет вечная, безрассветная ночь в ее жизни… Да, я тогда не понимал всего этого так, как теперь об этом думаю. Мог я только подозревать и предчувствовать да болеть сердцем за ее опасность, которую даже не совсем сознавал. Но что бы ни заключалось в ее тайне, – теми скорбными минутами, которых я был свидетелем и которых никогда не забуду, было искуплено многое, если только нужно было что-нибудь искупить.
Но вот раздался веселый призыв к отъезду; все радостно засуетились; со всех сторон раздался резвый говор и смех. Через две минуты терраса опустела. M‑me M* отказалась от поездки, сознавшись, наконец, что она нездорова. Но, слава Богу, все отправились, все торопились, и докучать сетованиями, расспросами и советами было некогда. Немногие оставались дома. Муж сказал ей несколько слов; она отвечала, что сегодня же будет здорова, чтоб он не беспокоился, что ложиться ей не для чего, что она пойдет в сад, одна… со мною… Тут она взглянула на меня. Ничего не могло быть счастливее! Я покраснел от радости; через минуту мы были в дороге.
Она пошла по тем самым аллеям, дорожкам и тропинкам, по которым недавно возвращалась из рощи, инстинктивно припоминая свой прежний путь, неподвижно смотря перед собой, не отрывая глаз от земли, ища на ней, не отвечая мне, может быть забыв, что я иду вместе с нею.
Но когда мы дошли почти до того места, где я поднял письмо и где кончалась дорожка, m‑me M* вдруг остановилась и слабым, замиравшим от тоски голосом сказала, что ей хуже, что она пойдет домой. Но, дойдя до решетки сада, она остановилась опять, подумала с минуту; улыбка отчаяния показалась на губах ее, и, вся обессиленная, измученная, решившись на все, покорившись всему, она молча воротилась на первый путь, в этот раз позабыв даже предупредить меня…
Я разрывался от тоски и не знал, что делать.
Мы пошли, или, лучше сказать, я привел ее к тому месту, с которого услышал, час назад, топот коня и их разговор. Тут, вблизи густого вяза, была скамья, иссеченная в огромном цельном камне, вокруг которого обвивался плющ и росли полевой жасмин и шиповник. (Вся эта рощица была усеяна мостиками, беседками, гротами и тому подобными сюрпризами.) M‑me M* села на скамейку, бессознательно взглянув на дивный пейзаж, расстилавшийся перед нами. Через минуту она развернула книгу и неподвижно приковалась к ней, не перелистывая страниц, не читая, почти не сознавая, что делает. Было уже половина десятого. Солнце взошло высоко и пышно плыло над нами по синему, глубокому небу, казалось, расплавляясь в собственном огне своем. Косари ушли уже далеко; их едва было видно с нашего берега. За ними неотвязчиво ползли бесконечные борозды скошенной травы, и изредка чуть шевелившийся ветерок веял на нас ее благовонной испариной. Кругом стоял неумолкаемый концерт тех, которые «не жнут и не сеют», а своевольны, как воздух, рассекаемый их резвыми крыльями. Казалось, что в это мгновение каждый цветок, последняя былинка, курясь жертвенным ароматом, говорила создавшему ее: «Отец! я блаженна и счастлива!..»
Я взглянул на бедную женщину, которая одна была как мертвец среди всей этой радостной жизни: на ресницах ее неподвижно остановились две крупные слезы, вытравленные острою болью из сердца. В моей власти было оживить и осчастливить это бедное, замиравшее сердце, и я только не знал, как приступить к тому, как сделать первый шаг. Я мучился. Сто раз порывался я подойти к ней, и каждый раз какое-то невозбранное чувство приковывало меня на месте, и каждый раз как огонь горело лицо мое.
Вдруг одна светлая мысль озарила меня. Средство было найдено; я воскрес.
– Хотите, я вам букет нарву! – сказал я таким радостным голосом, что m‑me M* вдруг подняла голову и пристально посмотрела на меня.
– Принеси, – проговорила она, наконец, слабым голосом, чуть-чуть улыбнувшись и тотчас же опять опустив глаза в книгу.
– А то и здесь, пожалуй, скосят траву и не будет цветов! – закричал я, весело пускаясь в поход.
Скоро я набрал мой букет, простой, бедный. Его бы стыдно было внести в комнату; но как весело билось мое сердце, когда я собирал и вязал его! Шиповнику и полевого жасмина взял я еще на месте. Я знал, что недалеко есть нива с дозревавшею рожью. Туда я сбегал за васильками. Я перемешал их с длинными колосьями ржи, выбрав самые золотые и тучные. Тут же, недалеко, попалось мне целое гнездо незабудок, и букет мой уже начинал пополняться. Далее, в поле, нашлись синие колокольчики и полевая гвоздика, а за водяными, желтыми лилиями сбегал я на самое прибрежье реки. Наконец, уже возвращаясь на место и зайдя на миг в рощу, чтоб промыслить несколько ярко-зеленых, лапчатых листьев клена и обернуть ими букет, я случайно набрел на целое семейство анютиных глазок, вблизи которых, на мое счастье, ароматный фиалковый запах обличал в сочной, густой траве притаившийся цветок, еще весь обсыпанный блестящими каплями росы. Букет был готов. Я перевязал его длинной, тонкой травой, которую свил в бечеву, и во внутрь осторожно вложил письмо, прикрыв его цветами, но так, что его очень можно было заметить, если хоть маленьким вниманием подарят мой букет.
Я понес его к m‑me M*.
Дорогой показалось мне, что письмо лежит слишком на виду: я побольше прикрыл его. Подойдя еще ближе, я вдвинул его еще плотнее в цветы и, наконец, уже почти дойдя до места, вдруг сунул его так глубоко во внутрь букета, что уже ничего не было приметно снаружи. На щеках моих горело целое пламя. Мне хотелось закрыть руками лицо и тотчас бежать, но она взглянула на мои цветы так, как будто совсем позабыла, что я пошел набирать их. Машинально, почти не глядя, протянула она руку и взяла мой подарок, но тотчас же положила его на скамью, как будто я затем и передавал ей его, и снова опустила глаза в книгу, точно была в забытьи. Я готов был плакать от неудачи. «Но только б мой букет был возле нее, – думал я, – только бы она о нем не забыла!» Я лег неподалеку на траву, положил под голову правую руку и закрыл глаза, будто меня одолевал сон. Но я не спускал с нее глаз и ждал…
Прошло минут десять; мне показалось, что она все больше и больше бледнела… Вдруг благословенный случай пришел мне на помощь.
Это была большая золотая пчела, которую принес добрый ветерок мне на счастье. Она пожужжала сперва над моей головою и потом подлетела к m‑me M*. Та отмахнулась было рукою один и другой раз, но пчела, будто нарочно, становилась все неотвязчивее. Наконец, m‑me M* схватила мой букет и махнула им перед собою. В этот миг пакет вырвался из-под цветов и упал прямо в раскрытую книгу. Я вздрогнул. Некоторое время m‑me M* смотрела, немая от изумления, то на пакет, то на цветы, которые держала в руках, и, казалось не верила глазам своим… Вдруг она покраснела, вспыхнула и взглянула на меня. Но я уже перехватил ее взгляд и крепко закрыл глаза, притворяясь спящим; ни за что в мире я бы не взглянул теперь ей прямо в лицо. Сердце мое замирало и билось, словно пташка, попавшая в лапки кудрявого, деревенского мальчугана. Не помню, сколько времени пролежал я, закрыв глаза: минуты две-три. Наконец, я осмелился их открыть. M‑me M* жадно читала письмо, и, по разгоревшимся ее щекам, по сверкавшему, слезящемуся взгляду, по светлому лицу, в котором каждая черточка трепетала от радостного ощущения, я догадался, что счастье было в этом письме и что развеяна, как дым, вся тоска ее. Мучительно-сладкое чувство присосалось к моему сердцу, тяжело было мне притворяться…
Никогда не забуду я этой минуты!
Вдруг, еще далеко от нас, послышались голоса:
– Madame M*! Natalie! Natalie!
M‑me M* не отвечала, но быстро поднялась со скамьи, подошла ко мне и наклонилась надо мною. Я чувствовал, что она смотрит мне прямо в лицо. Ресницы мои задрожали, но я удержался и не открыл глаз. Я старался дышать ровнее и спокойнее, но сердце задушало меня своими смятенными ударами. Горячее дыхание ее палило мои щеки; она близко-близко нагнулась к лицу моему, словно испытывая его. Наконец, поцелуй и слезы упали на мою руку, на ту, которая лежала у меня на груди. И два раза она поцеловала ее.
– Natalie! Natalie! где ты? – послышалось снова уже очень близко от нас.
– Сейчас! – проговорила m‑me M* своим густым, серебристым голосом, но заглушенным и дрожавшим от слез, и так тихо, что только я один мог слышать ее, – сейчас!
Но в этот миг сердце, наконец, изменило мне и, казалось, выслало всю свою кровь мне в лицо. В тот же миг скорый, горячий поцелуй обжег мои губы. Я слабо вскрикнул, открыл глаза, но тотчас же на них упал вчерашний газовый платочек ее, – как будто она хотела закрыть меня от солнца. Мгновение спустя ее уже не было. Я расслышал только шелест торопливо удалявшихся шагов. Я был один.
Я сорвал с себя ее косынку и целовал ее, не помня себя от восторга; несколько минут я был как безумный!.. Едва переводя дух, облокотясь на траву, глядел я бессознательно и неподвижно перед собою, на окрестные холмы, пестревшие нивами, на реку, извилисто обтекавшую их, и далеко, как только мог следить глаз, вьющуюся между новыми холмами и селами, мелькавшими, как точки, по всей, залитой светом, дали, – на синие, чуть видневшиеся леса, как будто курившиеся на краю раскаленного неба, и какое-то сладкое затишье, будто навеянное торжественною тишиною картины, мало-помалу смирило мое возмущенное сердце. Мне стало легче, и я вздохнул свободнее… Но вся душа моя как-то глухо и сладко томилась, будто прозрением чего-то, будто каким-то предчувствием. Что-то робко и радостно отгадывалось испуганным сердцем моим, слегка трепетавшим от ожидания… И вдруг грудь моя заколебалась, заныла словно от чего-то пронзившего ее, и слезы, сладкие слезы брызнули из глаз моих. Я закрыл руками лицо и, весь трепеща, как былинка, невозбранно отдался первому сознанию и откровению сердца, первому, еще неясному прозрению природы моей… Первое детство мое кончилось с этим мгновением…………………………………………………………………
Когда, через два часа, я воротился домой, то не нашел уже m‑me M*: она уехала с мужем в Москву, по какому-то внезапному случаю. Я уже никогда более не встречался с нею.
Сноски
1
Впервые опубликовано в декабрьской книжке «Отечественных записок» за 1848 г. с посвящением поэту А. Н. Плещееву.
(обратно)2
Эпиграф взят из стихотворения И. С. Тургенева «Цветок» (1843). Стихи приведены не совсем точно. У Тургенева:
Знать, он был создан для того, Чтоб побыть одно мгновенье В соседстве сердца твоего. (обратно)3
…цвет поднебесной империи. – Имеется в виду желтый цвет. Национальным флагом Китая («Поднебесной империи») до 1912 г. было изображение дракона на желтом фоне.
(обратно)4
Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776–1822) – видный представитель немецкого романтизма. В его произведениях («Элексир дьявола», «Крошка Цахес» и др.) жизнь всегда предстает как единство фантастического и реального.
(обратно)5
Варфоломеевская ночь. – 24 августа 1572 г. в ночь под праздник св. Варфоломея в Париже произошло массовое избиение гугенотов католиками. Это событие отражено в историческом романе Проспера Мериме «Хроника времен Карла IX». Далее названы персонажи популярных в России романов знаменитого английского писателя Вальтера Скотта (1771–1832) – Диана Вернон («Роб-Рой»), Клара Мовбрай («Сен-Ронанские воды»), Евфия Денс («Эдинбургская темница»).
(обратно)6
…собор прелатов и Гус перед ними. – Ян Гус (1369–1415) – великий чешский патриот, выступавший за создание независимой от католичества национальной церкви, вдохновитель национально-освободительного движения против немецких феодалов. В 1415 г. в Констанце церковный собор приговорил Гуса к сожжению на костре после отказа его отречься от «ереси».
(обратно)7
…восстание мертвецов в Роберте. – «Роберт-Дьявол» – опера французского композитора Мейербера (1791–1864). Затем упоминаются произведения романтической поэзии: «Мина» (из Гете) – стихотворение В. А. Жуковского (1783–1852), и «Бренда» – баллада И. И. Козлова (1779–1840).
(обратно)8
…чтение поэмы у графини В‑й‑Д‑й. – Речь идет о салоне Александры Кирилловны Воронцовой-Дашковой (1818–1856).
(обратно)9
Дантон Жорж Жак (1759–1794) – видный деятель французской буржуазной революции конца XVIII века.
(обратно)10
Клеопатра ei suoi amanti – тема, предложенная импровизатору в повести Пушкина «Египетские ночи» (1835).
(обратно)11
…домик в Коломне – из стихотворной повести Пушкина «Домик в Коломне» (1830).
(обратно)12
Ивангое – роман Вальтера Скотта «Айвенго».
(обратно)13
…ветер «сухой и острый»… – Неточная цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Перед дождем».
(обратно)14
…этого своего нещечка… – Нещечко (обл.) – здесь: сокровище, любимое существо.
(обратно)15
…задать «экстрафеферу»… – От нем. extra – особый и Pfeffer – перец, т. е. распечь, дать взбучку.
(обратно)16
…во время вакаций… – Вакации (лат. от vacatio – освобождение) – каникулы.
(обратно)17
…сиверкое ноябрьское утро… – Сиверкое (обл.) – здесь холодное с сыростью.
(обратно)18
– Ох, дети, дети, как опасны ваши лета. – Слегка измененное начало басни И. И. Дмитриева «Петух, Кот и Мышонок».
(обратно)19
…щеночка…меделянского… – меделянские собаки – порода догов.
(обратно)20
…выдержать на фербанте… – на фербанте (нем. Verbannung – изгнание, ссылка) – на расстоянии.
(обратно)21
О, все мы эгоисты, Карамазов! – Намек на теорию разумного эгоизма, развитую Н. Г. Чернышевским в романе «Что делать?».
(обратно)22
…в рекреационное время… – Рекреация (лат. – буквально: восстановление) – перемена, промежуток между уроками.
(обратно)23
…выменял ему на книжку… – Речь идет о книге: Родственник Магомета, или Целительное дурачество. Сочинение нравственное с приобщением гравированных фигур. Ч. I‑П. Перевод с французского. М., 1785.
(обратно)24
непременное условие (лат.).
(обратно)25
– Классические языки… это полицейская мера… – Насаждение классических языков в гимназиях реакционным министром народного просвещения Д. А. Толстым (1823–1889) было продиктовано желанием оторвать учащуюся молодежь от растущего революционного движения. Вопрос о реальном и классическом образовании широко обсуждался в печати 1860–1870‑х гг.
(обратно)26
…можно ведь и не веруя в Бога любить человечество …Вольтер же не веровал в Бога, а любил человечество? – Перифраза слов В. Г. Белинского в «Письме к Н. В. Гоголю».
(обратно)27
… Я, впрочем, «Кандида» читал… – «Кандид, или Оптимизм» – философская повесть Вольтера, высмеивающая философию оптимизма английского просветителя А. Попа (1688–1744) и немецкого философа Г.-В. Лейбница (1646–1716).
(обратно)28
– Я социалист, Карамазов, я неисправимый социалист… – Коля повторяет слова А. И. Герцена из «Письма к императору Александру Второму», напечатанного в «Полярной звезде на 1855 г.», кн. 1, стр. 11–14.
(обратно)29
…христианская вера послужила лишь богатым и знатным… – Здесь и далее в репликах Коли звучат отголоски слов В. Г. Белинского из «Письма к Н. В. Гоголю».
(обратно)30
…место о Татьяне, зачем она не пошла с Онегиным, я читал. – Имеется в виду статья девятая о «Сочинениях Александра Пушкина» В. Г. Белинского.
(обратно)31
Дело женщины – вязанье (фр.).
(обратно)32
… в лапки Третьего отделения и брать уроки у Цепного моста… – III отделение собственной его императорского величества канцелярии с 1838 г. помещалось в Петербурге у Цепного моста (ныне мост Пестеля), Фонтанка, 16.
(обратно)33
Первая часть стихотворения «Послания» («Из Петербурга в Москву»), напечатанного в «Полярной звезде на 1861 г.», кн. 6, стр. 214. Вторая часть стихотворения (а не его начало) – «Из Москвы в Петербург» – была напечатана в № 221 «Колокола» от 1 июня 1866 г., стр. 1812.
(обратно)34
…один этот нумер «Колокола»… – «Колокол» – революционная газета А. И. Герцена и Н. П. Огарева, в 1857–1867 гг. печатавшаяся за границей и нелегально распространявшаяся в России.
(обратно)35
Сиракузы – это в Сицилии… – Город Сиракузы расположен на юго-восточном побережье острова Сицилия.
(обратно)36
…Аще забуду тебе, Иерусалиме… – Псалом 136, стр. 5–6.
(обратно)37
Впервые опубликовано в августовской книжке «Отечественных записок» за 1857 г. под псевдонимом М‑ий.
(обратно)38
…прирожденных… Фальстафов. – Фальстаф – известный герой Шекспира («Хроника короля Генриха IV», «Виндзорские кумушки»). Достоевский имеет здесь в виду его отрицательные черты – безделье, плутовство, обжорство, трусость.
(обратно)39
услужливому кавалеру (фр.).
(обратно)40
Но это очень серьезно, господа, не смейтесь! (фр.)
(обратно)41
Делорж! Тогенбург! – Рыцарь Делорж – из стихотворения Шиллера «Перчатка», рыцарь Тогенбург – герой одноименной баллады Шиллера.
(обратно)

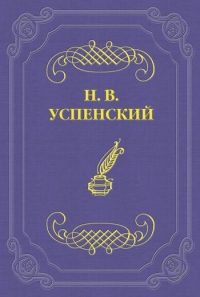



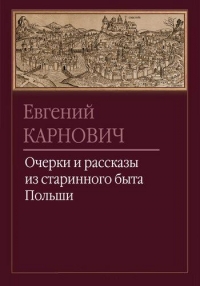


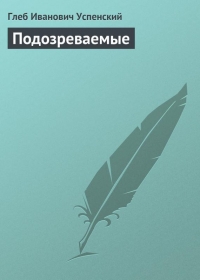


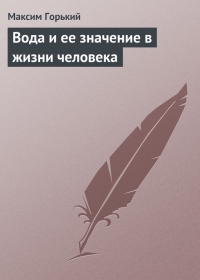
Комментарии к книге «Детям (сборник)», Федор Михайлович Достоевский
Всего 0 комментариев