Николай Петрович Вагнер Кардыган
Посвящается Я. П. Полонскому
I
Вставай, мой сладенький, мое ядрышко писаное, рисованое. Вставай духом. К заутрене звонят.
– Сейчас, няня, сейчас! – говорил ядрышко рисованое. И весь тянется и хочет раскрыть глаза, а они точно медом намазаны. Никак их не разожмешь…
И няня натягивает чулочки ядрышку рисованому, а ядрышко все-таки не может раскрыть глаз.
– Мы, няня, к Покрову пойдем? – спрашивает он.
– К Покрову, моя веточка, мое яблочко наливное. Там и батюшка такой ласковый, и певчие так хорошо, согласно поют, точно ангельское пение.
И ягодку, наконец, подняли с постели, умыли, одели и пошла с ним нянька в церковь. Пошла она с черного хода, потому что парадный еще заперт, и швейцар, седой Власыч, еще спит – старый хрен.
От утреннего холодку мальчик весь продрог. Ведут его, ковыляет он, ковыляет больной ножкой, бредет по снегу через силу – худенький, маленький, больной, мозглявый – в чем душа держится.
Отстояли заутреню. Домой уж как-то скорее и бодрее идется. И ноги не скользят, и дрожь куда делась.
Пришли и снова повалились спать.
– До утра-то еще долго. Сосни, моя ясочка. Дай я сниму с тебя платьице и ботиночки…
– Я так, няня… в платье…
– Как можно в платье! Все помнешь, в пуху вываляешь… Давай, я духом сниму, херувим мой радостный…
– Зачем же, няня, ты меня херувимом зовешь? Херувимы, ведь, на небе.
– Ну, это я так… от избытка сердца… мой ангельчик… Ведь всякое дитя малое – тот же херувим, ангел-хранитель не отходит от него, а как уснет младенец-то, он его душеньку к себе берет, в обители божьи. Там страсть хорошо. Сады неописанные… цветы райские, птички сладкогласные.
– Няня! вот бы туда попасть!..
– Попадешь, хороший мой… младенец радостный.
И мальчика раздели и снова уложили в постель… Прилегла и няня, позевывая, крестясь и приговаривая: Господи Иисусе Христе, помилуй нас грешных!
Через четверть часа няня всхрапывает самым блаженным образом, и мальчик не будит ее, но и заснуть не может. Все он думает: как там будет хорошо в небесных райских садах! Там будет и свет, и радость. И учиться не надо. Играй себе день-деньской. И все время без конца будет там и светло и тепло… А какое же солнце там будет светить?..
На этом вопросе он зевнул и заснул.
II
Настало позднее утро, и весь дом начал подниматься на ноги. Проснулись дворники, кучера, повара и поваренки, лакеи и камеристки. Проснулись гувернер и гувернантка. Все проснулось, только в разное время. И все ходит на цыпочках и шепчется, потому что спит еще она, сама барыня, ее сиятельство, княгиня.
Гувернантка пришла в детскую. Няня давно уже встала, своего «радостного» разбудила и принарядила. Шелковые волосики ему расчесала и напомадила.
Гувернантка ведет Книпочку в столовую, куда через полчаса выходит мама.
Лицо ее такое свежее, моложавое, точно у молоденькой девушки. И так она мило одета, вся в легком, эфирном, даже не по сезону.
– Et bien, mon petit, bonjour! (ну, малютка, здравствуй),– говорит она, подставляя ему для поцелуя розовую, надушенную щеку, и пристально смотрит в большие серые глаза Книпа своими прелестными голубыми глазами.
– Он по утрам всегда ужасно бледен! – обращается она к гувернантке по-французски… – и глаза красны.
– Еще бы! – отвечает гувернантка. – Каждое утро его старая бонна таскает к заутрене…
– Д-да! – говорит мама задумчиво. – Но это необходимо, мадмуазель, необходимо… Это укрепляет дух… Не так часто разумеется…
Мама подает Книпу сдобную булочку из сухарницы. Эту булочку тихо, шепотом выпросил у нее Книп.
И снова она смотрит, пристально смотрит на Книпа.
«Если бы ты был покрасивее, – думает она, – о! как бы я была счастлива». И она задумчиво разглаживает его шелковистые волосы.
А Книп с таким наслаждением убирает булочку. Он ничего не ел с самого раннего утра. У него такой волчий аппетит.
В столовую приходит гувернер, добродушный и молчаливый немец. Приходит и русский учитель, студент третьего курса, который выглядит совсем еще юношей. Обязанность всех троих – и гувернантки, и гувернера, и учителя – учить, наставлять, просвещать маленького Книпа, единственного сына старинной княжеской фамилии.
Для Книпа отведены целых три комнаты и зала, кроме его детской спальни. В одной комнате классная, в другой физический или химический музей-кабинет, разумеется, детский; в третьей – гимнастика. В зале можно просто бегать. Но в том-то и беда, что Книп не может бегать. Он коротыш, у него одна нога короче другой.
К Книпу, аккуратно через день, ездят два доктора. Один лечит всего Книпа разными декоктами и микстурами и противным рыбьим жиром, а другой лечит только ему ногу, специально одну его больную ногу. И так его лечат с самых ранних лет, все лечат, лечат, а вылечить не могут.
III
И вдруг, в один тихий, морозный вечер, Книп очутился на улице. Точно тот сказочный принц, который превратился в нищего. Исчез пышный дом-дворец, исчезли музеи и залы, исчезли доктора, учителя, гувернеры и гувернантки – все исчезло, даже старая добрая няня, и очутился Книп в бобровой шубке и такой же шапке один на улице.
Случилось это очень просто.
У Книпа не было отца. Он умер. К маме в гости ездили разные важные, нарядные дамы, барыни и кавалеры, баронессы, княгини и графини, графы, князья и звездатые генералы. Но маме из всех гостей понравился один барон Герценштейнбург. У него было очень красивое лицо, прекрасные черные, блестящие глаза и большая черная борода. Откуда явился барон и даже был ли действительно он барон – этого никто не знал и куда вдруг исчез, тоже никто не знал. Но только он исчез не один, а вместе с мамой Книпа. Говорят, что он увез ее в Германию или Италию, а может быть и в Америку, но перед самым отъездом он поехал покататься с маленьким Книпом. Он завез его куда-то далеко, высадил в одной дрянной, кривой улочке, около забора, сказал ему, чтобы он немного подождал, что он сейчас же вернется, только купит пряников – и исчез.
Улочка была темная. Фонари в ней горели, но ничего не освещали. Когда скрылись санки барона и его быстроногий рысак, когда морозная, глухая пустота и темнота со всех сторон охватили Книпа, он крепко испугался. Маленькое сердце его сжалось, он дрожал от страха и прислонился к заборчику. Где-то в стороне залаяла собака.
«Должно быть, большая и страшная, – подумал Книп, – прибежит и съест меня».
Прошло с четверть часа; но Книпу показалось, что прошло по крайней мере часа два. Мороз начал щипать его ноги, хотя на них и были надеты теплые бархатные сапоги. Он плакал и подпрыгивал, стоя около забора. Вдруг он услыхал, что кто-то идет. В дали длинной улочки показались два человека. Они бойко, молча шли прямо к Книпу. Снег скрипел под их ногами. Они прошли близко возле Книпа, остановились и обернулись.
Оба были рослые, здоровые молодцы.
Один из них вдруг молча подошел к Книпу и снял с него шапку, так что Книп остался только в одних ваточных наушниках.
Между тем другой молодец расстегнул бобровую шубку Книпа, приподнял ее за воротник, вместе с Книпом, встряхнул и вытряхнул из нее Книпа, как из мешка. Книп упал на тротуар и ушиб больно руку и плечо; при этом он вздернул обе свои ножки кверху. Молодец быстро нагнулся и стащил с них бархатные сапожки.
Все это случилось в несколько мгновений. Молодцы быстро удалились, припрятывая на ходу и шубку, и шапку, и сапоги, и только в конце улицы раздался их громкий, веселый хохот.
Книп не чувствовал ни холода, ни боли. Ему, напротив, было жарко; однако он весь дрожал, но не плакал. Он был почти готов лишиться чувств.
Опять в конце улицы показался человек и опять заскрипел тротуар. Человек шел прямо к Книпу.
IV
Человек громадный, высокий, головастый, в длинном нагольном тулупе и огромной шапке, подошел к Книпу и наклонился к нему.
– Ты что здесь валяешься, паренек? А?.. Аль кто изобидел тебя? – спросил человек грубым, но добрым, ласковым басом.
Книп заплакал.
– Меня… бббросили… меня ограбили… и шубку сняли и… и… шапку сняли… и сапожки стащили…
– С ребенка-то!.. Эко нехристи!.. Ах, ты малыш, малыш!.. Да как ты здесь-то очутился?
– Меня… бббарон… барон привез… говорит, говорит… подожди, говорит, здесь… и уехал… бросил…
Человек поставил его на ноги. Но Книп не мог стоять и повалился на мерзлый тротуар.
– Что? Аль ножку пришиб… Ах, ты, малыш, малыш болезный!..
И человек взял Книпа на руки, развязал кушак, распахнул тулуп, бережно закутал мальчика в тулуп и подвязал кушак потуже.
– Как же зовут тебя? – спросил человек, широко шагая по тротуару: – где ты проживаешь?..
– Книпочкой меня зовут, а живу я на большой улице…
– Как, Книпочкой?.. На какой улице?.. Имя не христианское. А улицы не знаешь?
– Не знаю я улицы, а зовут меня Никанором… Это мама и няня зовут меня Книпочкой.
– Никанор – это я понимаю. Это имя христианское… А как ты прозываешься? Фамилия-то твоя какая?
– Фамилия… моя князь Гогржайский-Несеялов…
– Как… как? Кокшайский Несялов?.. И фамилий этаких нет… Видно, Несялов… Несялов, что ли, прозываешься?
– Дда!.. Несеялов… – едва выговорил Книп.
– Ну, ладно… Это мы завтра отыщем, а теперь уже поздно, пойдем ко мне ночевать.
Книп горько заплакал. «Куда это меня опять понесут от моей доброй няни и мамы?» – думал он сквозь слезы.
Впрочем, в последнее время мама о нем мало заботилась и даже не видала по целым дням.
V
Книп долго плакал, но плакал потихоньку, слегка охал и стонал; всего более раздражал и беспокоил его этот отвратительный запах овчины, эта вонь от прокислого тулупа и от пота человека, который нес его.
Он выставлял голову на морозный воздух, и этот воздух освежал его. А внутри его все словно скрипело и дрожало. Впрочем, может быть, это был скрип тяжелых шагов громадного человека, который нес Книпа с одной окраины города на другую, в небольшой домишко; но в этом домишке был подвальный этажик, и в нем большой человек нанимал маленькую каморочку, – маленькую комнатку с крошечным окном над самой землей.
Человек этот был просто работник, мастеровой на большом заводе, на котором ковали и отливали разные железные и чугунные вещи. Звали его Васильем Васильевичем; под этим именем он был записан в конторских книгах завода, а все, кто знал его, звали Кардыганом. Кто-то в шутку, под веселую руку, прозвал его Кардыганом, и это прозвище так плотно прилипло к нему, что даже никто не сомневался, чтобы было у него какое-нибудь другое имя.
Та сторона города, где жил Кардыган, была самая бедная, а домишко, в котором он жил, можно было считать просто дворцом в сравнении с низенькими, кривыми, полуразвалившимися лачугами, которые его окружали. Зато Кардыгана и считало все рабочее и даже чиновное население аристократом, который обязан был помогать своим меньшим братиям. Чуть у кого-нибудь случится какая-нибудь беда, он тотчас идет к Кардыгану.
И Кардыган помогал, чем мог.
Эта помощь всем и каждому заставила даже предполагать, что Кардыган владеет какими-то таинственными богатствами, и даже один раз, в глухую осеннюю ночь, на каморку Кардыгана было сделано нашествие. Двое оборванцев вздумали поживиться таинственным богатством.
Они влезли через оконце к Кардигану, но тут же об их посещении дал знать скворушка, добрый друг Кардыгана, который качался в клетке как раз перед самым оконцем.
Скворушка заорал благим матом и разбудил другого друга – Шарика, который спал вместе с Кардыганом. Шарик вскочил и разразился таким отчаянным лаем, что Кардыган проснулся.
Он притиснул одной рукой Шарика, так что тот завизжал, и стал ждать.
Гости тоже подождали немного и влезли, один с ножом, другой с топором. Тот, который был с топором, бросился прямо к постели Кардыгана и из всех сил рубанул, как казалось ему, по голове, но на самом деле рубанул он только полушубок, который Кардыган подсунул вместо головы, а сам, в тот же миг, бросился стремглав обоим ворам под ноги, свалил обоих, одного притиснул, другого сцапал за шиворот и обоих так давнул, что у них кости затрещали. Затем, не торопясь, связал их вместе по рукам и выволок, как добрые кули, на улицу.
– Кардыган Васильич!..– простонал один из воров, весь дрожа, как в лихорадке. – Смилуйся… пусти… Пра, есть было нечего… отощали.
– Коли тебе, озорнику, есть было нечего, так что ж ты не пришел, каторжный, ко мне, не попросил?.. А вы вот что: с топором да с ножом на меня! Ладно!
И обоих Кардыган стащил в часть и сдал дежурному. Только их и видели: засадили, засудили и в Сибирь угнали.
VI
Принес Кардыган Книпа к себе в каморку, вытащил его из большой шубы, точно щеночка маленького, и поставил на кирпичный пол.
– Ну! вот мы и дома, касатик махонький! – сказал он и зажег сальный огарок. – Ты теперь немножко походи, ласточка, ножки разомни, а то они, чай, затекли у тебя.
Книп хотел пройтись, но едва не упал. Его шатало из стороны в сторону, голова кружилась и страшно болела; тут только заметил Кардыган, что у Книпа одна ножка короче другой.
– А!? Да ты ковыляшка! – удивился он. – Болезный ты мой!.. Эко горе! Господи!.. Кыш вы, чего прилезли! – закричал он на Шарика и на кота Серку.
Они оба тотчас же изъявили желание познакомиться с Книпом. Шарик обнюхал его, поставил ему передние лапы на плечи и, махая хвостом, лизнул его чуть не в самые губы; а кот Серко, большой, толстый и такой же большеголовый, как и сам Кардыган, весь изогнулся в дугу, поднял хвост торчком кверху и так усердно толкал и терся около Книпа, что тот едва держался на своих слабых ножонках, но в то же время, нервно смеясь сквозь слезы, нагнулся к коту и начал его ласкать. Он очень любил кошек.
– Ты, мое дитятко, прозяб, чай? – допрашивал Кардыган Книпа. – Може чайку хочешь? Я сейчас самоварчик поставлю. У меня, ведь, есть и самоварчик, и чашечки есть… Все есть у Кардыгана… Сейчас, духом сготовлю.
И Кардыган, действительно, все духом изготовил. Не торопясь, не спеша, но как-то удивительно толково и расторопно все он обрядил. Не прошло и полчаса, как перед его кроватью, которая состояла из трех досок на трех здоровых чурбаках, на маленьком столике забурлил и зашумел ярко-вычищенный самоварчик.
Книп с удовольствием выпил чайку из потрескавшейся и поломанной большой чашки без ручки. После страшной передряги, которая на него обрушилась, как снег на голову, он чувствовал себя почти вполне спокойным у ласкового Кардыгана, подле его друзей, которые спали тут же, на той же кровати, на которой он теперь сидел, при чем один друг, большеголовый Серко, мурлыкал сквозь сон на всю каморку так громко, добродушно и любовно.
Напоив гостя чаем, Кардыган устроил ему маленькую постель на старом ящике подле печки.
Книп ворочался на своей жесткой постельке и утешался только тем, что это ненадолго. Завтра же все переменится, все опять будет по-старому: он опять увидит и добрую няню и маму.
Он начал уже как будто засыпать впотьмах ночи, как будто голова его меньше кружилась и болела, и вдруг сквозь тихое похрапывание Кардыгана он услышал явственный резкий шорох – тут же у себя, за печкой. Шорох этот, точно тихое журчанье, разливался по всей комнате. Книп привстал, взглянул на стол и, несмотря на темноту, ясно увидел, что по этому столу что-то бегало, двигалось, возилось, что-то чернело на белой столешнице.
«Тараканы! Черные тараканы!» – подумал с ужасом Книп и сердце его опять сжалось. Он страшно боялся черных тараканов, а они также были друзьями Кардыгана и постоянными его нахлебниками.
VII
На другой день, как ни упрашивал со слезами Книп Кардыгана пойти отыскивать маму и няню, Кардыган положительно отказался.
– Нельзя, болезный мой! Ни-ни, никак нельзя. А вот я отпрошусь отпустить меня на завтра, до полудня, и внесу за это штраф на заводе. Завтра мы пойдем и отыщем, непременно отыщем, и твою маму, и твою няню… А что, разве я не гожусь тебе в няни?.. Ха! ха! ха!.. Я вот тоже передник надену и голову платочком повяжу.
Книп невольно сквозь слезы улыбнулся, представляя себе громадную курчавую голову Кардыгана, повязанную платочком.
Уходя, Кардыган купил Книпу полкриночки молока, пирог, калач и говяжьего студня, а возвратясь вечером, опять напоил его чаем.
На другой день они отправились вместе в часть, где узнали, что мама Книпа уехала за границу и что все ее имение опечатали и будут продавать за долги, которых она оставила гораздо больше, чем было у нее имения.
Книп со слезами вернулся опять с Кардыганом в его каморку.
– А ты не плачь, сердечный мой, не плачь! – утешал его Кардыган. – Ну, что за беда такая? Ну! будем жить вместе, век вековать – горе коротать. Не плачь, моя сиротиночка болезная!
Но Книп забился в угол за печкой и горько плакал там два часа. Наконец, выплакал горе и вышел. Шарик начал прыгать около него и радостно ворчать и лаять. Серко подбежал ласкаться. Но Книп не обращал на них внимания. Он уселся на скамейке перед столом и машинально начал разводить по столу небольшую лужу от кваса.
– Я вот что сделаю, – говорил он сквозь слезы Кардыгану, – я буду жить с тобой, и буду все молиться, все молиться… чтобы бог меня взял к себе… потому что здесь… здесь… у тебя жить очень нехорошо… Вонь… тараканы… А бог возьмет меня к себе… У него райский сад… там живут невинные ангельчики… Я буду играть с ними, и вместе с ними петь хвалу богу и делам его… Я знаю… я верю… я скоро… скоро… скоро умру.
Книп громко зарыдал и упал головой на стол.
– А ты не плачь! Послушай, моя малиновка, – сказал Кардыган, потрепывая своей широкой, мозолистой, обожженной лапой Книпа по плечу… – Я вот что тебе скажу… Хочешь ли работать?.. Я сведу тебя завтра на завод, поглядишь ты там, как мы стараемся, а потом мы пойдем с тобой к Федору Васильичу. Здесь живет, на пришпехте, переплетчик такой, хороший человек… Хошь и немец, а по-русски ладно говорит, и жена у него русская, Марья Андреевна. Вот куда я тебя, моя ласточка, пристрою…
На другой день повел он его на завод, в мастерские. Там Книпочка увидал разные чудеса, каких у себя дома никогда не видал. Там была чудовищная машина, которая сама громадные винты и болты выделывала. Двигалась она паром и так бойко вертелись в ней колеса, рычажки и валики, что некоторых нельзя было даже приметить.
– Вот, касатик, – толковал ему Кардыган, – вишь… премудрость… и все это смастерил человек. Теперь ты припомни это: весь, значит, мир, к примеру сказать, вертится словно машина, и в этом миру все ладно и все на своем месте, как в машине… Вот мы с тобой: я, например, этакая шестерня или валик, а ты крохотный, махонький, малюсенький винтик… Каждая вещь должна быть в миру на своем месте и кажинный человек свое дело сполнять должен так, чтобы всем, как есть всем, было лучше жить на сем свете… А ты захотел прямо в райские сады!.. Ах, ты, ковыляшечка любезная!.. Нет уж, пойдем к Федору Васильичу. Там у него тоже машина, только другая. Авось, там тебе и дело, и хлеб найдем.
Вот вечерком и сходили они к Федору Васильичу; там было несколько мальчиков, и между ними один хромой, такой же, как Книп.
И точно, взял к себе Книпа Федор Васильич, отвел ему маленький уголок и принялся Книп клеить, мастерить, книжки переплетать. Не прошло и полгода, не успел он оглянуться, как стал таким искусником, что далее сам Федор Васильич дивился.
– Ну! – говорит, – кабы у тебя была сила, то ты бы стал совсем мастером. Ловкий да догадливый, просто настоящий хозяин.
Об одном только горевал Федор Васильич: редкую книгу Книп не пересмотрел, а в особенности если попадется с картинками. Тут уж Книп обедать не пойдет, пока книгу всю не выглядит, всю вдоль и поперек, от корки до корки, благо сам же он и приделает к ней эти корки.
VIII
Кардыган считал себя винтиком или даже шестерней в мировой машине. Если он в какой-нибудь день не работал на заводе, то вертелся как добрая шестерня среди других винтиков, которым и помогал этим.
Были на его попечении и старая тетка Матвеевна, и слепой Клим и много разных старух убогих и бедняков бездомных.
Но всего больше было детей, и вот среди этих малых отдыхал Кардыган.
Он играл с ними в лапту и в городки, устраивал им лодочки из старых башмаков, и каждое воскресенье целая ватага маленьких голов, «таракашек запечных» и «клопиков сердечных», окружала и теребила Кардыгана.
– Это диво! – говорили степенные люди. – Гляди-кось! Этакий верзила с детьми малыми болтается… Вот уж подлинно черт с младенцем связался!
Каждую весну и осень Кардыгану было хлопот не мало. Вода приносила прибрежным жителям и помощь, и горе. Как только показывались первые льдинки, наставал настоящий праздник для всех тех, у кого были свои лодочки или, просто, душегубки. Все они отправлялись ловить, что сносила река в море. Тут плыли бревна, жердняк; порой проносился, бог знает, откуда утащенный плотик; один раз приплыла даже двухспальная кровать. Но всего больше несло всяких чурбанов, бакланов и поленьев. Вот эти-то поленья и составляли главный предмет охоты, давая возможность запастись дровешками на осень и зиму.
Если река благодетельствовала поморянам, то самое море приносило им горе, в особенности тем, которые жили на самом берегу. Все они чуть не каждую ночь, при ветре с моря, дрожали за свою жизнь и за жизнь близких своих. Когда ревела буря и хлестал дождь в окошечки, то никто не ложился спать, а все поминутно выбегали смотреть – где море? не подошло ли оно уж близко, не пора ли спасаться?
Правду сказать, спасаться приходилось не часто. Проходило несколько лет: поморяне жили спокойно; но вдруг выдавался год «неблагополучный». Сердитое море прикатывало к самым лачужкам, смывало и уносило из них все, что могло унести, и даже самую лачужку, если она была плохо пришита к земле.
Сколько раздавалось стонов и проливалось слез в эти несчастные годы – и сказать нельзя!
Правда, можно бы было и не селиться здесь, возле моря; да беда в том, что земля-то здесь была дешевая, а от воды, авось, бог спасет!
IX
Лачужки, что стояли на берегу, были в полуверсте от моря, и весь берег представлял топи, трясины, лужи и заливчики.
Один раз, ранним утром, Кардыган бродил по этому берегу, пробираясь по тропиночкам между трясинами и заливчиками. Вдруг он увидал – вдали чернеет что-то большое, как будто лодка. Он пошел к этому черному «чему-то», но ему пришлось исколесить чуть не две версты. Действительно, он увидал лодку, громадную лодку, которую зовут «морской лодкой» или ботиком.
Кардыган ухватил лодку за высокий нос своими геркулесовыми руками и поволок.
Несколько раз ему приходилось опускаться на землю возле лодки и сидеть, пыхтя и отдуваясь, минут 10—15, а иной раз так и целых полчаса. Только тогда, когда совсем уже рассвело, он дотащил лодку до дому.
Некоторые хотели непременно с Кардыгана магарыч стащить за богатую находку, но ошиблись в расчете. Кардыган нахлобучил шапку и ушел на завод.
К вечеру он вернулся и нашел у себя Книпа.
– Ты что, сердечный, пожаловал?
Но Книп сидел возле печки и горько плакал.
– Аль кто обидел тебя? А?
Книп ничего не отвечал.
Кардыган зажег свечку. Поласкал и Шарика, и Серку. Поставил самоварчик и стал Книпа чаем потчивать.
Книп подсел к Кардыгану, потрогал чашку, побарабанил по столу.
– Кардыган! – сказал он.
– Что, мой родненький?
– Скучно мне, Кардыган!
– Скучно тебе? Что ты, Христос с тобой.
Книп опять заплакал, припал на стол и плакал горько, навзрыд.
– Ах, ты, болезная ковыляшечка! Глянько-сь, горе какое!.. Заскучал!.. Или кто тебя обидел?
– Никто… никто… меня не обижает… Только жить мне скучно. – И Книп еще сильнее зарыдал.
Кардыган разинул рот и пристально посмотрел на Книпа..
– Вон, – прошептал он, – горестный какой! Помилуй, господи?.. Как же так?! Отчего тебе скучно, сиротинка моя?! Никто не обижает, работа есть… Подико-сь сюда, сядь со мной рядком, потолкуем ладком…
Он усадил Книпа подле себя и обнял его…
– А я те вот про себя расскажу… Потерял в мамку мою, и было мне, малышу, очень скучно и горестно… Родился я далеко отсюда, в сибирской сторонке. Пешком до Питера дошел. Здесь на чужой чужбине много горя принял… И понял я, наконец, уразумел, что наградил меня господь силищей затем, чтобы я другим, немощным и убогим, помогал. И как стал я им помогать, то куда как мне весело стало!.. Прежде я все о себе думал, а теперь давным-давно совсем перестал о себе думать… как есть совсем. – Понял, касаточка моя?! Уразумел?.. Коли ты будешь думать только о том, чтобы твоей душеньке было весело в мире сем, то будет тебе всегда скучно. Нет, моя цыпушка, ты думай только о том, чтобы всем и каждому было весело жить, тогда и тебе будет весело. Так-то родненький.
Книп глубоко задумался.
Он остался ночевать у Кардыгана. Не спалось ему ночью. Но не тараканы мешали ему спать: думал он глубокую думу, и только на рассвете заснул со слезами радости, совершенно спокойный и довольный, заснул с твердой верой, что он будет стараться изо всех сил, чтобы всем окружающим его было весело жить.
X
Прошел год. Настала снова осень – тоскливое, ненастное время, и принесла она горе горемычным поморянам.
Ветер дул с моря, злился и крепчал с каждым днем и часом. Вода поднималась мутная, грозная, сердитая. Она хлестала волнами, пенилась, шумела. В ней слышался и звериный рев, и шипение ехидного змея.
Вся детвора поднялась с восходом солнца и с криком и визгом высыпала на улицу. Все пищали и голосили, заглушая рев моря. Всех обдавало пеной и брызгами, всем было весело. А старшие возились, укладывались и горевали… Те, у кого были лодочки и душегубки, подъехали на них чуть не к самым лачужкам и грузили в них весь свой скарб. У каждого было свое горе и свои хлопоты.
Лодочек было немного; большинство наваливало на себя ношу через силу и тащило к ближним или дальним соседям, до которых вода не добралась еще.
Но не прошло и часа, как волны ворвались во дворы и нижние этажи. Крик и возня усилились. Все бросали с плачем все, что осталось и, захватив детей, бежали к соседям. Но вскоре и бежать стало некуда.
Море теперь угрожало со всех сторон. Оно грозило уже не лачугам, не имению – оно добиралось до самих поморян. В крайней лачужке к заливчику жила вдова, прачка Матрена. У ней было пятеро ребят, мал мала меньше. Вода уже потопила самую лачугу, и плескала по полу. Все ребятки собрались вокруг мамы и уселись на постели. Мама плакала и молилась богу. А вода поднималась все выше и выше. Спасения неоткуда было ждать. Бедная Матрена совсем уже собралась умереть. Она плотно обхватила, прижала к себе дорогих ребяточек, а одного, меньшого Ванюшку, посадила к себе на шею.
«До него, мол, не скоро доберется вода, до моего Ванюшки… Пущай меня сперва затопит»…
И в то самое время, когда вода уже подходила к самой кровати, когда все, бледные и дрожащие притихли, вдруг среди рева бури раздался страшный стук в окно, стекла посыпались, лачужка задрожала, и в окне появился нос морского ботика, – который битком был набит разными горемыками, ребятками и детворой.
Всех их привез Кардыган. Живо усадил он в ботик и полумертвую Матрену с Ванюшей, и ее ребяток и повел лодку дальше.
Целый час маялся Кардыган, спасая тех, которых он усадил в свой морской бот. Он был весь мокрый. Холодный ветер ревел и обдавал его дождем и сыростью, волны обливали его с ног до головы; брызги моря летели ему в лицо. Море стонало и злилось; оно злилось потому, что Кардыган отнимал у него верную его добычу.
Кардыган вел свою лодку и с ужасом чувствовал, что сил у него уж немного осталось, что ноги и руки его дрожат, ослабели.
Можно было бы и ему самому спастись в свой ковчег; но куда же он влезет, такая громадина! Пожалуй, и весь ботик пойдет ко дну. Он и не чувствовал, как ноги его незаметно погружались, увязали в почве. Хотел он вытащить одну, не пускает, «засосало проклятое болото»! Хотел вытащить другую – еще хуже.
И понял Кардыганушка, что нет спасения; что если бы он зацепился и приналег на край бота, то бот зачерпнул бы воды и потонул бы наверно. Понял Кардыган, что море победило, что не одолеть ему, не осилить; что его час пришел. Собрал он последние силы, оттолкнул бот, и море захлестнуло, затопило его…
Долго ботик носило по волнам, но он плыл по реке выше и выше и, наконец, пристал к берегу. Все спаслись, вылезли, мокрые, холодные, но по крайней мере спасли свои душеньки…
XI
С тех пор прошло много, много лет. Книп снова стал князем Никанором Дмитриевичем Гогржайским-Несеяловым. Он получил богатое наследство от дяди и часть поместий от матери. Он стал толстеньким, коротеньким человеком на коротенькой ножке и женился на богатой красавице.
Когда он вышел из училища, где воспитывался с разными графами и князьями, то непременно хотел быть таким же добрым, как Кардыган и так же помогать бедным. Он радовался, что стал опять богат, и думал все свое богатство обратить на помощь бедным поморянам. Но все эти добрые намерения как-то не выгорали, так что Книп, наконец, был рад и тому, что ему удалось учредить большое «Общество для вспоможения бедным поморянам». Общество это существует и до сих пор, а когда они перестанут быть бедными – этого никто не может сказать.
О Кардыгане он вспоминает редко. Но когда приведется ему рассказывать на своих великолепных вечерах о «спасительном Кардыгане», то он не может говорить о нем без слез. Только обыкновенно гости не верят его рассказам.
– Ну, батюшка мой, – говорят они, – вы нам сказки рассказываете про сказочного богатыря, про Илью Муромца.
– Где же вы нынче найдете таких людей? – говорят другие, – нынче свет не таков.
И тут начинаются длинные споры о вреде и пользе таких людей, о любви к ближнему, о том, о другом, о пятом, о десятом. И наконец, часу во втором или в третьем, наспорившись досыта, наужинавшись тоже досыта, все разъезжаются по домам, вполне довольные и собой, и судьбой, и тем, что вечер не пропал даром: наговорились всласть!


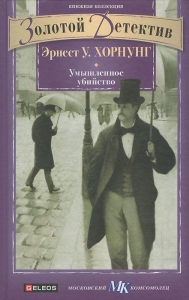
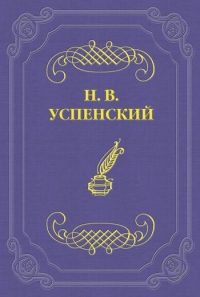
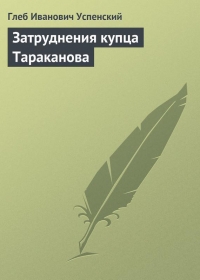




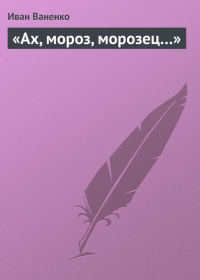

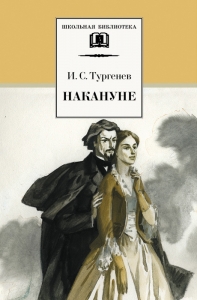

Комментарии к книге «Кардыган», Николай Петрович Вагнер
Всего 0 комментариев