Дмитрий Васильевич Аверкиев Вилльям Шекспир. Статья I
La crainte du gênie est le
commencement du goùt.
Victor Hugo.I. Г. Гервинусъ о Шекспирѣ
Нечего искать у нѣмцевъ правды.
Пѣсня о Любушиномъ Судѣ.Извѣстное сочиненiе Гервинуса «Шекспиръ» переводится въ настоящее время на русскiй языкъ г. Тимофеевымъ. Покуда вышелъ первый томъ.
Книга Гервинуса, безъ сомнѣнiя, книга весьма почтенная и для нашей критики, которую нельзя обвинить въ глубокомъ знанiи и пониманiи Шекспира, даже весьма полезная. На безлюдьи и Ѳома дворянинъ.
Если бы мы желали пѣть въ унисонъ съ нашей многоученой литературой, то мы бы ограничились восторженными похвалами сочиненiю Гервинуса, даже и ту общеизвѣстную истину, что Шекспиръ великiй поэтъ, подтвердили бы цитатой изъ его почтенной книги, – къ несчастiю, мы полагаемъ, что русская мысль имѣетъ право на самостоятельность и потому отнесемся къ труду многоученаго професора критически.
Для лучшаго опредѣленiя значенiя книги Гервинуса постараемся отыскать исходную точку его разсужденiй. Гервинусъ принадлежитъ къ числу нѣмцевъ недовольныхъ туманной германской философiей; къ числу нѣмцевъ толкующихъ о практической дѣятельности и по всѣмъ вѣроятiямъ онъ состоитъ членомъ безчисленныхъ National-Verein'овъ. Онъ осуждаетъ тѣхъ, кто смотритъ на Шекспира съ философской точки зрѣнiя.
«По моему взгляду на вещи» – говоритъ онъ, "мнѣ кажется, что наша философская метода разсматриванiя неумѣстна, неудобопримѣнима къ поэтическимъ произведенiямъ такого времени, коего собственная философiя доискивалась истины любымъ путемъ, нежели наша, – неудобопримѣнима къ произведенiямъ поэта, обладавшаго трезво-здравымъ смысломъ (стало быть философiя имъ необладаетъ), поэта, которому глазъ и ухо служили единственными (будто единственными?) лоцманами и рулевыми въ изученiи мiра и жизни, поэта, который обладая въ высшей степени философскимъ глубокомыслiемъ, отстоялъ отъ философiи еще дальше, нежели Гете" (стр. 41).
Мысль, выраженная довольно кудревато, – но въ сущности весьма скудная и ведущая къ разнообразнымъ курьезамъ. Смѣшно возвращаться назадъ, забыть успѣхъ человѣческаго мышленiя; странно въ XIX вѣкѣ требовать, чтобы смотрѣли на искуство глазами Бэкона. А въ сущности вѣдь именно этого и желаетъ въ данномъ случаѣ Гервинусъ.
Быть строгимъ послѣдователемъ бэконовой системы философiи въ наше время, значитъ быть воплощеннымъ анахронизмомъ; просто дѣло невозможное. И Гервинусъ, конечно, не могъ совладать съ нимъ вполнѣ; онъ ограничился проведенiемъ паралели между Бэкономъ и Шекспиромъ.
Однако, успѣшно ли онъ выполнилъ хоть это? Отчасти да; въ общемъ нѣтъ. Онъ указалъ сродство Шекспира съ Бэкономъ (въ IV томѣ), особенно по отношенiю обоихъ къ древности; указалъ на ихъ сродство съ римскимъ духомъ, это сродство съ большею точностiю и остроумiемъ проведено Куно-Фишеромъ въ его сочиненiи о Бэконѣ. Но дѣло въ томъ, что Куно-Фишеръ не остановился на этомъ и въ первомъ томѣ своей исторiи "Новой Философiи" провелъ генiальную паралель между мiровоззрѣнiями Шекспира и Спинозы (см. стр. 250–255 русскаго перевода).
Вотъ что говоритъ Куно-Фишеръ о сродствѣ Шекспира и Бэкона[1].
«Поэтъ и историкъ», думаетъ Бэконъ, даютъ намъ изображенiя характеровъ; этикъ долженъ брать не эти изображенiя, но только ихъ очерки (Umrisse): простыя черты, опредѣляющiя человѣческiй характеръ. Какъ физика должна разсѣкать тѣла, чтобы открывать ихъ скрытыя свойства и части, – такъ этика должна проникать въ различныя настроенiя души и открывать ихъ тайныя расположенiя и основы. Бэконъ хочетъ, чтобы этика обнимала не только внутреннiя основы, но также и внѣшнiя условiя, отпечатываемыя человѣческими характерами; всѣ тѣ особенности, которыя сообщаются душѣ поломъ, возрастомъ, родиной, тѣлосложенiемъ, образованiемъ, счастливыми обстоятельствами и т. д." Словомъ, онъ хочетъ, чтобы человѣка разсматривали въ его индивидуальности: какъ произведенiе природы и исторiи, совершенно опредѣляемое естественными и историческими влiянiями, внутренними основами и внѣшними дѣйствiями. Точно также понималъ человѣка и его судьбу Шекспиръ: онъ смотрѣлъ на характеръ какъ на произведенiе извѣстной натуры и извѣстнаго историческаго положенiя, и на судьбу, какъ на произведенiе извѣстнаго характера. Какъ интересовали Бэкона подобныя изображенiя характеровъ доказываетъ то, что онъ самъ пытался дѣлать ихъ. Рѣзкими чертами нарисовалъ онъ характеръ Юлiя Цезаря, и сдѣлалъ бѣглый очеркъ характера Августа (Imago civilis Iulii Caesaris Im. civ. Aug. Caes). Оба изображены имъ въ томъ же духѣ, какъ и Шекспиромъ. Онъ видѣлъ въ Цезарѣ соединенiе всего, по благородству и величiю, по образованiю и побужденiю, что произвелъ римскiй духъ; онъ разсматривалъ этотъ характеръ, какъ величайшiй и страшнѣйшiй, какой только могъ быть въ римскомъ мiрѣ. И что служитъ всегда при анализѣ характера повѣркой вычисленiю, – Бэконъ объяснилъ характеръ Цезаря такъ, что вмѣстѣ объясняетъ его судьбу. Онъ видѣлъ, какъ Шекспиръ, что у Цезаря было тяготѣнiе къ монархическому чувству собственнаго достоинства, которое царило надъ его великими способностями, равно какъ и надъ ихъ уклоненiями; черезъ что онъ дѣлался опаснымъ республикѣ и слѣпымъ относительно своихъ враговъ. «Онъ хотѣлъ быть», говоритъ Бэконъ, «не великимъ между великими, но повелителемъ между послушными». Его собственное величiе до того ослѣпляло его, что онъ не зналъ болѣе опасности. Это тотъ же Цезарь, котораго Шекспиръ заставляетъ говорить:
Извѣстно Опасности, что онъ (Цезарь) ея опаснѣй. Мы съ ней два льва: въ одинъ родились день. Но только я и старше, и грознѣе[2].Когда наконецъ Бэконъ видитъ судьбу Цезаря въ томъ, что онъ прощалъ своихъ враговъ для того, чтобы этимъ великодушiемъ обезсилить ихъ число, – то рисуетъ намъ также человѣка, который возвышаетъ выраженiе своего величiя на счетъ своей безопасности.
Очень характеристично, что Бэконъ между человѣческими страстями на первомъ планѣ ставитъ честолюбiе, а властолюбiе и любовь причисляетъ къ нисшимъ. Она ему столь же чужда, какъ и лирическая поэзiя. Но въ одномъ случаѣ придавалъ онъ ей трагическое значенiе. И именно на этомъ случаѣ основалъ Шекспиръ свою трагедiю. «Великiя души и великiя предприятiя», думаетъ Бэконъ, "не совмѣстны съ этой нисшей страстью, которая является въ человѣческой жизни то какъ сирена, то какъ фурiя. Однако, прибавляетъ онъ, «Маркъ Антонiй представляетъ въ этомъ отношенiи исключенiе». И дѣйствительно, о Клеопатрѣ, какъ ея изобразилъ Шекспиръ, можно положительно сказать, что она, по отношенiю къ Антонiю, была одновременно и сиреной, и фурiей".
Но съ этой ли точки зрѣнiя смотритъ Гервинусъ на Шекспира. Вѣренъ ли онъ бэконовскому воззрѣнiю на поэзiю?
Отвѣтъ будетъ болѣе, чѣмъ на половину, отрицательный. Гервинусъ прибавляетъ много своего, чисто нѣмецкаго и притомъ филистерски-нѣмецкаго; это не строгое, вѣрное себѣ и богатое результатами воззрѣнiе Бэкона, а часто воззрѣнiе самаго обыденнаго моралиста. Смѣшно, конечно, говорить о безнравственности Шекспира, – но едва ли не комичнѣе отыскиванiе въ Шекспирѣ узкихъ мѣщанскихъ понятiй о нравственности.
Видѣть въ смерти Дездемоны воздаянiе за то, что она вышла за мавра противъ воли родителей – мысль пошлая и съ христiанской точки въ высшей степени безнравственная (сего ради оставитъ человѣкъ отца своего и матерь свою), – а къ ней именно приводитъ Гервинуса желанiе опровергнуть тѣхъ, которые полагаютъ, "что духовная высота неразлучна съ вольнодумствомъ и свободными нравами".
Удивительно! Шекспиръ проповѣдующiй мѣщанскую мораль! Такое практическое отношенiе къ Шекспиру, по истинѣ, изумительно.
«Что за человѣкъ былъ бы Шекспиръ, – говоритъ Куно Фишеръ, – если бы онъ напримѣръ дѣйствительно создалъ въ Ромео и Юлiи трагедiю любви, для того, чтобы показать, какъ гибельна можетъ быть эта страсть, когда она переходитъ надлѣжащую мѣру, и что поэтому должно беречься въ подобномъ случаѣ вести дѣло дальше, чѣмъ слѣдуетъ? Если бы такъ, то онъ съ фантазiею величайшаго поэта соединялъ бы умъ обыкновеннаго (обыденнаго, дюжиннаго) нравоучителя, а подобное соединенiе не могло быть возможнымъ. Дѣлать шекспировскихъ героевъ отвѣтственными за ихъ страсти было бы дѣйствительно столь же умно, какъ еслибы кто вздумалъ сказать облакамъ: у васъ не должно быть такъ много электричества, чтобы вы не бросали такихъ большихъ электрическихъ искръ, такихъ губительныхъ ударовъ; потомучто вѣдь вы же видите, что своею молнiею вы легко зажигаете наши дома; поэтому и держитесь въ надлежащихъ границахъ (И. Н. Ф. Т. I, 252)».
Этими именно словами можно отвѣчать Гервинусу на его излишнюю заботливость о нравственности; заботливость, доходящую до того, что онъ не безъ паѳоса восклицаетъ: "какъ много лишняго щекотанья чувственности[3] устранялось (въ шекспировское время) и отъ зрителей, и отъ актеровъ только тѣмъ обстоятельствомъ, что на сценѣ не было женщинъ. Какъ облѣгчало это для зрителей и для актеровъ заботу о сущности искуства" (стр. 163).
Послѣ этого такъ и ждешь, что г. Гервинусъ станетъ сожалѣть, что женскiя роли въ операхъ исполняютъ женщины, а не кастраты, какъ это бывало въ доброе старое время.
Это подкладыванiе нравственныхъ сентенцiй подъ шекспировскiе характеры, это непониманiе жизни, вселюбящей и порою иронической, это умышленное тяготѣнiе къ выводу нравоученiй, – безъ сомнѣнiя сильно препятствуетъ Гервинусу взглянуть Шекспиру прямо въ глаза, спутываетъ его понятiя и доводитъ его иногда до скопческаго мiровоззрѣнiя.
И это бэконовская философiя? И это требованiе Бэкона, чтобы люди и ихъ страсти изображались живьемъ, "em ad ivum"?[4].
У Гервинуса есть этотъ "страхъ генiя", la crainte du gènie, который по Гюго составляетъ начало вкуса. Пародируя Фейербаха, мы прибавимъ: "но не конецъ его".
Въ самомъ дѣлѣ, во всей книгѣ многоученаго професора замѣчается, что уваженiе къ Шекпиру не родилось въ груди автора, что это не живое, органическое чувство, а прошлое, завѣщанное преданiемъ. Гервинусъ зналъ напередъ, что Шекспиръ великiй поэтъ; онъ на слово повѣрилъ этому, онъ не почуялъ этого и не увѣровалъ въ Шекспира. Въ немъ мало любви къ поэту, на изученiе котораго онъ посвятилъ много лѣтъ и «изъясняя котораго, извлекалъ для себя благороднѣйшiя наслажденiя». Оттого этотъ сдержанный, и даже сухой тонъ; это подъ-часъ утомительное изложенiе. Онъ не любитъ Шекспира душой, всѣмъ сердцемъ и всѣмъ помышленiемъ; онъ хладнокровно изучаетъ его, какъ нѣчто весьма интересное, «etwas höchst interessantes». Въ его книгѣ много дѣльнаго краснорѣчiя, много прекрасныхъ замѣчанiй, и ни одного племеннаго, задушевнаго слова.
Ищите морали въ Шекспирѣ и вы, какъ нѣкiй (впрочемъ, очень талантливый) русскiй поэтъ, придете къ заключенiю, что Шекспиръ въ лицѣ Ричарда III казнилъ тиранство, и въ порывѣ обличенiя воскликните: "Яго живъ, да будетъ намъ чуждо коварство", или что нибудь въ этомъ родѣ.
У Гервинуса нѣтъ живаго образа Шекспира; и потому странно объясняетъ онъ отношенiя Шекспира къ его предшественникамъ, его такъ называемыя "заимствованiя". Умъ въ высшей степени оригинальный, Шекспиръ не могъ ни у кого заимствовать въ обыденномъ значенiи этого слова. Иногда Гервинусъ возвышаетъ Шекспира до небесъ, говоритъ, что онъ былъ "выше своего народа и времени"; иногда онъ унижаетъ дотого, что увѣряетъ, что "остроумный тонъ разговора, комическiе доводы, страсть къ уподобленiямъ, къ изумляющимъ отвѣтамъ (у Шекспира) – все это имѣетъ свой первообразъ у Лили", и у него заимствовано Шекспиромъ, что вторая и третья часть драматической хроники о Генрихѣ VI есть просто передѣлка хроникъ Грина: "первой части столкновенiя между двумя славными домами, «Iоркскимъ и Ланкастерскимъ» и «истинной трагедiи о Ричардѣ, герцогѣ iоркскомъ», того самаго Грина, который называлъ его, Шекспира – Shakescene (потрясателемъ сцены; если писать Shakespeare, то это будетъ значить – потрясающiй копьемъ), «вороной, украшенной нашими перьями» и «тигровымъ сердцемъ въ актерской шкурѣ».
Кто выше своего народа? Кто выше своего времени? Не пустыя ли это цвѣты краснорѣчiя? "Время на все, что совершается въ немъ", сказалъ Шекспиръ. Носитель и выразитель народныхъ думъ, "каждый вершокъ" котораго англичанинъ (each inch an Englishman), Шекспиръ не требуетъ себѣ такой похвалы, что онъ выше своего народа. Ему довольно сознанiя, что онъ высшiй выразитель духа своего народа. "Многообразна жизнь человѣка въ народѣ: – говоритъ Хомяковъ (I, 537) – она своею долею общечеловѣческаго достоянiя, ею схваченную и выраженную въ словѣ и бытѣ, складываетъ въ стройное, живое и сочлененное цѣлое; и человѣкъ, принимая въ себя всю эту жизнь, кладетъ стройную и сочлененную основу своему собственному пониманiю. И далѣе: "Ни одинъ изъ живыхъ народовъ не высказался вполнѣ. Его печатное слово, его пройденная исторiя выражаютъ только часть его существа, онѣ, если позволите такое слово, не адекватны (не въ версту) ему. Невысказанное, невыраженное таится въ глубинѣ его существа и доступно только ему самому и лицамъ, вполнѣ живущимъ его жизнiю". Такимъ именно человѣкомъ, "вполнѣ живущимъ жизнiю своего народа" и былъ Шекспиръ.
Чтобы понять всю силу народнаго духа англичанъ, всю его напряженность въ шекспировскую эпоху, стоитъ вспомнить блестящiй рядъ его знаменитыхъ современниковъ. Бэконъ и Шекспиръ являются въ одно время; оба – великiе представители своей народности, въ обоихъ отразился духъ народа съ двухъ разныхъ сторонъ. И этотъ великiй организмъ, народъ, ниже своихъ представителей!
Такiя мнѣнiя могутъ произносить только нѣмецкiе демократы! Гейне какъ то нечаянно проговорился, что хотя онъ очень любитъ нѣмецкiй народъ, но при встречѣ съ гамбургскимъ сапожникомъ, защищавшимъ его мнѣнiя, его порядочно покоробило. Я дескать хоть и демократъ, а все бы лучше, если бы у него руки были почище. Квази-аристократическая гадливость мѣшаетъ прямо смотрѣть на народъ. Наши разноцвѣтные и разношерстные либералы въ этомъ отношенiи послѣдовательнѣе: они умышленно забываютъ (игнорируютъ) о существованiи народа; они занимаются нивелированiемъ человѣческаго ума, или выражаясь современнѣе, выдѣлкою человѣческаго церебина по извѣстному образцу, еще не патентованному, но на который (успокойтесь)! будетъ въ скорости выдана привилегiя.
Теперь обратимся къ вопросу о "заимствованiяхъ". Повидимому, Гервинусъ совершенно правъ въ своихъ сужденiяхъ объ этомъ обстоятельствѣ. Комическiй тонъ Лили напоминаетъ Шекспира? Да, Гринъ раньше Шекспира написалъ свои хроники? Раньше. Сценарiй ихъ тотъ же, что во 2-й 3-й части трагедiи о Генрихѣ VI? Безспорно. Ну – что-же ну? Механически-поверхностный умъ придетъ именно къ тому заключенiю, что Шекспиръ заимствовалъ у Лили и Грина. Озлобленный на искуство "модныхъ бредней дурачокъ" абличитъ Шекспира въ литературномъ воровствѣ.
И вотъ Гервинусъ незамѣтнымъ образомъ оправдываетъ Грина, который своими площадными ругательствами доказалъ, какъ мало могъ у него заимствовать Шекспиръ.
Кажется, что Гервинусъ правъ, что онъ говоритъ дѣло, – exeptê que c'est tout-à-fait le contraire, какъ говорилъ одинъ французскiй капралъ, объясняя новобранцу, чѣмъ поворотъ направо-кругомъ отличается отъ поворота налѣво-кругомъ.
Въ чемъ же дѣло? "Художество", по справедливому замѣчанiю Хомякова, "не есть произведенiе единичнаго духа, но произведенiе духа народнаго въ одномъ какомъ нибудь лицѣ." Природа не бѣдна; она никогда не скряжничаетъ; даже скорѣй расточительна. И какъ ей не быть расточительной, когда она обладаетъ неисчерпаемыми, вѣковѣчными богатствами? Она высылаетъ въ мiръ предтечь, провозвѣстниковъ великихъ людей, которые прiуготовляютъ ему пути. За нимъ она высылаетъ апостоловъ, проповѣдниковъ того слова, которое опредѣлено было сказать великому человѣку. Мы помнимъ имена провозвѣстниковъ Шекспира, и этого веселаго Лили, и этого титаническаго Марлò, и даже этого завистливаго Грина, но помнили бы мы ихъ, еслибъ вслѣдъ за ними не явился Шекспиръ, которому они прiуготовили пути? Спасибо имъ всѣмъ, даже авторамъ пiесы "Феррексъ и Поррексъ", который ввелъ въ трагедiю такъ называемый англичанами "германскiй" размѣръ, не совсѣмъ точно именуемый Гервинусомъ пятистопнымъ ямбомъ!
Но все что являлось въ предшественникахъ Шекспира раздѣльно, выражая отдѣльныя черты народнаго духа, это нѣчто шекспировское, – все это совмѣстилось въ немъ сильно, цѣльно органически-стройно. И этотъ колосъ могъ заимствовать что нибудь у кого нибудь?
Все великое, и только великое, оригинально. Веселость Лили развѣ это въ сущности дѣйствительно шекспировская черта? Нѣтъ, этой чертой нельзя характеризовать великаго поэта; эта черта есть въ немъ, но въ соединенiи со множествомъ другихъ, и въ этомъ видѣ она совершенно не похожа на веселость Лили; свѣтъ и тамъ и здѣсь, но тамъ свѣтлякъ, а здѣсь солнце. И что общаго между ними?
Или этотъ титаническiй Марлò, выводящiй на сцену Тамерлана, идущаго по трупамъ народовъ, жестокаго и сверхчеловѣчески-мстительнаго "Мальтiйскаго Жида", – этотъ громадный, но нестройный гигантъ (есть въ немъ что-то допотопное, что-то напоминающее ихтiозавровъ и тому подобныхъ чудовищъ) – развѣ у него заимствовалъ, какъ полагаетъ Гервинусъ, Шекспиръ свой паѳосъ?
Или… но много можно подобрать подобныхъ примѣровъ, и на всѣ одинъ отвѣтъ: не правда.
Что это за мозаичный, рецепный Шекспиръ выйдетъ! Возьми веселость Лили, прибавь паѳоса Марло, любовь къ исторiи Грина, подсыпь еще кой чего, смѣшай все хорошенько и выйдетъ Шекспиръ.
И это человѣкъ, посланный – по слову Карляйля – повѣдать мiру, какъ жилъ и дѣйствовалъ человѣкъ въ среднiе вѣка!
О, туманная нѣмецкая философiя, которой такъ боится филистерство Гервинуса, никогда не приведетъ къ подобнымъ нелѣпостямъ! А ихъ говоритъ человѣкъ безспорно умный (но не глубокiй) одинъ изъ представителей современной германской литературы. О Германiя! какъ скоро ты позабыла своего великаго Шеллинга! Какъ мало многiе твои современные представители конгенiальны съ его живымъ, органическимъ умомъ!
Разсмотримъ теперь подробно насколько заимствовалъ Шекспиръ своего Генриха VI у Грина.
Г. Гервинусъ сильно порицаетъ Тика за то, что онъ "утверждаетъ, что ни одна изъ самыхъ лучшихъ и возвышеннѣйшихъ пьесъ Шекспира не можетъ сравниться съ его историческою трагедiею Генрихъ VI относительно плана. Когда Ульрици – продолжаетъ Гервинусъ – называлъ композицiю этой пiесы чисто шекспировскою, то очевидно, что оба критика не отдѣляли при этомъ формы отъ содержанiя и не сравнивали хроникъ, изъ которыхъ эти драмы заимствованы, съ ихъ поэтическою обработкою".
То, что дальше говоритъ Гервинусъ объ отношенiи Шекспира къ хроникѣ Голиншеда, ясно показываетъ, на сколько ему чуждо пониманiе исторической трагедiи. Этотъ родъ произведенiй не могъ развиться на нѣмецкой почвѣ, не могъ явиться у народа разбитаго на маленькiя кучки, не сознающаго своей нацiональности, ибо трудно предположить это сознанiе въ странѣ, гдѣ въ такомъ ходу чисто "баварскiя" чувства, истинно "прусскiй патрiотизмъ" и тому подобныя диковинки; у народа, толкующаго весьма краснорѣчиво о своемъ единствѣ, которое давнымъ давно засѣло какъ ракъ на мели.
Великiй Шиллеръ служитъ яснымъ доказательствомъ этого; его Валенштейнъ слабъ, какъ драма, и особенно какъ историческая драма. Для того, чтобы ввести читателя въ изображаемую имъ эпоху, Шиллеръ написалъ знаменитый прологъ "Валенштейновъ Лагерь", – но эта картина солдатской жизни стоитъ отдѣльно, не связана органически съ двумя послѣдующими частями трагедiи. За тѣмъ, въ самой трагедiи любовь Макса Пиколомини къ Теклѣ занимаетъ почти столь же важное мѣсто, какъ и самъ Валенштейнъ, тогда когда она должна бы подчиняться главному дѣйствiю.
Г. Гервинусъ находитъ, что "нечего слишкомъ много говорить о планѣ и ходѣ той пiесы, которая за немногими исключенiями и погрѣшностями, совершенно просто слѣдуетъ ходу хроники, какъ бы снимая одинъ за другимъ отдѣльные слои сюжета". Но как же могло иначе быть? Именно такъ и долженъ поступать поэтъ, пишущiй историческую трагедiю; притомъ понимать подъ планомъ пiесы только чередованiе сценъ, – значитъ, считать планъ не органически связаннымъ съ самой сущьностью пiесы дѣломъ, а единственно механическими перегородками, ящичками, въ которые поэтъ укладываетъ извѣстные дiалоги дѣйствующихъ лицъ. При такомъ пониманiи, вообще нельзя восхищаться ни однимъ планомъ. Мы понимаемъ планъ, какъ понималъ его Пушкинъ, говоря "одинъ планъ Божественной Комедiи – безсмертенъ"; это пониманiе плана, какъ органически-связаннаго съ драмой, – есть высшее пониманiе, и намъ стыдно понимать его какъ нибудь мельче, ниже. Въ томъ-то и дѣло, что у Шекспира чередованiе сценъ не случайное, а живое, и поэту нужно возсоздать историческое лицо въ различные моменты его жизни. Въ лѣтописи, въ хроникѣ, рѣдко характеръ рисуется вполнѣ, живьемъ; важно то, чтобы хроника была правдива. Поэтъ долженъ по этимъ драгоцѣннымъ намекамъ, какъ палеонтологъ по костямъ и черепкамъ, создать живое лицо. Такой то поступокъ кажется не естественнымъ, кажется непринадлежащимъ этому историческому лицу, повидимому противорѣчитъ всѣмъ его другимъ поступкамъ, – и огромной проницательностiю долженъ въ подобномъ случаѣ обладать поэтъ. Если онъ прямо заподозритъ данный фактъ въ невѣрности, – то можетъ жестоко ошибиться, лишить историческое лицо характерной черты. Уяснить эти противоположности, по отдѣльнымъ чертамъ угадать типъ – вотъ задача.
Далѣе, поэтъ долженъ угадать судьбу изображаемой имъ эпохи. Такъ, судьба Донъ Карлоса напр. ясно подчинена волѣ Филиппа: этотъ послѣднiй есть человѣкъ – носитель нетолько своей собственной судьбы, но судьбы всего своего времени. Что передъ нимъ слабовольный Карлосъ! На личности сего послѣдняго не могла быть основана драма, да у Шекспира онъ вышелъ слабъ и блѣденъ, и безъ сомнѣнiя самое живое, самое типическое и полное лицо во всей трагедiи Филиппъ. Художественная ошибка Шиллера ясна для каждаго, хотя немного одареннаго художественнымъ чутьемъ. Личность самаго маркиза Позы много бы выиграла отъ прямого сопоставленiя съ личностiю Филиппа; конечно, любовь Донъ Карлоса къ мачихѣ отошла бы на второй планъ, за то вся трагедiя выиграла бы въ цѣльности и стройности, и благородному Позѣ не пришлось бы играть не совсѣмъ благовидную роль по сближенiю Донъ Карлоса съ Изабеллой[5].
Такой ошибки нѣтъ у Шекспира, а такова именно ошибка автора (будь онъ Гринъ, или кто другой) "истинной трагедiи о Ричардѣ, герцогѣ iоркскомъ", – ошибка видная изъ самаго названiя пiесы. У Шекспира, напротивъ, трагедiя построена на Генрихѣ VI; у него онъ именно и есть человѣкъ-носитель своей собственной судьбы и судьбы своего времени. Для читателя ясно, что именно при такомъ королѣ могли сложиться такiя событiя; могли такъ рѣзко и отчетливо высказаться характеры и горячаго, честолюбиваго Соффолька, и благороднаго Гемфрея, герцога Глостера, и кроваваго Клифорда, и iезуитски-завистливаго кардинала Бофорта, и благороднаго, воинственнаго Тальбота, и "французской волчицы", королевы Маргариты. И какъ выдержаны всѣ эти характеры! Какъ хорошо рисуется напр. сынъ герцога Iорка, этотъ горбунъ съ "ворчливымъ голосомъ", про котораго отецъ говоритъ:
Мой Ричардъ! трижды прорубалъ ко мнѣ Онъ улицу и трижды онъ кричалъ: «Смѣлѣй, отецъ! Пусть мечъ рѣшаетъ дѣло!»и далѣе:
…Когда шатались Ряды смѣлѣйшихъ, Ричардъ мой кричалъ: «Ломи! не уступай врагу ни пяди!»этотъ горбунъ, который постоитъ за себя и будетъ современемъ королемъ Ричардомъ III-мъ.
Это уже чисто шекспировская черта, понять судьбу времени и на ней основать драму. А г. Гервинусъ огромное впечатлѣнiе этой великой трилогiи объясняетъ тѣмъ, что въ ней есть правосудное возмездiе каждому по дѣламъ его; но прибавляетъ, что даже это юридическое возмездiе, «которое кажется столь поэтическимъ и стройно-распредѣленнымъ, просто заимствованнымъ изъ хроники». О, моралисты, полагающiе, что природѣ нѣтъ инаго дѣла, какъ наказывать порокъ и возвышать добродѣтели, да постоянно читать, подобно нѣмецкому пастору, нравоученiя!
И какiе натяжки дѣлаетъ почтенный професоръ, чтобъ вытащить за уши эту, по его мнѣнiю, глубокомысленную мораль. А судьба Глостера, а судьба Ричарда? Или послѣднiй получаетъ достойную мзду впослѣдствiи? "Ричардъ палъ – урокъ тиранамъ", какъ говоритъ современный поэтъ.
Отъ этого главнаго недоразумѣнiя происходятъ и всѣ другiя ошибки почтеннаго нѣмецкаго ученаго. Такъ, онъ осуждаетъ Шекспира за то, что онъ "подобно хроникѣ, выводитъ рядъ сценъ, которыя (какъ напр. анекдотъ объ оружейникѣ и хромомъ Симпкоксѣ) находятся въ весьма слабой связи съ великимъ ходомъ цѣлаго". Именно, этотъ анекдотъ и необходимъ въ исторической трагедiи; онъ чрезвычайно характеризуетъ время; онъ перестаетъ быть анекдотомъ потомучто въ немъ дѣйствуютъ живыя лица. И какъ славно обрисовывается въ немъ простой и дѣльный взглядъ на вещи Гемфрея, герцога Глостера.
Г. Гервинусъ говоритъ, что много матерiаловъ дала Шекспиру хроника, что онъ буквально выписываетъ иногда изъ хроники, что "высокое, привлекательное въ этихъ пiэсахъ есть именно – ихъ содержанiе".
Право, никакъ не угодишь на людей: миссисъ Ленноксъ находитъ "что этотъ поэтъ измѣняетъ историческую истину", а г. Гервинусъ сердится, что онъ близко хроники держался. Да какъ же иначе? И что такое богатство матерiаловъ, возвышенное содержанiе? Чѣмъ больше матерiаловъ, чѣмъ возвышеннѣе сюжетъ, – тѣмъ труднѣе поэту совладать съ ними.
Стоитъ только прочесть у господина же Гервинуса, какiе поправки сдѣлалъ Шекспиръ (см. стр. 218–228) въ старыхъ пiесахъ, служившихъ ему образцами, чтобы понять какъ самостоятеленъ этотъ заимствователь. Тутъ прибавляетъ монологъ, тутъ измѣнена сцена, тутъ прибавлено двѣ три черты, два три выраженiя; иногда такое слово, что передъ нимъ останавливается въ изумленiи даже самъ г. Гервинусъ. К. П. Брюлловъ иногда проходился по картинамъ своихъ учениковъ, и выходила новая картина. А что выходило, когда проходился такой мастеръ, какъ Шекспиръ.
И все это сказано г. Гервинусомъ изъ желанiя перехитрить Тика и Ульрици! Желанiе самое наивное! Какъ не знаетъ, что одна, двѣ черты измѣняютъ все дѣло; четырехъ стиховъ достаточно чтобы объяснить внутреннее состоянiе человѣка, чтобы изъ сухаго факта сдѣлать живое лицо. Вѣдь Шекспиръ заимствовалъ и у Плутарха! А вспомните напр. четыре или пять строчекъ, которые говоритъ поэтъ Цинна передъ встрѣчею съ разъяренною чернью, которая убьетъ его. Вѣдь это цѣлый мiръ!
Вотъ онѣ, эти строки:
Мнѣ въ эту ночь приснилось, будто я Пирую съ Цезаремъ. Воображенiе Встревожено: я никакой охоты Не чувствую за двери выходить, Но что-то такъ меня и тянетъ вонъ[6].Вотъ уже и живой человѣкъ передъ вами, съ своими убѣжденiями, съ своею предсмертной тоскою.
За тѣмъ, г. Гервинусъ недоволенъ чередованiемъ сценъ; такъ напр. онъ говоритъ: "Въ пятой сценѣ V акта (въ третьей части) убиваютъ принца валлiйскаго, а въ слѣдующей сценѣ отецъ его ужь знаетъ объ этомъ". Таково его придирчивое требованiе. Тамъ, гдѣ, какъ въ исторической трагедiи, дѣйствiе должно переноситься быстро, иногда черезъ нѣсколько лѣтъ, – такая придирчивость смѣшна. Если такъ мелко понимать ходъ трагедiи, то много обвиненiй падетъ на Шекспира.
Мы уже говорили, что самая перемѣна названiя трагедiи указываетъ на то, какъ неизмѣримо выше понималъ Шекспиръ сущность исторической трагедiи. Заимствователь, по сознанiю самого г. Гервинуса, "создалъ личность Генриха VI", – что другими словами значитъ – создалъ историческую трагедiю, живое, органическое цѣлое. Отъ отношенiя поэта къ этой личности зависятъ отношенiя его къ другимъ; отъ этого зависитъ, что сцены кажущiеся г. Гервинусу анекдотическими въ сущности необходимы; все является въ новомъ, достодолжномъ свѣтѣ. Это значитъ, что онъ оживилъ бездушный скелетъ, одѣлъ его плотью и кровью, вдунулъ въ него "душу живу". Замѣчательно, что г. Гервинусъ понималъ это созданiе съ весьма филистерской точки зрѣнiя; онъ говоритъ, "что слабость характера есть порокъ, это Шекспиръ указалъ въ личности Глостера и еще подробнѣе развилъ въ Генрихѣ VI", какъ будто Шекспиру и дѣла иного не было, какъ доказываетъ такiя пасторскiя сентенцiи.
Въ заключенiе, и самъ Гервинусъ говоритъ, "что при сравненiи шекспировскихъ передѣлокъ двухъ послѣднихъ частей этой исторiи (о Генрихѣ VI) приходится точно также сознаться, что въ нихъ видѣнъ больше Шекспиръ, чѣмъ Марло и Гринъ".
Изъ за чего же вы такъ горячились? Что за классификацiя по достоинству трагедiй Шекспира? Шекспиръ вездѣ Шекспиръ. Пусть г. Гервинусъ игнорируетъ первую часть трагедiи о Генрихѣ VI – тѣмъ не менѣе, мысль всей трилогiи ясна и въ ней, ясна изъ самой первой сцены, изъ плача вельможъ надъ трупомъ Генриха V и послѣдующаго появленiя гонцовъ, приносящихъ скорбныя вѣсти. А Тальботъ и его сынъ! А явленiе Жанны д'Аркъ во французскомъ лагерѣ, а насмѣшки надъ нею англичанъ передъ ея казнiю, а ссоры правителей государства? А во второй части незабвенный Джекъ Кэдъ и незабвенныя остроты надъ нимъ его прiятеля Дика, а смерть Кэда и вѣрноподданный Александръ Айденъ, а начало третьей части? – Но перечисленiе не укажетъ всѣхъ красотъ подлинника.
Мы съ намѣренiемъ остановились такъ подробно надъ разборомъ г. Гервинуса трилогiи о Генрихѣ VI. Намъ кажется, что пора наконецъ оцѣнить по достоинству историческiя трагедiи Шекспира, и думаемъ, что именно у насъ, русскихъ, съ нашей богатой исторiей (которую большинство нашей литературы игнорируетъ), широко разовьется историческая трагедiя. У нѣмцевъ, какъ мы уже замѣтили, это дѣло не возможное, и кажется тоже нужно сказать и о французахъ, – доказательство, что величайшiй поэтъ Францiи, Викторъ Гюго, въ своей книгѣ о Шекспирѣ почти ни слова не говоритъ объ его историческихъ драмахъ; по крайней мѣрѣ, нѣтъ ни одного теплаго, задушевнаго слова.
Во вторыхъ, намъ до крайности странно мнѣнiе тѣхъ критиковъ, которые полагаютъ, что собственно одинъ "Ричардъ III" есть чисто шекспировская трагедiя. Какое непониманiе сущности исторической трагедiи! Какое непониманiе въ этомъ случаѣ Шекспира! Конечно, "Ричардъ III", по своему строенiю, ближе напр. къ Макбету, чѣмъ другiя драматическiя хроники Шекспира, но это потому, что демонически-могучая личность Ричарда III-го слишкомъ затѣмняетъ другiя; всѣ они, даже юношески благородный, но за то и юношески слабый Ричмондъ, блѣднѣютъ передъ этимъ горбуномъ, съ "ворчливымъ голосомъ". Дѣло въ томъ, что характеръ и зависящая отъ него судьба Ричарда III и его времени, – въ этомъ случаѣ совершенно иная, – а у Шекспира планъ трагедiи всегда находится въ строгомъ соотвѣтствiи съ судьбою трагедiи.
У г. Гервинуса такое кавалерское отношенiе къ трилогiи о Генрихѣ VI тѣмъ болѣе странно, что онъ съ необыкновеннымъ старанiемъ указываетъ на шекспировскiя черты въ такихъ слабыхъ пiесахъ, какъ "Титъ Андроникъ" и "Периклъ"; что онъ подробно разбираетъ "Комедiю ошибокъ" и съ собственнымъ уваженiемъ отзывается о ней, хотя правду сказать, эта комедiя построена на чисто внѣшней интригѣ, на случайномъ сходствѣ двухъ братьевъ близнецовъ; что многiя сцены ея также устарѣли, какъ напр. конецъ мольеровскаго "Скупого".
Мы опускаемъ многiя другiя несообразности, замѣченныя нами у г. Гервинуса, какъ напр. причисленiе "наипрекраснѣйшей и прежалостной трагедiи о Ромео и Джульетѣ" къ числу эротическихъ пiесъ, и остановимся на одномъ весьма важномъ вопросѣ. Именно нѣкоторыя положенiя являются у Шекспира какъ бы искуственно выраженными. Таковые напр. споръ между Тальботомъ-отцомъ и Тальботомъ-сыномъ, разсказъ Тирреля о томъ, какъ онъ убилъ дѣтей Эдуарда IV, слова Макбета о томъ, какъ онъ зарѣзалъ сонъ. Всѣ подобныя положенiя, по самой сущности своей, не могутъ быть выражены иначе. Разберемъ два послѣднiя, извѣстныя по переводамъ рускимъ читателямъ. Тиррель подробно и необыкновенно картинно, даже поэтично, разсказываетъ, какъ спали обнявши другъ друга дѣти Эдуарда, малѣйшее ихъ движенiе. Если мы посмотримъ на это съ внѣшней точки зрѣнiя, то сейчасъ явится вопросъ: могъ ли убiйца разсказывать такъ; но Шекспиромъ дѣло взято гораздо глубже.
Передъ Тиррелемъ неотразимо стоялъ образъ этихъ двухъ малютокъ, онъ съ ужасающими подробностями помнилъ все это страшное дѣло, оно горѣло въ его душѣ; это-то напряжонное состоянiе души, это подавляющее воспоминанiе, изгладившее всѣ другiя воспоминанiя и впечатлѣнiя и служитъ мотивомъ его разсказа; оттого-то разсказъ и производитъ такое ужасающее впечатлѣнiе.
Макбетъ, убивъ Дункана, слышалъ какой-то голосъ;
…на весь домъ кричалъ онъ: "Не спите! Гламисъ сонъ зарѣзалъ; впредь Не спать ужь Кавдору, не спать Макбету[7].Эта «странная фигура» повидимому ничего не выражаетъ; иной ее, пожалуй, назоветъ реторической. Но вспомните отношенiя Макбета къ доброму старому королю Дункану, его былыя вѣрноподданническiя чувства; все это стукнуло ему въ голову послѣ убiйства; онъ, онъ убилъ короля своего благодѣтеля, по чьей милости онъ сталъ таномъ Гламиса и Кавдора! О, какое ужасное, кровавое дѣло! Не спать человѣку, совершившему его; не спать тому, кто убилъ Дункана. Кто жъ онъ? Онъ Кавдоръ и Гламисъ, по милости имъ же убитаго короля. Не спать больше Кавдору; Гламисъ зарѣзалъ сонъ! Но онъ и Макбетъ, въ душѣ котораго много кровавыхъ замысловъ; передъ будущими злодѣйствами котораго дѣтски-невинны злодѣйства Кавдора и Гламиса, и потому – не спать Макбету!
Можно ли такъ болѣе сжато и кратче выразить эту душевную сумятицу, этотъ звонъ въ ушахъ, этотъ голосъ совѣсти, кричащей на весь домъ: "Гламисъ зарѣзалъ сонъ."
Можетъ быть, иной читатель, прочтя намъ разборъ книги г. Гервинуса, усумнится въ томъ: стоило ли ее переводить? О, безъ сомнѣнiя стоило. Запутанность основныхъ воззрѣнiй г. Гервинуса нисколько не помѣшала ему прекрасно выяснить нѣкоторыя частности, объ одной изъ которыхъ мы уже упоминали. Читатель, кромѣ того, найдетъ много прекрасныхъ подробностей (мы говоримъ теперь только о вышедшемъ порусски томѣ) о состоянiи сцены шекспировское время, весьма тонкiя замѣчанiя о томъ, какъ слѣдуетъ играть комедiю, о томъ, какъ молодой веронскiй дворянинъ Петрукiо укротилъ "злючку" Катерину (Taming of the shrew) и т. д.
Переводъ г. Тимофеева вообще очень удовлетворителенъ; жалъ только, что онъ не посовѣтовался съ кѣмъ нибудь изъ знающихъ англiйскiй языкъ. Тогда бы у него Робинъ Добрый-Малый такъ и назывался, а не Робиномъ Гудфеллоу, и ткачь Основа (Botom) не носилъ бы нѣмецкаго прозвища Цеттеля. Но еще не простительнѣе, не зная подлинника, переводить цѣлую сцену изъ "Сна въ лѣтнюю ночь", тѣмъ болѣе, что эту сцену можно было бы взять изъ оригинальнаго по прiему, но вѣрнаго по духу (и даже буквально вѣрнаго) перевода г. Ап. Григорьева. Или г. Тимофеевъ испугался подобно одному критику, что переводъ г. Григорьева сдѣланъ слишкомъ порусски, но вѣдь чисто порусски и хорошими стихами (а стиховъ г. Тимофеева нельзя читать вслухъ) и надо переводить Шекспира. «Любовь въ бездѣйствiи» порусски ничего не значитъ. «Love-inidleness» можно и должно перевести въ нѣкоторыхъ мѣстахъ «приворотной травой», а въ другихъ назвать этотъ цвѣтокъ «любовью отъ бездѣлья» или «отъ нечего дѣлать». Предлогъ «in» очевидно смутилъ г. Тимофеева. Цѣна чудовищная: выпускъ въ 5 листовъ 50 коп. Положимъ, что изданiе довольно опрятно, но вѣдь это переводъ, а не оригинальное сочиненiе.
Вообще, намъ не слѣдуетъ забывать того, что говорили русскiе люди о Шекспирѣ, и искать "правды у нѣмцевъ". Предисловiя Дружинина къ королю Лиру и Ричарду III, и Ап. Григорьева къ "Сну въ лѣтнюю ночь" гораздо поглубже разборовъ этихъ пiесъ г. Гервинуса. Замѣчу мимоходомъ, что "Троила и Крессиду" лучше можно объяснить пользуясь прiемомъ Ап. Григорьева при объясненiи "Сна въ лѣтнюю ночь", чѣмъ назвавъ ее пародiей Гомера. Точно также и "Тимонъ Аѳинскiй" весьма понятенъ, какъ анекдотическая личность, изображенная англiйскимъ поэтомъ.
Для уразумѣнiя что за человѣкъ былъ Шекспиръ, человѣкъ, посланный для того, чтобы сказать, какъ жили и дѣйствовали люди въ среднiе вѣка, небольшая статья Карляйля, превосходно переведенная г. Боткинымъ (Современникъ, 1856 г.) лучше, чѣмъ многотомный трудъ г. Гервинуса.
Въ заключенiе этой главы, считаемъ не лишнимъ хотя нѣсколько познакомить читателей съ трагедiей о Генрихѣ VI. Вотъ одна сцена въ нашемъ посильномъ переводѣ. Она понятна безъ всякихъ предварительныхъ объясненiй.
ЧАСТЬ III. АКТЪ I. СЦЕНА IV.
Равнина близь замка Сэндэль.
Тревога. Входитъ Iоркъ.
Iоркъ.
За королевою[8] осталось поле; Меня спасая, оба дяди пали; И всѣ мои предъ пылкими врагами, Тылъ показали и бѣгутъ, Бѣгутъ, какъ передъ вѣтромъ корабли, Бѣгутъ, какъ отъ волковъ голодныхъ стадо! А сыновья! – что съ ними – знаетъ Богъ, Яжъ знаю только, что они рубились, Какъ тѣ, которыхъ жизнь, иль смерть прославитъ. Мой Ричардъ – трижды прорубалъ ко мнѣ Онъ улицу, и трижды онъ кричалъ: «Смѣлѣй, отецъ! пусть мечъ рѣшаетъ дѣло!» И всякiй разъ, какъ подходилъ ко мнѣ Мой Эдуардъ – былъ красенъ мечъ его. Покрытъ до рукояти кровью тѣхъ, Кто съ нимъ встрѣчался. И когда шатались Ряды сильнѣйшихъ, Ричардъ мой кричалъ: «Ломи! не уступай врагу ни пяди!» Кричалъ: "Корона, или славный гробъ! Держава, или миръ въ сырой землѣ!" И мы ломились вновь, и вновь – увы! Насъ отбивали. Такъ видѣлъ я однажды, Какъ лебедь съ безполезною отвагой Противъ прилива плылъ, и тратилъ силу Въ борьбѣ съ сильнѣйшими, чѣмъ онъ, волнами. (Тревога). А, вотъ она, погоня роковая! А я такъ слабъ, и не могу бѣжать Отъ ярости враговъ, – но будь я и силенъ, Ихъ ярости мнѣ все не избѣжать! Умножились пески – и жизнь засыпятъ. Останусь здѣсь, и здѣсь же я умру.Входятъ: королева Маргарита, Клиффордъ, Нортумберлэндъ и солдаты.
Iоркъ.
Сюда, сюда, кровавый Клиффордъ! Грубый Нортумберлэндъ, сюда! Я вашу ярость Неутолимую – сильнѣе раскалю. Я ваша цѣль, и жду ударовъ вашихъ.Нортумберлэндъ.
Плантагенетъ! проси, гордецъ, пощады!Клиффордъ.
Пощады – той, какую даровалъ Онъ моему отцу, рукой жестокой Ударивши на отмашь. – Фаэтонъ Теперь свалился съ колесницы: для тебя Сегодня ночь настанетъ въ самый полдень.Iоркъ.
Изъ пепла моего возникнетъ фениксъ; Онъ всѣмъ вамъ отомститъ. Въ такой надеждѣ Я очи подымаю къ небу; чѣмъ-бы Меня ни оскорбили вы – смѣюсь. Ну, что-же вы? Васъ много, – и боитесь?Клиффордъ.
Такъ трусы говорятъ, когда бѣжать Нельзя; такъ когти голуби клюютъ У сокола, и такъ, попавшись, воры, Страшась за жизнь, ругаютъ полицейскихъ.Iоркъ.
О, Клиффордъ! Вспомни жизнь мою и въ мысляхъ Ты пробѣги мое былое время, И если можешь безъ стыда, смотри Въ лицо мнѣ прямо; искусай языкъ, Который въ трусости того порочить, Чей видъ одинъ донынѣ заставлялъ Тебя блѣднѣть и обращаться въ бѣгство.Клиффордъ.
Я на словахъ съ тобой не стану грызться; Ударами считаться я готовъ, И дважды два – на каждый твой ударъ.Маргарита.
О, храбрый Клиффордъ! подожди. Хочу, По тысячѣ причинъ, еще продолжить Я жизнь измѣнника. Онъ глухъ отъ гнѣва! Проси его, проси, Нортумберлэндъ!Нортумберлэндъ.
Постой-же, Клиффордъ! Что за честь тебѣ Свой палецъ уколоть, когда ты можешь Все сердце изъязвить ему. Скажи, Какая доблесть всунуть руку въ пасть, Когда собака скалитъ зубы, если Ее ты можешь отпихнуть ногою? Всѣ выгоды на нашей сторонѣ, И можемъ мы, по правиламъ войны, Воспользоваться ими; и готовъ Держать я десять противъ одного, Что въ этомъ нѣтъ безчестья никакого. (Они накладываютъ руки на Iорка; тотъ отбивается).Клиффордъ.
Ай, ай! Такъ вальдшнепъ бьется въ западнѣ.Нортумберлэндъ.
Такъ кроликъ порывается изъ сѣти. (Iоркъ взятъ въ плѣнъ).Iоркъ.
Такъ воры торжествуютъ надъ добычей. Такъ честные разбойникамъ сдаются, Когда нѣтъ силъ отбиться.Нортумберлэндъ королевѣ.
Что теперь Угодно вашей милости съ нимъ сдѣлать?Маргарита.
Вы, рыцари, Нортумберлэндъ и Клиффордъ! Взведите Iорка вонъ на этотъ холмъ, Что достигаетъ горъ своимъ отрогомъ, Но отстоитъ на тѣнь его руки. — Такъ это ты хотѣлъ быть королемъ И бунтовалъ въ парламентѣ у насъ? Ты клялся, что на тронъ имѣешь право?[9] Гдѣ-жъ сыновья твои? Зачѣмъ тебя Сегодня не явились поддержать? Распутный Эдуаръ куда дѣвался? Гдѣ дюжiй твой Георгъ? и гдѣ уродъ, Гдѣ храбрый твой горбунъ, твой Дикки[10] Сынокъ, который поощрялъ папашу[11] Своимъ ворчливымъ голосомъ на бунтъ? И наконецъ, гдѣ твой любимецъ Рутландъ? Вотъ, Iоркъ, смотри: платокъ. Я намочила Его въ крови, которую извлекъ Своею острой шпагой храбрый Клиффордъ Изъ груди твоего ребенка. Если О немъ заплачешь ты, – платокъ продамъ. Чтобъ могъ ты слезы утереть. Ахъ, Iоркъ! Тебя я ненавижу дотого, Что о твоей судьбѣ вопить готова. Ахъ, бѣдный Iоркъ! Развесели меня, Порадуй-же своей печалью. Какъ? Или сердечный пламень изсушилъ Всю грудь твою и ты не въ силахъ О смерти Рутланда слезинки проронить! Зачѣмъ ты терпѣливъ? Ты этакъ можешь Сойти съ ума; и я, чтобы свести Тебя съ ума, – вотъ такъ смѣяться стану. Тоскуй, безмолвствуй и ногами топай, Я стану предъ тобой плясать и пѣть. Тебя пожаловать, я вижу, надо За то, что ты забавою мнѣ служишь! Iоркъ говорить не станетъ до тѣхъ поръ, Пока не будетъ онъ носить короны. Корону Iорку! – Лорды, преклонитесь! Держите за руки его, пока Я на него корону возложу. (Надѣваетъ на Iорка бумажную корону). Онъ смотритъ настоящимъ королемъ! Взгляните, – это онъ, что захватилъ престолъ! Вѣдь это онъ, онъ Генриха наслѣдникъ! — Но какъ-же могъ Плантагенентъ великiй Короноваться, измѣнивши клятвѣ? Я думала, онъ будетъ королемъ, Когда пожметъ нашъ Генрихъ руку смерти? И какъ, скажи, ты могъ свое чело Украсить славой Генриха? Сорвать Корону съ головы его при жизни? Святую клятву какъ ты могъ нарушить? Простить нельзя такого преступленья! Долой съ него корону! и съ короной И голову долой! Покончимъ съ нимъ, Пока мы дышимъ.Клиффордъ.
Предоставьте мнѣ: Онъ моего отца убилъ.Нортумберлэндъ.
Постой, Послушаемъ, какъ онъ молиться станетъ!Iоркъ.
Французская волчица! Ты свирѣпѣй, Чѣмъ волки Францiи. О, ядовитѣй Зубовъ гадюки твой языкъ! Стыдись! Какъ неприлично женщинѣ, нейдетъ Торжествовать, какъ амазонской дѣвкѣ, Надъ тѣмъ, кто случаемъ попался въ плѣнъ. Твое лицо, какъ маска, неподвижно; Ты сдѣлалась безстыжей, королева, Отъ частыхъ преступленiй. Я тебя Попробую заставить покраснѣть. Я разскажу откуда родомъ ты, Я родословную твою раскрою, — Довольно въ ней стыда, чтобы заставить, Будь ты совсѣмъ безстыжей, устыдиться. Хоть твой отецъ и носитъ титулъ, Хоть онъ король Неаполя, обѣихъ Сицилiй и король Ерусалимскiй, Но бѣдный онъ чѣмъ нашъ поселянинъ. Должно быть, этотъ нищiй научилъ Тебя ругаться? Гордой королевѣ Ругательства нейдутъ, не нужны! Или Ты хочешь доказать, какъ справедлива Пословица, что посади верхомъ Оборванца – и онъ коня загонитъ? Своей красою женщины гордятся, Но знаетъ Богъ, что тутъ ты ни при чемъ. Ихъ добродѣтели дивятся люди, А ты противнымъ удивляешь всѣхъ. Они божественны, коль правятъ царствомъ, А ты – такъ отвратительна безъ власти! Ты такъ противна всякому добру, Какъ антиподы намъ, какъ сѣверъ югу. Въ твоей груди должно быть сердце тигра! Какъ ты могла въ живительной крови Ребенка омочить платокъ, и дать Его отцу, чтобъ имъ отеръ онъ слезы? И ты еще все женщиной осталась? О, женщины такъ кротки, такъ добры, Такъ полны состраданья, такъ подвижны. А ты груба, сурова, какъ кремень, Безжалостна, ничѣмъ неумолима. Ты хочешь ярости – на, вотъ она! Ты хочешь слезъ моихъ – я плачу! Свирѣпый вѣтеръ нагоняетъ ливень, Утихнетъ ярость, – и польется дождь. О миломъ Рутландѣ теперь я плачу И каждая моя слеза кричитъ О мщенiи противъ тебя, лукавой, А также и тебя, о подлый Клиффордъ!Нортумберлэндъ.
Меня вы можете проклясть, но я Едва, едва удерживаю слезы.Iоркъ, показывая на него.
Его лицо голодный канибалъ Не могъ-бы тронуть, кровью запятнать! — О, вы безчеловѣчнѣй, вы свирѣпѣй, Вы злѣе въ десять разъ гирканскихъ тигровъ. Смотри, свирѣпая, какъ горько плачетъ Отецъ несчастный. Намочила ты Платокъ въ крови любимаго мной сына, И я слезами смылъ всю кровь его. Возьми платокъ, ступай и хвастай всюду. Когда ты правильно разскажешь повѣсть О томъ, какъ мучила меня, – клянусь, Моей душой клянуся, – всѣ плачутъ, Кто будетъ слушать. Да, мои враги И тѣ заплачутъ крупными слезами И скажутъ: «страшное то было дѣло!» Жестокосердый Клиффордъ, убивай скорѣй. Душа на небо, кровь моя – на васъ.Нортумберлэндъ.
Когда-бы всѣхъ моихъ родныхъ убилъ онъ. То и тогда я могъ-бы только плакать, Да, плакать вмѣстѣ съ нимъ; я вижу, Какъ тайно грусть его терзаетъ душу!Маргарита.
Милордъ Нортумберлэндъ! какой ты плакса! Припомни, сколько зла онъ сдѣлалъ намъ, И вмигъ осушатся твои всѣ слезы.Клиффордъ.
За смерть отца! Я клятву исполняю! (Колетъ его)Маргарита.
За право мягкосердаго супруга! (Колетъ его)Iоркъ.
Прими меня, о милосердный Боже! Моя душа изъ ранъ къ тебѣ летитъ. (Умираетъ)Маргарита.
Снять голову и на ворота Iорка! Пусть Iоркъ любуется на городъ Iоркъ. Маршъ. Exeunt.II. Шекспировское торжество въ Петербургѣ[12].
Et tu quoque!
Et tu quoque! И ты, Брутъ! И мы туда же! Намъ нельзя было отстать отъ просвѣщенной Европы! Безъ насъ вода не освятится.
Въ самомъ дѣлѣ, отчего и не отпраздновать трехсотлѣтнiй со дня рожденiя юбилей Шекспира? Надо было только распорядиться такъ, чтобы торжество это не происходило въ пустой залѣ. Неудавшееся торжество хуже, чѣмъ еслибъ его совсѣмъ не было. Безъ сомнѣнiя, украшенiемъ и настоящимъ дѣломъ этого торжества было чтенiе сценъ изъ ненапечатаннаго еще перевода трагедiи о "Королѣ Джонѣ" покойнаго А. В. Дружинина. Но одна ласточка весны не дѣлаетъ, говоря на иностранно-рускомъ языкѣ.
Но затѣмъ?
Затѣмъ излагались мнѣнiя нашихъ знаменитостей, литературныхъ и учоныхъ, о всемiрномъ значенiи "всепрощающаго" сердцевѣдца вообще и о значенiи его въ Россiи въ особенности. Чего же еще больше?
Если къ этому прибавимъ тѣ нравоученiя, которыя одинъ современный поэтъ вывелъ изъ трагедiй Шекспира, – то кажется, дальнѣйшiя требованiя должны показаться противуестественными.
Да, позабылъ, еще музыка была. Торжество, словомъ, на славу.
Одного ему недоставало, малаго – самостоятельности. Намъ кажется, точно оно составлено по г. Гервинусу. То же холодное почтенiе, то же отсутствiе задушевности, тѣ же нравоученiя.
Вотъ почему, несмотря на нашъ глубочайшiй патрiотизмъ, мы дали г. Гервинусу первое мѣсто въ нашей статьѣ. Къ г. Гервинусу мы отнеслись критически, слѣдуя мудрому правилу Кузьмы Пруткова: "смотри въ корень", – о нашихъ же соотечественникахъ намъ остается только повѣствовать. Разбирать ихъ нечего, потомучто своего, русскаго, они не сказали ничего; въ качествѣ цивилизованныхъ европейцевъ, состоящихъ подъ наитiемъ нѣмецкой мысли, они перевели нѣмецкiя мысли на quasi-русскiй языкъ, и вотъ вамъ петербургское слово о Шекспирѣ! Никакого одушевленiя!
Полно такъ ли важенъ Шекспиръ для русской земли, какъ объ этомъ повѣствовалъ, съ академическою важностью, г. Галаховъ?
Полно точно-ли Шекспиръ "намъ близокъ и родствененъ" и "мы можемъ съ чувствомъ справедливой гордости смотрѣть на того Шекспира, который является у французовъ, подвергаясь превратнымъ толкованiямъ и унизительнымъ сравненiямъ?"
Полно точно-ли "наше участiе въ праздникѣ не есть игра легкомысленнаго тщеславiя и пустой подражательности, а ясное представленiе дѣла, живо сознаваемаго каждымъ образованнымъ русскимъ?"
Если судить по статьѣ г. Галахова, то нѣтъ. Почтенный историкъ русской литературы не сказалъ ничего, чтобы хотя нѣсколько оправдывало его гордыя надежды. Его рѣчь "Шекспиръ въ Россiи"[13] вѣрнѣе можно назвать «формулярнымъ спискомъ о служебной дѣятельности Шекспира въ Россiи». Жизни, жизни нѣтъ въ рѣчи почтеннаго академика, той жизни, которая ключомъ кипѣла въ великомъ-русскомъ человѣкѣ, «отъ кого можно было отставить академiю, но не его отъ академiи».
Что новаго повѣдалъ намъ знатокъ отечественной литературы? То, что Сумароковъ вставилъ монологъ Ричарда III въ уста своего Дмитрiя Самозванца? Или то, что кто-то другой написалъ "безъ сохраненiя обыкновенныхъ правилъ" двѣ пiесы въ 1786 г. "Историческое представленiе изъ жизни Рюрика" и "Начальное управленiе Олега"? Это Шекспиръ въ Россiи.
Или важно въ рѣчи ученаго академика то мѣсто, гдѣ онъ повѣствуетъ, что Полевой перевелъ Гамлета, а Мочаловъ былъ генiальный актеръ? Что Бѣлинскiй писалъ о Шекспирѣ? Или что Тургеневъ написалъ "Гамлета Щигровскаго уѣзда", и изображая его, "не выпускалъ изъ мысли образъ" настоящаго, заправскаго Гамлета?
Или можно-ли такъ разсуждать по поводу упомянутой повѣсти г. Тургенева: "дѣйствующее лицо помянутаго разсказа смотритъ на себя съ презрѣнiемъ: но развѣ и Гамлетъ Шекспира не называетъ себя презрѣннымъ, ничтожнымъ созданiемъ?" Мало-ли кто ругаетъ себя всяческими словами, – ужь будто онъ и Гамлетъ сейчасъ. Или далѣе: "онъ (Гамлетъ) постоянно казнитъ себя за нерѣшительность и сомнѣнiя: то же дѣлаютъ съ собою и герои слабоволiя, выведенные Тургеневымъ." Гамлетъ – герой слабоволiя! какъ это ново и оригинально! Кто не повторялъ этого избитаго выраженiя?
Или достаточно сказать, что "Шекспировъ генiй былъ родственъ духу нашего Пушкина, и потому легко ему сочувственъ?"
Какъ это старо! Какъ это давно окаменѣло въ нашей литературѣ! Та жизнь, которая скрывалась подъ этими словами, давно выдохлась: и бездушный трупъ этой жизни всякiй спѣшитъ (хотя маленькiй кусочекъ этого трупа) закупорить въ свою баночку со спиртомъ!
Быть можетъ, намъ скажутъ, что объемъ статьи воспрепятствовалъ г. Галахову, что иначе статья вышла бы утомительно-длинна. Она и безъ того утомительно-длинна!
Вотъ вамъ живое явленiе – переводъ Полеваго и игра Мочалова. Вѣдь это совершилось на глазахъ г. Галахова; вѣдь это былъ Шекспиръ, живьемъ проникающiй въ русскую жизнь. И объ этомъ ни слова.
Велика заслуга Полеваго, по знакомству насъ съ Шекспиромъ, также какъ велика заслуга Мочалова, – вѣдь они заставили любить Шекспира, они заставили биться рускiя сердца отъ великаго слова поэта! И свидѣтель этого, самымъ сухимъ образомъ, въ самыхъ избитыхъ выраженiяхъ повѣствуетъ о томъ, "какъ театръ наводнялся слезами,
И вопли раздирали слухъ собранья!Поди прочь, несносная жизнь! что намъ, людямъ ученымъ, за дѣло до тебя! Мы изучаемъ; мы кропотливо, какъ Плюшкинъ, всякую дрянь, собираемъ всякiе факты; – живое дыханiе претитъ намъ, какъ Ризположенскому шампанское!
Лучше мы сообщимъ руской публикѣ, что Вронченко прекрасно перевелъ "Гамлета," а г. Катковъ "Ромео и Джульету" (оба перевода по времени образцовые, дѣйствительно), ей это, конечно, интереснѣе. Она этого не знала.
Такъ отнесся къ Шекспиру нашъ маститый учоный. Посмотримъ теперь на литераторовъ.
Г. Тургеневъ написалъ рѣчь о Шекспирѣ, тотъ самый г. Тургеневъ, который нѣкогда такъ унизилъ Гамлета и такъ возвысилъ Донъ Кихота.
Если отъ г. Галахова мы, собственно говоря, и не должны были ожидать ничего особеннаго, кромѣ мелочныхъ фактовъ и водянистыхъ разсужденiй, – то, напротивъ, отъ г. Тургенева вправѣ были ждать задушевнаго слова.
Но на счастье прочно Всякъ надежду кинь,какъ чувствительно распѣвали наши бабушки во дни своей юности.
"Le talent oblige", – это должно быть извѣстно г. Тургеневу; онъ по праву считается однимъ изъ лучшихъ представителей нашей современной литературы. И что-же сдѣлалъ г. Тургеневъ? Онъ написалъ, словно по обязанности, "возьмите молъ, впрочемъ только отвяжитесь", свою рѣчь, нелишенную казеннаго краснорѣчiя и водянистыхъ разсужденiй.
«Безъ преувеличенiя можно сказать», говоритъ ораторъ, "что нынѣшнiй день празднуется, или поминается во всѣхъ концахъ земли. Въ отдаленнѣйшихъ краяхъ Америки, Австралiи, Южной Африки, въ дебряхъ Сибири, на берегу священныхъ рѣкъ Индостана, съ любовiю и признательностью произносится имя Шекспира, также какъ и по всей Европѣ. Оно произносится въ чертогахъ и въ хижинахъ, свѣтлыхъ покояхъ богачей и въ тѣсныхъ рыбачьихъ комнатахъ, въ отдаленiи отъ роднаго края и близь домашняго очага, подъ воинской палаткой и подъ шалашомъ промышленника, на сушѣ и на морѣ, старыми и молодыми, семейными и одинокими, счастливыми, которыхъ оно радуетъ, и несчастными, которыхъ утѣшаетъ…..
Господи! цѣлое море реторики и какъ оно искусно прерывается многозначительнымъ многоточiемъ. Отчего это реторика такъ однообразна, вѣчно повторяетъ однѣ и тѣ же избитыя фразы? Или уже такова участь всѣхъ похвальныхъ словъ? Возьмите напр. «Историческое похвальное слово Карамзину», произнесенное 23 августа, 1845 г., въ Симбирскѣ, въ собранiи симбирскаго дворянства, академикомъ М. Погодинымъ, – и тамъ на стр. 6 вы встрѣтите и дворцы и хижины, и вельможъ и отшельниковъ, юношей и старцевъ, дѣвъ и матерей семействъ, безусловныхъ вѣрноподданныхъ вѣковъ прежнихъ и свободныхъ мыслителей новаго времени. И тамъ есть выраженiе sedant arma togae, разведенное водицей.
И только это могъ сказать Тургеневъ о Шекспирѣ? "Пусть-же сатана одѣнется въ черное, а я стану носить соболью шубу"![14]. Если только это могъ сказать г. Тургеневъ, – то лучше-бы вовсе ничего не говорить. Если онъ можетъ сказать больше, но въ данную минуту не высказывалось это большее, то ему-бы тоже вовсе не слѣдовало говорить. И ты, Брутъ! Et tu quoque!
Все повторять однѣ и тѣ же фразы, и потомъ печатать ихъ, – какъ не надоѣстъ это, какъ это не намозолитъ глаза наборщикамъ! "И въ хижинахъ, и въ чертогахъ", – не лучше-ли было-бы сказать "у кого сюртукъ въ 60 рублей и у кого пальтишко въ 5 цѣлковыхъ, "кто куритъ гаванскiя и кто куритъ грошовыя сигары"? это оригинальнѣе было-бы.
За только что выписаннымъ нами мѣстомъ, черезъ нѣсколько строкъ, слѣдуетъ другое: нѣсколько фразъ, начинающихся нарѣчiемъ "сколько"! Сколько именно этихъ фразъ, счесть мудрено.
Такъ привѣтствовала трехсотлѣтнюю годовщину наша литература.
Наша поэзiя вывела изъ Шекспира нѣсколько нравоученiй. Я замѣтилъ наизусть нѣкоторыя изъ нихъ:
Но Датскiй Принцъ погибъ – пусть наше поколѣнье Не долго думаетъ, что «быть или не быть». Но черный Мавръ погибъ, – да будетъ подозрѣнье Намъ чуждо!Почему наше поколѣнье не должно думать, потомучто Датскiй Принцъ погибъ, и почему намъ должно быть чуждо подозрѣнье на томъ основанiи, что погибъ Отелло, – предоставляю рѣшить людямъ болѣе ученымъ и цивилизованнымъ. Не нашему носу рябину клевать, и мы можемъ только сказать то же, что отвѣчалъ Гамлетъ на подобныя заключенiя камергера Полонiя: «Одно изъ другаго не слѣдуетъ».
Почему не была играна на этомъ достопамятномъ торжествѣ увертюра Бетховена "Корiоланъ?" Вѣроятно, и тутъ безъ учености обошлось. Откопана была какая нибудь самоученнѣйшая и самоновѣйшая бiографiя Бетговена, гдѣ не мало нѣмецкаго мозга было потрачено на доказательство, что Корiоланъ Бетговена былъ игранъ въ первый разъ передъ какимъ-то другимъ "Корiоланомъ," только не шекспировкимъ. Не мѣшало-бы господамъ, по ученымъ книжкамъ разсуждающимъ, помнить, что Шекспиръ и Плутархъ составляли любимое ученiе Бетговена.
Театръ нашъ не участвовалъ въ шекспировскомъ торжествѣ. Избравъ благую часть, онъ предоставилъ эту честь одной литературѣ.
Кстати о театрѣ. Нѣсколько интересныхъ вопросовъ приходятъ намъ въ голову по случаю театральныхъ приличiй. Почему милая, игривая Бьянка (въ Отелло) не смѣетъ явиться на сценѣ, приличiя ради, – а вдова, весьма сомнительнаго поведенiя фигурируетъ въ одной изъ оглобель (извѣстно изрѣченiе: это не комедiя, а оглобля) г. Дьяченко? Почему также, тогоже приличiя ради, вычеркнута на половину роль Любаши, самаго живаго и любезнаго лица въ "Царской Невѣстѣ" Мея, – а водивили съ канканами, двусмысленными куплетцами и тому подобнымъ приличны?
Что есть театральное приличiе?
А мы еще смѣемся надъ передѣлками Шекспира у его соотечественниковъ англичанъ, хотя и смолчали объ этомъ, когда и знаменитый африканскiй трагикъ поставилъ "Лира" въ Гарриковской передѣлкѣ, съ нелѣпой любовью Корделiи къ Эдгару Глостеру. Впрочемъ, Гаррикъ и не такiя еще пули отливалъ. Онъ заставлялъ Джульету просыпаться въ то время, когда Ромео еще живъ и занимается говоренiемъ "забавныхъ" рѣчей, вмѣсто того, чтобы бѣжать за докторомъ.
Почему также "Ричардъ III" приличенъ на петербургской нѣмецкой сценѣ и неприличенъ на петербургской руской сценѣ? Почему неприлична "Мѣра за Мѣру", содержанiе которой разсказано Пушкинымъ въ его Анджело? Почему… но много книгъ пришлось-бы исписать этими почему, почему. – Генрихъ IV (первая часть его) неприлична, а прилична пошлая передѣлка Шаховскаго Фальстафа.
Но и хитрому Эдипу не разрѣшить этой загадки.
Дм. Аверкiевъ.(Окончанiе слѣдуетъ).
Примечания
1
См. Franz Baco von Verulam. Von Kuno Fischer. Seite 193 et folg.
(обратно)2
По переводу г. Михайловскаго. Переводъ этотъ, помѣщенный въ IV книгѣ Современника за нынѣшнiй годъ, вообще весьма удовлетворителенъ: на немъ замѣтно влiянiе дружининской манеры переводить Шекспира. Антонiй удался г. Михайловскому лучше всѣхъ. Физiономiи и языкъ другихъ лицъ подведены подъ одинъ колоритъ, и это главнѣйшiй недостатокъ перевода. Такъ, личность Каспи и его небрежная, медвѣжеватая, если такъ можно выразиться, рѣчь совершенно упущены г. Михайловскимъ. Мы замѣтили также нѣсколько плохихъ стиховъ и даже «съ единены» вмѣсто «соединены» – это непростительно. Поэтъ долженъ быть мастеромъ своего стиха, а не наоборотъ. Это все равно, что не умѣя рисовать браться писать большую картину.
(обратно)3
Не принадлежитъ ли Гервинусъ къ ярымъ защитникамъ женской эмансипацiи?
(обратно)4
Гг. нигилистамъ, считающимъ себя послѣдователями Бэкона, не дурно бы принять это къ свѣдѣнiю, а равно и то обстоятельство, что Бэконъ въ поэзiи видѣлъ нѣчто «божественное». Или ужь пора и Бэкона по боку? Невѣжество, такъ полное невѣжество!
(обратно)5
У насъ на все необходима оговорка, а потому мы должны прибавить, что это сказано не въ осужденiе Шиллера. Не въ исторической драмѣ его сила, а въ благородномъ энтузiазмѣ, въ неустанномъ паѳосѣ. Никто не сомнѣвается, что Пушкинъ весьма уважалъ Байрона, но это уваженiе не попрепятствовало ему сказать правду о драматическихъ произведенiяхъ Байрона. Это выражено даже довольно рѣзко, именно: Byron, le tragique est masquin devant lui, (т. е. Шекспиромъ).
(обратно)6
По переводу г. Михайловскаго.
(обратно)7
По переводу Вронченки. Странно, что Вронченко, глубокiй знатокъ Шекспира, нашелъ, что эта рѣчь «странная фигура подлинника» и сохранилъ ее не въ текстѣ, а единственно въ примѣчанiи.
(обратно)8
Маргаритой, женой Генриха VI.
(обратно)9
Iоркъ съ своими приверженцами (бѣлая роза на шляпахъ) ворвался въ парламентъ; онъ принудилъ короля (красная роза) признать себя его наслѣдникомъ, но взамѣнъ того поклялся, что дастъ Генриху VI доцарствовать спокойно. Королева Маргарита, неприсутствовавшая при этомъ, вступилась за права своего сына и выступила противъ Iорка. Iоркъ почиталъ себя разрѣшоннымъ отъ клятвы и началъ войну.
(обратно)10
Уменьшительное отъ Ричарда.
(обратно)11
Въ подлинникѣ ласкательное «the dad».
(обратно)12
Одно изъ стихотворенiй, читанныхъ на этомъ торжествѣ, именно А. Н. Майкова, извѣстно читателямъ «Эпохи», и потому о немъ не сказано въ этой главѣ ни слова.
(обратно)13
Эта рѣчь, а равно и рѣчь г. Тургенева, читанная по отсутствiю автора адъюнктомъ академiи наукъ г. Пекарскимъ, – напечатаны въ N 89 С. Петербургскихъ Вѣдомостей.
(обратно)14
Слова Гамлета.
(обратно)



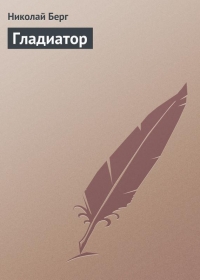



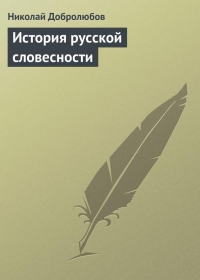

Комментарии к книге «Вилльям Шекспир. Статья I», Дмитрий Васильевич Аверкиев
Всего 0 комментариев