Дмитрий Васильевич Аверкиев Текущая литература
I. Всякому по плечу
По Сенькѣ и шапка.
Пословица.Петербургскiя трущобы. Романъ въ шести частяхъ. Соч. В. В. Крестовскаго. Отеч. Зап. Х, ХI, 64 и I, II, III, 65.
«Петербургскiя трущобы» имѣютъ огромный успѣхъ: всѣ жаждутъ прочесть этотъ дивный романъ, записываются за недѣлю въ библiотекахъ; всѣ наконецъ очарованы, восхищены. Въ одномъ сѣренькомъ листкѣ – названiя мы не приводимъ собственно потому, что оно навѣрно неизвѣстно нашимъ читателямъ – объявлено даже, что романъ г. Крестовскаго произведенiе высоко-художественное и умретъ единственно вмѣстѣ съ русской литературой. Нѣтъ сомнѣнiя, что это похвала ужь черезъ-чуръ усердная и что русской литературѣ не грозитъ опасность умирать въ подобномъ сообществѣ. Но какъ-бы то ни было, романъ читается, приводитъ въ восхищенiе столичныхъ, губернскихъ и уѣздныхъ барынь и барышень и ихъ чиновныхъ обожателей и законныхъ супруговъ. Все это показываетъ, что романъ г. В. Крестовскаго явленiе если не замѣчательное, то знаменательное.
Что до насъ, то намъ вся дѣятельность г. В. Крестовскаго постоянно казалась весьма знаменательной. Сей писатель переживаетъ, такъ сказать, уже второй перiодъ своей славы; первый онъ заключилъ своими великолѣпными «Испанскими мотивами», второй начался съ появленiемъ его новаго романа. Особенность г. В. Крестовскаго состоитъ въ томъ, что онъ договаривается до точки; онъ, такъ сказать, довершитель стремленiй болѣе мелкихъ литературныхъ талантовъ. Этимъ мы вовсе не хотимъ сказать, что у г. Крестовскаго талантъ крупнаго разбора; но согласитесь сами, что онъ смѣлѣе въ картинахъ, остроумнѣе въ подробностяхъ, что его стихъ отличается извѣстной степенью бойкости и юркости, – ну, что вообще г. Крестовскiй замѣчательнѣе напр. хоть г. Минаева. Пояснимъ. Первое – наши самоновѣйшiе поэты стараются перехитрить другъ друга на счотъ риѳмъ: у кого почуднѣе будутъ. И въ этомъ отношенiи никто не превзошолъ г. В. Крестовскаго:
Эта ножка, эта нѣга Ихъ плѣняла съ давнихъ поръ: И одинъ былъ – грандъ Рiега. А другой – торреадоръ.Каковы риѳмы? Что передъ этимъ «Камбекъ» и «Вѣкъ», «аховъ» и «Страховъ», «городовъ» и «стадовъ», «поля» и «Поля» и т. п.? Ничтожество изъ ничтожествъ. Второе, кто изъ сей плеяды поэтовъ не рисовалъ грязныхъ и сальныхъ картинъ (подъ маской обличенiя порока)? Но что значатъ всѣ «Проказы чорта на желѣзной дорогѣ» передъ описанiемъ чѣмъ занимались монахини въ горячую андалузскую ночь, или передъ образомъ поэта, лобзающаго трупъ? Ровно ничего. Тамъ несмѣлость и лживая маска обличенiя, здѣсь крѣпко, какъ помада Мусатова, бьющiй въ носъ ароматъ. Мы могли-бы продолжить это сравненiе, но полагаемъ, что и вышеприведенныхъ двухъ примѣровъ совершенно достаточно. Читателю очевидно, какое глубокое уваженiе питаемъ мы къ высокохудожественнымъ (по выраженiю сѣраго листка) произведенiямъ разбираемаго нами писателя.
Слава «Петербургскихъ трущобъ» далеко разнеслась за долго передъ появленiемъ этого драгоцѣннаго памятника русскаго слова. Если не ошибаемся, то еще года два тому назадъ было объявлено въ «Indépendance Belge», что вотъ-молъ пишется такой романъ. Да не подумаютъ читатели, что предъидущими словами мы намекаемъ на пословицу: добрая слава лежитъ, а худая бѣжитъ. Нѣтъ, мы просто напоминаемъ фактъ, который нѣкоторые можетъ быть запамятовали. Далѣе, чтобъ познакомить публику съ своимъ новымъ произведенiемъ, грозный каратель пороковъ города св. Петра напечаталъ небольшой отрывокъ «Ерши». Отрывокъ этотъ заключалъ въ себѣ описанiе нѣкотораго мошенническаго притона; описанiе хотя часто внѣшнее, но небезъинтересное. Особаго изученiя въ немъ не было видно, но весь отрывокъ былъ замѣтно отдѣланъ. Не скроемъ отъ читателя, что если мудреныя выраженiя мошенническаго жаргона и придавали всей картинѣ внѣшнiй колоритъ правды, то французская постройка сцены ясно обличала въ авторѣ неспособность уловить мѣстныя черты и особенности, которыя вѣроятно существуютъ-же. Ибо странно предположить, что петербуржскiе мошенники до того начитались французскихъ романовъ, что и жизнь свою устроили по плану этихъ произведенiй. Правда также, что и въ «Ершахъ» встрѣчались подробности вовсе неинтересныя, и какъ-бы заимствованныя изъ какого-нибудь фельетона. Таковы напр, старый плутъ извощикъ, обучающiй молодого какъ надувать хозяина, или бѣдный мужичокъ, который гнилой холстины отъ хорошей отличить не можетъ. Но у какого-же современнаго романиста не прорывается, хоть противъ воли, фельетонный пошибъ? У людей истинно-талантливыхъ онъ проглядываетъ, и частенько даже. Зачѣмъ-же быть особенно взыскательнымъ къ г. Крестовскому?
Но правда, но точность наблюденiй, развѣ это не достоинство? Что это за правда и что это за точность – читатель увидитъ дальше. Предварительно замѣтимъ, что авторы, громогласно и широковѣщательно объявляющiе читателямъ, что ихъ сочиненiя суть плоды долголѣтнихъ изученiй и наблюденiй, поступали-бы гораздо умнѣе, если-бы обращали вящее вниманiе на дѣловую сторону и не старались придавать своимъ замѣткамъ объ извѣстномъ бытѣ лжехудожественную ворму. Нѣтъ сомнѣнiя, что всякiй дѣльный, безхитростный разсказъ гораздо лучше плохого романа и найдетъ не меньшiй кругъ читателей. Но – увы! – авторы чаще разсуждаютъ иначе. Причина этому – недостаточное изученiе даннаго предмета, которое легко маскируется романическими украшенiями, и нелѣпое желанiе заинтересовать читателя. Читатель все еще является этимъ господамъ въ видѣ глупаго ребенка, котораго они и думаютъ потѣшать всевозможными нелѣпостями.
Изобилуетъ-ли романъ г. В. Крестовскаго этими украшенiями, или это хорошая дѣльная книга? Съ какой точки смотрѣть на нее? Что хотѣлъ сказать ею авторъ? По счастiю намъ не придется разрывать всей сорной кучи романа, чтобы отъискать исходную точку автора. Намъ не нужно даже ожидать конца романа. Предупредительный сочинитель вѣроятно не надѣялся, что по прочтенiи всего произведенiя, его высокiя цѣли станутъ ясны для читателя, а потому поспѣшилъ въ концѣ первой части объяснить свои возвышенныя намѣренiя. И прекрасно. Мы станемъ смотрѣть на «Петербургскiя трущобы» именно съ той точки, съ какой угодно г. автору.
Эпиграфомъ къ слову «Отъ автора къ читателю» стоитъ слѣдующее: «Не тотъ циникъ, который (почему не кто?) указываетъ на язвы грызущiя общество; но тотъ циникъ, который, замѣчая эти язвы, часто даже прикасаясь къ нимъ, остается хладнокровнымъ ихъ зрителемъ». Очевидно, что въ первой половинѣ эпиграфа авторъ намекаетъ на себя, т. е. не желаетъ, чтобы его за циника приняли. Другого толкованiя эпиграфу дать нельзя. Замѣтимъ только, что опредѣленiе: кто есть циникъ, сдѣлано не совсѣмъ вѣрно, ибо «указывать на язвы грызущiя общество» можно совершенно цинически, напр. можно любоваться картиной разврата собственнаго произведенiя. И этотъ послѣднiй цинизмъ горше перваго.
Авторъ далѣе разсказываетъ, что многiе его друзья и знакомые, которымъ онъ читалъ свое сочиненiе въ рукописи, неоднократно спрашивали его: «неужели все это такъ, все это правда?» Немудрено, что такой вопросъ придетъ въ голову и читателямъ, и вотъ авторъ для того, чтобы увѣрить его «точно-ли это правда», разсказываетъ о томъ, какъ онъ задумалъ писать свой романъ. Оказывается, что признанiе свое г. В. Крестовскiй почувствовалъ вслѣдствiе того необыкновеннаго происшествiя, что «шесть лѣтъ тому назадъ, въ 1858 г. на Сѣнной площади, ражiй мущина, повидимому отставной солдатъ, билъ полупьяную женщину». Это служитъ новымъ подтвержденiемъ той великой истины, что малыя причины производятъ великiя слѣдствiя. Г. В. Крестовскiй, вслѣдствiе вышеописаннаго происшествiя, попалъ въ одинъ изъ «отвратительныхъ прiютовъ», гдѣ и узналъ урывками кое-что изъ жизни побитой женщины и ея товарокъ, но «черезъ (т. е. вѣроятно сквозь) эти урывки для него <нрзб> драма: – такая драма, въ которой «за человѣка страшно становилось».
Какъ человѣкъ просвѣщонный, г. Крестовскiй задалъ себѣ нѣсколько важныхъ вопросовъ (вопросовъ впрочемъ неновыхъ); эти вопросы привели его къ порицанiю «нашего общества, столь щедраго на филантропическiе возгласы, обѣды и теорiи». Порицанiе впрочемъ нѣсколько странное въ устахъ почтеннаго автора, потому что пришедшiе ему въ голову вопросы составляютъ только блѣдный отголосокъ «филантропическихъ возгласовъ, обѣдовъ и теорiй». Авторъ сознается впрочемъ, что вопросы эти не онъ самъ выдумалъ, но онъ надѣется, что авось найдутся такiе читатели, которымъ «и въ голову они не приходили». Да увѣнчаются успѣхомъ сiи возвышенныя надежды.
Вопросы задалъ себѣ г. В. Крестовскiй въ качествѣ человѣка просвѣщоннаго: – въ качествѣ человѣка литературнаго, онъ тотчасъ-же принялся за писанье и окрестилъ свое произведенiе Содержанкой. Но путнаго, по сознанiю самаго сочинителя, ничего не вышло, хоть онъ работалъ съ жаромъ. Тѣмъ не менѣе онъ тотчасъ задумалъ романъ изъ жизни, которой еще не зналъ, ибо урывки страшной драмы не составляютъ знанiя.
Это признанiе автора весьма характерно: онъ не потому началъ писать романъ, что у него накопились матерiалы, но потому началъ собирать матерiалы, что ему вздумалось написать романъ. И вотъ онъ началъ изучать петербуржскую жизнь и ея типы «съ тѣхъ сторонъ, которыя оказывались пригодными, подходящими для его идеи». Какова собственно эта «его идея» авторъ, вѣроятно по скромности, не упоминаетъ, но надо подозрѣвать это идея – «написать романъ». Извѣстно всякому, что изученiе жизни только тогда удается, когда оно производится свободно, безъ всякой предвзятой мысли; что смыслъ жизни долженъ быть выведенъ изъ нея самой, и т. д. Но эти «идеи», какъ оказывается, были неизвѣстны г. Крестовскому. И мы вовсе не удивляемся, что «черезъ нѣсколько лѣтъ úсподвольныхъ наблюденiй», г. авторъ увидѣлъ ясно то, «что трущобы кроются не исключительно около Сѣнной, что онѣ весьма многообразны, и поэтому далъ своему роману его настоящее названiе». Въ самомъ дѣлѣ, какое великое открытiе! Оно равноцѣнно извѣстнымъ выраженiямъ «вездѣ есть добрые и злые люди», или «и черезъ золото льются слезы», и т. п.
Да не подумаетъ читатель, что мы съ какой-нибудь задней мыслью останавливаемся такъ долго на послѣсловiи къ первой части романа г. Крестовскаго. Все это совершенно необходимо, чтобы по достоинству оцѣнить новое произведенiе болотной музы; если-бы мы слегка отнеслись къ нему, то насъ навѣрно-бы укорили въ легкомыслiи, пристрастiи и, чего добраго, даже въ зависти.
«Считаю долгомъ предварить:» – повѣствуетъ далѣе авторъ – «романъ этотъ отнюдь не обличенiе, или памфлетъ на личности; нить разсказа и большая часть событiй и эпизодовъ суть дѣло вымысла. Тѣ матерiалы, которые давала мнѣ жизнь, то есть все что я видѣлъ и слышалъ, послужили для меня только матерiалами (а чѣмъ-же еще матерiалы могутъ быть?); совокупность отдѣльныхъ явленiй и фактовъ – жизненныхъ, юридическихъ и иныхъ – дала мнѣ возможность сдѣлать нѣсколько типовъ. Я заботился только о томъ, чтобы въ этихъ картинахъ и типахъ была общая вѣрность нашей жизни. На сколько-же успѣю (очевидно романъ еще не конченъ) я сладить съ такою задачею – будетъ судить читающая масса и критика, если только она соблагоизволитъ отнестись къ моему роману критически, и т. д.
(От. Зап. Х, 64, стр. 854 и 855).»И такъ г. Крестовскiй поставилъ себѣ задачею изобразить во всей ужасающей наготѣ порокъ, бѣдность и прочiя несовершенства петербуржской жизни и для этого вымыслилъ большую часть событiй. Онъ опасался, чтобъ его романъ не былъ памфлетомъ, или вѣрнѣе сплетней. Посмотримъ, нѣтъ-ли въ немъ сплетней. Матерiалы послужили для него только матерiалами. Посмотримъ, какое зданiе онъ построилъ и что за матерiалы собралъ. Совокупность отдѣльныхъ явленiй и фактовъ дала ему возможность сдѣлать, какъ онъ выражается, нѣсколько типовъ. Сдѣлать очевидно по скромности употреблено вмѣсто создать; скромность странная у господина, который завѣряетъ, что въ его произведенiи есть типы. А что если при провѣркѣ ихъ не окажется?
Кромѣ этихъ обѣщанiй и хвастливыхъ завѣренiй, выписанное нами мѣсто замѣчательно какъ обращикъ того, какъ наши такъ-называвемые реалисты понимаютъ художественное дѣло. Первое – они совершенно отрицаютъ или по крайней мѣрѣ отодвигаютъ на самый заднiй планъ внутреннюю художественную силу. У нихъ главнымъ являются не художественныя силы, не владѣнiе ими, – а собранные матерiалы. Какъ-бы чувствуя свое артистическое безсилiе, они упираютъ на то, что они наблюдали, изучали, раскапывали. Не въ наблюдаемомъ, а въ наблюдателѣ сила. По неволѣ вспомнишь восклицанiе Карляйля: «для Ньютона и ньютоновой собаки Даймонда – какiя двѣ различныя вселенныя! а между тѣмъ на сѣтчатой оболочкѣ ихъ глазъ онѣ отражались совершенно одинаково, тожественно!» «Помилуйте, я видѣлъ это своими собственными глазами! я самъ это слышалъ!» – вотъ аргументы новѣйшаго реализма. Они забываютъ, что смотрѣть и видѣть, слушать и слышать – двѣ вещи разныя. Для васъ это простой обломокъ кости, такого-то вида, такой-то длины и толщины, а для Кювье эта кость – ключъ къ цѣлымъ исчезнувшимъ мѣрамъ. Для васъ она имѣетъ извѣстное протяженiе и извѣстный вѣсь, и больше ничего, а для великаго натуралиста она имѣетъ еще извѣстный смыслъ. Этого-то внутренняго пониманiя, этого проникновенiя въ смыслъ и не достаетъ нашимъ реалистамъ (художникамъ и философствующимъ – безъ различiя). Художникъ калькируетъ природу и удивляется, какъ смѣютъ находить, что его изображенiе непохоже. Онъ замѣтилъ всѣ мелочи: какiе у человѣка глаза, и что онъ ходитъ слегка, почти незамѣтно, прихрамывая на лѣвую ногу и даже крошечный шрамъ на два съ половиной пальца выше праваго глаза, и даже то, что третья снизу пуговица на сюртукѣ немного криво пришита, – и думаетъ, что этихъ мелочей достаточно, что онъ нарисовалъ человѣка съ такимъ совершенствомъ, какого не знали старинные художники. И находятся поклонники такого безобразiя, увѣряющiе, что они видятъ не пародiю, а живого человѣка. Живой человѣкъ, у котораго не достаетъ бездѣлицы – «духа жива». Въ сущности такiя изображенiя представляютъ большiя безпорядочныя кучи, гдѣ напичкано великое множество всякихъ ненужныхъ мелочей и подробностей; и въ этой кучѣ копошится до устали художникъ-муравей, перебирая и переставляя свое достоянiе; ужь онъ и такъ, и сякъ хлопочетъ, – а куча тѣмъ не менѣе остается все-таки одной безобразной кучей. Нѣтъ ничего мудренаго, что такой художникъ эту кучу считаетъ самымъ главнымъ; онъ со всѣми своими наблюденiями и изученiями совершенно поглощается ею. И выходитъ, что не онъ владѣетъ матерiаломъ, а матерiалъ имъ владѣетъ. Нѣкоторые, кажется, до того умилились передъ этимъ псевдореалистическимъ направленiемъ, что стали представлять публикѣ сырой матерiалъ. И диви это дѣлали-бы люди бездарные, – а то такiя сильныя дарованiя, какъ г. Писемскiй, какъ-бы умышленно унижаютъ себя до званiя собирателей анекдотовъ и печатаютъ «Русскихъ Лгуновъ»!
Всякiй истинный художникъ прежде всего стремится выразить самого себя, святую святыхъ своей души. Если внутри человѣка нѣтъ ничего, чтó-бы онъ могъ сказать другимъ людямъ, если въ немъ не сосредоточены силы, а напротивъ онъ самъ свое достоинство полагаетъ въ томъ, что въ состоянiи замѣтить мелочи, и однѣ только мелочи, и чѣмъ больше, тѣмъ лучше, – то лучше такому человѣку оставить въ покоѣ искусство. Матерiалъ такъ ничтоженъ передъ тѣмъ, что поэтъ создаетъ изъ него. Сравните трагедiю о Гамлетѣ съ разсказомъ Саксона Грамматика! Шекспиръ видѣлъ въ немъ то, что скрыто отъ другихъ, – но то, что онъ видѣлъ, теперь ясно и открыто и понятно для всѣхъ, потому что въ поэтѣ была сосредоточена эта великая сила прозрѣвать въглубь, видѣть сокровенный смыслъ, – сила, которой въ извѣстной степени одарены всѣ люди. Оттого-то и дорогъ людямъ этотъ великiй провидецъ. Не долженъ-ли всякiй художникъ, какъ-бы малы ни были сравнительно его силы, стремиться къ этому? Не долженъ-ли онъ, способный нарисовать только жанръ, извѣстнаго (и сравнительно ограниченнаго) рода картину, руководиться тѣмъ-же стремленiемъ?
И что-же мы видимъ? Это-то именно спасительное стремленiе и осуждается. Цѣнятся внѣшнiя, несущественныя достоинства. Цѣнится то, что чѣловѣкъ смотрѣлъ, а не то: какъ и что онъ видѣлъ и есть-ли въ немъ сила видѣть что-нибудь кромѣ наружных очертанiй и наростовъ?
Всего забавнѣе, когда подобные собиратели матерiаловъ вздумаютъ втиснуть ихъ въ художественную форму. Это въ родѣ геометрiй и химiй въ стихахъ. Выходитъ нѣчто весьма безобразное, такъ-же относящееся къ искусству, какъ нелѣпость къ здравой идеѣ.
И вотъ передъ нами опять вопросъ: отчего эти господа пишутъ безобразные повѣсти и романы, а не хорошiя дѣльныя книги? Отвѣтъ, кажется, долженъ быть такой: оттого, что дѣльную книгу написать такъ-же трудно, какъ и художественное произведенiе. Талантъ всегда нападаетъ на истинную дорогу, разъяснитъ себѣ къ чему онъ способенъ, – но не то съ посредственностью, которая составляетъ зерно нашей текущей литературы. Она никакъ не умѣетъ опредѣлиться, найти, какъ говорится, востокъ (орiентироваться). Оттого, вмѣсто дѣльныхъ учебниковъ, мы видимъ такое множество популярныхъ книжонокъ, гдѣ разныя присказки и побасенки составляютъ самую существенную часть. Оттого наши кропотливые наблюдатели никакъ не могутъ просто записать своихъ наблюденiй, а хотятъ, въ что-бы то ни стало, сдѣлать изъ накопившихся матерiаловъ типы. Но – увы! – чтобы создать типъ, надо прежде всего имѣть способность къ этому. Наши реалисты слѣдуютъ мудрому изреченiю: «чтобъ сдѣлать штуфатъ изъ зайца, надо сперва его поймать», забывая, что можно поймать зайца, но тѣмъ не менѣе не умѣть сдѣлать изъ него штуфата. Никакiя старанiя не помогутъ этому, сколько-бы вы «ни заботились о томъ, чтобъ въ картинахъ и типахъ была общая вѣрность нашей жизни», – отъ одной этой заботы путнаго ничего не произойдетъ. Синица также весьма большiя старанiя прилагала зажечь море, – да не зажгла.
И это называется правдой, реализмомъ? Если въ этомъ правда, то тѣ, кто умѣетъ передразнивать пѣнiе птицъ и жужжанiе осъ, – великiе художники. Петербургскiй чиновникъ надулъ уѣздныхъ взяточниковъ, – какой водевильный сюжетъ! Гдѣ тутъ долголѣтнiя наблюденiя, изысканiя, желанiе изобразить этотъ случай именно такъ, какъ онъ произошолъ? И изъ этого выходитъ безсмертная комедiя. Все общество узнаетъ себя въ этой генiальной картинѣ, общество, жившее ложью, забывшее внутреннюю правду, – и это все заключается въ этомъ водевильномъ сюжетѣ. Птицы строятъ какой-то небывалый городъ: Облакокукушкинъ – (Нефелококсигiю) – и заранѣе торжествуютъ свою побѣду надъ безсмертными и смертными. Что за нелѣпость! И въ этомъ произведенiи божественнаго Аристофана люди узнаютъ себя! Должно быть есть правда выше фотографической правды; должно быть истинный реализмъ состоитъ въ вѣрности человѣческой природѣ, а не въ томъ, чтобы замѣтить сколько прыщей на лицѣ у Петра Ѳедоровича. Правда, у васъ будетъ въ выигрышѣ фактъ, что прыщей дѣйствительно столько-то, но только этотъ фактъ и будетъ въ выигрышѣ, а болѣе ничего.
Теперь мы пригласимъ читателя полюбоваться на этотъ новый реализмъ. Въ романѣ г. Крестовскаго онъ доведенъ до точки, до nec plus ultra. Мы принуждены будемъ спуститься въ очень низменную сферу; мы должны будемъ принимать во вниманiе самыя пошлыя, обыденныя и затасканныя истины, которыя такъ называются собственно потому, что въ нихъ нѣтъ никакой истины; мы будемъ свидѣтелями самыхъ грязныхъ картинъ.
Весь романъ г. Крестовскаго состоитъ изъ премудрыхъ разсказовъ о томъ, какъ дѣвица разрѣшилась отъ бремени, какъ пала честная женщина вслѣдствiе прiема извѣстнаго состава въ чашкѣ кофе, какъ мужъ засталъ свою жену въ объятiяхъ управляющаго, какъ мошенники надули iезуита и т. п. Происшествiя, какъ видите, необыкновенныя. И разсказаны они также необыкновенно и съ великими претензiями. Мы сдѣлаемъ нѣсколько выписокъ.
Князь Шадурскiй застаетъ свою супругу съ любовникомъ. Сцена.
«Онъ (князь) позабылъ себя отъ бѣшенства и вдругъ, въ отвѣтъ на укоризненное восклицанiе княгини, раздался хлесткiй звукъ пощочины.
Княгиня взвизгнула и навзничь грохнулась на полъ.
Шадурскiй съ минуту постоялъ надъ нею, молча и холодно глядя на ея рыданiя, и тихо вышелъ изъ будуара.
Онъ уже успѣлъ овладѣть собою.
– Сними съ меня эту перчатку! спокойно и твердо сказалъ онъ лакею, войдя въ кабинетъ свой.
Тотъ акуратно исполнилъ это экстраординарное приказанiе.
– Брось ее въ огонь! сказалъ онъ еще болѣе равнодушнымъ тономъ – и лайка тотчасъ-же затлѣлась въ пламени камина.
Князь чувствовалъ, что онъ «разыгралъ хорошо», что онъ долженъ быть необыкновенно эфектенъ и величественъ въ эту минуту.
Жалкiй человѣчишко!.. онъ рисовался передъ самимъ собою своимъ quasi-байроновскимъ демонизмомъ!..
(О. З. Х, 64, 829)».Наше сожалѣнiе не къ князю, а къ автору, который такъ «разыгралъ хорошо» эту сцену и вѣроятно полагаетъ, что она необыкновенна эфектна и величественна. Выдумать такую нечеловѣческую сцену, сочинить небывалую нелѣпость, разсказать все это торжественнымъ слогомъ, гдѣ каждое слово отчеканено, и рисоваться своей наблюдательностiю и изученiемъ передъ читателями, – вотъ по истинѣ вещь достойная сожалѣнiя. Намъ особенно нравится это quasi-байроновское негодованiе на эту выдуманную самимъ авторомъ небылицу.
Перейдемъ къ воспитанiю. Дѣло идетъ о сынѣ вышеназванной четы.
«Однажды на дачѣ, онъ далъ пощочину ровеснику своему, сыну садовника, за то, что тотъ не смѣлъ по его приказанiю выдернуть изъ грядки какое-то растенiе. Княгинѣ Татьянѣ Львовнѣ (матери) это показалось ужь слишкомъ, и она пожелала внушить своему сыну примѣръ (примѣръ не внушаютъ, а показываютъ) христiанскаго смиренiя.
– Проси у него прощенiя! сказала она ему, подозвавъ обоихъ.
– У кого? съ удивленiемъ спросилъ маленькiй князекъ.
– У этого мальчика… ты его обидѣлъ, и я требую, чтобъ ты просилъ прощенiя.
– Madame! vous oubliez que je suis le prince Chadursky! гордо отвѣтилъ князекъ и, круто повернувшись, отошолъ отъ матери. Княгиня ничего не нашлась (т. е. не нашла) возразить противъ такого сильнаго и неоспаримаго аргумента».
(От. З. ХI, 64, 21 и 22).«И это говорилъ шестилѣтнiй ребенокъ!» восклицаетъ авторъ. Успокойтесь, ни одинъ ребенокъ никогда не говорилъ ничего подобнаго. Но у сочинителя засѣли разныя ходячiя мнѣньица о влiянiи воспитанiя и онъ вздумалъ воспользоваться ими въ романѣ и тѣмъ доказать современность своихъ убѣжденiй. Объ томъ-же князькѣ разсказывается какъ у него сдѣлалась горячка, когда сынъ садовника поколотилъ его, и вообще такъ обставляется его дѣтство, что вы думаете, что этотъ черезъ-чуръ самолюбивый мальчикъ – лордъ Байронъ. Успокойтесь, это просто фактъ первой руки. О воспитанiи-же говорится почти то-же, что въ «Гувернерѣ», комедiи г. Дьяченко.
Мы могли-бы привести еще множество подобныхъ мѣстъ для показанiя, какъ г. Крестовскiй дѣлаетъ свои типы. Но хорошаго по немножку. И потому пропускаемъ ростовщика Морденку, «сдѣланнаго» по образцу множества ростовщиковъ и скупцовъ, описанныхъ въ комедiяхъ и романахъ, – благочестивую чету, представляющую пародiю на «Старосвѣтскихъ Помѣщиковъ», – квартальнаго надзирателя, который говоритъ мошеннику: «именемъ закона – я васъ арестую», и т. п.
Не обратимъ также вниманiя ни на ужасающiй французскiй языкъ, которымъ выражаются аристократы, – ни на великое знанiе мошенническаго жаргона, къ которому авторъ относитъ выраженiе трактирный завсегдатый, встрѣчающееся у Гоголя.
Описавъ какую-нибудь небылицу, авторъ производитъ восклицанiя въ родѣ двухъ вышеприведенныхъ. Эти восклицанiя напоминаютъ намъ гоголевскаго Собачкина, который, выдумавъ исторiю какъ одна барыня высѣкла своего мужа, начинаетъ негодовать на нее: «Говорятъ: образованная женщина, учитъ дѣтей поанглiйски! Какое – просто сѣчотъ каждый день мужа, какъ кошку!»
И то сказать, коли рисовать злодѣевъ, такъ рисовать! Кутить, такъ кутить!
Остановимся еще на одной картинѣ. Это паденiе честной женщины. Г-жа Бероева изображена авторомъ идеаломъ жены: обучаетъ дѣтей, ведетъ хозяйство, страстно любитъ мужа, – и она падаетъ. И какъ обставлено это? Мужъ уѣзжаетъ, у жены не хватаетъ денегъ. Опытная хозяйка, часто живущая съ дѣтьми одна, не знаетъ что дѣлать, гдѣ достать денегъ, гдѣ заложить вещи. За ней уже слѣдятъ: генеральша фонъ-Шпильце – то-же что гётевская Марта – зорко ждетъ, нельзя-ли ее уловить въ свои сѣти. Черезъ горничную Бероевой она узнаетъ, что та въ нуждѣ, и является покупать у нея вещи. Г-жа Бероева очень рада. Эта высоконравственная женщина не поняла, даже смутно, кто явился къ ней; ее не оттолкнуло отъ генеральши даже инстинктивное чувство отвращенiя, которое всякая мало-мальски порядочная женщина непремѣнно обнаружитъ къ личности, подобной генеральшѣ. Генеральша отговаривается тѣмъ, что позабыла деньги, или чѣмъ-то въ этомъ родѣ, и приглашаетъ г-жу Бероеву заѣхать къ ней завтра утромъ и т. д. У генеральши г-жу Бероеву угощаютъ кофеемъ; нежданно является молодой Шадурскiй и генеральша исчезаетъ. Конечно на другой день г-жа Бероева получаетъ отъ мужа по почтѣ деньги. Но не въ этомъ дѣло; у автора цѣль была другая. Что за важность, – пусть разсказано все это не совсѣмъ ладно, – ему главное описать дѣйствiе «чашки кофе». Вотъ это безстыжее и глупенькое, по литературнымъ цѣлямъ автора, описанiе:
«Князь продолжалъ болтать, но Бероева не слышала и не понимала, чтò говоритъ онъ. Съ нею дѣлалось что-то странное. Щоки горѣли необыкновенно яркимъ румянцомъ; ноздри разширились и нервно вздрагивали, какъ у молодой лошади подъ арканомъ; всегда свѣтло-спокойные голубые глаза вдругъ засверкали какимъ-то фосфорическимъ блескомъ и орбиты[1] ихъ то увеличивались, то смыкались на мгновенiе заволакивая взоры истомной, туманной влагой, чтобъ тотчасъ-же взорамъ этимъ вспыхнуть еще съ большею силой. Въ этихъ чудныхъ глазахъ свѣтилось теперь что-то вакханическое. Изъ полураскрытыхъ, воспаленно-пересохшихъ губъ съ трудомъ вылетало порывистое, жаркое дыханiе: его какъ-будто захватывало въ груди, гдѣ такъ сильно стучало и съ такимъ щекотнымъ ощущенiемъ замирало сердце. Съ каждымъ мгновенiемъ эта экзальтацiя становилась сильнѣе и сильнѣе – и въ нѣсколько минутъ передъ Шадурскимъ очутилась какъ-будто совсѣмъ другая женщина. Отъ порывистыхъ, безотчотныхъ метанiй головой и руками волоса ея пришли въ безпорядокъ и тѣмъ еще болѣе придали красотѣ ея сладострастный оттѣнокъ. Она хотѣла подняться, встать, – но какая-то обаятельная истома приковывала ее къ одному мѣсту; хотѣла говорить – языкъ и губы не повиновались ей болѣе. Въ послѣднiй разъ смутно-мелькнувшее сознанiе заставило ее обвести глазами всю комнату: она какъ будто искала генеральшу, искала ея помощи и въ то-же самое время ей почему-то безотчотно хотѣлось, чтобы ее не было, чтобъ она не приходила. И точно: генеральша не показывалась больше. Одинъ только Шадурскiй, переставшiй уже болтать, глядѣлъ на нее во всѣ глаза и, казалось, дилетантски любовался на эту опьяняющую, чувственную красоту.
Но вотъ онъ поднялся съ своего кресла и пересѣлъ на диванъ, рядомъ съ Бероевой. По жиламъ ея пробѣгало какое-то адское пламя, передъ глазами ходили зелено-огненные круги, въ ушахъ звенѣло, височныя голубоватыя жилы налились кровью и нервическая дрожь колотила всѣ члены.
Онъ взялъ ее за руку – и въ этотъ самый мигъ, отъ одного этого магнетическаго прикосновенiя, – жгучая, бѣшеная страсть заговорила во всѣмъ ея тѣлѣ. Минута – и она, забывъ стыдъ, забывъ свою женскую гордость, и вся внѣ себя, конвульсивно сцѣпивъ свои жемчужные зубы, съ какимъ-то истомно-замирающимъ воплемъ, сама потянулась въ его объятiя…
Долго длился у нея этотъ экстазъ, и долго смутно ощущала и смутно видѣла она, словно въ чаду, черты Шадурскаго, пока наконецъ глубокiй, обморочный сонъ оковалъ ея члены».
(О. З. ХI, 64, 61 et seq.)Много намъ случалось читать циническихъ описанiй, но такого задорного – никогда. Что передъ этимъ фельетонъ нѣкотораго путешественника по Испанiи, съ необыкновенной подробностью описавшаго морскую болѣзнь. Что передъ этимъ сцена изъ нѣкоторой англiйской трагедiи, гдѣ описываются на-голо всѣ мученiя голода; сцена, ради ея циничности, цитируемая Лессингомъ въ его «Лаокоонѣ». Самые игривые пѣсни и романы Поль-де-Кока и Пиго-Лебрена цѣломудрены въ сравненiи съ этимъ. Да чтó – даже «Испанскiе мотивы» самого г. В. Крестовскаго, – невинность передъ этимъ.
Сочинитель, вслѣдъ за выписаннымъ нами мѣстомъ, прибавляетъ:
«Въ тотъ-же самый вечеръ проигравшiй свое пари Петька угощалъ Шадурскаго ужиномъ у Дюссо и съ циническимъ осклабленiемъ, слушая столь-же циническiй разсказъ молодого князя, провозглашалъ тостъ за успѣхъ его побѣды.»
Нѣтъ, какъ-бы ни изобиловалъ разсказъ молодого князя непечатными словами, онъ не могъ быть циничнѣе описанiя самого автора. Вотъ гдѣ истинныя трущобы – это въ извращенiи человѣческихъ инстинктовъ. Быть можетъ это реально и вѣрно, но мѣсто этому въ медицинской книгѣ. Да вотъ еще что: ни одинъ медикъ въ свѣтѣ не станетъ съ такимъ сомауслажденiемъ описывать болѣзненные припадки, любоваться безстыдно на нихъ и на свое описанiе. Нѣтъ, говоря словами Гамлета, «глаза безъ осязанiя, осязанiе безъ зрѣнiя, уши безъ рукъ и глазъ, одно обонянiе, или даже хотя слабый остатокъ какого-нибудь настоящаго чувства не могъ-бы на столько оцѣпенѣть», чтобы допустить человѣка сколько-нибудь нравственно-здороваго до подобныхъ описанiй.
«Быть можетъ кто-либо найдетъ», говоритъ г. Крестовскiй въ знаменитомъ послѣсловiи къ 1-й части своего романа, – «что изображенiе этихъ язвъ слишкомъ цинично и даже неблагопристойно. Что-жь дѣлать, таковъ ужь предметъ, избранный мною. Въ этомъ случаѣ я могу отвѣтить только словами покойнаго Помяловскаго: «если читатель слабъ на нервы и въ литературѣ ищетъ развлеченiя и элегантныхъ образовъ, то пусть онъ не читаетъ мою книгу. Докторъ изучаетъ гангрену, опрѣделяя вкусы самыхъ мерзкихъ продуктовъ природы, живетъ среди труповъ, однако его никто не называетъ циникомъ, и т. д.»
(От. З. Х, 64, 856).Какая гордая самоувѣренность! Не слова Помяловскаго надо-бы привести. Надо-бы сказать: «если читатель имѣетъ хотя слабый остатокъ эстетическаго чувства и въ литературѣ ищетъ чего-нибудь кромѣ грубаго развлеченiя и элегантно-развратныхъ образовъ, то пусть не читаетъ мою книгу». Тогда-бы дѣло понятно было и въ эпиграфѣ не зачѣмъ было-бы опредѣлять кто есть циникъ. Доктора никто не станетъ обвинять за то, что онъ изучаетъ гангрену, – но если-бы докторъ, воротясь изъ больницы, сталъ съ засосомъ и «циническимъ осклабленiемъ» разсказывать въ обществѣ о видѣнныхъ имъ мерзостяхъ, то его навѣрно-бы попросили выйти вонъ. Въ литературѣ попросить вонъ нельзя; тамъ произведенiямъ, подобнымъ роману г. Крестовскаго, мѣсто на заднемъ дворѣ вмѣстѣ съ «Физiологiями» Дебе, «Уликами пылкой женщинѣ» и произведенiями въ родѣ «la Justine» маркиза Сада, которыя молодой князь Шадурскiй читалъ когда ему было не болѣе двѣнадцати лѣтъ.
Этимъ мы могли-бы закончить нашу статью, но вотъ еще замѣчанiе: г. Крестовскiй оговариваетъ, что въ его сочиненiяхъ нѣтъ личностей. Зачѣмъ-же онъ помѣстилъ въ III № «Отечественныхъ Записокъ» (сцена въ театрѣ) сплетню, которая еще недавно ходила по городу, слегка измѣнивъ имена дѣйствующихъ лицъ?
О, наши грозные каратели пороковъ! о, грошовые Ювеналы! Me Apollo!
Воробьи, держа въ когтишкахъ Полкопѣечныя свѣчки, Корчатъ Зевсова орла!Но спросятъ насъ: неужели романъ г. Крестовскаго имѣетъ огромный кругъ читателей? Справьтесь у книгопродавцевъ, и вы убѣдитесь, что мы правы. Впрочемъ и Дебе имѣетъ огромный кругъ читателей. Да и чему удивляться? Мало-ли посѣтителей у г. Ефремова, отчего-же не быть читателямъ у г. Крестовскаго?
Есть-же охотники до «la Justine» и говорятъ за такiя книжонки деньги большiя платятъ. Чтожь? Если г. Крестовскiй опишетъ еще нѣсколько порочныхъ дѣйствiй столь-же завлекательно, какъ дѣйствiе «чашки кофею», то и за его романъ со временемъ большiя деньги заплатятъ.
Впрочемъ, и что всего досаднѣе – это то, что маркизъ де Садъ былъ не де Садомъ очевидно по болѣзни, можетъ быть прiобрѣтенной развратомъ, но во всякомъ случаѣ органически разстроившiй человѣческую природу свою и дошедшiй чрезъ это до звѣрскаго образа и до сумасшедшаго дома, куда запряталъ его Наполеонъ I; но г. Крестовскiй старается быть нашимъ русскимъ маркизомъ де Садомъ вовсе не по органическому разстройству природы своей. И мы потому утверждаемъ такъ навѣрно, что имѣемъ неоспоримыя тому доказательства въ необыкновенной холодности всѣхъ сладострастныхъ произведенiй г. Крестовскаго. Не смотря на всѣ очевидныя старанiя его прослыть сладострастнымъ писателемъ, – ничего нѣтъ холоднѣе г. Крестовскаго какъ литератора, – ничего нѣтъ бездарнѣе и придуманнѣе его Испанскихъ мотивовъ (сцена съ трупомъ, двѣ монашенки ночью и проч. и проч.) и всѣхъ его прочихъ сладострастныхъ изображенiй. Убѣдившись въ этой холодности автора, какъ литератора, по его произведенiямъ, мы заключаемъ, что г. Крестовскiй за недостаткомъ настоящей оригинальности, но чтобъ во что-бы то ни стало прослыть оригинальнымъ, хладнокровно и разсчотливо выбралъ себѣ цѣлью сладострастiе и упорно возится съ нимъ, чтобъ прiобрѣсть этимъ способомъ извѣстность, славу и литературную честь. Нѣтъ, ужь по нашему лучше быть настоящимъ, органически-разстроеннымъ де Садомъ, чѣмъ литературнымъ де Садомъ по разсчоту. Это ужь перещеголяло самого де Сада и мы только изъ уваженiя къ почтенному автору назвали давеча такую цѣль «глупенькою…» Впрочемъ – «чешись тотъ, у кого чесотка». Мы вмѣстѣ съ поэтомъ повторяемъ:
Что ни время, то и птицы, Что ни птицы, то и пѣсни, Я-бы ихъ охотно слушалъ, Кабы мнѣ другiя уши.II. Литературное шарлатанство
Стыдъ не дымъ: глаза не выѣстъ.
Пословица.Байронъ въ переводѣ русскихъ поэтовъ, изданномъ подъ редакцiею Ник. Вас. Гербеля. Томъ I, II, III. Спб. 1864 и 1865 г.
Донъ-Жуанъ, поэма Байрона. Пѣснь первая. Переводъ Дм. Минаева. Современникъ, 65, I.
Г. Гербель, какъ извѣстно, издалъ Шиллера въ переводѣ русскихъ поэтовъ. Изданiе весьма удачное и имѣвшее большой успѣхъ. Самъ г. Гербель имѣетъ впрочемъ только ограниченное право на этотъ успѣхъ. Шиллеръ былъ почти весь переведенъ, когда г. Гербелю вздумалось издавать его. Переводы если не всѣ были образцовые, то всѣ были сдѣланы добросовѣстно: переводчики знали Шиллера въ подлинникѣ и хорошо владѣли стихомъ. Нашлись талантливые сотрудники, и между ними Л. А. Мей; его переводы «Пуншевой пѣсни», «Валенштейнова лагеря», «Дмитрiя Самозванца» и др. навсегда останутся образцовыми.
Другое дѣло представлялось относительно Байрона. Здѣсь была очевидная скудость переводовъ: удачныхъ было немного, были переводы просто-на-просто недобросовѣстные. Издателю предстоялъ огромный трудъ. Ему надо было прiискать талатливыхъ сотрудниковъ; ему надо было быть крайне осмотрительнымъ въ выборѣ переводовъ. Если-бы мы прибавили, что редактору слѣдовало самому быть хорошо знакомымъ съ Байрономъ, изучить его въ подлинникѣ, составить себѣ полное и вполнѣ опредѣленное понятiе объ этомъ великомъ поэтѣ, – то конечно это немало удивило-бы читателей: они могли-бы въ правѣ обвинить насъ за то, что мы съ важнымъ видомъ знатока говоримъ такiя общеизвѣстныя истины.
Но, увы! – ни что такъ часто не забывается, какъ общеизвѣстныя истины. Такъ и вышеприведенная истина забыта редакторомъ «Байрона въ переводѣ русскихъ поэтовъ». Вмѣсто дѣльной самостоятельной статьи о Байронѣ, г. Гербель ограничился помѣщенiемъ довольно поверхностной статьи Шера и выписками изъ статьи лорда Маколея, когда-то переведенной въ «Русскомъ Вѣстникѣ». Статья благороднаго лорда нельзя сказать, чтобъ принадлежала къ его лучшимъ статьямъ, а выписки, сдѣланныя г. Гербелемъ, нисколько не объясняютъ даже взгляда Маколея на Байрона. Благородный лордъ «не сомнѣвается, что послѣ самаго строгаго изслѣдованiя отъ Байрона останется еще многое, чтò можетъ погибнуть только вмѣстѣ съ англiйскимъ языкомъ». Увѣренность весьма похвальная, но къ несчастiю никому нѣтъ дѣла до этой увѣренности; вопросъ именно состоялъ въ томъ, чтобы опредѣлить, чтò останется и чтó нѣтъ, fas и nefas Байроновой поэзiи, а этого-то опредѣленiя нѣтъ даже и слѣдовъ въ статьѣ Маколея.
Успѣхъ «Шиллера» окрылилъ г. Гербеля и онъ понялъ, что «русская читающая публика нуждается въ полныхъ переводахъ великихъ иностранныхъ писателей и готова поощрить своимъ вниманiемъ всякую добросовѣстную къ тому попытку». Попытка не шутка, а тѣмъ болѣе добросовѣстная. Г. Гербель въ теорiи весьма ясно понималъ, чтó значитъ эпитетъ «добросовѣстная». Именно, «онъ задумалъ раздѣлить трудъ перевода между нѣсколькими писателями, изъ которыхъ каждый выбралъ-бы для передачи на русскiй языкъ то, что наиболѣе согласуется съ его талантомъ и направленiемъ.» Чего-же лучше? Конечно модное слово направленiе употреблено не совсѣмъ кстати, – ну да не всякое лыко въ строку. При этомъ заботливый издатель не хотѣлъ забывать и прежнихъ переводчиковъ, «которыми многое передано уже въ достаточной степени совершенства».
Сказать по правдѣ, самое большое что мы ожидали въ началѣ отъ этого изданiя, – это посредственнаго перевода Байрона. Мы того мнѣнiя, что русская литература вообще мало занималась Байрономъ, что предварительное изученiе этого поэта весьма недостаточно. Было конечно время, когда Байронъ былъ у насъ извѣстнѣе, но оно уже быльемъ поросло. Новѣйшая наша литература такъ усердно разрывала всякую связь съ предъидущей, такъ нахально издѣвалась надъ самыми дорогими именами, – что воспоминанiе объ изученiи Байрона для нея почти немыслимо. Что-же будетъ, если представители этого самоновѣйшаго направленiя наложатъ свою руку на Байрона? А это, какъ увидимъ, уже совершившiйся фактъ. При томъ эта самоновѣйшая литература весьма небогата поэтическими дарованiями и мы въ правѣ сказать,
Что нашихъ дней изнѣженный поэтъ Чуть смыслитъ свой уравнивать куплетъ.Намъ казалось, что поэтическому переводу Байрона долженъ предшествовать хорошiй прозаическiй.
Но какое кому дѣло до нашихъ надеждъ и ожиданiй: переводъ Байрона на лицо. Передъ нами три первые тома. Изданiе весьма замѣчательное: первые два тома совсѣмъ непохожи на третiй. По первымъ двумъ можно сказать, что изданiе порядочное (не больше, впрочемъ); имя третьему – литературное шарлатанство. И вотъ намъ приходится объ одномъ и томъ-же изданiи вести двѣ разныя рѣчи.
Первый томъ открывается «Еврейскими мелодiями», какъ-бы въ доказательство того, что полнаго хорошаго поэтическаго перевода Байрона въ настоящее время у насъ быть не можетъ. Слѣдовало-бы собрать то, чтó хорошо переведено стихами, а въ случаѣ недостатка удачныхъ поэтическихъ переводовъ предложить переводъ прозаическiй.
«Еврейскiя мелодiи» отличаются необыкновенной грацiей стиха и образовъ; необыкновенно тонкой, едва уловимой поэзiей. Нѣкоторые образы нарисованы такой нѣжной кистью, что мало-мальски грубая передача превратитъ прелѣстнѣйшее стихотворенiе въ очень обыкновенные, если не пошлые, альбомные стишки. Это случилось какъ нарочно съ пьесой, которой открывается книга «She walks in beauty». Представлено два перевода. Одинъ г. Михайловскаго, другой г. Н. Берга. Первый отличается старанiемъ передать ближе подлинникъ и совершенной антипоэтичностью; второй есть скорѣе варьяцiя на байроновскую тему; варьяцiя, въ которой не уловлена внутренняя красота подлинника. Возьмемъ для примѣра второй куплетъ. Вотъ подстрочный переводъ:
«Одной тѣнью больше, однимъ лучомъ меньше – и на половину пропала-бы эта невыразимая словами прелесть; прелесть, которая струится въ каждой пряди чорныхъ, какъ вороново крыло, волосъ и нѣжно свѣтится въ ея лицѣ, гдѣ мысли ясно и кротко-нѣжно выражаютъ, какъ чисто, какъ драгоцѣнно ихъ обиталище!»
У г. Михайловскаго:
И много грацiи своей Краса-бы эта потеряла, Когда-бы тьмы подбавить къ ней, Когда-бъ луча не доставало Въ чертахъ и ясныхъ и живыхъ, Подъ чорной тѣнью косъ густыхъ.У г. Н. Берга:
Однимъ лучомъ, одною тѣнью болѣ — И безыменной нѣтъ уже красы, Что сладостно покоилась дотолѣ Въ волнахъ ея изнѣженной (?) косы И на челѣ возвышенномъ сiяла, Гдѣ кроткая и тихая мечта Таинственно (?) для смертныхъ начертала, Что свѣтлая скрижаль ея чиста.Не правы-ли мы были въ нашемъ приговорѣ объ обоихъ переводахъ? Можно-ли при передачѣ поэтическаго образа употреблять такiя аптекарскiя выраженiя:
Когда-бы тьмы подбавить къ ней, Когда-бъ луча не доставало?То-же можно сказать и о всѣхъ другихъ переводахъ «Еврейскихъ мелодiй». Хорошихъ на перечотъ четыре (Лермонтова, Случевскаго, гр. А. Толстого, Мина); прочiе даже звучнымъ стихомъ не отличаются. Этого мало: зачѣмъ было стихотворенiе А. Н. Майкова «По прочтенiи Байронова Паденiя Iерусалима» выдавать за переводъ? Это недобросовѣстно и по отношенiю къ поэту и по отношенiю къ публикѣ. Еще бѣда: изъ двадцати-двухъ стихотворенiй восемь переведено самимъ г. Гербелемъ и нѣкоторыя изъ нихъ однимъ г. Гербелемъ. Отчего г. Гербелю было и не побаловаться немного? Ну, ограничился-бы пародiей на переводъ гр. А. Толстаго, и довольно-бы, – а то онъ самолично вздумалъ передавать Байрона. Авторъ стихотворнаго посланiя «Изюмцамъ» и пѣвецъ Манфреда, – что общаго между ними? Любопытно сравнить пародiю г. Гербеля съ прекраснымъ переводомъ гр. А. Толстого.
У гр. Толстого.
Ассирiяне шли, какъ на стадо волкú: Въ багрянцѣ ихъ и въ златѣ сiяли полки; И сiяли ихъ копья далеко окрестъ, Какъ въ волнахъ галилейскихъ мерцанiе звѣздъ.Какой славный стихъ! Въ немъ такъ и слышится движенiе огромной массы войска! Какъ хорошо и поэтически-вѣрно переданы образы подлинника:
The Assyrian came down like the wolf on the fold And his cohorts were gleaming in purple and gold и т. д.А вотъ пародiя г. Гербеля:
Какъ волки не стадо, враги набѣжали… Ихъ орды багрянцемъ и златомъ сiяли… Какъ нà морѣ звѣзды, горѣли мечи, Когда ихъ (?) волна отражаетъ въ ночú (!).Это неуклюжее старанiе употреблять библейскiе образы, эта грамматическая галиматья послѣднихъ двухъ стиховъ – по истинѣ уморительны. Мы не можемъ себѣ отказать въ удовольствiи сдѣлать еще маленькую выписку изъ «Видѣнiя Вальтасара». Надѣемся, что читатели на насъ за это не посѣтуютъ.
…. Нѣтъ, мой другъ, Сальери! Смѣшнѣе отъ роду ты ничего Не слыхивалъ! Слѣпой скрыпачъ въ трактирѣ Разыгрывалъ voi che sapete. Чудо! Не вытерпѣлъ, привелъ я скрыпача, Чтобъ угостить тебя его искусствомъ.И вотъ слѣпецъ начинаетъ разыгрывать «Видѣнiе Вальтасара». Послушайте, развѣ неуморительно!
Царь пируетъ и вдругъ, но впрочемъ у г. Гербеля это не вдругъ, а неизвѣстно какъ:
Тогда средь праздничнаго зала Рука явилась предъ царемъ: Она сiяла и писала, Какъ на пескѣ береговомъ (?); Она сiяла и водила По буквамъ огненнымъ перстомъ. И словно огненнымъ (?) жезломъ, Тѣ (какiе?) знаки дивные чертила.Картина преуморительная. И сiяла и писала, и опять сiяла и водила по буквамъ и въ то-же время чертила эти самыя буквы! Господи, чего только ни дѣлала эта рука! Повторенiе эпитета «огненный» и ужасная грамматическая галиматья, произведенная страшной рукой, – верхъ комизма. Въ томъ-же комическомъ родѣ продолжается и далѣе:
И видя грозное видѣнье, Владыка выронилъ бокалъ (?); Лицо померкло на мгновенье (?) И громкiй (?) голосъ задрожалъ.Болѣе неудачныхъ эпитетовъ не всякому удасться подобрать. Это стоитъ «Орфея въ Аду» и тому подобныхъ пародiй.
Какая простота и образность въ подлинникѣ. Нарисовавъ картину пира, поэтъ продолжаетъ:
«Въ тотъ-же часъ и въ томъ-же чертогѣ персты руки явились передъ стѣной и стали писать какъ будто на пескѣ. Человѣческiе персты; – одинокая рука быстро рисуетъ буквы и чертитъ ихъ, какъ жезлъ. Царь увидѣлъ и задрожалъ – и приказалъ прервать веселье. Ни кровинки въ его лицѣ, дрожитъ его голосъ».
Очевидно у г. Гербеля есть средства издавать Байрона, но нѣтъ средствъ даже посредственно переводитъ. И выходитъ, что лучше быть хорошимъ издателемъ, чѣмъ плохимъ переводчикомъ. Вмѣсто своего плохого перевода, г. Гербелю приличнѣе-бы помѣстить стихотворенiе Полежаева «Валтасаръ»; хотя это и не переводъ, но оно вѣрнѣе передало-бы впечатлѣнiе Байрона, чѣмъ такъ называемый переводъ «русскаго поэта» г. Гербеля.
Скажемъ теперь о другихъ переводахъ первыхъ двухъ томовъ этого изданiя; между ними есть очень хорошiе, напр. «Шильонскiй узникъ», «Паризина», «Мазепа». Если не всѣ они сдѣланы равно удачно и иногда не совсѣмъ точно передаютъ подлинникъ, – то во всѣхъ найдутся вѣрно схваченныя и прекрасно переданныя черты Байроновой поэзiи.
Переводы г. Зорина (Сарданапалъ и Двое Фоскари) сдѣланы весьма добросовѣстно. Мы можемъ только сожалѣть, что они сдѣланы не въ прозѣ. Стихъ у г. Зорина, пожалуй, и правильный, но по большей части вялъ и прозаиченъ. Вотъ почему, не смотря на вѣрность и добросовѣстность перевода, онъ читается нѣсколько тяжело. Нѣтъ этого непрестаннаго одушевленiя, нѣтъ той причудливой восточной изнѣженности, которая по временамъ слышится въ стихѣ Байронова Сарданапала. Но во всякомъ случаѣ такими переводами, какъ г. Зорина, брезгать нельзя. Если-бы весь Байронъ былъ такъ переведенъ, какъ Сарданапалъ и Двое Фоскари, то не только тужить было-бы не о чемъ, а напротивъ – радоваться слѣдовало-бы.
Но вотъ выходитъ третiй томъ и въ немъ – «Чайльдъ Гарольдъ» въ переводѣ г. Минаева. Къ этому-то тому собственно и относится заглавiе нашей статьи. Отличились оба, и переводчикъ и издатель. Если переводы г. Гербеля представляютъ пародiю на Байрона и только смѣшны, – то переводы г. Минаева… Но скажемъ нѣсколько словъ объ этомъ дѣятелѣ россiйской словесности, дѣятелѣ весьма плодовитомъ, но можетъ быть не вполнѣ извѣстномъ нашимъ читателямъ. Спецiальность музы г. Минаева – обличенiе; сперва онъ обличалъ г. Камбека, водопроводы, рысаковъ, – а потомъ обличилъ тѣхъ, кто обличалъ г. Камбека, водопроводы и рысаковъ. Такимъ образомъ его можно назвать самообличоннымъ обличителемъ. Г. Минаевъ объявилъ однажды, что пушкинскiй стихъ теперь общее достоянiе, – но это не мѣшаетъ ему писать стихи, гдѣ невѣрные эпитеты, плеоназмы и грамматическiя ошибки на каждомъ шагу, а также уснащивать свои вирши частицами «вѣдь, ужь, лишь» и тому подобными пособiями плохихъ стихотворцевъ. Далѣе – г. Минаевъ пародировалъ всѣхъ русскихъ поэтовъ отъ Пушкина до г. Плещеева, – но обыкновенно выходило, что его пародiи болѣе походили на печальныя подраженiя какой-нибудь плачевной музы, чѣмъ на пародiи. Случалось ему и самому сочинять стихи, но – увы! эти стихи скорѣе походили на плохiя пародiи, чѣмъ на самостоятельныя излiянiя глубокогражданской поэзiи. Его эпиграммы переносятъ насъ въ первую четверть текущаго столѣтiя и по большей части представляютъ перифразъ слѣдующаго общеизвѣстнаго четырестишiя:
Какое имя хочешь дай Своей поэмѣ полудикой: Петръ длинный, Петръ большой, но только Петръ великiй Ее не называй.Напримѣръ:
№ 1. Скажу вамъ краткiй панегирикъ (?); Къ чему смѣшить весь божiй мiръ, Къ чему твердить всѣмъ: я сатирикъ, Когда вы только лишь (уснащенiе) – сатиръ. № 2. Сей трудъ ученыхъ, бакалавровъ, Учителей, профессоровъ, За то стяжаетъ много лàвровъ, Что издпвалъ его Лаврòвъ. № 3. Испанцы намъ во многомъ пара; Испанцевъ чтитъ народецъ (?)[2] нашъ, Поетъ въ романсахъ mia cara (по итальянски), И даже (уснащенiе) русскiй экипажъ (?) Имѣетъ прозвищѣ: гитара. Очень, очень игриво! Вотъ еще отрывокъ: Разъ проселочной дорогою Ѣхалъ я, – передо мной Брелъ съ котомкою убогою Мужичокъ какъ лунь сѣдой. На ногахъ лаптишки смятыя (?), Весь съ заплатами (т. е. въ заплатахъ) армякъ. Вѣрно доля небогатая Тебѣ выпала, бѣднякъ!«Тéбѣ» очень хорошо, а вотъ другой:
Новаго года лишь (опять лишь!) вспыхнетъ денница, Съ ранняго утра (плеоназмъ) проснется столица. Въ праздничный день никого не смутитъ (почему?), Стонетъ-ли вѣтеръ, иль вьюга крутитъ. и т. д.Но, скажетъ читатель: для чего вы выписываете эти безобразныя вирши? А вотъ потрудитесь узнать, который изъ двухъ выписанныхъ отрывковъ: – пародiя, а который серьозное стихотворенiе?
Заключаемъ: г. Минаевъ не есть бездарность полная, но та жалкая посредственность, которая хуже всякой бездарности. Какъ она ни бьется, ничего у нея не выходитъ. Хочетъ пародiю написать, выйдетъ плохое стихотворенiе; свое задумаетъ изобразить, выйдетъ пародiя; остроту вздумаетъ отпустить, плоско выйдетъ; вмѣсто веселости возбуждаетъ зѣвоту; не знаетъ – похвалить или посмѣяться, и чаще надсмѣхается, потому въ этомъ великiй разумъ полагаетъ. Бьется, бѣдная, какъ рыба объ ледъ, а ничего добиться не можетъ. Важности на себя напускаетъ ужасной; хорошiя слова выучила: о сознанiи, тяготѣнiи зла и протестѣ поговорить умѣетъ.
А каково самолюбiе? Вотъ послушайте:
«Какой-нибудь присяжный критикъ или рецензентъ, крошечное самолюбiе котораго гдѣ-нибудь задѣто въ этой книгѣ, – говоритъ г. Минаевъ въ предисловiи къ изданiю своихъ писанiй, – критикъ, изъ юмористическихъ стихотворенiй признающiй только помѣщенныя въ хрестоматiи Галахова эпиграммы на скупцовъ, волокитъ и т. д., такой критикъ можетъ-быть съ гнѣвомъ воскликнетъ: какая необходимость была издавать всѣ эти полемическiя риѳмы и т. д. и т. д.?
Хотя насъ вѣроятно и задѣлъ г. Минаевъ какой-нибудь эпиграммой, а не задѣлъ, такъ задѣнетъ, но мы гнѣвно не воскликнемъ. Гнѣваться не за что. И вопроса такого намъ даже въ голову никогда не можетъ придти. Отвѣтъ на это давнымъ-давно готовъ: не только нѣтъ надобности издавать подобные стишки, но и писать ихъ не слѣдуетъ; лучше чѣмъ-нибудь полезнымъ заняться. Но что дѣлатъ? Посредственность вездѣ протрется. Напрасно только она нынче въ предисловiяхъ старается разжалобить читателя; вонъ г. В. Крестовскiй тоже Лазаря распѣваетъ. Напрасно, напрасно: нашъ вѣкъ безжалостный и безсердечный. И то наша литература слишкомъ долго терпѣла всякiя нахальства. Пора-бы давно прихлопнуть всю эту пустошь и мелочь. Пора очистить литературную атмосферу отъ мiазмовъ. Ужь очень они величаться стали; чуть не за ароматы себя выдаютъ.
И такъ сей-то г. Минаевъ наложилъ руку на Байрона. Можетъ-быть читателю уже извѣстны открытiя, сдѣланныя нѣкоторыми журналами въ переводѣ «Чайльдъ-Гарольда.» Такъ Б. д. Ч. обратила вниманiе на то, что Карѳагенъ, по переводу г. Минаева, очутился въ Италiи. На это переводчикъ отвѣчалъ, что у него стояло:
Тамъ пали стрѣлы Карѳагена,а наборщикъ набралъ:
Тамъ были стѣны Карѳагена.Премудреные нынче завелись наборщики. Во всемъ они виноваты: вмѣсто Калятафими набираютъ Кастельфидаро (см. «Голосъ»), и всегда наберутъ точно нарочно для показанiя невѣжества автора. Выйдетъ грамматическiй смыслъ и въ то-же время ужасная безсмыслица. Мы не удивимся, если теперь какой-нибудь авторъ напечатаетъ, что въ рукописи его статья или переводъ былъ очень хорошъ, а наборщикъ такъ набралъ, что вышло скверно. Такъ и съ г. Минаевымъ: наборщикъ такъ набралъ его переводъ, что просто читать нельзя. Экой шалунъ наборщикъ!
Чтó стѣны Карѳагена – пустяки! «Отечественныя Записки» въ одной IV пѣсни открыли, что по переводу г. Минаева Понтъ Эвксинскiй превратился чуть-ли не въ горный пикъ, Двина въ Дунай; что онъ Трояна и Трою смѣшалъ; нимфу Эгерiю назвалъ прелестнымъ уголкомъ и т. д. Тамъ-же приведено курьозное описанiе смерти дельфина (см. «О. З.», 65, Февраль, II). Мы въ свою очередь возьмемъ хоть третью пѣсню и заранѣе увѣрены, что откроемъ въ ней дива дивныя. Напр. въ строфѣ XXXVII находимъ слѣдующiе стихи:
Давно-ли слава за тобой Слѣдила льстивою Весталкой.Что за диво? Съ какой стати весталка названа льстивой? У Байрона никакой весталки нѣтъ, а слава названа вассаломъ (thy vassal).
Или стр. XVIII.
Надъ этою печальной нивой, Взрывая бѣшено песокъ, Упалъ орелъ властолюбивый И отъ ударовъ изнемогъ.Куда упалъ орелъ? Не на печальную ниву онъ упалъ, а надъ нею; гдѣ-же онъ взрывалъ песокъ? Но это еще ничего. До сихъ поръ думали, что паукъ тчотъ паутину, а нынче оказывается, что сама
паутина ткетъ узоръ (XLVII).Не говоримъ уже о безпрестанныхъ грамматическихъ ошибкахъ, о «въ» вмѣсто «на», ни объ ужасныхъ риѳмахъ, вродѣ:
Лишь пробуждаетъ содраганье Во мнѣ жизнь шумныхъ городовъ, Нѣтъ въ мiрѣ злѣе наказанья, Какъ быть овцой людскихъ стадовъ;ни о стихахъ, которые могутъ соперничать съ продуктами г. Овчинникова, напр. что лучше:
И сердце, подымая грудь, Казалось хочетъ вонъ прыгнуть (!?)или слѣдующее двустишiе изъ перевода 2 части Фауста:
Васъ-бы, жизненочки, Я цалавнулъ?Стоитъ-ли заниматься раскапыванiемъ этой безобразной кучи? Еще подумаютъ, что мы нарочно отыскиваемъ нелѣпости к г. Минаева, а отыскивать ихъ вовсе не нужно. Возьмемъ напр. II строфу всѣхъ четырехъ пѣсенъ и посмотримъ, осталось-ли хоть малое подобiе Байрона въ переводѣ г. Минаева.
II строфа 1 пѣсни.
Байронъ.
Во время оно на островѣ Альбiонѣ жилъ юноша, который не находилъ услажденiя въ путяхъ добродѣтели, но расточалъ дни свои въ самомъ грубомъ распутствѣ и съ весельемъ раздражалъ сонливое ухо ночи. Увы! по истинѣ это былъ безстыдный парень, сильно предававшiйся попойкамъ и непристойнымъ кутежамъ; на немногое на землѣ милостиво смотрѣлъ онъ, кромѣ наложницъ, да плотоугодныхъ собранiй, да роскошнаго бражничанья всякаго рода.
Quasi-переводъ г. Минаева.
Въ странѣ туманной[3] Альбiона Жилъ прежде (чего? или кого?) юноша; онъ былъ Вполнѣ шалунъ (!) дурного тона, Который (?) оргiи любилъ, Надъ добродѣтелью смѣялся, Разгуламъ ночи посвящалъ, И все, съ чѣмъ въ жизни онъ встрѣчался, Онъ (2-й разъ) равнодушно отвергалъ, И жилъ, поклонникъ наслажденiй, Не зная дѣла и трудовъ, Среди вакхическихъ пировъ, Среди любовныхъ похожденiй, И только отдыхъ (отчего?) находилъ Въ кругу любовницъ и кутилъ.Единственное сходство, что и Чайльдъ Гарольдъ и «шалунъ» (это слово изъ жаргона камелiй очень мало) предавались разврату. Г.Минаевъ не только успѣлъ въ этой строфѣ сдѣлать нѣсколько грамматическихъ ошибокъ, но кромѣ того изъ Чайльдъ сдѣлалъ посѣтителя Ефремова. Обличитель всегда обличителемъ останется. Нечего и говорить, что ни тонъ, ни размѣръ, ни намѣренно-старинный слогъ поэта не переданы, – кто думаетъ о такихъ мелочахъ?
II строфа 2 пѣсни.
Байронъ.
Ветхая деньми! царственная Аѳина! гдѣ, гдѣ твои мощные люди, гдѣ твои великiе духомъ? Прошли – мерцающiе сквозь сонъ былова – передовыми на ристалищѣ, которое ведетъ къ метѣ славы; они взяли призъ и исчезли, – и это все? Школьный разсказъ, быстропреходящее удивленiе! Напрасно ищутъ (здѣсь) оружiе воина и стóлу мудреца; и надъ каждой полуразвалившейся башней, тусклой отъ тумана вѣковъ, еще носится сѣдая тѣнь былой мощи.
Quasi-переводъ г. Минаева.
Афины – старецъ величавый! Твоихъ героевъ древнихъ нѣтъ (неужели?) Они явились въ мiрѣ (?) съ славой, Прошли съ побѣдой (?)… Гдѣ ихъ слѣдъ? Вся эта слава для того-ли, Чтобъ древнимъ подвигамъ добра Подчасъ дивился въ скромной школѣ Досужiй (?) разумъ школяра? Героя мечъ, софиста тогу (?) Здѣсь межъ развалинъ не найдемъ; Подъ тьмой вѣковъ могильнымъ сномъ Здѣсь все сковалось понемногу, И даже тѣни (?) прежней нѣтъ Могущества прошедшихъ лѣтъ.Есть-ли у г. Минаева какое-нибудь подобiе Байрона? Сохраненъ-ли хотя одинъ образъ подлинника? Хотя одна мысль передана-ли правильно? Замѣчательно единственно превращенiе греческой столы въ римскую тогу и выходка противъ классическаго образованiя, выраженная эпитетомъ «досужiй?» Отчего это меча нельзя найти подъ развалинами? Выписывая эту вторую строфу изъ изданiя г. Гербеля, мы нечаянно взглянули на начало третьей и здѣсь наткнулись на такой курьозъ, что не можемъ не выписать:
Встань человѣкъ одной минуты! (?) На эту урну посмотри: Здѣсь вѣжды нацiи сомкнуты, (!?) Боговъ распались алтари.Какъ вы думаете, что это за человѣкъ одной минуты? Что означаетъ вся эта безсмыслица? У Байрона:
Сынъ востока, встань! Приблизься! Подойди, – но не нарушай покоя этой беззащитной урны; взгляни на это мѣсто – гробницу народа, жилище боговъ, на чьихъ алтаряхъ уже погасъ огонь.[4]
Теперь II строфа 3 пѣсни.
Байронъ.
И вотъ снова я на морѣ! еще разъ! А подо мною скачутъ волны, какъ конь, знающiй своего ѣздока. Привѣтствую ихъ рёвъ! Пусть несутъ они меня, куда-бы ни лежалъ путь! Пусть дрожитъ какъ тростникъ натянутая мачта, пусть разорванный парусъ, трепещущiй, носится крѣпкимъ вѣтромъ, – все-же я долженъ идти впередъ: ибо я похожъ на морскую поросль, брошенную со скалы на пѣну океана, и которая должна плыть повсюду, куда-бы ни забросила ее волна, куда-бы ни погнало дыханiе бури.
Quasi-переводъ г. Минаева.
Я снова въ (!) морѣ. Мимо, мимо (?) Какъ кони прыгаютъ, валы… Привѣтъ вамъ, волны! Несдержимо (?) Бѣгите въ даль вечерней мглы (?) Пусть мачты въ бури (?) заскрипѣли, Изорванъ парусъ… труденъ путь, Я понесусь впередъ безъ цѣли, Я долженъ плыть куда-нибудь. Я, какъ и пòросли морскiя, Лечу капризно (!) по волнамъ — Куда, зачѣмъ не знаю самъ, Пока волнами на пески я, Разбитый бурею пловецъ, Не буду брошенъ наконецъ.Переводъ столь прелестенъ, что въ комментарiяхъ не нуждается.
II строфа 4 пѣсни.
Байронъ.
Она (Венецiя) смотритъ только-что вышедшей изъ океана морской Цибелой, величаво возвышаясь въ воздухѣ, въ тiарѣ гордыхъ башень, правительница морей и всѣхъ морскихъ силъ. И такою она была: ея дочери получали въ приданое добычу съ народовъ, и неисчерпаемо-богатый Востокъ лилъ въ ея лона искрящiеся потоки драгоцѣнныхъ камней; она была одѣта въ пурпуръ, на ея пирахъ возсѣдали монархи и считали, что это возвышаетъ ихъ достоинство.
Quasi-переводъ г. Минаева.
Она является Сибелой, Съ тiарою среди (?) кудрей, Съ осанкой царскою и смѣлой, Богиней гордою морей. Всѣхъ (?) дочерей ея приданнымъ Востокъ богатый награждалъ И перлы (?) ей дождемъ нежданнымъ (?) Онъ на колѣни (!) высыпалъ (?). Она подъ пурпуромъ блистала, Дивила роскошью весь мiръ; Она къ себѣ на пышный пиръ Не разъ монарховъ созывала (?) И каждый царь, какъ самъ народъ (какой?), Всегда цѣнилъ такой почотъ.Мы выбрали II-ую строфу каждой пѣсни, но могли-бы выбрать вмѣсто II-ой пятую, десятую, или какую угодно, и все-таки пришли-бы къ тѣмъ-же результатамъ. Если-бы не сыпался дождь, то можетъ быть лился-бы песокъ, или что-нибудь въ этомъ родѣ. Вообще «Странствiя Чайльдъ-Гарольда» въ quasi-переводѣ г. Минаева являются «Странствiями присяжнаго поставщика сатирическихъ стишковъ». Фельетонный тонъ, безсмыслица грамматическая и логическая, измѣненiе смысла ради риѳмы, – все это дѣлаютъ «Странствiя» до того утомительными, что врядъ-ли кто дочтетъ ихъ до конца. Намъ случилось слышать отзывы лицъ, нечитавшихъ Байрона въ подлинникѣ, – «ну ужь вашъ прославленный Байронъ! Это просто фельетонный болтунъ!» Таковымъ онъ и является въ переводѣ «русскаго поэта» г. Минаева.
Сей-же «русскiй поэтъ» помѣстилъ въ № 1 «Современника» за нынѣшнiй годъ переводъ первой пѣсни «Донъ-Жуана», переводъ отличающiйся тѣми-же достоинствами, какъ и переводъ Чайльдъ-Гарольда. Здѣсь вы откроете также не мало курьозовъ. Напр. (стр. IХ) про отца Жуана, дона Хозе, названаго Жозе, говорится, что онъ былъ
Готическiй испанскiй дворянинъ.Вы конечно не сразу догадаетесь, что это такое обозначаетъ «готическiй дворянинъ». У Байрона сказано, что донъ Хозе велъ свой родъ отъ самыхъ настоящихъ «готскихъ» предковъ. Но г. Минаеву неизвѣстно, вѣроятно, какъ Готы попали въ Испанiю, а слово «Gothic» означаетъ также и готическiй. Или въ стр. XVII про мать Жуана говорится:
А нравственность Инессы… здѣсь, казалось, Лишь масло Макассара съ ней равнялось.Какъ масло можетъ равняться нравственности? Что за безсмыслица? Дѣло въ томъ, что макассаровое масло называется «incomparable oil», «l’huile incomparable», «ни съ чѣмъ несравнимое масло», и Байронъ въ шутку говоритъ: «ничто земное не смогло превзойти ея добродѣтелей, кромѣ твоего «ни съ чѣмъ несравнимаго» масла, Макассаръ!»
Донъ Жуанъ написанъ октавами и отличается необыкновенной веселостью, неподдѣльнымъ остроумiемъ, всегда нечаянными сравненiями, неожиданными риѳмами, которыя заставляютъ васъ хохотать на каждомъ шагу. Нѣчто въ родѣ того представляютъ октавы «Домика въ Коломнѣ». Донъ Жуанъ, хотя-бы хорошо переведенный, но не октавами, потеряетъ наполовину.
Нечего и говорить, что г. Минаевъ, столь плохо владѣющiй стихомъ, не совладалъ «съ тройнымъ созвучiемъ»; нечего и говорить, что грошовое остроумiе литературнаго надсмѣшника не въ силахъ предать юмора Байроновой поэзiи. Напр. Байронъ шутливо говоритъ про дона Хозе – «всадникъ лучше его никогда не садился на лошадь, а если и садился, то никогда не спѣшивался», а г. Минаевъ передаетъ это такъ:
Онъ на конѣ сидѣлъ какъ властелинъ!Попоробуемъ опять сличить нѣсколько строфъ. Напр. I. У Байрона:
Мнѣ нуженъ герой: необыкновенное желанiе, Когда что ни годъ, что ни мѣсяцъ является новый, Пока, – по насыщенiи газетъ всякой ложью, — Вѣкъ (нашъ) открываетъ, что онъ не настоящiй; Такихъ мнѣ не стоитъ воспѣвать, А потому беру (въ герои) нашего стараго друга Донъ-Жуана — Мы всѣ видѣли, какъ въ пантомимѣ Его отправили ко всѣмъ чертямъ, – немного преждевременно.У г. Минаева.
Герой мнѣ нуженъ. Странно, можетъ быть (?), Его искать, когда на бѣломъ свѣтѣ Мы постоянно можемъ находить (?) Героя дня воспѣтаго (?) въ газетѣ, Который нынче – лаврами покрытъ, А завтра человѣчествомъ забытъ; Въ герои брать такихъ людей не стану, А прямо перейду я къ Донъ-Жуану.Почему-же прямо? Вся соль первой строфы такимъ образомъ совершенно утрачена.
Или Х.
У Байрона.
Его (Донъ-Жуана) мать была учоная дама, славная Въ каждой отрасли всякой извѣстной науки, Названiе которой когда-либо было произнесено на какомъ-нибудь христiанскомъ языкѣ; Ея добродѣтели могли сравниться единственно съ ея остроумiемъ; Она пристыжала самыхъ свѣдущихъ людей И заставляла рычать добрыхъ отъ внутренней зависти, Потому что они чувстововали, сколь превзойдены Въ своихъ спецiальностяхъ всѣмъ, что она ни дѣлала.Что осталось отъ этого шуточнаго и милаго описанiя въ слѣдующихъ стихахъ г. Минаева?
Жуана мать была посвящена Во всѣ тогда (когда?) извѣстныя науки, Строга къ себѣ, солидна и умна. Отъ зависти ломали[5] жоны (!) руки, Когда (!) она ихъ стала затмѣвать И превосходствомъ явнымъ поражать. Всѣ женщины съ отчаяньемъ шептали, Что отъ нее во всемъ они отстали.Возьмемъ черезъ пять строфъ, XV.
У Байрона.
Иныя женщины рѣжутъ языкомъ: она смотрѣла наставленiемъ, Каждый глазъ – проповѣдь, бровь – поученiе; Она была во всевозможныхъ вещахъ сама для себя вполнѣ удовлетворительнымъ духовникомъ, Какъ оплакиваемый покойный сэръ Самуэль Ромилли,[6] Истолкователь закона, исправитель государства, Котораго самоубiйство было почти аномалiей — Еще одинъ грустный примѣръ, что «все суэта» (А присяжные объявили его сумасшедшимъ),[7]А у г. Минаева.
Языкъ для женщинъ – средство къ болтовнѣ (?!), Она-же, имъ владѣя очень строго, Профессоромъ прослыть могла вполнѣ (sic), Какъ Ромильи, прославившiйся много, Законникъ и учоный (откуда сiе извѣстно?) человѣкъ. Самоубiйствомъ онъ окончилъ вѣкъ, Въ гробу успокоенiе нашедши (!), И (?) судъ рѣшилъ, что былъ онъ сумасшедшiй.Пропустимъ еще пять и возьмемъ ХХ.
У Байрона.
Но донья Инесъ, при всѣхъ ея достоинствахъ, Была высокаго мнѣнiя о своихъ прекрасныхъ качествахъ; И въ самомъ дѣлѣ, нужно быть святымъ, чтобы снести пренебреженiе, И такой (святой) она въ самомъ дѣлѣ и была по своей морали; Но у нея былъ чертовскiй характеръ, И часто она смѣшивала дѣйствительность съ фантазiями И рѣдко пропускала случай Заставить своего «благовѣрнаго» попасть въ просакъ.У г. Минаева.
Умѣя высоко себя цѣнить, Обиды ни передъ кѣмъ не обнаружа (!), Жена могла (!) съ терпѣнiемъ сносить Пренебреженье вѣтреннаго мужа, Но въ ней (у нея) характеръ очень былъ хитеръ (!), Она, ведя учоный длинный споръ, Спускалась иногда къ житейсткой прозѣ, Заставъ въ расплохъ безпечнаго Донъ-Жозе.– Но довольно, довольно! кричитъ читатель. – Избавьте насъ, ради Бога, отъ этихъ безсмысленныхъ виршей!
И намъ кажется, что довольно. Всѣ строфы отличаются такою-же точностью и такимъ-же смысломъ. Теперь нравоученiе:
Мы понимаемъ, почему «Современникъ» помѣстилъ quasi-переводъ Донъ-Жуана и почему «Русское Слово» помѣщало и Чайльдъ-Гарольда. Сiи два органа русской словесности презираютъ искусство и всяческими словами поносятъ великихъ поэтовъ. Для нихъ quasi-переводъ г. Минаева – кладъ; этимъ переводомъ они вѣроятно думали отвадить россiйское юношество отъ изученiя Байрона, явивъ его пустымъ фельетоннымъ болтуномъ. Но какъ эта безстыжая поддѣлка могла попасть въ изданiе Байрона? Очень просто: г. Гербель вѣроятно на столько-же знакомъ съ Байрономъ и англiйскимъ языкомъ, какъ и г. Минаевъ. Мы совѣтуемъ г. Гербелю издать свои и минаевскiе переводы Байрона, присовокупивъ къ онымъ переводъ 2-й части Фауста г. Овчинникова подъ заглавiемъ «Образцовыхъ переводовъ». Можно впрочемъ и другое заглавiе придумать, болѣе поучительное, напр. «Образцы, какъ не слѣдуетъ переводить. Руководство для борзописателей».
Г. Гербель объявилъ, что онъ издаетъ Шекспира. Что если выборъ будетъ такой-же, какъ и Байрона? Что если самъ издатель вздумаетъ перевести что-нибудь? Что если г. Минаевъ наложитъ руку и на Шекспира? Что до г. Гербеля, то мы вполнѣ увѣрены, что онъ станетъ переводить именно: «Love’s Labour’s Lost» и боимся, что все изданiе можно будетъ назвать «Editor’s Labour’s Lost».
Дм. Аверкiевъ.Примечания
1
Неужели орбиты? Извѣстно-ли г. опытному наблюдателю, что такое орбита? Пародируя Пушкина, мы скажемъ: какое плохое знанiе анатомiи, но за то какой задоръ!
(обратно)2
Это тоже родъ уснащенiя, вмѣсто – народъ. Ну ужь народецъ эти новомодные поэты! Невольный каламбуръ.
(обратно)3
Лучше-бы «коварной».
(обратно)4
Пересматривая корректуру, мы наткнулись на новый курьозъ. Далѣе, въ той-же III строфѣ у г. Минаева говорится:
Нѣтъ, не безсмертны даже боги: Упалъ (sic) Юпитеръ, Магометъ.И такъ Магометъ обоготворенъ гяуромъ г. Минаева, что-то скажутъ объ этомъ правовѣрные?
(обратно)5
По грамматическому смыслу слѣдовало-бы сказать: стали ломать.
(обратно)6
Членъ парламента.
(обратно)7
Неожиданная риѳма: «Vanity» (суэта) и «Insanity» (сумасшествiе).
(обратно)



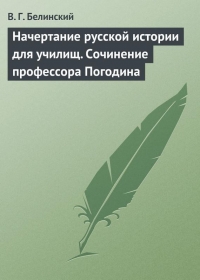

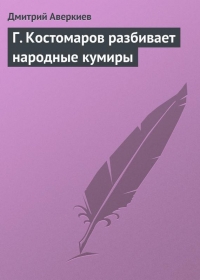
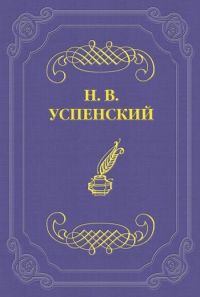
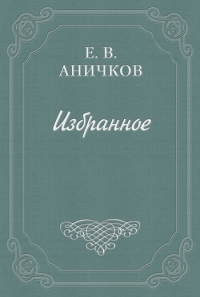

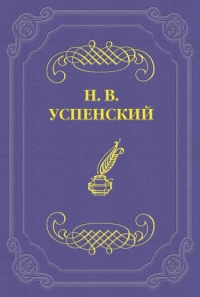
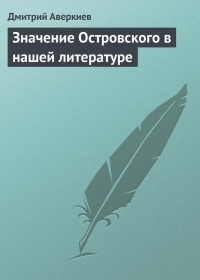


Комментарии к книге «Текущая литература», Дмитрий Васильевич Аверкиев
Всего 0 комментариев