Дмитрий Васильевич Аверкиев Аполлон Александрович Григорьев
Мертвый въ гробѣ мирно спи, Жизнью пользуйся живущiй!Въ пятницу 25–го сентября умеръ нашъ другъ и сотрудникъ Аполлонъ Александровичъ Григоревъ[1].
Потеря его для насъ велика и незамѣнима. Многое еще не досказано имъ; многое, высказанное мимоходомъ, не получило достодолжнаго развитiя.
Чтобы понять и вѣрно оцѣнить жизнь и литературную дѣятельность Григорьева, надо уяснить себѣ его основныя воззрѣнiя, или, вѣрнѣе и лучше, вѣрованiя. Мнѣ кажется я не ошибусь, если скажу, что основой его личности была полная, безъ поворота, вѣра въ жизнь и вѣра въ искусство, какъ въ одно изъ главнѣйшихъ выраженiй жизни. Вѣра въ жизнь во всѣхъ ея проявленiяхъ; въ жизнь безустанно развивающуюся, по своимъ основнымъ извѣчнымъ законамъ; въ жизнь, которую нельзя затиснуть въ рамку никакой – какъ – бы умна она ни была – теорiи; въ вѣчно юную и любящую, постоянно обманывающую строгiя, но сухiя выкладки ума, – въ то, что покойный называлъ иронiей жизни.
И такъ, не предписывать законы ей надо, а съ любовью изучать ихъ; не учить, но поучаться. Не съ легкой насмѣшливостью, а съ благоговѣнiемъ надо приступать къ этому изученiю. Тутъ дѣло въ томъ, чтобы понять, вѣрно оцѣнить данное явленiе; оцѣнить жизненное – ли оно, коренное явленiе, или наносное, механическое; изучить исторiю его развитiя; по мѣрѣ силъ, постигнуть основные законы этого развитiя; но законы эти не ставить мѣркой другимъ подобнымъ явленiямъ, не считать ихъ безусловно – справедливыми; жизнь не справляется о нашихъ выводахъ; жизнь творитъ. И потому – то всякое проявленiе жизни нужно судить, по вѣщему слову пѣвца Полка Игорева, «по былинамъ сего времени, а не позамышленiю Бояню».
Какъ легко и удобно объясняется жизнь по мѣркѣ извѣстной теорiи и какъ трудно изучать ее, открывать ея собственные сокровенные законы! Легко объяснять исторiю человѣчества простыми случайностями, механическимъ сцѣпленiемъ обстоятельствъ, особенно глупостiю и неразвитостiю предковъ; но не легко разгадать законы ея развитiя, – тò какъ постепенно раскрывались они. Какъ легко, во время òно, объяснялась, напримѣръ, исторiя земнаго шара! Геологическiй переворотъ, вслѣдствiе чисто – механическихъ причинъ, – и начинается новый перiодъ. Неизмѣримо труднѣе понять органическую связь двухъ перiодовъ, разъяснить, что послѣдующiй есть высшая степень развитiя предъидущаго!
Механическое, разсудочное объясненiе обыкновенно удовлетворяетъ многихъ, преимущественно скудно – одаренныхъ жизненными силами и скудныхъ мышленiемъ; ктому – же льститъ амбицiи: «какъ это они такъ цѣлые вѣка бьются, а я такъ скоро все это взялъ да и понялъ.» Мѣщанство было всегда не только закоренѣлымъ врагомъ, но и исказителемъ науки. Но не такой человѣкъ былъ Аполлонъ Григорьевъ, чтобы успокоиться подобными объясненiями. Онъ не удовлетворялся поверхностнымъ знанiемъ; онъ не могъ, въ угоду теорiи, не замѣчать жизненнаго явленiя, когда оно тутъ, передъ глазами, громко кричащее о своемъ существованiи. Ему требовалось изучить его, опредѣлить точно, безъ всякой предвзятой идеи. Не отъ предмета, не отъ частнаго явленiя шла его мысль, а къ предмету, къ изученiю частнаго явленiя.
Чтобы вполнѣ и достодолжно оцѣнить критическую дѣятельность покойнаго нужно также показать, какъ зародились въ немъ его воззрѣнiя, какой источникъ оживилъ его мысль.
Бываютъ времена, когда жизнь громко заявляетъ свои требованiя; когда прежнiя спокойныя, отшлифованныя и отполированныя, воззрѣнiя не удовлетворяютъ людей; когда чувствуется потребность новаго, живаго слова; когда условныя понятiя тяготятъ; когда хочется жить не однимъ разсудкомъ, а всѣмъ существомъ, т. е. жить взаправду; когда хочется постигнуть тайну жизни не сухимъ логическимъ путемъ, а всѣмъ душевнымъ и сердечнымъ строемъ; когда мысль и слово становятся живыми, поэтическими, одухотворенными.
Такова была великая эпоха, выразителемъ стремленiй которой былъ великiй учитель людей Шеллингъ. Это было вѣянiе, охватившее все живое и свѣжее. Органическiй взглядъ на природу и человѣческую жизнь, во всѣхъ ея многообразныхъ проявленiяхъ, – такова основа этого ученiя. Что такое организмъ? Это есть нѣчто цѣльное, недѣлимое, законченное въ самомъ себѣ; монада, развивающаяся по своимъ собственнымъ, присущимъ ей, законамъ. Не внѣшнiя причины строятъ организмъ, а онъ самъ развивается изнутри; не внѣшнiя обстоятельства механически видоизмѣняютъ его, а онъ приспособляется къ нимъ; онъ вступаетъ съ ними въ борьбу, онъ силится раскрыть свои законы.
Все это теперь, такъ сказать, наглядно выяснено естественными науками, – но не изъ почастнаго изученiя явленiй природы выведенъ этотъ законъ; изученiе въ этомъ случаѣ шло высшимъ и болѣе живымъ путемъ: отъ мысли къ предмету, а не на оборотъ. Философiя Шеллинга породила такъ называемую натурфилософiю, ученiе, которое Александръ фонъ Гумбольдтъ называлъ умственными сатурналiями, не постигая какой великiй толчокъ дало оно естественнымъ наукамъ[2].
Но влiянiе Шеллинга не было въ одну сторону; оно было слишкомъ жизненно и много – объемлюще, чтобы ограничиться сферой однихъ какихъ – нибудь наукъ. Здѣсь не мѣсто говорить объ этомъ подробно, но надо указать, какъ русская мысль откликнулась на это ученiе, какъ охватило ее это вѣянiе.
Ученiе Шеллинга не давало сухихъ логическихъ формъ; его нельзя было механически прилагать; оно требовало живого проникновенiя, конгенiальнаго пониманiя.
Подъ плодотворнымъ влiянiемъ этой – то философiи началось самостоятельное изученiе русской жизни. Уже нельзя было легкомысленно относиться къ русской исторiи, зачеркивать весь допетровскiй перiодъ ея, и находить его глупымъ потому только что онъ не подходилъ подъ законы чуждыхъ намъ европейскихъ государственныхъ организмовъ, другими словами – потому только что мы сами не умѣли смотрѣть на него. Надо было начать изучать это своеобразное развитiе, отыскать его своеобычные законы и признать законность его бытiя; опредѣлить влiянiе постороннихъ причинъ, разъяснить безсилiе ихъ относительно коренныхъ основъ народной жизни.
Русская мысль проснулась и внятно заявила свою самостоятельность; тотчасъ – же получился и соотвѣтственный результатъ, весьма не маленькiй; именно: что мы совсѣмъ забывали про одну, не совсѣмъ – то маловажную силу русской земли – про русскiй народъ.
Это заявленiе было встрѣчено противной партiей ярыми, и нельзя сказать чтобы совсѣмъ честными, нападками. Славянофилы имѣли то нравственное преимущество въ этомъ спорѣ, что хорошо знали чего они сами хотятъ и чего хотятъ ихъ противники; но западники совершенно не понимали своихъ противниковъ и ограничивались грубыми насмѣшками надъ зипунами, мурмолками и т. д. Печальная исторiя, продолжающаяся даже до сегодня.
О народѣ, о томъ народѣ, на котораго Бѣлинскiй почти сердился за его упрямую оригинальность – заговорили съ почтенiемъ; начали съ любовью изучать его исторiю и бытъ, его пѣсни и былины. Тамъ, гдѣ прежде видѣли одну закоснѣлую грубость, – тамъ оказались высокiе нравственные идеалы; тамъ гдѣ видѣли одну неуклюжую неумѣлость и почти неспособность къ гражданскому обществу, съ удивленiемъ увидѣли зародыши такихъ общественныхъ формъ, которыя оказались высокими даже для утопистовъ и избраннѣйшихъ друзей человѣчества западной цивилизацiи; и главное, что особенно было обидно для господъ, принявшихъ петровскiй переворотъ за высшую фазу внутренняго развитiя, – заподозрѣна была вообще состоятельность западной цивилизацiи и ея идеаловъ по приложимости ихъ къ русской жизни и по отношенiю къ зачаткамъ самостоятельнаго русскаго просвѣщенiя.
Это умственное движенiе не могло не имѣть влiянiя на впечатлительную и страстную натуру Аполлона Александровича. Собственно говоря, западникомъ, въ полномъ смыслѣ этого слова, онъ никогда не былъ. Если одно время, при первомъ прiѣздѣ въ Петербургъ, въ 1844 году, онъ и казался западникомъ, то это надо приписать съ одной стороны молодости его, съ другой сильному влiянiю нѣкоторой энергической и таинственной личности, о которой онъ, къ сожалѣнiю, разсказывалъ весьма мало, думая вполнѣ характеризовать ее въ своихъ «Скитальчествахъ».
Въ этомъ великомъ дѣлѣ пробужденiя русской мысли и самостоятельнаго изученiя проявленiй русской жизни, Аполлону Григорьеву выпало на долю быть разъяснителемъ развитiя русскаго искусства и преимущественно литературы; любопытно въ этомъ отношенiи прослѣдить развитiе его собственной мысли; къ сожалѣнiю, въ этомъ бѣгломъ очеркѣ я не могу изложить этого развитiя подробно, какъ потому, что мнѣ хочется теперь сказать единственно о его заслугахъ вообще, въ общей цѣльной картинѣ, такъ и потому, что подобное дѣло требуетъ времени и особеннаго изученiя.
Что – жъ новаго сказалъ Григорьевъ, какъ критикъ? Новость была во взглядѣ на искусство, какъ на органическое и уже потому одному совершенно законное произведенiе народной жизни, какъ на одно изъ главнѣйшихъ и необходимѣйшихъ выраженiй этой жизни. Ясно, что при такомъ основномъ взглядѣ нельзя было ограничиться повторенiемъ задовъ, или приложенiемъ какой – бы то ни было эстетической теорiи къ произведенiямъ русской поэзiи. Тутъ мало было изученiя народной поэзiи, мало было изученiя литературы, – тутъ нужно было особое чутье, конгенiальность. Надо было живьемъ прочувствовать, полюбить всею душою и всѣмъ сердцемъ, постигнуть не букву, а самую суть дѣла.
Взглядъ Григорьева былъ противуположенъ и взгляду Бѣлинскаго послѣднихъ годовъ, т. е. полезнаго искусства, такъ сказать нравоучительнаго и дилетантическому (или гастрономическому, какъ онъ называлъ его) взгляду искусства для искусства. Свою критику онъ назвалъ «органической» критикой, т. е. такой, которая разсматриваетъ искусство, какъ органическое произведенiе народной жизни; даннаго художника, какъ болѣе или менѣе сильнаго и полнаго выразителя этой жизни, и данное художественное произведенiе, какъ органическое произведенiе внутренняго мiра самого художника, живущаго въ связи съ народною жизнiю, – не навѣянное ему извнѣ, не сочиненное однимъ головнымъ процессомъ, а созданное почти также безсознательно, какъ творитъ сама мать – природа. Этотъ взглядъ не примирялъ, въ обыкновенномъ смыслѣ, двухъ вышеназванныхъ теорiй; онъ не старался согласовать ихъ; онъ обнималъ бóльшiй горизонтъ, онъ смотрѣлъ на дѣло жизненнѣе, свободнѣе, шире и правдивѣе обѣихъ предъидущихъ взглядовъ. Разсудочныя доказательства теорiй оказались несостоятельными передъ разумностiю этого взгляда.
Этотъ взглядъ силёнъ тѣмъ, что онъ шолъ строго – научнымъ путемъ, путемъ новой науки, основателемъ которой былъ Шеллингъ. Аполлонъ Григорьевъ положилъ основанiя научной критики. Теорiя «полезнаго» искуства не въ силахъ объяснить высшихъ проявленiй искуства, она ихъ устраняетъ, не хочетъ знать,[3] но устраненiе не значитъ объясненiе; оно обнаруживаетъ несостоятельность мысли; смѣшно сердиться на фактъ, смѣшно ругать и поносить его, единственно на томъ основанiи, что онъ не подходитъ подъ мѣрку теорiи. На какой жалкой ступени стояли – бы науки, если – бы всѣ такъ обращались съ фактами. Что если – бы натуралистъ, встрѣчая новое явленiе, игнорировалъ – бы, умышленно пропускалъ его и его значенiе мимо очей, единственно потому что оно не удобо – изъяснимо съ точки зрѣнiя его теорiи? Такъ – бы до сихъ поръ намъ и оставаться напр. при теорiи истеченiя свѣта, признавши ее вѣнцомъ человѣческой мудрости. Это невозможно, скажутъ многiе, но это къ несчастiю въ полной силѣ для искуства.
Передъ вами Гомеръ, передъ вами Дантъ, передъ вами Шекспиръ, – и чѣмъ вы отдѣлываетесь? Тѣмъ, что это глупости, или поделикатнѣе изображенiя человѣческой глупости. Какое жалкое объясненiе! «Намъ они безполезны, долой ихъ!» слышатся восклицанiя.
Что если – бы натуралистъ встрѣтивъ кость какого нибудь ископаемаго звѣря, динотерiума, ихтiозавра, или какого другого, предложилъ – бы вопросъ: на что она полезна? или сталъ – бы объяснять кажущуюся причудливость формъ этихъ животныхъ глупостiю и не умѣлостiю природы? если – бъ онъ предложилъ природѣ вопросъ: зачѣмъ дескать было дѣлать такую глупость и создавать такихъ чудищъ, когда можно творить болѣе приличныхъ животныхъ?
Общiй смѣхъ встрѣтилъ – бы такого умника. Отчего – же въ дѣлѣ критики не общiй смѣхъ встрѣчаетъ поклонниковъ полезнаго искуства? Отчего простые научные прiемы становятся не понятны въ приложенiи къ высшимъ сферамъ знанiя? Правда, приложенiе ихъ въ этомъ случаѣ гораздо труднѣе, требуетъ большой осторожности и тонкости. Но развѣ это недостатки?
Отчего научный терминъ, въ правильномъ его приложенiи, встрѣчаетъ недовѣрiе или даже насмѣшку, напр. въ выраженiи органическая критика, и терпится тамъ, гдѣ онъ совершенно неприложимъ и постоянно употребляется съ оговорками, наприм. органическая химiя?
Отчего та точка зрѣнiя, которая объясняетъ, изучаетъ, выводитъ законы, – въ меньшемъ почотѣ чѣмъ та, которая отвергаетъ факты и сердится на нихъ? Отвѣтъ ясенъ: оттого, что первая труднѣе и требуетъ большой умственной работы, а вторая легка и никакой работы не требуетъ, а единственно охоты.
Гомеръ напр. вполнѣ понятенъ съ точки зрѣнiя органической критики, какъ выраженiе, полное и органически родившееся, жизни древней Грецiи. Это – великiй остатокъ уже исчезнувшей формацiи жизни человѣчества. Его можно изучать со всевозможныхъ сторонъ; онъ даетъ возможность понять этотъ древнiй перiодъ развитiя, выражать его въ нашемъ умѣ и воображенiи. Нечего спрашивать: «для чего Гомеръ? Зачѣмъ Гомеръ?» Онъ правъ, тѣмъ что ужъ онъ есть.
Мы видимъ изъ Гомера, что сущность человѣческаго духа таже отъ вѣка, хотя проявленiя были другiя; своебразная красота его божественныхъ пѣсенъ жива и понятна для насъ, какъ будетъ жива и понятна еще много вѣковъ. А этотъ драгоцѣнный памятникъ прошлой жизни человѣчества не цѣнится у насъ ни въ грошъ, считается безполезнымъ!
Мудростью вѣка считается обозвать Гомера какимъ нибудь позорнымъ именемъ! И легко, и работы мысли не требуетъ, и деньги за это платятъ.
И такъ, органическая критика смотритъ на художественныя произведенiя, какъ на организмы, какъ на произведенiя извѣстной народной почвы. Ясно, что она будетъ старательно отличать всѣ произведенiя наносныя, не имѣющiя ни какого отношенiя къ народной жизни. Эти наносныя произведенiя тоже на народномъ организмѣ, что пыль на листѣ дерева; они смываются первымъ дождемъ и о нихъ нѣтъ больше помину. Народный организмъ можетъ быть въ ненормальномъ состоянiи, какъ всякiй другой, и давать болѣзненный плодъ. Внѣшнiя влiянiя могутъ его изъязвить, но не могутъ измѣнить его сущности; она измѣняется или, вѣрнѣе, раскрывается по своимъ собственнымъ законамъ.
Одинаковость метода органической критики и естественныхъ органическихъ наукъ повела неминуемо къ одинаковости терминовъ.
Григорьевъ плохо зналъ естественныя науки и тѣмъ удивительнѣе его способность удачно примѣнять ихъ термины. Положительно нѣтъ ни одного неудачнаго и это объясняется единствомъ исхода отъ Шелинговой философiи.
Напр., что можетъ быть удачнѣе названiя растительная поэзiя, по примѣненiю къ поэзiи народной. Какъ лучше выразить эту непосредственную нераздѣльность отъ почвы, эту распространяемость мотивовъ, эти варьяцiи ихъ по мѣстностямъ, напр. переходъ мажорнаго напѣва серединныхъ губернiй въ минорный степовыхъ, совершенно аналогичные съ разновидностями и распредѣленiемъ видовъ растенiй; наконецъ этотъ извѣстный фазисъ народной жизни, когда поэтическiя народныя силы творятъ таинственно – совокупно, не высылая отдѣльныхъ личностей – поэтовъ.
Или возьмемъ другой терминъ, надъ которымъ такъ усердно смѣялись во время оно многiе, даже не глупые люди, именно допотопныя явленiя въ литературѣ? Что такое ископаемыя животныя относительно нынѣ существующихъ, мамонтъ относительно слона? Мамонтъ, развѣ это не зачаточная форма, высшее развитiе которой слонъ? Берите не звукъ, а смыслъ слова. Развѣ нѣтъ подобныхъ отношенiй между развитымъ художникомъ – заклинателемъ своихъ силъ и его предшественникомъ, гдѣ тѣ—же силы не пришли еще въ равновѣсiе, не окончательно развились, такъ сказать еще въ зачаткѣ; развѣ относительно вполнѣ развитаго художника, художникъ – предшественникъ, который не могъ сладить съ своими силами не является уродливостью[4]. Названiе допотопнаго явленiя въ литературѣ можетъ вамъ показаться страннымъ по отношенiю къ явленiямъ слишкомъ близкимъ; но возьмите для сравненiя два болѣе отдаленныя явленiя, напр. Шекспира и Эсхила, и сравните ихъ. Тогда вы поразитесь мѣткостiю термина и глубиной скрывающейся подъ нимъ мысли.
Такихъ терминовъ введено Аполлономъ Григорьевымъ много, и каждый изъ нихъ имѣетъ строго – опредѣленный научный смыслъ. Онъ былъ большой мастеръ групировать явленiя и потому рѣдко ошибался въ оцѣнкѣ даннаго. Стоитъ вспомнить, что онъ напр. первый взглянулъ на Пушкина, какъ на поэта народнаго, что онъ не голословно сказалъ это, а вывелъ изъ изученiя произведенiй великаго поэта; что онъ показалъ, почему наша литература послѣ Пушкина имѣла извѣстный характеръ и какiя частности Пушкинскаго таланта развила она. – Равно первый Григорьевъ – же показалъ знанiе характера Чацкаго; онъ первый отнесся къ Чацкому не съ полемической стороны, а объективно изучая его. Значенiе Гоголя также сильно разъяснено имъ. Гоголя до него считали писателемъ бытовымъ, въ полномъ смыслѣ слова, и онъ первый ясно указалъ на эту громадную ошибку. А это очень важно.
Говорятъ, что Григорьевъ увлекался и былъ пристрастенъ. Во первыхъ, безусловная безпристрастность есть выдумка и вздоръ ограниченныхъ людей, а во вторыхъ, мало произносить голословно такiя обвиненiя; надо было – бы доказать ихъ, да доказать научно, съ полнымъ знанiемъ мнѣнiя противника. Кто не увлекался? Есть – ли живъ человѣкъ въ полѣ? Мы стоимъ только за то, что увлеченiя Григорьева были жизненнѣе и сочувственнѣе, чѣмъ увлеченiя многихъ другихъ.
Такъ Григорьевъ не могъ никогда увлечься, подобно высокоталантливому Добролюбову, и признать Гончаровскаго Штольца за какое – то нравстенное совершенство, а бюрократическое произведенiе г. Гончарова за рѣшенiе, окончательное и безапеляцiонное, вопроса о русскомъ человѣкѣ, единственно по случаю встрѣчающагося въ этомъ произведенiи слова: обломовщина.[5]
Во время восхваленiй Штольца, Григорьевъ въ небольшой замѣткѣ, при разборѣ Дворянскаго Гнѣзда, необыкновенно вѣрно характеризировалъ Штольца, какъ продуктъ татарско – нѣмецкой цивилизацiи.
Вспомните, какъ смѣялись надъ Григорьевымъ за его новое слово, за то, что онъ признавалъ Островскаго громаднымъ талантомъ, – а теперь кто – же сомнѣвается въ этомъ? И съ каждымъ днемъ опредѣленiе Островскаго, сдѣланное Добролюбовымъ, какъ описателя Темнаго царства, становится несостоятельнѣе, а опредѣленiе Григорьевское какъ писателя бытоваго получаетъ все большiй и большiй кругъ поклонниковъ.
Ставить увлеченiя въ упрекъ человѣку, значитъ не знать человѣческой природы; кто ни разу не увлекался, тотъ ни разу не говорилъ правды.
Работая въ этомъ направленiи, Григорьевъ боялся, чтобы новые результаты работы не приняли формы законченной теорiи. Вотъ почему изъ славянофиловъ съ самымъ большимъ сочувствiемъ онъ относился къ Хомякову. Ясный и многостороннiй умъ Хомякова былъ также противъ замкнутости теорiи; стоитъ прочесть напр. его глубокiя замѣчанiя на прекрасныя статьи И. В. Кирѣевскаго, чтобы убѣдиться въ этомъ.
Само собою разумѣется, что противная партiя относилась къ Аполлону Александровичу также, какъ къ славянофиламъ. Мнѣ не случалось встрѣчать ни одного дѣльнаго возраженiя; всегда грубая насмѣшка, крайнее непониманiе, а въ послѣднее время намеки на то, что Григорьевъ страдалъ отъ запоя.
Если литература относилась къ Григорьеву – не знаю какъ выразиться правильнѣе и въ то – же время понѣжнѣе – ну словомъ, не хорошо и не умно, за то въ массѣ читателей у него много было поклонниковъ; Григорьевъ часто не довѣрялъ, чтобы это была правда, но за то не разъ приходилось ему разувѣряться въ этомъ недовѣрiи; особенно поразилъ его одинъ молодой натуралистъ, оказавшiйся не только большимъ почитателемъ его таланта, но и большимъ знатокомъ его произведенiй.
– «Вотъ ужъ не ожидалъ», простодушно сказалъ ему Григорьевъ,» я могъ еще предложить, что не всѣ меня ругаютъ, что не всѣ—же пропитались новѣйшей мудростью пяти книжекъ, – но чтобъ были люди, которые очевидно слѣдятъ за моей дѣятельностiю, помнятъ мои статьи, – признаюсь этого я не ожидалъ. Значитъ я еще не совсѣмъ ненужный человѣкъ.»
Извѣстно, что мысль о томъ, что онъ ненужный человѣкъ часто преслѣдовала Григорьева и онъ даже не разъ высказывалъ это печатно.
Не могу удержаться, чтобы не разсказать одного случая, чрезвычайно характернаго для объясненiя отношенiй литературы къ дѣятельности Аполлона Александровича.
– «Скажите, пожалуйста», спрашивалъ одного изъ друзей покойнаго одинъ изъ нашихъ почтенныхъ литераторовъ (хотя и не изъ стоящихъ во главѣ нашей литературы, но и не подъ каблуками ея башмаковъ), который, конечно, не упускалъ случая неблагосклонно отозваться въ печати о дѣятельности Григорьева, – «скажите, пожалуйста, что это Григорьевъ пишетъ: дѣлаетъ ли онъ разборы сочиненiй, или все это одна философiя?
– «Что означаетъ это: одна философiя?» спросили его.
Почтенная личность нѣсколько сконфузилась и отвѣчала: «ну, понимаете, я слово философiя употребилъ, какъ оно часто въ разговорѣ употребляется.»
Т. е. въ смыслѣ глупости?
И сей любопытный литераторъ, конечно, не стыдился и впредь бранить того, чьихъ статей онъ за недосугомъ не читалъ.
Изъ предъидущаго читатель могъ видѣть, какъ органически стройно развивалась мысль Григорьева, разумно необходимый ходъ ея. Строгая научная послѣдовательность, вытекавшая изъ жизненности основнаго воззрѣнiя, полное и всестороннее развитiе идеи – вотъ что характеризовало – бы его письма о «Парадоксахъ Органической Критики», если бы смерть не прервала его дѣятельности.
Кромѣ критической, главной стороны литературной дѣятельности Григорьева, есть еще сторона довольно замѣчательная, – это его поэтическая дѣятельность. Не говорю о его первыхъ повѣстяхъ, гдѣ видно, что человѣкъ еще не можетъ совладать съ собою, что онъ ищетъ настоящаго пути, – но стоитъ вспомнить о его поэмахъ. Его поэмы могутъ служить вполнѣ для характеристики его личности; таковы «Venezia la bella» (Современникъ, 1858, ноябрь), «Борьба» (Сынъ Отечества 1857) разсказъ о Сальвини «Великiй Трагикъ» (Русское Слово, 1859, январь) и «Вверхъ по Волгѣ» (Русскiй Мiръ). Вотъ что онъ говоритъ о себѣ:
Какой – то странникъ вѣчный я… Меня осѣдлость не прельщаетъ, Меня минута увлекаетъ… Ну, хоть минута да моя!.. А тамъ… а тамъ суди Владыко! Я знаю самъ, что это дико, Что это къ ужасамъ ведетъ… Но переспоришь – ли природу? Я въ жизни вѣрю лишь въ свободу, Невѣдомъ вовсе мнѣ расчотъ… Я вѣчно, не спросяся броду, Какъ омежнóй кидался въ воду.И дѣйствительно, расчотъ былъ не вѣдомъ ему. Ни разу онъ не пожертвовалъ своими убѣжденiями, ради расчота. Это можно сказать прямо и смѣло.
Не зачѣмъ, я думаю, скрывать того обстоятельства, что Григорьевъ страдалъ запоемъ, хотя нельзя не осудить о преждевременномъ заявленiи объ этомъ его литературными противниками, которые хотѣли пронять его если не мытьемъ, такъ катаньемъ. Этотъ
Недугъ, котораго причину Давно – бы отыскать порасразилъ преждевременно не одну талантливую личность. Имъ страдали поэты Полежаевъ и Мей, актеръ Мочаловъ, литераторъ Помяловскiй. Независимо отъ нравственныхъ причинъ, – это просто физическая болѣзнь, которая приноситъ больнымъ великiя страданiя. Эта болѣзнь несетъ за собою крайнее разстройство всего организма, безсонницу, нервное раздраженiе, сопровождающееся галюцинацiями. Не отъ радости и не для радости пьютъ такiе люди. Не чревоугодiе тянетъ ихъ къ вину. Есть еще люди, любящiе нравственно дразнить и мучить себя; но кромѣ самыхъ ярыхъ фанатиковъ, никто нарочно не станетъ подвергать себя страшнѣйшимъ физическимъ страданiямъ.
Я упомянулъ о болѣзни Аполлона Григорьева, потому что печатно не только смѣялись надъ нею (на извѣстной степени развитiя, люди охотно смѣются надъ несчастiями ближнихъ), но намекали даже на его грязную жизнь вообще.
Защищать или разбирать частную, особенно семейную жизнь, какого бы то ни было современника мы считаемъ не позволительнымъ.
Конечно, болѣзнь не могла – же совершенно покорить живого и сильнаго человѣка. Много было пережито Григорьевымъ и умственно, и нравственно! Прочтите его «Борьбу», прочтите его «Venezia la bella», о которой онъ позже такъ вспоминалъ:
Да! было время… Я иной Любилъ любовью; образъ той Въ моей «Venezia la bella» Похороненъ; была чиста, Какъ небо, страсть и пѣсня та — Молитва: Ave Maria stella!* * *
Чтобъ снова мигъ хоть пережить Той чистой страсти, чтобъ вкусить И счастья мукъ, и муки счастья, Безъ сожалѣнья – бъ отдалъ я Остатокъ бѣдный бытiя И всѣ соблазны сладострастья.Эта, обыкновенно называемая «несчастной» любовь, была безъ сомнѣнiя его самымъ счастливымъ воспоминанiемъ. Въ сонетѣ, написанномъ при окончанiи перевода Ромео и Джульеты, онъ снова воспоминаетъ о ней, говоря:
И все – же ты, далекiй призракъ мой, Въ твоей бывалой, дѣвственной святынѣ, Передъ очами духа всталъ нѣмой, Карающiй и гнѣвно – скорбный нынѣ, Когда я трудъ завѣтный кончилъ свой. Ты молнiей сверкнулъ въ глухой пустынѣ Больной души… Ты чистою струей Протекъ внезапно по сердечной тинѣ, Гармонiей святою вторгся въ слухъ, Потрясъ въ душѣ сѣдалище Ваала — И все, на что насильно былъ я глухъ, По ржавымъ струнамъ сердца пробѣжало И унеслось – «куда мой падшiй духъ Не досягнетъ» – въ обитель идеала.Съ друзьями онъ былъ всегда одинаковъ; нельзя сказать, чтобы онъ скоро сходился; если это и случалось, то такая поспѣшная дружба не долго продолжалась. Онъ былъ всегда доступенъ и терпѣть не могъ литературнаго генеральства. Не смотря на свои такъ называемыя увлеченiя, Григорьевъ былъ чрезвычайно строгъ къ произведенiямъ своихъ друзей; если что ему не нравилось, то онъ говорилъ прямо, не обинуясь и часто довольно рѣзко. Всѣ художники, болѣе или менѣе близко знавшiе покойнаго, конечно, подтвердятъ мои слова.
Считаю излишним распространяться объ огромномъ (въ полномъ смыслѣ слова) образованiи покойнаго; читатели могли видѣть это изъ его статей. Нужно было удивляться: чего онъ только не зналъ, какого только автора не читалъ. И не одну русскую литературу зналъ онъ хорошо; неменьше русской зналъ онъ и французскую, и нѣмецкую, и итальянскую, Байрона и Шекспира.
Онъ обладалъ великимъ свойствомъ: умѣньемъ выслушивать и вполнѣ понимать мысль собесѣдника; вотъ отчего съ нимъ было такъ легко и прiятно говорить.
Взглядъ его на природу отличался глубокою религiозностiю, глубокимъ религiознымъ пантеизмомъ если можно такъ выразиться. Въ одномъ мѣстѣ онъ говоритъ:
Привыкли плоть дѣлить мы съ духомъ… Но тотъ, кто слышитъ чуткимъ ухомъ Природы пульсъ… будь жизнью чистъ И не пороченъ передъ Богомъ, А все – же, взявши въ смыслѣ строгомъ, – И онъ частенько пантеистъ И пантеистъ еще во многомъ.Въ одно изъ послѣднихъ нашихъ свиданiй, читая мнѣ свой переводъ «Ромео и Джульеты», онъ указывалъ на глубокiй пантеизмъ всѣхъ великихъ поэтовъ, на это страшное сплетенiе мотивовъ жизни и смерти, которое такъ ярко выступаетъ напр. въ монологѣ Джульеты передъ тѣмъ, когда она принимаетъ снотворный напитокъ, или въ монологѣ Ромео, передъ отравленiемъ.
– «Да, правъ Шеллингъ», заключилъ онъ, «смерть есть только начало новаго фазиса развитiя; начало новой метаморфозы».
Выше я упомянулъ о его поэтической дѣятельности; онъ цѣнилъ ее по отношенiю къ искренности мотивовъ, но охотно сознавался, что это, собственно говоря, только матерьялы для художественныхъ созданiй. Но поэтическая струя у него была сильна и она нашла себѣ прекрасный исходъ въ переводѣ Байрона и особенно Шекспира. Безъ сомнѣнiя, его переводы Шекспира, необыкновенно оригинальные по прiему, но вѣрные по духу (и даже буквально вѣрные) могутъ быть поставлены наравнѣ съ лучшими переводами А. В. Дружинина, А. Кронеберга и началомъ перевода «Бури» Л. А. Мея.
Мнѣ случилось слышать престранный приговоръ его переводу «Сна въ лѣтнюю ночь», который такъ высоко ставилъ покойный А. В. Дружининъ (а его, кажется, нельзя упрекнуть въ непониманiи Шекспира). Упрекъ этотъ былъ сдѣланъ господиномъ, собиравшимся издавать Шекспира и даже чуть – ли не переводить (не зная подлинника) и состоялъ въ томъ, что переводъ сдѣланъ «слишкомъ по русски» (буквальное выраженiе).
Смѣлость въ передачѣ образовъ подлиника и составляетъ достоинство хорошаго перевода. Дружининъ, при переводѣ Лира, боялся этой смѣлости, желая приблизить Шекспира къ пониманiю публики, но за то Лиръ – самый неудачный изъ его переводовъ, и онъ самъ отказался отъ этой методы при переводѣ Корiолана (лучшiй его переводъ), Ричарда III и короля Джона. Равно, этою – же смѣлостью отличается удачнѣйшiй переводъ А. Кронеберга: «Много шуму изъ пустяковъ».
При переводѣ, Григорьевъ старался оригинальною рѣчью передать характеры Шекспировскихъ лицъ. Это особенно ему удалось въ Ромео и Джульетѣ, гдѣ Ромео, Джульета, Кормилица, Старый Капулетъ, Меркуцiо, слуги – всѣ говорятъ свойственнымъ имъ языкомъ и гдѣ характеры переданы въ совершенствѣ. Григорьевъ въ послѣднее время собирался поприлежнѣе заняться Шекспиромъ. Окончивъ «Ромео и Джульету» онъ хотѣлъ приняться за «Мѣра за Мѣру».
Читатель, надѣюсь, извинитъ меня за нѣкоторыя неровности и шероховатости моей статьи; это объясняется, какъ поспѣшностью работы, такъ и близостью самой смерти Григорьева. Всѣ мы, друзья его, еще не успѣли опомниться отъ этого удара….
Считаю нелишнимъ замѣтить слѣдующее: въ нѣкоторыхъ некрологахъ сказано, что Ап. Ал. былъ въ послѣднее время редакторомъ «Якоря»; это несправедливо; Ап. Ал. оставилъ это изданiе еще въ январѣ, хотя его имя подписывалось подъ названнымъ журналомъ.
Вполнѣ увѣрены, что многiе съ сочувствiемъ отзовутся о покойномъ. Намъ дорого, конечно, только сочувствiе тѣхъ людей, дѣятельности которыхъ мы сами сочувствуемъ, какъ напр. намъ дороги нѣсколько теплыхъ строкъ о Григорьевѣ И. С. Аксакова въ послѣднемъ номерѣ «Дня».
Мы желаемъ только одного, чтобы противники осуждали его не голословно; это важно, ради самого ихъ дѣла.
Заключаю тѣми – же двумя стихами, которыми началъ, и которые такъ любилъ покойный:
Мертвый въ гробѣ мирно спи, Жизнью пользуйся живущiй![6] 6–го октября.Примечания
1
Авторъ говоритъ здѣсь какъ – бы отъ лица редакцiи. Дѣйствительно, по нашей просьбѣ написалъ онъ эту оцѣнку дѣятельности и литературныхъ заслугъ покойнаго и дорогого сотрудника нашего. Какъ ближайшiй изъ друзей покойнаго онъ полнѣе и удобнѣе другихъ могъ исполнить эту обязанность. Ред.
(обратно)2
Стоитъ вспомнить метаморфозу растенiй Гёте, сперва осмѣянную натуралистами, но горячо принятую натурфилософами; далѣе – его же и Океновскую теорiю черепа, поддержанную Стефаномъ Жоффруа – Сентъ – Илеромъ, и послужившую образцомъ для обширнѣйшихъ изслѣдованiй; наконецъ самую теорiю Дарвина, соотвѣтствующую давно провозглашонному натурфилософами закону постепеннаго развитiя органическихъ формъ.
(обратно)3
Она должна ихъ устранять чтобъ быть логичною и съ собой согласною – еслибъ даже того и не хотѣла, еслибъ сама натура критика лично вооружалась противъ того всею своею жизненностiю. Примѣръ, – Бѣлинскiй въ послѣднiе годы своей дѣятельности. Ред.
(обратно)4
Ибо уродливость есть нечто иное, какъ недоразвитiе формы, или развитiе одной части на счотъ другой; нестройное, хотя и органическое развитiе.
(обратно)5
Это и потому еще, что Григорьевъ былъ шире Добролюбова, шире, глубже и несравненно богаче одаренъ природою, чѣмъ Добролюбовъ. Добролюбовъ былъ очень талантливъ, но умъ его былъ скуднѣе чѣмъ у Григорьева, взглядъ несравненно ограниченнѣе. Эта узкость и ограниченность составляли отчасти даже силу Добролюбова. Кругозоръ его былъ ýже, видѣлъ и подмѣчалъ онъ меньше, слѣд. и передавать и разъяснять ему приходилось меньше и все одно и тоже; такимъ образомъ, онъ, само – собою, говорилъ понятнѣе и яснѣе Григорьева. Скорѣе договаривался и сговаривался съ своими читателями чѣмъ Григорьевъ. На читателей мало знакомыхъ съ дѣломъ Добролюбовъ дѣйствовалъ неотразимо. Не говоримъ уже о его литературномъ талантѣ, бòльшемъ чѣмъ у Григорьева, и энтузиазмѣ слова. Чѣмъ ýже глядѣлъ Добролюбовъ, тѣмъ, само – собою, и самъ менѣе могъ видѣть и встрѣчать противурѣчiй своимъ убѣжденiямъ, слѣд. тѣмъ убѣжденнѣе самъ становился и тѣмъ все яснѣе и тверже становилась рѣчь его, а самъ онъ самоувѣреннѣе. Ред.
(обратно)6
Полная (возможно) бiографiя и оцѣнка дѣятельности покойнаго будетъ приложена къ изданiю его сочиненiй.
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
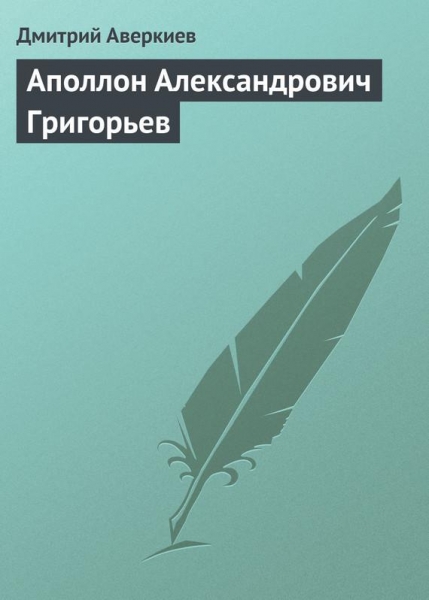


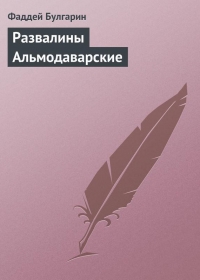



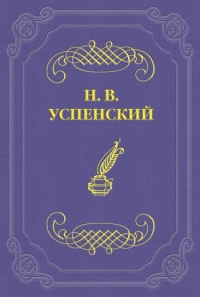

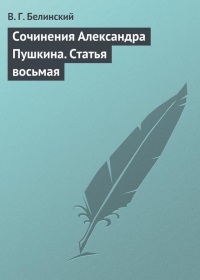
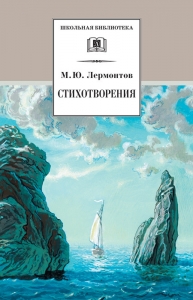
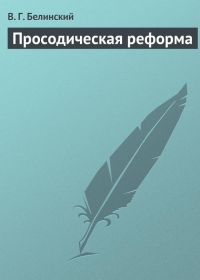
Комментарии к книге «Аполлон Александрович Григорьев», Дмитрий Васильевич Аверкиев
Всего 0 комментариев