Николай Константинович Михайловский Русское отражение французского символизма
Только что вышла любопытная книжка г. Мережковского «О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы» Собственно, этому заглавию соответствует только первая, меньшая половина книжки. Вторая половина состоит из статей о г. Майкове, о Гончарове и о «Преступлении и наказании» Достоевского, кажется, уже раньше где-то напечатанных и не имеющих прямого отношения ни к причинам упадка литературы, ни к ее новым течениям. Возможно даже, что они введены автором в состав книжки единственно для пополнения ее до требуемого цензурным уставом десятилистного размера. Во всяком случае, интерес книжки не в них Что же касается ее главного содержания, то оно составилось из публичной лекции, читанной г. Мережковским в конце прошлого года. Лекцию эту он через некоторое время повторил{1} и теперь напечатал, с довольно, по-видимому, значительными дополнениями Перед нами, значит, произведение обдуманное, автор которого имел достаточно даже чисто внешних поводов для пересмотра и проверки своих мыслей. А ведь есть еще поводы внутренние, вытекающие из сознания важности предмета, о котором идет речь. И г. Мережковский вполне сознает эту важность. Он высоко ценит роль и значение литературы и любит ее настоящею, искреннею любовью. Для него, как он обнаруживается в своей книжке, литература не ремесло и не арена праздной забавы или игры самолюбий, а великое общественное дело, поприще служения высшим человеческим идеалам.
Тем не менее, нисколько не сомневаясь в искренности и добрых намерениях г. Мережковского, можно смело утверждать, что он не воспользовался или очень мало воспользовался представлявшимися ему поводами для пересмотра и проверки своих мыслей.
В книжке не раз попадаются замечания такого рода: «Сущность искусства нельзя выразить никакими словами, никакими определениями» (32). Или: «Идею символических характеров никакими словами нельзя передать» (43). Без всякого сомнения, слово, как и все, что находится в распоряжении человека, ограничено известными условиями. Слова суть только условные знаки идей, вещей и отношений. Но ведь и мысль человеческая поставлена в известные рамки, за пределы которых никаким образом не может выскочить, не свихнувшись, не изменив себе. Правда, рамки эти несравненно шире тех, в которые заключено слово, почему людям и приходится писать иногда целые страницы для выражения одной какой-нибудь мысли. Но весьма часто бывает, что мысль не потому трудно облекается в словесную форму, что нельзя найти слов для ее выражения, а просто потому, что она не созрела для словесного выражения, не выяснилась. И мне кажется, что мысль г. Мережковского очень часто находится в таком положении.
Книжка г. Мережковского начинается очень эффектно. Вот ее первые строки: «Тургенев и Толстой – враги. Это вражда стихийная, бессознательная и глубокая. Конечно, оба писателя могли стать выше случайных обстоятельств, благодаря которым вражда выяснилась. Но вместе с тем оба чувствовали, что они враги не по своей воле, а по своей природе. Оба, в своем различии столь близкие и дружественные нашему сердцу, они стояли непримиримые друг против друга как великие представители двух первоначальных, вечно борющихся человеческих типов». И тем не менее, дескать, Тургенев перед смертью написал Толстому свое известное глубоко трогательное письмо{2}, увещавшее «великого писателя русской земли» вернуться на путь литературной деятельности: «на краю гроба Тургенев понял, что сердцу его старинный враг – ближе всех друзей». Можно бы было, на основании фактических данных, доказать, что собственно Тургенев, несмотря на ссоры с Толстым и на всю личную неприязнь к нему, всегда высоко ценил автора «Войны и мира» как писателя. Но дело не в этом. Я прошу читателя обратить внимание на «стихийность», которую г. Мережковский приписывает неприязненным отношениям Тургенева и Толстого: это – «представители двух первоначальных, вечно борющихся человеческих типов», это – «враги не по своей воле, а по своей природе». Значит, где бы и когда бы ни столкнулись два такие человека – в России или в Китае, в Англии или во Франции, в XIX или в любом другом веке, – они фатально, «стихийно» станут во враждебные друг к другу отношения. Пусть эта мысль произвольна, бездоказательна, но какова бы она ни были сама по себе, она выражена вполне ясно.
Вслед за тем г. Мережковский старается установить разницу между поэзией и литературой. Суть этих торопливых и сбивчивых рассуждений состоит в том, что отдельные явления в области поэзии, хотя бы и чрезвычайно светлые и далеко из ряда выходящие, еще не знаменуют собою существования литературы данного народа. Начиная с Пушкина, Лермонтова, Гоголя и кончая еще живым Толстым, мы можем предъявить миру гигантов поэзии, но «была ли в России истинно великая литература, достойная стать наряду с другими всемирными литературами?» Нет, отвечает г. Мережковский. Литература невозможна без тесного взаимодействия между ее представителями, без сознания общности дела и преемственной связи. Например, во Франции «стихийные разрозненные явления поэзии вот уже три века превратились в стройную, могучую систему, как некогда в Греции, как живопись во Флоренции, благодаря преемственности целых литературных поколений, объединенных всемирно-историческим началом» (6). А у нас? Наш писатель живет и умирает в одиночку. Если и слагаются иногда литературные кружки, то, во-первых, они недолговечны и не выдерживают первого враждебного дуновения, а во-вторых, они часто бывают еще хуже одиночества. Русскому писателю не хватает «той живой, терпимой и всепримиряющей среды, того культурного воздуха, где противоположные оригинальные темпераменты, соприкасаясь, усиливают друг друга и возбуждают к деятельности». В виде иллюстраций г. Мережковский напоминает, между прочим, враждебные отношения Достоевского к Тургеневу, Некрасова и Щедрина к Достоевскому, Тургенева к Некрасову и заканчивает этот абзац так: «О печальной и столь характерной для русской литературы вражде Толстого и Тургенева я говорил уже в начале статьи» (8).
Читатель знает, что в начале статьи г Мережковский говорил совсем не то. Там враждебные отношения двух знаменитых наших писателей являлись продуктом «стихийных» сил, а не особенностью наших культурных условий, там мы имели дело с «представителями первоначальных (?), вечно борющихся человеческих типов», и, следовательно, отношения их никак не могут быть «столь характерны для русской литературы» специально. А между тем эти два взаимно исключающие положения г. Мережковского отделены друг от друга всего семью страничками И если первое положение произвольно и бездоказательно, то второе, может быть, еще произвольнее и бездоказательнее.
В самом деле, даже оставляя в стороне проблематическую вечную борьбу человеческих типов, – почему бы мы должны признать характерным для русской литературы явлением вражду Тургенева и Толстого, а не трогательное предсмертное письмо Тургенева? Едва ли литература всех стран, времен и народов знает много таких писем, а враждебных отношений между талантливыми современниками можно указать сколько хотите. Г-ну Мережковскому угодно, в пику русской литературе, излагать в двадцати строчках историю французской литературы как стройный, спокойный, трехвековой процесс. В двадцати строках это можно сделать, а, пожалуй, даже иначе и нельзя сделать. Но если бы г. Мережковский вздумал отмечать в истории французской литературы эпизоды, аналогичные неприязненным отношениям Толстого и Тургенева и т. п, то двадцати строк оказалось бы очень мало. Напомню, например, общеизвестные отношения Руссо и Вольтера и энциклопедистов{3}, предоставляя г. Мережковскому отнести их на счет вечной борьбы противоположных человеческих типов, или особенностей французской литературы, или, наконец, особенностей конца XVIII века. О настоящем положении французской литературы г. Мережковский говорит: «мы присутствуем при первых неясных усилиях народного гения найти новые творческие пути, новые сочетания жизненной правды с величайшим идеализмом». Из дальнейшего изложения видно, что автор разумеет под этими «усилиями народного гения» так называемое декадентское или символистское движение. И выходит так, как будто символисты и декаденты, с одной стороны, дружно, а с другой – не встречая противодействия в старших литературных поколениях, спокойно занимают свое место в истории. На самом деле ничего подобного нет. Г-н Мережковский ссылается в одном месте на книгу Гюре «Enquéte sur l'úvolution littúraire»{4}. Эта книга составилась из шестидесяти с лишком бесед автора с разными французскими писателями о современном положении французской литературы и о школах, на которые она распадается. Не все, однако, к кому обращался Гюре, беседовали с ним устно. Некоторые удовольствовались письменными ответами на его вопросы. В том числе был и Ришпен{5}. Он отказался высказать свое мнение о различных школах и их представителях, и сообщил только, что осуществление предпринятой Гюре enquЙte производит на него удручающее впечатление: точно говорит смрадное болото, в котором, под ногами у нескольких быков, множество лягушек надувается и квакает: «moi, moi, moi!»[1] Приговор суровый, но довольно близкий к истине. Никогда, может быть, французская литература не была так раздираема разными школами, и никогда, может быть, обнаженные и взаимно враждебные я не играли в ней такой роли. Самая enquete Гюре подала повод к полемическим схваткам, из которых одна едва не окончилась дуэлью…
Эта несостоявшаяся дуэль (между Леконтом де Лилем и Анатолем Франсом) – явление столь обычное во Франции – не наводит г. Мережковского ни на соображения о вечно борющихся человеческих типах, ни на скептические мысли о французской литературе; тогда как такая же несостоявшаяся дуэль между Тургеневым и гр. Толстым фигурирует в числе опор его тезисов. Конечно, и поводы, и обстановка этих двух несостоявшихся дуэлей очень различны. Но дело в том, что, говоря о неприязненных отношениях между некоторыми нашими крупными писателями, г. Мережковский или совсем не останавливается на их причинах, или довольствуется слишком простыми и голословными соображениями. Между тем это дело очень сложное. Неприязнь и вражда могут вытекать из чисто принципиальных источников: люди расходятся в дорогих для них убеждениях, и каждый из них столь крепко держится за свое, что никакое общение между ними невозможно. С другой стороны, люди вполне единомыслящие могут не сходиться характерами. Прибавьте сюда разные человеческие слабости, вроде самолюбия, зависти, подозрительности, прибавьте разные чисто житейские столкновения, – и вы получите пеструю картину, вполне возможную и во Франции, и в России. И как она не помешала существованию французской литературы, так не помешает и русской литературе, хотя многие подробности ее, разумеется, очень прискорбны.
Я отнюдь не думаю защищать русскую литературу от нападков г. Мережковского. Напротив, многое я выразил бы гораздо резче, но со многим, конечно, согласиться не могу. Оставляя в стороне нападки автора на отдельные определенные личности, представляющиеся ему зловредными, возьмем такое, например, его обвинение общего характера: «Литературное хищничество и продажность более развиты в России, чем где бы то ни было. Какие лица! Какие нравы! И ужасно, что эти лица самые молодые, бодрые, полные надежд. Страшно становится, когда видишь, что литература, поэзия – самое воздушное и нежное из всех созданий человеческого духа, все более и более передается во власть этому всепожирающему Молоху, современному капитализму!» Признаюсь, я не знаю, о ком здесь идет речь. Г-н Мережковский говорит так решительно, что ему, конечно, близко знакомы какие-нибудь яркие случаи этой мерзости. Но как бы ни был велик запас его наблюдений в этом роде, я не думаю, чтобы он имел право сказать, что «литературное хищничество и продажность более развиты в России, чем где бы то ни было». Всякие отдельные случаи возможны, но как бы они ни были омерзительны, от них еще далеко до той картины литературной продажности и хищничества, какая развертывается в настоящую минуту во Франции, в Италии, в Германии. И это не потому, чтобы русские писатели были как-нибудь по самой природе своей необыкновенно добродетельны. Может быть и так, но существует и гораздо более простая причина, та именно, что русская литература не представляет собою такой общественной силы, которую, как европейскую литературу, стоит покупать. Давление, оказываемое русскою литературою на русскую жизнь, слишком ничтожно. Конечно, эта гарантия не особенно лестная и не особенно прочная, но факт остается фактом: в настоящее время упрек г. Мережковского несправедлив, или по крайней мере преувеличен, а будущее до известной степени в наших руках. Чего-нибудь да стоит урок, преподаваемый нашей литературе теперешними европейскими скандалами, и можем же мы надеяться, что нечистые руки никогда не захватают русскую литературу вконец.
Надо, однако, заметить, что если европейская – скажем, в частности, французская литература – сильна на зло, то она сильна и на добро. Русская же литература бессильна и в этом отношении. И конечно, это практическое бессилие есть один из симптомов, а вместе с тем одна из причин упадка литературы, хотя г. Мережковский ее и не понимает. Он говорит о скуке, господствующей в литературной среде. Еще бы! Как тут не быть скуке и унынию, если мысль с трудом находит себе словесное выражение, а слово отделено от дела непроходимою пропастью.
Впрочем, хотя «причины упадка современной русской литературы» и значатся в заглавии книжки г. Мережковского и, следовательно, должны бы составлять один из пунктов его особливого внимания (другой такой же пункт – «новые течения»), но довольно трудно разобраться в его взглядах на этот предмет. Да простится мне вульгарное сравнение, мысль г. Мережковского скачет как блоха: направление, быстрота и вообще характер этих скачков имеют, может быть, свои внутренние резоны, но, глядя со стороны, невольно поражаешься их какою-то капризною неожиданностью и несуразностью.
Поговорив о скуке, господствующей в литературных кружках и редакциях, г. Мережковский делает ничем не мотивированный скачок к цитате из тургеневских «стихотворений в прозе» о мощи русского языка, а отсюда опять скачок к такому положению: «Три главные разлагающие силы вызывают упадок языка». Хотя, таким образом, вместо разговора об упадке литературы мы имеем разговор об упадке собственно языка и хотя автор не трудится указать связь и отношение этих двух упадков, но по крайней мере он пробует говорить с точностью, он выставляет даже цифру: три разлагающие силы. В добрый час! Но, перечислив свои три разлагающие силы (мы их сейчас увидим), г. Мережковский неожиданно заявляет: «…Другая причина упадка литературы – система гонораров». Читатель с недоумением оглядывается: а где же первая? или почему это не четвертая? Затем оказывается, что главная, хотя никакой цифрой не отмеченная, причина упадка литературы есть «критика», причем самые сильные удары автор направляет на гг. Протопопова, Скабичевского, Буренина и Волынского. Но еще немного далее мы узнаем, что у нас есть превосходные критики в лице гг. Андреевского и Спасовича, а следовательно, огульный приговор русской критике надо взять назад: что навредили дурные – исправили или исправят хорошие. Ведь и в беллетристике у нас не все Тургеневы и Толстые, и в собственно поэзии не все Пушкины и Лермонтовы.
Оказывается, однако, что и первая по счету причина упадка есть опять-таки все та же критика. Дело в том, что «еще Писарев ввел особый иронический, почти разговорный прием». Но язык Писарева был «сжат» и «увлекательно силен», а его преемники усвоили себе только дурные стороны его языка. Таким образом, причиною упадка литературного языка оказывается то, что литераторы стали дурно писать… Нельзя сказать, чтобы это рассуждение было очень блистательно в смысле логики. А между тем и вторая причина упадка совершенно такова же. Она заключается в той «особенной сатирической манере, которую Салтыков называл рабьим эзоповским языком»{6}. Словом, дурной язык есть причина дурного языка: скачок куда-то в стороны и потом опять назад, на старое место… Наконец, третья приводимая г. Мережковским причина упадка литературы (или литературной речи) состоит в невежестве, все более и более вторгающемся в литературу. С этим я спорить не стану, но думаю, что у этой причины есть свои причины, которых г. Мережковский, к сожалению, не коснулся.
К этим беспорядочным, капризным скачкообразным приемам мысли г. Мережковского надо еще прибавить особенности его собственного языка. Это нечто бурно-пламенное, достигающее иногда высокой степени красоты и увлекательности, но иногда ставящее в тупик своею неточностью, бессвязностью и произвольностью. Мне хочется привести образчики хорошего. Вот, например, что говорит г. Мережковский о гр. Толстом:
«Художник тратит время на популярные брошюры о пьянстве, с наивным жаром квакера составляет, подобно методическому и упрямому норвежцу Бернсону, практические руководства к целомудрию молодых людей, предисловия к трактатам о беременности, о вегетарианстве, серьезно уверяет, что люди курят табак, чтобы заглушить совесть. Но если совесть людей такова, что не может противостоять даже табачному дыму, стоит ли так много хлопотать о ней? На всех этих практических брошюрах лежит печать какого-то унылого и ледяного педантизма. Польза! Польза! Чей светлый ум не помрачало это слово в наш век?.. Мнимое человеколюбие, нравственное квакерство у холостяка отнимает трубку, у работника – чарку вина, суживает и омрачает без того уже достаточно узкую и мрачную жизнь человека, придает ей характер какого-то филантропического, безотрадного и добродетельного приюта для калек. Не таковы истинные пророки любви». Или вот еще несколько строк о Глебе Успенском: «Муза Некрасова в унижении сохраняла признак власти, она была гордой. У Глеба Успенского нет такой силы. Но зато в этих кротких, как будто потухших глазах, в этом усталом лице – тихая жалость к людям, точно непрестанный упрек кому-то, точно мольба за них. Холодное, безбожное поколение наших дней может пройти мимо такого человека и бросить банальную укоризну: „это публицист, а не художник!“ – не понимая, что, наперекор всем рамкам и законам эстетики, в мученической любви к народу не может не быть поэзии, не может не быть красоты».
Это превосходно: ярко, сильно без тени какой-нибудь искусственности или напыщенности, которые так часто исправляют должность настоящей силы и яркости (греху этому не чужд в иных местах книги и г. Мережковский). Если читатель всмотрится в такие хорошие места книжки, то увидит, что все они выражают известное настроение автора, причем он не пытается аргументировать или обосновывать какую-нибудь мысль, давать какому-нибудь явлению жизни определение, логически опровергать что-нибудь вообще, производить какую-нибудь более или менее сложную логическую операцию. Как только г. Мережковский пускается в эту последнюю область, так получается ряд туманностей без какого бы то ни было определенного, твердого ядра, полная беспорядочность мысли и изложения, путаница, противоречия. В лучших подобных случаях автор или задает совершенно определенный вопрос (на стр. 41: «что такое символ?») и так и оставляет его без ответа, или, как мы уже видели, утверждает, что этого, дескать, нельзя выразить словом и прячется за старинный афоризм: «мысль изреченная есть ложь»{7}. Но если это так, то лучше совсем не говорить или по крайней мере не писать для печати. И читая некоторые страницы г. Мережковского, поневоле думаешь: да лучше бы этого не печатать.
Не угодно ли, например, ориентироваться в следующих рассуждениях о Тургеневе:
«Русские рецензенты имели бестактность видеть в Тургеневе публициста и с этой точки зрения предъявляли ему требования. С надлежащим ли одобрением или порицанием изображен человек 30-х годов. Потом человек 40-х годов, потом нигилист 70-х годов и т. д. Одни защищали Тургенева, другие утверждали, что он в лице Базарова оскорбил молодое поколение. Странно теперь читать эти защиты, эти нападки! Подобное недоразумение могло возникнуть только из коренного непонимания. Впрочем, и сам Тургенев подал отчасти повод к недоразумению. Он писал свои большие романы на модные общественные темы, на так называемые жгучие вопросы дня. В этом великом человеке был все-таки литературный модник, то, что французы называют „модернист“. Как почти все поэты, он не сознавал, в чем именно его оригинальность и сила» (43 и след.). Далее автор поясняет, что настоящий оригинальный и сильный Тургенев, «царь обаятельного мира», которого просмотрели «наши критики-реалисты», это «Живые мощи», «Бежин луг», «Довольно», «Призраки», «Собака», «Песнь торжествующей любви» и «Стихотворения в прозе». А «Накануне», «Отцы и дети», «Новь», «Вешние воды» (и, вероятно, «Рудин», «Дым», «Дворянское гнездо», большая часть «Записок охотника» и еще кое-что) это вещи неодобрительные, по самой задаче своей условные, стареющие уже теперь.
Гоголевский почтмейстер рассказал длинную, сложную и очень занимательную историю капитана Копей-кина, который был, по его мнению, не кто иной, как Чичиков. Рассказ уже приблизился к самому концу, когда почтмейстеру напомнили, что капитан Копейкин был безрукий и безногий калека, а Чичиков вполне владеет руками и ногами. Почтмейстеру стало неловко… Мне думается, что г. Мережковскому следовало бы, во избежание подобной же неловкости, быть несколько точнее и осмотрительнее. Первый писавший о Тургеневе в неприятном для г. Мережковского тоне был Добролюбов, а он умер в 1861 году и, следовательно, не дожил до «Живых мощей», «Довольно», «Призраков» и т. д. Споры, отчасти действительно комические, о Базарове тоже происходили задолго до так высоко ценимых г. Мережковским «Стихотворений в прозе» и «Песни торжествующей любви». Поэтому о «бестактности» и «коренном непонимании» можно бы было говорить с несколько большею осторожностью. Но и помимо этого хронологического соображения надо рассудить еще вот что. Всякие могут быть точки зрения, в том числе и такая, с которой «Собака» представляется более ценимым произведением, чем «Рудин» или «Отцы и дети» (признаться, я бы этому не поверил до прочтения книжки г. Мережковского, но факт налицо). Но если сам Тургенев писал «на модные общественные темы, на так называемые жгучие вопросы дня», то каким же образом могла бы обойти их критика, говоря о Тургеневе? Она именно обнаружила бы бестактность и коренное непонимание, если бы обошла то, что наиболее занимало самого художника. Я думаю, это ясно.
Ясно также мнение г. Мережковского о Тургеневе: будучи великим художником, он, однако, портил свое художественное дело чрезмерною отзывчивостью на жгучие вопросы дня. Так изображено на страницах 43, 44. Если же читатель обратится к странице 163, то найдет следующее: «Тургенев – великий художник по преимуществу, – в этом сила его и вместе с тем некоторая односторонность. Наслаждение красотой слишком легко примиряет его с жизнью. Он любит мир и красоту своей художнической мастерской и охотно удаляется в созерцание вечных образов от шумной и пестрой современности…»
В подобных случаях принято, кажется, говорить: комментарии излишни…
Не менее трудно уловить собственную художественную profession de foi[2] г. Мережковского, независимо от его суждений о том или другом писателе. Он – поклонник красоты. Он говорит о красоте в восторженных выражениях, красота для него мерило вещей. «То же самое, великое и несказанное, что Гете называл красотой, Марк Аврелий называл справедливостью, Франциск Ассизский и св. Тереза – любовью к Богу, Руссо и Байрон – человеческою свободою» (27). «Красота образа не может быть неправдивой и потому не может быть безнравственной; только уродство, только пошлость в искусстве – безнравственны» (29). «Мне всегда казалось поучительным, что поэзия одинаково недоступна вполне безвкусным людям, как и вполне несправедливым» (32). «Как народу не любить красоты? Он сам – величайшая красота!» (60). «Едва ли не самый низменный и уродливый из человеческих пороков – неблагодарность… Повторяю, в одном лишь из всех наших пороков – в неблагодарности есть какое-то противоестественное, несвойственное человеческой природе безобразие» (72).
Нет никакого сомнения, что прекрасное есть естественная и совершенно законная категория требований человеческой природы, но мерять ею другие столь же законные, столь же самостоятельные требования – то же самое, что измерять пространство пудами или вес саженями. Сказать, что красота не может быть неправдива, или что народ есть величайшая красота, или что неблагодарность есть худший из пороков, потому что она уродлива, – сказать что-нибудь подобное значит ровно ничего не сказать. Это, говоря, не помню чьим, картинным уподоблением, – наводнение слов в пустыне мысли. Из всех приведенных странных выражений следует только то, что Мережковский чрезвычайно чтит категорию красоты и, не отворачиваясь ни от нравственности, ни от справедливости, ни от жизни во всей ее многосторонней глубине, думает, что служение красоте есть высшая задача, к решению которой само собою приложится и все остальное. Поэтому-то он и Тургенева порицает за вмешательство в злобу дня. Поэтому он и на критиков-моралистов и публицистов негодует, поэтому же он прямо и торжественно заявляет: да, поэт должен творить «не для житейского волненья, не для корысти, не для битв».
Это не мешает, однако, тому же г. Мережковскому разразиться на странице 113 следующими пламенными строками. После соответственных цитат из пушкинского «Ариона» и лермонтовского «Кинжала» и после соответственных упреков Фету, Майкову и Полонскому, он пишет: «Вкусы различны. Что касается меня, я предпочел бы, даже с чисто художественной точки зрения (а с иной, значит, и подавно), влажные, разорванные волнами ризы Ариона самым торжественным ризам жрецов чистого искусства. Есть такая красота в страдании, в грозе, даже в гибели, которой не могут дать никакое счастье, никакое упоение олимпийским созерцанием. Да, наконец, и великие люди древности, на которых любят ссылаться наши парнасцы (курсив г. Мережковского), разве были они чужды живой современности, народных страданий и „злобы дня“, если только понимать ее более широко? Я уверен, что Эсхил и Софокл, участники великой борьбы Европы с Азией, предпочли бы, не только как воины, но и как истинные поэты, меч, омоченный во вражеской крови, праздному мечу в золотых ножнах с драгоценными каменьями!»
Вкусы различны… Это хорошо. Это снимает грозную опалу г. Мережковского с тех поэтов, которые не прочь от «житейских волнений», а стало быть, и с тех критиков, которые – пусть неумело, узко, грубо – руководствуются в своих суждениях этими самыми житейскими волнениями, что не мешает им, конечно, и красоту ценить. Это хорошо. Но когда прямо противоположные вкусы совмещаются в одном и том же человеке, то это, может быть, уж и не так хорошо. Это напоминает поговорку: чего хочешь, того просишь. Что же касается критики, то она, мне кажется, должна по отношению к г. Мережковскому, руководствоваться другой французской поговоркой «La plus jolie fille ne peut donner que ce qu'elle a»[3]. Неясность, незрелость мысли г. Мережковского слишком очевидна, чтобы ему можно было предъявлять какие-нибудь требования в этом отношении: все равно ничего не получишь. Но намерения его несомненно добрые, настроение – несомненно благородное. С этой стороны его и брать надо. К сожалению, эту сторону нельзя выделить, не возвратившись к странным скачкам мысли автора.
Г-н Мережковский скорбит о современном состоянии русской литературы, но надеется на лучшее будущее. Он даже видит около себя зачатки, проблески этого лучшего будущего. Это – группа, которую он называет «современным поколением русских писателей-эпигонов». Называет он их также «современными идеалистами» и еще другими именами. Сюда относятся гг. Чехов, Фофанов, Минский, Андреевский, Спасович и Вл. Соловьев. В подстрочных примечаниях г. Мережковский присоединяет к этому списку еще несколько имен, и мы, может быть, еще обратимся к мотивам этого присоединения; может быть – потому что это не особенно важно, хотя и интересно Сам г Мережковский, конечно, примыкает к этой группе, хотя и не говорит о себе. Он отнюдь не преувеличивает значения и талантов «современных идеалистов» Конечно, таланты есть между ними, но в общем они подобны «младенчески слабым и беспомощным побегам молодого растения, пробивающимся из-под тяжелого камня» (36) Подобны они также Гомункулу второй части «Фауста», этому «странному существу, полудетскому, полустарческому» (55) И тем не менее «они теперь в России – единственная живая литературная сила У них достаточно в сердце огня и мужества, чтобы среди дряхлого мира всецело принадлежать „будущему“ Исполненный отваги, г Мережковский припоминает эпизод из Севастопольской кампании русские солдаты шли на приступ, но перед ними был ров, и первые ряды наполнили его телами мертвых и раненых, следующие ряды прошли по трупам Так-то, говорит, и мы, „современные идеалисты“, погибнем, но по нашим трупам пройдут следующие поколения и победят
Несмотря на некоторую напыщенность пафоса, я верю искренности г Мережковского, верю, что он действительно готов погибнуть – фигурально, конечно, выражаясь не в настоящем каком нибудь рву перед настоящим укреплением, а, например, под бременем насмешек Он это предвидит и смело идет навстречу выстрелам иронии Он говорит, что „ничего не может быть легче, как осмеять и отвергнуть“ течение „современного идеализма“ Я не думаю, однако, чтобы все вышеперечисленные представители этого течения столь же мужественно готовились к насмешкам Да и с какой стати? Над книгой г Минского „При свете совести“{8}действительно много смеялись, над книгой г Мережковского, я боюсь, тоже будут смеяться, хотя и не так сильно ради ее искренности, которой в произведении г Минского нет и следа Но взять, например, г Чехова О нем много говорят в литературе одни восхищаются его талантливыми картинками, другие сожалеют об „изъянах его творчества“, по выражению нашего сотрудника, но ни единой насмешки по его адресу я не встречал, да, конечно, и не встречу Или г Спасович И на старуху бывает проруха, и г Спасовичу случалось промахиваться не без комического эффекта, но чтобы этот маститый деятель профессуры, адвокатуры и литературы мог ожидать себе погибели над бременем насмешек, чтобы он пошел на эту гибель – в этом позволительно по крайней мере усомниться.
Но позволительно усомниться и в гораздо большем, а именно в том, чтобы все занесенные г. Мережковским в список „современных идеалистов“ чувствовали себя в этих рамках и в этом соседстве как в своей тарелке. Я думаю, что они попали в список потому, что пользуются благосклонностью г. Мережковского и что благосклонность эта определяется не теми или другими их качествами, а исключительно настроением г. Мережковского. Иначе говоря, общая скобка, за которую они поставлены, совершенно произвольна. Странно, в самом деле, читать такое, например, заявление г. Мережсковского: „Так же, как и все люди нового поколения, Спасович – идеалист“. Как известно, г. Спасович принадлежит, напротив, к очень старому поколению. Г-н Мережковский, правда, оговаривает энергию и молодость духа г. Спасовича, но ведь эти качества равно доступны всем поколениям и, во всяком случае, г. Спасович не есть продукт тех особенных условий, среди которых и под влиянием которых зарождается „современный идеализм“ г. Мережковского. Он ведь только еще зарождается, этот современный идеализм, он выбивается из-под камня, „как младенчески слабые и беспомощные побеги молодого растения“. Как бы кто ни смотрел на г. Спасовича, но неужели же он может иметь какое-нибудь отношение к этой младенческой слабости и беспомощности? „Parlez pour vous[4], г. Мережковский!“ – думал, вероятно, г. Спасович, читая сравнения „новых течений“ с беспомощными ростками и Гомункулом.
Г-н Мережковский заимствует свой свет от того движения в современной французской литературе, которое известно под именем символизма или декадентства, – я не могу здесь распространяться об этом обширном предмете, так как уже начал о нем беседу в другом месте. Скажу лишь следующее. Движение это отвечает некоторыми своими сторонами на действительную и, может быть, важнейшую верховную потребность человеческого духа, каковая потребность существовала, однако, всегда. Но, во-первых, не один символизм, даже во Франции, пытается удовлетворить эту потребность, а во-вторых, из всех этих попыток символизм есть самая плоская и уродливая, не только не подвигающая к разрешению задачи, но компрометирующая ее. Символизм слагается из умственной и нравственной дряхлости, доходящей, по мнению некоторых, до психического расстройства, затем из шарлатанства, непомерных претензий и того, что французы называют блягой{9}.
Г-н Мережковский насчитывает „три главных элемента нового (то есть символистского или декадентского) искусства: мистическое содержание, символы и расширение художественной впечатлительности“. Это приблизительно верная программа некоторых символистов, как они сами ее понимают или по крайней мере излагают. Приблизительно верно также и другое замечание г. Мережковского: „Непростительная ошибка думать, что художественный идеализм – какое-то вчерашнее изобретение парижской моды. Это возвращение к древнему, вечному, никогда не умиравшему“. „К вечному“– это немножко сильно сказано, а возвращение к тому, что никогда не умирало – не совсем понятно. Но, во всяком случае, верно, что „новое искусство“ содержит в себе мало нового, и это новое не хорошо, чего, впрочем, г. Мережковский отнюдь не думает.
С художественной стороны символизм, поскольку в нем есть зерно правды, представляет собою реакцию против „натурализма“ и „протоколизма“ Эмиля Золя с братией. Со стороны философской – поскольку можно говорить о ней в применении к людям весьма мало сведущим и совершенно беспорядочно мыслящим – он реагирует против последней крупной философской системы, выставленной Францией: против позитивизма. Идеи, вырабатываемые, а иногда только перерабатываемые Францией, имеют ту особенность, что они быстро и шумно распространяются далеко за ее пределы и овладевают чуть не всем цивилизованным миром. Так было и с позитивизмом в научно-философской области и потом с натурализмом в области художественной. Реакция против односторонности, сухости и узости этих доктрин естественно должна была в той же Франции принять наиболее острый характер и уже оттуда распространиться, как из центра, к периферии. Сам Огюст Конт, провозвестник позитивизма, стеснялся узкими рамками доктрины и ее черствостью и первый, собственно говоря, восстал на нее своим „субъективным методом“ и „религией человечества“{10}. Но эта неудачная попытка ослабевшего и расстроенного ума не привилась и не могла привиться в сколько-нибудь широких размерах. Задача состояла и посейчас состоит для Франции в религиозном объединении разума, чувства и воли, в таком расположении системы все растущих знаний, чтобы при этом получило удовлетворение и нравственное чувство; чтобы далее это нравственное чувство, в союзе со знанием, с наукой, проникало человека до полной невозможности поступать несогласно с указаниями нравственного чувства. В этом и смысл, и задача всякой религии. Религиозное чувство есть тот великий действительный элемент, без которого мертвы и наука, и нравственная доктрина. Беспримерные несчастия, сыпавшиеся на Францию в течение многих и многих лет и доселе ее не оставляющие, конечно, не способствовали исполнению великой задачи. Разумею не бурные периоды французской истории, а, напротив, периоды затишья. Страшен погром, вынесенный Францией в 1871 году{11}, но это был, в известном смысле, благодетельный эпизод – он заставил встрепенуться. Г-н Мережковский, имея, конечно, в виду главным образом Францию, говорит: „XVIII век и его ограниченный скептицизм не правы. Нет! Людям нужна вера, нужен экстаз, нужно священное безумие героев и мучеников“. Ограниченный скептицизм всегда не прав, но о XVIII веке следовало бы, может быть, говорить осторожнее. Пусть г. Мережковский припомнит хоть, например, величественную смерть героя и мученика революции – Кондорсе{12}. Или, так как г. Мережковский поэт, пусть припомнит судьбу братьев Шенье{13}. Но бывали во Франции и другие времена, когда она действительно ни во что не верила и когда кокетливая, эпикурейски скептическая и, для меня лично, глубоко противная даже на портрете улыбка Ренана была, может быть, лучшим, что могла представить миру великая страна. В такое печальное время зародился и натурализм, или протоколизм, Эмиля Золя. Крупный художественный талант, но плохой мыслитель, ограниченный и самодовольный, Золя дал толчок мелочной, протокольной точности описания. Фразами, блещущими всеми недостатками полузнания, он и теоретически пытался отстоять эту незаконную форму поэзии: протокол, копия с натуры – больше ничего от искусства не требуется; идеалы, противополагаемые непреоборимому естественному ходу вещей, нравственный суд над человеческими мыслями, чувствами и поступками, которые столь же необходимы, как рост дерева или вращение земли вокруг солнца, – все это вздор, ненужный балласт, подлежащий уничтожению.
Все это наконец надоело. Проснулась верховная потребность человеческого духа. Но проснулась, конечно, не в одних символистах, и я даже сомневаюсь, чтобы она в них в самом деле настояще проснулась. Во всяком случае, они противопоставили протоколу – символы, непреоборимости естественного хода вещей – мистицизм, грубым штрихам натуралистической поэзии – разные ухищрения тонкости. Кстати подоспели новейшие открытия в области психофизиологии: гипнотизм, внушение, чтения мыслей. Благодаря новизне этих явлений как объектов науки и благодаря их стародавности как явлений жизни, практики, – мистицизм, пристрастие к символам собственно за их загадочность и погоня за ухищренными тонкостями нашли себе в них кажущуюся опору.
Но довольно о французских символистах. Обратимся к их русскому отражению, к г. Мережковскому, разумея его, впрочем, исключительно как теоретика, как автора лежащей перед нами книги, потому что с его стихотворными произведениями я, признаюсь, недостаточно знаком.
Повторяю, я высоко ценю благородное настроение души г. Мережковского, не удовлетворяющегося сухостью, черствостью и односторонностью доктрин позитивизма и натурализма. Но протестовать против них можно с различных точек зрения, и любопытно знать, почему именно французский символизм пришелся ему по душе? Прежде всего, одно дело – Франция и другое дело – Россия. Во Франции, как справедливо замечает г. Мережковский, символизм имеет значение „возмущения“. Против чего возмущается г. Мережковский и указываемая им „единственная живая в России литературная сила“– отважное войско, состоящее из г. Чехова, Фофанова, Минского, Спасовича, Андреевского и Вл. Соловьева? Я, впрочем, не хочу ставить г. Мережковского в неловкое положение человека, взявшегося говорить от лица людей, не давших ему полномочий. Я остановлюсь только на нем самом.
Позитивизм Огюста Конта, о котором, впрочем, г. Мережковский прямо не упоминает, имел у нас некоторое значение, но его односторонность и узкость были указаны в русской литературе очень давно, когда г. Мережковский еще никакими отвлеченными вопросами не занимался, а играл в лошадки и вообще предавался невинным забавам, свойственным младенческому возрасту. Натуралистическим теориям в искусстве отводил было одно время на своих страницах место „Вестник Европы“{14}, но и этот почтенный журнал от них давно отступился, и, во всяком случае, натурализм, или зола-изм, отразился у нас разве только в некоторых произведениях гг. Боборыкина, Ясинского и еще кое-кого помельче. Главное русло русской поэзии и беллетристики никогда не совпадало с натурализмом. Русская критика также никогда не вдохновлялась им. Правда, за этой русской критикой г. Мережковский считает другие тяжкие грехи. Но, каковы бы они ни были, „возмущение“ г. Мережковского против русской критики может иметь лишь частный характер. Гг. Андреевский и Спасович являются в изложении нашего автора такими блестящими критиками, каким могут позавидовать гораздо более богатые, чем наша, европейские литературы, а ведь и там их не дюжинами считают. Г-н Мережковский возразит на это, что одна ложка дегтю портит бочку меду, а в данном случае даже наоборот выходит: бочка скверного, черного дегтя и в ней ложечка светлого, душистого, сладкого меда в лице г. Андреевского и Спасовича. И именно потому г. Мережковский направляет свои удары преимущественно на критику, что она была причиной упадка литературы вообще. Если, однако, это соображение и справедливо, то оно все-таки не решает вопроса, а только отодвигает решение. Критика не однородное какое-нибудь тело в составе литературы, она часть ее, и потому надо спросить: отчего произошел упадок критики? Иначе вместо ответа на вопрос, поставленный даже в заголовке книги, получится вариация на мольеровскую тему{15}: opium facit dormire quia est in eo virtus dormitiva[5]. Далее, г. Мережковский не первый ищет в критике причину упадка литературы. Замечательно, однако, что подобные жалобы на критику раздаются только у нас, хотя плохие критики есть везде и везде их больше, чем хороших. Только у нас господа беллетристы и поэты имеют двусмысленную смелость говорить: мы потому плохи, что критика плоха. Я не знаю, к какому времени относит г. Мережковский начало зловредного влияния у нас критики. По-видимому, к очень давнему, и настолько, во всяком случае, давнему, что это зловредное влияние должно бы было отразиться и на Тургеневе, и на Гончарове, Льве Толстом, Достоевском. Однако не помешала же им критика. Мало того, наша критика, по мнению г. Мережковского, все ухудшалась, а между тем, по его же мнению, именно позднейшие произведения Тургенева и Достоевского стоят особенно высоко…
Одна из глав книжки г. Мережковского называется: „Начала нового идеализма в произведениях Тургенева, Гончарова, Достоевского и Л. Толстого“. На основании всего предыдущего следует, кажется, заключить, что названные четыре своего рода великана представляют собою начало того, что имеют поведать миру гг. Фофанов, Минский, Мережковский, Чехов, Андреевский, Спасович, Соловьев. А может быть, уже даже поведали? Я думаю, что c'est trop fort[6]. „Начало“ – великаны, а конец или продолжение – „Гомункулы“ и „младенчески беспомощные ростки…“. Тут что-нибудь не так. И действительно не так. Просто путаница, от разбора которой я себя увольняю. Приведу только, что „Гомункулы“, „младенчески беспомощные ростки“ (они же „слабые и нежные дети вечерних сумерек“) „взяли художественный импрессионизм у Тургенева, язык философских символов у Гончарова, глубокое мистическое содержание у Толстого и Достоевского. Все эти элементы нового идеального искусства они сделали более сознательными, попытались ввести даже в критику, обнажили от посторонних реалистических наслоений“. Далее говорится, что, несмотря на все эти подвиги, гомункулы все-таки очень слабы. Но где, когда, кто из них сделал то, что рассказывает г. Мережковский? Остановлюсь на одном лишь примере. Из живых беллетристов нового поколения, нового идеального искусства и как их еще там г. Мережковский называет, он берет целиком только г. Чехова. Пусть же он укажет мистическое содержание в произведениях этого талантливого писателя, к великой его чести, решительно чуждого мистицизму.
Но дело, пожалуй, не в этом. Тургенев, Гончаров, Достоевский, Толстой – это ведь вчерашний, даже сегодняшний день. И если г. Мережковский признает их своими духовными отцами, так против чего же он „возмущается“? Из подражания французским символистам? Но ведь те не признают ни натуралистов, ни „психологов“, ни „парнасцев“; они действительно разрывают со вчерашним днем; им, по их мнению, не за что ухватиться в ближайшем прошлом. Г-н Мережковский находится в совсем ином положении. Тем более что кроме произведений Тургенева, Гончарова, Достоевского и Л. Толстого, он знает еще одно течение в нашей литературе, против которого он восставать не хочет и не может.
Он говорит: „Прежде чем я перейду к поколению современных русских писателей-идеалистов, я должен сказать несколько слов о другом могущественном литературном течении, также вполне современном, имеющим огромную будущность, которому лишь по недоразумению большинство наших критиков придает такой резкий утилитарный характер. В сущности, это течение очень близко к идеализму. Я разумею народничество“. Из живых представителей этого направления г. Мережковский указывает на Гл. Успенского, В. Г. Короленко и меня… Это вынуждает меня на некоторые личные объяснения.
Лично обо мне г. Мережковский говорит, между прочим, следующее:
„Многие считают Михайловского исключительно позитивистом. Правда, он позитивист, как и большинство русских критиков, в отношении к искусству и красоте. Он не хочет примириться с высшим сознательным и божественным идеализмом, который, как многие люди его поколения, считает реакционным возрождением отжившего и суеверного мистицизма. Но в своих молодых статьях о Дарвине, о Спенсере – он идеалист“. И далее: „Не следует ли лучшим представителям прошлого, например Михайловскому, прислушаться к тому, что говорит современное поколение? Иногда не кажется ли отцам изменой то, что в детях только необходимый следующий момент развития? Кто знает, может быть, Михайловский нашел бы не одну бездарность и самонадеянность, а что-нибудь искреннее в том, что говорят молодые, идущие за ним. Я знаю, что Михайловский имеет полное право возразить: „Кто же эти молодые? Укажите на них. Что они говорят? Я их не слышу, я их не знаю…“ Да, голос их слаб. Но хотя бы это был шепот, он есть. Мы слабые, ничтожные люди, сегодня шепотом говорим друг другу на ухо то, что гений будущего заставит людей возвещать на кровлях и площадях народных. Разве в первый раз великое начинается с малого, отвергнутого и осмеянного?“
Г-н Мережковский сделал мне великую честь, поставив меня рядом с такими писателями, как Гл. Успенский и В. Г. Короленко. Я думаю, однако, что до известной степени самим характером моей работы эта честь мною действительно заслужена, и считаю себя вправе говорить не только от своего имени по крайней мере по одному пункту. Дело не в словах, не в названии – „что имя? звук пустой“, – но мы не можем принять кличку „народников“, и не по существу, а просто потому, что слово это слишком захватано, и в него нередко вкладывается смысл, с которым мы имеем мало общего. Г-н Мережковский называет нас еще „идеалистами“ (с некоторою неприятною для него примесью). Отчего бы и нет? Но слово „идеализм“ слишком неопределенно; в свою долгую историю – оно ведь очень старо – оно обозначало многое разное, и я отнюдь не уверен в том, что наш идеализм совпадает с тем, который вдохновляет г. Мережковского.
Теперь о себе. Г-н Мережковский замечает, что я „в своих молодых статьях – идеалист“. Не знаю, идеалист ли в смысле г. Мережковского, но наверное знаю, что я и теперь тот же, что был в молодые годы; знает это и г. Мережковский и прямо говорит об этом в другом месте. Что же касается адресованного ко мне приглашения прислушиваться к „шепоту“ „современных русских писателей-идеалистов“, то я затрудняюсь. Я всячески прислушивался и прислушиваюсь к тому, что говорят молодые, по закону естества идущие на смену нас стариков. Это ведь, опять же по закону естества, продолжение нашего собственного существования в обновленной форме. Но, к сожалению, я не могу симпатизировать произведениям большинства провозвестников нового, молодого. И прежде всего, я не слышу „шепота“. Напротив – гром и молния; гром не из тучи, конечно, а из среды самоуверенных до наглости, невежественных, неискренних и неблагодарных людей. Я в особенности настаиваю на искренности, потому что – г. Мережковский знает – „не всякий говорящий: „Господи!“ внидет в царствие небесное“.
Я не хочу входить в подробный разговор о разных „новых“ течениях и ограничусь г. Мережковским. Он – искренний человек. Он действительно проникнут жаждой всеохватывающей религиозной преданности идеалу, недостатком которой страждет, конечно, не одна Франция. Теоретически он, по крайней мере иногда, понимает также, что удовлетворение этой жажды не может быть достигнуто как-нибудь в ущерб науке, точному знанию. Он говорит: „Великая позитивная и научная работа двух последних веков, конечно, не прошла даром. Возрождение средневековых догматических форм уже немыслимо. Потому-то стародавний, вечный идеализм в искусстве мы имеем право назвать новым, что он является в сочетании еще небывалом, с последними выводами точных знаний, в свете безгранично свободной научной критики и научного натурализма как неистребимая никакими сомнениями потребность человеческого сердца“. Что облюбованные г. Мережковским струи современного искусства именно таковы, это просто неправда; но верно, что такова задача, и не только искусства. Действительно, неистребима потребность в действенном объединении сущего и долженствующего быть. Мало знать причины и следствия известного поведения – оно должно получить еще нравственную оценку, невозможную без определенного идеала; но мало и пассивной оценки, не обязывающей утвердиться в известном образе действия или изменить его. Мало знать, надо еще чувствовать, но мало и чувствовать, надо еще действовать. Та сила, которая направляет нашу волю к действию в соответствии с идеалом, построенным совокупным трудом разума и чувства, – эта сила и составляет сущность всякой религии. Не следует смущаться теми грубыми формами, под которыми скрывается иногда религия. Когда дикарь мажет сметаной или жиром губы своего идола в уверенности, что он за это пошлет ему счастливую охоту, эта уверенность составляет элемент науки дикаря, его понятий о причинной связи явлений, а не его религии. Лишь очень поверхностный или грубо понимающий человек может сказать: этот дикарь религиозен потому, что мажет идолу губы сметаной. Он делает это потому, что он невежествен. Но это не мешает ему быть глубоко религиозным, когда он так или иначе, движимый непреодолимою внутреннею силою, сознательно подвергается невзгодам, опасностям, лишениям ради чего-то вне и выше его стоящего, когда он, например, умирает, защищая своих богов и покровительствуемую ими родину или семью. Мы бесконечно далеко отошли от дикаря в понимании законов природы, но в историческом ходе событий односторонняя работа разума слишком часто подавляет область чувства и воли. Получается либо бездушная числительная машинка, вообще какой-нибудь механический аппарат познания с физиономией глубокомысленной или подкрашенной скептическою улыбкой, либо разнузданный зверь, либо, наконец, жалкое существо, разъединенное колебаниями и сомнениями.
Г-н Мережковский глубоко огорчен этим унижением человеческой природы, этим ее потускнением, и я могу только сочувствовать ему. Я уверен, что и он, прочтя только что написанное, скажет: это верно. Но я не в первый раз это говорю, а между тем г. Мережковский утверждает, что я „не хочу примириться с высшим сознательным и божественным идеализмом“. Я прежде всего не хочу путаницы и двусмысленности вообще, а в серьезных делах в особенности. Что это, собственно, значит – „высший сознательный и божественный идеализм?“ Я вынужден и г. Мережковскому напомнить изречение: „не всякий говорящий: „Господи! Господи!“ внидет в царствие небесное“{16}. В своем растрепанном мышлении и еще более растрепанном изложении он играет словами „религиозный“, „художественный“, „божественный“, „мистический“, „идеалистический“, не давая себе труда определять, как он их понимает, и чаще всего употребляя их как синонимы. Посмотрим, к чему это ведет.
Вернемся к мнениям г. Мережковского о произведениях Тургенева. Говорит он на эту тему многое разное и совершенно несогласимое, как мы уже видели. Краткости ради, я предложу читателю вдуматься лишь в ту точку зрения, по которой, между прочим, выходит, что рассказ „Собака“ должен быть поставлен выше, чем „Накануне“ и „Отцы и дети“. Я имел случай убедиться, что „Собаки“ многие даже не помнят, а потому расскажу вкратце ее содержание.
В каком-то обществе зашла речь о возможности или невозможности явлений, „несообразных с законами натуры“, как выражается один из собеседников. По этому поводу другой собеседник рассказал случай из своей жизни. Это был небогатый помещик, отставной офицер, проигравшийся в карты и кое-как пристроившийся к маленькому месту в столице. Звали его Порфирий Капитоныч. А случай с ним такой был. Однажды в деревне он ночью слышит, что у него под кроватью скребется и чешется собака, тогда как собак он не держал. Зажег свечку, посмотрел под кровать – никого нет. А как затушил свечку, так опять собака возится. Лакея позвал – то же самое; в темноте и лакей собаку слышит, а при свете никого нет. И так подряд из ночи в ночь. Сосед приехал в гости, ночевать остался, и при нем все то же. Поехал Порфирий Капитоныч в город и остановился у знакомого старика раскольника. Таинственная ночная собака и там от него не отстала, к великому негодованию хозяина-раскольника, который считал собак нечистой тварью. Узнавши, однако, в чем дело, раскольник смилостивился, решил, что „это есть явление, а либо знамение“, и направил Порфирия Капитоныча к другому старику раскольнику, который уже окончательно рассудил: „это вам не в наказание послано, а в предостережение“. Идите, говорит, на базар, купите щенка и держите того щенка при себе денно и нощно, „ваши видения прекратятся, да и, кроме того, будет вам та собака на потребу“. Купил Порфирий Капитоныч щенка на базаре, и все произошло, как по писаному. Видения прекратились, а когда щенок вырос, то спас Порфирия Капитоныча от бешеной собаки, сразившись с нею…
По форме рассказ принадлежит к числу слабейших произведений Тургенева, с чем, я полагаю, и г. Мережковский согласится. Как художественное произведение, со стороны формы, сравнивать „Собаку“ с „Накануне“ или „Отцами и детьми“– даже не смешно. Г-н Мережковский подкуплен самою фабулою рассказа, его „мистическим содержанием“. Содержание, несомненно, мистическое. Но при чем тут прочие слова, представляющие собою, по мнению г. Мережковского, синонимы мистицизма? Неужто в самом деле заслуживает названия „божественного идеализма“ история о том, как щенок и два старика раскольника послужили орудиями спасения проигравшегося в карты Порфирия Капитоныча от бешеной собаки? Я отказываюсь понимать смысл такого произвольного сочетания слов, как „божественный идеализм“. Но я достоверно знаю, что к области религии рассказанный в „Собаке“ анекдот не имеет ровно никакого отношения. Или, может быть, его место в сфере науки? Ведь г. Мережковский обещал нам „сочетание идеализма с последними выводами точных знаний, в свете безгранично свободной научной критики и научного натурализма“…
Читатель без труда найдет в книжке г. Мережковского другие многочисленные следы беспорядочной игры словами и понятиями.
Я обращаю особенное ваше внимание на мотивы, по которым он считает „Сои Макара“ лучшим из произведений В. Г. Короленко, а „Парамона юродивого“ лучшим из произведений Гл. Успенского (стр. 68 и 71) Интересно также подстрочное примечание на странице 85, где автор одобряет г. Михайлова (Шеллера) за то, что он „чувствует потребность покинуть знакомую обстановку, из современного Петербурга перенестись ни более ни менее как в древнюю Персию времен царя Артаксеркса, в мир патриархальной фантазии“. Тут же восторги перед „мистическими легендами“ г. Лескова. Приглядываясь к подобным страницам, а равно к тем, где „статистика“ и „политическая экономия“ являются чуть не ругательными словами, мы можем прийти к окончательному заключению относительно г. Мережковского.
Г-н Мережковский не пророк и не герой нового течения, а жертва недоразумения. Он сам страдает недостатком того всеохватывающего начала, за отсутствие которого громит русскую литературу. Он лишь жаждет религиозного объединения своих понятий о причинной связи явлений и своего нравственного чувства, но думает удовлетворить свою жажду в безводной, давно высохшей пустыне и принимает миражи за действительность. По странному, но довольно обыкновенному в неустойчивых, колеблющихся натурах противоречию, он даже не хочет, чтобы расстилающийся перед ним красивый мираж превратился в настоящую действительность, где он в самом деле мог бы утолить жажду. Этот мираж красив именно как мираж и, следовательно, представляет особенную ценность для художника и пламенного поклонника красоты. Но он, кроме того, не обязывает, даже не призывает к жизни в полном глубоком значении этого слова, а г. Мережковский и хочет, и в то же время боится жить. Для человека жить не значит пить, есть и спать. Многие люди живут этой жизнью, но это недостойная человека жизнь, и г. Мережковский ее презирает. Жить – значит мыслить», чувствовать и действовать, причем все эти три элемента должны быть в полном согласии, ибо это равноправные и друг друга поддерживающие функции или стороны жизни. Формула их сочетания меняется в истории, но она всегда есть или составляет великое искомое. Благодаря бесчисленным противоречиям г. Мережковского, я не умею сказать, как понимает он свое собственное отношение к этой формуле: считает ли он себя обладателем ее или только ищущим. Во всяком случае, со стороны дело виднее, и для меня нет сомнения, что он ищет, но ищет неверными приемами и там, где найти нельзя. Почему он так радуется, что г. Михайлов в каком-то своем произведении (мне оно неизвестно) «покинул знакомую обстановку и перенесся из современного Петербурга ни более ни менее как в древнюю Персию времен царя Артаксеркса»? Готов верить, что это прекрасное произведение, но г. Мережковский ничего не говорит об его красотах и радуется самому факту удаления романиста ко временам Артаксеркса. Я и против этого факта ничего не имею. Выбор того или другого исторического момента для рамки поэтического содержания ничего не говорит против произведения, но сам по себе ничего не говорит и за него, а по г. Мережковскому, уж и то превосходно, что автор из современного Петербурга в «мир патриархальной фантазии» удалился. Почему такая немилость к Петербургу? Потому же, почему «Собака» выше больших романов Тургенева. Как и французских символистов, неясность собственной мысли г. Мережковского влечет его от настоящей жизни ко всему неясно мерцающему, таинственному, мистическому, далекому. Отсюда же и его комическое негодование против статистики и политической экономии. На словах он обещает «сочетание идеализма с последними выводами точных знаний», а на деле даже статистики боится. «Мистицизм» он проповедует открыто и даже с гордостью. Это его дело, но напрасно он отождествляет слова «мистический» и «религиозный». Это не только не одно и то же, а даже две противоположности. Религия призвана руководить человека в жизни, освещать ему его трудный, извилистый, полный соблазнов путь, и потому ей нечего бояться статистики. Другое дело мистицизм. Он, если позволено так выразиться, тушит светоч религии и уводит человека из настоящей действительной жизни куда-нибудь в туманную даль: «в мир патриархальной фантазии» времен Артаксеркса или в ту фантастическую область, где «леший бродит, русалка на ветвях сидит» и таинственная собака спасением какого-то Порфирия Капитоныча занимается. Я не хочу сказать этим, что фантастические, или отдаленно исторические, или прямо мифологические сюжеты не подлежат художественной эксплуатации. Дело не в сюжете, а в том, как к нему художник относится; для г. Мережковского сюжет все губит и все спасает. Короленко в «Сне Макара» решительно тот же, что и во всех других своих произведениях: то же отношение к жизни, те же упования и идеалы. Но фантастический сюжет «Сна Макара» выделяет для г. Мережковского этот рассказ на недосягаемую высоту над всеми писаниями Короленко. То же и с Тургеневым по отношению к «Собаке». Что бы ни говорил, г. Мережковский, но «Собака» есть пустяковый анекдот по содержанию, нимало не блистающий художественными достоинствами по форме. Об ней не будет упоминаться даже в очень подробных историях литературы, или разве в такой форме, что согрешил, дескать, между прочим, Тургенев и «Собакой». Что же касается больших его романов, то, несмотря на многие их недостатки, и предвидеть нельзя того времени, когда они перестанут читаться с живым интересом. А для г. Мережковского мистическое содержание «Собаки» все выкупает, а мотивы действительной жизни в романах Тургенева все портят. Это от того зависит, что он боится жизни. Он хочет не пить, есть и спать, а жить по-человечески; хочет и не смеет, потому что инстинктивно чует свое бессилие ориентироваться в сложных путях жизни. При этих условиях мистические сферы остаются единственным убежищем, куда г. Мережковский и удаляется вслед за французскими символистами. Нам туда не по дороге. Во Франции и вообще в Европе не одни символисты вновь обращаются к мистике: там есть еще «маги», «необуддисты», «теософы» и другие разные. Я думаю, что мы еще слишком молоды, чтобы до такой степени извериться в жизнь и до такой степени ее бояться.
Примечания
1
«Я, я, я!» (фр.) – Ред.
(обратно)2
Исповеданье веры (фр.). – Ред.
(обратно)3
Самая красивая девушка дает только то, что она имеет (фр.). – Ред.
(обратно)4
Говорите за себя (фр.). – Ред.
(обратно)5
Опиум усыпляет потому, что обладает усыпляющей способностью (лат.). – Ред.
(обратно)6
Это слишком сильно (фр.). – Ред.
(обратно)(обратно)Комментарии
1
Лекцию эту он через некоторое время повторил… – Лекцию Мережковский прочел в 1892 г., издал ее отдельной книгой, а затем повторил издание в 1893 г., добавив названные выше статьи.
(обратно)2
После несостоявшейся дуэли в 1861 г. отношения между Толстым и Тургеневым прервались на 17 лет. В 1878 г. Толстой первый прервал многолетнее молчание, отправив Тургеневу письмо, которое заканчивалось так: «Искренно, если вы можете простить меня, предлагаю вам всю ту дружбу, на которую я способен. В наши года есть одно только благо – любовные отношения с людьми. И я буду очень рад, если между нами они установятся». Тургенев отвечал: «…С величайшей охотой готов возобновить нашу прежнюю дружбу и крепко жму протянутую мне вами дружескую руку». Михайловский имеет в виду письмо от 9 июля 1883 г., в котором Тургенев, в частности, писал: «Долго Вам не писал, ибо был и есмь, говоря прямо, на смертном одре… Пишу же я Вам, собственно, чтобы сказать Вам, как я был рад быть Вашим современником – и чтобы выразить Вам мою последнюю искреннюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литературной деятельности!..Друг мой, великий писатель русской земли, внемлите моей просьбе!» См.: Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями. М., 1978. Т. 1. С. 178–179, 203.
(обратно)3
…общественные отношения Руссо и Вольтера и энциклопедистов. – Руссо порвал с энциклопедистами после того, как Д. Дидро, чтобы смягчить впечатление от его статьи «О политической экономии», опубликовал в энциклопедии статью П. Буланже под тем же названием. Вольтер расходился с Руссо и энциклопедистами в вопросе об отношении к религии.
(обратно)4
Об этой книге, изданной Ж. Гюре в Париже в 1891 г., Михайловский писал в предыдущей статье «Декаденты, символисты, маги и проч.»: «Гюре, сотрудник газеты „L'echo de Paris“, задался мыслью собрать мнения всех сколько-нибудь выдающихся писателей друг о друге и о школах, по которым они группируются. Он снял таким образом шестьдесят четыре допроса (большую часть устных), из которых составилась чрезвычайно любопытная книга». См.: Рус. богатство. 1893. № 1
(обратно)5
В том числе был и Ришпен. – См. примеч. Икс. 532.
(обратно)6
…Салтыков называл рабьим эзоповским языком. – В частности, в очерке «Зиждитель» (1874) из цикла «Помпадуры и помпадурши» Салтыков-Щедрин писал: «Скушное время, скушная литература, скушная жизнь. Прежде хоть „рабьи речи“ слышались, страстные „рабьи речи“, иносказательные, но понятные; нынче и „рабьих речей“ не слыхать». Выражение «эзоповский язык» идет от имени свободолюбивого раба Эзопа, вынужденного говорить иносказательно.
(обратно)7
…прячется за старинный афоризм: «мысль изреченная есть ложь». – Михайловский имеет в виду следующую мысль Мережковского, высказанную непосредственно за этой цитатой из стих. Тютчева «Silentium!»: «В поэзии то, что не сказано и мерцает сквозь красоту символа, действует сильнее на сердце, чем то, что выражено словами. Символизм делает самый стиль, самое художественное вещество поэзии одухотворенным, прозрачным, насквозь просвечивающим, как тонкие стенки алебастровой амфоры, в которой зажжено пламя».
(обратно)8
Над книгой г. Минского «При свете совести» действительно много смеялись… – См. примеч. 11 к с. 532.
(обратно)9
То есть шутовством, сумасбродством.
(обратно)10
Сам Огюст Конт… восстал на нее своим «субъективным методом» и «религией человечества». Но эта неудавшаяся попытка ослабевшего и расстроенного ума… – О. Конт ввел в науку термин «социология», обосновав свой метод в шеститомном труде «Курс позитивной философии» (1830–1842). В четырехтомной «Системе позитивной политики…» (1851–1854) пытался создать новую «религию человечества», разрабатывая ее «культ» и «катехизис». Во вступительной статье к книге Д. С. Милля «Подчиненность женщины» Михайловский делил деятельность Конта на три периода: «В первом он является учеником Сен-Симона; во втором самостоятельным мыслителем, творцом „Курса позитивной философии“; в третьем, наконец, помешанным создателем нового культа, каким-то первосвященником человечества, пишущим письма к императору Николаю I (не получая, разумеется, ответа), придающим некоторым цифрам мистическое значение, видящим в догмате Богородицы какое-то указание на самостоятельность женщины путем безмужнего зарождения…» (Михайловский Н. К. Т. X. С. 301).
(обратно)11
То есть разгром Парижской коммуны, «кровавой майской недели», во время которой погибли 4 тысячи человек и 36 тысяч были преданы военно-полевому суду.
(обратно)12
Философ-просветитель, математик, экономист и политический деятель маркиз Ж. А. Кондорсе (1743–1794) с начала французской революции был сторонником республики. В период террора резко и страстно повел борьбу против Робеспьера, был обвинен в заговоре и заочно приговорен к смерти. Некоторое время скрывался в доме у небогатой женщины, но скоро покинул убежище, так как укрывшей его женщине и ее родственникам по закону грозила смертная казнь, и был схвачен. В тюрьме, желая избегнуть публичной казни, принял яд.
(обратно)13
А. М. Шенье (1762–1794) и М. Ж. Шенье (1764–1811), французские поэты, принимали деятельное участие во французской революции. А. М. Шенье во время террора был обвинен в монархическом заговоре и гильотинирован.
(обратно)14
Натуралистическим теориям в искусстве отводил… место «Вестник Европы»… – Многолетним сотрудником журнала был Э. Золя, который с 1875 по 1880 г. помещал здесь свои «Парижские письма». С 1872 г. печатались отдельные части «Руггон – Макка ров». Начиная с 1880 г. журнал регулярно помещал статьи, посвященные творчеству Золя и теории натурализма, публиковались произведения «русских натуралистов» П. Боборыкина, И. Ясинского, Д. Мамина-Сибиряка.
(обратно)15
Михайловский имеет в виду карикатурное изображение экзамена по медицине в пьесе Мольера «Мнимый больной».
(обратно)16
…«Не всякий говорящий: Господи! Господи! внидет в царствие небесное». – Михайловский не совсем точно цитирует Евангелие от Матфея (7:21).
(обратно)(обратно)





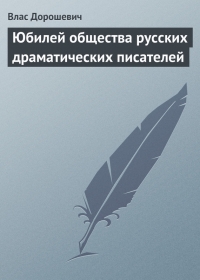


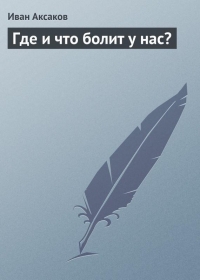

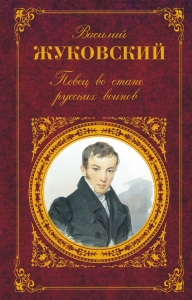

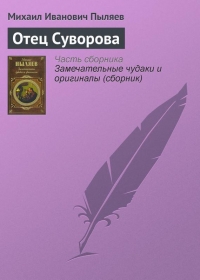
Комментарии к книге «Русское отражение французского символизма», Николай Константинович Михайловский
Всего 0 комментариев