Николай Константинович Михайловский Из литературных и журнальных заметок 1874 года
«Московские ведомости»{1} об опере г. Мусоргского «Борис Годунов». – «Наше общество в героях и героинях литературы» М. В. Авдеева. – Рудины и люди шестидесятых годов. – Что случилось? – Разночинец пришел. – Из биографии Ф. М. Решетникова.
<…> Но в то время, как я писал о Щербине, я прочитал № 46 «Московских ведомостей», из которого усмотрел, что еще долго и долго азбука у нас будет делом не лишним. В этом No почтенной московской газеты напечатано второе «музыкальное письмо из Петербурга» г. Лароша. Дело идет об опере г. Мусоргского «Борис Годунов». Я не знаю этой оперы, о музыке вообще понятия имею весьма слабые, с новой русской музыкальной школой, к которой принадлежит г. Мусоргский, незнаком, можно сказать, вовсе. Но петербургская корреспонденция московской газеты высказывает некоторые положения об искусстве, в такой мере общие, что и профан в музыке может оценить их по достоинству. Автор «музыкального письма» находит в авторе «Бориса Годунова» некоторый талант, много смелости, очень мало музыкального образования и проч. Затем автор сравнивает новую оперу с некоторыми литературными явлениями и наконец говорит: «Будучи реалистом в том смысле, который это слово приобрело у нас в России в новейшее время, г. Мусоргский разделяет, по-видимому, симпатии реальной школы к бедному люду, к его горемычной жизни, к его нравам и языку». «Борис Годунов» реального композитора представляет, как мы видели, несколько народных сцен; они первоначально вдохновлены Пушкиным, но фантазия поэта-музыканта разрисовала их по-своему и с очевидною любовью. Но гораздо более это влечение к бедняку рисуется в заключительных строчках драматической поэмы, которые словно резюмируют ее внутреннее содержание, словно дают ключ к ее разгадке:
Лейтесь, лейтесь, слезы горькие. Плачь, душа православная! Скоро враг придет, и настанет тьма, Темень темная, непроглядная. Горе, горе Руси, Плачь, русский люд, Голодный люд!(Это поет юродивый, остающийся один на сцене.) Не честолюбие Бориса, не приключения Лжедмитрия, не надменная красота Марины оковали фантазию художника; последнее слово его драмы, последнее впечатление, с которым он выпускает зрителей из залы, – вопль наболевшего сердца: «Плачь, русский люд, голодный люд!» Хотя только в намеке, но в веском и чувствительном намеке, нам показывают бедствия и страдания народа, пред громадностью которых мельчают и исчезают отдельные исторические фигуры с их судьбой и характерами. Вторжение гражданского плача, столь обыкновенного в русской литературе, в русскую музыку – явление небывалое; ни Даргомыжский, ни кто-либо из его адептов не думали об этом, и г. Мусоргский сделал положительно новый шаг на пути музыкального реализма. Но у него этот гражданский плач звучит не в первый раз, многие из его романсов, вышедших раньше «Бориса», особенно «Светик Савишна», «Колыбельная Еремушке» и «Сиротка», посвящены изображению «меньшого брата», его сиротской доли, его голода, его смирения и переносимых им унижений и жестокостей. И в романсах слова, наряду с музыкой, нередко принадлежат г. Мусоргскому: он не только находит скорбные мотивы в нашей собственной лирике, но и сам создает их себе, сочиняя тексты, полные гражданских слез{2}.
Какое, однако, удивительное и прекрасное явление пропустил я, прикованный к литературе, но более или менее следящий за разными сторонами духовного развития нашего отечества! В самом деле, музыканты наши до сих пор так много получали от народа, он дал им столько чудных мотивов, что пора бы уж и расплатиться с ним хоть мало-мальски, в пределах музыки же, разумеется. Пора наконец вывести его в опере не только в стереотипной форме: «воины, девы, народ». Г. Мусоргский сделал этот шаг. Спешу поделиться указанием г. Лароша с читателем. Я слышал о новой «реальной» русской музыкальной школе и почитывал критические статьи о ней. Но до сих пор дело вертелось преимущественно на сочностях, вкусностях, на гнусящих нотах, изображающих гнусный характер, на септимах и доминант-аккордах. Я убоялся премудрости и возвратился вспять, не подозревая, что один из представителей новой школы сделал такой действительно важный шаг. Честь и слава г. Мусоргскому, но честь и слава г. Ларошу, который первый, по крайней мере в печати, указал на это явление и некоторым образом поднес лавровый венок своему товарищу по профессии, поднес без зависти к успеху, без педантического ворчанья, – вот что особенно дорого.
Но знаете ли вы, мои благосклонные читатели, что выписанные мною из «музыкального письма из Петербурга» строки вовсе не суть некоторым образом лавровый венок, подносимый товарищу по профессии без зависти и педантизма? Можете ли вы догадаться, что это один из пунктов обвинительного акта?! Надо видеть, чтобы верить. Прочтите всю корреспонденцию «Московских ведомостей», и вы поверите. Впрочем, для ясности дела я приведу те смягчающие обстоятельства, на которые снисходительно указывает автор. «Нельзя сказать, – говорит он, – чтобы вокальная музыка была неспособна принимать в себя социальные идеи, стремления и симпатии; скорее, можно ратовать против тенденциозности всего искусства вообще, но, терпя уже много лет социальные мотивы в лирическом стихотворении и в драме, мы не должны особенно вооружаться против появления их в романсе и в опере, как бы оно ни показалось резко, грубо и оскорбительно». Что же это, наконец, такое? В Бедламе мы, что ли, живем? И еще г. корреспондент «Московских ведомостей» называет г. Мусоргского «наивным обитателем какой-нибудь Новой Каледонии, предпринявшим обновить дряхлую Европу и предписать ей новые законы, островитянином, поражающим нас своим фантастическим видом, перьями и татуировкой»! Но, государь мой, вы-то кто, как не татуированный дикарь? Или вам не известно, что если вы перестанете «терпеть социальные мотивы» в поэзии (не знаю, почему вы упоминаете только лирику и драму), то вам придется выкинуть за борт без малого всего Шиллера, всего Барбье, половину Беранже и Виктора Гюго, почти всего Жорж-Занда, и проч., и проч., и проч. И какой ведь это в самом деле ничтожный нравственный и умственный капитал, стоит с ним церемониться! Эта дряхлая Европа и не подозревает, что социальные мотивы совсем не подлежат ведению искусства. Но любопытно бы было знать, что это собственно значит: «социальные мотивы». Очень жаль, что корреспондент «Московских ведомостей» не сообщил, что именно должен был говорить юродивый; он это наверное знает, ему и книги в руки. Я могу только догадываться. Скажи он: так наказывается честолюбие! – ничего; о как презренно самозванство! – тоже ничего; велика, о Марина, твоя красота, но она надменна и притом она польская! – опять-таки ничего, даже очень прекрасно. Но закончить драму из Смутного времени воспоминанием о том, что народу приходилось плохо и от природы, и от людей, и от своих, и от чужих, – какой нехудожественный, какой «грубый, резкий и оскорбительный прием». Только потому и рукой махнуть можно, что вообще художник, особенно поэт-беллетрист, ныне избаловался, мало его подтягивали, много воли давали.
Успокойтесь, строгий жрец чистого искусства, подтянуты, я это доподлинно знаю…
Как мы, однако, ныне не любим тенденций. Пой, пиши, играй, рисуй, лепи, делай решительно все, что хочешь, запрету нет, но не с тенденцией же! И так мы к этому режиму привыкли, что скоро и есть научимся без тенденции удовлетворять свой аппетит. Да, впрочем, уже научились. Разве не слышим мы на каждом шагу: вот человек, который сыт, дадим ему обед, ибо он будет есть без тенденции удовлетворить свой голод; а вот этому не дадим, ибо он будет есть тенденциозно. Да здравствует же чистая гастрономия, художественная, свободная от «грубой, резкой, оскорбительной» тенденции утолить голод! Difficile est satiram non scribere[1]. Благотворить без тенденций мы тоже научились. Вы, конечно, знаете, что в Индии голод не хуже нашего. Но вы, может быть, не знаете, что в № 9 «Недели» напечатано:
«В редакции „Недели“ получено из Вологды от врача Коробова 100 рублей в пользу голодающих индийцев. Деньги переданы в английское посольство».
Столь хлебородная, столь знаменитая своими урожаями Вологда шлет братскую помощь голодающей Индии. И благотворительно, и ни малейшей тенденции…
Вернемся, однако, к Щербине. Он оборвался, как сказано, вдруг. В конце пятидесятых и в шестидесятых годах он утратил и изящество формы, и сколько-нибудь определенный смысл, мало-мальски ясную программу жизни и деятельности. Порезче других пробивалась славянофильская струнка, но и то слабо. Затем он злобно, иногда остроумно, иногда бездарно, набрасывался на всех мимоходящих, а иногда укусит и вслед за тем извинится, как это было у него с Аполлоном Григорьевым, с Аксаковым, Погодиным и проч. Но больше всего возненавидел он из личностей почему-то покойного Панаева, а из явлений нашей жизни так называемый нигилизм. Чтобы читатель видел, до какой степени плоскости и формы, и содержания доходил этот когда-то даровитый поэт, я приведу два-три отрывка.
Нигилисты вы тупые!.. Чем же быть вам, господа! С просвещением России Ваша скроется звезда. При познаньях наших узких, При отсутствии ума. Развилась в болотах русских, Отрицания чума… Как заглянем в жизнь ли, в книги ль, Все нам скажет, господа, Что ex nihilo лишь nihil В результате завсегда. (Нигилистам. 394) Репетилов за свободу В стены крепости попал, Хлестаков Иван народу Кажет жизни идеал… Где ж Манилов социальный, Столь опасный для властей? Иль уж сослан в город дальний Он за Обь и Енисей? (Театральное известие. 396) Наделить крестьян землею Мы Бабефов разослали. А Барбесов всей душою В мировые судьи взяли. Теруан де-Мерикуры Школы женские открыли. Чтоб оттуда наши дуры В нигилистки выходили. (Французская революция на русский лад, 399)Кажется, комментариев тут не требуется. Но вот что любопытно. Пока «Бабефы, Барбесы и Теруан-де-Меркуры»{3} были еще малыми ребятами, Щербина ждал от них многого, можно сказать всего, и благословлял их на путь «счастья и добра» (см. «Мысль и дело», «Женщине»). Почему же он от них отвернулся, когда они выросли? В нем ли самом что оборвалось или надежды его не оправдались и действительно уж очень безобразно было на Руси в шестидесятых годах? Автор предисловия к сочинениям Щербины, упомянув, что увлечения были вполне естественны в молодом обществе, которое только что вышло на путь и проч., полагает, что корень раздражения поэта лежал в нем самом, в его неудовлетворенном, болезненно развитом самолюбии, в плохом материальном положении, наконец, в тяжелой, неизлечимой болезни. Плохое материальное положение и тяжелая болезнь не мешали, однако, многим смотреть иначе на «слабые лучи света и свободы, оживившие русскую мысль и русскую печать в конце пятидесятых и в шестидесятых годах». Впрочем, в совокупности три приведенные причины действительно отчасти объясняют нравственную физиономию Щербины в последние десять лет его жизни. И что касается лично Щербины, то на этом можно покончить. Но ведь Щербина не единственный художник сороковых годов, который рос, рос, а как показались им самим прежде призывавшиеся «слабые лучи света и свободы», так и окрысился в большей или меньшей степени и вместе с тем в большей или меньшей степени утратил свой талант. Да и вне литературы можно наблюдать аналогичные явления. Каждый видал, вероятно, так называемых людей сороковых годов, которые в свое время даже пострадали за свое пристрастие к лучам света и свободы и которые в шестидесятых годах вдруг окрысились, не будучи в состоянии победить в себе неприязненного чувства к людям, в конечном результате им, по-видимому, вовсе не столь резко противным. И, как говорил Суворов: один раз удача, другой раз счастье, надо же, наконец, немножко и уменья; так и здесь надлежит подумать: один заболел расстройством печени, другой состарился, третий из-за границы недоглядел, четвертый просто ошибся, но ведь должна же быть какая-нибудь общая причина этой распри «отцов и детей», можно же подвести к одному знаменателю эти разрозненные факты. Объяснения имеются в литературе, даже в большом количестве. Но если и признать эти объяснения резонными, то они все-таки представляют резоны неполные. Говорят, например, что «дети» вдруг стали непочтительны, грубы, резки, предались отрицанию всего, составляющего цвет и красу цивилизованной жизни и проч. Может быть, оно и верно, но отчего же вдруг все это случилось? Должен же быть какой-нибудь коренной факт, который составляет ядро всех этих явлений, всей этой внезапно вспыхнувшей в разных местах свалки детей с отцами – не с крепостниками какими или завзятыми самодурами, озлобление которых и не требует никаких объяснений; нет, любопытно знать коренную причину озлобления людей, дотоле стремившихся к «лучам света и свободы». Подобного коренного факта, коренной причины я всегда склонен искать в социальных отношениях. Пользуюсь и настоящим случаем, чтобы рекомендовать читателю эту точку зрения, она наверное окажет ему много услуг и во многих весьма запутанных обстоятельствах выведет его на светлую дорогу. На этот раз мне поможет г. Авдеев, наш известный романист, один из писателей сороковых годов, не окрысившихся при виде бледных лучей света и свободы.
Г. Авдеев издал недавно книгу «Наше общество (1820–1870) в героях и героинях литературы». Отдельные очерки, вошедшие в состав этой книги, печатались, если не ошибаюсь, в «Биржевых ведомостях» и в «Неделе»{4}, где я их, впрочем, не читал. Тем с большим удовольствием познакомился я с ними в совокупности. Не скрою от почтенного автора, что в его книге весьма немало азбуки, но ввиду хоть бы вышеупомянутого музыкального письма это дело, очевидно, не лишнее.
Очевидно, немало еще народа, которому нужно говорить: «Открой, душенька, ротик, я тебе положу этот кусочек». Америка открыта очень давно, но ныне в таком количестве являются люди, стремящиеся закрыть ее, что напоминание о ней если не может сравниться с открытием, то все-таки имеет значительную цену. Но у г. Авдеева не все только напоминания о давно открытой Америке и искреннее желание предотвратить ее закрытие. Нет, в небольшой его книжке есть несколько мыслей, очень ценных, и соображений, весьма любопытных. Книжка разделяется на две части: «Герои» и «Героини». Сначала о «героях», под которыми автор разумеет литературные типы, «представляющие высшие точки стояния общественного уровня». Он не задается собственно литературно-критическими целями, и художественная правда известного образа еще не дает этому образу права попасть в портретную галерею г. Авдеева. Точно так же не принимаются им в соображение и общечеловеческие стороны героя, если степень и форма, в которой они проявляются, не составляют характеристики своего времени. Общий вывод, к которому г. Авдеев пришел, следя последовательно за Чацким, Онегиным, Печориным, лишними людьми и русскими Гамлетами, Рудиным, Инсаровым, Базаровым и людьми шестидесятых годов, таков: в течение пятидесятилетия 1820–1870 высшие представители русского общества постоянно и болезненно стремятся к гражданской деятельности, но постоянно осаживаются жизнью и остаются неудовлетворенными. В обществе идут постоянные смены надежд и разочарований. За протестом и надеждами Чацкого идет апатия и хандра Онегина; в Печорине жажда деятельности прорывается вновь, но благодаря обстоятельствам прорывается уродливо и бесплодно, и затем наступает безотрадная пора лишних людей; раздается пропаганда Рудина, не указывая, однако, прямого живого дела; в создании болгара Инсарова, в сочувствии к нему и героини «Накануне», и общества сказывается дальнейшая жажда гражданской, политической деятельности, поднимается Базаров, умирающий, ничего не сделав, и этою смертью как бы указывающий на невозможность деятельности; в Рязанове («Трудное время» г. Слепцова) мы видим изломанного, разбитого, павшего духом последнего яркого человека действия. Дальнейшее течение истории в литературе еще не отразилось.
Я, конечно, не стану следить за всеми отдельными положениями г. Авдеева, представляющими далеко не везде одинаковый интерес и далеко не всегда новыми и оригинальными. Я остановлюсь только на двух пунктах: на Рудине и на людях шестидесятых годов. Но зато эти пункты действительно достойны внимания.
У нас привыкли третировать Рудина свысока. Он для нас фразер, болтун, тряпка, сплетник, неисправный плательщик долгов. Г. Авдеев совершенно справедливо утверждает, что это отношение к Рудину вовсе неправильно. Действительно, оно по малой мере односторонне. Здесь много виноват г. Тургенев, без вины виноват, конечно. Он любит кружевную работу; возьмет известный фон и наплетет на нем множество тонких и совершенно случайных узоров, много способствующих особности, индивидуальности фигуры, но вместе с тем затемняющих ее основной характер, загромождающих его. Оттого-то из-за тургеневских образов и идет, то есть шла всегда перепалка между его толкователями, и притом такая странная, что один толкователь признавал белым то, что другой называл черным. Г. Некрасов тоже эксплуатировал тип Рудина в поэме «Саша». Но, как поэт, более, что называется, субъективный и менее склонный к узорной разработке случайных деталей, он поставил тип яснее. Он даже приговор ему подписал. Не пощадив общего характера Агарина (а не случайных частностей вроде неплатежа долгов), поэт, однако, говорит:
А остальное все сделает время. Сеет он все-таки доброе семя! . . Нетронутых сил В Саше так много сосед пробудил…Именно эту точку зрения по отношению к Рудину избрал и г. Авдеев, не упомянув, впрочем, о Агарине. Добролюбов говорил о г. Тургеневе по поводу Инсарова: «Из всей Илиады и Одиссеи он присваивает себе только рассказ о пребывании Улисса на острове Калипсо. Величие и красота идей Инсарова не выставляются перед нами с такой силой, чтобы мы сами прониклись ими и в гордом одушевлении воскликнули: „Идем за тобой!“» Припоминая эти слова, г. Авдеев говорит, что они приложены к Рудину. Это замечание верно, но Рудин обставлен еще более неблагоприятно, чем Инсаров: тот на острове Калипсо вел себя молодцом, а Рудин сплоховал; тот не как общественный деятель, а как частный человек и не как тип, а как индивидуальная фигура безупречен, а за Рудиным водятся грешки. Рудина как «политической натуры», как выразился о нем Лежнев, мы нигде своими глазами не видим, во-первых, потому, что ей и разгуляться негде, а во-вторых, потому, что он делает свое дело, то есть ведет свои разговоры где-то за кулисами. А между тем, все его личные слабости, принадлежащие вовсе не типу, а личности, Дмитрию Николаевичу (так, помнится, зовут Рудина), выдвинуты вперед и поневоле привлекают к себе особенное внимание зрителей. Бывает и в жизни, что какая-нибудь, совершенно случайная, вовсе не существенная черта в человеке становится ему поперек дороги. В литературе это случается еще чаще и ведет к гораздо худшим последствиям. Случайная деталь, ассоциируясь благодаря таланту автора с представлением об известном типе, становится поперек дороги уже не отдельной личности, а целой группе людей. Мало ли таких случайных деталей в Базарове, и сколько они беды наделали! Одно то уже, что бездарные и от всякого другого постоя свободные копировщики хватались за подобные детали и на них строили якобы целые характеры, – одно это сколько напакостило. Я не то говорю, что литература обязана давать идеально прекрасные образы без пятна и порока, без всяких личных слабостей. Нет, Бог с ними, с этими ходульными героями. Видали мы их. Но случайная деталь не должна давить сущности, в этом именно и состоит задача поэта. Иначе одни, хватаясь за эту деталь, стремятся, и весьма часто с успехом, опошлить и обгадить весь тип, а другие напирают на эту деталь в противоположном смысле, что ведет, однако, к тем же в конце концов результатам. Так именно сложилась у нас и репутация Рудиных. Однако изо всех обвинений, которыми осыпан Рудин, важно, собственно говоря, только одно:
Но в разговорах он время проводит?Но разве рудинские разговоры, зажигающие сердца и будящие мысль, не дело? Я больше спрошу: много ли найдется больших, выдающихся русских людей, которым выпало на долю что-нибудь, кроме разговоров? Русский человек, вообще говоря, в среднем выводе, гораздо шире европейца. Не приспособившись окончательно к той или другой частной колее, он способен к очень широкому размаху. Но зато и требования он ставит своим лучшим людям безумно широкие. Что делал всю жизнь какой-нибудь Прудон? – «Разговаривал», бил набат, будил совесть, будил мысль – больше ничего. Его практическая попытка – народный банк – вещь жалкая в сравнении с шириной теоретического размаха, в сравнении с великим значением его набата, его «разговоров». Но Европа его все-таки никогда не забудет. А мы оплевали своего Рудина за то, что он непрактичен и только разговаривает! Конечно, Прудон был пуританин в частной жизни, а Рудин бесхарактерен и грешен, но ведь до этого нам, собственно, и дела нет, да и кто первый посмеет бросить в него камнем? Конечно, Прудон и в других отношениях не Рудину чета, но ведь по Сеньке и шапка. Что Рудин был не бездушный фразер, этого и доказывать нечего, это доказала его смерть. Несмотря на несколько эпилогов, которыми г. Тургенев окончил «Рудина», конца этой повести все-таки нет. Г. Некрасов по крайней мере своими словами доказал этот конец в виде утверждения: «Сеет он все-таки доброе семя, а остальное все сделает время». Это-то «остальное» и составляет всю суть, которую г. Тургенев мог бы проследить и в жизни Натальи, и в жизни других людей, в разное время разбуженных Рудиным. Тогда бы стало совершенно ясно, что слово этого человека, слабого, но искреннего, грешного, но способного вдохновляться великими идеями и вдохновлять ими других, – было весьма осязательным делом. Г. Авдеев совершенно справедливо говорит, что Рудин есть первый общественный деятель между героями литературы. Но отчего же мы на него так набросились, не стараясь даже найти для него тех смягчающих обстоятельств, какие готовы были допустить относительно совершенных уже бездельников вроде Онегина и Печорина? Замечательно, что такой, в сущности, негодный человек, как Печорин, вызвал тьму подражателей и в литературе, и в жизни. Кто не видал или не слыхал о людях, корчивших Печорина. Рудина никогда никто не корчил, несмотря на весь его ум и на поэтический ореол, обвивший его несчастную голову на дрезденских баррикадах. Пустейший, мельчайший и дряннейший человечек, может быть, претерпит сравнение не то, что с Печориным, а хоть с Малютой Скуратовым, но сочтет себя до последней степени обиженным, если вы сравните его с Рудиным. До такой степени удалось г. Тургеневу загромоздить его случайными деталями непривлекательного свойства. Впрочем, такому на первый взгляд просто непостижимому презрению к человеку столь крупного умственного роста есть и помимо кружевной работы г. Тургенева две причины. Одна из них находится в тесной связи с этой кружевной работой, другая от нее совершенно не зависит. Дело в том, что под давлением обстоятельств мы в шестидесятых годах сосредоточили все свои стремления на задаче, уже давно формулированной мною словами: как мне жить свято? Преследуя эту задачу личной нравственности всеми силами своей души и даже подчас в ущерб задачам общественной деятельности, мы были особенно расположены смотреть сквозь пальцы на деятельный, общественный характер слова Рудина и вместе с тем возыметь глубочайшее презрение к личным слабостям, которыми наградил его г. Тургенев. Это одна причина. Другая указана г. Авдеевым. Презрение к Рудину сложилось в такое время, когда русское общество было полно надежд, мня себя быть накануне широкой гражданской деятельности. Казалось, настала пора дела, состоящего не в словесной пропаганде только. И в Рудине мы казнили не прошлое, а тех людей, которых и в настоящем, и в будущем заподозривали в желании остановиться на «словесности». «Но теперь, – замечает г. Авдеев, – когда с той эпохи прошло 10–12 лет, когда самое молодое поколение того времени успело уже сделаться зрелым и уступить свое место более молодым, а общественных деятелей и деятельности вне службы все пока не явилось, пора трезво взглянуть на дело и не винить людей со связанными ногами, зачем они не бегают; иначе нынешнее молодое поколение может и еще с большим правом обратиться к людям шестидесятых годов с теми упреками, с которыми те обращались к людям сороковых годов».
Впрочем, по отношению к людям шестидесятых годов подобные упреки едва ли уместны. Защита Рудина совершенно законна и своевременна, но из этого не следует, что надо ломать стулья и выгораживать его в ущерб людям шестидесятых годов. Пропаганда словом шла своим чередом и в их время, но нельзя же не признать, что они нечто делали и другое, нечто пытались делать и помимо «словесности». Нельзя не назвать делом их попытки упорядочить свою личную жизнь, подчинить ее ясно сознанным нравственным принципам. Нельзя не назвать делом и другие их попытки, как бы кто о них ни судил… Г. Авдеев, к сожалению, при полном желании отдать должное людям шестидесятых годов, далеко не достигает такой справедливости. В его отношении к этим людям звучит, конечно, в смягченном виде, та же распря отцов и детей, та же враждебная нота, которая поглотила так много людей его времени, людей сороковых годов. Тем интереснее становится уловить корень этой вражды. Что же такое наконец случилось? С чего все эти Рудины (Рудин – типичнейшая из фигур сороковых годов) более или менее жестко третируют людей шестидесятых годов, идущих ведь отчасти по их стопам, по крайней мере в генеалогическом смысле, людей, может быть, даже именно ими, Рудиными, вдохновенных?
Что случилось? – Разночинец пришел. Больше ничего не случилось. Однако это событие, как бы кто о нем ни судил, как бы кто ему сочувствовал или не сочувствовал, есть событие высокой важности, составившее эпоху в русской литературе. Да, и первостепенную важность этого события должны признать решительно все стороны. Пусть одни утверждают, что отсюда идет падение русской литературы, пусть другие говорят, что с этих именно пор она стала достойна своего имени, – одно верно: явилось нечто, значительно изменившее характер литературы и имеющее будущность, пределы которой трудно даже предвидеть. Этого, по мнению одних, пятна на литературе – смыть никто не в силах; этого, по мнению других, светлого луча – погасить нельзя.
Событие, которое я резюмирую словами: разночинец пришел, г. Авдеев описывает и характеризует следующим образом: «Молодые силы, всегда честные в своих стремлениях, пора освободительных преобразований, всегда возвышающая народный дух, не могли не отозваться выгодно на нравственном состоянии общества; с другой стороны, прилив людей, выросших в неблагоприятной обстановке и почувствовавших потребность в знании и более здравых понятиях о жизни, не мог не понизить уровня обращенной преимущественно к нему литературы, которая должна была приноравляться к его средствам и вкусам, заговорить таким языком, популяризировать такие понятия, которые давно уже были пережиты образованнейшим меньшинством. Экономическое положение прилившего поколения и встреча его с тем, которое было до сих пор руководительным, не могло остаться без последствий и выразилось в сенаторской нетерпимости и подозрительности. Все, что имело тень сочувствия к старому, что пришло смягчить резкость и крайность, что единой буквой не подходило под требования нового кодекса, считалось враждебным, бесчестным или, по меньшей мере, отжившим». И далее: «Вообще, характер этой литературы, честный и наивный, напоминает первое движение двадцатых годов, когда появились люди, думавшие добродетелью и правдой исправить нравы и истребить зло и образовавшие с этою целью союз благоденствия. Люди двадцатых годов, побывав во время войны за границей, увлеклись порядками, там введенными. Вновь выступившие из низшей среды люди 60-х годов, познакомясь с некоторыми недоступными дотоле для них заграничными сочинениями, увлеклись их новизною. Разница состояла в том, что первые знали более жизнь, были просвещеннее и зажиточнее и не нуждались в тех элементарных воспитательных сведениях, которые оказались необходимыми для последних». Говорится у г. Авдеева и в некоторых других местах о полуневежестве, о совершенном невежестве; даже знаменитая сигара Рахметова поминается.
Голый факт: разночинец пришел – указан здесь г. Авдеевым верно, но его размышления по этому поводу далеко не основательны. Значение события разработано по малой мере весьма односторонне. Фактическая сторона дела указана, может быть, еще яснее, чем в вышеприведенных словах, в статье о Базарове. «Вина их (нигилистов), – говорит автор, – если это можно назвать виною, заключалась в их экономическом положении: не имеющий не только прочного экономического положения, но и гражданского, человек, оторвавшийся от старых корней и не видящий возможности привиться к чему-либо, витающий, так сказать, в воздухе, и в очень душном и сыром воздухе, встретился с человеком, не только стоящим на земле, но и владеющим большою ее частью». Но мне кажется, что стоит только вдуматься в указываемую г. Авдеевым фактическую сторону дела, чтобы прийти к заключениям, весьма отличным от тех, к которым пришел он. Без сомнения, можно владеть землей и вместе с тем владеть высокими убеждениями, а тем более обширными знаниями. Возможность такого сочетания богатства, высоких убеждений и обширных знаний представится даже нам с особенною ясностью, если мы будем смотреть на вещи с высоты вороньего или галочьего полета; говорю: галочьего или вороньего, а не вообще птичьего, потому что птицы бывают разные, и с высоты полета сокола или орла перспектива будет уже, может быть, совсем не та. Действительно, что может быть естественнее предположения, что граждански, экономически благоприятно обставленный человек разовьет в себе и в своих детях смелые помыслы, высокие чувства, глубокие знания. Ведь ему так легко всего этого добиться, тогда как разночинцу, с другой стороны, приходится на пути к свету проходить сквозь строй унижений, всяческой грязи, тяжелых нравственных, а то так и просто физических тычков и пинков: ведь Шевченко страшные виды видывал! ведь Помяловского, по его собственному счету, в бурсе четыреста раз выпороли! В самом непродолжительном времени должны выйти сочинения покойного Решетникова (издание г. Солдатенкова) с предисловием, в которое вошли многочисленные выдержки из дневника и других бумаг покойного. Благодаря любезности автора предисловия, Г. И. Успенского, я имел возможность познакомиться с этими выдержками и приведу из них кое-что здесь, не дожидаясь выхода в свет сочинений Решетникова. Надеюсь, что более выгодного для положений г. Авдеева примера подыскать невозможно.
Отец Федора Михайловича Решетникова был сначала дьячком в Екатеринбурге, а потом почтальоном. Поведения он был в такой мере нетрезвого и для домашних неудобного, что жена с 9-месячным сыном (это и был Федор Михайлович) должна была уйти от него в Пермь к его брату, значит, дяде нашего писателя, служившему также по почтовой части. Мать Решетникова очень скоро умерла, и мальчик остался на попечении у дяди и тетки. Отца же своего увидал он в первый раз уже десяти лет от роду. Обстановка была, разумеется, крайне непривлекательная. «Не можете ли вы одолжить мне три копейки на пиво, ежели у вас есть?» – пишет к Решетникову один его приятель. «Живем между нищими и средними», – пишет его дядя. «Не знаю, – пишет отец Решетникова, – за что преследует почтмейстер с самого моего прибытия… Я месяца с три всяко вытягался для почтмейстера, а он меня так уважил… что лучше нельзя… А живу как денщик… Покорно прошу, любезный братец, чтобы письмо это не узнал кто дальше, не услыхал бы почтмейстер наш, а то он меня съест». Или в другом письме: «Почтмейстер просит, чтобы меня перевели к нему; но сохрани меня небесная сила от такого ига; он там вдосталь из меня оставшийся сок вытянет». Один философствующий представитель этого круга пишет: «И верно, уже такой рок, что все предвидится только сражаться с терпением и хорошо бы было и то, ежели бы тому предвиделся хотя конец, но ожидать того, по моему мнению, не предвидится никакой надежды». В семействе дяди Решетников получил благозвучные клички: «пес», «ножевое вострее», «балбес», «безрогая скотина», «вор», «поганая рожа». Само собою разумеется, что этому соответствовали всевозможные волосянки, дранье, затрещины, битье чем попало и по чему попало. Обозлился мальчик страшно. Выделывал он вот что: то засунет в квашню дохлую кошку, то вымажет грязью чистое белье, то вытащит из кипящего самовара кран и забросит его через забор. «Меня отдерут, – говорит он, – я сяду куда-нибудь в угол и думаю, что бы мне еще такое сделать, да так, чтобы никто не узнал». Десяти лет его отдали в бурсу, значит, к домашней расправе прибавилась училищная, знакомая нам по рассказам Помяловского.
Не выдержал мальчик и бежал, но был, разумеется, пойман и столько разного рода побоев претерпел, что вылежал в лазарете два месяца. Но только что поправился, опять бежал и на этот раз странствовал довольно долго. Шатался он между мужиками и мастеровыми. «Много, – говорит он, – увидел и я здесь хорошего. Мне так понравилась простота ихняя, что я хотел на всю жизнь остаться у них». Но и другие виды видал он. Ему пришлось столкнуться с нищими, которые таскали его с собой насильно, поили водкой, заставляли плясать. Наконец, он опять пошел домой и вновь вытерпел град истязаний. С этих пор в нем произошла значительная перемена. Устал ли он просто злиться или виденное и слышанное им во все время второго побега отвлекло его внимание, но злость его прошла и заменилась чувством раскаяния, чувством вины перед своими воспитателями. В это-то время он и своего отца в первый раз увидал. Холодна была встреча. Решетников ждал ее с радостью, с верою в возможность выложить перед отцом все свое горе. Но вышло не так. Раз вечером дядя привез с собой обрюзглого, болезненно кашлявшего почтальона. Почтальон этот жаловался, что его обижают, бьют, каждый день бьют, бьют варварски. Это был отец Решетникова. Сыну он только сказал: «Большой вырос. Что же ты не целуешь отца?» На другой день он упрашивал жену своего брата: «Дери ты его… что есть мочи дери». Когда ему предложили взять сына с собой, он отвечал: «Куда мне с ним?.. Не надо… мне и одному горько жить». Уезжая, он сказал сыну только: «Ну, прощай, слушайся»… «Мне было тяжело, – говорит Решетников, – что отец уехал, а я не высказал ему своего горя»… Пошло все опять своим чередом: бурса, порка, колотушки. Решетников переносил уже все это без прежней злобы. И такому его смирению много способствовало следующее печальное происшествие. Между прочими услугами своим учителям он таскал для них тайком с почты газеты, а по прочтении последних господами учителями бросал через соседний забор в снег. Случалось ему со страху уничтожить таким образом и разные другие пакеты, в числе которых оказался один важный манифест. Вдруг открылась пропажа газет и журналов из почтовой конторы. Виновника разыскали, и тринадцатилетний Решетников оказался уголовным преступником. Дело тянулось два года; мальчик-преступник много пережил за это время. Он весь проникся мыслью своей глубокой виновности перед благодетелями и воспитателями. Толчки и ругательства уже не встречали с его стороны отпора; он отвечал на них слезами раскаяния, «благодарности», он даже удивлялся, что дядя и тетка не боятся держать его у себя. Дело Решетникова окончилось ссылкою в Соликамск на эпитемию в тамошний монастырь. Здесь Решетников сблизился с монахами, кутил с ними (в большом употреблении было пиво, настоянное на листовом табаке) и вместе с тем предавался «богомыслиям и умозрениям». На развитие Решетникова трехмесячное пребывание в монастыре имело крайне дурное влияние. Тяжело выписывать те места его дневника, где он, по возвращении уже в Пермь, судит и рядит об окружающем его мире: столько здесь пошлости, напускного, унижения паче гордости, воззрений с высоты монастырской морали. Но Решетникову было всего шестнадцать лет, значит, дело было поправимое. В 1859 году воспитатели его переехали в Екатеринбург; он остался в Перми один и мог дышать несколько более свежим воздухом. Он между прочим ездил рыбачить на Каму, где проводил иногда целые ночи в кругу простого народа. «Часто в это время, – говорит он, – случалось, что я, сидя в лодке, глядел куда-нибудь в даль; глаза останавливались, в голове чувствовалась тяжесть и вертелись слова: как же это? отчего это? И в ответ ни одного слова. Очнешься и плюнешь в воду. Начнешь удить и думаешь: ах, если бы я был богат, я бы накупил книг много, много… Я бы все выучил»… Со всеми этими мечтами ему пришлось расстаться, как только он окончил курс в уездном училище. Он немедленно должен был погрузиться в новую мертвящую среду, в среду уездного чиновничества.
Но я не буду следить за дальнейшими мытарствами Федора Михайловича. Для моей цели достаточно и приведенного. Притом же я не хочу отнимать интерес у биографии Решетникова, которая непременно должна быть прочитана целиком всяким, мало-мальски интересующимся русской литературой. Те же, кто бранил Решетникова за горечь его произведений, должны обратить особое внимание на следующие его собственные слова, заимствованные из его дневника: «Если я пишу плохо, мысль моя не обработана, везде сухо и горько, то пусть всякий (желающий судить об этих описаниях) поймет меня и мою жизнь». Впрочем, ниже я еще буду ссылаться на бумаги Решетникова и здесь приведу выдержки из писем к нему дяди, представляющие напутствие на литературное поприще: «Я не ладил и даже не желал сделать из тебя поэта или какого-либо дурака, а всегда старался сделать из тебя умного образованного человека». «А. С. сказал мне, что ты составил сочинение о грязном или черном озере, где ты описал много поступков губернских начальников, за что тебя этакого поэта даже вызывали через припечатание в газетах. <…> Из этого видно, к чему ведет наша поэзия, как не к погибели человеческой. Напрасно строишь ты воздушные замки, которых нам состареться, а не видать; а этими неприятностями сокращаешь дни моей жизни. Неужели я с тою целью учил тебя, воспитал и определил на службу. Чтобы из потомков моих кто-либо сделался клеветником на начальников? Поэтому еще нахожу средство последнее: скопировать тебя и не желать себе более поэтов из племянников». «Пожалуйста, поэзию свою оставь, она не совсем у места; и если надо за нее заняться, то совершенно основательно и с разбором каждое слово надобно одумавши вставить, так, чтобы остатков от него не было»…
Вечером ясным она у потока стояла, Моя прозрачные ножки во влаге жемчужной…Это мне Щербина вспомнился, который умел «совершенно основательно и с разбором каждое слово одумавши вставить, так, чтобы от него остатков не было»…
Ясно, что история развития разночинца есть печальнейшая из историй; существует очень большая вероятность, что ему не развить в себе высоких чувств, глубоких знаний, смелых помыслов. Ему ли, забитому, каждую минуту чувствующему над собою чей-нибудь гнет, ему ли, на жизненном пути которого стоит то монастырская жизнь с пивом, настоянным на табаке, то банда нищих, то всезатирающая канцелярская работа, ему ли, наконец, который так близок к уголовному преступлению… Нет, г. Авдеев еще слишком мягок. Во всяком случае, с высоты вороньего полета ни малейшему сомнению подлежать не может, что вторжение разночинца должно понизить уровень литературы, ибо он, разночинец, действительно нуждается в элементарных понятиях, досконально усвоенных образованнейшим меньшинством, не только стоящим на земле, но и владеющим большею ее частью. Да здравствует высота вороньего полета!.. Пусть здравствует, но пора наконец спуститься с нее на землю. Здесь, на этой низменной земле, которую ипохондрики зовут комом грязи и которая иногда так странно разрывает своею неуклюжею реальностью сеть наших логических рассуждений, мы увидим нечто иное. Мы увидим, что в действительности сочетание богатства, смелых помыслов, высоких чувств и обширных знаний составляет явление довольно редкое вообще, а на Руси православной и подавно. Несколько блестящих исключений не должны затемнить общую истину. Отчего это зависит, это особая статья, но, во всяком случае, таков факт, против которого, конечно, и г. Авдеев спорить не будет. Он скажет, что никогда и не думал игнорировать этот факт, что он имел в виду только тех представителей двадцатых и сороковых годов, которые обладали означенным сочетанием материальной обеспеченности, знаний и высоких убеждений, только образованнейшее меньшинство, руководившее литературу (разумея здесь не только писателей, а и читателей, не только предложение, а и спрос). Я знаю, что такова мысль г. Авдеева, но мне нужно было напомнить тот общеизвестный факт, что в самой «зажиточности», в самом «владении большею частью земли» есть какие-то элементы, как будто неблагоприятствующие умственному и нравственному развитию. Сделав это общее и пока весьма неопределенное замечание, посмотрим, в какой мере действительно люди сороковых и двадцатых годов имели преимущество перед людьми шестидесятых годов. Возьмем сначала знание. Г. Авдеев категорически заявляет, что прежние деятели не нуждались в тех элементарных сведениях, которых потребовали нахлынувшие в шестидесятых годах разночинцы. Это мнение довольно распространенное и имеет за себя много соображений с высоты вороньего полета. Но как его доказать? где найти мерило знания? Если мы возьмем мерило официальное, то найдем, что, например, двое самых видных в литературе шестидесятых годов разночинцев кончили полный курс наук; один, Добролюбов, в педагогическом институте, другой{5}в университете. Между тем как истинный вождь сороковых годов – Белинский был, во-первых, разночинец, во-вторых, «недоучившийся студент», которого, например, г. Погодин еще до сих пор (см. «Простая речь о мудреных вещах») громит за невежество. Я отнюдь не думаю напирать на это обстоятельство и основывать на нем какие бы то ни было заключения. Я хочу только убедить г. Авдеева, что есть слова и предложения, которые очень легко сказать и обставить весьма приличными силлогизмами, но которые очень трудно доказать фактически. Если мы ухватимся за мерило не официальное и станем сравнивать число журнальных статей и книг научного содержания в сороковых и шестидесятых годах, то г. Авдеев объяснит, пожалуй, существующий в этом отношении прогресс именно тем, что понадобились знания, которые прежде представляли нечто совершенно уже всеми усвоенное. А я объясню тем, что уровень знаний поднялся. И я думаю, что на моей стороне будет больше правды, потому что г. Авдеев во всем своем рассуждении не приметил одного маленького слова, – Европы. Вот если бы г. Авдеев доказал, что с 1840 по 1860 год и в Европе не прибавилось знаний или если бы по крайней мере ему удалось установить независимость нашего умственного развития от европейского за это время, тогда другое дело. Но ведь ни того, ни другого, то есть ни застоя в умственном развитии Европы, ни нашей независимости, не было. Есть, правда, вещи, как, например, гегелевская философия, которые были очень хорошо знакомы людям сороковых годов и, можно сказать, вовсе не известны людям шестидесятых годов. Но подобные явления объясняются общим ходом умственного прогресса. За эти двадцать лет в Европе опытные науки повели к обобщениям, подмывшим основы гегелевской философии, – то же случалось и в нас. За эти двадцать лет в Европе резко обозначились две противоположные экономические доктрины, поднялся уровень естествознания, явились попытки приложения его к истории, явилась теория Дарвина, теория единства сил и проч. Все это принималось и посильно разрабатывалось и у нас. Ведь не пророки же были люди сороковых годов и не могли же они иметь сведения, может быть, и ставшие впоследствии элементарными, но в их время еще никому не доступные. Научные истины, которые распространяли и популяризировали люди шестидесятых годов, никоим образом не могли быть элементарными для образованнейшего меньшинства сороковых годов. Напротив, для усвоения этих истин люди сороковых годов должны были пережить немало внутренней ломки, и далеко не все они вышли из этой борьбы победителями. Понятное дело, что того, что г. Авдеев называет полузнанием, было в шестидесятых годах немало, но немало его было и в сороковых годах. Притом же полузнание вещь крайне неопределенная. Повторяю, Михаил Петрович Погодин до сих пор преследует тень Белинского упреками в полузнании. А Белинский за собой много людей водил, и не худших. Или, может быть, другой гениальный человек, на котором воспитывались лучшие люди сороковых годов, – Гоголь был очень просвещенный человек? Очевидно, снисходительное полупрезрение г. Авдеева в этом отношении совершенно неуместно. Само собою разумеется, что людям шестидесятых годов нельзя поставить в заслугу, что они знали или стремились знать то, что должны были знать; ни людям сороковых годов в вину поставить нельзя, что они не знали того, чего и не могли знать. Я и заговорил об этой материи только потому, что г. Авдеев на нее напирает. Я со своей стороны думаю, что это пункт совершенно безразличный в вопросе о борьбе отцов и детей. И те учились и учили чему могли в свое время, и эти тоже. Разночинец, то есть известное социальное положение, в этом случае не играет никакой роли, ибо зажиточность не исключает невежества и с успехом заменяется рвением, искренним желанием научиться. Притом же и самая наука в шестидесятых годах, не переставая быть наукой, стала дешевле, экономически общедоступнее; облегчился доступ в университеты, иностранные книги стали переводиться в огромном количестве и проч. Совсем, значит, дело не в этом. Г. Авдеев решительно не воспользовался многочисленными выгодами своей собственной точки зрения, своего собственного основного положения: разночинец пришел. В какой мере легкомысленно относится он к делу, видно из вышеприведенной его параллели между двадцатыми и шестидесятыми годами. Тогда, говорит, молодые люди побывали во время войны за границей и увлеклись тамошними порядками, и теперь, говорит, молодые люди познакомились с некоторыми недоступными им дотоле заграничными сочинениями и увлеклись ими; только, говорит, первые были просвещеннее, зажиточнее и не нуждались и т. д. Удивительно, как просто иногда открываются ларчики! Нет, милостивый государь, разночинец принес с собой нечто положительное, нечто кроме своей бедности и усилий приобрести знания. Кстати, о людях двадцатых годов. В январской книжке «Русского вестника»{6} напечатан отрывок «Из биографии графа М. Н. Муравьева» г. Кропотова. Если не ошибаюсь, полная биография выйдет в скором времени. В напечатанном отрывке, между прочим, читаем: «Один из моих знакомых, имевший возможность познакомиться во время странствований своих по Сибири в конце тридцатых и в начале сороковых годов со многими декабристами, заметив, что значительная часть их не знают первых оснований политических наук, спросил однажды Никиту Муравьева: каким образом, не быв вовсе подготовлены образованием для политической деятельности, вы решились принять на себя громадный труд всестороннего преобразования нашего государства? „Ваше замечание верно, – отвечал Муравьев, – мы затеяли дело полными невеждами и только здесь принялись за книги, читаем их, учим друг друга и стараемся образовать себя, чтобы поддержать в публике то доброе мнение, которое она составила о нас“». «Время умудряет», – замечает г. Кропотов. Свидетельство неизвестного знакомого г. Кропотова имеет тем менее ценности, что и весь напечатанный до сих пор отрывок из биографии графа Муравьева заключает в себе вещи весьма странные. Может быть, все, что рассказывает г. Кропотов, и верно, но многое из того, что он говорит о военных поселениях, о бунте Семеновского полка, о декабристах, стоит в литературе совершенно одиноко. Притом же свидетельство неизвестного знакомого г. Кропотова страдает противоречием: он уже в конце тридцатых и в начале сороковых годов поражался невежеством декабристов, значит, они лет пятнадцать совершенно задаром читали книги и старались образовать себя. Пятнадцатилетний упорный труд не повел ни к чему: каковы, значит, не только невежды, а и Богом обиженные тупицы? Так-то легко хватить через край в суждениях о чьем-нибудь невежестве, г. Авдеев! Примите это к сведению.
Хвачено действительно через край, так что поневоле сомнение берет. Я склонен думать, что прав не г. Кропотов, а г. Авдеев, что декабристы были не невежественные тупицы, а люди просвещенные. Но какая все-таки наивность воображать, что разница между людьми двадцатых и шестидесятых годов состоит только в степени просвещения и что разночинец только и сделал, что увлекся некоторыми заграничными сочинениями, дотоле ему неизвестными! Довольно тоже наивно говорить, что декабристы были жизненным опытом богаче разночинцев…
В движении двадцатых годов принимали участие различного общественного положения люди, но ядро их составляла военная молодежь аристократического происхождения. Я не могу говорить об этих людях так, как хотел бы, а говорить так, как могу, – не хочу. Поэтому оставим их совсем в стороне, да они нам в настоящем случае и не нужны. Так называемые люди сороковых годов представляют группу гораздо менее определенную, что касается их общественного положения: тут и профессор был, и помещик, и литературный работник, и проч. Но ядро их все-таки различить можно. Это был средней руки дворянин, человек достаточно обеспеченный, чтобы получить более или менее правильное, в школьном смысле, воспитание, то есть кончить курс в гимназии и в университете, русском или немецком, а затем еще, может быть, проживать вне государственной службы; человек в некоторых отношениях весьма тонко и, так сказать, чутко развитой, способный и к ухищреннейшему самогрызению и анализу лишних людей, и к бужению других пламенных красноречием Рудина, и к наслаждению прекрасным и истинным. Но за всем тем миросозерцание его страдает крайнею неопределенностью благодаря, конечно, неопределенности его общественного положения: он «ни в тих, ни в сих». У некоторых эта неопределенность доходила до того, что миросозерцание их может быть сравниваемо с весьма каллиграфически изображенным нулем необыкновенно большого диаметра. Их божеством была, как растягивает тургеневский Потугин, ци-ви-ли-за-ция, причем вырезывались с особенною яркостью два элемента цивилизации: философия и искусство. Не имея, собственно говоря, никаких преданий, стыдясь и презирая прошлое, не имея ничего общего с тогдашним настоящим, не имея причин веровать особенно сильно в будущее своего отечества, они естественно должны были искать наслаждения по возможности в отрешенных от жизни сферах отвлеченной истины и отвлеченной красоты. К окружающей их действительности они должны были, конечно, относиться отрицательно, но в большей части случаев, постояв перед ней в позе красивого уныния, они стремились уйти от ее скверн в тихое пристанище гегелевской диалектики и прекрасных образов. Здесь они были вполне у себя дома, искренно молились своей мысли и своим образам, искренно дорожили соответственными благами цивилизации. Однако с течением времени в этом акафисте красоте и безусловной истине, на который уходили часто очень большие силы, стали все слышнее и слышнее пробиваться чисто земные ноты. Гений Белинского сжег многое из того, чему он поклонялся, и поклонился многому, что сжигал. Небольшая группа стоявших около него людей яснее определила свое миросозерцание и свои требования от жизни, и чисто земные, просто жизненные задачи – освобождение крестьян и освежение политической атмосферы – заклокотали под красивой корой искусства и философии.
Разночинец пришел со своей стороны к тем же общим задачам, но совсем иным путем. Я опять обращаюсь к биографии Решетникова. Я рассказал уже, как он после обрушившегося на него уголовного дела внезапно проникся сознанием своей виновности перед воспитателями и вообще совершенно переменился. Его уважаемый биограф говорит по этому поводу: «Это была самая дорогая минута в развитии Ф. М. Мысль его была возбуждена до высшей степени. В самом деле, чтобы от ненависти к врагам дойти не только до прощения их, но даже до боязни, как они могут его держать, оправдать их и благодарить со слезами, – мысль маленького Решетникова должна была коснуться массы общественных вопросов, должна была работать над всем механизмом окружавшей его жизни, вникать в самые мельчайшие подробности этого механизма… Минута, повторяем, была драгоценная для самого плодотворного принятия знания». Может быть, в этих теплых словах несколько преувеличено значение именно этой минуты в жизни Решетникова. Но верно то, что ему действительно приходилось очень рано усваивать и развивать в себе такие «элементарные понятия», какие даже лучшим из людей сороковых годов давались, по необходимости, только с большим трудом. Выше было говорено, что совершенно неосновательно говорить о сравнительной непросвещенности людей шестидесятых годов, что это точка зрения по малой мере бесплодная. Но вот Решетников, избранный мною в качестве типической фигуры, всегда был и остался человеком необразованным, скажет, может быть, читатель. Да, Решетникову, несмотря на все его усилия, не удалось пробиться к научному собственно свету. Но не в этом и дело. Были между разночинцами люди, добившиеся знания в не меньшей степени, чем какою обладали для своего времени люди сороковых годов. Пристало к движению немало молодежи из того круга, из которого в свое время выходили Рудины, Лаврецкие, лишние люди, Обломовы. Были и люди более или менее темные, как Решетников. Но их уж ни в каком случае нельзя уличать в заносчивости полупросвещения, о которой говорит г. Авдеев. Из бумаг Решетникова видно, до какой степени жаждал он указаний, с каким недоверием относился он к своим произведениям, в которых стоял только за одно, – за «правду». Знание этой правды Решетников и принес с собой, и ни на какое другое претензий не имел. Другим разночинцам, как Базарову, дед которого землю пахал, удалось прибавить к этому житейскому знанию знание научное. Но, повторяю, в занимающем нас вопросе не в этом дело. Нам нужно знать, что принес с собой разночинец как разночинец. Поэтому-то биография Решетникова и дорога для меня. И вижу я из нее, что Решетников принес с собой, во-первых, глубокое знание народной жизни, приобретенное им в непосредственных столкновениях с бурлаками, с заводскими рабочими (из последних один, как видно из биографии, имел сильное влияние на развитие в Решетникове потребности «делать пользу» бедному человеку), с мужиками; принес он, во-вторых, особенный взгляд на вещи, тоже выкованный его непосредственною обстановкой. Этот-то особенный взгляд для нас преимущественно интересен. Он не составляет чего-нибудь совершенно исключительного, невозможного для человека, не прошедшего тяжелой школы разночинца. Но такому постороннему человеку он дается лишь с большим трудом, если ему не помогают исключительные обстоятельства благоприятного личного развития. Возьмем какое-нибудь «элементарное понятие», общее и людям шестидесятых годов и некоторым из людей сороковых годов. Белинский, например, несмотря на свои громадные силы, только после долгих скитаний по пустыням чистой эстетики пришел к следующему действительно элементарному понятию: «Отнимать у искусства право служить общественным интересам значит не возвышать, а унижать его, потому что это значит лишать его самой живой силы, то есть мысли, делать его предметом какого-то сибаритского наслаждения, игрушкою праздных ленивцев». Посмотрите же теперь, как просто, как естественно, как, можно сказать, фатально дошел до этого элементарного понятия, далеко не всеми людьми сороковых и иных годов усвоенного, Решетников. Мальчиком еще он писал для крестьян письма (конечно, за гроши, которые шли на умиротворение учителей), причем узнал много крестьянского горя и крестьянских радостей. Потом и в других формах ему приходилось приложить труд, часто физический, с очевидною пользою для других людей. В 1860 году его определяют помощником столоначальника в уездном суде. Он немедленно ориентируется вот в каком роде. «Мне страшно казалось, – пишет он, – решать участь человека, и я стал читать бумаги и дела, заглядывал в разные места, читал разные копии, реестры и все то, что ни попадалось на глаза. Когда я бывал дежурным, то рылся везде, где не заперто, и узнал здесь очень многое». По мере его дальнейшего знакомства с положением разного бедного люда, в нем сильнее говорит сознание обязанности «делать пользу». Просыпается поэтическая способность, жажда творчества. Он мучительно трепещет за свои силы, анализирует сам себя, просит всех и каждого высказать свое искреннее мнение о его произведениях и его литературных способностях. Он даже подсказывает разным компетентным, по его мнению, лицам неблагоприятные отзывы, которые, однако, его глубоко огорчают.
Но это далеко не голое авторское самолюбие, он ни на минуту не забывает своей обязанности быть полезным. Вот глубоко трогательные слова из его дневника: «Сегодня, 5-го сентября 1861 г., я поздравил себя с двадцать первым годом моей жизни. А что я сделал в эти 20 лет? Ничего, кроме нескольких черновых сочинений… Кроме горя, ничего не было. Дай Бог созреть моим мыслям и исполниться желаниям людей, читавших мои сочинения, и быть из них (сочинений) дельному не для себя только, но и для пользы нашего русского народа. Дай Бог мне терпение сносить ярем моей бедной жизни и жить в труде, без гордости, самообольщения, не увлекаясь мелькающими в воображении мечтами»… Это двадцатилетний юноша пишет! Отправляя своих «Подлиповцев» в «Современник», Решетников писал в редакцию, что описанные им люди действительно существуют, что он коротко знает их быт и «задумал написать бурлацкую жизнь с целью хоть сколько-нибудь помочь этим бедным труженикам. Я не думаю, чтобы цензура нашла что-нибудь в этом очерке невозможное для пропуска; по-моему, написать все это иначе значит говорить против совести, написать ложь. Наша литература должна говорить правду. Вы не поверите, я даже плакал, когда передо мной очерчивался образ Пилы во время его мучений». В числе бумаг Решетникова найдено прошение к обер-полицмейстеру. В нем рассказывается, как Федор Михайлович однажды был прибит. При этом он пишет: «Я ничего не ищу. Я только об одном осмеливаюсь утруждать вас, чтобы пристава, квартальные, их подчаски и городовые не били народ… Этому „народу“ и так придется много получать всякой всячины»…
Вечером ясным она у потока стояла, Моя прозрачные ножки во влаге жемчужной…Опять Щербина вспомнился. И совсем некстати…
Вот, значит, как просто далось Решетникову одно из «элементарных понятий», с которым с таким трудом справлялись лишь немногие из людей сороковых годов. Да и не далось оно ему, а чуть что не с ним родилось. Добейся этот человек научного знания, он направил бы его на те же цели, имей он власть, владей он только физической силой, только грамотностью, он все это пустил бы в ход на благо народа, как пустил он свою поэтическую способность, свои творческие силы.
Теперь представим себе, что человека этого посадили беседовать со Щербиной или хоть с г. Ларошем. Какой у них разговор может выйти? Г. Ларош начнет снисходительно терпеть социальные мотивы в искусстве, Щербина зальется соловьем насчет того, что нужно «зло без образов таить». Решетников этого органически понять не может, это для него тарабарская грамота; а он еще вдобавок человек грубый, вежливости ему научиться негде было, вот и жесточайшая перепалка готова. Что касается людей сороковых годов, то из них лишь немногие поднялись вместе с Белинским на последнюю ступень его развития. Да и из этих немногих многие потом обратились вспять. В своем известном письме к Гоголю по поводу «Переписки с друзьями» Белинский очень определенно выразил свою политическую программу. Он писал: «Самые живые современные национальные вопросы России теперь: уничтожение крепостного права и отменение телесного наказания, введение по возможности строгого выполнения тех законов, которые уже есть». Когда эти требования были отчасти удовлетворены, люди сороковых годов стали в недоумении: чего ж еще теперь надо? Опять-таки разве дальнейших общих категорий цивилизации: распространения просвещения, развития свободы, увеличения благосостояния. Но программа, в такой мере общая, есть программа не действия, а бездействия. Значит, все обстоит благополучно и надо только, чтобы было благополучие. Значит, можно опять таить зло без образов, пункт, впрочем, никогда на деле не осуществлявшийся, потому что исповедовавшие его что другое, а зло нигилизма без образов не таили.
Разночинец не мог довольствоваться общими категориями цивилизации, из которых выходили люди сороковых годов. Он ценил их лишь по отношению к народу, и благо последнего было для него таким же критерием, каким для людей сороковых годов были отвлеченные категории цивилизации. Это различие исходных точек разночинцев и людей сороковых годов не всегда отзывалось распрей в конечном пункте их работы. В сороковых годах, например, довольно много работал на почве экономических вопросов Милютин{7}, писатель замечательный, умный, талантливый и вовсе у нас не оцененный. Если вы сравните его исследования с трудами некоторых наших позднейших экономистов из разночинцев, вы увидите, что, несмотря на очевидную разницу их исходных точек и даже логических приемов, они в конце концов говорили одно и то же. Но хотя таким образом и все дороги ведут в Рим, надо все-таки, чтобы в человеке каким-нибудь способом засело искреннее желание попасть в Рим. А в этом-то и состоит трудность, которую преодолеть могли только немногие из людей сороковых годов. Вследствие чего различие исходных точек вело к непримиримой вражде. Разночинец чувствовал, а часто даже и понимал, что процесс цивилизации, разумеемой в виде общих и отвлеченных категорий, совершается на счет народа, что водворение этих общих категорий подает народу камень вместо куска хлеба. Он чувствовал и понимал, что наука для науки, искусство для искусства суть только особые формы служения настоящему, тяжелому для него порядку вещей; что свобода политическая и экономическая, как отвлеченная категория, в действительности разрешается в свободу одних притеснять других. В великих созданиях человеческого ума, если они служили отвлеченным категориям цивилизации, он чуял то самое оскорбление народу, из-за которого греческий раб разбил бы статую Фидия, если бы понял ее значение. Помните, как Писарев валил Пушкина. Это была своего рода Вандомская колонна. Но не Писарев Дмитрий Иванович валил ее, он был только таран в руках разночинца. Но ведь это варварство? Да, варварство, но его было легко предупредить, легче по крайней мере, чем вторжение варваров в Рим. Не Пушкина собственно валил разночинец руками Писарева. Разночинец был для такого упражнения слишком реален, слишком поглощен всяческими нуждами настоящего и заботами о будущем. Пушкина, как грандиозный памятник прошедшего, он не тронул бы, если бы ему было гарантировано на будущее время торжество его принципа, его исходной точки, победы идеи народа над отвлеченными категориями цивилизации. А ему что говорили? Ему говорили: как! для тебя мы погнем свои отвлеченные категории! да ты и требовать не смеешь, чтобы искусство, наука, промышленность, свобода служили тебе! получай, что придется на твою долю в остатке, и молчи! эти вещи выше тебя, пусть они растут, хотя бы на твоей согнутой спине! – Вот чего никаким образом не мог переварить разночинец, и, надеюсь, это понятно и естественно. Он ведь знал, хоть, может быть, и не сумел бы формулировать свое убеждение, он знал, что это лицемерие или недоразумение; что человек, служащий чистому искусству, чистой науке, просто промышленности, просто свободе, служит под видом возвышенных отвлеченных категорий интересам людей, над народом стоящих.
Вот, по моему мнению, корень распри отцов и детей; распри весьма прискорбной, потому что и я склонен думать, что в большей части случаев не лицемерие управляло отцами, что они были жертвами недоразумения. Я понимаю, что им дороги памятники прошлого, так, как они остались, целиком, без урезок. Но, повторяю, их бы никто не коснулся, если бы в будущем обещаны были иные памятники. Я понимаю тоже, что отцов отталкивала некоторая грубость разночинца. Но ведь это уж совершенный пустяк. А подрались… Жаль, тем более что у отцов и детей так много общего ввиду современных дельцов, заподозрить которых в недоразумении уже никоим образом нельзя. Во всяком случае, хотя шашки ныне уже и смешались, пришествие разночинца остается событием первостепенной важности, и г. Авдеев его далеко не оценил. Точка зрения, принесенная разночинцем, может время от времени слабеть и гореть слабым огоньком, но умереть не может.
«Героинь» г. Авдеева мне приходится отложить до следующего раза, потому что это тоже материя очень любопытная. Там мы опять встретимся с разночинцем и договорим недоговоренное.
март 1874 г.Примечания
1
Трудно не писать сатиры (латин.).
(обратно) (обратно)Комментарии
1
«Московские ведомости» – одна из старейших русских газет, выходила с 1756 по 1917 г.
(обратно)2
М. П. Мусоргский написал немало текстов к своим произведениям; кроме указанных Михайловским это еще и отдельные куски «Хованщины».
(обратно)3
Франсуа Ноэль Бабеф (Гракх Бабеф) и Анна Теруань (Теруан-де-Мерикур) – видные деятели эпохи Великой французской революции 1789–1793 гг.
Арман Барбес – один из организаторов попытки восстания в Париже в 1839 г.
(обратно)4
«Биржевые ведомости» – газета коммерческих кругов, выходившая в Петербурге с 1861 по 1879 г.
«Неделя» – еженедельная политическая и литературная газета, выходившая в Петербурге с 1866 по 1901 г.
(обратно)5
Н. Г. Чернышевский.
(обратно)6
«Русский вестник» – ежемесячный литературно-политический журнал, выходивший в Москве в 1856–1906 гг.
(обратно)7
Милютин Владимир Алексеевич (1826–1855) – публицист, экономист, один из первых сторонников социалистических воззрений в России. Был членом кружка петрашевцев.
(обратно) (обратно)




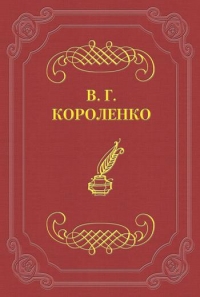
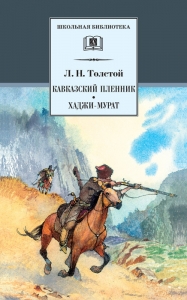

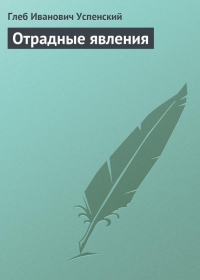

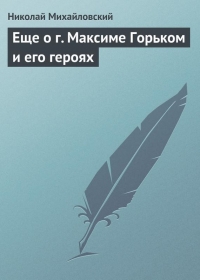
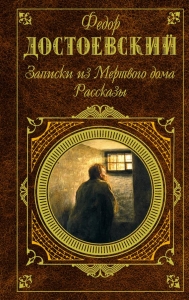
Комментарии к книге «Из литературных и журнальных заметок 1874 года», Николай Константинович Михайловский
Всего 0 комментариев