Глеб Иванович Успенский Маленькие недостатки механизма
– Я так думаю: который человек ни в чем не виновен, и того человека наказывать не за что. А который ежели есть преступник или, так сказать, злодей какой-нибудь, так того наказывай. Больше ничего…
Такие речи с толком, серьезностью и расстановкой вел буфетчик небольшого пароходика «Окунь», сидя в своей, установленной посудой, каморке и разрезывая на подоконнике квадратного окна своего буфета маленький белый хлеб на тонкие ломтики. Пароходик «Окунь», делающий от станции железной дороги по реке Выдре до губернского города М. всего один рейс в сутки, никогда не бывает богат пассажирами. Мало охотников сидеть по нескольку часов в пароходной каюте, ожидая той минуты, когда, наконец, наберется «по человечку» столько народу, что расходы пятидесятиверстного плавания не принесут хозяину «Окуня» убытка. Нетерпеливые проезжие, минуя пароходик, предпочитают ехать до города М. на лошадях или же по ветви железной дороги, которая идет от следующей станции до главного пути. Таким образом на «Окуне» едет только такой проезжающий, которому некуда спешить, которому все равно, сегодня ли приедет в город или завтра, который, наконец, даже любит ехать покойно, не в тесноте, а в просторе, – на «Окуне» же всегда так просторно, что можно разлечься «вовсю», выспаться, раздевшись совсем, и т. д. Такие порядки весьма удобны и выгодны для буфетчика: публика набирается на пароходе постепенно, «по человечку», а поэтому нет расчета запирать буфет, чтобы не отпирать его по двадцати раз в сутки. А буфет, беспрестанно находящийся пред глазами «пассажиров», которым «некуда спешить», над которыми «не каплет», едва ли может бездействовать. Иной глядит-глядит на расставленные напитки, да и скажет: «Ну-ко, налей-ко! И пить-то, братец мой, не хотел, да бутылка заинтересовала… Что такое там? Дай-ко рюмочку». А раз буфет не бездействует, то и пассажиры, по нескольку часов ожидающие, когда-то засвистит комар-пароходик, также не могут безмолвствовать; всегда поэтому волей-неволей все переезжающие на «Окуне» перезнакомятся между собой и в конце концов непременно сольются в одну разговорчивую компанию.
Так было и в тот раз, о котором идет речь. В каюте второго класса, около буфетного окна и за столиками, сидело и лежало на диванах человек десять разного народу. Было тут два каких-то военных, похожих по виду и разговору на переодетых купчих – так были они рыхлы, женственны, да и разговоры их были не воинственные: всё о провианте, «довольствии», о несправедливости, об интригах, мелких-премелких – из-за сена, из-за дрожжей для солдатского квасу и т. д. Были тут купцы, мещане, человека четыре «живорезов», сидевших особою группой за чаем и отрывисто лаявших насчет своих «делов»: «Два-шесть с четью». – «Руппять» – «Сдал?» – «Сдал!» – «Снял?» – «Снял». А в промежутках этого лая – громкая, как отдаленный раскат ружейного залпа, икота… Ехал еще один молодой человек, с которым мне пришлось познакомиться на железной дороге и с которым впоследствии мне пришлось сойтись довольно близко. Из его разговоров я мог заключить, что жизнь его, несмотря на молодые годы, прошла не без приключений. Он, повидимому, был очень утомлен физически и отдыхал, посещая своих родственников, принадлежавших к сельскому духовенству. В настоящее время он ехал к сестре, муж которой был священником какого-то села, расположенного на реке Выдре.
Некоторое время беседа между пассажирами, присутствовавшими в буфете, шла довольно вяло и не представляла ни малейшего интереса. Офицеры жаловались на то, что они каждый год доплачивают из «своих», и блистали друг перед другом бескорыстием, а живорезы лаяли и икали, – вообще было довольно скучно. По какому случаю буфетчик произнес фразу, написанную в начале этого очерка, решительно не помню и не знаю. Разговора, по поводу которого она была произнесена, я не слыхал и не знаю, о чем шла речь прежде, нежели буфетчик счел нужным произнести свое мнение о наказании; но мнение это почему-то пробудило во мне и, как я заметил, в молодом человеке желание слушать, что такое тут говорят.
Нарезав хлеб тонкими ломтиками и тщательно собрав толстым ребром толстой руки сор, буфетчик принялся нарезывать тоненькие ломтики сыру и говорил с тою же, как и прежде, серьезностью:
– Такое мое мнение. Невиноватого, который не достоин наказания, того, позвольте спросить, за что же его я буду истязать?
– Это верно! – проговорил какой-то купец, сидевший за бутылкой пива.
– Что же касается до того, – продолжал буфетчик, – когда мы встречаем какого-нибудь подлеца, тогда, сделай милость, соблюди закон вполне!
– Само собой, нечего жалеть подлеца!
– Опять возьмите и то: ведь наказать человека – хитрость не велика, позвольте вам сказать. Взял, засадил его в темную или там всыпал горячих – это труда не составляет. Хитрости тут большой нет… А надо сначала узнать, дознаться, до корня дойтить, виновен ли, мол, ты или же нет – вот что есть главное!.. Положим, что ты выпорол или запер человека, а впоследствии времени оказывается он не виновен. Хорошо ли это? Но коль скоро ты разобрал, достиг, например, тогда хоть в землю его живого закопай, и то будет по закону!.. А не разобравши дело, да истязать человека – так тут хитрости большой нету. Вот как я думаю. Не прикажете ли бутербродик?
Тарелка с бутербродами была протянута по направлению к господам военным, которые ближе всех сидели к буфету.
– Пожалуй! – нехотя сказал один из них и, подумав, прибавил: – кстати, налей уж и рюмочку вот этой, вон в зеленой бутылке… Попробовать, какая такая… А вы-то что ж?
– Да пожалуй, – еще более нехотя проговорил другой военный, – налей уж и мне…
И так они нехотя, от нечего делать, выпили и закусили. А буфетчик принялся производить какие-то операции над куском ветчины, на которую предварительно дунул, и продолжал:
– Надобно разобрать, а не зря… Бывает так, что ежели ты делаешь свой суд с разбором, то и самый, который видимый злодей – и тот оказывает свою невинность… Не разобравши-то дела, его бы, кажется, повесить надо, а разберут да обсудят, так он и чист. А так-то, не разобравши-то делов, да предать наказанию – тут правды, я так думаю, нет нисколько! Почему же в таком случае делается суд и утверждается судебный чин? Изуродовать человека занапрасно – это всякий мастер; а ты разбери, а потом уж и утверди… Вот у нас на пароходе малый служит один. Был с ним грех – убил он человека. За это что по закону-то? – Удавная петля, подземные рудники!.. Так ведь? А между прочим вон он чист и прав, а почему? – Потому вникли и разобрали… Вот я вам позову его самого. Поглядите, пусть расскажет.
И выйдя на площадку, с которой поднималась на палубу винтовая лестница, он громко крикнул:
– Михайло, поди-ко сюда! Поди на минутку!.. Вот пущай сам скажет.
Михайло явился в одно мгновение. Он, очевидно, играл в трынку[1] с приятелями, так как в руке у него были засаленные карты. Это был здоровый, молодой, с наивнейшим, почти детским лицом, парень. Босыми крепкими ногами, высовывавшимися из коротких ситцевых, розового цвета, панталон, он, как птица, вспорхнул по железным ступеням лестницы и, распоясанный, стал перед хозяином, видимо торопясь поскорей уйти, чтобы продолжать игру. Вся фигура его и выражение лица говорили, что игра – «в разгаре» и что игроки «в азарте».
– Чиво? – поспешно спросил он.
– Поди сюда, поди поближе.
– Говори: чего?.. Я и тут слышу.
– Да подвинься в каюту-то, столб этакой! Успеешь отыграться. Поди, расскажи господам, как ты старика убил.
– Тьфу, ты!.. зачем звал. Я думал… Эка нашел разговор!.. Стану я…
И парень быстро направился на лестницу, но буфетчик захватил его за рубаху.
– Стой! Погоди минуту… Что ты, пес этакой? Ведь тебя честью просят.
– Есть чего… пустова вспоминать.
– Для чего тебе вспоминать?.. Ты расскажи, как было дело-то. Ты у купца, что ль, жил в ту пору?
– Чего жил? Только что в тот день на место к нему стал, а даже нисколько еще не жил…
– Ну, ну стал… Ну как дальше?
– Ну, а дальше больше ничего… Стал к нему на место, значит, караулить дрова… У купца-то дровяной двор был, может на несколько сот али тыщ… Миллионщик купец-то.
– Где дело-то было? Где купец-то живет?
– В Москве… В Москве жил… Вот я прямо из деревни к нему и попал… Что мне тогда? Почитай и шашнадцать годов не вышло… Попал я к нему, он и говорит: «Смотри, мальчонка, будешь стараться – награжу, а будешь ворам потакать – произведу по-свойски. Похвалы у меня на это нет, а прямо разобью всего вдребезги. А коли ежели будешь стараться, через месяц прибавку дам. Не спи, бает, по ночам, глаз не смыкай и, как завидишь вора, дуй его по чем ни попало!..» А допреже того у купца всё дрова воровали разные прочие жулики. Ну вот я и слухаю его… А как мне не слухать? Не от сладкого в город-то идем. Попало место, надо стараться, чтобы как лучше, чтобы хвалили да денег побольше давали, а не то чтобы ругали или били. Ну вот и стал по наставлению его думать. Уделал себе дубину – из дров вытащил этакую штуку в тринадцать четвертей, с корнем попалась. Обладил, значит, обчистил, приспособил; пришла ночь, надел полушубок и пошел… Ночь осенняя, темная… Ходил, ходил, слышу – шевелится. Окликнул, не говорит. Думаю: притаиться хочет; я подошел, да и долбанул его смаху, стало быть сбоку, да еще раз сверху вниз тоже стеганул; он и запищал, как заяц. Н-ну, опосля того я было потыкал его комлем-то, потыкал этак-то; ночь темная, ничего не видно, только что-то мягкое… А голосу не подает… Ну, как не подал он мне голосу, пошел я к хозяину доложить… Хозяин-то еще не ложился… Пришел я к нему. «Вот, говорю, никак вора и пришиб. Кто-то, говорю, округ дров шабаршил, а я его и долбанул… Ну, гласу, говорю, не подает, а только что запищал было малость по-заячьи»… Н-ну, хозяин позвал кучера, велел пойтить с огнем посмотреть, что там такое..-. Пошли… Ну и видим – человек нищий… А я чем виноват? Мне сказано – бей! Разве я могу ослушаться? А ежели он бы украл, тогда как?.. Тогда, может, меня бы…
– Да ну тебя!.. Ты говори дело, а не рассуждай. Говори, что было дальше…
– А дальше было, что как оглядели мы человека… одним словом, голова расшиблена, и рука болтается… Вспомнить даже нехорошо, перед богом!.. Ну, оглядели; кучер и говорит: «Надо хозяину доложить». Пошел я к хозяину и говорю: «Так и так. Расшиб человека…» – «Неужто до смерти?» – «Так точно…» Ругал-ругал он меня; говорит: «Иди, объявись в части». Ну, пошел я опосля того в часть… Искал-искал участка – пропади он – насилу нашел. Пришел, все спят. Ждал, ждал, наконец того, выходит какой-то… Стал меня увспрашивать: «Зачем?» Я говорю: «Так и так. Пришиб человека». Ну, рассказал ему – что мне? Нешто я виновен? Что мне его бить-то?.. Рассказал. Ну он записал. «А дубина, говорит, где?» – «А дубина, говорю, там в куфни осталась». – «Пошел, принеси дубину! Она также требуется». Пошел. Принес им. Отдал. Ну, посадили в темную. Поутру связали руки, повели в другое место. Опрашивали. Ну, что у меня спросят, то я отвечал. Через два месяца суд был. И опять все то же. «Ты убил?» – «Я». – «Как?» – «Да вот так: сначала, мол, в бок, должно быть, я его – ну, а потом по темю». – «Чем?» – «Дубиной». – «Признаешь?» – «Она самая». – «Виновен ли ты?» – «Чем я виновен? Сказано, бей! – я и бью… Нам что прикажут, то мы и исполняем»… Подумали, посудили, писали, говорили, потом вышли и говорят: «Ну, ты не виновен, ступай!» Ну, я и пошел…
– А купец?
– Купца было тоже притянули, только он говорит: «Как же не караулить? У меня в дровах капиталы… Воровство беспрестанно… Полиции не дозовешься… А почем я знал, что он эдак караулить будет?..» Ну а я-то почем знал, что там такое? Слышу – шабаршит, я его и хлестнул… Так и вышло дело: и я не виновен, и купец не виновен… Ну только, жид эдакой, не взял меня к себе потом. «Ты, говорит, больно уж сурьезно взялся служить. Я тебе только посулил шесть целковых, а ты и то уж человека убил; а как я тебе деньги-то в руки дам, так ты, пожалуй, и не таких делов наделаешь с дубиной-то своей!» Взял солдата, а меня отослал… Вот жид какой!.. Ну, чего еще вам?
– Все нешто рассказал?
– Все… Ничего больше не надо?
– Ну, коли все, ступай!
Малый вихрем взвился по лестнице; а буфетчик вновь принялся за рассуждение.
– Вот как вышло, – сказал он. – Кажется, уж как бы не заточить парнишку наглухо: убил и голову расшиб – все явно, а разобрали дело, вникли, обсудили, ан человек-то и оправился… Вот про то-то я и говорю: коль скоро ежели человек виновен, то ты его накажи; но ежели человек хотя бы и видимостью был злодей, то ты его оправь, а невиноватого наказывать – по-моему, не есть справедливость… Так я думаю…
– Н-да! – проговорил тот купец, с которым буфетчик главным образом вел беседу, вылил из бутылки в стакан остатки пива и прибавил: – Оно бы посправедливее-то лучше бы было… то есть… поступать. Дай-ка еще бутылочку!
Буфетчик откупорил бутылку, отвертел со штопора пробку, приткнул ее на старое место и, выйдя из буфета, принес и поставил ее перед своим собеседником. В это время с другого дивана поднялся и встал, расправляя ситцевую рубашку на огромном животе, другой из проезжавших купцов, человек добродушного вида и исполинского роста. Поднявшись, он взял буфетчика за руку, повыше локтя, и с тонкою улыбкой на лице проговорил:
– Ну, а мужик-то, почтеннейший господин, он-то как будет: виновен или не виновен?..
– Который?
– А вот который кончину-то принял, старичок-то… Куда мы его. с вами должны определить? Ведь как-никак, а уж положительно можно сказать – нету человека! Был, ходил, богу молился, все прочее, и, однакож, вот не оказывается… Ну, он-то как? На каком положении будет?
Буфетчик на мгновение как бы опешил от этого неожиданного вопроса, поставившего его в большое затруднение; но общий смех вывел его из этого положения. Вместе с прочими захохотал и он…
– Да, вот вы про что!.. Я думал, что про какого-такого мужика… Да, это дело такое, что можно сказать внезапное.
– Вот то-то и есть! – продолжал толстяк. – У нас всё так-то. Все невиновны, а глядишь – кто-нибудь и протянул ноги… между прочим.
– Действительно, бывает! – безропотно соглашается буфетчик, опять поместившись в своей конуре. – Точно, бывает и так.
– Быва-ет-с. То есть вот как бывает!.. Уж это нам известно… Старичонок этот по крайности тем оплошал, что под дровами шлялся… Все же хоть мало-мало касание было: не ходи под дровами… А то вот как бывает: сидит человек, ни в чем не замечен, бога чтит, начальникам повинуется, все честно исполняет, а между тем – ни оттуда, ни отсюда – хлоп его по шее, да по уху, да в спину, да об земь, да опять по шее, да опять в обе щеки, да по земи-то брюхом, да перевернут, да каблуком, да рылом-то потыкают в помойную яму… А потом вот по-вашему и выходит: «никто не виновен!» И кто рылом в помои тыкал – и тот чист, как голубь. И кто брюхом тебя по земле волок – и тот не виноват!.. Да, наконец, и тот, кого уродовали, – тоже оказался не виновен… «Ступайте, ребята, по домам!.. Все вы невиновны!» А между тем идет человек домой и хоша сосчитан за невиновного, а ведь морда-то у него изуродована как бы то ни было… Невиновен-то он невиновен, а у него все же трех зубов нету в скуле, да рука сломана, да сраму он принял с три короба. Это как надо понимать по вашему мнению?
– Н-нда! – произнес буфетчик, совершенно притихнув и не пытаясь разглагольствовать. – Это уж не благосклонно.
– Вот то-то и оно-то. А виноватых нет… Один говорит: «у меня бумага!» И другой тоже говорит: «у меня бумага!» И у третьего тоже бумага с собой… Да позвольте, господа, что же это такое?.. У вас у всех бумага, а ведь у меня собственная шкура! Бумаги-то ваши я за три копейки куплю сколько хошь, а рожу-то я, братцы вы мои, новую не куплю нигде… Ведь, кажется, есть разница?
Купец-великан, говоря это, заметно волновался; он делал руками жесты, краснел и наконец, запыхавшись, сел на средину своего дивана.
– Вот как бывает-то, господа!
– Бывает. Верно! – поддакнул один из живорезов. – Обмордуют, а виноватого нет.
– Ну вот! – сказал купец. – Уж, стало быть, было что-нибудь и с вами?
Но живорез только крякнул, припал губами к блюдечку и ничего не отвечал.
– А с вами, – спросил гиганта один из военных, – тоже было что-нибудь вроде этого?
– Не то что «вроде», а такое было, что, кажется, ежели бы я дозволил разыграться своему карахтеру, так бы и пропал без остатку…
– Да из-за чего же?
– А вот уж этого не могу точно сказать!.. Из-за чего вон старику парень башку-то проломил? Вот так и тут. Видите, какое дело…
Гигант немного поуспокоился и начал: – Главная причина… надобно в первых словах сказать про мою болезнь. Видите, какой у меня живот!
– Да что же, неужели живот может играть какую-нибудь роль в истории подобного рода? – прервал рассказчика один из военных.
– Играть?.. Да тут такую роль разыграли, что и татарину того не пожелаю!
– Из-за живота?
– Вот то-то и есть главная причина, что путем сказать-то ничего не могу на этот счет. Уж буду говорить, как было, по порядку.
– Очень любопытно!
– Так вот, изволите видеть. Вот живот этот самый – корень и есть всего… Живот у меня стало раздувать с детских времен. Докторов в ту пору хороших не было, лечили нашего брата знахари да солдаты. Жили мы в деревне, мельницу держали – большая была мельница. Вот и лечил меня один такой-то лекарь. И мазал, и пить давал, и за ноги тряс – словом, окончательно все нутро мне испортил, так что с тех пор беспрестанно я лечусь и беспрестанно страдаю, даже и сейчас лекарство со мной… Н-ну, хорошо. А живу я, надо сказать, с женой, с детьми под уездным городом Сусаловым, на мельнице. В город езжу часто. Вот года три тому назад познакомился я в городе с аптекарем. Приехал какой-то новый аптекарь. Думаю: «Дай пообзнакомлюсь, не поспособствует ли он мне насчет живота». Познакомились. Человек молодой, хороший, добрый парень. Выслушав меня, подумал и дал пирюли… Дал коробку. «Принимай, говорит, так-то и так-то. Того-то не ешь, того-то не пей». Наставил… Вот стал я принимать; вижу – лучше. Коробку опростал, другую, так и пошло. Только вышло такое дело, что нутро-то у меня стало требовать этих пирюлей все больше да больше. Как чуть нехватает – смерть. И стало так, что, бывало, коробку-то в неделю изводишь, а тут и на день нехватает. Стали мы с аптекарем толковать; подумал он. «Опасаюсь я, говорит, как бы чего не вышло», – ну, однакоже, стал отпускать на свой страх. И стал он мне такие пирюли делать, что в одну по три порции делал лекарства, а наконец того, начал вертеть это… с грецкий орех, стало быть, на один прием. Глотаю их – ничего, вреда нету. Вдруг, судари мои, уезжает мой аптекарь. «Куда?» – «Так и так, проторговался. Нет расчету! Надо поискать счастье где-нибудь в другом месте». Жаль мне его было, добрый парень, да и помогал мне, а делать нечего – уехал. Стал я опять кое-как лечиться, все по докторам, все по докторам… Проходит таким родом с год или с полтора, и надумали мы с женой выстроить домик в губернском городе… Сами знаете, ребятишки подрастают, учить надо. Хочется, как получше, да и не бедняем – славу богу, найдется, чем поплатиться. Подумали-подумали, съездили, купили место и стали строиться. Вот я и езжу на постройку-то – когда дня на три, когда дней на пять. Частенько и в Москву приходилось ездить за материалом. Губернский-то город стоит на машине, всего от Москвы восемьдесят верст, три часа езды. Вот я и рассчитал, что мне выгодней в Москве материал-то брать, то есть, например, гвоздь, скобу и все прочее по обиходу… Вот таким-то родом еду я раз в Москву, глядь – сидит в вагоне мой аптекарь… «А, друг любезный! откуда? как, что, куда?»… Обрадовались оба. Ну, слово за слово, он мне про свое, а я ему про свое. Был, вишь, в каком-то городе, да опять не поладилось, едет в Москву. Ну, и я ему рассказал, что вот, мол, строюсь. Зашла речь и насчет болезни. «Братец ты мой, говорю, сделай божескую милость, нельзя ли, отец родной, пирюлек мне твоих приспособствовать! Смерть моя!»
«– Пожалуй, говорит, можно. Приеду, говорит, в Москву, зайду в аптеку, куплю всякого снадобья, что требуется, сработаю у себя дома и дам тебе. – Ну, уговорились, где и как встретиться. – Приходи, мол, послезавтра в Патрикеевский трактир, съедим селяночку, поговорим, вспомянем… Я, мол, тебе и пирюли передам. – Хорошо».
Рассказ на минуту был прерван появлением того самого парня, который недавно рассказывал об убийстве. Он проворно сбежал с лестницы и остановился в дверях.
– Ты чего? – спросил у него буфетчик.
– Да ничего, так пришел.
– Обыграли, видно?
– Когда-нибудь и мы обыграем, – ответил парень и, прислонившись к притолоке плечом, стал чесать одну босую ногу об другую.
– Н-ну, говорю, хорошо, – продолжал рассказчик. – Хожу я по Москве, закупаю товар, все честь честью; наконец в показанное время иду к Патрикееву. Прошелся по комнатам – нет моего приятеля. Сел, жду – нет! Жду и час и два; наконец уж и неловко. Потребовал порцию, съел – уходить надо. На грех адреса-то его не спросил. Думаю, надо еще день остаться, потому лекарствие-то уж больно требуется; остался и опять в тот самый час в Патрикеевский пошел – нет! Опять нет. Ну, делать нечего, надо ехать. Поехал… Поехал я не домой, а в город, потому материалу закупал – банки, склянки разные, коробки… Думаю, как-нибудь переночую – в куфне-то уж и печь была и рамы. Вот приехал. Сторож у меня был из мужиков, Родионом звать. Плотников человек десять… Уж спать собрались… Приехал и говорю Родиону: «Поставь-ка, брат, самоварчик!» И вижу я, что что-то как будто он на меня не так смотрит. Все был услужлив, старателен, а тут, вижу, что-то неладно… Не то делает, не то не делает…
«Глядит как-то. Сказал я ему: «Поставь-ка вон этот ящик от печки подале, а то как бы от огня не разогрелось, храни бог»… Потому политура была в ящике-то, спирты… Сказал я ему, а он так и выпучился на меня. То на меня глядит, то на ящик. Поглядел, поглядел и ушел. Вот жду его так с четверть часа – нет. Пошел в сени, самовар стоит холодный. Думаю, не за водой ли ушел? Позвал – нет ответу. Истинно чудеса творятся! Достал балык – захватил я его из Москвы фунта два, хороший осетровый балык, восемь гривен фунт, – достал балык, хлебца отрезал ломоть, да на белый-то хлеб положил его, вроде бутерброту, положил, значит, перекрестился и только было, господи благослови, рот разинул, гляжу – как есть вокруг всего дому засвистали в свистки, затрещали, заверещали, а плотники в окна рыла пялят… Бросил я этот бутерброт, сунулся было в дверь, хвать – и наскочил на бляху[2]. И Родион тут, указывает на меня и говорит: «Вот он!» Меня и сцапали человек восемь народу. Сцапали и поволокли… Я кричу, вопию: «Что такое, помилуйте…» – «Там разберут!» – «Хошь одеться, говорю, дозвольте – холод, осень!» – «Там у нас дамского полу нету!»… Вцепились, хоть что хошь! Не понимаю. Думаю – не придумаю. Волокут! А кругом плотники, рабочие, сторожа, дворники… Господи, боже наш! Что такое, за что? «Помилуйте, вопию, я купец, домохозяин, капитал имею… У меня дети… Супруга…» А мне в ответ: «В Москве у такого-то, мол, вокзала тоже домохозяева жили, тоже с супругами»… Как услыхал народ про это самое, та-а-к и надвигает! Вижу я, дело худо, попал я в кашу, а в каком она смысле – и не знаю… Как про дорогу-то упомянули, так у меня и у самого-то дух замер… Ни в чем не виновен, разрази меня гром, ежели я… Сам со слезьми моими… и кровь свою отдам… Чист пред богом весь, а испугался! «Ну-ка, думаю, какое-нибудь окажется касание, бог его знает? Что такое? Что будет?» Все нутро так у меня и занялось холодом… Думаю: «Храни бог, за жену возьмутся – умрет! Ведь с единого взгляду кончится. А как узнает, тоже обомрет». Окончательно сказать, обомлел и ничего не помню, не понимаю, трясусь, и без шапки… Шел-шел… Вдруг мне и вступи мысль: «А что, как все это одно разбойство? Ведь был же в Москве случай: тоже вот так-то приехали на Рогожское кладбище[3] в полной форме, захватили деньги и уехали, а наконец того оказалось, что приехали воры». Вступи мне это в голову – меня и рвануло за сердце: «Что, мол, я за дурак такой – дался в обман! Ведь дома деньги остались, сот семь с прибавкой… Что же я дурака-то строю?» Как вступило это мне в мысль, думаю: «Не распорядиться ли мне своим средствием?» А вы сами, господа, видите, кажется, не похож я на грудного ребенка… (Рассказчик поднялся во весь свой гигантский рост, тряхнул исполинскими плечами и, стремительно засучив рукав, обнаружил огромнейший кулачище…) Кажется, можно назвать, что имею свой материал? А тут, в таком деле, так у меня сразу прихлынуло силищи во все места: и в шею, и в грудь, и в ноги, и в кулак вступило такое железное расположение духа, что я, недолго думая, ка-ак тряханул, да ка-ак почал лудить, да как почал вклеивать, да как почал конопатить, надставлять да притукивать, приколачивать да засмаливать, как почал раздавать лещей, судаков и осетров кому в нос, кому в лоб, кому в разные места – гляжу: распространено вокруг меня пространство, и стою я, как Минин-Пожарский на Красной площади, в одной рубахе, а народ в прочих местах как рыба бьется на сухом берегу: стало быть, кто головой воткнулся в лужу, кто в плетне застрял, выбивается не выбьется – словом сказать, расшвырял я нечистую силу так, что можно сказать – яко тает воск! Стал я посередке этого самого плац-параду и говорю: «Что вы со мной, разбойники, затеяли?»
Великолепен был гигант-купец в эту минуту, но еще великолепнее был парень, который слушал рассказ купца. Когда купец говорил о том, как он «наклеивал» и «притукивал», делая при этом соответствующие жесты, – и руки, и ноги, и весь корпус парня так и ходили ходенем; смотря на купца, парень никак не мог удержаться от подражания его жестам, двигал локтями, совал кулаками в пространство и не раз попадал в тонкую красного дерева дверь каюты. «Ты что тут дверь-то ломаешь, истукан этакой!» – сурово заметил ему буфетчик; но парень хотя и оглянулся на него, но, видимо, ничего не понял из его слов, да и купец также вошел в такой азарт, что ни на парня, ни на буфетчика, ни на публику, которая не могла удержаться от улыбки, не обращал никакого внимания.
– Что вы тут затеяли, бессовестные? – продолжал он вне себя. – Где такие права? Нешто можно так по закону? Что за разбойство такое… Только подступись, убью на месте! Расшибу без остатка… – Читаю им этакую рацею, а того и не вижу, что стали они опоминаться да опять ко мне. Глянул назад, а там уж эскадра-то эта самая и подплыла… Подплыла, да как навалится на меня сзаду, да как подсвиснет – только я и свету видел!.. «А, так ты при исполнении обязанностей! А-а-а, так ты такими делами занимаешься?.. Ящик у тебя…» – «Коли так, вышибай, ребята, из купчины дно! (Парень прыснул со смеху, но удержался…) Вышибай ему днище!..» И пошло… Свистки верещат, трещетки трещат, колотушки стучат, а изо лба у меня огонь брызжет, из ушей огонь, а шею все одно каленым железом пекут… Слышу: «Об нем строгая телеграмма… У него ящик…» – «Братцы, кричу, там политура!..» – «А-а-а, гудят, политура! Разделывай его, ребята, под орех!» (Парень не вытерпел, прыснул со смеху, хотел выскочить в коридорчик под лестницей и, со всего размаху треснувшись о притолоку головой, буквально со смеху покатился под лестницу. Рассказчик сурово поглядел на него, но продолжал.) И разделали, братцы мои! Так разделали, что и не помню и не знаю, и что такое, что, где, куда. Жив ли я, помер ли – ничего не знаю! Уж только так… (Рассказчик согнулся, опустил беспомощно руки и стал говорить как-то беззвучно, точно каким-то утробным дыханием…) Уж еле-еле… Господи! Батюшка… Матушка… Бессловесно и бездыханно… И уж несли ли меня, или сам шел – ничего не помню… Знаю одно: очутился я в темном месте и весь болен; все суставы ноют, все кости болят – окончательно жду смерти (рассказчик медленно опустился на диван). Вспомнить – так и то страшно, перед богом, а не то что… – Ну-ка, любезный, дай-ко мне лимонадцу да рюмочку коньяку!..
Последнюю фразу, обращаясь к буфетчику, рассказчик произнес утомленным голосом; но тотчас же переменив тон, уставился на парня и сказал не без некоторого раздражения в голосе:
– Ты чему, Еруслан этакой, радуешься? Ты чего там ржешь? Рад, что купца-то прижучили, любо?.. Как вам не любо! Первое для вас удовольствие, игра. Робята малые… Знаю я вас довольно хорошо… Он робенок (рассказчик обращался к публике), а вот возьмет тринадцати четвертей дубину, так с одного маху человека прекратит, а потом в деревне, как малый робенок, на одной ноге скачет, в городки играет… Дитё… стоеросовое! Пороть-то вас ноне стало некому!..
– Н-ну! – как-то обидевшись, промычал парень из коридорчика.
– Чего – ну?.. Я видел, как ты ржал-то.
– Чего ты тут толчешься? – сказал парню буфетчик мимоходом, подавая купцу лимонад на подносе. – Не твое тут дело, пошел к своему месту.
– Куда я пойду?
– Пошел, говорят тебе!.. Все двери обломал тут… Убирайся!!.
Парень нехотя поплелся по лестнице вверх, но не ушел, а сел на верхней ступеньке.
– Скажите, пожалуйста, – сказал один из военных, – куда же девался ваш аптекарь?
Рассказчик выпил лимонад, отер бороду и усы и сказал:
– А аптекарь-то – эво уж где в эфто время! Уж он, брат, к Соловецким монастырям подкатывает на курьерских… Его уж мчат на всех парусах, а за что – и сам не знает! «И за что, говорит, сам не знаю! Думаю – ничего не придумаю!» Это уж после он мне рассказывал… Как приехал я, говорит, в Москву, взял номер, сходил по делам, закупил припасу, накатал пирюль, да случись что-то, какая-то задержка, к Патрикееву-то он не попал. Не попал к Патрикееву, адреса моего тоже у него нету; вот он взял, обшил коробку, написал адрес и думает, что «отправлю, мол, завтра». Только что он это все уделал – дело было под вечер – глядь, пришел к нему приятель. «Поедем, говорит, к арфисткам за город!» – «Поедем!» Сели на извозчика, поехали. Ну, само собой, и швеек каких-нибудь там присоединили к себе для компании, холостым делом… Попили, погуляли, провели время, и воротился мой аптекарь с большущей мухой… Как пришел, говорит, повалился, так и захрапел. Слышу, гремят в дверь что есть мочи… Такой треск и гром. Как ни был хмелен, а очнулся… Уж утро на дворе. Очнулся, отворил – хвать, ан эта самая эскадра средиземная и вплыла. «Пожалуйте!» – «Куда?» – «Туда-то». – «Помилуйте, что же так, по какому делу?» – «А уж это там видно будет!» Аптекарь мой спьяну-то забурлил было, а ему говорят: «Хуже будет! Уж лучше добром…» Что тут делать?.. Оделся, идет, да и схватись пирюли спрятать. Как стал он прятать, а у него спрашивают: «А это что такое?» – «А это, говорит, так»… И прячет. Те видят, что человек прячет что-то, – отнимать. Аптекарь не дает, боится – ну-ко расследуют… А пирюли-то вредные, и на коробке-то его имя и фамилия поставлены, – вот он и уперся. «И оставить-то, говорит, в нумере тоже побоялся: думаю, начнет кто-нибудь любопытствовать, проглотит – ан и беда…» Вот он и хотел спрятать к себе в рукав… Ан нет, не дали! Кончилось тем, что один из гостей треснул его по плечу, коробка-то и выпала. Те подхватили и поехали. Приехали в канцелярию, и не прошло полчаса, как подошли к моему аптекарю, спросили фамилию – да на тройку да марш… И пошла писать.
– Да что ж это за безобразие такое? Может ли быть что-нибудь подобное? – воскликнул один из военных. – Это просто какая-нибудь ошибка нелепая.
– А то что же? Само собой, что ошибка. Нешто без ошибки-то можно этак-то?.. Только вот кто тут ошибку-то дал, вот это-то нам и неизвестно!
– Но ведь впоследствии-то обнаружилось же, что все это вздор?
– А то как же? Обнаружилось, уж это не беспокойтесь – и даже так, что вполне ясно обозначилось, а только, говорю вам, теперича-то мы ничего не понимаем… Аптекарь в ум не возьмет, что такое, только за печенку хватается – думает, как бы не отшибли; да и я-то вот очнулся и тоже ничего не понимаю, ничего вздумать не могу…
– Но как же все это разъяснилось?
– А вот вы слушайте… Уж все по порядку… Каким родом и куда меня опосля этого побоища предоставили, этого уж я вам рассказывать подробно не буду. Одно скажу – много я страху напримался, а что обиды – нет, не видал. Прямо сказать, вежливость, благородство, тонкое обращение… Я думал, хуже будет, а на место того тут-то и началась самая разборка.
– Вот про это-то, – присовокупил буфетчик, – я и говорю. Сначала надо разобрать дело, а не зря…
– Ну, вот-вот, – подтвердил рассказчик. – Вот все так и вышло по-вашему… Как предстал я, значит, с разбитым ликом – потому всю голову я мокрыми тряпками обмотал, – член-то меня и спрашивает: «Что такое с вами? Чем вы нездоровы?» – «Да избили, говорю, ваше сиятельство!» – «Как? Что такое?» Ну, я ему и рассказал. Он так и ахнул: «Да на каком же основании? Как смели…» Я говорю: «Сказывают, бумага есть у них». – «Ах, мерзавцы!» И пошел браниться… Бранил-бранил, наконец того спрашивает: «Скажите, пожалуйста, что это такое?» И показывает мне пирюли эти самые… Я было спервоначалу уперся, потому ничего мне неизвестно. «Ну-ка, думаю, аптекарь-то втесался в какую историю? Ведь ноне какое время-то! И что мне будет, ежели окажу знакомство с ним?» Вот я и говорю: «Не знаю, мол, что такое». – «А не знаете ли, говорит, какого-нибудь Лаптева?» А Лаптев-то и есть аптекарь. «Нет, говорю, не знаю!» Тогда он вынул мешок, в котором пирюли зашиты были, и показывает мне, а на мешке-то надпись: Ивану Ивановичу Попову. Посылка на один рубль от Лаптева. «Ведь вы, говорит, Попов-то?» – «Я». – «А посылка вам?..» – «Стало быть, мне». – «Ну, стало быть, и Лаптева знаете?..» Тут я вижу, что попался, и говорю: «Виноват, ваше благородие, знаю». – «Отчего же вы сразу не признались?» – «Да боюсь, ваше благородие!» – «Чего же вы боитесь?» – «Да и сам не знаю!» – «Однако?» – «Да всего, говорю, боюсь я, ваше сиятельство. Потому измордовали меня, а доискаться ничего не доищусь…» Ну засмеялся он и говорит: «Вы не опасайтесь, а говорите чистосердечно…» – «Спрашивайте, все открою!» Вот он и спрашивает: «Зачем вам отравленные пирюли?» – «Как отравленные?» говорю. «Да ведь это такие пирюли, что умереть можно… Ведь это, говорит, не то что человек, а и лошадь свалится от таких пирюль. Зачем они были вам нужны?..» – «Лечусь, говорю. Желудком страдаю!» – «Но ведь это отрава!» – «Помилуйте, сохрани бог! Я привык постепенно… Окромя облегчения ничего не вижу». – «Ну, а кто их делал?» – «Аптекарь, мой приятель…» – «Расскажите все, как было». Я и рассказал все про аптекаря… Говорю: «Обещался принесть в Патрикеевский трактир, а наместо того не знаю, куда скрылся, не пришел…» – «Где ж, говорит, теперь этот ваш аптекарь?» – «А это уж, говорю, ваше благородие, мне неизвестно!»… Думал-думал, рылся-рылся в бумагах, в звонки звонил… Гляжу, привели какого-то молодого человека… (Незадолго пред этим молодой человек, с которым я познакомился на железной дороге, все время внимательно слушавший рассказчика, поднялся с дивана, надел пальто при последних словах рассказчика и на цыпочках вышел из каюты…) Пришел он, член-то меня и спрашивает: «Этот, говорит, господин делал вам пирюли?» Поглядел, вижу – совсем чужой человек. «Никак нет, говорю… Я их даже и в глаза не видал!» И молодой человек то же самое говорит… Показали ему пирюли, поглядел он. «Ничего, говорит, я не понимаю!»… Тогда член опять порылся, порылся, позвонил в звонки, пошептался с тем, с другим, молодого человека отпустил, а мне говорит: «Да, тут вышла ошибка… Уж вы не будьте в претензии!» – «Помилуйте, говорю, я рад, что хоть жив-то остался!» – «Дело, говорит, в том, что у нас есть Лаптев, вот этот молодой человек, который замечен на худом счету. Вот мы и думали, что пирюли-то он приготовлял… А так как доктора дознались, что они отравные, вредные, то мы и думали, нет ли тут чего… На адресе было ваше имя, вот мы и дали знать… А те, дураки, чорт знает чего натворили!..» – «Да, говорю, ваше сиятельство, уж век не забуду!» – «Что делать! Дураки, невежи… а время-то, сами знаете, какое…» – «Да, говорю, время точно – не разбери бог!»… Н-ну тут я приободрился, да и спросил: «А где же, мол, ваше благородие, аптекарь-то мой?» – «А это, говорит, надо разузнать… Тут тоже, говорит, какая-нибудь ошибка вышла…» И стал он мне рассказывать: «Должно быть, вышла какая-нибудь путаница в канцелярии… Вот этому молодому человеку тоже фамилия Лаптев, и надо было его препроводить. А препроводили-то, должно быть, вашего аптекаря… Впрочем, все это разберется…» – «Ну а мне-то, говорю, как теперича быть?» – «А вы можете идти…» – «Совсем?» – «Совсем, куда угодно… Вышла просто нелепая ошибка!..»
– Н-ну, конечно! – с достоинством и как бы с облегченным сердцем сказал военный. – Разумеется!
– Да, – продолжал рассказчик, – ошибка, говорит! Ну, думаю, слава тебе господи! Подобрал полы – ночь на дворе была – прямо на машину да чрез город-то проклятый, закрывши лицо, на извозчике – прямо на хутор. И в дом-то даже не заезжал, да и сейчас жить неохота, перед богом говорю! Кабы кто купил, за свою бы цену отдал… Приехал на хутор, заперся на замок – ни работников, ни приказчиков, никого к себе не допускаю; даже и жену и семейство отделил от себя… Очувствоваться не могу, отдышаться не отдышусь и суставами-то не действую. Поем, лягу и сплю; поем и спать – только и охоты.
– На том и пошабашил? – спросил один из живорезов.
– Как же! Больно ты скор. Пошабашил!.. Ты слушай, что дальше будет…
– Неужели еще не кончилось? – спросил военный.
– Да тут и кончаться-то нечему… Сами видите, все ошибка да ошибка, а корень-то дела еще не виден. Вы глядите, какой корень-то вылупился!
– А где аптекарь?
– Все будет! Только что по порядку надо… Скоро и аптекарь объявится… Маленечко повремените, ан аптекарь-то тут и есть. Вот хорошо. Сижу я на хуторе месяц, ем, сплю да в бане суставы расправляю… Дом в городе препоручил племяннику. И уж задал же он всем этим канальям звону! Ухо парень у меня! Ну да это до дела не подходит… Сижу, говорю, месяц, отдыхаю, опамятываюсь; гляжу, однова едет верховой… Заекало мое сердечушко! Господи, помилуй нас грешных! Что такое? Подает повестку: «Пожалуйте в суд!» – «За что?» – «А там сказано!» Почитал и вижу – привлекают меня к ответу за оскорбление при исполнении обязанностей… Ладно. Прочитал, расписку дал… Тут меня и рвануло за сердце: «как так?» думаю. Какие же это такие обязанности? Меня будут колотить, а я отвечай?.. Это, значит, обязанности, ежели мордовать зря? «Ну, думаю, нет, ребятушки! Довольно, поиграли – и будет! Ежели меня сам высший член оправдал, отпустил невиновным домой, так уж вам-то я не дамся!» Заложил тройку – и в город! Телеграмму в Москву – адвоката! Мордобой против мордобою – иск! «Делай, говорю, тысячи рублей не пожалею!» И заварили кашу… Назначается судный день, приезжаю; приехали мы с женой. Подкатили к суду рано еще, в девятом часу, а суд-то в двенадцать. Сели на крылечке, ждем. Гляжу – и аптекарь объявился! Идет, еле ноги волочит; обносился, исхудал, словно нищий. «Ты откуда?» говорю. «Да и сам не знаю! Здоровье потерял, в ногах ревматизм, еле, говорит, жив!» И точно, одышка у него, и кашляет… Сел он тоже на ступеньку с нами, я и говорю ему: «Ну, брат, достались мне твои пирюли! нечего сказать, буду помнить!» А он мне: «А мне-то, говорит, каково было!» И расскажи он мне все, как было, то есть отчего он к Патрикееву не поспел и все прочее, что я рассказывал… «До сих пор, говорит, плечом не действую, как он меня тогда треснул кулаком, как коробок-то отымал!» – «Да ты зачем не отдавал-то?» – «Боюсь! Незаконные пирюли-то… Ведь только по знакомству делал, что знаю твою комплекцию, а он отымает…» – «Да из-за чего, спрашиваю, дело-то вышло?» – «То-то и есть, что я сам-то ничего дознаться не мог… Примчали меня на край света, а там телеграмма: «Воротить! Это – не тот!» Вот воротился я и стал дознаваться в канцелярии… Рылись-рылись, копались-копались и наконец того уж кой-как да кое-как и дорылись до корня. И что ж ты, братец мой, думаешь? Ну, как тебе кажется, из-за чего бы это вышло?» – «Почем мне знать! Я и сам еле-еле дознался». – «Ведь это все, говорит, из-за подлеца Липаткина!» А Липаткин, надо сказать, существует в нашем городе купец… Так, скалдырник – больше ничего, выжига – одно слово. «Как так из-за Липаткина?» спрашиваю. «А вот как, говорит. Ведь у него, у дурака, нанимал я квартиру-то, когда аптеку-то держал в Сусалове?» – «У него». – «Ну и был у нас такой контракт, чтобы перекрыл я ему крышу… Ну, а как дела мои не пошли в ход, я и выехал вон из города, а крышу-то не перекрыл, потому, думаю, как выезжаю я раньше срока и за четыре месяца у меня заплачено вперед ему, то пущай лучше они пропадают… Сдал заведение и уехал, а Липатка-то вцепился в этот пункт, вздумал взыскивать… Разыскал какого-то писаришку, тот и настрочи жалобу в Петербург, в медицинский департамент, так и так, мол, прошу понудить аптекаря… А в медицинском-то департаменте и разбирать не стали – прямо по месту жительства, в губернию… А в губернии-то, в управе, к одной бумаге приладили другую, уж в уезд, «вытребовать аптекаря для объяснения…» Пришла бумага в уезд, а в уезде-то меня нет, вот и третью бумагу настрочили: «разыскать аптекаря и препроводить», да и ахнули в Москву… Вот в Москве-то меня и разыскивали… Как только я приехал, дал билет прописать, меня и сцапали… А тут эти пирюли – отнимают, а я не отдаю, прячу… Заподозрили… А в канцелярии, в суматохе, тоже ошиблись… Так и пошло все к чорту! Воротился теперь в нумера, все вещи разворовали, износили… То есть не знаю, за что и взяться, – остался с пустыми руками!..» – «А теперь-то зачем ты здесь?» – «Да взыскивает этот дурак…» – «Все за крышу?» – «Все за нее… Подай, говорит, тридцать четыре с полтиной!..» Ну да я ему и гроша не дам, а еще с него взыщу за четыре месяца… Я сам начал против него…» – «У меня тоже дело тут, и я тоже, брат, окопался канавой! Держись крепче, а потом поедем ко мне отдыхать…» Ну, началось дело… Сначала разобрали аптекаря с Липаткиным – оправдали! Пошел Липаткин ни с чем. Ну, а потом мое пошло… Уж тут было дело! Уж мой московский орел показал, где раки зимуют, уж он их так отработал, лучше требовать нельзя… Даже прокурор встал, говорит: «Нет, я, говорит, не могу, отказываюсь»… А мой-то не унялся да опять их молол-молол, толок-толок, тер-перетирал… До того довел, встали все, единогласно: «Нет, не виновен!» Шабаш!..
– Статья есть такая, – отрывисто перебил один из живорезов: – «По совокупному мордобою и взаимному оскорблению – не виновны».
– Ну, вот-вот! Нет, не виновны, потому мордобитие было взаимообразное, – ступайте по домам!.. Вот мы и вышли на улицу. Вышли все: и эскадра средиземная, и плотники, и дворники… Вышли и стоим… И столпилось нас, дураков, человек шестьдесят… Передрались мы все, как самые последние прохвосты, а выходим все как младенцы невинные… Стали и молчим, как столбы. Вдруг Родионка подходит без шапки. «Виноват, ваше степенство!» – «Ты что ж, говорю, дурак эдакой, сделал?» – «Помилуйте!.. Нам сказано: дать знать, потому бумага… Что нам приказывают, то мы и исполняем… Уж не попомните, возьмите опять!.. Явите божескую милость… Нас тоже не хвалят». За Родионкой – плотник: «Уж ты не попомни… Ведь по нынешнему времю, сам знаешь… Опять же нам сказывали: «Караульте, мол, его – в нехороших делах попался»… Уж ты тово…» – «Это ты, что ли, дурак, спрашиваю, под орех-то меня разделывал?» – «Уж тут все… Уж ты бы… Да ведь и ты тоже на свой пай разделал нашего брата не худо… Ведь у тебя тоже кулачище-то…» За плотником и командиры: «Это – недоумение, извините…» – «Вы за что же мне синяков-то насажали?» – «Но и вы, говорит, тоже мне щеку раскроили… Мы действовали сообразно – у нас телеграмма. А вы треснули меня… Это не более как недоумение… Мы завсегда… Так как вы домовладелец, то очень жаль…» И аптекаря тоже обступили; Липаткин говорит: «Не взыскивай с меня, помиримся!» А писарь из участка говорит: «Вы знаете, какое время? Тут, говорит, каждый день только и делаешь, что с утра до ночи пишешь: «немедленно», да «разыскать», да «представить»… Так тут не мудрено и ошибиться… Такое время…» Столпились тут все в кучу и галдят: «Времена ноне какие… Коли ежели бы не времена… Мы завсегда… почитаем, уважаем… Недоумение…» И вижу я, что хотят все эти дуроломы на водочку. Как же, действовали все с усердием, никто не виноват оказался, а угощения нету? Самый бы раз по рюмочке. «Нет, говорю, друзья приятные, кабы вы не были дуроломы и остолопы, то и времена-то были бы другие… И времена-то были бы не такие, кабы у вас, у подлецов, совесть была…» И ушли с аптекарем… Так они и остались без угощения.
– Всё? – спросил буфетчик.
– А тебе что – мало, что ли?
– Да, – сказал военный, – чорт знает что!.. Дурман какой-то…
– А бывает-с! Перед богом, бывает! – со вздохом проговорил тот купец, с которым буфетчик вел разговор вначале. – И даже оченно частенько… ошибаются!.. Потому ежели человек не знает ничего, не понимает и в то же самое время боится беспрестанно, то все можно…
– А охотников, – прибавил гигант-рассказчик, – чтобы, например, эдаким манером (он засучил рукава), хоть пруд пруди!..
И тут начались воспоминания о разных подобных рассказанному случаях, и скоро в каюте стало необычайно душно – душно не от табаку, которым в каюте действительно было накурено, а именно от этих рассказов, от этой тягостной, ненужной путаницы человеческих отношений, составлявших их содержание. Ненужные ужасы, наивнейшие злодейства, огромные, нелепейшие недоразумения, бесцельные жестокости – все это, группируясь вокруг какого-то наследственного «страха жить», страха ценить белый, короткий день жизни и как бы полной безнадежности дать этому короткому дню какое-нибудь содержание, кроме непрестанной тяготы и необузданной жадности, – все это до такой степени удручало не только голову, а прямо грудь, стесняло дыхание, что желание свежего воздуха делалось неотразимым. Именно воздуха, самого буквального, несмотря на то, что тягота происходила не от табачного дыма….
Не дослушав все более и более разгоравшейся беседы, я вышел. Меня уже давно занимает одно маленькое обстоятельство, о котором я упомянул мельком, чтобы не прерывать рассказа. Когда купец рассказывал о том, что ему предъявляли какого-то незнакомого ему молодого человека, я заметил, что молодой человек, с которым я познакомился на железной дороге, вспыхнул, сконфузился, но, стараясь скрыть этот конфуз, как-то неловко стал надевать пальто и, как я уже сказал, вышел потихоньку из каюты. Заметил я, что, выходя, он старался пробраться между параллельно расставленными диванами, так чтобы рассказчик купец остался у него за спиной. Это смущение и этот прием ухода, в котором не представлялось видимой надобности, невольно заставили меня подумать о том, «зачем он это сделал?» Выйдя на палубу, я думал найти моего недавнего знакомца там, но его не было. Вместо него я наткнулся на парня-убийцу, который шваброй мыл палубу. Увидя меня, он почему-то весело улыбнулся и, оскалив зубы, сказал:
– А ловко купца-то отщекатурили. Дюже хорошо!..
– Чем же? Что ж тут хорошего?
– Ничего… Ловко!.. Иному и этого еще мало!.. Иного-то и не так еще достойно.
– За что же?
– Не делай худа! Они нешто понимают это? Да вот сейчас у нас купец тут один всю реку запрудил[4] и рыбу не пущает. Что ж, хорошо это?
– Как не пущает?
– Да так! Запрудил реку в своей аренде, перепрудил ее, стало быть, поперек, у самого озера, всю рыбу-то и заарестовал у себя… Да ведь что выдумал! железную загородь-то сделал на веки веков! На полтораста верст и нет рыбы… А ведь на полтораста-то верстах сто деревень… Да все они рыбой жили, питались… А теперь вон мызгаются-мызгаются по воде-то, а там ничего нет… Это как – хорошо или нет? Ведь надо ж такую иметь в себе жадность! Помирайте, мол, с голоду сто деревень, только бы мне!.. Нет, они тоже не думают о прочих народах…
– Так жаловаться надо на купца. Он не смеет так делать.
– Ну, жаловаться!.. У него мошна-то, поди-ко, вот как отдувается… Ему выйдет закон, а он его не исполнит – больше ничего… А по-моему вот эдак-то лучше…
– Как «вот эдак»?
– Да вот, как тому… днище-то высадили… Надавал ему хороших, а запруду-то прочь, вот оно и будет без обиды!.. А то поди, пиши бумаги… Ты бумаги пишешь, а он рыбу ловит да продает. Нет лучше, превосходнее, как «своим средствием»… Первое дело – отделал его под орех или под воск, вот он и поостережется грабить-то!..
– Ну, брат, – сказал я, – не вполне ты правильно разговариваешь.
Хотел было я поговорить с ним на эту тему, но, взглянув в сторону, увидел молодого человека. Он стоял на берегу и, к удивлению моему, зачем-то звал меня, делая рукою знаки.
Примечания
1
Трынка – азартная карточная игра.
(обратно)2
…наскочил на бляху. – Низшие полицейские чины – городовые – носили металлическую бляху с номером.
(обратно)3
Рогожское кладбище – так назывался центр московской общины старообрядцев. В ограде его находились дома богатых членов Общины.
(обратно)4
…у нас купец тут один всю реку запрудил… – К рассказу о купце, запрудившем реку, Успенский в «Отечественных затесках» сделал примечание: «Подлинный факт». Факт, который имел в виду Успенский, был описан в газете «Новое время», 1880, № 1604 от 16 августа, в корреспонденции с Соснинской пристани на Волхове.
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

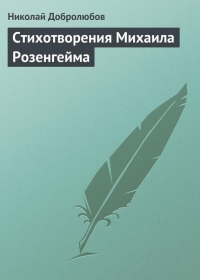

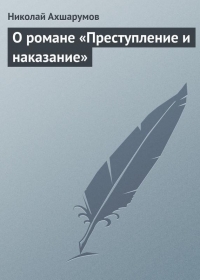
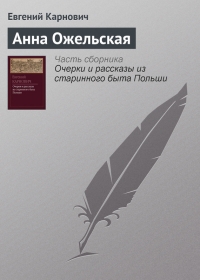



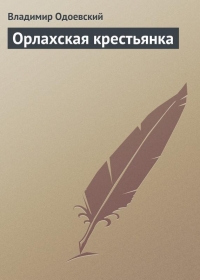
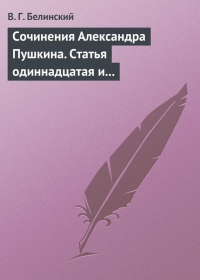

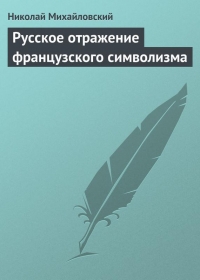
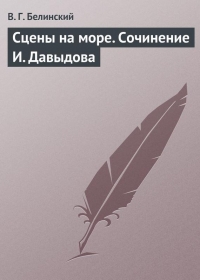
Комментарии к книге «Маленькие недостатки механизма», Глеб Иванович Успенский
Всего 0 комментариев