Хорхе Исаакс Мария
Предисловие
В 1867 году в Боготе увидели свет первые восемьсот экземпляров романа «Мария». Ее автор, Хорхе Исаакс, до тех пор был известен лишь в узком литературном кругу как поэт, выпустивший один стихотворный сборник.
Родился Исаакс в 1837 году в городе Кали. Родители, люди состоятельные, отправили сына в столичную школу, где он проучился до 1852 года. Но на этом сходство его судьбы с судьбой героя романа, Эфраина, кончается. Семья Исаакса разорилась, и юноша был лишен возможности получить систематическое образование. Шли годы, будущий писатель уже пишет стихи, но пробавляется случайными заработками. В нем рано проснулся темперамент политического бойца. Колумбия того времени была ареной бурной борьбы партий, непрерывных восстаний и гражданских войн. В 1860 году Исааке сражается в провинции Антиокия на стороне консерваторов, хотя уже тогда у него зарождаются идеи, которые привели его впоследствии в лагерь либералов.
Гражданская война в провинции закончилась. В 1864 году Исааке переезжает в Боготу, сближается с литераторами, принадлежавшими к объединению «Мозаика». Тут на молодого поэта обратил внимание известный колумбийский писатель и историк литературы Хосе Мария Вергара-и-Вергара, который способствовал изданию сборника стихов Исаакса. Ни денег, ни славы сборник этот автору не принес, а между тем материальные заботы преследовали его. Еще в 1856 году, то есть девятнадцати лет отроду, он женился на Фелисе Гонсалес Умана. Надо было кормить семью, и поэт берется за работу инспектора строящейся железной дороги к порту Буэнавентура. В тяжелейших условиях, среди дикой сельвы, измученный тропической лихорадкой, он делает первые наброски романа «Мария». В конце концов лихорадка заставила Исаакса оставить работу. В те месяцы, когда он с трудом оправлялся после тяжелой болезни, роман был завершен.
Едва книга вышла в свет, как завоевала необыкновенную популярность не только в Колумбии, но и в других странах Латинской Америки. В одной лишь Мексике еще при жизни писателя вышло четырнадцать изданий. Множество романов было написано в подражание «Марии». Произведение это оказало огромное влияние на все дальнейшее развитие латиноамериканского романа.
Имя Исаакса стало известно во всех испаноязычных странах Латинской Америки. В Боготе писателя узнавали на улице, его появление в общественных местах, в театре вызывало всеобщее внимание. Слава Исаакса была баснословной. Но ни на судьбу, ни на материальное положение автора «Марии» это длительного влияния не оказало. Правда, несколько лет он прожил в относительном благополучии. Консерваторы города Кали избирают Исаакса депутатом парламента, где он возглавляет радикальное крыло своей партии. Вскоре Исааке начинает испытывать глубокое разочарование в политике консерваторов и в 1870 году переходит на сторону либералов. Переход этот был не случайным. Прогрессивные взгляды писателя, его ненависть к угнетению, открытый антиклерикализм привели к полному разрыву с консервативной партией. Политическая позиция Исаакса вызвала ожесточенные нападки на него со стороны консервативных кругов колумбийского общества и влиятельных деятелей католической церкви. Все же, помня заслуги Исаакса, правительство назначает его в 1871 году консулом Колумбии в Чили. На этом годы благополучия и кончаются.
Вернувшись на родину в 1872 году, Исааке отчаянно борется с нуждой и преследованиями политических противников. Больной, измученный лишениями, утративший всякое политическое влияние, писатель вынужден был занять ничтожную должность в школьной инспекции города Кали. Но в 1875 году двоюродный брат и единомышленник Исаакса, Конто, становится во главе правительства провинции Каука и назначает его главным инспектором ведомства народного просвещения. С присущим ему пылом Исаакс принимается за работу. Он создает новые школы, совершенствует систему образования, читает лекции в высшей педагогической школе. Студенты относятся к нему с величайшим почтением и восхищением, гордясь, что преподаватель их – автор «Марии».
В 1876 году в провинции снова вспыхнула гражданская война. Исааке сменил студенческую аудиторию на политическую трибуну. Он выступает на площадях перед толпами народа, принимает участие в вооруженной борьбе на стороне либерального правительства. Когда гражданская война закончилась победой либералов, он вернулся к своим занятиям на ниве просвещения, но, по его выражению, «не расставался с мундиром воина».
После того как в 1877 году Конто оставил пост главы правительства, Исааке уходит из ведомства народного просвещения и работает секретарем провинциальной палаты депутатов. Теперь вся его энергия направлена на защиту бедствующих, угнетенных индейцев, положению которых он посвятил впоследствии специальную книгу, и на защиту гражданских свобод от власти клерикалов. Но борьба оказалась неравной. В 1880 году тяжело больной Исаакс, разочаровавшись в политической деятельности, окончательно отходит от нее и поселяется в Боготе.
Все эти годы Исаакс не переставал сотрудничать в различных литературных и политических изданиях, он написал около ста лирических стихотворений, две драмы, поэму «Саул», несколько социологических и исторических очерков (в том числе «Очерк об индейских племенах департамента Магдалена»), но единственной книгой, обессмертившей его имя, остался роман «Мария».
В 1888 году писатель переезжает в город Ибагуэ. Здоровье его окончательно подорвано, наступают годы нищеты и полного забвения.
За несколько лет до смерти Исааке в письме к известному мексиканскому писателю Хусто Сьерре пишет горькие строки о том, что «американские издатели спекулировали его творением», в то время как он, «по праву считающий себя гражданином всей Латинской Америки»,[1] нуждался в куске хлеба. В 1895 году писатель, сраженный болезнями и житейскими невзгодами, умирает.
А литературная жизнь «Марии» продолжается. И в XX веке, также как в XIX, ее читают, издают и переиздают в Латинской Америке и Испании, переводят на европейские языки. В 1967 году Колумбия ознаменовала столетие со дня выхода романа юбилейным изданием «Марии». Этот год стал во всех странах испанского языка годом Исаакса. Появились десятки статей в латиноамериканской печати, вышли книги, посвященные писателю и его роману.
Чем объяснить столь долгую жизнь и широкое признание этой бесхитростной, сентиментальной истории о погубленной любви двух юных сердец – книги, казалось бы, написанной целиком под сильным и явным влиянием европейского романтизма?
Становление национальных латиноамериканских литератур началось только в XIX веке, когда с концом испанского колониального ига кончилась и духовная изоляция Южноамериканского континента и в страны его хлынула волна европейских влияний: «Вплоть до начала XX века латиноамериканская проза воспринимала окружающий мир с позиций европейского цивилизованного сознания».[2] Художественной формой этого сознания, завоевавшей главенствующую роль в молодой литературе, был романтизм. Придя в Латинскую Америку уже после того, как в Европе отгремели романтические бури, движение это нашло благодарную почву в прошедших через освободительные бои странах, где нарождался горячий интерес к своему историческому прошлому, к внутреннему миру людей, проснувшихся для новых идей и чувств.
«Мария» Хорхе Исаакса написана по канонам французской романтической повести. Молодые герои, Мария и Эфраин, любят друг друга с детства. Их возвышенная любовь исцеляет Марию от тяжкой болезни, возможно, той же, от которой погибла в молодости ее мать. Но отец Эфраина посылает его учиться в Англию, и разлука убивает Марию; она умирает, а Эфраину, слишком поздно вызванному на родину, остается лишь рыдать у ее могилы.
Описания дикой природы, неразрывно связанные с историей любви, сцены невинных любовных объяснений, сопровождаемых слезами, сомнениями, символическим обменом цветами, сама трагическая развязка романа невольно вызывают в памяти «Поля и Виргинию» Бернардена де Сен-Пьера и «Аталу» Шатобриана, послуживших Хорхе Исааксу литературными образцами. Влияние Шатобриана подчеркивает и сам автор «Марии»: «Атала» – излюбленное чтение его героев, Эфраин читает любимой девушке эту повесть вслух, и они вместе оплакивают смерть ее героини.
Развитие драмы Марии и Эфраина – главная тема романа. Однако в книге Хорхе Исаакса мы наблюдаем не только обращение к внутреннему миру человека, но и – также присущее европейскому романтизму – обращение к миру дикой первозданной природы, к жизни естественных, неиспорченных цивилизацией людей. И тут-то происходит литературное чудо: заимствованный способ выражения претворяется в художественную ткань произведения подлинно национальной литературы. Если Шатобриану и Бернардену де Сен-Пьеру надо было искать для своих героев экзотическую среду в лесах Северной Америки или на острове Бурбон, то для Исаакса это была окружающая его реальность, дикая сельва его родины. Среди прозаиков он первый создал образ могучей южноамериканской природы, открыл своим соотечественникам грозную красоту бескрайних лесов, бурных рек, неприступных гор, прелесть цветущих долин родной страны, открыл Америку для американцев. Далеко еще было до времен создания романов о «зеленом аде», о жестокой, коварной сельве, которая убивает работающих в ней людей, но отраженный свет сельвы Хорхе Исаакса лежит и на романе «Пучина» такого несхожего с ним колумбийского писателя, как Хосе Эустасио Ривера, а читая о «возвращении к истокам», о путешествии вверх по великой реке героя «Потерянных следов» Алехо Карпентьера, невольно вспоминаешь плавание Эфраина по едва преодолимой Атрато и открывающуюся ему фантастическую, еще никем не описанную красоту дикой сельвы.
Природа в романе Исаакса выступает как живое действующее лицо, откликаясь на все перипетии любовной драмы героев. Она радуется вместе с ними наутро после встречи: «Когда я проснулся, птицы звонко распевали, порхая в листве, яблонь и апельсиновых деревьев, а стоило мне приоткрыть дверь, как в комнату ворвался аромат цветущего сада. Я тут же услышал чистый и нежный голос Марии…» Природа соперничает в красоте с Марией в счастливый день поездки в горы на свадьбу друзей: «Когда мы выехали в пампу, солнце, прорвавшись сквозь туман, затянувший горы у нас за спиной, уже разливало золотистое сияние по лесам… Мы переезжали вброд речушки, и они, сверкая под солнечными лучами, терялись в темноте лесов… Мария опустила вуаль на лицо; сквозь колеблемый ветром небесно-голубой газ я видел порой устремленные на меня глаза, и перед ними меркла вся роскошь окружающей нас природы». Природа разделяет тревогу Эфраина во время путешествия по Атрато к умирающей Марии: «Большая полная луна уже заходила и, выглядывая из черных туч, заливала дальние леса, прибрежные мангровые заросли и спокойную гладь моря трепетным бледно-желтым светом, подобным сиянию погребальных свечей, озаряющих мраморный пол и стены склепа».
Но не только обращение к родной природе придало роману Исаакса столь яркий национальный характер. Важнее другое. Присущий европейскому романтизму интерес к местному колориту, фольклору, быту людей, не утративших кровной связи е природой, тоже привел писателя к реальной жизни его соотечественников – земледельцев, рабов, рыбаков, гребцов. Одним из ответвлений романтизма, прочно укоренившимся в латиноамериканской литературе, был так называемый костумбризм: писатели этого направления стремились отразить местные нравы, обычаи, быт. К костумбризму, который являлся как бы предвестием дальнейшего реалистического развития латиноамериканских литератур, очень близок в своем романе Хорхе Исааке. Он описал повседневный быт и сельские работы на горной ферме старого мулата Хосе, тяжкий и опасный труд гребцов на бурной Атрато, обряды негритянской свадьбы, характерные черты различных этнических групп, и колумбийскому читателю впервые открылись в художественном изображении те стороны народной жизни, которые еще никем не были показаны в латиноамериканской литературе.
Особое место в романе занимает история африканки-рабыни Най, названной при крещении Фелисианой. Это вставная новелла, созданная по образцу подобных новелл в классическом испанском романе. Некоторые исследователи творчества Хорхе Исаакса видят в этой истории дань экзотизму романтического направления, считая, что в данном случае Африка явилась для автора тем, чем была Северная Америка для Шатобриана. Но если в африканской части новеллы Исаакс действительно не поскупился на экзотические детали, то судьба Най, привезенной в Америку и проданной в рабство, была неотъемлемой частью колумбийской действительности.
Кроме того, бичующее разоблачение жестокостей работорговли в стране, где закон об отмене рабства был принят только в 1851 году, а подневольное положение негров и рабовладельческие пережитки сохранились еще на десятилетия, прозвучало как слово настоящего гуманиста и борца за социальную справедливость.
Постоянное обращение автора к жизни своего народа, к подлинным человеческим отношениям и чувствам не могло не сказаться и на трактовке основной темы – любовной драмы главных героев. Несмотря на всю романтичность и идеальность их любви на нежное покровительство влюбленным со стороны родителей и изображение отца Эфраина как благородного сердечного человека, от читателя не может укрыться, что виной. смерти Марии было решение отца отправить Эфраина в Англию, в основе же этого решения лежал трезвый буржуазный расчет: молодой человек должен сделать карьеру, а тем временем выяснится, насколько серьезна болезнь Марии, не опасна ли она для будущности сына.
Как уже было сказано, «Мария» Хорхе Исаакса – произведение романтическое. Этому роману так же, как романам родственного направления в европейской литературе, свойственны и чрезмерная чувствительность, и явная идеализация, а подчас и фальшь при описании добрых патриархальных нравов в имении богатого землевладельца или отеческого отношения хозяина к своим рабам, слугам, арендаторам. И все же реалистическая тенденция произведения оказалась сильнее. На первый план выступило основное его содержание: подлинная жизнь страны и художественное открытие ее природы. Писательская зоркость Исаакса помогла ему распознать расчетливость и своекорыстие еще только складывающегося буржуазного сознания, его враждебность человеческим чувствам. Автор «Марии» чуть ли не первый в латиноамериканской литературе ввел в роман социальную тематику, обличив жестокость рабовладения, описав тяжкий труд народа.
«Мария» – первый национальный роман колумбийской литературы, оказавший влияние на все ее дальнейшее развитие и признанный классическим произведением литературы Латинской Америки. В течение ста лет он выходил несчетное множество раз во всех странах испанского языка, а, как правильно заметил Марио Карвахаль, автор предисловия к юбилейному изданию «Марии», «длительность жизни художественного произведения сама по себе является решающим определением и непререкаемым приговором».[3]
Р. Линцер.
Глава I Мария, робея, дождалась своей очереди…
Я был еще ребенком, когда меня увезли из родительского дома и отдали учиться в пансион доктора де… Пансион этот был учрежден в Боготе за несколько лет до моего поступления и славился в те времена по всей республике.
Вечером, накануне отъезда, после прощального ужина ко мне в комнату проскользнула одна из сестер и, не в силах произнести ни единого ласкового слова из-за душивших ее рыданий, срезала у меня с головы прядь волос; когда она убежала, я почувствовал на шее ее слезы.
Я заснул, всхлипывая, охваченный смутным предчувствием всех горестей, уготованных мне в грядущем. Волосы, срезанные с детской головки, – это заклятие любви против смерти в преддверии бескрайней жизни повергло меня в тревогу, и всю ночь душа моя бродила по местам, где, сам того не ведая, я прожил счастливейшие часы своей жизни.
Утром следующего дня отец с трудом оторвал меня от матери, обливавшей слезами мое лицо. Сестры, прощаясь, осушили их поцелуями. Мария, робея, дождалась своей очереди и, пролепетав слова прощания, прижалась розовым личиком к моей щеке, похолодевшей от острого ощущения первого горя.
Через несколько минут я уже скакал вслед эа отцом; он старался не смотреть на меня. Цокот копыт наших коней по каменистой тропе заглушил последние мои рыдания. Шум оставшейся справа от нас бурной реки Сабалетас, отдаляясь, постепенно замирал. Дорога, свернув, взбежала на холм, на который мы всегда смотрели из дома, поджидая появления желанных гостей. Я оглянулся, в надежде увидеть кого-нибудь из близких: под сенью вьюнков, обрамляющих мамино окно, стояла Мария.
Глава II Я онемел пред всей этой красой…
Прошло шесть лет, и вот в конце цветущего августа я возвращался домой, в свою долину. Сердце мое переполняла любовь к родному краю. Наступил последний день пути, и я наслаждался безмятежным летним утром. Небо отливало бледной лазурью; на востоке, над еще затененными горными хребтами, проплывали золотистые тучки, прозрачные, словно газовый шарф балерины, вьющийся иод ласковым дуновением ветерка. На юге клубился туман, с вечера затянувший дальние горы. Я проезжал по ровным зеленым лугам, изрезанным веселыми речушками, через которые, преграждая путь моему коню, перебирались тучные стада; покинув ночной привал, они брели к озерам и лесным тропам, осененным сводами из ветвей цветущих букаре и пышных смоковниц. Я жадно вглядывался в знакомые места, порою скрытые от взора путника зарослями гигантского бамбука, в разбросанные вокруг фермы, где осталось у меня много добрых друзей. В эти минуты мое сердце не могли бы затронуть даже самые прекрасные мелодии, звучавшие на рояле под пальцами сеньоры У. Воздух, которым я дышал, был сладостнее благоухания ее роскошных туалетов; пение безымянных птиц будило чарующий отклик в моем сердце!
Я онемел пред всей этой красой, – напрасно я думал, будто память о ней оставалась нерушимой: ведь иные мои стихи, вызывавшие восторг соучеников, хранили лишь бледный ее отпечаток. Бывает, войдя в ярко освещенный бальный зал, где гремит музыка, где шуршат и благоухают наряды прелестных женщин, мы встретим ту, о ком мечтали в восемнадцать лет: ее беглый взгляд обожжет наше лицо, ее голос сразу заставит умолкнуть все другие голоса, ее цветы оставят за собой неведомый аромат, и тут на нас низойдет небесное блаженство – слова замирают на устах, слух отказывается ловить ее голос, глаза не могут следить за ней. Но когда душа очнется, в памяти вновь возникает она, уста наши тихо поют ей хвалу, и эта женщина, звук ее речи, ее взгляд, ее легкие шаги но ковру вдохновляют нашу песнь, и слушателям она кажется прекрасной. Так небо, просторы, пампа и горные вершины Кауки смыкают печатью молчания уста созерцающего их человека. Нельзя одновременно видеть и воспевать великую красоту мира; она поневоле возвращается к нашей душе лишь в бледном отражении неверной памяти.
Еще до заката солнца я увидел белеющий на склоне горы родительский дом. Приближаясь к нему, я жадно всматривался в купы ив и апельсиновых деревьев, среди которых вскоре замелькали огни, светившиеся в окнах.
Наконец-то я вдыхал незабываемые запахи сада, возникающего у меня на глазах. Подковы моего коня уже высекали искры из каменных плит патио. Я услышал радостный крик: то был голос моей матери. Когда она обвила меня руками и прижала к груди, в глазах моих потемнело: невыразимое счастье потрясло мое юное сердце.
С трудом узнавал я в окруживших меня девушках сестер, которых оставил маленькими девочками. Мария стояла рядом со мной, потупив глаза, опушенные длинными ресницами. Яркий румянец залил ее лицо, когда моя рука, соскользнув с ее плеча, коснулась талии. И в ответ на мой сердечный порыв она улыбнулась сквозь слезы, словно ребенок, после долгого плача успокоенный материнской лаской.
Глава III Какой нежный был у нее голос!
В восемь часов мы собрались в столовой, обращенной окнами на самую живописную, восточную, сторону. Вдали темнели обнаженные горные хребты на фоне 8вездного неба. Дыхание пустынных просторов, пролетая по саду, доносило до нас аромат цветущих розовых кустов. Переменчивый ветерок временами затихал, s тогда слышался ропот речной воды. Природа стремилась показать всю красоту своих ночей, словно приветствуя возвращение друга.
Отец занял место во главе стола, а меня посадил справа; мама, как всегда, села слева от него; сестры и малыши расселись как попало, и Мария оказалась напротив меня.
Отец, поседевший за время моего отсутствия, поглядывал на меня с довольным видом и улыбался своей особой, лукавой и доброй, улыбкой, какой не видывал я ни у кого другого. Мама почти ничего не говорила, она была слишком счастлива. Сестры наперебой угощали меня закусками и сластями, и каждая, услышав мою похвалу или встретив изучающий взгляд, заливалась краской. Мария упорно прятала от меня глаза. Но всякий раз, когда взгляды наши невольно встречались, я любовался красотой и блеском, обычно отличающими глаза женщин ее народа. Свежие алые губы, очерченные четко и изящно, лишь на мгновение приоткрывали ослепительную белизну зубов. Пышные темно-каштановые волосы были, так же как у моих сестер, заплетены в две косы, в одной косе красовалась пунцовая гвоздика. На Марии было легкое светло-голубое муслиновое платье, но всю грудь до матово белой шеи закрывала тонкая пурпурная шаль, и видны были только корсаж и юбка. Когда она отбрасывала за спину косы, соскользнувшие о плеч во время хлопот за столом, я любовался изящным изгибом ее рук и холеными, словно у королевы, пальцами.
Ужин закончился, слуги убрали скатерть; один из них начал читать «Отче наш», и хозяева подхватили молитву.
Потом мы с родителями повели задушевную беседу. Мария взяла на руки малыша, который заснул, уткнувшись в ее подол, сестры пошли вместе с ней в детскую: все они любили Марию и оспаривали ее привязанность.
Когда девушки вернулись в гостиную, отец на прощание поцеловал каждую в лоб. Мама хотела, чтобы я посмотрел приготовленную для меня комнату. Сестры и Мария уже перестали дичиться, им тоже не терпелось поглядеть, какое впечатление произведет на меня ее убранство. Комната находилась в конце галереи, идущей по фасаду дома; подоконник единственного ее окна шел вровень с письменным столом; сейчас обе рамы и решетки были распахнуты настежь и в окно заглядывали ветви цветущих розовых кустов, придавая еще более нарядный вид столу, на котором стояла прелестная ваза голубого фарфора, полная лилий, ирисов, гвоздик и лиловых колокольчиков. Белый тюлевый полог был раздвинут и подвязан к столбикам кровати широкими розовыми лентами; у изголовья заботливая материнская рука повесила изображение скорбящей богоматери, перед которой я молился еще ребенком. Несколько географических карт, удобные кресла и красивый умывальник дополняли обстановку.
– Какие чудесные цветы! – воскликнул я, увидев и те, что заглядывали из сада, и те, что стояли в вазе.
– Мария помнит, как ты любил их, – ответила мама.
Я повернулся к Марии, чтобы поблагодарить, и на этот раз глаза ее выдержали мой взгляд.
– Мария, – сказал я, – сбережет их где-нибудь для меня. Ночью, во время сна, вредно держать в комнате цветы.
– Правда? – спросила она. – Ничего, эавтра я поставлю новые.
Какой нежный был у нее голос!
– Неужели их так много?
– Очень много; каждый день будут свежие.
Мама поцеловала меня, а Эмма протянула мне руку. Мария, тоже слегка пожав мою руку, улыбнулась, как улыбалась в детстве. И эта улыбка с ямочками на щеках – улыбка девочки, первой моей детской любви, – неожидан-«но расцвела на лице Рафаэлевой мадонны.
Глава IV …В комнату ворвался аромат цветущего сада
Я заснул спокойно, как в детстве, когда меня убаюкивали волшебные сказки старого слуги Педро.
Мне приснилось, будто Мария ставила свежие цветы на мой стол и, уходя, задела полог кровати своей воздушной муслиновой юбкой в голубых цветочках.
Когда я проснулся, птицы звонко распевали, порхая в листве яблонь и апельсиновых деревьев, а стоило мне приоткрыть дверь, как в комнату ворвался аромат цветущего сада.
Я тут же услышал чистый и мягкий голос Марии: детский голос былых времен, но более глубокий и как бы уже способный выражать все оттенки, нежности и страсти. Ах, сколько раз потом среди сна звенел в моей душе отзвук этого голоса и глаза мои тщетно искали вокруг тот сад, где ранним августовским утром я увидел ее такой прелестной!
Девочка, чьи невинные ласки были мне дороже жизни, не будет уже теперь подругой моих игр, но золотыми летними днями она вместе с сестрами станет сопровождать меня в прогулках; я буду помогать ей ухаживать за любимыми цветами; в вечерних беседах я услышу ее голос, встречу устремленный на меня взгляд, и мы будем сидеть совсем рядом.
Наспех приведя себя в порядок, я распахнул окно и в одной из аллей сада увидел Марию и Эмму. На Марии было более темное платье, чем вчера, а пурпурная шаль, повязанная как пояс вокруг талии, двумя широкими концами спускалась на юбку. Длинные волосы, разделенные пробором, закрывали спину и грудь; обе девушки расхаживали босиком. Мария держала фарфоровую вазу, спорившую белизной с ее руками, и срезала распустившиеся за ночь розы, небрежно отстраняя недостаточно свежие и пышные. Смеясь и болтая с подругой, она то и дело погружала румяное, как роза, личико в огромный букет. Заметила меня Эмма; Мария поняла, что я их вижу, и, не оборачиваясь, упала на колени, чтобы спрятать босые ноги, быстро развязала затянутую на талии шаль и, набросив ее на плечи, сделала вид, будто поправляет розы. Так прекрасны были, наверное, дочери наших предков, собирающие на рассвете цветы для алтаря.
После завтрака мама позвала меня к себе в рукодельную.
Эмма и Мария вышивали, сидя подле нее. Когда я появился, Мария вся вспыхнула: должно быть, вспомнила, как я застал ее врасплох поутру.
Мама готова была видеть и слышать меня непрестанно.
Эмма, осмелев, засыпала меня вопросами о Боготе; мне пришлось описать и блестящие балы, и новомодные дамские туалеты, и самых красивых женщин, известных в высшем обществе. Все слушали, не прерывая работы.
Мария украдкой поглядывала на меня или тихонько перешептывалась с подругой. Когда она встала, чтобы показать маме свое вышивание и спросить совета, я увидел ее тщательно обутые ножки; в легкой, полной достоинства походке сказывалась и непокоренная гордость ее народа, и прелестная скромность христианской девушки. Глаза у нее так и загорелись, когда мама выразила желание, чтобы я дал ей и Эмме несколько уроков грамматики и географии, – они были не очень осведомлены в этих науках. Мы пришли к решению, что занятия начнутся дней через шесть – восемь, а я тем временем выясню знания каждой из них.
Через несколько часов мне сказали, что для купанья все готова, и я отправился в сад. Мощное ветвистое апельсиновое дерево, отягченное спелыми плодами, образовало навес над большим бассейном, сложенным из полированного камня; в воде плавали розы; бассейн походил на восточную ванну и благоухал цветами, которые утром срезала Мария.
Глава V Прощай, дружок, больше я тебя не увижу
Через три дня отец предложил мне посетить вместе с ним имения в долине, и я не мог отказать в его просьбе; с другой стороны, меня действительно интересовали наши хозяйственные дела. Мама горячо настаивала, чтобы мы поскорее возвращались. Сестры загрустили. Мария не упрашивала меня, как они, вернуться на той же неделе, но во время подготовки к отъезду не спускала с меня глаз.
За годы моего отсутствия отец значительно усовершенствовал свое хозяйство. Прекрасный, хорошо оборудованный сахарный завод, обширные тростниковые плантации, снабжающие его сырьем, пастбища для рогатого скота и конских табунов, отличные стойла, роскошный жилой дом составляли основную часть его владений в жарком поясе. Рабы усердно трудились. Мальчишки, которые еще недавно учили меня ставить силки на куропаток и гуатинов,[4] превратились во взрослых мужчин; и они, и их отцы встретили меня с непритворной радостью. И только Педро, моего доброго друга и верного слугу, не суждено мне было повидать снова. Обливаясь слезами и подсаживая меня па коня в день отъезда в Боготу, он сказал: «Прощай, дружок, больше я тебя не увижу». Сердце подсказывало ему, что не доживет он до моего возвращения.
Могу заверить, что отец, оставаясь настоящим хозяином, обращался со своими работниками хорошо, заботился о добропорядочном поведении их жен и был ласков с маленькими ребятишками.
Как-то вечером, уже на закате, отец, Ихинио – управляющий и я возвращались с сахарного завода. Старшие беседовали об уже сделанных и предстоящих работах, меня же занимали мысли менее серьезные: я вспоминал свои детские годы. Особый запах свежеспиленного леса и спелых плодов; крики попугаев в зарослях бамбука и гуаябо; отдаленное пение пастушьего рожка, подхваченное горным эхом; свирели крестьян, неторопливо, с заступом на плече, возвращавшихся с полей; багряные облака над колыханием сахарного тростника – все напоминало мне те вечера, когда, выпросив у матери разрешение, мы с сестрами и Марией наслаждались свободой: мы собирали плоды с наших любимых деревьев, разоряли гнезда – зачастую обдирая руки и коленки, отыскивали птенцов попугая у ограды корралей.[5]
Мы повстречались с группой крестьян, и отец обратился к рослому молодому негру:
– Ну как, Бруно, все готово для свадьбы на послезавтра?
– Да, хозяин, – ответил тот, сняв плетеную тростниковую шляпу и опершись на заступ.
– А кто у тебя посаженые родители?
– Нья[6] Долорес и ньо Ансельмо, если угодно вашей милости.
– Отлично. Вы с Ремихией будете обвенчаны как положено. Все ли ты купил на те деньги, что я велел тебе послать?
– Все сделано, хозяин.
– И больше ты ничего не хочешь?
– Вашей милости виднее.
– А жильё Ихинио тебе дал хорошее?
– Да, хозяин.
– А, теперь знаю! Ты хочешь устроить вечеринку с танцами!
Бруно рассмеялся, показав ослепительно белые зубы и переглянулся с приятелями.
– Это ты заслужил: ведешь себя отлично. Вот что, – . добавил отец, обращаясь к Ихинио, – займись этим делом пусть все будут довольны:
– А ваши милости не уедут раньше? – спросил Бруно.
– Нет, – ответил отец, – будем считать, что ты пригласил и нас.
В субботу утром Бруно и Ремихия обвенчались, а в семь вечера мы с отцом, заслышав музыку, верхами отправились на праздник. Когда мы подъехали, Хулиан, старший в артели, вышел к нам навстречу поддержать стремя и принять коней. Он был великолепен в своем праздничном наряде. На поясе у него висел широкий, изукрашенный серебром мачете – знак его высокого положения. Из большого зала в бывшем нашем жилом доме вынесли хранившиеся там сельскохозяйственные орудия. Все было приготовлено для танцев. Вдоль стен тянулись скамьи; в деревянной люстре, подвешенной к балке, горели свечи; музыканты и певцы – арендаторы, рабы и вольноотпущенники – расположились у одной из дверей. Оркестр состоял всего лишь из двух тростниковых флейт, самодельного барабана, двух погремушек и бубна; но звонкие голоса певцов так мастерски выводили народные мелодии, в их пении так искусно сочетались грусть, веселье и беззаботность, слова песен были так нежны и простодушны, что даже самый взыскательный любитель слушал бы эту бесхитростную музыку с восторгом. Мы вошли в кожаных штанах для верховой езды и в шляпах. Как раз в это время танцевали Ремихия и Бруно. На ней была юбка с голубыми оборками, кушак в красных цветах, расшитая черным шелком белоснежная блузка и сверкающие, как рубины, стеклянные бусы и серьги. Склоняя свой гибкий стан, она плясала ловко и изящно. Бруно в ярких штанах по колено и белой отглаженной рубахе, с новым ножом на поясе, откинув на плечи край домотканого пончо, бойко пристукивал в лад каблуками.
Закончив этот «круг», как называют крестьяне каждый новый танец, музыканты заиграли самый красивый напев: Хулиан объявил им, что сейчас надо сыграть в честь хозяина. Ремихия, сдавшись на уговоры мужа и Хулиана, решилась наконец потанцевать немного с моим отцом; но при этом она не смела и глаз поднять, а все ее движения были скованны. Через час мы потихоньку ушли.
Отец был очень доволен интересом к сельским работам, какой проявлял я во время объезда поместий; но когда я сказал, что и дальше хотел бы помогать ему в хозяйстве и жить вместе с ним, он ответил почти с прискорбием, что обязан ради моего блага пожертвовать своей выгодой и выполнить давнее обещание послать меня учиться медицине в Европу, куда я должен отправиться самое позднее через четыре месяца. Сказал он это с торжественной, но спокойной серьезностью, так объявлял он обычно о своих непререкаемых решениях. Разговор происходил вечером, когда мы возвращались в горы. Начинало темнеть, и отец не мог заметить, какое волнение вызвал у меня его отказ. Остальной путь мы молчали. Как счастлив я был бы снова увидеть Марию, если бы решение, о котором я узнал во время поездки, не встало отныне между нею и моими надеждами.
Глава VI …Незнакомый мне раньше блеск ее глаз…
Что же произошло за эти четыре дня в душе Марии?
Она собиралась зажечь лампу на столе в гостиной, когда я подошел поздороваться с ней, удивляясь, что она не встречала нас вместе со всей семьей на ступенях лестницы, перед которой мы спешились. Лампа задрожала в ее руках, и я помог ей, сам взволнованный несколько больше, чем ожидал. Мария показалась мне бледной, под глазами лежала легкая тень, возможно, незаметная для того, кто смотрел бы на нее менее внимательно. Она повернулась к спросившей ее о чем-то маме и спрятала лицо от света лампы; тогда я заметил в косе у нее увядшую гвоздику, без сомнения, ту самую, что я дал ей накануне своего отъезда в долину. Коралловый с эмалью крестик – я привез одинаковые ей и сестрам – висел у нее па шее, на шнурке, сплетенном из черных волос. Она молча села в кресло, между мною и мамой. Решение отца отправить меня в Европу не выходило у меня из головы, и, очевидно, я показался ей грустным; она спросила почта шепотом:
– Тебе нездоровится после дороги?
– Нет, Мария, – ответил я, – но мы столько времени были на солнце и столько проехали…
Я хотел сказать еще что-то, но затаенная нежность в ее голосе, незнакомый мне раньше блеск ее глаз заставили меня умолкнуть, и я лишь смотрел и смотрел на нее, пока не заметил, как смущена она моим безотчетно пристальным взглядом. Перехватив изучающий взор отца (тем более грозный, что по губам у него пробежала легкая усмешка), я вышел из гостиной и отправился к себе в комнату.
Я закрыл дверь. На столе стояли цветы, собранные для меня Марией. Я осыпал их поцелуями, мне хотелось вдохнуть сразу все ароматы и уловить в них благоухание ее одежды; я обливал их слезами… Ах, кто не плакал так от счастья, пусть плачет теперь в отчаянии, если юность его уже прошла, ибо и любовь тоже к нему не вернется!
Первая любовь!.. Благородная гордость, рожденная ответной любовью; радостное отречение ради любимой женщины от всего, что было тебе дорого раньше; счастье, купленное лишь на один день слезами и муками всей жизни, но все равно принятое как божий дар; воспоминание на все грядущие годы; неугасимый свет прошлого; цветок, хранимый в душе и неподвластный гибельной силе разочарования; единственное сокровище, которое не может отнять у нас людская зависть; сладостное безумие… небесное вдохновение… Мария! Мария! Как я любил тебя! Как буду тебя любить!
Глава VII Моя мать осыпала ее ласками…
Незадолго до того как мой отец совершил последнюю свою поездку на Антильские острова, умерла жена его двоюродного брата Саломона, которого он горячо любил с детских лет. Совсем юными они вместе приехали в Южную Америку; во время своих странствий отец мой влюбился в дочь испанца, отважного морского капитана, который, оставив на несколько лет военную службу, в 1819 году был вынужден снова взяться за оружие, защищая испанскую корону, и погиб, расстрелянный в Махагуале в мае 1820 года.[7]
Мать юной избранницы моего отца, прежде чем согласиться на их брак, поставила условием, чтобы он отказался от иудейской веры. Отец стал христианином в возрасте двадцати лет. Его кузен тоже был увлечен католической религией, но, несмотря на все настояния друга, не крестился, так как понимал, что отцу совершенный им шаг дал желанную супругу, а ему самому перемена веры помешала бы жениться на девушке, которую он полюбил на Ямайке.
После нескольких лет разлуки друзья встретились снова. Саломон был уже вдовцом. Сара, его жена, оставила ему дочь, которой было тогда три года. Горе сломило Саломона и нравственно и физически, но отцу, воодушевленному своей новой верой, удалось принести ему утешение, которого напрасно искала вся родня, стараясь спасти его. Он уговорил брата отдать девочку на воспитание в нашу семью и решился спросить его согласия на то, чтобы крестить ее. Саломон согласился. «Говоря по правде, – сказал он, – только из-за дочки я не смел отправиться в Индию, где я мог бы прийти в себя и вырваться из нищеты; она – единственное мое утешение после смерти Сары; но раз ты этого хочешь, пусть будет она твоей дочерью. Христианки добры и ласковы, твоя супруга, наверное, прекрасная мать. Если ваша религия могла облегчить даже такое тяжкое горе, то я хочу, чтобы и моя дочь стала католичкой. Не говори об этом моим родным, но, когда пристанешь к первому же берегу, где будет католический священник, пусть он окрестит ее и вместо имени Эстер даст ей имя Мария». Так говорил бедняга в глубоком волнении.
Через несколько дней в бухте Монтего поднимала паруса двухмачтовая шхуна, которая должна была увезти моего отца к берегам Новой Гранады. Легкое суденышко взмахивало белыми крыльями парусов, словно цапли нашей сельвы перед долгим полетом. Отец уже был в дорожном костюме, когда появился Саломон, держа на одной руке Эстер, а в другой – чемодан с ее пожитками. Малютка потянулась ручонками к своему дяде, и Саломон передал ее в объятия друга, а сам, рыдая, упал на маленький чемоданчик. Это дитя, на чью головку пролились слезы крещения скорбью раньше, чем вода святого крещения, было небесным даром; мой отец понял это всем сердцем и никогда не забывал. Прыгнув в шлюпку, он перед расставанием дал брату торжественную клятву беречь ребенка, и тот ответил прерывающимся голосом: «Молитвы моей дочери за меня и мои молитвы за дочурку и ее мать вознесутся вместе к ногам Христа!»
Мне исполнилось восемь лет, когда отец вернулся из путешествия, и я был так восхищен прелестной, нежной, улыбающейся девочкой, что забросил все привезенные мне дорогие игрушки. Моя мать осыпала ее ласками, а сестры приняли с любовью, едва лишь отец, посадив девочку на колени к жене, сказал: «Это дочка Саломона, он передает ее тебе».
Во время наших детских игр Мария начала учиться испанской речи, столь пленительно звучной и в прекрасных устах женщины, и в смеющихся устах ребенка.
Пробежали четыре года. Войдя как-то вечером в комнату отца, я услышал рыдания: он сидел у стола, уронив голову на скрещенные руки; рядом с ним плакала мама, а у нее на коленях, удивленно склонив головку, сидела Мария, не понимая причины горя и почти не обращая внимания на жалобы своего дяди. В полученном из Кингстоуна письме сообщалось о смерти Саломона. Я запомнил слова, сказанные отцом в тот вечер: «Если все покидают меня, не сказав даже последнего прости, зачем мне возвращаться на родину?» Увы, его праху суждено было покоиться в чужих краях, и ветры океана, на берегах которого играл он ребенком, чьи просторы пересек отважным юношей, не сметали с его могильной плиты сухие цветы акации и пыль прошедших лет!
Мало кто из знавших нашу семью мог тогда подозревать, что Мария не дочь моих родителей. Она хорошо говорила по-испански, была мила, резва и сообразительна. Когда мама ласкала ее, меня и сестренок, никому не удалось бы угадать, кто из нас сирота.
Марии исполнилось девять лет. Пышные, в то время светло-каштановые волосы, свободно падающие до тонкой и гибкой талии; выразительные глаза; чуть грустные интонации, несвойственные нашим голосам – вот какой образ унес я с собой, покидая родительский дом. Такой была она в то печальное утро, когда стояла под вьюнками, обрамляющими мамино окно.
Глава VIII Я обвинял себя в гордыне, ослепившей меня…
Вечером Эмма постучалась ко мне в дверь, приглашая к столу. Я поспешно облил лицо водой, смывая следы слез, и сменил костюм, чтобы объяснить свое опоздание.
Марии в столовой не было, но напрасно я воображал, будто хозяйственные дела задержали ее дольше обычного. Заметив пустое место, отец спросил о Марии, и Эмма объяснила, что у нее разболелась голова и она уже легла спать. Я постарался не показать своего огорчения и, пересилив себя, завел приятный для собеседников разговор, с восторгом рассказывая о процветании ферм, которые мы посетили. Но это было ни к чему: отец устал больше, чем я, и вскоре встал из-за стола. Эмма с матерью пошли укладывать детей и взглянуть, как чувствует себя Мария, а я мысленно поблагодарил их, даже не удивляясь тому, что почувствовал благодарность.
Хотя Эмма снова вернулась в столовую, посидели мы вместе недолго. Фелипе и Элоиса, которые упросили меня поиграть с ними в карты, заметили, что глаза у меня слипаются. Фелипе стал умолять маму отпустить его вместе со мной на следующий день в горы, но безуспешно, и ушел надутый.
Поразмыслив у себя в комнате, я понял причину недомогания Марии. Я вспомнил, как внезапно вышел из гостиной в день своего приезда, как, тронутый затаенной нежностью в ее голосе, ответил ей совершенно бестолково именно потому, что пытался подавить свое волнение. Догадавшись, чем обидел я Марию, я готов был отдать тысячу жизней, лишь бы она простила мою вину; но неожиданно закравшееся сомнение повергло меня в замешательство. Я усомнился в любви Марии. Почему, думал я сердце мое верит, что и она испытывает те же муки? Я счел себя недостойным такой красоты, такой невинности. Я обвинял себя в гордыне, ослепившей меня настолько, что я решил, будто завоевал ее любовь, хотя, скорее всего, заслужил лишь сестринскую привязанность. И это недомыслие помогло мне с меньшим ужасом и почти с удовольствием подумать о предстоящей поездке в горы.
Глава IX … Аромат мяты, петрушки и альбааки
На следующий день я встал с рассветом. Восходящее солнце, очертив на востоке острые вершины Центральной Кордильеры, золотило цеплявшиеся за склоны легкие тучки, и они постепенно рассеивались и исчезали. Зеленая пампа и сельва просматривались словно сквозь голубоватое стекло; вдали белели хижины, дымились спиралями недавно выжженные участки леса, кое-где змеились извилистые русла рек. Западная Кордильера, вся в складках и провалах, казалось, пряталась под покрывалом из темно-синего бархата, наброшенным на ее хребет затерявшимися в тумане духами. Перед моим окном розовые кусты и кроны деревьев трепетали под первым дуновением ветерка, что прилетел стряхнуть росу, блистающую на листьях и цветах. Но все казалось мне печальным. Я взял ружье и свистнул верного Майо; он сидел, не сводя с меня глаз, наморщив от чрезмерного внимания лоб, и только ждал первого призыва; перепрыгнув через каменную загородку, я пустился по дороге в гору. Вокруг было свежо и прохладно, веяло последним дыханием ночи. Цапли покидали свои пристанища и вереницей взмывали вверх, словно серебристая лента под лучами солнца. Стаи попугаев поднимались над бамбуковыми зарослями и летели к ближним маисовым полям, а тукан, затаившись в самом сердце гор, приветствовал утро своей печальной, однообразной песенкой.
Я спустился к каменистой пойме реки той самой тропинкой, до которой столько раз шагал шесть лет назад.
Грохот потока нарастал, и вскоре я увидел бегущую реку; клубясь и пенясь, она бросалась вниз мощными водопадами, растекалась прозрачными тихими заводями и неустанно катила свои воды по скалистому, поросшему бархатным мхом ложу, окаймленному прибрежными пальмами, папоротниками и тростником с желтыми стеблями, шелковистыми метелками и пурпурными початками.
Я остановился посреди мостика, того самого мостика из. сваленного ураганом и переброшенного через поток кедра, по которому ходил в давние времена. Цветущие паразитические растения переплетались с водорослями, а голубые и лиловые колокольчики свешивались бахромой от моих ног до самой воды. Местами пышные, горделивые кроны смыкались сводом над рекой, и сквозь их листву пробивались солнечные лучи, как сквозь дырявую кровлю заброшенного индейского храма. Майо боязливо скулил на берегу, но, подчинившись моему зову, решился перебежать по ненадежному мостику и тут же, еще раньше, чем я, прыгнул на тропинку, которая вела к участку старого Хосе. Старик поджидал меня сегодня – после того как сам он побывал у нас по случаю моего приезда.
Я спустился по тенистому пологому склону, перепрыгивая через сухие сучья, оставшиеся после недавней вырубки, и очутился в лощине, засаженной овощами, откуда уже виден был домик с дымящейся трубой; он стоял среди зеленых холмов, где росли, когда я уезжал, непроходимые на вид леса. Тучные пестрые коровы мычали у ворот корраля, подзывая телят; домашняя птица с гоготом и кудахтаньем поглощала утренний корм; на ближних пальмах, пощаженных топором земледельца, распевая, покачивались в висячих гнездах иволги, и из всего этого веселого разноголосого гомона порой выделялся резкий крик вооруженного пращой птицелова: со своей сторожевой вышки он отпугивал голодных гуакамай[8] круживших над маисовым полем.
Хозяйские собаки лаем возвестили приход чужаков. Перепуганный Майо жался к моим ногам. Хосе вышел ко мне навстречу, держа в одной руке топор, а в другой – шляпу.
Скромное жилище говорило о трудолюбии и бережливости семьи; все было по-сельски просто, но удобно устроено, каждая вещь знала свое место. Тщательно подметенная столовая, бамбуковые скамьи вдоль стен, покрытые плетеными циновками или медвежьими шкурами, цветные литографии с изображениями святых, приколотые к небеленым стенам колючками апельсинового дерева; справа и слева – спальни жены Хосе и его дочек. Кухню, построенную из тонких стеблей тростника и крытую тростниковыми листьями, отделял от дома огородик, над которым витал аромат мяты, петрушки и альбааки.
Женщины как будто приоделись понарядней, чем обычно. Девушки, Лусия и Трансито, были в лиловых ситцевых юбках и белоснежных блузках с обшитыми черной тесьмой кружевами на вороте, из-под которых виднелись четки и отливающие опалом стеклянные бусы. Толстые агатово-черные косы плясали у них на плечах в лад каждому движению проворных босых, но ухоженных ног. Они разговаривали со мной застенчиво и робко, пока отец, заметив это, не подбодрил их: «Да разве ниньо[9] Эфраин стал другим, – сказал он, – оттого что приехал ученым и взрослым?»
Тогда они развеселились и почувствовали себя свободнее. Нас связывали воспоминания о дружбе и играх детских лет, которые имеют такую власть над воображением поэтов и женщин. Внешность Хосе с годами очень выиграла: хотя он и брил бороду, в его облике появилось нечто библейское, как почти у всех добронравных стариков его родного края; пышная седая грива осеняла смуглый широкий лоб, в улыбке светилось спокойствие души. Его жена Луиса лучше выдержала борьбу со временем, в одежде ее сохранились приметы ее родной провинции, а неизменная жизнерадостность подтверждала, что участью своей она довольна.
Хосе проводил меня на реку и рассказывал о своих посевах и охотничьих угодьях, пока я плавал в тихой прозрачной заводи, откуда срывался вниз шумный поток, образуя небольшой водопад. Когда мы вернулись, на единственном в доме столе уже был приготовлен соблазнительный завтрак. Маис присутствовал во всем: и в похлебке, разлитой по обливным глиняным мискам, и в золотистых лепешках, разложенных на скатерти. Единственный столовый прибор был поставлен для меня; вилка и нож лежали крест-накрест поверх белой тарелки с голубой каймой.
Майо уселся у моих ног, выжидающе поглядывая вокруг, но вел себя более скромно, чем обычно.
Хосе принялся чинить рыболовную сеть, а его дочери, радушно, хотя и смущаясь, ухаживали за мной, стараясь угадывать каждое мое желание. Обе очень похорошели и из былых озорных девчонок превратились в заботливых женщин.
Выпив по стакану густого пенистого молока, заменявшего десерт в этом патриархальном завтраке, мы с Хосе вышли осмотреть сад, огород и пашню. Старик остался очень доволен моими теоретическими познаниями в полевых работах. Через час мы вернулись, и я распрощался с девушками и их матерью.
Доброму Хосе я повесил на пояс охотничий нож, который привез из Кундинамарки, Трансито и Лусии надел на шею красивые четки, а Луисе поднес ларчик, о котором она просила мою мать. В обратный путь я пустился ровно в полдень, как определил по солнцу Хосе.
Глава X Я понял, что видел рай, где не хватало только ее…
Я шел домой неторопливым шагом, и образ Марии снова завладевал моим воображением. Почему все эти безлюдные просторы, молчаливые леса, цветы, птицы, воды говорили мне только о ней? Что напоминало мне здесь о Марии? В свежей тени деревьев, в ветерке, пробегавшем по листве, в ропоте реки?… Я понял, что видел рай, где не хватало только ее, понял, что не могу не любить ее, хотя бы она и не любила меня. Вдыхая запах лесных лилий, которые собрали для меня дочки Хосе, я мечтал, что, быть может, их коснутся губы Марии: вот как быстро отступили все мои ночные страхи.
Едва переступив порог дома, я направился в рукодельную к матери. Мария была с ней; сестры пошли купаться. Ответив на мое приветствие, Мария снова склонилась над шитьем. Мама обрадовалась моему приходу; дома уже беспокоились, почему я задерживаюсь, и собирались послать кого-нибудь за мной. Я повел рассказ об успехах в хозяйстве Хосе, а Майо тем временем слизывал колючки и травинки, приставшие к моей одежде в лесных зарослях.
Мария снова подняла глаза и взглянула на букет лилий, который я держал в левой руке, правой опираясь на ружье; я почувствовал, что она ждет, но непонятная робость – может быть, я постеснялся матери или вспомнил о своих вечерних размышлениях – помешала мне протянуть ей цветы. И все-таки я с наслаждением представлял себе, как прекрасна будет одна из маленьких лилий в ее блестящих каштановых волосах. Эти лилии предназначались ей, ведь, наверное, утром она собирала фиалки и срезала цветущие ветки апельсина, чтобы поставить в вазу на моем столе. Когда я вошел к себе в комнату, там не было ни одного цветка. Наткнись я на змею, свернувшуюся клубком посреди стола, я не был бы так потрясен, как при виде пустой вазы: запах цветов казался мне дыханием Марии, веявшим вокруг меня во время занятий, колыхавшим полог кровати во время сна… Ах, значит, она и правда меня не любит! Значит, я только обманывался игрой своего безудержного воображения! И что теперь делать с этим принесенным для нее букетом? О, будь рядом со мной в эти минуты оскорбленной гордости и досады на Марию какая-нибудь прекрасная, очаровательная женщина, ей подарил бы я эти цветы, и пусть бы она украсила себя лилиями напоказ всем. Я поднес цветы к губам, словно прощаясь навеки с несбывшейся мечтой, и, размахнувшись, швырнул их в окно.
Глава XI Мария, лилии были для тебя…
Весь остальной день я изо всех сил старался казаться веселым. За обедом я с восторгом рассказывал о красивых женщинах Боготы, особенно восхищаясь изяществом и умом П… Отец слушал меня с удовольствием; Элоиса готова была сидеть за столом до самого вечера. Мария молчала, однако мне чудилось, что лицо ее несколько раз заливала бледность и румянец на ее щеках поблек, как блекнут наутро розы, украшавшие ночное пиршество.
Во время нашей беседы Мария, как бы не прислушиваясь к ней, играла волосами моего трехлетнего братищки Хуана, ее любимца. Она вытерпела до конца, но едва я встал с места, взяла с собой малыша и отправилась в сад.
До самого вечера мне пришлось помогать отцу в его деловой переписке.
В восемь, после того как женщины прочли положенные молитвы, нас позвали в столовую. Когда все сели за стол, я был поражен, увидев в волосах Марии одну из моих лилий: На ее прекрасном лице отражалась такая благородная, простодушная и кроткая покорность, что я, потрясенный какой-то новой, неожиданно открывшейся мне чертой ее характера, не мог отвести от нее глаз.
Ласковая и веселая девочка, чистая прелестная девушка, о какой я только мог мечтать, – такой я знал ее. Но Мария, покорно терпевшая мое пренебрежение, была мне незнакома. Боготворя ее за эту покорность, я чувствовал себя недостойным коснуться взглядом ее лба.
Невпопад отвечал я на расспросы о Хосе и его семействе. От отца не укрылось мое волнение; улыбаясь, он сказал Марии:
– Какая красивая лилия у тебя в волосах; в нашем саду я таких не видел.
Мария, пытаясь не показать смущения, ответила почти непринужденно:
– Такие лилии растут только в горах.
Тут я заметил на губах Эммы лукавую улыбку.
– Кто же тебе прислал их? – спросил отец.
Мария не могла скрыть свое замешательство. Я смотрел на нее, и, должно быть, уловив мой ободряющий, взгляд, она ответила более твердо:
– Эфраин выбросил их в сад, а нам стало жаль, что погибнут такие чудесные цветы: это одна из тех лилий.
– Мария, – сказал я, – если бы я знал, что всем так понравятся горные цветы, я сохранил бы их… для вас. Но мне они показались не такими красивыми, как те, что стояли каждое утро в вазе у меня на столе.
Она поняла, почему я рассердился: ее взгляд сказал об этом так ясно, что я испугался, как бы все не услышали стук моего сердца.
Вечером, когда мы уже собирались расходиться из гостиной, Мария случайно оказалась рядом со мной. Поколебавшись, я проговорил дрогнувшим от волнения голосом:
– Мария, лилии были для тебя, но я не увидел твоих цветов.
Она пролепетала какое-то извинение, но в это время моя рука задела на диване ее руку и непроизвольно крепко сжала ее. Мария замолкла, испуганно взглянула на меня и тут же отвела глаза. В смятении она провела по лбу свободной рукой и, склонив на нее голову, облокотилась на подушку. Наконец, через силу оборвав эту возникшую лишь на мгновение связь души и тела, она встала и, как бы продолжая начатую фразу, шепнула так тихо, что я едва расслышал:
– Тогда… я каждый день буду собирать самые красивые цветы, – и вышла из комнаты.
Таким душам, как Мария, чужд светский язык любви; но они, трепеща, подчиняются первой ласке любимого человека, подобно цветку лесного мака, склоняющемуся под дуновением ветра.
Я признался Марии в любви; она побудила меня к признанию, покорно, словно рабыня, собрав брошенные мною цветы. С восторгом я повторял ее последние слова, нежный шепот звучал у меня в ушах: «Тогда я каждый день буду собирать самые красивые цветы».
Глава XII …Ручка, достойная лежать на лбу лорда Байрона…
Огромная полная луна поднялась в глубоком небе над темными горными хребтами, озарила лесистые склоны с белеющими кое-где кронами хлебных деревьев, посеребрила пену речных потоков и разлила печальный бледный свет по долине. Растения источали таинственное сладкое благоухание. Ночное безмолвие, нарушаемое лишь рокотом реки, несло покой моей душе.
Облокотившись о подоконник, я воображал Марию среди розовых кустов, где застиг ее в то первое утро: она собирала брошенные на землю лилии, принося свою гордость в жертву любви. Теперь я разбужу младенческий сон ее сердца: я смогу говорить ей о своей любви, посвятить ей всю мою жизнь. Завтра! Как волшебно звучит это слово в ночь, когда ты узнал, что любим! Ее взгляду больше нечего будет скрывать, встречаясь с моим; она станет еще прекраснее, почувствовав мое счастье и мою гордость.
Ни один июльский рассвет в Кауке не был краше Марии, появившейся передо мной на следующее утро, сразу после купанья: ее темно-каштановые волосы рассыпались волнами по плечам, бледно-розовые щеки по временам вспыхивали ярким румянцем, на нежных губах играла чистосердечная улыбка, – у таких женщин, как Мария, она выдает счастье, скрывать его они не в силах. По ее глазам, на этот раз томным, а не блестящим, я понял, что ночной сон был не таким мирным, как обычно. Она подошла ко мне, и я заметил у нее на лбу едва уловимую прелестную морщинку – знак притворной суровости, какую проявляла она порой, когда, ослепив меня своей красотой, налагала запрет молчания на мои уста, готовые повторить то, что она и так отлично знала.
Теперь я не мог не видеть ее постоянно рядом; не мог оставить ей ни мгновения жизни, лишенного моей любви. Я был счастлив тем, чем уже обладал, но жаждал еще большего счастья: и вот я попытался создать рай в родительском доме. Я напомнил Марии и сестре об их желании пройти под моим руководством первоначальный курс наук; обе снова пришли в восторг от моего предложения, и было решено начать занятия в тот же день.
В одном из углов гостиной мы устроили классную комнату: сняли у меня со стены несколько географических карт; вытерли пыль с глобуса, заброшенного до той поры в кабинете отца; убрали украшения с двух консолей и превратили их в столики для занятий. Мать с улыбкой наблюдала за нашей суетой и приготовлениями.
Каждый день мы занимались по два часа: я объяснял какую-нибудь главу из учебника географии, мы читали книги по всемирной истории, а чаще всего большие отрывки из «Гения христианства». эюж.[10] Теперь я мог оценить ум и способности Марии: все мои слова неизгладимо запечатлевались в ее памяти, и она с детской радостью показывала, что поняла урок еще до конца моих объяснений.
Эмма вскоре догадалась о связывающей нас тайне и радовалась нашему невинному счастью. Разве мог я, при постоянных наших встречах, скрыть от нее, что происходит в моем сердце? Она замечала мой взгляд, прикованный к чарующему лицу подруги, когда та отвечала на заданный вопрос. Видела, как дрожала рука Марии, когда я прикасался к ней, помогая найти какую-нибудь точку на карте. А если девушки стояли у стола по обе стороны от моего стула и Мария наклонялась, чтобы лучше рассмотреть что-нибудь в книге или на карте, я сразу запутывался в своих объяснениях, едва ее дыхание касалось моих волос или рядом свешивалась упавшая с плеча коса, и тогда Эмма могла заметить, как Мария, смутившись, спешила выпрямиться.
Иногда учениц отвлекали домашние дела, но сестра всегда брала их на себя и выходила, покидая нас совсем ненадолго. У меня сразу начинало колотиться сердце. Мария, по-детски нахмурив лоб и слегка улыбаясь, оставляла в моих руках свою изящную в ямочках ручку, достойную лежать на лбу лорда Байрона; и голос ее, как всегда мелодичный, становился томным, глубоким, слова звучали мягко. Напрасно и пытаться вспоминать эти слова сейчас: мне не суждено услышать их вновь, в чужих устах они будут другими, а написанные на этих страницах, покажутся лишенными смысла. Они принадлежат иному языку, и вот уже много лет моя память отказывается возродить его.
Глава XIII Огонь поэзии – дар небес, он возвеличивает мужчину…
Страницы Шатобриана медленно перелистывались одна за другой, открывая новые краски воображению Марии. Глубоко верующая христианка, она горячо исповедовала католицизм. В палитре, которую я ей предлагал душа ее выбирала цвета самые чарующие и украшала ими весь мир. Огонь поэзии – дар небес, он возвеличивает мужчину и одухотворяет женщину. Огонь этот придавал облику Марии волшебное очарование, дотоле мной не виданное в человеческом лице. Мысли поэта, запавшие в душу этой женщины, столь соблазнительной при всей ее невинности, возвращались ко мне словно эхо отдаленной знакомой музыки и вновь потрясали мое сердце.
Однажды тем вечером, какие бывают только в моих краях, вечером, осененным лиловыми тучами и золотистыми отблесками зарниц, вечером прекрасным, как Мария, прекрасным и мимолетным, какой была она в моей жизни, Эмма, Мария и я сидели на плоском камне на склоне горы; справа от нас бурлила в глубоком ложе река, а под ногами простиралась величественная безмолвная равнина. Я читал главу из «Аталы»;[11] и обе девушки, прелестные в полном своем самозабвении, слушали, как изливается из моих уст печаль, собранная сердцем поэта, чтобы «вызывать слезы у всего мира». Сестра, прижавшись ко мне, почти касаясь лицом моего лица, следила глазами за строчками, которые я читал вслух. Мария, сидя рядом, не сводила с меня затуманенного слезами взора…
Солнце уже скрылось, когда нетвердым голосом я дочитал последние страницы поэмы. Бледная Эмма положила голову ко мне на плечо. Мария закрыла лицо обеими руками. Когда я прочел душераздирающие прощальные слова Шактаса на могиле возлюбленной, слова, которые столько раз исторгали рыдания из моей груди: «Спи с миром в чужой земле, несчастное дитя! В награду за твою любовь, твое изгнание, твою смерть ты остаешься одна, покинутая даже Шактасом», Мария, не слыша более моего голоса, открыла лицо, по щекам ее катились слезы. Она была прекрасна, как творение поэта, и я любил ее той же любовью, какую изобразил он. В молчании мы медленно направились к дому. Увы, и Мария и я были потрясены не только прочитанной книгой – на душу нам лег тяжкий гнет предчувствия!
Глава XIV …Глаза, как бы ослепленные ярким светом…
Дня через три, когда я вернулся домой после прогулки в горы, я заметил непонятный испуг на лицах встретивших меня в прихожей слуг. Эмма рассказала, что у Марии был нервный припадок. Добавив, что она все еще без сознания, сестра попыталась, как могла, успокоить охватившую меня мучительную тревогу.
Позабыв обо всякой осторожности, я бросился в спальню, где лежала Мария, меня обуревало безумное желание прижать ее к груди, вернуть ей жизнь. С трудом сдержав себя, я растерянно подошел к кровати. В ногах у больной сидел мой отец; он устремил на меня пристальный взгляд, потом перевел его на Марию; казалось, он хотел о чем-то предупредить. Мама была тут же, но она не подняла глаз: зная о моей любви, она жалела меня; так всякая хорошая мать жалеет своего сына не меньше, чем любимую им женщину.
Я продолжал молча смотреть на Марию, не решаясь спросить, что с ней. Она как будто спала; на смертельно бледное лицо падали растрепанные волосы, в которых запутались увядшие цветы, те самые, что я подарил ей утром; наморщенный лоб выдавал нестерпимую муку, на висках выступили капельки пота; слезы не могли пролиться из закрытых глаз и блестели на сомкнутых ресницах.
Поняв, как я волнуюсь, отец встал и собрался выйти из комнаты.
– Все уже прошло, – сказал он, пощупав пульс Марии. – Бедная девочка! Той же болезнью страдала ее мать.
Грудь Марии судорожно приподнялась, словно перед рыданием, но затем тихо опустилась, и мы услышали только вздох. Едва отец вышел, как я встал у изголовья постели и, позабыв о матери и Эмме, молча сидевших рядом, взял с подушки руку Марии и поднес ее к губам, не в силах сдержать слезы. Я измерил всю глубину своего несчастья: так, значит, это та же болезнь, что и у ее матери, которая умерла совсем молодой от неизлечимой эпилепсии. Эта мысль сразила меня.
Я почувствовал, как дрогнула безжизненная рука, которую никак не могло согреть мое дыхание. Мария как будто приходила в себя, губы ее силились прошептать какое-то слово. Она запрокинула голову, словно стараясь освободиться от давящей тяжести. Потом, помолчав, что-то неразборчиво забормотала, и наконец ясно прозвучало мое имя. Я стоял, впившись в нее взглядом. То ли я слишком сильно сжал ее руку, то ли невольно произнес ее имя, но Мария вдруг медленно открыла глаза, как бы ослепленные ярким светом, и стала всматриваться в мое лицо. Потом приподнялась и, отстранив меня, спросила: «Что случилось?», потом, обращаясь к маме: «Что это со мной?» Мы постарались успокоить ее, но она, словно убедившись в своей догадке, сказала странным тоном, которого я тогда не понял: «Вот видишь? Этого я и боялась».
После припадка Мария совершенно обессилела и загрустила. Вечером, когда установленный отцом порядок это позволил, я снова навестил ее. Прощаясь, она удержала мою руку в своей и прошептала: «До завтра», подчеркнув последнее слово, как делала всегда, если продолжение вечерней беседы откладывалось на следующий день.
Глава XV Среди рыдающей природы…
Когда я вышел на галерею, ведущую ко мне в комнату, мощные порывы северного ветра раскачивали растущие в патио ивы; выглянув в сад, я услыхал, как бушует он в купах апельсиновых деревьев, с которых разлетались испуганные птицы. Бледные зарницы, мелькающие словно мгновенные вспышки костра, тщетно пытались осветить мрачную глубь равнины.
Прислонившись к колонне, не чувствуя дождя, хлеставшего меня по лицу, я думал о болезни Марии и страшных словах отца. Я мечтал снова сидеть рядом с ней, как в те ясные, тихие вечера, что, быть может, никогда уже не вернутся!
Не знаю, сколько прошло времени, как вдруг мне почудилось, будто крыло пролетевшей птицы коснулось моего лба. Я окинул взглядом ближние леса, стараясь проследить ее полет: то была черная птица.
В комнате у меня было холодно; розы под окном дрожали, словно в страхе перед яростью бушующего ветра; в вазе увядали поблекшие ирисы, которые утром собрала для меня Мария. И тут резкий порыв ветра внезапно задул лампу, и прокатился долгий нарастающий гром, словно гигантская колесница, сорвавшаяся со скалистых вершин.
Среди рыдающей природы душа моя была охвачена глубокой, тихой печалью.
Часы в гостиной пробили полночь. Я услышал шаги у своей двери и голос окликавшего меня отца.
– Вставай, – сказал он, как только я ему ответил. – Марии опять плохо.
Припадок повторился. Через четверть часа я был готов в путь. Отец давал мне последние наставления, описывая новые симптомы болезни, а негритенок Хуан Анхель старался успокоить моего горячего и пугливого каракового коня. Я вскочил в седло, подковы зацокали по каменным плитам двора, и через минуту конь уже спускался в равнину, отыскивая тропу при свете бледных зарниц. Я помчался за доктором Майном, который проводил свой отдых в трех лигах[12] от нашего имения.
Я вспомнил Марию, какой видел ее днем в постели, ее слова «до завтра» – завтра, которое, быть может, уже не наступит, – и в нетерпении прикидывал, сколько осталось до конца пути; это нетерпение не мог умерить даже бешеный галоп моего коня.
Равнина убегала из-под его копыт, словно огромный ковер, стремительно развернутый дыханием урагана. Чем быстрее мчался я к встречным рощам, тем дальше, казалось, уходили они от меня. Только вой ветра в хмурых смоковницах, хриплое дыхание коня да цокот подков, высекающих искры из камней, нарушали безмолвие ночи.
Несколько хижин хутора Санта-Элена остались справа, потом до меня донесся запоздалый лай собак. То и дело приходилось замедлять скачку из-за спящих посреди дороги коров.
Красивый дом сеньора М., с белой часовней и сейбовыми рощами вокруг, смутно выделялся вдали под призрачным светом проглянувшей луны; время не пощадило старый замок, его башни и кровли.
Амайме вздулась после ночного ливня, грозный рев реки возвестил об этом задолго до того, как я подъехал к берегу. Свет луны, пробиваясь сквозь листву прибрежных деревьев, серебрил волны, и я мог разглядеть, насколько поднялась вода. Однако ждать было некогда: в течение часа я проскакал две лиги, но и этого было мало. Я вонзил шпоры в бока коня; насторожив уши и глухо посапывая, он, казалось, измерял буйную силу вод, бившихся у его ног. Потом ступил было в реку, но, охваченный непобедимым страхом, стремительно отпрянул и взвился на дыбы. Я потрепал его по шее, погладил мокрую гриву и опять вонзил шпоры, понукая броситься в реку; в возбуждении караковый снова встал на дыбы и с силой дернул головой – я отпустил поводья, заподозрив, что не угадал брода. Тогда, проскакав вар[13] двадцать по скалистому склону вдоль берега, конь опустил морду в пенящиеся волны, тут же поднял ее и кинулся в поток. Вода покрыла его почти целиком, достигнув моих колен. Вскоре волны уже захлестывали меня до пояса. Одной рукой я похлопывал лошадь по шее, едва выступавшей из воды, другой пытался направить ее наперерез течению: в противном случае мы могли пропустить отлогий берег и не выбрались бы на кручу – слишком стремительно неслась река, ломая и раскачивая прибрежный бамбук. Опасность миновала. Я спешился и проверил подпруги – одна из них лопнула. Благородный скакун отряхнулся и тут же ринулся дальше.
Проехав с четверть лиги, мы пересекли тихую, прозрачную, чистую Ниму, которая катила свои блестящие воды, теряясь в далекой тьме молчаливых лесов. Слева осталась усадьба Санта-Р. – большой дом под кронами исполинских сейб и пальм в лунную ночь напоминал шатер восточного принца, раскинутый под деревьями оазиса.
Было уже два часа ночи, когда, проехав через поместие П., я спешился у дверей дома, где жил врач.
Глава XVI Ответь теперь, серьезно обдумав каждое свое слово…
К вечеру следующего дня доктор распрощался с нами, оставив Марию почти здоровой; он прописал ей необходимый, для предупреждения припадков режим и обещал навещать ее почаще. Услыхав, что опасность миновала, я испытал невыразимое облегчение, а к Майну проникся еще большей любовью за обещание быстро вылечить Марию. Как только врач и мой отец, пожелавший немного проводить его верхом, отправились в путь, я зашел в комнату Марин. Она переплетала косы, смотрясь в зеркало, которое Эмма держала перед ней на подушке. Мария, зардевшись, отстранила зеркало и сказала:
– Больным незачем прихорашиваться, правда? Хотя я ведь уже здорова. Надеюсь, тебе не придется больше совершать такой опасный путь, как прошлой ночью.
– Да никакой опасности и не было, – возразил я.
– А река, а река?! Чего только не могло случиться с тобой из-за меля.
– Проехать верхом три лиги! И это ты называешь?…
– Да ты же мог утонуть, по словам доктора. Он был так напуган, что все рассказал, не успев еще осмотреть меня. На обратном пути вы оба должны были ждать два часа, пока спадет вода.
– Доктор на. лошади – это была бы просто умора. А его смирного мула и не сравнить с добрым конем.
– Человек, который живет в домике у перевоза, когда узнал утром твоего коня, поразился, как это всадник не утонул ночью, поджав лошадь в воду, хотя он и кричал ему, что брода не найти. Ах, нет, нет! Ни за что теперь не буду болеть. Доктор сказал тебе, что больше это не повторится?
– Да, – ответил я, – и обещал в ближайшие две недели навещать тебя через день.
– Значит, тебе не придется ездить за ним ночью! Что бы я делала, если?…
– Ты бы очень плакала обо мне, правда? – спросил я улыбаясь.
Она пристально посмотрела на меня, и я добавил:
– Так если мне случится умереть, я моту быть уверен?…
– В чем?…
И, прочитав ответ в моем взгляде, она почти прошептала:
– Всегда, всегда! – и сделала вид, будто рассматривает кружева на подушках.
– А мне надо рассказать тебе одну печальную новость, – продолжала она, помолчав, – такую печальную, что я из-за нее заболела. Ты был в горах… Мама все знает про нас, и вдруг я услыхала, как пана говорит ей, что моя мать умерла от какой-то болезни, я только не расслышала названия; что тебя ждет блестящее будущее, а я… ах, я не уверена, правильно ли поняла… но я как будто не заслуживаю, чтобы ты так ко мне относился…
Из ее померкших глаз скатились по бледным щекам слезы, и она торопливо вытерла их.
– Не говори так, Мария, не думай об этом, – сказал я. – Не надо, умоляю тебя.
– Но если я сама слышала, а потом потеряла сознание… Что же это значит?
– Я прошу тебя… я… я запрещаю тебе говорить так!
Она уронила голову на руку, которую я держал в своих руках, но тут я услышал в соседней комнате шелест платья – это пришла Эмма.
Вечером в час ужина мы с сестрами сидели в столовой, дожидаясь родителей, которые, против обыкновения, запаздывали. Наконец послышались их голоса в гостиной, очевидно, они заканчивали какой-то важный разговор, По сжатым губам и легкой морщинке между бровей я уловил на благородном лице отца следы перенесенной им мучительной нравственной борьбы. Мама была бледна ж даже не пыталась скрыть волнение. Садясь за стол, она оказала мне:
– Я забыла передать, что Хосе приходил сегодня утром и приглашал тебя на охоту, но, узнав о нашей беде, пообещал зайти завтра пораньше. Не знаешь, верно ли, что он выдает замуж одну из дочек?
– Он хотел о чем-то посоветоваться с тобой, – рассеянно заметил отец.
– Вероятно, об охоте на медведя, – ответил я.
– На медведя? Как! Ты охотишься на медведей?
– Да. Это очень интересно, я не раз уже охотился на них вместе с Хосе.
– У меня на родине, – возразил отец, – тебя сочли бы дикарем или героем.
– А между тем охота на медведя не так опасна, как охота на оленей, которой занимаются всегда и везде; ведь тут охотник не рискует при малейшей неосторожности сорваться в пропасть среди скал и водопадов, от него требуется только ловкость и неукоснительная точность прицела.
Лицо отца разгладилось, и, оживившись, он стал вспоминать, как охотятся на Ямайке; оказывается, все его родственники были страстными охотниками, и среди них особенно выделялся своим упорством, ловкостью и отвагой Саломон, о котором он рассказал, уже смеясь, несколько историй.
Встав из-за стола, отец подошел ко мне.
– Маме и мне надо поговорить с тобой, – сказал он. – Приходи ко мне в кабинет.
Когда я вошел, отец писал, сидя спиной к матери, а она устроилась подальше от лампы, в любимом своем кресле.
– Садись, – сказал отец, оторвавшись от работы и взглянув на меня поверх очков в тонкой золотой оправе.
Прошло несколько минут, он аккуратно положил на место счетную книгу, в которой делал записи, пододвинул свой стул к моему и тихо заговорил:
– Я хотел, чтобы твоя мать присутствовала при нашем разговоре, речь идет о деле очень важном, и она держится одного мнения со мной.
Он подошел к двери, приоткрыл ее, выбросил недокуренную сигару и продолжал:
– Вот уже три месяца, как ты с нами, а сеньор А., с которым ты должен поехать в Европу, может отправиться в путь только через два месяца. Подобная задержка, в сущности, не имеет значения: и потому, что нам очень приятно видеть тебя дома после шести лет разлуки, за которыми последуют еще пять, и потому, что я с удовольствием вижу, как охотно ты занимаешься науками даже здесь. Не могу, да и не должен скрывать от тебя, что, зная твой характер и. способности, я возлагаю большие надежды на блестящее завершение твоей карьеры. Тебе известно, что вскоре настанет время, когда семья будет нуждаться в твоей поддержке, особенно после того, как придет мой час.
Помолчав, он заговорил снова:
– Должен сказать, что кое-что в твоем поведении мне не нравится. Тебе нет еще и двадцати, а в этом возрасте безрассудная любовь может погубить все надежды, о которых мы с тобой говорили. Ты любишь Марию, и я, естественно, давно это заметил. К Марии я отношусь почти как к дочери и ничего не мог бы возразить, если бы твой возраст и положение позволяли думать о браке; но пока что это невозможно, да и Мария слишком молода. Однако не только эти препятствия смущают меня, есть еще одно, пожалуй, непреодолимое, и мой долг сказать тебе о нем. Мария может принести тебе, а вместе с тобой и нам страшное несчастье. Доктор Майн почти уверен, что она умрет совсем молодой от той же болезни, от которой погибла ее мать: вчера у нее был эпилептический припадок; болезнь, развиваясь с каждым новым приступом, грозит закончиться самой тяжелой формой эпилепсии – так сказал доктор. Ответь теперь, серьезно обдумав каждое свое слово, на один-единственный вопрос; ответь как человек разумный и порядочный, каким я тебя и считаю; пусть твой ответ не будет продиктован экзальтацией, чуждой твоему характеру, ведь речь идет о твоем будущем и будущем твоей семьи. Ты знаешь мнение врача, мнение, заслуживающее доверия, поскольку высказал его Майн; тебе известна судьба жены Саломона; если мы дадим согласие, готов ли ты жениться на Марии?
– Да, сеньор, – ответил я.
– Ты все выдержишь?
– Все, все!
– Надеюсь, я говорю не только с сыном, но с порядочным человеком, каким я старался воспитать тебя.
Мама закрыла лицо платком. Отец, взволнованный ее слезами, а возможно, и моей решимостью, замолчал, боясь, что голос может изменить ему.
– Ну что ж, – продолжал он, – раз ты воодушевлен столь благородным решением, то должен согласиться, что раньше, чем через пять лет, ты не можешь стать супругом Марии. Не мне говорить об этом, но, полюбив еще ребенком, она любит тебя сейчас так сильно, что повыв для нее бурные переживания вызвали, по словам Майна, первое проявление болезни; следовательно, и твоя и ее любовь нуждается в особой осторожности, и я требую, чтобы ты обещает мне на будущее; ради собственного блага и ради блага Марии, раз ты ее так любишь, выполнять советы доктора. Ты ничего не должен обещать Марии, потому что обещание жениться на ней по истечении назначенного срока невольно сделает ваши отношения более близкими, а этого и надо остерегаться. Думаю, для тебя достаточно одного довода? только так ты можешь спасти Марию, можешь уберечь нас от несчастья потерять ее.
В ответ на все, что мы доверили тебе, – продолжал он, оглянувшись на мою мать, – мы ждем от тебя обещания не говорить Марии о грозящей опасности, не рассказывать ей ничего о нашей сегодняшней беседе. Ты должен также знать о моем отношении к твоей женитьбе в том случае, если болезнь Марии не пройдет и после твоего возвращения на родину… ведь вскоре мы расстаемся на несколько лет: как отец, и твой и Марии, я не смогу одобрить, ваш брак. Теперь, высказав это твердое решение, я считаю нужным сообщить тебе, что Саломон за последние? три года своей жизни создал довольно значительное состояние, которое поручил мне дать в приданое его дочери. Если же она умрет до вступления в брак, капитал этот унаследует ее бабка по материнской линии, живущая в Кингстоуне.
Отец медленно прошелся по комнате. Полагая, что разговор окончен, я встал и собрался уходить. Однако он снова сел и, указав мне на стул, произнес следующие слова:
– Несколько дней назад я получил письмо от сеньора де M. Он просит руки Марии для своего сына Карлоса.
Я не мог скрыть своего изумления. Отец слегка улыбнулся и продолжал:
– Сеньор де М. дает мне две недели для ответа на его предложение, а тем временем они приедут к нам с визитом, как было обещано раньше. Для тебя, после того как мы обо всем уговорились, это не должно иметь значения. Спокойной ночи, – сказал он, ласково положив мне руку на плечо, – желаю удачи в охоте; я постелю шкуру убитого тобой медведя на пол у своей кровати.
– Так и сделаем, – ответил я.
Мама протянула мне руку и, удержав мою, сказала:
– Мы будем ждать тебя пораньше. Будь осторожен!
За последние часы на меня обрушилось столько тревог и неожиданностей, что я с трудом мог дать себе отчет в своем странном и трудном положении.
Марии грозит смерть; в награду за мою любовь она обещана мне в жены ценой ужасной разлуки; обещана при условии, что я буду меньше злобить ее; я вынужден умерить свою непобедимую любовь, любовь, завладевшую всем моим существом, а не то могу увидеть, как отлетаем Мария от земной юдоли, подобно красавицам, мимолетно являвшимся мне в сновидениях; возможно, я буду выглядеть в ее глазах неблагодарным и бесчувственным, ведя себя так, как велит разум и необходимость! Же услышу я больше ее робких признаний; мои губы не посмеют коснуться даже кончика ее косы. Я или смерть, выбор между мною и смертью: приблизиться к Марии хоть на шаг – значит потерять ее. Но оставить ее «рыдать в одиночестве – эта мука была выше моих сил.
Малодушное сердце! Ты оказалось неспособно тайно сгореть в этом огне, хотя знало, что, прорвавшись, огонь сожжет ее… Где она теперь, когда ты уже как бы перестало биться? Теперь, когда дни и годы проплывают надо мной, а я не чувствую собственного сердца?
На рассвете Хуан Анхель, выполняя мой приказ, постучал в дверь.
– Какая погода? – спросил я.
– Плохая, хозяин. Дождь собирается.
– Ладно. Сходи в горы, предупреди Хосе, чтобы не ждал меня сегодня.
Я распахнул окно и пожалел, что отправил негритенка, а тот, насвистывая и напевая песенки, уже подходил к ближней роще.
Со стороны тор дул холодный, порывистый ветер, под его мощным дыханием дрожали розовые кусты, колыхались ивы и сбивались с полета изредка проносившиеся мимо попугаи. Все птицы – краса садов в ясные рассветы – молчали, только стайки куликов кружили над лугами, пеньем приветствуя хмурый зимний день.
Вскоре горные вершины окрылись за серой завесой сплошного дождя, который, приближаясь с нарастающим шумом, уже хлестал по лесам. Через полчаса мутные «бурлящие потоки, прочесывая жнивье,»спускались по склонам противоположного берега, а вздувшаяся река с гневным ревом несла вдаль желтые вздымающиеся волны.
Глава XVII Твое поведение – жестокость по отношению к нам…
Прошло десять дней после нашего тягостного разговора. Чувствуя, что не в силах выполнить желание отца, и вести себя с Марией более отчужденно, встревоженный предложением Карлоса, я искал любого предлога, только бы не сидеть дома. Все эти дни я или запирался у себя в комнате, или проводил время на ферме у Хосе, а чаще всего бродил пешком по всей округе. В спутники себе я брал книгу, которую и не пытался читать, ружье, из которого никогда не стрелял, и Майо, который следовал за мной, пыхтя от усталости.
Гонимый глубокой печалью, я часами скитался по самым диким местам, а бедный пес безуспешно пытался поспать, свернувшись клубком на палой листве, – его сразу же прогоняли муравьи, оводы и москиты. Когда старому другу, несмотря на все его немощи, надоедало безделие и молчание, он садился рядом и, положив голову ко мне на колено, смотрел на меня преданными глазами, потом отбегал подальше и в ожидании останавливался на идущей к дому тропинке; если же ему удавалось увлечь меня за собой, то в своем усердии он забывался до того, что начинал прыгать от радости, и эти щенячьи восторги, принимая во внимание обычную его сдержанность и старческую важность, выглядели не очень-то достойно.
Однажды утром, когда я еще лежал в постели, мама вошла ко мне в комнату и, присев у изголовья, сказала:
– Это невозможно: больше так жить нельзя, я не согласна.
Я хранил молчание, и она заговорила снова:
– Ты делаешь не то, чего требовал от тебя отец, а гораздо больше. Твое поведение – жестокость по отношению к нам и еще большая жестокость по отношению к Марии. Она была уверена, что все твои прогулки ведут в дом Луисы, где тебя так любят; но вчера вечером приходил Браулио и сказал, что они тебя уже пять дней не видели. Чем же вызвана такая глубокая печаль? Неужели ты не можешь победить ее хотя бы на недолгие дни жизни в кругу семьи? Почему ты все время стремишься к одиночеству, как будто тебе наскучило быть с нами?
Глаза ее были полны слез.
– Мария должна решать совершенно свободно, – отвечал я, – принять или отвергнуть судьбу, которую предлагает ей Карлос. А я как друг не должен лишать его вполне обоснованных надежд на согласие.
Так я невольно выдал невыносимую муку, которая терзала меня с того памятного вечера, когда я узнал о предложении сеньора де M. Ничто не пугало меня так, как это предложение: ни мрачные предсказания доктора о болезни Марии, ни неизбежная разлука на несколько лет.
– Да как ты мог вообразить такое? – в изумлении спросила мама. – Она и видела твоего друга едва ли два раза. Да, именно так, один раз он был у нас несколько часов, а другой – мы ездили в гости к ним.
– Но, мама, много ли времени осталось, чтобы подтвердить или опровергнуть мои предположения? Мне кажется, лучше подождать.
– Ты неправ и раскаешься в этом. Мария лучше владеет собой, чем ты; из гордости и чувства долга она скрывает, как измучена твоим поведением. Я не верю своим ушам, твои слова меня поражают. А я-то хотела обрадовать тебя, передав, что сказал нам вчера на прощание доктор Майн!
– Расскажите, мама, расскажите, – взмолился я, вскочив с постели.
– К чему же теперь?
– Она не останется… не останется для меня навсегда только сестрой?
– Поздно же ты подумал об этом. Может ли мужчина, если он порядочный человек, поступать так, как ты? Нет, нет… мой сын так поступать не должен… Твоя сестра! И это ты говоришь тому, кто знает тебя лучше, чем ты сам! Твоя сестра! Да она любила тебя, еще когда я обоих вас укачивала на коленях! И ты только сейчас это понял? Сейчас, когда я пришла поговорить с тобой, испугавшись страданий, которые бедняжка тщетно старается скрыть от меня.
– Я не хочу навлекать на себя ваше осуждение. Скажите, что мне делать, как исправить все, чем вы недовольны?
– А вот как. Хочешь ли ты, чтобы я любила Марию не меньше, чем тебя?
– Да, сеньора. И ведь так оно и есть, не правда ли?
– Так было бы, даже если бы я не помнила, что у нее нет другой матери, кроме меня, не помнила заветов Саломона, который счел меня достойной своего доверия, Мария заслуживает моей любви и любит тебя. Доктор уверен, что у Марии не та болезнь, которой страдала Сара.
– Он так сказал?
– Да, и твой отец, успокоившись, сам пожелал, чтобы я тебе об этом сообщила.
– Значит, я снова могу относиться к ней так же, как раньше? – спросил я, не помня себя.
– Почти…
– О, она простит меня! Правда? И доктор сказал – никакой опасности нет? Необходимо, чтобы и Карлос знал об этом.
Мама, прежде чем ответить, посмотрела на меня с удивлением.
– Зачем же это скрывать? Мне остается еще сказать, что ты, по-моему, должен сделать до визита сеньоров де М., они собираются к нам завтра. Скажи сегодня Марии… Впрочем, как можешь ты объяснить ей свое отчуждение, не нарушая приказа отца? И даже если бы ты мог рассказать о его требовании, тебе не удалось бы оправдаться, ведь все глупости, которые ты натворил за последние дни, вызваны другой причиной, а о ней тебе не позволит заговорить гордость и чувство такта. Вот к чему все ото привело: придется мне объявить Марии истинные причины твоей печали.
– Но если вы это сделаете, если она узнает, как легко я поддался собственному воображению, что подумает она обо мне?
– Что бы ни подумала, еще хуже 'будет, если она сочтет тебя ветреником.
– Пожалуй, вы правы, но, умоляю, не рассказывайте ничего Марии о пашем разговоре. Я совершил ошибку, oт которой страдал, может быть, еще больше, чем она, и саза должен исправить ее; обещаю вам, что исправлю. Дайте мне еще два дня, и я все сделаю.
– Хорошо, – сказала мама и поднялась, собираясь уходить. – Ты куда-нибудь едешь сегодня?
– Да, мама.
– Куда же?
– Хочу отдать визит Эмигдио. Это никак нельзя откладывать, я вчера передал с управляющим его отца, чтобы он ждал меня сегодня к завтраку.
– Но вернешься не поздно?
– В четыре или в пять.
– Обедать будешь дома?
– Да, конечно. Теперь вы довольны мною?
– Еще бы, – улыбаясь, ответила мама. – Итак, до обеда. Передай сеньорам самые нежные приветы от меня и девочек.
Глава XVIII Взгляни-ка в зеркало…
Я уже был готов к отъезду, когда в комнату ко мне вошла Эмма. Увидев мое веселое лицо, она удивилась.
– Куда это ты собираешься с такой радостью? – спросила она.
– Хорошо бы никуда не ездить! Но надо повидаться с Эмигдио, а то он на все лады корит меня за непостоянство, едва мы где-нибудь встретимся.
– Какая несправедливость! – со смехом воскликнула Эмма. – Это ты-то непостоянный!
– А над чем ты смеешься?…
– Над несправедливостью твоего друга. Бедняжка ты!
– Нет, нет. Ты смеешься над чем-то другим.
– Именно над этим, – отвечала она и, взяв на умывальнике гребень, подошла ко мне. – Давай-ка, я причешу тебя, ибо да будет вам известно, сеньор «Постоянство», у вашего друга прехорошенькая сестра. Жаль, – продолжала она, поправляя мне прическу своими изящными ручками, – что сеньорито Эфраин несколько побледнел за последние дни, барышни из Буги не представляют себе мужской красоты без румянца на щеках. Но если бы сестра Эмигдио знала…
– Ты что-то уж очень разговорчива сегодня.
– Разве? А ты что-то уж очень весел. Взгляни-ка в зеркало, хорошо я тебя причесала?
– Кому только нужны эти визиты! – воскликнул я, услыхав голос Марии, которая звала мою сестру.
– И в самом деле. Насколько приятнее было бы карабкаться по скалам на берегах Амайме, наслаждаться величественным безлюдием пампы или бродить в лесах, словно раненый зверь, пугая москитов и не заботясь о том, что Майо искусают слепни… Бедняжка! Сегодня тебе это не удастся…
– Тебя зовет Мария, – прервал я ее.
– Я знаю зачем.
– Зачем?
– Чтобы я помогла ей сделать то, чего делать не следует.
– Разреши узнать, что именно?
– С удовольствием: она ждет меня, чтобы вместе собрать цветы на смену этим, – ответила Эмма, указав на мою вазу. – А я бы на ее месте не поставила сюда больше пи единого цветочка!
– Если бы ты знала…
– А если бы знал ты…
Отец, позвав меня из кабинета, прервал нашу беседу. Доведи мы ее до конца, я, пожалуй, отказался бы от решения, принятого после утренней встречи с мамой.
Когда я вошел в кабинет, отец разглядывал у окна механизм карманных часов.
– Замечательные часы, – сказал он. – Без сомнения, стоят тридцати фунтов.
Обернувшись ко мне, он добавил:
– Эти часы я выписал из Лондона, взгляни-ка.
– Они гораздо лучше ваших старых, – сказал я, рассмотрев часы.
– Но мои очень точны, а у тебя – слишком маленькие. Подари свои кому-нибудь из девочек и возьми себе эти.
Не дав мне времени поблагодарить его, отец продолжал:
– Ты собираешься к Эмигдио? Скажи его отцу, что может готовить пастбища, будем вести откорм скота сообща; но стадо должно быть в порядке к пятнадцатому числу следующего месяца.
Я вернулся к себе в комнату за пистолетами. Мария, стоя в саду под моим окном, подавала Эмме букет из ирисов, майорана и гвоздик; самую красивую и пышную гвоздику она держала за стебелек в зубах.
– Здравствуй, Мария, – сказал я, поспешив взять У нее цветы.
Она чуть побледнела, сдержанно ответила на мое приветствие и выронила из губ гвоздику. Подавая мне букет, она уронила несколько цветков на землю, нагнулась за ними, а когда поднялась, на щеках ее снова играл румянец.
– Хочешь, – сказал я, принимая цветы, – я отдам тебе весь букет за ту гвоздику, которую ты держала в зубах?
– Я ее растоптала, – ответила Мария, ища глазами цветок на земле.
– Даже за растоптанную я отдам тебе все эти.
Она стояла опустив глаза и не отвечала.
– Можно, я подниму ее?
Тогда она нагнулась и, не глядя, протянула мне гвоздику.
Эмма, делая вид, что ничего не замечает, ставила букет в вазу.
Я сжал руку Марии, протянувшую мне цветок, и сказал:
– Спасибо, спасибо. До вечера.
Она подняла глаза и посмотрела на меня: в этом полном неизъяснимого очарования взгляде соединились нежность, смущение, доверие и слезы.
Глава XIX В густой листве деревьев болтали вполголоса гуакамайи…
Проделав лигу с лишним пути, я приехал на место и вступил в борьбу с тяжелыми воротами, которые открывали доступ к загонам отца Эмигдио. Когда я наконец преодолел сопротивление ржавых петель и осей, а главное, огромного подвешенного к поперечной балке камня, который держал на запоре это необыкновенное сооружение и был сущей мукой для посетителей, то лишь чудом не увяз в грязном болоте, весьма древнего происхождения, судя по мутному цвету застоявшейся воды.
Я проехал через небольшой луг, где сорняков и колючек было больше, чем хорошей травы. Несколько жалких кляч с облезлыми хвостами и гривой обгладывали кусты, кругом резвились жеребята, кое-где стояли погруженные в раздумье старые ослы, настолько замученные и изувеченные непосильными грузами и жестокостью погонщиков, что сам Бюффон[14] заколебался бы, к какому виду их отнести.
Окруженный кокосовыми пальмами и манговыми деревьями просторный старинный дом с покатой серой крышей возвышался над густыми зарослями какао.
Однако еще не все преграды на пути к нему были преодолены: я тут же натолкнулся на замыкающую корраль ограду – пришлось сбрасывать с ветхих столбов слеги из толстенного бамбука. На помощь мне пришли слуги – негр и негритянка; на нем были только штаны, атлетическая спина блестела от пота; на ней – широкая голубая юбка, а вместо блузки – прикрывающий грудь платок, завязанный сзади на шее и стянутый по талии кожаным поясом. На голове у обоих были плетеные тростниковые шляпы, которые даже после недолгого употребления теряют форму и приобретают цвет старой соломенной крыши.
Веселая негритянская пара собиралась вступить в бой с двумя жеребцами, которым пришла очередь работать на молотилке; я догадался об этом, заметив в руках не только у негра, но и у его подруги ременные лассо. Крики и топот раздались, едва я спешился под навесом возле дома, не обращая внимания на грозное рычание негостеприимных псов, растянувшихся под скамьями на галерее.
При виде грубых седел и растрепанных плетеных потников, развешанных на перилах, я сразу понял, что все планы перемен, задуманные Эмигдио под моим влиянием в Боготе, рухнули, столкнувшись с тем, что называл он старческим слабоумием своего отца. Зато, несомненно, процветало выращивание мелкого скота: по всему патио, распространяя зловоние, бродили разномастные козы. Нововведения я заметил также на птичьем дворе: множество павлинов резким криком приветствовали мое появление; среди местных болотных уток, плавающих в соседней луже, выделялись своим важным видом несколько так называемых английских.
Эмигдио был славный малый. За год до моего возвращения в Кауку отец отправил его в Боготу, чтобы он, как говорил добрый сеньор, начал приучаться к коммерческой деятельности и немного пообтесался. Карлос в то время жил вместе со мной и всегда был осведомлен обо всем, даже о том, о чем ему знать не следовало; он столкнулся неведомо где с Эмигдио и как-то воскресным утром притащил его ко мне, предварив это неожиданное появление следующими словами:
– Дружище! Сейчас ты умрешь от наслаждения: прекрасней ты ничего не видел?
Я поспешил обнять Эмигдио: он стоял в дверях, являя собой невообразимо потешное зрелище. Описать это просто немыслимо.
На моем друге была фетровая шляпа нежно-кофейного цвета, по праздникам украшавшая дона Игнасио, его отца, еще в дни молодости. То ли шляпа была Эмигдио тесна, то ли он считал это элегантным, но сзади поля ее находились под прямым углом к его длинной загорелой шее. Невероятная худоба; жидкие подстриженные бачки в сочетании с буйной запущенной шевелюрой; желтое лицо, все в струпьях от солнечных ожогов; воротничок рубашки, безнадежно потонувший между оттопыренными лацканами белого жилета; руки, стянутые узкими рукавами синего камзола; шерстяные панталоны с широкими сафьяновыми штрипками и начищенные ботинки оленьей кожи – всего этого было более чем достаточно, чтобы вызвать восторг Карлоса.
В одной руке у Эмигдио была пара огромных шпор, в другой – внушительных размеров посылка для меня. Я поспешил освободить беднягу от этого груза, бросив между делом свирепый взгляд на Карлоса, который, кусая подушку и заливаясь слезами от хохота, катался по своей кровати, – ведь мне и самому немалых усилий стоило удержаться от смеха.
Поздоровавшись, я пригласил Эмигдио отдохнуть в маленькой гостиной; он уселся на пружинный диван и, почувствовав, что погружается в бездну, в ужасе стал хвататься руками за воздух, но, не найдя опоры, кое-как выкарабкался сам и, уже стоя, произнес:
– Что за дьявольщина! Этот Карлос никогда не образумится. Подумай только! Всю дорогу хохотал и потешался надо мной. А теперь и ты?… Все вы тут просто черти какие-то! Знал бы ты, что со мной сегодня проделали…
Карлос, воспользовавшись предлогом, вышел из спальни, чтобы послушать, и теперь мы оба могли веселиться вволю.
– Полно, Эмигдио! – сказал я нашему гостю. – Садись в кресло, тут нет никаких ловушек. И научись не обращать внимания на шутки.
– Шутки-утки,[15] – откликнулся Эмигдио и присел с опаской, будто ожидая нового подвоха.
– Что же с тобой проделали? – давясь от смеха спросил Карлос.
– А ты не видел? Лучше уж не рассказывать.
– Но почему? – безжалостно настаивал Карлос, положив ему руку на плечо. – Расскажи.
Эмигдио уже совсем разобиделся, и нам стоило немалого труда успокоить его. Один-другой бокал вина и несколько сигар скрепили наше перемирие. По поводу вина земляк заметил, что апельсиновая настойка, которую готовят в Буге, гораздо лучше, не говоря уж о зеленой анисовой из харчевни в Папоррине. Наши отличные сигары показались ему куда хуже его собственных, скрученных из сухих платановых листьев и приправленных для запаха мелко нарезанными листьями смоковницы и апельсинового дерева.
Через два дня наш Телемак[16] был уже прилично одет и вполне отшлифован при помощи маэстро Иларио; и хотя модное платье было ему неудобно, а новые башмаки так тесны, что искры из глаз сыпались, он, подстрекаемый и тщеславием и Карлосом, вынужден был подчиниться тому, что называл настоящей пыткой.
Поселившись в одном пансионе с нами, он немало веселил пас во время послеобеденных бесед, рассказывая нашим хозяйкам о своих дорожных приключениях или излагая свои соображения по поводу поразивших его городских достопримечательностей. Вне дома дело обстояло хуже, поскольку мы вынуждены были предоставить друга собственной участи, а вернее, насмешливой наглости скорняков и торговцев вразнос, которые, едва завидев Эмигдио, осаждали его со всех сторон, наперебой предлагая седла, сбрую, кожаные штаны для верховой езды, уздечки и всяческую заваль.
К счастью, Эмигдио уже закончил все свои дела и покупки, когда выяснилось, что дочь хозяйки дома, бойкая и легкомысленная хохотушка, влюблена в него по уши.
Карлос, не задумываясь, убедил нашего друга, что до сих пор Микаэлина сурово отвергала ухаживания всех постояльцев. Но дьявол, который никогда не дремлет, подстроил так, что Эмигдио однажды вечером застал в столовой коварного насмешника вместе со своей возлюбленной за любезной беседой; оба думали, что бедняга давно спит: пробило десять, а в это время он обычно видел уже десятый сон; привычка рано ложиться была понятна, ведь вставал он с рассветом, хотя бы его и трясло от холода.
После того как Эмигдио увидел и услышал то, что лучше бы ему для собственного и нашего покоя не видеть и не слышать, он решил поскорее отправиться в обратный путь.
На меня ему жаловаться было нечего, и в ночь накануне отъезда он разговорился со мной и отвел душу.
– В Боготе нет настоящих сеньор, – сказал он. – Все эти девицы просто… завзятые кокетки. И зачем только ей это было нужно? Я даже не попрощаюсь с ней. Что говорить! Лучше наших девушек нет никого. А здесь одни козни да подвохи. Посмотри только на Карлоса: строит из себя невесть что, ложится в одиннадцать ночи и стал еще большим задавакой. Не имей с ним дела. Я уж все расскажу дону Чомо, пусть всыплет ему как следует. А ты молодец, только о своих занятиях и думаешь.
Наконец Эмигдио уехал, и развлечению Карлоса и Микаэлины пришел конец.
Таков был, в сущности, честнейший и добродушный парень, к которому я приехал в гости.
Я ожидал, что он появится из дома, но, услыхав его голос у себя за спиной, обернулся и увидел, как он перепрыгнул через ограду патио.
– Наконец-то, обманщик! А я уж думал, что так и буду ждать зря. Садись, я сейчас.
И он принялся отмывать в дворовой луже перепачканные кровью руки.
– Ты что делал? – спросил я, когда мы поздоровались.
– Сегодня день забоя, а отец с рассветом уехал на пастбище, вот я и управлялся один, только негры помоги, ли: горе, а не работа. Но сейчас я уже свободен. Мать очень хочет тебя видеть; пойду скажу, что ты приехал. Не знаю, выйдут ли девочки, они стали совсем дикарки.
– Чото! – крикнул он, и вскоре появился полуголый негритенок с курчавыми волосами и высохшей, изуродованной шрамами рукой.
– Напои этого коня и почисть моего гнедого.
Эмигдио внимательно осмотрел мою лошадь и, обернувшись ко мне, воскликнул:
– Хорош караковый!
– Где это так изувечил руку парнишка? – спросил я.
– Закладывал тростник в мельницу: такой уж парень! Только и годится за лошадьми смотреть.
Вскоре стали накрывать стол к завтраку, а я тем временем беседовал с доньей Андреа, матерью Эмигдио, которой все те четверть часа, что мы оставались вдвоем, видимо, не терпелось поскорее сбросить с плеч стеснявшую ее с непривычки скромную шаль без бахромы.
Эмигдио надел к столу белую куртку; прежде чем мы сели, принаряженная негритянка подала нам расписной таз с водой для мытья рук; через плечо у нее висело искусно расшитое полотенце.
Столовой служила комната, в которой только и стояли что две старые кожаные кушетки и два столика с фруктовыми вазами и гипсовыми статуэтками; высоко на грязноватых стенах висели деревянные изображения святых.
Говоря по правде, завтрак изысканностью не отличался, но мать и сестры Эмигдио знали толк в стряпне. Черепаховый суп, приправленный свежей зеленью; жареные бананы, мелко нарезанное мясо и крендельки из маисовой муки; превосходный местный шоколад; твердый сыр, булочки, вода в больших старинных серебряных кувшинах – все было замечательно вкусно.
Во время завтрака я заметил девушку, подглядывающую в щелку приоткрытой двери; миловидная мордашка с большими живыми черными, словно кофейные зерна, глазами позволяла предположить, что все скрытое от моего взгляда было не хуже того, что я видел.
В одиннадцать я распрощался с сеньорой Андреа; мы решили съездить к дону Игнасио на пастбище, где клеймили скот, а заодно искупаться в Амайме.
Эмигдио снял свою куртку и сменил ее на холщовое пончо, вместо кожаных ботинок надел старые альпаргаты,[17] застегнул крючки белых штанов из козьей кожи, нахлобучил большое сомбреро с белым перкалевым покрывалом и вскочил на гнедого, из предосторожности завязав ему глаза платком. Жеребец весь сжался и спрятал хвост между задними ногами.
– Эй! Хватит беситься! – крикнул Эмигдио и два раза хлестнул его, щелкая зажатой в руке плеткой. Лошадь несколько раз взвилась на дыбы, но всадник и не шелохнулся в седле; я тоже вскочил на коня, и мы пустились в путь.
Пастбище находилось примерно в полулиге от дома. Воспользовавшись первой же ровной лужайкой, Эмигдио остановил коня и завел со мной длинный разговор. Он сразу выложил все, что знал о матримониальных намерениях Карлоса, с которым возобновил дружбу, когда они встретились в Кауке.
– А ты что на это скажешь? – спросил он под конец.
Я уклонился от прямого ответа, и он продолжал:
– Что говорить, Карлос – парень работящий. Когда он поймет, что не станет настоящим скотоводом, пока не выбросит свои перчатки и зонтик, все у него наладится. Теперь он еще смеется над тем, что я сам забрасываю лассо, ставлю плетни и управляюсь с мулами. Но скоро и ему придется делать то же самое, или хозяйство пойдет прахом. Ты его не видел?
– Нет.
– Ну, еще увидишь. Поверишь ли, он не купается, пока солнце стоит высоко, и не ездит верхом, если ему не оседлают коня. Боится загореть или ручки испачкать. А вообще-то он славный малый, что говорить; на той неделе он меня здорово выручил, одолжил двести монет на покупку молодых бычков. Правда, он знает, что за мной не пропадет, но важно оказать услугу вовремя. А что до его женитьбы… я тебе кое-что скажу, если ты обещаешь не кипятиться.
– Говори, дружище, говори все, что хочешь.
– У вас в доме все, как положено по правилам хорошего тона, и сдается мне, что девушку, воспитанную в роскоши, будто она фея из сказки, надо на руках носить…
Он рассмеялся и продолжал:
– Я так говорю, потому что дон Херонимо, отец Карлоса, толстокожий грубиян и злющий, как индейский перец. Мой отец видеть его не может, с тех пор как тот втравил нас в тяжбу из-за границ или еще чего-то. Если отец ненароком встретит дона Херонимо, нам приходится ставить ему припарки на ночь, поить валериановым корнем и растирать спиртом, настоянным на коре маламбо.[18]
Мы приехали на пастбище. Посреди корраля, сквозь пыль, поднятую бычьим стадом, я разглядел в тени большого вяза дона Игнасио. Увидев меня, он подъехал поздороваться. Под ним была светло-рыжая хилая кляча; залоснившееся, все в трещинах английское седло, видно, немало послужило своему хозяину. Невзрачная особа богатого скотопромышленника была облачена не слишком пышно: потертые кожаные штаны в заплатах; серебряные шпоры с позвякивающими колесиками; грубая, мятая куртка и белое парусиновое пончо; голова была увенчана огромной соломенной шляпой, из тех, что тянут всадника назад, когда он пускает коня галопом; под ее сенью внушительный нос и голубые глазки дона Игнасио напоминали длинный, клюв и бусинки вместо глаз у чучела тукана.
Я сказал дону Игнасио все, что поручил мне передать отец насчет совместного откорма стада.
– Отлично, – отвечал он. – Как видите, молодняк – лучше некуда, уже настоящие быки. Не хотите ли заехать, поразвлечься немного?
Эмигдио тем временем следил глазами за работой пастухов в коррале.
– Эй, Рябой! – крикнул он. – Осторожней, не отпускай веревку!.. За хвост!! За хвост!!
Извинившись, я поблагодарил дона Игнасио за приглашение. Он не обиделся:
– Ничего, ничего, столичные жители боятся солнца и свирепых быков. Вот так и пропадают парни в тамошних школах. Этот красавчик, сын дона Чомо, не даст соврать: встретил я его в семь утра – весь обмотан платком, только один глаз выглядывает. И с зонтиком!.. Вы-то, по крайней мере, не пользуетесь этой дрянью.
В это время раздался крик пастуха; зажав в кулаке рукоять раскаленного клейма, он прикладывал его к лопатке связанного и поваленного на землю бычка и кричал: «Следующий… следующий…» После каждого такого крика слышался рев животного, а дон Игнасио делал еще одну зарубку перочинным ножом на веточке вяза, заменявшей ему хлыст.
Зная, что освобожденные после клеймения быки способны на какую-нибудь опасную выходку, дон Игнасио распрощался со мной и отправился в соседний корраль на помощь к пастухам.
На реке Эмигдио выбрал самое подходящее место, чтобы насладиться всей прелестью летнего купания в водах Амайме в жаркий полуденный час. Цветущие гуабо, над которыми кружили бесчисленные колибри, приютили нас в густой тени, и мы расстелили пончо на мягкой опавшей листве. В глубине прозрачной заводи, где были видны даже самые крохотные камешки, весело резвились серебристые сардины. Стоя на выступающих из воды камнях, голубые и белые цапли охотились за рыбой или чистили клювом перья. На противоположном берегу лежали, жуя жвачку, породистые коровы. В густой листве деревьев болтали вполголоса гуакамайи, а повыше, растянувшись на ветвях, лениво дремала стайка обезьян. Со всех сторон раздавалось однообразное пение цикад. То и дело из тростниковых зарослей выглядывала любопытная белка и тут же поспешно пряталась. Из глубины сельвы по временам доносилось печальное квохтанье куропаток.
– Повесь-ка свои кожаные штаны подальше, – сказал я Эмигдио, – а не то разболится у нас голова после купания.
Он расхохотался, увидев, как я забросил их на ветку дальнего дерева.
– А ты хочешь, чтобы все пахло розами? От мужчины должно пахнуть козлом.
– Вот именно. То-то твои штаны из козьей кожи сохранили весь ее аромат.
Во время купания, то ли потому, что тишина лесов и красота реки располагали к откровенности, то ли потому, что сам я подал к тому повод, друг мой признался, что хотя некоторое время хранил, как святыню, воспоминание о Микаэлине, теперь он безумно влюблен в одну очень красивую мулатку, но всячески скрывает эту слабость от дона Игнасио – тот сразу на дыбы встанет: ведь девушка из простых, не сеньора. В конце концов Эмигдио высказался начистоту:
– Какой мне смысл жениться на сеньоре, а потом ухаживать за ней, вместо того чтобы она ухаживала за мной! И хоть я и кабальеро, но какого черта стану я делать с такой женщиной? Зато если бы ты только знал Сойлу… Дружище, я не преувеличиваю! Ты бы ей стихи сочинял… Да что стихи! У тебя бы просто слюнки потекли: у нее также глаза, что слепой прозрел бы; а звонкий смех, а дивные ножки, а талия…
– Погоди, погоди, – прервал я его, – значит, ты так безумно влюблен, что хоть в петлю, если не женишься на ней?
– Женюсь во что бы то ни стало!
– На женщине из народа? Без согласия отца?… Впрочем, ты человек взрослый и должен сам понимать, что делаешь. А Карлос знает об этом?
– Еще чего не хватало! Избави бог! Не то в Буге об этом узнал бы каждый встречный и поперечный. Счастье, что Сойла живет в Сан-Педро и давно уже не бывает в Буте.
– Но мне-то покажи ее обязательно.
– Тебе другое дело, приведу, как только захочешь.
В три часа я распрощался с Эмигдио, принеся тысячу извинений, что не могу с ним пообедать, и в четыре уже подъезжал к дому,
Глава XX …Такая нежность была в ее улыбке…
Мать и Эмма встретили меня на галерее. Отец с утра уехал верхом проверить, как идут работы в поле.
Вскоре меня позвали в столовую, и я заторопился в надежде увидеть там Марию, но напрасно. Когда я спросил о ней, мама ответила:
– Завтра ведь у нас гости, и девочки стараются приготовить сласти повкуснее. Думаю, они уж все кончили и скоро придут.
Я собрался уже встать из-за стола, когда заметил Хосе, который поднимался из долины в гору, погоняя двух мулов, нагруженных связками бамбуковых стволов. Он остановился на пригорке, откуда видно было все, что делалось в доме, и крикнул мне:
– Добрый день! Не могу задерживаться, мул норовистый, а скоро вечер. Я передал вам все через сеньорит. Завтра вставайте с рассветом, дело верное.
– Ладно, – ответил я. – Приду пораньше. Привет всем.
– Не забудьте про картечь!
И, помахав шляпой, он снова погнал мулов в гору.
Я отправился к себе привести в порядок ружье. В чистке оно не нуждалось, но я воспользовался предлогом, чтобы уйти из столовой, где Мария так и не появилась.
Я держал в руке открытый ящичек с пистонами, когда увидел на галерее Марию. Она несла мне кофе и, не зная, что я смотрю на нее, пробовала его из ложечки.
Едва я ее заметил, как все мои пистоны рассыпались по полу.
Не решаясь взглянуть на меня, она поздоровалась, поставила дрожащей рукой подносик с чашкой на перила галереи, а потом, робко подняв глаза, перехватила мой взгляд, от которого сразу залилась румянцем. Опустившись на колени, она стала собирать рассыпанные пистоны.
– Не надо, – сказал я. – Я сам потом соберу.
– У меня хорошее зрение, я любую мелочь могу найти, – возразила она. – Дай-ка сюда коробочку.
Она протянула руку и, заглянув в коробку, воскликнула:
– О, да они все просыпались!
– Она и была неполная, – уверял я, помогая ей собрать остатки.
– Завтра тебе понадобятся именно эти, – сказала она, сдувая пыль с пистонов, лежавших на ее розовой ладошке.
– Почему завтра и почему эти?
– Потому что завтра опасная охота и неточный выстрел может принести беду. А по коробочке я вижу – это те самые, что подарил тебе доктор, он еще сказал, они английские и очень хорошие…
– Все-то ты слышишь…
– Кое-что я и рада бы не слышать. Может, лучше не ходить па эту охоту… Хосе передал тебе приглашение через нас.
– Ты хочешь, чтобы я не ходил?
– Как я могу просить об этом?
– А почему бы нет?
Мария посмотрела на меня и не ответила.
– Кажется, все, – сказала она, поднимаясь и оглядывая пол. – Я ухожу. Кофе, наверно, остыл.
– Попробуй.
– Только не заряжай сегодня ружье… Нет, горячий, – добавила она, потрогав чашку.
– Ладно, не буду сейчас заниматься ружьем. А ты не уходи.
Я зашел в комнату и снова вернулся на галерею.
– У меня очень много дел по хозяйству.
– Ах, да! – отвечал я. – Надо готовить угощение и наряды на завтра. Значит, ты уходишь?
Она пожала плечами и чуть склонила голову, словно говоря: «Как хочешь».
– Я должен объясниться с тобой, – сказал я, подойдя к ней. – Хочешь выслушать меня?
– Я ведь говорила, что не все хотела бы слышать… – ответила она, потряхивая коробочкой и прислушиваясь, как стучат в ней пистоны.
– Думаю, что меня…
– Это верно, верно то, что ты хочешь сказать, то, что ты думаешь.
– Что?
– Что я должна тебя выслушать. Только не сейчас.
– Как дурно ты обо мне думала последнее время!
Она, не отвечая, разбирала надпись на коробочке.
– Я ничего не буду говорить. Но скажи, что ты себе вообразила?
– Зачем?
– Значит, ты даже не позволяешь мне оправдаться?
– Я хотела бы знать, почему ты так вел себя, но мне страшно услышать это потому, что я не давала тебе никакого повода, и все время мне казалось, ты что-то скрываешь от меня… Но раз теперь ты доволен… то и я довольна.
– Я не заслужил твоей доброты.
– Может быть, я не заслужила…
– Я был несправедлив к тебе, и если ты позволишь, готов на коленях просить у тебя прощения.
Глаза ее, еще недавно затуманенные печалью, радостно вспыхнули.
– Ах, нет! – воскликнула она. – Ради бога! Я все уже забыла… слышишь? Все, все забыла! Но только с одним условием, – добавила она, помолчав.
– С каким хочешь.
– Если я скажу или сделаю что-нибудь такое, что тебе не понравится, ты тут же скажешь мне, и больше я не буду так делать и говорить. Не трудное условие?
– А я не должен просить тебя о том же?
– Нет, я не могу тебе советовать. Я не уверена, что думаю всегда правильно; к тому же ты узнаешь, о чем я хочу сказать, еще раньше, чем я произнесу хоть слово.
– Так, значит, ты понимаешь, ты веришь, что я люблю тебя всей душой? – спросил я тихо и нежно.
– Да, да, – прошептала она и, почти коснувшись рукой моих губ, знаком приказала мне молчать.
– Что ты собираешься делать? – спросил я, видя, что она направляется в гостиную.
– Слышишь? Хуан зовет и плачет, а меня нет.
Она остановилась на минуту в нерешительности, и такая нежность была в ее улыбке, такое любовное томление во взгляде, что, даже когда она убежала, образ ее долго еще стоял перед моим восхищенным взглядом.
Глава XXI … Я заснул, убаюканный журчанием реки…
На следующий день я отправился в горы в сопровождении Хуана Анхеля, он нес подарки, посланные мамой Луисе и девочкам. Следом за нами бежал Майо: верный пес был готов ко всем испытаниям, хотя претерпел немало неприятностей в наших походах, уже непосильных для его возраста.
Миновав мост через реку, мы увидели Хосе и его племянника Браулио, они вышли ко мне навстречу, Хосе рассказал о предстоящей охоте, он собирался прикончить знаменитого в округе ягуара, который унес у него нескольких ягнят. Старый горец выследил зверя и открыл одно из его логовищ у истоков реки, примерно в полулиге от усадьбы.
Хуана Анхеля даже пот прошиб, когда он услыхал все эти подробности. Поставив кошелку на палую листву, он смотрел на нас с ужасом, словно мы собирались убить человека.
Хосе продолжал объяснять план нападения:
– Готов прозакладывать собственные уши, что он от нас не уйдет. Поглядим, правда ли сосед Лукас такой храбрец, как сам хвалится. За Тибурсио-то я отвечаю. Вы взяли картечь?
– Да, – ответил я, – и длинноствольное ружье.
– Сегодня большой день для Браулио. Очень уж ему хочется посмотреть вас в деле; я сказал, что мы с вами называем выстрел пропащим, если целим медведю в лоб, а пуля угодит в глаз.
И он расхохотался, хлопнув племянника по плечу.
– Ладно, пошли, – продолжал он. – Пусть только негритенок отнесет эти фрукты сеньоре, а я вернусь с вами домой, – и, забросив за спину кошелку Хуана Анхеля, спросил: – А тут что? Наверно, сеньорита Мария положила какие-нибудь сласти для своего братца?
– Нет, это моя мать посылает разные мелочи Луисе.
– А что за беда была с сеньоритой? Вчера видел ее мимоходом, такая же веселая и свеженькая» как всегда. Ну прямо бутон кастильской розы.
– Она уже поправилась.
– А ты что здесь топчешься, почему еще не отправился обратно? – спросил Хосе у Хуана Анхеля. – Бери сумку и бегом. Да возвращайся поскорее, – в поздний час не стоит бродить в здешних местах одному. И не говори ничего там, внизу.
– Посмей только не вернуться! – крикнул я вдогонку негритенку, который уже перебрался на другой берег.
Хуан Анхель юркнул в заросли осоки, словно перепуганный зайчонок.
Браулио был крепкий парень моего возраста. Два месяца назад он приехал к дяде из другой провинции и уже давно был без ума от своей двоюродной сестры Трансито.
Во всем облике племянника чувствовалось то же благородство, каким отличалась внешность старика; особенно хорош был его красивый, еще не опушенный усами рот, а нежная, почти женская улыбка подчеркивала мужественную решительность четко очерченного лица. Статный, неутомимый в работе, наделенный мягким характером, парень был истым сокровищем для Хосе и самым подходящим мужем для Трансито.
Сеньора Луиса и девочки, веселые, приветливые, вышли встретить меня у дверей дома. Мы часто виделись за последние месяцы, и девочки уже не робели передо мной. Сам Хосе во время охоты, другими словами – на поле боя, проявлял по отношению ко мне отеческую властность, но едва мы возвращались домой, вел себя совсем по-другому, словно храня в тайне наши простые, дружеские отношения.
– Наконец-то! Наконец-то! – приговаривала сеньора Луиса, ведя меня под руку в столовую. – Целая неделя! Мы просто дни считали.
Девочки поглядывали на меня, лукаво улыбаясь.
– Господи Иисусе, какой же вы бледный! – воскликнула Луиса, рассмотрев меня поближе. – Нет, так не годится, вот приходили бы почаще, здоровяком стали бы.
– А по вашему, как я выгляжу? – спросил я девочек.
– Э! – ответила Трансито. – Как же вы можете выглядеть, если все время сидите за своими книгами и…
– А мы-то сколько вкусных вещей для вас готовили, – перебила ее Лусия. – Не снимали, пока не испортился, первый арбуз с новой гряды, а в четверг – думали, вы придете – такой чудесный крем сделали.
– А какая рыба, а, Луиса? – добавил Хосе. – Мы просто не знали, что с ней и делать. Но он не мог прийти, – продолжал старик серьезно, – были на то важные причины. Но скоро ты ведь пригласишь его провести с нами целый день… правда, Браулио?
– Да, да, я обязательно приду, вот и поговорим об этом. Когда же настанет этот великий день, сеньора Луиса? Когда, Трансито?
Девушка вся залилась краской и, видно, ни за какие сокровища не подняла бы глаз на жениха.
– Немного попозже, – сказала Луиса. – Разве не видите, надо домик побелить и двери навесить. Приготовим все ко дню Гваделупской богоматери. Трансито ее особо чтит.
– А это когда?
– Как, вы не знаете? Да двенадцатого декабря. А не говорили вам ребята, что хотят просить вас быть посаженым отцом?
– Нет. Вот уж не прощу Трансито, что она слишком поздно сообщает мне такую приятную весть.
– Да я говорила Браулио, чтобы он сказал вам; отец думал, так будет лучше.
– Вы и представить себе не можете, как я благодарен. Тем более что надеюсь впоследствии стать и вашим кумом.
Браулио с невыразимой нежностью посмотрел на свою невесту, а она, застыдившись, выбежала из комнаты готовить завтрак и увела с собой Лусию.
Теперь меня принимали в доме Хосе уже по-иному: я стал как бы членом семьи. На столе не было никакой праздничной посуды, за исключением одного всегда предназначенного для меня прибора, и я получил свою порцию фасоли, маисовой каши, молока и шоколада из рук сеньоры Луисы, сидя точно так же, как Хосе и Браулио, на табурете из корня бамбука. Правда, к такому обхождению я приучил их не без труда.
Много лет спустя, проезжая через горы, мимо родных мест Хосе, я увидел, как на закате возвращались веселые земледельцы в дом, где так ласково привечали меня в былые времена; помолясь богу вслед за почтенным отцом семейства, они поджидали у очага, пока постаревшая добрая мать раздаст им ужин; каждая супружеская пара ела из общей тарелки; малыши прыгали на коленях у родителей. Но я отвел глаза от отого зрелища патриархальной жизни, напомнившего мне последние счастливые дни моей юности…
Завтрак оказался, как всегда, превосходен, но по застольному разговору ясно было, что Браулио и Хосе уже не терпелось начать охоту.
В десять часов все были готовы; Лукас взвалил на плечо корзину с едой, которую приготовила нам Луиса; Хосе, бегая взад и вперед, набил свою сумку из меха нутрии пыжами и собранными в последнюю минуту мелочами, и мы двинулись в путь.
Охотников было пятеро: мулат Тибурсио – пеон, работавший на ферме, Лукас – арендатор из соседнего поместья, Хосе, Браулио и я. Все вооружены ружьями. У первых двух ружья были, по их словам, отменные. Хосе и Браулио, кроме того, несли с собой острые копья.
В доме не осталось ни одного стоящего пса. Все были взяты на свору попарно, и экспедиция наша выглядела внушительно. Собаки радостно визжали; даже любимец кухарки Марты Голубок – гроза домашних кроликов – подставлял шею, надеясь, что и его зачислят в охотники. Но Хосе отогнал его пинком, обозвав не очень лестными словами.
Луиса и девочки волновались, особенно Трансито, – она знала, что ее жениху предстоят самые опасные испытания, ведь он был лучшим охотником.
Узкой, едва заметной тропой мы начали спускаться по северному берегу реки. Ее извилистое русло, – если можно так назвать глубокое лесистое ущелье среди утесов, на вершине которых, словно на плоской крыше, росли разлапистые папоротники и опутанный цветущими вьюнками тростник, – кое-где было загромождено обломками скал, а между ними причудливыми каскадами прорывались бурлящие, пенистые потоки.
Мы пропіли не более полулиги, когда Хосе, остановясь в устье глубокого пересохшего русла, зажатого между крутыми склонами, нагнулся над валявшимися на песке полуобглоданными костями: это были кости ягненка, унесенного хищником день назад. Следом за Браулио мы с Хосе вступили в овраг. Вскоре появились следы. После недолгого подъема Браулио замер на месте и, не глядя на нас, сделал знак остановиться. Он прислушался к шуму сельвы, вдохнул воздух всей грудью, оглядел высокий свод, образованный над нами сенью кедров, смоковниц и хлебных деревьев, и двинулся дальше неслышным медленным шагом. Через некоторое время он снова остановился. Осмотревшись вокруг и еще раз приглядевшись к следам, он указал на исцарапанный ствол дерева, поднимавшегося из глубины оврага, н проговорил:
– Вот здесь он прошел. Видать, сыт и отлично знает все ходы и выходы.
Варах в двадцати от нас овраг упирался в каменную скалу. По образовавшейся у ее подножия впадине можно было понять, что сюда во время дождей стекают по склону потоки воды.
Против моего ожидания, мы вернулись к реке и продолжили путь вдоль ее ложа.
Вскоре Браулио снова обнаружил следы ягуара на песке – на этот раз они вели прямо к берегу.
Теперь нам надо было удостовериться, перешел ли вверь в этом месте реку, или же, что было более вероятно, ему помешало мощное, разбушевавшееся течение и он по-прежнему шел вдоль берега по нашей стороне.
Браулио, забросив ружье за спину, пустился вброд через стремнину; к поясу он привязал веревку, а Хосе крепко держал другой ее конец, чтобы при каком-нибудь неловком движении парня не снесло в ближний водопад.
Стояла мертвая тишина, мы успокаивали собак, стараясь удержать их от легкого нетерпеливого повизгивания.
– Тут следов нет, – сказал Браулио, осмотрев прибрежный песок и заросли кустарника.
Взобравшись на вершину небольшой скалы, он повернулся лицом к нам, жестом приказав не двигаться с места, снял ружье и упер его в плечо, словно собирался стрелять в цепь скал, оставшуюся у нас за спиной. Спокойный и невозмутимый, он слегка наклонился вперед и нажал курок. Раздался выстрел.
– Там! – крикнул он, показывая на поросшую деревьями вершину у нас над головой.
Спускаясь прыжками к реке, Браулио крикнул:
– Крепче держать веревку! Собак – вверх!
Собаки словно все поняли: едва мы спустили их со своры, как они исчезли справа от нас в зарослях тростника. Хосе тем временем помогал Браулио перебраться через реку.
– Спокойно! – снова крикнул Браулио, выйдя на берег; торопливо заряжая ружье, он бросил мне:
– Вы будете здесь, хозяин!
Собаки преследовали добычу по пятам; зверю, видимо, нелегко было ускользнуть: лай все время доносился из одного и того же места на склоне.
Браулио взял из рук Хосе копье и сказал нам обоим:
– Один – внизу, другой – вверху, стерегите этот проход, ягуар вернется по своему следу, если только ему удастся уйти. Тибурсио с вами, – добавил он. Затем обратился к Лукасу: – Мы вдвоем обогнем утес по верху.
Твердой рукой Браулио забил снаряд в ствол ружья и сказал с обычной своей доброй улыбкой:
– Это просто котенок, да к тому же и ранен.
Выслушав последние слова, мы разошлись по местам.
Хосе, Тибурсио и я поднялись на удобную для наблюдения скалу. Тибурсио то и дело проверял запал своего ружья. Хосе напряженно вглядывался в даль. Отсюда нам было хорошо видно все, что делалось на утесе, и мы могли внимательно следить за указанным нам проходом: к счастью, могучие деревья на склоне росли редко.
Из шести собак две уже вышли из боя; одна лежала растерзанная у ног зверя, другая, с разорванным боком, приползла к нам и, жалобно повизгивая, издыхала подле камня, на котором мы стояли.
Ягуар стоял задом к купе дубов, бил хвостом, ощетинив шерсть на спине, оскалив зубы и сверкая глазами; он издавал глухое рычание, встряхивал огромной головой, и уши его щелкали, словно деревянные кастаньеты.
Когда он поворачивался под натиском заметно усталых, однако еще не выдохшихся собак, видно было, как хлещет у него из левого бока кровь; по временам он пытался зализать рану, но тщетно, – вся свора тут же яростно кидалась на него.
Браулио и Лукас появились из тростниковых зарослей на склоне утеса; они оказались немного дальше от зверя, чем мы. Лукас был бледен, как мертвец, а пятна, оставшиеся у него на щеках после карате,[19] посинели.
Таким образом, охотники и ягуар образовали треугольник, и обе наши группы могли открыть огонь одновременно, не рискуя ранить друг друга.
– Стрелять всем вместе! – крикнул Хосе.
– Нет, нет! Собаки! – возразил Браулио. И, оставив своего товарища в одиночестве, он исчез.
Я понял, что хотя общая стрельба и могла прикончить зверя, но наверняка погибли бы несколько собак, а ягуару, останься он жив, не долго было бы сыграть с нами злую шутку, пока ружья разряжены.
Из тростника, позади деревьев, защищавших зверя с тыла, выглянула голова Браулио: рот его жадно ловил воздух, глаза были широко открыты, волосы взъерошены. В правой руке он сжимал копье, левой раздвигал мешавшие ему лианы.
Все мы молчали; даже собаки, казалось, выжидали, чем кончится дело.
Хосе не выдержал и крикнул, науськивая собак:
– Уби! Маталеон! Уби! Хватай его, Трунчо!
Зверю нельзя было давать передышки; кроме того, так было меньше риска для Браулио.
Собаки сразу бросились в бой. Еще одна свалилась мертвой, не успев и взвизгнуть.
Вдруг ягуар отчаянно взвыл.
Браулио проскользнул позади дубов и побежал было к нам, сжимая в руке древко копья без наконечника.
Зверь повернул вслед за ним.
– Огонь! Огонь! – крикнул Браулио и одним прыжком вернулся в засаду, откуда раньше нанес удар копьем.
Ягуар следил за ним. Лукас исчез. Тибурсио позеленел, как оливка. Он прицелился, но заряд пропал даром.
Хосе выстрелил: ягуар снова заревел, изогнулся, словно пытаясь укусить самого себя в хребет, и тут же гигантским прыжком бросился на Браулио. А тот, ловко проскользнув среди дубов, бегом помчался к нам, чтобы подхватить копье, которое бросил ему Хосе.
Теперь зверь повернулся к нам мордой. Заряженным оставалось только мое ружье. Я выстрелил: ягуар сел на хвост, покачнулся и рухнул.
Браулио невольно оглянулся, чтобы узнать, попал ли последний выстрел в цель. Хосе, Тибурсио и я были уже рядом с ним, и все в один голос издали победный клич.
Из пасти зверя выступила кровавая пена, глаза его остекленели, в последних судорогах он вытягивал дрожащие лапы и бил великолепным хвостом, взметая палую листву.
– Знатный выстрел!.. Вот это выстрел! – воскликнул Браулино, поставив ногу ягуару на голову. – Прямо в лоб! Ничего не скажешь, меткая рука!
Хосе еще не совсем твердым голосом (славный старик очень любил своего будущего зятя) сказал, вытирая рукавом пот со лба:
– Ну, ну… тут не до шуток! Боже правый! До чего хорош зверь! Дьявол, а не зверь! Попадись такому в лапы, живым не уйдешь!..
И он печально посмотрел на трупы трех собак:
– Бедняжка Кампанилья! Больше всех ее жалко… Такая красивая собачка!
Он погладил остальных трех, которые, вывалив языки и стараясь отдышаться, беззаботно разлеглись рядом, словно просто загоняли в корраль слишком резвого бычка.
Хосе, расстелив на траве свое пончо, сказал:
– Садитесь, сынок. Сейчас мы, как полагается, снимем шкуру, она ваша. Лукас! – крикнул он.
Браулио расхохотался:
– Он, верно, уже сидит дома в курятнике.
Хосе не понял и снова закричал:
– Лукас! – Но, увидев, что все мы смеемся, спросил: – Да что это с вами?
– Дядя, ведь храбрец этот сбежал, сразу как я дал промашку с копьем.
Хосе смотрел на нас, словно никак не мог взять это в толк.
– Ну и мошенник!
И, спустившись к реке, он закричал так, что все горы подхватили его голос:
– Лукас, чертов сын!
– У меня с собой отменный нож, сразу и освежуем, – предложил Тибурсио.
– Не в том дело, дружище, беда, что этот чертов трус утащил сумку с едой, а наш бедный друг наверняка хочет есть… да и я не прочь… только здесь на угощение надеяться нечего.
Но желанная кошелка оказалась цела, точно указывая, с какого места сбежал Лукас. Обрадованный Хосе подтащил сумку поближе к нам и стал развязывать ее, велев Тибурсио наполнить речной водой кокосовые посудины.
В сумке оказалось белое и золотистое чокло,[20] свежий сыр и великолепно зажаренное на вертеле мясо; все это было тут же разложено на платановых листьях.
Затем Хосе извлек завернутую в салфетку бутыль с темно-красным вином, хлеб, чернослив и вяленую смокву, сказав:
– Всему свое место.
Из карманов появились ножи. Хосе разрезал и раздал нам мясо, – вместе с чокло это было царское угощение. Мы прикончили вино, на хлеб и не взглянули, а чернослив и смоква моим товарищам пришлись больше по вкусу, чем мне. Не обошлось и без панелы[21] – услады путников, охотников и бедняков. Вода была холодная как лед. После этого лесного банкета задымились мои ароматные сигары.
Хосе благодушествовал, а Браулио теперь наконец решился пригласить меня в посаженые отцы.
Тибурсио с завидной ловкостью освежевал ягуара, вырезав сало, которое нужно было ему для какой-то неведомой цели. Мы разложили по заплечным мешкам шкуру, голову и лапы зверя и отправились в обратный путь. Хосе взвалил на плечо мое ружье вместе со своим, свистнул собак и пошел впереди. По временам он останавливался и еще раз вспоминал какую-нибудь подробность охоты или отпускал новое проклятие по адресу Лукаса.
Легко понять, что женщины, едва мы показались вдали, принялись нас считать и пересчитывать; даже когда мы были уже совсем близко от дома, они все еще не знали, радоваться или бояться, ведь мы изрядно задержались, а по доносившимся до них выстрелам они догадались о грозившей нам опасности.
Первой выбежала навстречу заметно побледневшая Трансито.
– Убили его? – крикнула она.
– Да, дочка, – ответил ей отец.
Все окружили нас, засыпая вопросами; прибежала даже старая Марта, держа в руках наполовину ощипанного каплуна.
Лусия, подойдя ко мне, спросила, где мое ружье, и когда я показал его, прошептала:
– И ничего с вами не случилось?
– Ничего, – ласково ответил я, проведя зеленой веточкой по ее губам.
– А я уж думала…
– Не приходил сюда этот дуралей Лукас? – спросил Хосе.
– Нет, не видели, – ответила Марта.
– А где же убитый зверь? – сказала, заставив наконец всех замолчать, сеньора Луиса.
– Здесь, тетушка, – отвечал Браулио. С помощью невесты он принялся развязывать мешок, а сам тем временем что-то тихонько ей рассказывал. Она посмотрела на меня с особым выражением, побежала в комнату за табуретом и усадила меня на террасе, откуда все было хорошо видно.
Когда в патио расстелили огромную бархатистую шкуру, женщины невольно вскрикнули. Но когда на траву выкатилась голова, они в ужасе попятились.
– Но как же вы убили его? Расскажите! – воскликнула сеньора Луиса. – Что это вы все как в воду опущенные?
– Расскажите, расскажите нам, – просила и Лусия.
Тогда Хосе, взяв в руки голову ягуара, сказал:
– Зверь бросился было на Браулио, а тут сеньор (кивнул он на меня) всадил ему сюда пулю.
Он показал дыру, красовавшуюся прямо посреди лба.
Все повернулись ко мне, и каждый взгляд был еще одной наградой за мою ловкость.
Хосе, продолжая рассказ со всеми подробностями, осматривал раненых собак и вздыхал о тех, что погибли.
Браулио с помощью Тибурсио растягивал' на земле и прибивал колышками шкуру.
Женщины вернулись к своим делам, а я прилег вздремнуть в столовой на скамье, где Трансито и Лусия подстелили мне вместо тюфяка шерстяные пончо. Вскоре я заснул, убаюканный журчанием реки, гоготом гусей, блеянием отары на ближних холмах и пением девушек, стиравших в ручье белье. Природа успокаивает нас, как любящая мать, когда душой нашей овладевает печаль; а если нас приласкает счастье, она нежно нам улыбается.
Глава XXII …Мы предались воспоминаниям…
Уступив просьбам моих друзей, я пробыл у них до четырех часов и после долгих прощаний отправился в путь вместе с Браулио, который вызвался проводить меня. Он нес мое ружье, а через плечо перебросил какой-то мешок.
Дорогой я заговорил о его скорой свадьбе и счастье в будущей семейной жизни, – ведь сразу видно, как Трансито его любит. Он слушал меня молча, но улыбка его была выразительнее слов.
Мы перешли реку и стали уже спускаться по ущелью с последней горной вершины, как вдруг из тутовых деревьев вышел на тропинку Хуан Анхель и, умоляюще сложив руки, проговорил:
– Я вернулся, хозяин… я шел… не делайте мне ничего, ваша милость… я больше не буду бояться.
– Да что ты натворил? Что с тобой? – прервал я его. – Тебя послали из дома?
– Да, хозяин, да, сеньорита послала, и ведь ваша милость велели мне вернуться…
По правде говоря, я забыл об этом.
– Значит, ты не вернулся со страху? – расхохотавшись, спросил Браулио.
– Да, да, так оно и было… Сначала Майо пробежал совсем перепуганный, а еще ньор Лукас встретился мне на мостике через реку и сказал, что ягуар убил ньора Браулио…
Браулио просто зашелся от хохота, а потом спросил у струхнувшего негритенка:
– И ты целый день просидел в кустах, как кролик?
– Да ведь ньор Хосе крикнул, чтобы я возвращался пораньше, что одному ходить там наверху нельзя… – пробормотал Хуан Анхель, разглядывая свои ногти.
– Ладно, так и быть, заступлюсь за тебя, – смилостивился Браулио, – но только при условии, что на следующей охоте будешь идти рядом со мной, нога в ногу.
Негритенок недоверчиво взглянул на него, не решаясь принять прощение на таких условиях.
– Согласен? – спросил я, потешаясь про себя.
– Да, хозяин.
– Тогда пошли. А ты, Браулио, не трудись, не надо провожать меня дальше. Возвращайся домой.
– Да я хотел…
– Нет, нет, ты же видел, как переволновалась Трансито. Передай всем привет от меня.
– А как же быть с мешком… Ладно! – продолжал он. – Бери-ка все ты, Хуан Анхель. Ты не уронишь ружье своего хозяина? Смотри, ведь я обязан ему жизнью. А вот так-то лучше, – сказал он, увидев, что я взял ружье сам.
Я пожал руку отважному охотнику, и мы расстались. Отойдя уже довольно далеко, он крикнул нам вслед:
– Там в мешке образцы минералов, ваш отец наказал дяде прислать их.
И, убедившись, что я понял его, он скрылся в лесу.
Я остановился на расстоянии двух выстрелов от дома, на берегу потока, с шумом низвергающегося с гор до самого нашего сада.
Двинувшись дальше, я поискал глазами Хуана Анхеля, но его и след простыл. Должно быть, опасаясь моего гнева, он решил поискать более надежной поддержки, чем защита Браулио, обещанная на таких неподходящих условиях.
К негритенку я относился с особой нежностью. Ему в то время исполнилось двенадцать лет; это был славный парнишка и, пожалуй, даже красивый. Он отличался природным умом, но нрав у него был несколько дикарский. Правда, жизнь, которую он вел, мало способствовала развитию его характера: мальчика изрядно избаловали. Фелисиана, его мать, – служанка, которая вырастила всех детей в семье и потому пользовалась всеобщим уважением, – прочила своего сына мне в слуги. Но он только и научился прислуживать за столом и в комнатах да искусно готовить кофе, а в остальном был растяпой и увальнем.
Подойдя совсем близко к дому, я увидел, что вся семья была еще в столовой, и понял, что у нас в гостях Карлос с отцом. Я свернул вправо, перепрыгнул садовую ограду и прошел через сад, решив проскользнуть к себе в комнату незамеченным.
Я повесил на место охотничью сумку и ружье. Из столовой доносились необычно громкие голоса. В эту минуту ко мне вошла мама, и я спросил у нее, что это за шум.
– Дело в том, – отвечала она, – что приехали сеньоры де M., a ты ведь знаешь, дон Херонимо всегда разговаривает так, словно кричит с одного берега реки на другой.
«Карлос у нас в доме! – подумал я. – Вот испытание, о котором говорил отец. Влюбленный Карлос проведет целый день, ухаживая за своей избранницей. А я не могу показать ему, как я люблю Марию! Не могу открыть ей, что буду ее супругом!..» Такой муки я и не мог себе представить.
Мама, должно быть, заметив мое смятение, спросила:
– Что это ты вернулся такой печальный?
– Нет, нет, сеньора, просто устал.
– Хорошо прошла охота?
– Очень удачно.
– Значит, я могу сказать отцу, что он получит заказанную медвежью шкуру?
– Не медвежью, а великолепную шкуру ягуара.
– Ягуара?
– Да, того самого, что немало навредил в округе.
– Но это, наверно, было ужасно!
– Что вы, ведь мои товарищи – ловкие и отважные охотники!
Мама приготовила мне все необходимое, чтобы помыться и переодеться; когда она уже закрывала за собой дверь, я попросил ее не говорить, что я вернулся.
Она снова вошла в комнату и сказала своим особым, нежным и ласковым, голосом, перед которым я не мог устоять, когда она о чем-нибудь просила:
– Ты помнишь, о чем мы говорили в тот вечер по поводу визита сеньоров де M., не правда ли?
Довольная моим ответом, она добавила:
– Отлично. Надеюсь, все будет хорошо.
И, снова проверив, не нужно ли мне еще что-нибудь, она ушла.
То, что Браулио назвал образцами минерала, на деле оказалось не чем иным, как головой ягуара; прибегнув к этой хитрости, он заставил меня принести домой наш охотничий трофей.
Позже, из рассказов родных, я узнал, что произошло в столовой.
В то время как подали кофе, явился Хуан Анхель и, сказав, что я скоро приду, сообщил отцу о содержимом мешка. Отец, желая узнать мнение дона Херонимо о найденном кварце, велел негритенку достать его; тот принялся развязывать мешок и вдруг с криком ужаса отскочил в сторону, как испуганный олененок.
Все стали допытываться, что случилось. Хуан Анхель, прижавшись спиной к стене и вытаращив глаза, показал рукой на мешок и завопил:
– Ягуар!
– Где? – вскрикнул дон Херонимо и, пролив кофе, вскочил с проворством совершенно неожиданным, принимая во внимание размеры его круглого живота.
Карлос и мой отец тоже встали, Эмма и Мария прижались друг к другу.
– В мешке! – проговорил негритенок.
Все успокоились. Отец осторожно вытряхнул мешок и, увидев выкатившуюся на каменные плиты голову, невольно отступил назад; дон Херонимо тоже. Упершись руками в колени, он провозгласил:
– Чудовищно!
Карлос подошел, чтобы рассмотреть голову вблизи.
– Ужас!
Прибежавший на шум Фелипе влез на табурет. Элоиса вцепилась в руку отца. Хуан, чуть не плача, пытался залезть на колени к Марии, а она, такая же бледная, как Эмма, в тревоге смотрела на горы, надеясь увидеть меня.
– Кто же убил его? – спросил Карлос.
– Ружье хозяина.
– Как ружье хозяина? Само? – переспросил дон Херонимо, смеясь и снова усаживаясь на место.
– Не знаю, хозяин, но только ньор Браулио сказал сейчас там, на горе, что обязан ему жизнью…
– А где же Эфраин? – спросил обеспокоенный отец, поглядывая на Марию.
– Остался там, в ущелье.
В эту минуту вернулась в столовую мама и, совершенно забыв, что уже видела меня, испуганно воскликнула:
– Ах, сынок мой!
– Он уже возвращается, – успокоил ее отец.
– Да, да, я знаю, – отвечала она, – но как же они убили это чудовище?
– Вот куда угодила пуля, – сказал Карлос, наклоняясь и показывая дыру на лбу ягуара.
– Возможно ли? – спросил дон Херонимо у моего отца, закуривая сигару от уголька. – Неужто вы позволяете Эфраину такие забавы?
Отец ответил ему с довольной улыбкой:
– Я недавно заказал ему медвежью шкуру – на пол у моей кровати, а он, очевидно, предпочел подарить мне шкуру ягуара.
Мария прочла в глазах мамы, что можно не беспокоиться. Взяв Хуана за руку, она направилась в гостиную, но испуганный малыш уцепился за ее юбку и не давал ей идти; пришлось взять его на руки. Выходя, она укоризненно сказала:
– Все плачешь? Ай, как стыдно! Разве мужчины боятся!
Покачиваясь в кресле и выпуская изо рта клубы дыма, дон Херонимо бросил в ответ:
– Ну, этот тоже будет убивать ягуаров.
– Подумать только, Эфраин стал охотиться на хищных зверей, – сказал Карлос Эмме, садясь рядом с ней, – а в пансионе не выпускал и дробинки по воробьям. Ах нет, вспоминаю, он недурно стрелял во время прогулок на озеро Фонтибон. А часто он так охотится?
– Раньше ему случалось, – отвечала сестра, – убивать вместе с Хосе и Браулио молодых медведей и прекрасных волков.
– А я-то собирался пригласить его поохотиться завтра на оленей и прихватил даже с собой английское ружье…
– Он будет очень рад доставить вам удовольствие; если бы вы приехали вчера, то и сегодня отправились бы на охоту вместе.
– Ах, да!.. Если бы я знал…
Тут, очевидно, покончив с перепавшими ему на кухне лакомыми кусочками, в столовую явился Майо. При виде головы ягуара он замер, потом, ощетинив шерсть, осторожно прошелся вокруг и наконец обнюхал ее. Рванувшись с места, он обскакал галопом весь дом, вернулся в столовую и тоскливо завыл: он нигде не нашел меня; инстинкт подсказывал ему, что я подвергался опасности.
Вой Майо взволновал моего отца; он верил в иные приметы и предвестия, так и не избавившись до конца от предрассудков.
– Майо, Майо, что с тобой? – проговорил он, гладя собаку, и воскликнул с нетерпением: – Что же это мальчик не идет?
Но в это время я уже входил в гостиную, одетый так, что ни Трансито, ни Лусия не узнали бы меня даже вблизи.
Мария была здесь. Мы едва успели обменяться приветствиями и улыбкой. Хуан, сидевший у Марии на коленях, пролепетал, показывая на дверь;
– А там бука.
И я вошел в столовую улыбаясь, в полной уверенности, что малыш говорит о доне Херонимо.
Мы крепко обнялись с Карлосом, который поднялся мне навстречу; в эту минуту я почти забыл обо всех муках, перенесенных из-за него в последние дни.
Сеньор де М. сердечно сжал мои руки.
– Ай-ай-ай! Как же мы постарели, если эти мальчики стали настоящими мужчинами.
Все перешли в гостиную. Марии там уже не было.
Разговор вертелся вокруг прошедшей охоты, и дон Херонимо, зная обо всем по рассказу Хуана Анхеля, без труда уличил меня во лжи, когда я пытался уверить, что успехом наша охота был обязана Браулио.
Эмма сказала о намерении Карлоса поохотиться вместе со мной на оленей, и он пришел в восторг от моего обещания устроить ему отличную охоту недалеко от дома.
Когда сестра ушла, Карлос предложил показать мне свое английское ружье, и мы поднялись ко мне в комнату. Это было точно такое же ружье, как то, что отец подарил мне, когда я вернулся из Боготы. Но до того как я увидел его, Карлос объявил, что подобного оружия в нашей стране еще никто в руках не держал.
– Ну вот, – сказал он, когда я осмотрел ружье. – Из этой штуки ты убил бы такого зверя?
– Конечно, оно бьет на расстоянии в шестьдесят вар.
– За шестьдесят вар уже можно стрелять?
– На полную точность в таких случаях опасно рассчитывать, сорок вар и то достаточно далеко.
– А на каком расстоянии ты был, когда стрелял в ягуара?
– В тридцати шагах.
– Ну, брат, вижу, я должен отличиться на нашей охоте, не то придется мне забросить ружье и дать клятву больше никогда в жизни не охотиться даже на колибри.
– О, не беспокойся! Я предоставлю тебе возможность блеснуть, загоню оленя прямо в сад.
Карлос засыпал меня вопросами о наших соучениках, соседях и подругах из Боготы, и мы предались воспоминаниям о годах ученической жизни. Он рассказал мне о своих новых встречах с Эмигдио и от души хохотал, вспоминая потешную развязку романа нашего друга с Микаэлиной.
Карлос вернулся в Кауку восьмью месяцами раньше, чем я. За это время он отрастил бачки, и их чернота подчеркивала его нежный румянец; губы, как всегда, были яркими и свежими; пышные, слегка вьющиеся волосы осеняли гладкий, словно фарфоровый, лоб. Несомненно, он был очень хорош собой.
Он рассказал мне также о своих хозяйственных делах, об откорме молодняка, о расчистке новых пастбищ и, наконец, о твердой надежде стать вскоре состоятельным землевладельцем. Я догадывался о его планах на будущее и видел, что он делает точный прицел на верную неудачу, но старался не прерывать его, чтобы избавить себя от необходимости говорить о своих делах.
– Ох, дружище, – сказал Карлос, остановясь у моего стола после длиннейшего рассуждения о преимуществах стойлового откорма перед выпасом на лугах, – сколько же у тебя книг! Ты привез с собой целые горы. Я тоже занимаюсь, вернее, читаю… на большее времени не хватает. А потом, у меня есть образованная кузина, она просто завалила меня романами. Сам знаешь, к серьезным занятиям я никогда пристрастия не питал. Не могу передать, какую скуку наводит на меня политика или судебные дела, хотя отец дни и ночи жалуется всем, что я не вникаю в его тяжбы. Он одержим страстью судиться, причем самые ожесточенные споры идут о двадцати квадратных варах болота или об отводе русла какой-нибудь жалкой канавы, которая отрезала в пользу соседа клочок наших владений.
– Ну-ка, посмотрим, – продолжал он, разглядывая корешки книг, – Фрейсину,[22] «Христос в прошлом веке», Библия… Слишком много мистики… «Дон Кихот»… Кстати, никогда не мог прочесть больше двух глав.
– Неужели?
– Блэр,[23] – продолжал он. – Шатобриан… Моя кузина Ортенсия в восторге от него. «Английская грамматика». Чудовищный язык! Терпеть его не могу.
– Но ты ведь говорил немного.
– Да, «How do you do?»[24] – и еще: «Comment ça va-t-il?»[25] по-французски.
– Но у тебя чудесное произношение.
– Так мне и говорили, чтобы подбодрить.
И он снова принялся рассматривать книги:
– Шекспир. Кальдерон…[26] Стихи, да? «Испанский театр». Опять стихи? Признайся, уж не пишешь ли ты их сам? О, вспоминаю, ты написал что-то о Кауке, и мне даже взгрустнулось тогда… Значит, пишешь?
– Нет.
– Очень рад, не то ты бы просто умер с голоду. Кортес,[27] – продолжал он свое исследование. – Это завоевание Мексики?
– Нет, совсем другое.
– Токвиль,[28] «Демократия в Америке»… Тьфу, пропасть! Сегюр…[29] Ну и ну, сколько же их!
Но тут прозвенел в столовой колокольчик, оповещая, что ужин подан. Карлос, оставив мои книги, направился к зеркалу, расчесал карманным гребешком волосы и бачки, подправил, словно искусная портниха, завязывающая бантик, узел своего синего галстука, и мы вышли.
Глава XXIII Когда сняли скатерть, мы, как всегда, прочли молитву
Итак, мы с Карлосом явились в столовую. Места были распределены: во главе стола сидел мой отец; слева от него – мама; справа – дон Херонимо; разворачивая салфетку, он вел скучнейший рассказ о своей тяжбе за земельные границы с доном Игнасио; одно свободное место оставалось рядом с мамой, другое – рядом с доном Херонимо; дальше друг против друга сидели Мария и Эмма, а в конце стола – дети.
Я должен был указать Карлосу, какое из свободных мест предназначено ему. В это время Мария, не глядя на меня, положила руку на соседний стул, как обычно делала, незаметно для остальных приглашая меня сесть рядом. Очевидно, сомневаясь, понял ли я ее, она бросила на меня быстрый взгляд, в котором я всегда так ясно читал ее желания. Однако же я указал Карлосу на предложенное мне место, а сам сел рядом с Эммой.
Дон Херонимо чудом закончил все-таки свою историю о решающих доказательствах, представленных вчера суду, и, повернувшись ко мне, сказал:
– Полагаю, не хотелось вам прерывать беседу. Было о чем поговорить: прекрасные воспоминания о прошлом, о старых знакомых в Боготе… планы на будущее… настоящее. Нет ничего лучше, как встретиться с любимым однокашником. А я и забыл, что вам хотелось бы повидаться. Не обвиняйте Карлоса в таком опоздании, он-то рад был поехать и без меня.
Я заверил дона Херонимо, что непростительно было так долго лишать меня удовольствия видеть его и Карлоса, однако я готов не помнить зла, останься они у нас подольше. Он, с набитым едой ртом, ответил, прихлебывая шоколад и искоса взглянув на меня:
– Это трудновато. Завтра пора давать соль скоту.
После минутного размышления – мама в это время едва заметно улыбнулась – дон Херонимо объявил:
– Нет, невозможно: если нас там не будет, никак не обойтись.
– Да, работы у нас по горло, – подтвердил Карлос с легким самодовольством, показывая, что он человек деловой, не чета мне, занятому только чтением и охотой.
Мария, видно, недовольная мною, избегала моего взгляда. Она была немного бледна, но казалась еще прекраснее, чем всегда. Широкая сборчатая юбка ее платья из черного в голубой горошек газа шелестела при каждом движении, как ночной ветерок в розовых кустах у меня под окном. Косынка, того же цвета, что и платье, спускалась на грудь, как будто не решаясь прикоснуться к лилейно-белой шее, а на шнурке, сплетенном из черных волос, висел сверкающий бриллиантами крестик. Разделенные надвое волосы, прикрывая виски, пышными кудрями падали на плечи.
Завязался общий разговор, и под шумок сестра спросила у меня, почему я выбрал место рядом с ней. Я ответил: «Так надо», однако это ничего ей не объяснило; она посмотрела на меня с удивлением, потом попыталась перехватить взгляд Марии, но тщетно: глаза Марии упорно прятались под гладкими, словно жемчужина веками.
Когда сняли скатерть, мы, как всегда, прочли молитву. Мама пригласила всех в гостиную: дон Херонимо и мой отец остались за столом поговорить о хозяйственных делах.
Зная, что Карлос недурно играет, я предложил ему гитару моей сестры. После недолгих настояний он согласился сыграть что-нибудь. Настраивая гитару, Карлос спросил у Эммы и Марии, любят ли они танцы, и так как вопрос был обращен главным образом к Марии, она ответила, что никогда не танцевала.
Он обернулся ко мне, – я как раз пришел в эту минуту из своей комнаты, – и воскликнул:
– Дружище, да возможно ли это?
– Что?
– Что ты не научил танцевать ни сестру, ни кузину. Вот уж не думал, что ты такой эгоист. А может, Матильда поставила тебе условие ни с кем не делиться ее наукой?
– Она была уверена, что хватит твоего искусства, чтобы создать в Кауке рай для танцовщиц.
– Моего? Ты вынуждаешь меня признаться сеньоритам, что я преуспел бы гораздо больше, если бы ты не вздумал брать уроки в одно время со мной.
– Дело в том, что Матильда надеялась закончить твое обучение в декабре, недаром она ждала тебя на первом же балу в Чапинеро.
Гитара была настроена, и Карлос заиграл контрданс, по некоторым причинам незабываемый для нас обоих.
– Что напоминает тебе эта мелодия? – спросил он, поставив гитару на колено.
– Многое и ничего определенного.
– Ничего? А наше с тобой соревнование на вечере у сеньоры?…
– Ах, да. Вспомнил.
– Речь шла о том, – сказал Карлос, – чтобы вывести из затруднения нашу строгую учительницу: ты собирался танцевать с ней, а я…
– Речь шла о том, какая из наших двух пар откроет контрданс.
– И ты должен признаться, что победил я, так как уступил тебе свое место, – смеясь, заметил Карлос.
– Мне не пришлось об этом просить. Спой нам, пожалуйста.
Мария сидела рядом с Эммой на диване, перед которым мы оба стояли. Во время разговора она бросила пристальный взгляд на моего собеседника, желая удостовериться в том, что было ясно ей одной, – в том, что я недоволен; потом сделала вид, будто забавляется, связывая концы своих кос.
Мама уговорила Карлоса спеть. Громким, звучным голосом он запел входившую тогда в моду песенку:
Трубит рожок, быть может, предвещая надрывной трелью гибельный конец. И в гомоне приветствий и прощаний с улыбкою на смерть идет боец.[30]Пропев песню до конца, Карлос стал упрашивать мою сестру и Марию, чтобы они тоже спели. Но Мария как будто и не слышала.
«Неужели Карлос догадался о моей любви, – думал я, – и нарочно завел этот разговор?» Позже я убедился, что дурно судил о своем друге: он был способен на легкомысленную выходку, но на коварство – никогда.
Эмма была готова петь. Подойдя к Марии, она сказала:
– Споем?
– Да что же я могу спеть? – спросила та.
Тогда я тоже подошел к Марии и шепнул ей:
– И тебе ничего не хотелось бы спеть, ничего?
Она подняла взгляд: так смотрела она на меня, если в голосе моем, как сейчас, звучала любовь; и на ее губах я уловил легкую улыбку, подобную улыбке ребенка, разбуженного поцелуем матери.
– Да, споем «Волшебниц», – сказала она.
Слова этой песни принадлежали мне. Эмма нашла стихи в моем письменном столе и подобрала к ним музыку, написанную на слова другой, модной тогда, песни.
В одну из тех летних ночей, когда ветер затихает, как бы прислушиваясь к неясному шелесту листьев и дальнему эху; когда луна медлит или скрывается вовсе боясь нарушить ночную тьму; когда душа улетает вдаль подобно возлюбленной, что покидает нас ненадолго и возвращается, даря еще большей нежностью… в одну из таких ночей Мария, Эмма и я сидели на галерее, обращенной к долине. Прозвучали печальные аккорды гитары и девушки начали песню голосами безыскусными, но чистыми, как сама природа, которую они воспевали. Я был поражен, мои неумелые стихи показались мне самому прекрасными и прочувствованными. Пение умолкло, и Мария склонила голову на плечо Эмме; когда она выпрямилась, я в волнении прошептал ей на ухо последний стих. Ах, эти строки и сейчас еще хранят дыхание Марии, влагу ее слез. Вот они:
Мне снилось, что иду вечерней чащей и солнце, исчезая за горой, султаны пальм с их зеленью сквозящей осыпало рубиновой игрой. А заводи то розовым мерцали, то лиловела тихая вода, и опускались горлинки и цапли в бамбук и тальник около пруда. Немая ночь окутывала землю, немели сумерки по берегам; луна плыла, за облаками дремля, и вечер гас, упав к ее ногам. Пойдем со мной и лютнею моею по сельве над затоном голубым; я снюсь тебе, мне говорили феи, суля бессмертье, если я любим.[31]Отец и сеньор де M. вышли в гостиную, когда замирали последние 8вуки песни. Отец, который теперь лишь в минуты полного душевного покоя напевал вполголоса какую-нибудь песенку своей родной страны, всегда любил музыку, а в молодости и танцы.
Дон Херонимо, примостившись поудобнее на мягком диване, сладко зевнул.
– Я никогда не слыхал эту музыку с такими словами, – обратился Карлос к моей сестре.
– Эмма прочла эти стихи в газете, – ответил я, – и переложила их на мелодию другой песни. Стихи, по-моему, неважные. Сейчас печатают столько пошлостей! Это сочинил какой-то кубинский поэт, а природа Кубы, как известно, очень похожа на природу Кауки.
Мария, мама и сестра с удивлением переглянулись, слушая, как непринужденно я обманываю Карлоса; ведь они не знали, что он, перерыв днем мой книжный шкаф, с таким пренебрежением отнесся к моим любимым авторам. Вспомнив не без досады его слова о «Дон Кихоте», я добавил:
– Ты, верно, видел эти стихи в «Эль Диа» и просто забыл. Помнится, под ними стояла подпись какого-то Альмендареса.
– Нет, кажется, не видел, – сказал он. – Впрочем, у меня на эти вещи плохая память… Если это те стихи, что читала мне моя кузина… то, по правде сказать, когда пели сеньориты, они мне понравились гораздо больше. Будьте добры, прочтите их, – попросил он Марию.
Она, улыбаясь, обратилась к Эмме.
– Как там начинается?… Я все время забываю. Лучше ты прочти, ведь ты хорошо все помнишь.
– Да вы только что их пели, – возразил Карлос, – а читать гораздо легче. Как ни дурны эти стихи, в ваших устах они будут прекрасны.
Мария повторила все сначала; когда она дошла до последней строфы, голос ее задрожал.
Карлос поблагодарил:
– Да, теперь я почти уверен, что слышал их раньше.
А я подумал: единственное, в чем Карлос может быть уверен, это в том, что он каждый день видит красоту, описанную в моих плохих стихах. Но он смотрит вокруг безотчетно, как смотрит, к примеру, на часы,
Глава XXIV …Нежными руками, белыми и благоуханными, как кастильские розы…
Пришло время расходиться, и, опасаясь, что мне постелят в одной комнате с Карлосом, я поднялся к себе; в дверях я столкнулся с мамой и Марией.
– Надеюсь, я буду спать здесь один? – спросил я у мамы. Поняв, чем вызван мой вопрос, она ответила:
– Нет, здесь будет твой друг.
– О, цветы, – сказал я, увидев в руках у Марии завернутые в платок цветы, которые утром она поставила в мою вазу. – Куда ты несешь их?
– В молельню, у меня сегодня не было времени поставить там свежие…
Я поблагодарил ее взглядом за чуткость, не позволившую ей оставить предназначенные мне цветы в комнате, где будет ночевать другой.
Однако посреди стола бросался в глаза букет лилий, который я принес днем с гор, и я протянул его Марии, сказав:
– Поставь на алтарь и эти лилии. Трансито дала их мне для тебя и просила передать, что приглашает тебя в посаженые матери на свою свадьбу. А так как все мы должны молиться за ее счастье…
– Да, да, – ответила Мария. – Так она хочет, чтобы я была посаженой матерью? – переспросила она, как бы советуясь с мамой.
– Что ж, это вполне естественно, – откликнулась мама.
– А у меня для нее есть очень красивое платье, как раз для такого дня! Обязательно расскажи ей, как я обрадовалась, узнав, что она выбрала нас… меня в посаженые матери.
Мои братья, Фелипе и младший, с восторгом приняли весть о том, что я буду ночевать в их комнате. Они устроились вместе на одной кровати, а вторую уступили мне: Мария прикрепила к ее пологу изображение скорбящей богоматери, которое обычно висело у меня в изголовье.
Мальчишки прочли молитву, стоя на коленях в постели, пожелали мне доброй ночи и заснули, вволю насмеявшись над собственным испугом при виде головы ягуара.
Этой ночью не только образ Марии витал надо мною, рядом спали два ангелочка: с первым лучом солнца она их разбудит, поцелует в щеки, причешет, поведет к фонтану и умоет своими нежными руками, белыми и благоуханными, как кастильские розы, сорванные для алтаря.
Глава XXV Легкими, почти детскими шагами пробежала она…
На заре меня разбудил шепот ребятишек, которые тщетно старались не нарушить мой сон. Дело было в том, что обрезав крылья пойманным за последние дни голубям, они засадили их в пустые сундуки, и голуби жалобно стонали, почуяв первые лучи солнца, заглянувшие в комнату сквозь щели жалюзи.
– Не открывай, – говорил Фелипе, – не открывай! Брат спит, а голуби поднимут шум.
– Но ведь Мария нас уже звала, – возразил младший.
– Ничего подобного. Я давным-давно проснулся, а она и не думала звать.
– Нет, звала. Я знаю, чего ты хочешь: выскочить первым и побежать к ручью, а потом скажешь, что только на твои удочки попалась рыба.
– Просто я не ленюсь и умею их хорошо забрасывать… – перебил его Фелипе.
– Подумаешь, какой труд! Это Хуан Анхель забрасывает их для тебя в самых хороших местах.
И он опять собрался выпустить голубей.
– Не открывай, – уже сердито прошипел Фелипе. – Подожди, сейчас посмотрю, не проснулся ли Эфраин.
И с этими словами он на цыпочках подошел к моей кровати.
Тут я схватил его за руку и сказал:
– Ах ты плут! Значит, ты отнимаешь рыбу у маленького.
Оба расхохотались и попросили рассудить их. Я уладил дело, обещав пойти вечером вместе с ними и проверить, как заброшены удочки. Поднявшись и предоставив ребятам загонять обратно голубей, бившихся у порога в поисках лазейки, я вышел в сад.
Лилии, альбаака и розы дарили ветерку свое нежное благоухание и радовались ласке первых лучей солнца, а оно уже поднималось над вершиной Морильоса, разгоняя золотистые и розовые тучки.
Проходя мимо окна Эммы, я услыхал ее болтовню с Марией, поминутно прерываемую смехом. Их голоса, особенно голос Марии с ее своеобразным произношением буквы «с», походили на воркование горлиц, проснувшихся в листве апельсиновых и земляничных деревьев.
Дон Херонимо и Карлос негромко беседовали, прогуливаясь по галерее перед своими комнатами, когда я перепрыгнул через ограду сада во двор.
– Ого! – воскликнул сеньор де M. – Поднимаетесь спозаранку, как хороший хозяин. А я-то думал, вы такой же соня, каким был ваш дружок, когда приехал из Боготы; правда, кто поживет со мной, быстро научится вставать на рассвете.
Он пустился в пространные разглагольствования о выгодах недолгого сна; впрочем, нетрудно было понять, что спать недолго означало именно спать долго, только ложиться пораньше. Он сам признался, что привык укладываться в семь или восемь вечера, но зато мигрени у него никогда не бывает.
Приход Браулио, за которым, выполняя мое вчерашнее поручение, еще на заре отправился Хуан Анхель, помешал нам выслушать конец речи сеньора де М.
Браулио привел с собой двух собак, в которых никто, кроме меня, слишком хорошо с ними знакомого, не признал бы героев вчерашней охоты. Майо, взглянув на них, заворчал и спрятался у меня за спиной, не в силах победить свое отвращение: его белая, все еще пышная шерсть, висячие уши и гордый взгляд придавали ему весьма аристократический вид, особенно по сравнению с невзрачными собачонками горца.
Браулио почтительно поздоровался и подошел ко мне спросить о здоровье семьи, а я горячо пожал ему руку, Собаки радостно прыгали вокруг меня, всячески показывая, что я им гораздо милее, чем Майо.
– Теперь будет у нас случай проверить твое ружье, – обратился я к Карлосу. – Я попросил привести двух отличных собак с фермы Санта-Элена, и вот тебе товарищ для охоты, с которым у оленей шутки плохи, и пара искуснейших следопытов.
– Вот эти? – пренебрежительно спросил Карлос.
– Эти шелудивые псы? – добавил дон Херонимо.
– Да, сеньор, они самые.
– Не поверю, даже если увижу собственными глазами, – заявил сеньор де М. и снова стал прогуливаться по галерее.
Нам принесли кофе, я заставил Браулио взять предназначенную мне чашку. Карлос и его отец не могли скрыть удивления, вызванного моей любезностью по отношению к простому горцу.
Вскоре сеньор де М. вместе с моим отцом отправились верхом посмотреть, как идут полевые работы, а мы с Браулио и Карлосом принялись проверять оружие и готовить заряд для нового ружья Карлоса.
Мы были увлечены этим занятием, когда мама незаметно дала мне знать, что хочет поговорить со мной. Она ждала в рукодельной. Мария с Эммой ушли купаться. Усадив меня рядом с собой, мама сказала:
– Твой отец настаивает, чтобы Марии сказали о намерениях Карлоса. Тебе тоже кажется это необходимым?
– Я думаю, необходимо сделать так, как хочет отец.
– Сдается мне, ты это говоришь из послушания, а не потому, что согласен с его решением.
– Я не могу не выполнить желание отца. К тому же Мария пока еще не моя невеста и вольна решать, как ей будет угодно. Я обещал ничего не говорить о нашем уговоре и обещания не нарушил.
– Боюсь, как бы Марии не повредило волнение: ведь она может подумать, будто мы с отцом не одобряем ваш союз. Твой отец не хотел говорить сеньору де М. о болезни Марии, опасаясь, как бы тот не счел это предлогом для отказа; и он, и его сын знают, что за Марией дают приданое… об остальном не хочу говорить, но ты сам все понимаешь. Скажи, как поступить, чтобы Мария и отдаленно подумать не могла, будто мы против вашего брака? Но вместе с тем, не забудь, я должна выполнить и пожелание твоего отца.
– Я вижу только один выход.
– Какой же?
– Сейчас скажу. Я уверен, что вы согласитесь со мной. Умоляю вас согласиться. Откроем Марии тайну, которой потребовал от меня отец, расскажем, что вы оба разрешили мне считать ее своею будущей женой. Обещаю вам быть осмотрительным, ничем не выдавать отцу невольную измену данному слову. Могу ли я выполнить его требование, не причинив Марии горе, которое принесет гораздо больше вреда, чем чистосердечный рассказ обо всем? Доверьтесь мне: разве не правда, что выполнить волю отца невозможно? Вы сами это видите. Согласны вы со мной?
Мама помолчала некоторое время и, ласково улыбнувшись, ответила:
– Хорошо. Но запомни, обещать следует только то что можешь исполнить. А как мне говорить с ней о предложении Карлоса?
– Так же, как говорили бы с Эммой в подобном случае, а потом расскажете ей все, что пообещали мне. Боюсь, первые ваши слова произведут на нее тяжкое впечатление, бедняжка подумает, будто вы с отцом решительно противитесь нашему союзу. Она ведь случайно услыхала разговор о своей болезни, и только ваши постоянные нежные заботы и наша с ней вчерашняя беседа немного ее успокоили. Забудьте обо мне, когда будете рассказывать ей о предложении Карлоса. А я послушаю, о чем вы говорите, спрятавшись здесь, за дверью.
Дверь вела в молельню.
– Послушаешь? – спросила мама удивленно.
– Да, сеньора.
– А зачем нужен этот обман?
– Мария будет только рада. Ведь так я добьюсь своей цели.
– Какой же цели ты добиваешься?
– Узнать, на что она готова ради меня.
– Но, вероятно, лучше, чтобы она никогда не узнала, что ты ее слышал и я на это согласилась?
– Что ж, если хотите, пусть будет так.
– Ты, как будто, сам боишься выполнить свое намерение.
– Умоляю вас, не отговаривайте меня.
– Но разве ты не видишь, что если я все ей открою, то тем самым как бы дам обещание, которое, к несчастью, могу и не выполнить? Ведь в случае повторения болезни твой отец воспротивится вашему браку, и я вынуждена буду согласиться с ним.
– Она это понимает. Никогда не захочет она быть моей женой, если болезнь повторится. Но неужто вы забыли, что сказал врач?
– Что ж, поступай как знаешь.
– Слышите ее голос? Они идут сюда. Позаботьтесь, чтобы Эмма случайно не заглянула в молельню.
Мария вошла, разрумянившись и все еще смеясь после болтовни с Эммой. Легкими, почти детскими шагами пробежала она через рукодельную и, уже открыв дверь в свою комнату, заметила маму.
– Ах! – воскликнула она. – Вы здесь! – и, подойдя к ней, спросила: – А почему вы такая бледная? У вас голова болит? Попробуйте искупаться… вам сразу станет лучше…
– Нет, нет. Я хорошо себя чувствую. Я ждала тебя, чтобы поговорить с глазу на глаз. Речь идет об очень серьезном деле; боюсь, оно будет тебе неприятно.
Мария впилась в маму блестящими глазами и, побледнев, спросила:
– О чем?… Что случилось?…
– Садись сюда, – сказала мама, указав на скамеечку у своих ног.
Мария села, тщетно пытаясь улыбнуться. Серьезное выражение сделало ее лицо еще очаровательней.
– Говорите же, – сказала она и, стараясь успокоиться, провела обеими руками по лбу и поправила черепаховый с золотом гребень, который поддерживал волосы, блестящим толстым жгутом обвивавшие ее голову.
– Я буду говорить с тобой так, как говорила бы в подобном случае с Эммой.
– Да, сеньора, я слушаю.
– Папа поручил сказать тебе… что сеньор де М. просит твоей руки для своего сына Карлоса…
– Как! – воскликнула Мария в испуге. Она хотела было вскочить, но снова упала на скамеечку, закрыла лицо руками, и я услышал ее рыдания.
– Что я должна ответить ему, Мария?
– И он велел вам сказать мне об этом? – задыхаясь, спросила девушка.
– Да, доченька, его долг был сообщить тебе о предложении.
– Но вы зачем это мне сказали?
– А что же я еще могла сделать?
– Ах, ответьте ему, что я не… что я не могу… не…
Помолчав, она подняла глаза на маму, которая тоже не удержалась от слез, и спросила:
– И все это знали, да? Все хотели, чтобы вы мне сказали об этом?
– Да, знали все, кроме Эммы.
– Все, кроме нее… Боже мой! Боже! – прошептала она и, спрятав лицо в скрещенных руках, опустила голову маме на колени.
Когда она открыла бледное лицо, по нему струились слезы.
– Хорошо, – сказала она, – вы исполнили поручение. Теперь я все знаю.
– Но, Мария, – мягко прервала ее мама. – Неужели это такое уж несчастье, что Карлос хочет быть твоим мужем? Неужели…
– Умоляю вас, я не хочу… мне не надо ничего больше знать. Так, значит, никто не отговаривал вас передать мне это предложение?… Все, все согласились! Что ж, тогда я скажу, – продолжала она твердым, несмотря на слезы голосом, – скажу, что скорее умру, чем произнесу: да, Разве не знает этот сеньор, что я больна той же болезнью от которой умерла моя мать еще совсем молодой?… Ах! Что же мне теперь делать без нее?
– А я разве не с тобой? Разве не люблю тебя от всей души?…
Моя мать оказалась не такой сильной, как думала.
По щекам моим лились слезы и горячими каплями падали на руки, которыми я сжимал ручку скрывающей меня двери.
– Зачем же тогда вы передаете мне это предложение? – возразила Мария.
– Затем, чтобы слово «нет» произнесли твои собственные уста, хотя такого ответа я и ждала.
– И только вы предполагали такой ответ, только вы?
– Возможно, и еще один человек. Если бы ты знала, какое горе, какую тревогу испытывал тот, кого ты винишь сейчас!..
– Папа? – спросила она, чуть порозовев.
– Нет, Эфраин.
Мария чуть слышно вскрикнула и уронила голову маме на колени. Мама уже готова была позвать меня, когда Мария медленно выпрямилась, встала и сказала с посветлевшим лицом, поправляя волосы дрожащими руками.
– Нехорошо было так плакать, правда? Я подумала…
– Успокойся, вытри слезы: я хочу снова видеть тебя веселой. Ты должна оценить его рыцарское поведение.
– Да, сеньора. Не говорите ему, что я плакала, ладно? – попросила Мария, вытирая слезы маминым платком.
– Разве не прав был Эфраин, согласившись, чтобы я тебе обо всем рассказала?
– Да… пожалуй, прав…
– Ты говоришь не очень уверенно… Отец поставил ему условие, хотя нужды в этом не было, предоставить тебе свободу решения.
– Условие? Зачем же?
– Он потребовал, чтобы Эфраин никогда не говорил тебе, что мы знаем о ваших отношениях и одобряем их.
При этих словах лицо Марии окрасил нежный румянец, и оно стало похоже на розу, обрызганную росой, как те, что срывала она для меня по утрам. Мария опустила глаза.
– Почему он этого потребовал? – сказала она наконец едва слышно. – Может быть, это моя вина… я дурно вела себя?…
– Нет, доченька, просто папа думал, что при твоей болезни необходима осторожность…
– Осторожность? Разве я не выздоровела? Вы боитесь, что я опять заболею? Неужели Эфраин может причинить мне вред?
– Думаю, это невозможно… он так любит тебя, пожалуй, даже больше, чем ты его.
Мария отрицательно покачала головой, будто отвечая на свои мысли, а потом, встряхнув ею, как делала ребенком, отгоняя какое-нибудь страшное воспоминание, спросила:
– Что же я должна делать? Я всегда делаю то, чего вы хотите.
– Сегодня у Карлоса будет случай сказать тебе о своих намерениях.
– Мне?
– Да. Послушай: ты ответишь ему, разумеется, совершенно спокойно, что не можешь принять его предложение, хотя оно оказывает тебе честь, так как ты слишком молода, но при этом дашь понять, что отказ этот тебе самой неприятен.
– Но разговор этот произойдет, когда мы соберемся все вместе?
– Да, – ответила мама, тронутая чистосердечием, светившимся во взгляде Марии, – надеюсь, я заслужила твое доверие.
На это Мария ничего не сказала. Обхватив маму за шею, она прижалась щекой к ее щеке, и лицо ее озарилось глубокой нежностью. Потом быстро пробежала через комнату и скрылась за портьерой своей двери.
Глава XXVI Эмма и Мария робко подошли…
Зная о предстоящей охоте, мама распорядилась, чтобы всем нам – Карлосу, Браулио и мне – подали завтрак пораньше. Немалого труда стоило уговорить горца сесть вместе с нами, в конце концов он скромно занял место на противоположном конце стола.
Как легко понять, разговор зашел об ожидавшем нас развлечении. Карлос сказал:
– Браулио уверен, что заряд моего ружья рассчитан совершенно точно, но все-таки твердит, что твое ружье лучше, хотя они одной марки и сам он, когда стрелял из моего в лимон, всадил в него четыре пули. Не так ли, друг мой? – обратился он к Браулио.
– Ручаюсь, – отвечал тот, – что из своего ружья хозяин подстрелит кулика за семьдесят шагов.
– Что ж, поглядим, удастся ли мне убить оленя… Как ты собираешься вести охоту? – спросил меня Карлос.
– Это уж дело известное, как всегда, если хотим закончить охоту поближе к дому. Браулио поднимется вверх со своими собаками; Хуана Анхеля поставим в ущелье, где протекает Онда, с двумя из наших собак, твой слуга с двумя другими постережет на берегу, чтобы олень не сбежал от нас в Новильеру, а мы с тобой будем наготове и сразу бросимся, куда понадобится.
Браулио одобрил мой план и, оседлав с помощью Хуана Анхеля наших лошадей, отправился вместе с негритенком занимать назначенные им в облаве места.
Мой караковый жеребец нетерпеливо бил копытом по каменной плите, стремясь поскорее блеснуть своей ловкостью. Выгибая гладкую, блестящую, как атлас, шею, он фыркал и встряхивал волнистой гривой. Карлос сел на гнедого, которого недавно прислал в подарок моему отцу генерал Флорес.[32]
Посоветовав сеньору де М. соблюдать осторожность, на случай если нам удастся, как было задумано, загнать оленя в сад, мы выехали из патио и пустились вверх по склону, который куадрах[33] в тридцати на восток от нас примыкал к подножью горной цепи.
Огибая дом, мы проехали перед окном комнаты Эммы. На галерее, опершись на перила, стояла Мария: казалось, она погружена в глубокую задумчивость, так часто владевшую ею безраздельно. Прижавшись к кузине, Элоиса играла ее густыми распущенными волосами.
Цокот копыт и громкий собачий лай вывел Марию из забытья, и я, а следом за мной Карлос приветственно помахали ей рукой. Я заметил, что она не двинулась с места, пока мы не скрылись в теснине Онды.
Майо проводил нас до первого потока, который мы перешли вброд; тут он постоял в нерешительности, а потом помчался домой.
– Слышишь? – спросил я Карлоса, после того как мы проехали с полчаса и я успел рассказать ему о самых интересных случаях в наших с горцем охотах. – Слышишь крик Браулио и собачий лай? Похоже, они подняли оленя.
Горное эхо подхватило лай и крики. Умолкая по временам, они снова раздавались все громче и ближе.
Вскоре Браулио спустился к нам вниз по голому склону теснины. Не очень надеясь на Хуана Анхеля, он взял двух собак, которых тот вел на сворах, придержал их за ошейник, пока не убедился, что добыча приближается к нашей засаде, и тогда спустил. Взбудораженные его криками, собаки рванулись и сразу исчезли из виду.
Карлос, Хуан Анхель и я встали на склоне. И тут мы увидели, как мимо нас промчался олень, преследуемый одной из собак Хосе, и бросился вниз по теснине раньше, чем мы ожидали.
У Хуана Анхеля от радости засверкали белки глаз, и он открыл в улыбке свои ослепительные зубы. Хотя я велел ему сидеть в теснине, на случай если олень вернется обратно, он вместе с Браулио, держась почти наравне с нашими лошадьми, помчался через поля и овраги, отделявшие нас от реки. Едва олень бросился в воду, как собаки потеряли след, он же не стал спускаться вниз по течению, а поплыл вверх.
Карлос и я спешились, чтобы помочь Браулио.
В беготне вдоль реки мы потеряли больше часа. Наконец до нас донесся звонкий лай, внушивший надежду, что собаки снова напали на след. Однако Карлос, выбравшись из зарослей лиан, в которых запутался неизвестно как и когда, уверял, будто этот болван, его слуга, видел, что олень поплыл вниз по течению.
Тут Браулио, которого мы совсем было потеряли из вида, закричал так громко, что, несмотря на дальность расстояния, все его услыхали.
– Идет, идет! Оставьте там одного с ружьем. Выходите на открытое место, олень возвращается к Онде.
Слуга Карлоса остался у реки, а мы с Карлосом вскочили на коней.
В это время олень выбрался из воды на большом расстоянии от собак и побежал по направлению к дому.
– Слезай с коня, – крикнул я Карлосу. – Подстереги его у ограды.
Карлос так и сделал, а когда олень, оказавшийся совсем маленьким, из последних сил перепрыгнул через садовую ограду, прицелился и выстрелил: олень даже не остановился. Карлос застыл в изумлении.
В эту минуту подбежал Браулио, а я, соскочив с коня, бросил поводья Хуану Анхелю.
Из дома все было видно. Дон Херонимо с ружьем в руках перелез через перила галереи, собираясь стрелять по оленю, но, к счастью, запутался в цветах на клумбе и чуть не упал, а в это время отец успел остановить его:
– Осторожно! Осторожно! Разве вы не видите, все идут следом!
Браулио бежал за олененком, чтобы помешать собакам разорвать его.
Перепуганный, ошалевший беглец вскочил на галерею и забился под диван, откуда Браулио вытащил его, когда мы с Карлосом подошли, уже не торопясь. Мне охота доставила большое удовольствие, но Карлос не мог скрыть своей досады, что упустил добычу и потратил выстрел зря.
Эмма и Мария робко подошли и погладили олененка, умоляя не убивать его. А он, будто чувствуя защиту, смотрел на них испуганными влажными глазами и тихонько мычал, как, наверное, мычал, подзывая мать. Олененок был помилован, и Браулио предложил отвести его обратно в родные места.
Когда все успокоилось, Майо приблизился к пленнику, обнюхал его с безопасного расстояния и снова спокойно растянулся на ковре в гостиной; несмотря на не очень достойное поведение старого пса, я все же приласкал его.
Браулио собрался возвращаться в горы. Прощаясь, он сказал мне:
– Ваш друг взбеленился, но я это сделал нарочно: пусть в другой раз не издевается над моими собаками.
Я спросил, что это значит.
– Да я был уверен, – объяснил Браулио, – что вы уступите ему первый выстрел, вот я и вложил патрон без пули в ружье дона Карлоса, когда заряжал его.
– Ты поступил очень дурно, – заметил я строго.
– Больше этого не будет, с ним, во всяком случае, – вряд ли он захочет еще раз охотиться с нами… А сеньорита Мария надавала мне столько подарков для Трансито. Я так благодарен, что она согласилась быть у нас посаженой матерью… Не знаю только, как сказать ей: вы уж сами все передайте…
– Ладно, передам, не беспокойся.
– Прощайте, – сказал он, от души протянув мне руку, а другую все же почтительно поднеся к полям шляпы. – До воскресенья.
Он вышел из патио и, прижав двумя пальцами нижнюю губу, пронзительно свистнул, подзывая собак.
Глава XXVII А куда подевались цветы?…
До сих пор мне удавалось избегать всяких разговоров с Карлосом о тех намерениях, что в недобрый час привели его в наш дом.
Но едва мы остались вдвоем в моей комнате, куда он увел меня, сославшись на желание отдохнуть и вместе почитать, я понял, что настала пора не очень приятного объяснения, от которого я пока столь искусно ускользал. Он прилег на мою кровать, жалуясь на жару; я предложил послать за фруктами, но он сказал, что они ему вредны после перенесенной лихорадки. Я подошел к шкафу и спросил, что бы нам почитать.
– Прошу тебя, не надо ничего читать, – ответил он?.
– Хочешь, искупаемся в реке?
– Да нет, у меня от солнца голова разболелась.
Я предложил ему принять порошок.
– Нет, нет, и так пройдет, – отказался он.
Потом, похлопав себя хлыстиком по сапогу, сказал:
– Клянусь, никогда больше не буду охотиться на кого бы то ни было. Черт знает что! Подумать только, такой промах…
– Ну, это со всеми бывает, – возразил я, вспомнив о мести Браулио.
– Какое там со всеми! Не попасть в оленя с такого расстояния – только со мной это и может случиться.
Он замолчал, а потом, поискав что-то глазами по всей комнате, спросил:
– А куда подевались цветы, которые вчера здесь стояли? Сегодня их не принесли обратно.
– Если бы я знал, что они тебе так понравились, я бы велел опять их поставить. В Боготе ты не питал пристрастия к цветам.
И я принялся листать книгу, лежавшую на столе.
– Никогда я к ним не питал пристрастия, – сказал Карлос, – но… да брось читать, дружище! Послушай, садись-ка рядом, я должен тебе кое-что рассказать. Закрой дверь.
Я понял, что выхода нет, и постарался принять наиболее подходящее в таких случаях выражение лица, решив так или иначе не показывать Карлосу, какую неимоверную глупость делает, он, избрав меня своим наперсником.
К счастью, его отец, неожиданно появившись на пороге, избавил меня от предстоящих мне мучений.
– Карлос, – сказал дон Херонимо, – ты нам нужен.
Тон его, как мне показалось, означал: «Дело сдвинулось».
Карлос решил, что все идет блестяще. Он сразу вскочил и со словами: «Бегу сейчас же», – вышел из комнаты.
Если бы я не сделал вид, что с головой погрузился в чтение, он наверняка подошел бы ко мне и, улыбаясь, сказал: «Ты будешь очень удивлен, но все же простишь, что я до сих пор ничего не говорил тебе…» Но, очевидно, ему показалось, будто я и впрямь глубоко равнодушен ко всему происходящему, а это мне и надо было.
По звуку шагов я понял, что оба они вошли в кабинет к отцу.
Опасаясь, как бы Карлос снова не стал посвящать меня в свои дела, я отправился на мамину половину. Мария была в рукодельной; она сидела в глубоком кресле; воздушное белое муслиновое платье, отделанное небесно-голубыми бантами, спускалось до пола; распущенные волосы локонами падали на плечи. У ее ног, на ковре спал Хуан, разбросав вокруг свои игрушки. Откинув назад голову, Мария, казалось, не видела спящего ребенка; выпавшее из рук вышивание лежало тут же на ковре.
Едва заслышав мои шаги, она подняла на меня глаза убрала со лба волосы и, смутившись, торопливо нагнулась sa своим вышиванием.
– А где мама? – спросил я, переведя взгляд с Марии на заснувшего прелестного малыша.
– У папы в кабинете.
И, прочитав на моем лице то, что робко искала, она слегка улыбнулась.
Я наклонился и вытер платком лобик Хуана.
– Ах! – воскликнула Мария. – Я и не заметила, как он уснул. Пойду уложу его.
Она хотела поднять Хуана. Но я сам взял малыша на руки и, прежде чем передать Марии, поцеловал его в полуоткрытые пунцовые губы; она прикоснулась к ним лицом и, не сводя глаз с улыбавшегося нашим ласкам детского ротика, нежно прижала Хуана к груди.
Мария вышла, но вскоре вернулась и снова заняла свое место. Я сел рядом.
Она принялась складывать в ларчик рукодельные принадлежности, которые разбросал Хуан, и тут я спросил:
– Ты говорила сегодня с мамой о предложении Карлоса?
– Да, – ответила она, не глядя на меня и продолжая наводить порядок в своем ларчике.
– Что она тебе сказала? Оставь это все, поговорим серьезно.
Она еще что-то поискала на полу и наконец, напустив на себя подчеркнутую серьезность, не умерившую, впрочем, ни яркого румянца на ее щеках, ни блеска глаз, сказала:
– Очень многое.
– Что же именно?
– То, что вы и хотели, чтобы она мне сказала.
– Я? А почему это ты сегодня говоришь мне вы?
– Ах, ты же знаешь, я иногда ошибаюсь…
– Так что же тебе сказала мама?
– Но она мне не велела говорить об этом… А то, что я ответила, это можно рассказать.
– Ладно, послушаем.
– Я ответила, что… Нет, об этом тоже нельзя говорить.
– Ты мне расскажешь в другой раз, правда?
– Да, только не сегодня.
– Мама сообщила мне, что ты готова ответить ему как полагается и дать понять, что ценишь оказанную тебе честь.
Она пристально посмотрела на меня, ничего не ответив.
– Так и должно быть, – продолжал я.
Она опустила глаза и по-прежнему хранила молчание, с напускной старательностью вкалывая иголки в подушечку.
– Ты меня слышишь, Мария? – спросил я.
– Да.
И она снова посмотрела мне в глаза, а я не мог оторвать взгляда от ее лица. Тут я увидел, что на ресницах у нее блестят слезы.
– Но почему ты плачешь?
– Нет, нет, я не плачу… Разве я плакала? – И, взяв у меня платок, она поспешно вытерла глаза.
– Тебе неприятно, да? Если ты огорчена, не будем больше говорить об этом.
– Нет, нет, поговорим.
– Тебе очень трудно было решиться выслушать то, что скажет тебе сегодня Карлос?
– Я должна исполнить просьбу мамы. Но она обещала мне, что я буду не одна. Ты тоже будешь со мной, да?
– Зачем? Как же он тогда сможет поговорить с тобой?
– Но будь как можно ближе.
Она прислушалась и сказала:
– Мама идет.
Протянув мне руку, Мария позволила коснуться ее губами; так делала она всегда при расставании, желая продлить мое минутное счастье.
Вошла мама, и Мария, уже встав с кресла, сказала мне:
– Пойдешь в бассейн?
– Да, – отвечал я.
– Апельсиновый сок прислать туда?
– Да.
Только в моем взгляде выразилась нежность, переполнявшая сердце, и она улыбнулась, довольная моей сдержанностью.
Я уже одевался, сидя в тени апельсиновых деревьев когда к бассейну подошел дон Херонимо вместе с моим отцом, который хотел показать ему лучшее украшение своего сада. Вода стояла на одном уровне с источником и по ее поверхности, и в прозрачной глубине плавала розы, брошенные Эстефаной.
Эстефана была двенадцатилетней негритянкой, дочерью наших слуг; мы любили ее за красоту и милый нрав, а она всей душой была предана сеньорите Марии которая наряжала и баловала ее.
Эстефана пришла следом за моим отцом и сеньором де М. и, убедившись, что уже можно подойти, подала мне бокал апельсинового сока с вином и сахаром.
– Друг мой, да ваш сын живет тут, как король, – сказал дон Херонимо отцу. Когда, направляясь к дому, они огибали группу апельсиновых деревьев, тот ответил:
– Шесть лет он жил, как школяр, и еще ему предстоит так жить, по крайней мере, лет пять.
Глава XXVIM …Цветущие лианы, которые плавали в речной пене…
К вечеру, раньше чем дамы занялись приготовлением кофе, как делали обычно, когда приезжали гости, я завел разговор о рыбной ловле моих братишек и объяснил, почему пообещал посмотреть, как они забрасывают удочки в ручей. Все охотно согласились прогуляться вместе со мной. Только Мария взглянула на меня, словно спрашивая: «Значит, ничего не поделаешь?»
Мы направились через сад. Но пришлось остановиться и подождать Марию, Эмма побежала поторопить ее. Я подал руку маме. Эмма вежливо отказалась от руки Карлоса под предлогом, что должна вести одного из малышей. Мария, чуть не дрожа, приняла его руку, но, опершись на нее, остановилась, чтобы подождать меня. Я незаметно подал ей знак не колебаться. Мы спустились к пойме реки. По зеленому ковру травы были разбросаны больдгие черные камни, все в пятнах белого мха.
Голос Карлоса звучал проникновенно: очевидно, он долго собирался с духом и теперь готов был пуститься на всех парусах. Мария снова попыталась остановиться: она бросала на меня и на маму умоляющие взгляды. Мне оставалось только отводить глаза. Мария увидела, как я страдаю, и на ее побледневшем лице я прочел несвойственную ей суровую решимость. По выжидательному молчанию Карлоса я понял, что час пришел, и стал прислушиваться. Мария начала ответную речь. Голос ее прерывался, но все же звучал громче, чем, вероятно, хотелось Карлосу, и до меня донеслись отрывочные слова:
– Лучше бы вы поговорили только с ними… Поверьте, я ценю честь, которую вы… Этот отказ…
Карлос был растерян. Мария оставила его руку и, умолкнув, играла волосами Хуана, который дергал ее за юбку, показывая гроздь плодов на ближнем дереве.
Сомневаюсь, чтобы сцена, описанная мною со всей возможной точностью, была правильно понята доном Херонимо, который, засунув руки в карманы синей куртки, направлялся к нам вместе с моим отцом; зато для отца вопрос был ясен, как будто он все слышал собственными ушами. Сделав вид, будто хочет помочь Хуану сорвать ягоды с тутового дерева, Мария присоединилась к нашему обществу. Когда я сорвал ягоды и дал ей для малыша, она шепнула:
– Как бы мне не возвращаться обратно вместе с этим сеньором?
– Обязательно придется, – ответил я.
Подойдя к Карлосу, я предложил ему спуститься немного вниз по течению посмотреть отличную заводь, – там, объяснил я, стараясь говорить как можно естественнее, мы с ним искупаемся завтра утром. Место было чудесное, но, без сомнения, Карлос не был сейчас склонен оценить необычайную красоту деревьев и цветущих лиан, которые плавали в речной пене, словно вьющиеся по ветру гирлянды.
Солнце померкло и, тронув горы, леса и реки золотисто-сиреневыми бликами, залило все вокруг таинственным тихим светом, который крестьяне называют «солнцем оленей», вероятно потому, что именно в этот час обитатели лесной глухомани выходят пощипать траву на горных лугах или у подножья агав, растущих в расщелинах утесов.
Когда мы о Карлосом нагнали остальных и все вместе направились по дороге к дому, отец как нельзя более кстати сказал дону Херонимо:
– Что же это мы ведем себя, как хилые старички? Надо поухаживать за дамами.
С этими словами он предложил руку Марии, предоставив дону Херонимо сопровождать маму и Эмму.
– Они оказались любезнее нас, – заметил я Карлосу, показав на наших отцов.
И мы пошли следом. Хуан попросился ко мне на руки:
– Возьми меня, тут колючки, а я устал.
Мария потом рассказала, что пока они поднимались вверх по склону, отец спросил, о чем говорил с ней Карлос. Она долго отмалчивалась, но он так ласково уговаривал ее, что она наконец решилась повторить ответ, данный Карлосу.
– Значит, – едва сдерживая смех, спросил отец, когда выслушал ее старательный отчет, – значит, ты вообще не собираешься выходить замуж?
Она отрицательно покачала головой, не смея взглянуть на него.
– Доченька, уж не присмотрела ли ты себе жениха? – продолжал отец. – Скажи, да или нет?
– Нет, нет, – испуганно ответила Мария.
– Он, наверное, лучше того прекрасного юноши, которому ты отказала? – И с этими словами отец погладил ее по лбу, пытаясь заглянуть ей в глаза. – А знаешь ли, как ты хороша?
– Я? Нет, сеньор.
– А кто-то не раз говорил тебе об этом. Скажи, кто этот счастливец?
Мария дрожала, боясь произнести даже слово, но отец продолжал:
– Он должен заслужить тебя; ты сама захочешь, чтобы он был достойным человеком… Полно, признавайся… разве я тебе не говорил, что мне уже все известно?
– Но если нечего рассказывать?…
– Значит, у тебя есть секреты от твоего папы? – сказал он с ласковым упреком.
Тогда Мария решилась:
– Но вы же сами говорите, что вам все известно.
Отец замолчал. Казалось, его опечалило какое-то далекое воспоминание. Они поднимались из сада по ступеням галереи, и тут она услыхала его слова:
– Бедный Саломон!
Отец нежно погладил по голове дочь своего друга.
Вечером за ужином наши с Марией взгляды то и дело встречались, я начал догадываться о ее разговоре с отцом. Порой она задумывалась, и тогда я замечал, что она беззвучно произносит какие-то слова, как, бывало, произносила в рассеянности любимые стихи.
Отец по мере сил старался облегчить положение сеньора де М. и его сына, который, очевидно, уже успел рассказать дону Херонимо о своем объяснении, но все было тщетно. Хотя утром сеньор де М. объявил, что останется еще на одну ночь, сейчас он заверил нас, будто ему необходимо быть у себя в поместье на рассвете, и уехал с Карлосом в девять вечера, распрощавшись в гостиной со всем семейством.
Перед отъездом я зашел вместе с другом в мою комнату. Былая привязанность к нему ожила в эти последние часы его пребывания у нас. Рыцарственность характера, которую не раз проявлял он в дни нашей школьной жизни, снова покорила меня. Вынужденная скрытность по отношению к нему казалась мне теперь недостойной. Если бы, услыхав о его притязаниях, подумалось мне, я признался в своей любви к Марии, рассказал, как дорога она стала мне за последние три месяца, наверное, он, опасаясь к тому же мрачных предсказаний врачей, отказался бы от своего намерения, а я, поступив решительно и честно, ни в чем не мог бы упрекнуть себя. Очень скоро он поймет, если уже не понял, причины моей скрытности, которая поставила его в такое неприятное положение. Эта мысль угнетала меня. Наказ отца вполне мог оправдать мой поступок. Но нет: все это произошло, все это должно было случиться и случилось потому, что любовь, навсегда завладев моей душой, сделала ее недоступной любому другому чувству, слепой ко всему, что не имело отношения к Марии.
Как только мы остались с Карлосом наедине, он сказал с откровенностью былых дней, хотя лицо его еще хранило следы недавно пережитого разочарования:
– Я должен извиниться перед тобой за недоверие к твоей честности.
Теперь я готов был выслушать признание, которого так боялся еще день назад.
– За недоверие? Я не заметил.
– Разве не заметил?
– Нет.
– Ты знал, с какой целью приехали мы сюда?
– Знал.
– А ответ на мое предложение тебе известен?
– Не совсем, но…
– Но ты догадываешься…
– Да, верно.
– Ладно. Так вот, почему я не поговорил о тобой раньше, чем с кем бы то ни было, раньше, чем спросил совета у отца?
– Чрезмерная щепетильность с твоей стороны…
– Какая там щепетильность! Глупость, непредусмотрительность, ошибка… можно назвать как угодно, только не так, как назвал ты.
Он прошелся по комнате, затем снова остановился перед моим креслом.
– Слушай, – сказал он, – и удивляйся моему простодушию. Черт знает зачем только прожил человек двадцать четыре года! Расстались мы с тобой год назад, я вернулся в Кауку и ждал нашей встречи, надеюсь, с таким же нетерпением, как и ты. С первого дня приезда я почувствовал самое любезное внимание со стороны твоего отца и всей твоей семьи: они видели во мне твоего друга, – наверное, ты рассказывал, какая тесная дружба нас соединила. До твоего приезда я встречал два-три раза сеньориту Марию и твою сестру то у нас дома, то у вас. С месяц назад отец сказал мне, что был бы счастлив, если бы я взял в супруги одну из них. Твоя кузина, сама того не зная, вытеснила из моего сердца все воспоминания о Боготе, которые, как ты мог судить по моим письмам, немало мучили меня первое время. Мы уговорились с отцом, что он будет просить для меня руки сеньориты Марии. Почему я не попытался раньше увидеться с тобой? Правда, затянувшаяся болезнь матери задержала меня в городе. Но почему я не написал тебе? Знаешь почему?… Мне показалось, что, признавшись в своих намерениях, я как бы потребую твоей поддержки, а против этого восстала моя гордость. Я забыл, что 'ты мой друг; ты имел бы право – и имеешь – тоже забыть об этом. Но если бы твоя кузина полюбила меня? Если бы то, что было лишь добрым отношением, основанным на нашей с тобой дружбе, оказалось любовью, согласился бы ты, чтобы она стала моей женой, без… Полно! Я веду себя, как глупец, задавая этот вопрос, а ты достаточно умен, чтобы не отвечать на него.
Видишь ли, – продолжал он, постояв некоторое время У окна, – ты знаешь, я не из тех, кто умирает в подобных случаях. Припомни, я всегда посмеивался над твоей верой в великие страсти из французских драм, которые наводили на меня сон, когда ты читал их мне зимними вечерами. В жизни все по-другому: мне надо жениться, и меня тешила мысль войти в твою семью, стать тебе почти братом. Этого не случилось. Что ж, поищу женщину, которая сможет меня полюбить, не вызывая у тебя ненависти ко мне…
– Ненависти? – воскликнул я, прервав его.
– Да. Прости мою откровенность. Какое ребячество, нет, какую неосторожность проявил я, поставив себя в такое положение! Прекрасные последствия: неприятность для твоей семьи, а для меня – недовольство собой и утрата твоей дружбы.
Очень же ты любишь ее, – продолжал он снова, помолчав. – Очень, если нескольких часов мне было достаточно, чтобы понять это, несмотря на все твои старания скрыть свою любовь. Не правда ли, ты любишь ее именно так, как мечтал полюбить, когда тебе было восемнадцать лет?
– Да, – отвечал я, покоренный его благородной откровенностью.
– А твой отец об этом не знает?
– Нет, знает…
– Знает? – повторил он с удивлением.
Тут я рассказал ему о недавнем своем разговоре с отцом.
– Значит, тебя ничего, ничего не пугает? – спросил он, пораженный, едва я закончил рассказ. – Ни болезнь, вероятно, та же болезнь, от которой погибла ее мать… Ни то, что, быть может, половину жизни ты проведешь у могилы любимой женщины?…
При последних словах я вздрогнул, но не от ужаса, а от скорби. Слова эти в устах человека, которому подсказать их могла только привязанность ко мне, – в устах Карлоса, который не обманывался никакими призрачными надеждами, прозвучали страшным приговором, еще более страшным, чем мой утвердительный ответ.
Я встал и протянул Карлосу обе руки, он горячо обнял меня. Расстался я с ним, подавленный печалью, но свободный от угрызений совести, угнетавших меня в начале нашего разговора.
Я вернулся в гостиную. Сестра подбирала на гитаре новый вальс, а Мария потихоньку рассказала мне о чем беседовала она с отцом во время их возвращения домой. Никогда еще так открыто не выражала она свое чувство ко мне: вспоминая недавний разговор, она то и дело опускала в смущении глаза, и счастливая улыбка играла у нее на губах.
ГЛАВА XXIX В такие дни Мария всегда поджидала меня…
Почта, накопившаяся за время визита сеньоров де M., потребовала дополнительных занятий в кабинете отца. Весь следующий день мы проработали почти без перерыва, но, когда вся семья сходилась в столовой, улыбка Марии дарила мне сладостную надежду на часы вечернего отдыха, и самый тяжелый труд казался нипочем.
К восьми вечера я проводил отца в его спальню. В ответ на пожелание доброй ночи он сказал:
– Кое-что мы сделали, но осталось еще немало. Завтра начнем пораньше.
В такие дни Мария всегда поджидала меня вечером в гостиной, беседуя с Эммой и матерью; иногда она читала маме главу из «Подражания святой деве» или учила детей молитвам.
Ей казалось настолько естественным мое желание провести с ней хоть часок в вечернее время, что она и не думала отказывать мне в этом, ничуть не скрывая, какое удовольствие доставляли ей наши встречи. В гостиной или столовой она всегда берегла для меня место рядом с собой, а игра в шашки или карты давала нам предлог побыть наедине. Мы объяснялись больше улыбками и взглядами, чем словами, и глаза ее, светясь чарующей нежностью, встречались с моими.
– Видел ты своего друга сегодня утром? – спросила она, пытаясь прочесть ответ на моем лице.
– Да. А почему ты спрашиваешь об этом сейчас?
– Потому что раньше не было случая.
– А зачем тебе это знать?
– Он просил тебя отдать ему визит?
– Да.
– И ты поедешь к нему?
– Конечно.
– Он очень любит тебя, правда?
– Да, я всегда был в этом уверен.
– И сейчас тоже?
– А почему бы нет?
– И ты любишь его так же, как в школьные годы?
– Да. Но почему ты заговорила об этом сегодня?
– Просто мне хочется, чтобы ты всегда оставался его другом, а он твоим… Но ты не должен ему ничего рассказывать.
– О чем?
– Ну, об этом.
– Да о чем же?
– Сам понимаешь… Ты ничего не говорил ему?
Меня забавляло, что она стеснялась спросить, говорил ли я Карлосу о нашей любви, и я недоуменно сказал:
– Первый раз не могу понять тебя.
– О, святая дева! Как ты не понимаешь? Ну, говорил ли ты ему, что…
И так как я выжидательно смотрел на нее, с невольной улыбкой наблюдая за ее детскими усилиями побороть себя, она наконец сказала:
– Ладно, можешь не отвечать, – и стала складывать столбиками шашки.
– Если не будешь смотреть на меня, я не расскажу, о чем говорил с Карлосом.
– Что ж, хороню… рассказывай, – отвечала она, стараясь не опускать глаза.
– Я открыл ему все.
– Ах! Неужели все?
– Разве это плохо?
– Нет, так и надо было… Но почему же ты не сказал ему раньше, чем он приехал?
– Отец запретил мне.
– Да, но тогда бы он и не приехал. Разве не лучше было бы?
– Разумеется, лучше. Но я не должен был этого делать. А сейчас он остался доволен нашим объяснением.
– И он по-прежнему тебе друг?
– Ведь никакой причины нет рвать нашу дружбу.
– Да, я не хотела бы, чтобы из-за этого…
– Карлос тебе очень признателен, как мне того и хотелось.
– Значит, вы расстались, как обычно… И он уехал довольный?
– Довольный, насколько это возможно в его положении.
– Но я ни в чем не виновата, нет?
– Нет, Мария. И он относится к тебе с тем же уважением, что и раньше.
– Если он в самом деле любит тебя, так и должно быть. А знаешь, почему все так хорошо кончилось с этим сеньором?
– Почему?
– Только не смейся!
– Не буду.
– Да ты уже смеешься!
– Это не над тем, что ты скажешь, а над тем, что уже сказала. Говори, Мария.
– Так случилось, потому что я очень горячо просила об этом святую деву, после того как мама мне все рассказала.
– А если бы святая дева не исполнила твоей просьбы?
– Это невозможно: она всегда исполняет все, о чем я ее прошу. На этот раз я так горячо молилась, я была уверена, что она услышит меня. Мама собирается уходить, – добавила она, – и Эмма совсем засыпает. Видишь?
– Ты хочешь уйти?
– А что же мне делать?… Вы и завтра будете так много писать?
– Кажется, да.
– А если придет Трансито?
– В котором часу она придет?
– Передавала, что в двенадцать.
– К этому времени мы кончим. До завтра!
Она ответила мне теми же словами, но удивилась, когда я хотел захватить платочек, который она держала в протянутой мне руке. Мария не понимала, каким сокровищем был для меня маленький надушенный платочек, и не уступала мне этот дар, пока не пришли дни горя, когда нам суждено было не раз смешивать наши слезы.
Глава XXX Сегодня будет не так, как вчера
На следующее утро я писал под диктовку отца, а он тем временем брился; ради этого занятия он никогда не прерывал начатую работу, хотя и предавался ему с величайшей тщательностью. И сейчас еще можно было догадаться, как прекрасны были в молодости его вьющиеся волосы, поредевшие только над лбом. Но отцу они показались слишком длинными. Приоткрыв дверь на галерею, он позвал мою сестру.
– Она в саду, – откликнулась Мария из рукодельной. – Вам что-нибудь нужно?
– Поди тогда ты, Мария, – ответил отец, пока я давал ему на подпись несколько законченных писем. – Хочешь ли поехать завтра в долину? – спросил он меня, подписывая первое письмо.
– Еще бы!
– Отлично. Дела там много: если мы поедем вдвоем, управимся гораздо быстрее. Надеюсь, сеньор А. напишет со следующей почтой о времени своего отъезда, – и так уж он запоздал с сообщением, к какому дню следует тебе готовиться. Заходи, дочка, – добавил он, повернувшись к Марии, которая остановилась перед приоткрытой дверью.
Мария, войдя, пожелала нам доброго утра. То ли она услыхала последние слова отца, то ли не могла побороть свою застенчивость перед ним, особенно теперь, после разговора о нашей любви, но лицо ее было несколько бледней обычного. Пока отец подписывал письма, взгляд Марии блуждал по стенам комнаты, то и дело украдкой встречаясь с моим.
– Погляди, – сказал отец с улыбкой, показывая на свои волосы. – Не кажется ли тебе, что их слишком; много?
Отвечая, она тоже улыбнулась:
– Да, сеньор.
Тогда подрежь их чуть-чуть. – И он подал ей ножницы, которые достал из лежавшего на столе несессера. – Я сяду так, чтобы тебе было удобнее.
И он устроился посреди комнаты, спиной к нам и к окну.
– Осторожно, доченька, не обкорнай меня, – предупредил отец, когда она приступила к стрижке. – Как ты, готов писать? – обратился он ко мне.
– Да.
Он начал диктовать, переговариваясь с Марией, пока я писал.
– Тебе, наверно, смешно, что я спросил, не слишком ли много у меня волос?
– Нет, сеньор, – ответила Мария, взглядом спрашивая меня, хорошо ли она стрижет.
– А ведь эти самые волосы, – продолжал отец, – были некогда такими же черными и густыми, как у одного знакомого мне юноши.
Тут Мария выпустила из рук прядь волос.
– Что случилось? – спросил он, обернувшись к ней.
– Ничего, я хочу причесать вас, чтобы подстричь ровнее.
– А знаешь, почему они так рано поредели и поседели? – спросил он, продиктовав мне фразу.
– Нет, сеньор.
– Внимательней, сынок, не ошибись.
Мария разрумянилась и украдкой взглянула на меня, стараясь, чтобы отец, сидевший лицом к умывальнику, не увидел этого в зеркале.
– Потому что, когда мне было двадцать лет, то есть когда я женился, я каждый день поливал голову одеколоном. Ну и глупость, правда?
– И теперь тоже поливаете, – заметила она.
Отец рассмеялся, смех у него был звонкий и добродушный.
Я прочел ему конец написанной фразы, и он, продиктовав мне следующую, продолжал разговор с Марией.
– Ну как, готово?
– Кажется, да. Как по-твоему? – спросила она меня.
Когда Мария наклонилась, чтобы стряхнуть волосы с шеи отца, из косы у нее выскользнула роза и упала к его ногам. Она хотела поднять ее, но отец успел сделать это раньше. Мария снова встала позади стула, а отец сказал, после того как осмотрел себя в зеркале:
– Я сам приколю тебе розу в благодарность за твой труд, – и, прикрепив цветок не менее изящно, чем это сделала бы Эмма, добавил: – Пожалуй, кто-нибудь и позавидует мне.
Он удержал Марию, которая хотела убежать, боясь, как бы он еще что-нибудь не сказал, поцеловал ее в лоб и шепнул:
– Сегодня будет не так, как вчера. Мы закончим пораньше.
Глава XXXI …Мир, открывшийся Адаму в первое утро его жизни
Пробило одиннадцать. Работа была закончена, и я стоял у окна в своей комнате.
Такие минуты полного самозабвения, когда мысль парила в неведомых краях, когда горлицы нежно ворковали под сенью апельсиновых ветвей, отягощенных золотыми плодами, а до моего слуха долетал еще более нежно воркующий голос Марии, – минуты эти были полны неизъяснимого очарования.
Детство с ненасытной любознательностью восхищается всем, что дарит его взору божественная наставница – природа; отрочество, предвосхищая будущее, невольно тешит себя чистыми видениями любви, предчувствием счастья, порой, увы, недостижимого; только в юные годы дано познать, те летящие незаметно часы, когда душа жаждет вернуться на небо, о котором она еще не позабыла.
Не розовые кусты, роняющие легкие лепестки в серебряную струю ручья, не величественный полет черных орлов над вершинами гор видели мои глаза. Нет, они видели то, чего не увижу я больше никогда; то, чего не ищет уже мой дух, сломленный суровой действительностью, а созерцает только в сновидениях: они видели лучезарный мир, открывшийся Адаму в первое утро его жизни.
Далеко в горах я различил на черной извилистой тропе фигуры Трансито и ее отца. Они шли к нам, выполняя данное Марии обещание. Пройдя по аллее сада, я поднялся на первый холм и решил подождать их у моста через водопад, который был виден из окон гостиной.
Как всегда, когда мы встречались под открытым небом среди вольной природы, жители гор держались со мной свободно. Они рассказали обо всех событиях за те дни, что мы не виделись.
Я спросил у Трансито, где Браулио.
– Решил не упускать хорошую погоду, занялся вспашкой. А как поживает «святая дева на престоле»?
Так называла Трансито Марию, находя в ней большое сходство с прекрасной мадонной из молельни моей матери.
– Живая чувствует себя отлично и ждет тебя; вокруг нарисованной стоят цветы и горят свечи, чтобы она послала тебе счастье.
Тут мы подошли к дому; Мария с Эммой выбежали навстречу Трансито, радостно поздоровались и, любуясь ею, сказали, что она очень хороша. Это была чистая правда, а счастье сделало ее еще прелестней.
Хосе, сняв шляпу, выслушал ласковые приветствия сеньорит. Он сбросил заплечный мешок, полный принесенных в подарок фруктов и овощей, и по моему настоянию пошел вместе с нами в комнату к маме. Когда мы проходили через гостиную, дремавший под столом Майо заворчал, и горец, смеясь, сказал ему:
– Привет, дедушка! Все еще сердишься на меня? Уж не потому ли, что оба мы старички?
– А Лусия? – спросила Мария у Трансито. – Она почему не пришла с вами?
– Да ее не уговоришь, стесняется, как дикарка.
– Эфраин говорил, что с ним она перестала стесняться.
Трансито рассмеялась.
– Сеньора она не так дичится, он часто приходит к нам, вот она и перестала бояться.
Мы стали расспрашивать, на какой день назначена свадьба. Видя, что дочь смущена, Хосе ответил сам.
– Хотим устроить свадьбу через неделю. Мы так рассудили: встанем все до зари, сразу отправимся и к восходу солнца будем в селении. Если выедете в пять, то нас уже там застанете. У священника все будет подготовлено, и мы рано управимся. Луиса не любит вечеринок, а девочки не танцуют, вот мы и проведем воскресенье как обычно, но только вы все будете у нас в гостях. А в понедельник – каждый за свои дела. Правильно я говорю? – спросил он меня.
– Да, но неужто Трансито пойдет пешком в селение?
– Э! – махнул рукой Хосе.
– А как же еще? – удивилась Трансито.
– Верхом. Я тебе дам лошадь.
– Да нет. Мне больше нравится пешком. И Лусии тоже, да она еще и боится лошадей.
– Почему? – спросила Эмма.
– В нашей провинции только белые ездят верхом, правда, отец?
– Да, а если не белые, то старики.
– Кто это тебе сказал, что ты не белая? – спросил я Трансито, – ты ведь совсем беленькая.
Девушка залилась краской и проговорила:
– Я хотела сказать, только богатые люди, дамы.
Хосе зашел поздороваться с моим отцом, а потом распрощался со всеми, пообещав вернуться к вечеру, как мы ни уговаривали его пообедать с нами.
В пять часов мы всей семьей отправились провожать Трансито до подножья горы; Мария шла рядом со мной.
– Если бы ты только видел, – сказала она, – мою названую дочку в свадебном наряде, что я ей сшила, и в подаренных мамой и Эммой сережках и ожерелье, понял бы, какая она красотка.
– А чего же ты меня не позвала?
– Трансито не позволила. Нам надо спросить у мамы, что полагается делать и говорить посаженым родителям на свадьбе.
– Да, правда. А от жениха и невесты мы узнаем, что отвечают новобрачные, на тот случай, когда нам это понадобится.
Мария ни взглядом, ни улыбкой не ответила на этот намек на наше будущее счастье. И весь оставшийся нам недолгий путь до подножья горы она прошла, глубоко задумавшись.
Браулио уже поджидал свою невесту. Улыбаясь, он подошел к нам и почтительно поздоровался.
– Надо вам вернуться засветло, – сказала Трансито.
Горцы дружески распрощались с нами, и вскоре из леса донесся звучный голос Браулио, распевавшего вуэльты.[34]
После нашего разговора Мария оставалась печальна. Напрасно старался я не думать о причине ее грусти, увы, я знал это слишком хорошо: видя счастье Трансито и Браулио, Мария думала о том, что скоро мы должны расстаться и, кто знает, увидимся ли снова… а может быть, о болезни, которая унесла ее мать. Я не решался нарушить молчание.
Когда мы спускались с последнего холма, Хуан, которого она вела за руку, сказал мне:
– Мария хочет, чтобы я был хороший мальчик и шел сам, она устала.
Тогда я предложил ей опереться на мою руку, чего не сделал бы раньше, стесняясь Эммы и матери.
Мы были уже недалеко от дома. Красные отблески заходящего солнца меркли на склонах западного хребта; луна поднималась над горами у нас за спиной, и смутные тени ив и вьющихся растений падали на озаренные бледным светом стены дома.
Я украдкой всматривался в лицо Марии, пытаясь уловить признаки болезни, – ее предвестником всегда были эти внезапные приступы печали.
– Почему ты загрустила? – спросил я наконец.
– Разве я не такая, как всегда? – ответила она, словно очнувшись. – А ты почему?
– Только потому, что ты печальна.
– Как же мне тебя утешить?
– Будь опять веселой.
– Веселой? – как бы удивилась она. – Тогда и ты развеселишься?
– Да, да!
– Смотри, вот все и прошло, – сказала она, улыбаясь. – Больше тебе ничего не нужно?…
– Больше ничего… Ах, нет! Еще то, что ты мне обещала и не дала.
– Что же это? Право, не помню.
– Не помнишь? А волосы?
– А если заметят, когда я буду причесываться?
– Скажешь, что нечаянно отрезала вместе с лентой.
– Вот это? – спросила она, достав из-под косынки черную прядь и тут же зажав ее в руке.
– Да, это. Дай-ка мне их сейчас.
– Но ведь это лента, – ответила она, снова спрятав прядь под косынку.
– Ладно. Больше я тебя просить не буду.
– Как так – ладно? Зачем же я их обрезала? Просто надо их получше сложить. Завтра утром…
– Сегодня вечером.
– Хорошо, сегодня вечером.
Рука моя нежно поддерживала руку Марии, не прикрытую муслином и кружевами; пальцы ее незаметно переплелись с моими, и она позволила мне поднести их к губам. Поднимаясь по лестнице, она крепче оперлась на меня и спросила томным, умиротворенным голосом:
– Теперь ты доволен? Не будешь больше грустить?
Вечером, после ужина, отец попросил меня прочесть ему статью из последнего номера «Эль Диа». Когда я кончил, он распрощался со мной, а я перешел в гостиную.
Хуан присел рядом со мной и положил мне голову на колени.
– Что же это ты не спишь еще? – спросил я, погладив его.
– Я хочу, чтобы ты уложил меня, – пролепетал он на своем не всем понятном языке.
– А почему не Мария?
– Я на нее сержусь, – ответил он, устраиваясь удобнее.
– На Марию? Что же она тебе сделала?
– Она меня не любит.
– Почему это?
– Я просил, чтобы она мне рассказала сказку про Красную Шапочку, а она не захотела; просил, чтобы она меня поцеловала, а она и не смотрит.
Жалобы Хуана внушили мне опасения, что Мария опять загрустила.
– А вдруг, если тебе приснится страшный сон, – спросил я малыша, – она не встанет и не посидит с тобой, как всегда?
– Тогда я завтра не буду помогать ей рвать цветы для твоей комнаты и не понесу гребни в бассейн.
– Нельзя так говорить, она тебя очень любит. Поди скажи, что я тебя поцеловал за нее, и пусть она расскажет тебе сказку перед сном.
– Нет, – Хуан вскочил на ноги, обрадовавшись, словно его осенила счастливая мысль. – Сейчас я приведу Мимию, и ты ее отругаешь.
– Я?
– Сейчас приведу.
И он побежал на поиски Марии. Вскоре он вернулся, делая вид, будто силой ведет ее за руку. Она, смеясь, спросила:
– Куда это ты меня тащишь?
– Сюда, – ответил Хуан, усаживая ее рядом со мной.
Я рассказал Марии, о чем мы беседовали с ее баловнем. Она обхватила головку Хуана обеими руками и, прижавшись лбом к его лбу, сказала:
– Ах, изменник! Тогда и спи вместе с ним.
Хуан заплакал и потянулся ко мне.
– Нет, дружочек, нет, милый. Твоя Мимия шутит. – И она прижала его к себе.
Но малыш все просился ко мне на руки.
– Значит, ты меня не любишь, Хуан? – жалобно проговорила Мария. – Ладно, теперь ты уже мужчина: сейчас перенесем твою кроватку в комнату к брату; я тебе не нужна больше, буду жить одна и плакать, раз ты разлюбил меня.
Она закрыла рукой глаза, притворяясь, будто плачет. Хуан подождал минутку, но, видя, что Мария по-прежнему льет притворные слезы, потихоньку сполз с моих колен, подошел к ней и, потянув за руку, открыл ее лицо. Убедившись, что Мария весело улыбается, он тоже засмеялся, обхватил ее ручками и уткнулся головой ей в колени.
– Я люблю тебя, больше всех люблю. Я не сержусь, вот ни столечко не сержусь. Я сегодня очень хорошо прочту молитву, за то что ты сшила мне штанишки.
– А ну покажи, какие тебе сшили штанишки, – сказал я.
Хуан гордо встал на диван между мной и Марией, чтобы я мог полюбоваться первыми в его жизни штанишками.
– Какие красивые! – воскликнул я, обнимая его. – Если будешь меня любить и хорошо вести себя, я попрошу, чтобы тебе сшили еще много штанишек, и подарю тебе седло, настоящие кожаные штаны, шпоры…
– И черную лошадку, – прервал он меня.
– Да, конечно.
Мальчик крепко поцеловал меня и, обняв за шею Марию, которая пыталась отвернуться, наградил поцелуем и ее. Встав на колени и сложив руки, он благоговейно прочел молитву и совершенно сонный примостился на диване рядом с Марией.
Я заметил, что левая рука Марии что-то прячет в кудрях Хуана, а на губах у нее играет лукавая улыбка. Взглядом она показала среди волос малыша обещанный мне локон. Я хотел было схватить его, но она не дала, сказав:
– А для меня?… Может быть, это нехорошо, что я прошу у тебя…
– Мои волосы? – спросил я.
Она кивнула головой и добавила:
– Я буду хранить их в одном медальоне с волосами моей матери.
Глава XXXII Не обижайся, малыш…
На следующее утро мне стоило немалых усилий скрыть от отца, с каким огорчением собирался я сопровождать его в поездке по фермам долины. Как всегда, отправляясь даже в недолгий путь, он вмешивался во все приготовления, хотя в этом не было никакой надобности, и чаще обычного давал советы и наказы. Нам предстояло провести целую неделю вне дома, и поэтому полагалось взять с собой запас вкусной домашней еды; но хотя отец не прочь был полакомиться, он расхохотался, увидев, сколько припасов запихивали Эмма и Мария в переметную суму, которую Хуан Анхель должен был приторочить к седлу.
– Помилуй бог, девочки! Неужто все это туда влезет?
– Да, конечно, – отвечала Мария.
– Но этого много даже для епископа. Ага! Наверное, это ты больше всех постаралась ублажить нас.
Мария стояла на коленях, укладывая провизию; она повернулась к отцу и как раз в ту минуту, когда я входил в столовую, робко сказала:
– Но ведь вы уезжаете очень надолго…
– Не так уж надолго, доченька, – смеясь, возразил отец. – О себе я не говорю, я очень за все благодарен, но этот молодой человек наверняка лишится там аппетита… Посмотри только, – обратился он ко мне.
– На что?
На то, что они укладывают. С таким запасом я, пожалуй, захочу там прожить две недели.
– Но это мама распорядилась, – заметила Мария.
– Не обижайся, малыш, – так называл он ее иногда в шутку. – Все отлично, но только я не вижу здесь вина последнего привоза, а его-то обязательно надо взять.
– Да оно не поместится, – улыбаясь, сказала Мария.
– Сейчас поглядим.
И он сам пошел в погреб за вином. Вернувшись вместе с Хуаном Анхелем, тащившим вдобавок несколько банок лососины, он повторил:
– Сейчас поглядим.
– И это тоже? – воскликнула Мария, увидев консервы.
Отец хотел вытащить какую-то уже уложенную банку, но Мария в тревоге остановила его.
– Нет, нет, эту нельзя трогать.
– Почему, доченька?
– Здесь ваши любимые пирожки, и потом… я сама их приготовила.
– Значит, и пирожки для меня? – тихонько спросил отец.
– Они ведь хорошо уложены.
– Я просто говорю…
– Сейчас я вернусь, – прервала Мария, поднимаясь с пола, – надо еще взять носовые платки.
Она убежала и тут же вернулась.
Отец если начинал шутить, то уж не мог остановиться. Наклонившись с бутылкой в руках, он продолжал тем же тоном:
– Ну что ж, вместо пирожков положим вино.
Мария не смела и взглянуть на него. Услыхав, что завтрак подан, она встала.
– Пора за стол, сеньор, – сказала Мария и обратилась к Эмме: – Остальное пусть уложит Эстефана, она справится.
По пути в столовую я столкнулся с Марией у дверей маминой комнаты и остановил ее.
– Срежь у меня сейчас прядь волос, – сказал я.
– Ах, нет! Сама – нет!
– Тогда покажи какую.
– Так, чтобы незаметно было. – И дала мне ножницы.
Она открыла висевший у нее на шее медальон и, протянув мне, сказала:
– Положи сюда.
– А где же волосы твоей матери?
– Я положу их сверху, чтобы твоих не было видно.
Так она и сделала.
– Мне кажется, – сказала Мария, – на этот раз ті едешь с удовольствием.
– Нет, нет. Я еду только, чтобы не огорчать отца. Вполне понятно, что я хочу помочь и помогаю ему.
– Да, конечно. Так и должно быть. Я сама постараюсь не показывать, как мне грустно, а то мама и Эмма тоже загрустят со мной.
– Думай обо мне все время, – сказал я, – целуя волосы ее матери и укладывающую их руку.
– Ах, да, да, все время! – ответила она, и в ее взгляде, как всегда, соединились нежность и доброта.
Мы расстались и вошли в столовую из разных дверей.
Глава XXXIII Стояла тихая, ясная ночь
Семь дней подряд солнце проходило над нами свой круг, и самые поздние ночные часы заставали нас за работой. В последний вечер отец, лежа на складной кровати, диктовал мне, а я писал. Часы в гостиной пробили десять; я повторил конец написанной фразы, однако отец дальше диктовать не стал. Решив, что он меня не слышал, я обернулся и увидел, что он спит глубоким сном. Мой отец был человек неутомимый, но на этот раз работа оказалась непосильной и для него. Я уменьшил свет прикрыл окна и двери и, в ожидании, пока он проснется стал прогуливаться по длинной галерее, в конце которой находился кабинет.
Стояла тихая, ясная ночь. Прозрачный темно-синий небосвод сверкал всем блеском своего летнего убранства В черных кронах сейб, которые рядами шли по обе стороны дома и замыкали патио, в ветвях апельсиновых деревьев, дремлющих поодаль, металось несметное множество летучих мышей: нет-нет да слышно было, как скрипнет ветка, вспорхнет испуганная птица или прошелестит ветер.
Белый портик перед домом, открывающий вход в патио, выделялся на фоне темной долины; его капители казалось, достигали высоты бесформенной громады дальних горных хребтов, чьи вершины озарялись молниями гремевшей над Тихим океаном грозы.
«Мария, – думал я, прислушиваясь к шепоту и дыханию спящей природы, – Мария, наверно, заснула, улыбаясь при мысли, что завтра я снова буду рядом с ней…» Но потом! Это «потом» было ужасно: потом наступит разлука.
Мне послышался топот скакавшего по долине коня. Очевидно, это был слуга, которого мы еще четыре дня назад послали в город и ожидали с нетерпением, – он должен был привезти важные письма.
– Камило? – окликнул я, едва всадник подъехал.
– Я, хозяин, – ответил он и, вознеся хвалу господу вручил мне пачку писем. Звон его шпор разбудил отца.
– Что случилось, приятель? – спросил он у слуги.
– Меня отправили еще в двенадцать, хозяин, но Наука разлилась до самого Гуаябо, и пришлось очень задержаться в дороге.
– Ладно, скажи Фелисиане, чтобы тебе дали поесть, и позаботься о коне.
Просмотрев подписи под несколькими письмами и отыскав наконец то, которого ожидал, отец сказал мне:
– Начнем с этого.
Я прочел вслух несколько строк и, дойдя до середины, невольно остановился.
Отец взял письмо, сжав губы и пожирая строчки глазами, дочитал его до конца и бросил на стол со словами:
– Этот человек убил меня! Прочти письмо. Произошло именно то, чего опасалась твоя мать.
Я взял письмо, боясь убедиться в справедливости моих предположений.
– Читай вслух, – добавил отец, прохаживаясь взад и вперед по комнате и утирая пот со лба.
– Теперь уж спасения нет, – сказал он, едва я кончил. – Такая сумма и при таких обстоятельствах!.. Я сам во всем виноват.
Я остановил его и принялся объяснять, каким способом можно, по моему мнению, сделать потерю менее чувствительной.
– Да, верно, – заметил он, несколько успокоившись. – Так и сделаем. Но кто мог это предвидеть! Наверное, я до самой смерти не разучусь доверять людям.
Это была правда: не раз уже за время его коммерческой деятельности отец получал тяжелые уроки. Однажды вечером, когда он был в городе один, без семьи, к, нему в кабинет вошел служащий, которого послал он в Чокоес обменять ценные бумаги на золото для расплаты с иностранными кредиторами. Посланец сказал ему:
– Я пришел попросить у вас денег, чтобы расплатиться за наем мула, а потом пущу себе пулю в лоб. Я играл и спустил все, что вы мне доверили.
– Все, все проиграно? – воскликнул отец.
– Да, сеньор.
– Возьмите в ящике сколько нужно, чтобы уладить дело.
И, позвав слугу, он распорядился:
– Сеньор только что приехал. Скажи, чтобы ему подали ужин.
Но тогда были другие времена. В молодости удары судьбы переносятся легко, без единой жалобы: человек еще верит в будущее. Но удары, полученные на склоне лет, словно нанесены коварным врагом из-за угла – слишком уж короток путь до могилы… И как редко друзья умершего остаются друзьями его вдовы и детей! Сколько таких, кто, сжимая похолодевшую руку несчастного друга, подстерегает его последнее дыхание, чтобы тут же превратиться в палача, мучителя осиротевшей семьи!..
Три часа прошло после разговора, описанного мною по воспоминаниям об этой роковой ночи. Как много таких ночей еще предстояло пережить мне в грядущие годы.
Отец, укладываясь на кровать, стоявшую рядом с моей, сказал:
– Мы должны по возможности скрыть все, что случилось, от твоей матери. Кроме того, необходимо отложить на день наше возвращение.
Отец всегда говорил, что спокойный сон служит ему утешением во всех горестях жизни; и все же, когда вскоре после обращенных ко мне слов он заснул, я почувствовал в его мирном сне такую бесстрашную покорность судьбе, в его спокойствии такое достоинство, что долго не мог отвести от него глаз.
Еще не рассвело, но я вышел из дома, надеясь умерить на свежем воздухе лихорадочное волнение, снедавшее меня всю бессонную ночь. Только крики кардиналов и гуачарак в ближнем лесу предвещали зарю; природа словно ленилась просыпаться. С первыми лучами солнца засуетились птицы в платановых рощах; голуби парочками разлетелись по лугам; загалдели стайки попугаев, перекрикивая шум бурного водопада; с цветущих крон деревьев, затеняющих плантации какао, в медлительном, плавном полете поднялись серые цапли.
Больше никогда не суждено мне слушать это пение, вдыхать благоухание цветов, созерцать напоенную светом даль, как в веселые дни детства или прекрасную пору юности: чужие люди живут в моем родном доме!
День уже клонился к вечеру, когда мы с отцом стали подниматься по зеленому пологому склону, возвращаясь домой в горы. Табуны кобыл, которые паслись на обочинах дороги, испуганно фыркая, уступали нам путь, а кулики взлетали из прибрежных кустов, словно пытаясь напугать нас своим криком и резкими взмахами крыльев.
Мы уже ясно видели западную сторону галереи, где собралась, поджидая нас, вся семья; отец снова напомнил мне, что необходимо скрыть причину нашего запоздания и держаться спокойно.
Глава XXXIV Зачем ты так торопишься?
Однако на галерее были не все: среди собравшихся я не нашел Марии. Недалеко от ворот в патио, слева от нас, возвышался большой камень, с которого видна была вся долина. На камне стояла Мария, а Эмма уговаривала ее сойти вниз. Мы подъехали к девушкам. Распущенные волосы Марии блестящими темными локонами падали на зеленое муслиновое платье; присев, чтобы ветер не развевал ее широкую юбку, она уверяла сестру, которая потешалась над ее неудачными попытками спуститься:
– Но ты ведь видишь, я не могу.
– Как же тебе удалось сюда забраться, доченька? – спросил отец, смеясь и удивляясь.
Мария, смущенная своей проделкой, поздоровалась с нами и ответила:
– Да ведьмы были одни…
– Другими словами, – перебил ее отец, – нам следует уехать, и тогда ты спустишься. А Эмма как спустилась?
– Подумаешь, какая трудность, если я ей помогла.
– Просто я не боялась.
– Тогда поехали, – сказал, обращаясь ко мне, отец. – Но только будь осторожна, девочка…
Он отлично понимал, что я останусь. Взгляд Марии говорил мне: «Не уходи». Отец снова сел в седло и направился к дому, моя лошадь побежала следом за ним.
– Вот здесь мы вскарабкались, – проговорила Мария, показывая мне трещины и уступы в скале.
Когда я взобрался наверх, она протянула мне руку. Вряд ли эта дрожащая ручка могла мне помочь, но я поспешил ухватиться за нее. Я присел у ног Марии, и она сказала:
– Видишь, что мы натворили. Что скажет папа? Подумает еще, что мы обе с ума сошли.
Я смотрел на нее не отвечая. Блеск ее глаз, избегавших моего взгляда, и легкая бледность подтверждали, что она так же счастлива, как я.
– Я уйду одна, – повторила Эмма; на первую ее угрозу мы даже не обратили внимания, и она отошла на несколько шагов, делая вид, что и впрямь собирается уходить.
– Нет, нет, подожди нас минутку, – взмолилась Мария, поднимаясь на поги.
Увидев, что я не двинулся с места, она спросила:
– Что же ты?
– Нам и здесь хорошо.
– Да, но Эмма хочет уйти, а мама ждет тебя. Помоги мне спуститься, теперь я не боюсь. Дай-ка сюда твой платок.
Она сложила платок и сказала:
– Держи за этот конец, а когда тебе не хватит руки, чтобы помочь мне, я ухвачусь за другой.
Убедившись, что никто не видит, как она спускается, Мария проделала все очень ловко и уже у подножья утеса крикнула мне:
– А теперь ты!
Выбрав место пониже, я спрыгнул с камня на траву и предложил ей руку, чтобы идти домой.
. – Ну, а если бы меня не было, как бы ты спустилась, Дурочка?
– Сама. Я как раз собиралась, когда ты подъехал, но побоялась упасть. Очень уж сильный ветер. Вчера мы тоже взбирались сюда, и я отлично спустилась. А почему вы так запоздали?
– Заканчивали дела, которые можно было решить только па месте. А ты что делала все это время?
– Хотела, чтобы оно скорей прошло.
– И больше ничего?
– Еще шила… и много думала.
– О чем?
– О том, о чем только думают, но не говорят.
– Даже мне?
– Именно тебе.
– Почему?
– Потому что ты это и так знаешь.
– А читать не читала?
– Нет, мне грустно читать одной, а потом – мне надоели рассказы из «Домашнего чтения» и «Вечеров на ферме». Я хотела почитать «Аталу», но ты говорил, что там есть одно место…
И она побежала вдогонку за опередившей нас Эммой.
– Погоди, Эмма… Зачем ты так торопишься?
Эмма приостановилась и, улыбнувшись, зашагала дальше.
– Что ты делала позавчера в десять вечера?
– Позавчера? Ах! – воскликнула она, остановившись. – Почему ты спрашиваешь?
– Мне тогда было очень грустно, я тоже думал о том, о чем думают, но не говорят.
– Нет, нет, ты можешь.
– Что могу?
– Можешь говорить.
– Расскажи мне, что ты делала позавчера, тогда и я скажу.
– Мне страшно.
– Страшно?
– Вероятно, все это пустяки. Мы сидели с мамой на галерее, вон с той стороны, я осталась с ней, потому что она жаловалась на бессонницу. Вдруг мы услышали, как стучит окно в твоей комнате; я подумала, что его оставили открытым, взяла в гостиной свечу и пошла посмотреть, в чем дело… Глупость какая! Меня страх берет даже при одном воспоминании.
– Рассказывай же.
– Я открыла дверь и увидела, что на створке окна, а ее так и качало ветром, сидит черная птица величиной с крупного голубя. Она крикнула, я такого крика ни у одной птицы не слыхала. Свет, наверно, ослепил ее на минуту, но она тут же сорвалась с места и, пролетев над моей головой, крылом задула свечу, а я перепугалась и убежала. В эту ночь мне приснилось… Но что это у тебя такое лицо?
– Какое? – спросил я, не выдавая волнения, вызванного ее рассказом.
Все это произошло точно в тот час, когда мы с отцом читали злополучное письмо, а черная птица была та самая, что задела меня крылом по лбу во время ночной грозы, когда у Марии повторился припадок; та самая, что иной раз вгоняла меня в дрожь, кружа над моей головой после захода солнца.
– Какое? – повторила Мария. – Я вижу, что напрасно рассказала тебе.
– А ты не вообразила все это?
– Нет, не вообразила.
– Что же тебе приснилось?
– Это я не должна тебе говорить.
– А потом скажешь?
– Ах, может быть, никогда.
Эмма уже открыла дверцу в патио.
– Подожди нас, – крикнула Мария, – на этот раз в самом деле подожди.
Мы нагнали Эмму, и девушки, взявшись за руки, подошли к галерее. Мною овладел непонятный страх: я сам не знал, чего я боюсь. Но, вспомнив о предупреждении отца, я постарался взять себя в руки и проявлял величайшее спокойствие, на какое только был способен, пока не ушел к себе в комнату под предлогом, что надо переодеться с дороги.
Глава XXXV Лучше бы мне было скрыть свою радость…
На следующий день, двенадцатого декабря, была назначена свадьба Трансито. Сразу же после нашего приезда Хосе известили, что в церкви мы будем между семью и восьмью утра. На венчание собирались мама, Мария, Фелипе и я, а Эмма решила остаться дома, чтобы приготовить подарки, которые надо было пораньше отправить в дом на горе и вручить новобрачным при возвращении из церкви.
Вечером после ужина сестра играла на гитаре, сидя на диване в конце галереи, возле моей комнаты, а мы с Марией разговаривали, опершись на перила.
– Тебя что-то тревожит, – сказала она, – но не пойму что.
– Может ли это быть? Разве ты не видишь, как я счастлив! Я только и мечтал снова быть рядом с тобой.
– Нет, ты стараешься это показать. Но я вижу то, чего никогда за тобой не замечала: ты притворяешься.
– Перед тобой?
– Да.
– Ты права. Очевидно, мне суждено притворяться всю жизнь.
– Нет, я не сказала – всегда, только сегодня вечером.
– Всегда.
– Нет, только сегодня.
– Вот уже сколько месяцев я всех обманываю…
– И меня тоже?… Меня? Ты меня обманываешь?!
Она старалась прочесть в моих глазах то, чего так боялась. Я рассмеялся, и она, смутившись, сказала:
– Объясни же мне.
– Не могу.
– Ради бога, ради… ради того, что ты больше всего любишь, объясни.
– Все и так понятно.
– Да нет же!
– Дай договорить: чтобы отомстить за то, что ты подумала, я бы никогда тебе ничего не сказал. Но ты попросила ради того, что, как ты, сама знаешь, я больше всего люблю…
– Я этого не знаю.
– Тогда считай, что я тебя обманываю.
– Нет, нет. Сейчас скажу. Но как я могу сказать это тебе?
– Подумай.
– Уже подумала, – проговорила Мария после минутного молчания.
– Тогда скажи.
– Я хотела бы, чтобы после бога и тебя самого… я хотела бы, чтобы ты любил меня.
– Нет, не так.
– А как же тогда? Ах! Значит, то, что ты говорил, правда?
– Скажи по-другому.
– Сейчас. Но если ты и теперь не захочешь…
– Что?
– Ничего. Не смотри на меня.
– Я не смотрю.
И тут она решилась прошептать едва слышно.
– Ради Марии, которая тебя…
– Так любит, – закончил я, сжав руки Марии, протянутые как бы в подтверждение ее невинной мольбы.
– Ну, теперь скажи, – настаивала она.
– Я обманывал тебя, потому что не смел признаться, как сильно тебя люблю.
– Час от часу не легче! Почему же ты не говорил об этом?
– Потому что боялся…
– Чего боялся?
– Что ты меня любишь меньше, меньше, чем я тебя.
– Поэтому? Ну, значит, ты сам себя обманывал.
– Если бы я сказал тебе об этом…
– Ведь глаза говорят все помимо нашей воли.
– Ты так думаешь?
– Этому научили меня твои глаза. Теперь скажи, почему ты сегодня такой грустный? Ты видел доктора в последние дни?
– Да.
– Что он сказал тебе обо мне?
– То же, что и прежде: больше это с тобой не повторится. Не думай ни о чем.
– Одно только слово: что еще он говорил? Ведь ему кажется, я страдаю той же болезнью, что моя мать… и, быть может, он прав.
– О нет! Никогда он этого не говорил. И потом, ты уже здорова.
– Да. И все же сколько раз… сколько раз я с ужасом думала об этой болезни. Но я верю, что бог услышал меня: я так горячо ему молилась…
– Вероятно, не так горячо, как я.
– Молись ему всегда.
– Всегда, Мария. Знаешь, ты права, я и в самом деле сегодня изо всех сил стараюсь быть спокойным, есть на то причина. Но, как видишь, ты помогла мне забыть обо всем.
Я рассказал ей о дурных известиях, полученных нами третьего дня.
– И еще эта черная птица! – воскликнула она, когда я кончил, и с ужасом оглянулась на мою комнату.
– Как можно так расстраиваться из-за пустяков!
– Меня расстроил сон, который я видела в ту ночь.
– Ты по-прежнему не хочешь рассказывать?
– Сегодня пет, в другой раз. Поговорим немного с Эммой, прежде чем ты уйдешь. Она так мила с нами…
Через полчаса мы распрощались, уговорившись встать пораньше, чтобы не опоздать в церковь.
Хуан Анхель постучался ко мне в дверь, когда не было еще и пяти. Они с Фелипе подняли такой шум на галерее, приводя в порядок сбрую и распределяя лошадей, что я пришел к ним на помощь раньше, чем они ожидали.
Но вот Мария открыла дверь гостиной: одну из принесенных Эстефаной чашек кофе она подала мне, пожелала доброго утра, а затем пригласила Фелипе взять вторую чашку.
– Ах, сегодня так! – сказал он, лукаво улыбаясь. – Вот что значит страх. А караковый просто бесится.
Мария была очаровательна, и глаза мои ясно ей об этом сказали. Изящную шляпу черного бархата, украшенную клетчатой лентой, стягивали под подбородком такие же ленты; к полям шляпы была приколота еще обрызганная росой роза; голубая вуаль прикрывала блестящие толстые косы. Одной рукой Мария придерживала черную юбку, опоясанную поверх черного жилета голубым кушаком с бриллиантовой пряжкой. Широкий плащ свободными складками ниспадал с ее плеч.
– На какой лошади ты поедешь? – спросил я.
– На караковом жеребце.
– Ни в коем случае! – воскликнул я испуганно.
– Почему? Ты боишься, он меня сбросит?
– Конечно!
– Да нет, я уже ездила на нем. Я ведь не такая, как раньше. Спроси у Эммы, я гораздо храбрее, чем она. Вот увидишь, караковый меня слушается.
– Но он никому не позволяет дотронуться до себя. А ты на нем давно не ездила, – он может испугаться широкой юбки.
– Обещаю даже не показывать ему хлыста.
Фелипе верхом на Чиво – так звали его гнедого жеребца – уже делал пробежку по двору, пуская в ход свои новые шпоры.
Мама тоже была готова к отъезду. Я помог ей сесть на любимую светло-рыжую лошадку, единственное, по ее мнению, кроткое существо. Не очень-то я был спокоен, когда подсаживал Марию на каракового. А она, прежде чем сесть в седло, потрепала по шее беспокойно перебиравшего ногами коня, и он замер в ожидании, жуя удила и прислушиваясь к легкому шелесту ее одежды.
– Вот видишь? – спросила Мария, уже сидя в седле, – он меня знает. Когда папа купил для тебя этого коня, у него болела передняя нога, и я каждый день следила, чтобы Хуан Анхель хорошенько ухаживал за ним.
Лошадь фыркнула, поводя ушами, она, без сомнения, узнала этот ласковый голос.
Мы двинулись в путь. Хуан Анхель следовал за нами, перебросив через луку седла узлы с туалетами, которые понадобятся сеньорам в селении.
Конь Марии, гордясь своей всадницей, казалось, хотел блеснуть самой легкой и плавной иноходью. Его агатово-черная грива струилась по изогнутой шее, а густая челка меж маленьких чутких углей то и дело прикрывала сверкающие глаза. Мария держалась в седле так непринужденно, словно ехала на смирном муле.
Через некоторое время Мария, очевидно, совсем перестала бояться. Заметив, что я уже не опасаюсь горячего нрава коня, она сказала мне тихонько, так, чтобы не могла услышать мама:
– Сейчас я подстегну его, только разочек.
– Будь осторожна, не советую.
– Один только разочек, чтобы ты увидел, как все просто. Ты несправедлив к караковому, ведь ты больше любишь своего серого.
– Ну, раз караковый так тебя любит, теперь будет по-другому.
– На нем ты ездил в ту ночь за доктором.
– Ах, верно! Какой превосходный конь.
– И после всего ты не ценишь его по заслугам.
– Ты тоже, раз хочешь хлестнуть его ни за что ни про что.
– Вот увидишь, это все пустяки.
– Осторожно, осторожно, Мария! Прошу тебя, отдай мне хлыст.
– Ладно, оставим на после, когда выедем в открытое поле.
И она рассмеялась, увидев, в какую тревогу повергла меня ее затея.
– В чем дело? – спросила мама, поравнявшись с нами, после того как я намеренно замедлил бег коня.
– Ничего, сеньора, – ответила Мария. – Просто Эфраин все еще боится, что лошадь сбросит меня.
– Ну, если ты… – начал было я, но она, подавая знак, чтобы я замолчал, незаметно прижала к губам рукоять хлыста и тут же отдала его мне.
– А что это ты так расхрабрилась сегодня? – спросила мама. – В прошлый раз ты испугалась, когда села на эту лошадь.
– И пришлось заменить ее, – подхватил Фелипе.
– Вы меня совсем застыдили, – сказала Мария и, зардевшись, взглянула на меня. – Ведь сеньор поверил, будто смелей меня нет никого.
– Так, значит, сегодня ты не боишься? – снова спросила мама.
– Правду говоря, боюсь, – призналась Мария. – Но не так, как раньше. Лошадь стала послушней, а кроме того, есть кому укротить ее, если она взбунтуется…
Когда мы выехали в пампу, солнце, прорвавшись сквозь туман, затянувший горы у нас за спиной, уже разливало золотистое сияние по лесам, которые, то извиваясь длинной лентой, то сбиваясь отдельными массивами, оживляли однообразие равнины. Мы переезжали вброд речушки, и они, сверкая под солнечными лучами, терялись в темноте лесов, а петлявший вдали Сабалетас казался струей жидкого серебра, окаймленной синеватыми зарослями.
Мария опустила вуаль на лицо; сквозь колеблемый ветром небесно-голубой газ я видел порой устремленные на меня глаза, и перед ними меркла вся роскошь окружающей нас природы.
Проехав через равнину, мы углубились в густые леса. Долгое время ни я, ни Мария не произносили ни слова; только Фелипе болтал без умолку, расспрашивая маму обо всем, что встречалось по пути.
Мария, улучив минуту, когда мы оказались рядом, спросила:
– О чем ты задумался? Ты опять стал печален, как вчера вечером. Значит, эта неприятность и в самом деле очень серьезна?
– Я о ней и не думал, ты заставила меня забыть обо всем.
– А этот ущерб непоправим?
– Возможно, все уладится. Сейчас я думал о счастье Браулио.
– Только о его счастье?
– Мне легче представить себе счастье Браулио. С сегодняшнего дня он будет бесконечно счастлив. А я должен уехать, должен покинуть тебя на долгие годы.
Она слушала, не глядя на меня, а когда подняла наконец глаза, я увидел, что радостный блеск, озарявший их утром, не погас. Откинув вуаль, она снова спросила:
– Так ущерб не очень велик?
– А почему ты все твердишь о нем?
– Не догадываешься? Значит, только мне это пришло в голову? Ну что ж, тогда не буду посвящать тебя в свои мысли. Лучше уж сердись, видя, как я радуюсь после всего, что ты рассказал мне вчера.
– Тебя это известие обрадовало?
– Сначала огорчило, когда ты рассказывал, но потом…
– Что потом?
– Я стала думать по-другому.
– И вместо огорчения почувствовала радость?
– Не совсем так, но…
– Стала такой, как сегодня.
– Я ведь говорила. Я знала – тебе не понравится мое настроение, и я не хочу, чтобы ты считал меня дурочкой.
– Тебя? Неужели ты воображаешь, что это возможно?
– Почему же нет? Я, как всякая другая девушка, способна легкомысленно отнестись к серьезным вещам.
– Нет, ты не способна.
– Да, сеньор, да, по крайней мере, ты будешь так думать, пока я не оправдаюсь перед тобой. Но поговорим немного с мамой – боюсь, она будет недовольна, что ты слишком много болтаешь со мной, а я тем временем наберусь храбрости, чтобы рассказать тебе обо всем.
Так мы и сделали, но через четверть часа наши лошади уже опять шли рядом. Мы снова выехали в поле и увидели белеющую вдали колокольню церкви и красные черепичные кровли среди зеленых густых садов.
– Говори же, Мария, – сказал я.
– Вот видишь, ты сам хочешь, чтобы я оправдалась. А если оправдание окажется недостаточным? Лучше бы мне было скрыть свою радость, но раз ты сам не захотел научить меня притворяться…
– Как мог я учить тебя тому, чего сам не умею?
– Прекрасная у тебя память! Забыл уже, что ты говорил мне вечером? Вот я и воспользуюсь этим уроком.
– С сегодняшнего дня?
– В эту минуту – нет, – отвечала она, сама смеясь над своими попытками быть серьезной. – Послушай, я никак не могла не радоваться сегодня. Вчера вечером когда мы расстались, я подумала, что неприятность, которая постигла папу, может привести… Ох! Что бы он подумал обо мне, если бы узнал?…
– Объясни же, в чем дело, и я скажу тебе, что он подумает.
– Если потерянная сумма так велика, – решилась наконец Мария, расчесывая гриву лошади рукояткой хлыста, который я вернул ей, – ты будешь папе очень нужен… и он позволит тебе остаться и помогать ему.
– Да, да, – отвечал я, покоренный робостью и тревогой, светившимися в ее глазах во время этого признания: ведь она так боялась оказаться в чем-нибудь виноватой.
– Значит, это и вправду возможно?
– Я освобожу отца от обещания послать меня учиться в Европу, а сам пообещаю бороться вместе с ним до конца ради спасения его доброго имени. И он согласится, должен согласиться. Тогда мы с тобой не расстанемся никогда… никто не разлучит нас. И тогда мы скоро…
Не поднимая глаз, она наклонила голову в знак согласия, и румянец, который я разглядел сквозь развевающуюся по ветру вуаль, был румянцем стыдливого ангела. Когда мы приехали в селение, Браулио, радостно поздоровавшись с нами, сказал, что священник нас ждет. Мама с Марией переоделись, и мы отправились.
Старенький священник, завидев нас из своего домика, стоявшего рядом с церковью, вышел к нам навстречу и пригласил позавтракать с ним, но мы, принеся свои извинения, вежливо отказались.
Во время венчания лицо Браулио, хотя и необычно бледное, сияло счастьем. Трансито не поднимала глаз, и голос у нее дрожал, когда пришла ее очередь отвечать; Хосе, стоя рядом со священником, нетвердой рукой сжимал свечу, взгляд его все время переходил с лица священника на лицо дочери, и глаза, хотя не были печальны, еще хранили следы пролитых слез.
Когда священник благословил соединенные руки новобрачных, Трансито осмелилась взглянуть на мужа: взгляд ее светился любовью, преданностью и чистотой. То был обет, данный любимому человеку после обета, принесенного перед лицом бога.
Мы прослушали мессу. Когда все вышли на улицу, Браулио сказал, что пока будут седлать лошадей, они отправятся домой, а мы нагоним их дорогой.
Через полчаса мы нагнали прелестную пару и Хосе; старик вел в поводу старую серую мулицу, на которой были привезены подарки для священника, овощи на продажу и праздничная одежда для мужчин. Трансито оделась в свой наряд, и он был ей к лицу не меньше, чем наряд новобрачной: из-под соломенной шляпы косы падали на черную шаль с фиолетовой отделкой; розовая ситцевая юбка в пышных оборках, слегка приподнятая. чтобы ее не намочило росой, открывала по временам стройные ножки, а из-под распахнувшейся ненароком шалун выглядывала белая, шитая красным и черным шелком блузка.
Мы замедлили шаг коней, чтобы проехать немножко вместе с ними и подождать маму. Трансито, шагая рядом с Марией, снимала с ее подола соломинки, приставшие когда мы проезжали через жнивье. Она мало говорила, но ее прелестное лицо без слов выражало робкую признательность и счастье.
Когда мы распрощались, пообещав приехать вечером в горы, Трансито улыбнулась Марии почти с сестринской нежностью. Мария, сжимая робко протянутую руку своей названой дочери, сказала:
– Меня беспокоит, как ты пойдешь всю дорогу пешком.
– Почему, сеньорита?
– Сеньорита?
– Ах, надо говорить – матушка?
– Да, да.
– Ладно. Мы ведь пойдем не спеша, правда? – обратилась она к мужчинам.
– Конечно, – ответил Браулио. – А если сегодня ты наконец не постесняешься опираться на мою руку при подъемах, то и устанешь меньше.
Тут нас нагнали мама и Фелипе. Мама пригласила Хосе со всей семьей к нам завтра на обед, и он обещал прийти.
На обратном пути у нас завязался общий разговор, и мы с Марией постарались развлечь маму, которая жаловалась на усталость, как всегда после верховой езди. Только уже подъезжая к дому, Мария шепнула мне:
– Ты хочешь сегодня же поговорить с папой?
– Да.
– Сегодня ничего не говори.
– Почему?
– Потому что не надо.
– Когда же, по-твоему, сказать?
– Если в течение недели он не будет говорить о твоем отъезде, найди сам случай сказать ему обо всем. И знаешь, когда это лучше сделать? В тот день, когда вы будете много работать вместе. Он сам почувствует, как важна для него твоя помощь.
– Трудно мне будет вытерпеть все это время, гадая, согласится он или нет.
– А если он сразу откажет?
– Ты этого боишься?
– Да.
– Что же мы тогда будем делать?
– Ты – подчинишься.
– А ты?
– Ах, кто знает!
– Ты должна верить, что он согласится, Мария.
– Нет, нет. Если я обманусь в своих надеждах, я знаю, этот обман будет стоить мне слишком дорого. Сделай лучше так, как я сказала, тогда, может быть, все обойдется.
Глава XXXVI Тогда что означает этот бред?
Мы подъехали к дому. Меня удивило, что окна в маминой комнате были закрыты. Я помог маме спешиться и стал помогать Марии, когда навстречу к нам выбежала Элоиса, знаками показывая, чтобы мы не шумели.
– Папа прилег, – сказала она, – ему нездоровится.
Только я и Мария могли догадываться о причине недомогания, и мы невольно переглянулись. Мама с Марией тут же пошли проведать отца, я последовал за ними. Понимая, как мы взволновались, он сказал дрожащим от озноба голосом:
– Это пустое: вероятно, я утром был слишком легко одет и простудился.
Руки и ноги у него были ледяные, лоб горел.
Через полчаса Мария и мама уже переоделись по-домашнему. Подали завтрак, но они не вышли в столовую. Когда я встал из-за стола, Эмма сказала, что отец зовет меня.
Лихорадка усиливалась. Мария стояла прислонившись к спинке кровати, Эмма рядом с ней, а мама сидела у изголовья.
– Зачем столько света, погасите какую-нибудь свечу, – говорил отец, когда я вошел.
Горела только одна свеча на столе, да и ту заслонял от него полог кровати.
– Вот и Эфраин пришел, – сказала мама.
Нам показалось, будто отец не слышит ее. Через минуту он проговорил как бы про себя:
– Другого выхода нет. Где же Эфраин? Надо отправить письма.
Я подошел и встал так, чтобы он видел меня.
– А, хорошо. Принеси все сюда, я подпишу.
Мама сидела опустив голову на руку. Мария и Эмма вопросительно поглядывали на меня, пытаясь понять, существуют ли в действительности эти письма.
– Когда вы отдохнете, мы все и отправим.
– Что за человек! Что за человек! – прошептал отец и впал в забытье.
Мама вызвала меня в гостиную.
– Мне кажется, – сказала она, – надо пригласить доктора, как ты думаешь?
– Полагаю, надо. Даже если лихорадка пройдет, его визит не помешает, а если…
– Нет, нет, – прервала она меня, – когда болезнь у него начинается так, это всегда серьезно.
Отправив слугу зa доктором, я вернулся к отцу. Он снова позвал меня.
– Давно ли вы вернулись?
– Больше часа.
– А где мама?
– Сейчас поищу ее.
– Ничего ей не говори.
– Конечно, сеньор, не беспокойтесь.
– Ты сделал приписку к письму?
– Да.
– И достал из шкафа всю корреспонденцию и расписки?
Его, несомненно, преследовала мысль о возмещении понесенного ущерба. Мама услыхала наш разговор и едва ей показалось, что отец задремал, спросила меня:
– У отца неприятности? Он получил дурные известия? Что это он скрывает от меня?
– Ничего не случилось и ничего от вас не скрывают, – ответил я, изо всех сил стараясь держаться естественно.
– Тогда что означает этот бред? И что это за человек, на которого он жалуется? О каких письмах говорит все время?
– Понять не могу, сеньора.
Мама моим ответам не поверила, но других я ей дать не мог.
В четыре часа приехал доктор. Жар не уменьшался, больной то бредил, то впадал в забытье. Все домашние средства против предполагаемой простуды не принесли никакого облегчения.
Доктор распорядился приготовить горячую воду и все необходимое для того, чтобы поставить отцу пиявки, и пошел вместе со мной в мою комнату. Пока он составлял лекарство, я попытался узнать его мнение о болезни.
– Возможно, это воспаление мозга, – сказал он.
– А что за боли в области печени?
– Одно к другому отношения не имеет, но и это нельзя упускать из вида.
– Значит, вам кажется, он серьезно болен?
– Обычно воспаление мозга начинается именно так. Но если захватить болезнь вовремя, часто удается остановить ее. Ваш отец был очень переутомлен последнее время?
– Да, очень. До вчерашнего дня мы объезжали фермы на равнине, и он много работал.
– А не было ли у него каких-либо неприятностей, серьезных огорчений?
– Думаю, я должен говорить с вами откровенно. Три дня назад он получил известие, что дело, на успех которого он очень рассчитывал, потерпело неудачу.
– И это очень его взволновало? Простите меня за расспросы, но это необходимо. Во время вашего учения, а еще чаще на практике у вас будет случай убедиться, что недуги, вызванные душевными страданиями, проявляются в симптомах других, более известных медицине болезней или же осложняются ими.
– Думаю, вы можете быть почти уверены в том, что несчастье, о котором я сказал, явилось главной причиной болезни. Но только должен предупредить вас – моя мать ничего об этом не знает, отец не хочет огорчать ее.
– Понимаю. Вы правильно сделали, рассказав мне все: поверьте, я найду способ осторожно воспользоваться вашим признанием. Очень сочувствую вам! Теперь картина стала для меня яснее. Пойдемте, – добавил он, беря стакан с лекарством, – надеюсь, это питье принесет ему облегчение.
Было уже два часа ночи. Температура не упала ни на градус. Доктор, который до этого времени сидел у больного, пошел отдохнуть, наказав вызывать его при малейшей тревоге.
В слабо освещенной комнате царила глубокая тишина Мама сидела в кресле у изголовья кровати. По движению губ и взгляду, устремленному на висевшее над дверью в гостиную изображение Христа, можно было понять, что она молится. Очевидно, по отдельным словам отца она догадалась о постигшей нас беде. Мария, откинув полог, опустилась на колени и пыталась согреть ноги больного, который снова стал жаловаться на холод. Я подошел к ней и тихонько сказал:
– Пойди приляг хоть ненадолго.
– Зачем? – спросила она, подняв склоненную на руку голову. Голова эта с растрепавшимися за бессонную ночь волосами была еще прекраснее, чем украшенная изящным убором вчера, во время утренней прогулки.
– Тебе вредно не спать всю ночь.
– Нет, нет, не бойся. Который час?
– Уже около трех.
– Я ничуть не устала. Скоро рассвет, лучше ты пока поспи, а если надо будет, я тебя позову.
– Как ноги, согрелись?
– Ах, нет, очень холодные.
– Позволь, я заменю тебя ненадолго, а потом пойду посплю.
– Хорошо, – сказала Мария и бесшумно поднялась.
Она протянула мне щетку и, улыбаясь, объяснила, как надо растирать ступни. Когда я сменил ее, она шепнула:
– Я только на минутку, посмотрю, что там с Хуаном, и вернусь.
Малыш проснулся и позвал ее, не увидев рядом с собой. Послышался ласковый голос Марии, уговаривающей Хуана лежать спокойно, потом звук поцелуев. Часы пробили три. Мария вернулась и снова заняла свое место.
– Не пора ли дать лекарство? – спросил я.
– Кажется, пора.
– Спроси у мамы.
Мама взяла со стола лекарство, а я свечу, и мы подошли к постели. Услыхав мамин голос, отец открыл воспаленные глаза, но тут же загородил их рукой от света. Он привстал и снова пожаловался на боль в правом боку; обведя комнату затуманенным взглядом, отец что-то проговорил, мы уловили слово «жажда».
– Это утолит жажду, – сказала мама, подавая ему стакан.
Отец снова упал на подушки и, поднеся руки к голове, прошептал:
– Здесь…
Мы уговорили его сделать еще одну попытку подняться, но силы изменили ему.
По маминому лицу было видно, как пугает ее эта слабость.
Присев на край кровати и опершись на подушку, Мария нежным голосом сказала больному:
– Папа, постарайтесь приподняться, выпейте лекарство. Я помогу вам.
– Попробую, дочка, – еле слышно ответил он.
Поддерживая левой рукой отца за плечи, она положила его голову к себе на грудь. Черные волосы Марии смешались с его благородными сединами.
Лекарство было выпито, и мама отдала мне стакан, а Мария осторожно опустила отца на подушки.
– Ах, Иисусе! Как он ослабел! – прошептала она, когда мы отошли к столу, чтобы поставить на место свечу.
– Это снотворное, – сказал я, чтобы ее успокоить.
– По он уже меньше бредит. Что сказал тебе доктор?
– Что необходимо выждать, прежде чем принимать более решительные меры.
– Пойди отдохни, мы справимся сами. Слышишь? Уже половина четвертого. Я разбужу Эмму, она останется со мной, а ты уговори маму тоже прилечь хоть ненадолго.
– Ты совсем побледнела, тебе потом будет очень плохо.
Она стояла перед маминым туалетным столиком и, отвечая мне, заглянула в зеркало и поправила руками волосы.
– Не такая уж бледная. Вот увидишь, ничего но случится.
– Если ты сейчас немного отдохнешь, возможно. Я позову тебя, когда рассветет.
В конце концов я добился, чтобы они оставили меня одного, и сел у изголовья кровати. Больной спал неспокойно, по временам он снова начинал бредить.
Целый час воображение рисовало мне ужасные картины всего, что может последовать за этим несчастьем, и при одной мысли сердце у меня сжималось.
День занимался: сквозь щели дверей и оконных жалюзи пробивались полоски света, огонек свечи померк, уже раздавалось пение утренних птах и гомон домашней птицы.
Вошел доктор.
– Вас кто-нибудь позвал? – спросил я.
– Нет, просто сейчас я уже должен быть здесь. Как прошла ночь?
Я рассказал ему о своих наблюдениях. Он пощупал пульс, глядя на часы.
– Никаких перемен, – проговорил он как бы про себя. – А лекарство? – обратился он ко мне.
– Принял еще раз.
– Повторим, а чтобы лишний раз его не беспокоить, тут же поставим и горчичники.
Все это мы проделали при помощи Эммы.
Доктор был заметно обеспокоен.
Глава XXXVII Я с невыразимой нежностью любовался Марией…
В течение трех дней болезнь упорно не поддавалась стараниям доктора победить ее; симптомы были настолько грозны, что даже он не всегда мог скрыть овладевшую им тревогу.
Наступила полночь. Доктор незаметно вызвал меня в гостиную.
– Вам ясно, в каком опасном положении находится ваш отец, – сказал он. – У меня осталась единственная надежда на обильное кровопускание, больной к нему уже подготовлен. Если это средство и принятые вечером лекарства не вызовут к рассвету сильного возбуждения и бреда, трудно рассчитывать на кризис. Пора предупредить вас, – продолжал он после недолгого молчания, – что, если утром кризис не наступит, я бессилен. А пока что постарайтесь удалить отсюда сеньору: произойдет или нет то, чего я добиваюсь, ей здесь оставаться нельзя. Сейчас время уже за полночь, и вы можете уговорить ее немного прилечь. Если это удобно, попросите и сеньорит оставить нас одних.
Я заметил, что они наверняка откажутся, а если и согласятся, то мама будет в еще большей тревоге.
– Вижу, вы берете на себя заботу обо всем, не теряя мужества, которого требует создавшееся положение, – сказал доктор, тщательно осматривая при свете свечи ланцеты, привезенные в карманном несессере. – Не следует, однако, терять надежду.
Мы вышли из гостиной и принялись за подготовку к последнему средству спасения.
Отец по-прежнему находился в забытьи, бред не прекращался весь день и половину ночи. Чувствовалось, что силы больного угасают, он лежал неподвижно, не отзывался ни на одно наше слово, и только по глазам, которые порой едва приоткрывались, можно было понять, что он нас слышит; дыхание было хриплым, прерывистым.
Мама рыдала у изголовья, уткнувшись лицом в подушку и сжимая руку отца. Эмма и Мария при помощи Луисы, которая сменила на ночь своих дочерей, готовили ванну, где доктор собирался сделать кровопускание.
Майн попросил больше света; Мария подошла к кровати со свечой. По ее лицу струились невольные слезы, пока доктор занимался осмотром.
В час ночи, закончив кровопускание, которое считал последним средством, доктор сказал:
– В половине третьего я должен быть здесь. Если усну ненароком, разбудите меня.
И, указав на больного, добавил:
– Ему надо дать полный покой.
Уходя, Майн почти весело бросил девочкам несколько, шутливых слов о том, как важно старикам вовремя ложиться спать; за эту шутку его можно было только поблагодарить: ведь он хотел хоть как-нибудь успокоить их.
Мама вернулась посмотреть, не произошло ли за этот час какого-либо улучшения, но нам удалось убедить ее, что доктор возлагает надежды только наследующий день. Сломленная усталостью, она заснула в комнате у Эммы, где вместе с ней осталась Луиса.
Пробило два часа.
Мария и Эмма, зная, что доктор ждет проявления новых симптомов, в тревоге следили за сном отца. Больной, казалось, немного успокоился; один раз он попросил воды, хотя и слабым голосом, но достаточно ясно, и это пробудило в них надежду, что кровопускание оказало должное действие.
Эмма, после тщетного сопротивления, уснула в стоявшем у изголовья кресле. Мария сначала прислонилась к спинке диванчика, на котором мы сидели, но под конец не выдержала и уронила голову на подушку. Ее профиль четко выделялся на алой камчатной ткани; шелковая шаль, соскользнув с плеч, темнела на белоснежной батистовой юбке с пышными оборками, походившими в полумраке на морскую пену. В глубокой тишине едва слышно было ее дыхание, нежное, как дыхание ребенка, заснувшего на руках у матери.
Пробило три. Бой часов разбудил Марию, она попыталась подняться, но сон снова сморил ее. Из-под длинной пышной юбки выглядывала почти детская ножка, обутая в усеянную блестками красную туфельку.
Я с невыразимой нежностью любовался Марией, взгляд мой то обращался к одру отца, то возвращался к ней, душа моя ласкала ее лоб, прислушивалась к биению ее сердца, ждала хоть одного слова, которое раскрыло бы мне смысл ее сновидений, а губы Марии, казалось, вот-вот готовы были пролепетать это слово.
Жалобный стон больного прервал мою блаженную отрешенность, и действительность предстала передо мной во всем своем ужасе.
Я подошел к кровати. Отец, опершись на локоть, пристально вглядывался в меня и наконец сказал:
– Дай мне одежду, уже очень поздно.
– Сейчас ночь, сеньор, – отвечал я.
– Как ночь? Я хочу встать.
– Нельзя, никак нельзя, – мягко уговаривал я его. – Разве вы не видите – вам это трудно.
Он снова упал на подушки и тихо произнес какие-то непонятные слова. Его бледные, исхудалые руки двигались, будто он считал на пальцах. Мне показалось, он что-то ищет вокруг, и я подал ему свой платок.
– Благодарю вас, – сказал он мне, словно обращался к постороннему, и, вытерев платком губы, стал искать на одеяле карман, чтобы его спрятать.
На несколько минут он снова задремал. Едва я подошел к столу, чтобы заметить время, когда начался бред, отец сел на кровати и раздвинул мешавший ему полог; мертвенно-бледный, глядя на меня испуганными глазами, он проговорил:
– Кто это здесь?… Эй! Эй!
Хотя этот подобный безумию бред был хорошим предвестием, меня охватил необоримый страх; я попытался снова уложить отца. Вперив в меня почти исступленный взгляд, он спросил:
– Его здесь нет? Только что он встал с этого стула.
– Кто?
Отец произнес имя, которого я и боялся.
Через четверть часа он опять поднялся и сказал окрепшим голосом:
– Не позволяй ему заходить, пусть подождет. Дай же мне одежду.
Я умолял его не вставать, но он властно приказал:
– О, глупость какая!.. Одежду!
Я подумал, что Мария, которой удавалось в такие минуты успокоить его, могла бы мне помочь, но не решался отойти от кровати, боясь, как бы отец не встал. Однако он был настолько слаб, что не мог даже долго сидеть и снова прилег, по-видимому, успокоившись. Тогда я подошел к Марии, взял ее за руку, лежавшую на коленях, и тихонько позвал. Она, не отнимая руки, привстала с закрытыми глазами; но, едва увидев меня, поторопилась накинуть на плечи шаль и, поднявшись на ноги, спросила:
– Что случилось?
– Начался бред, и я хочу, чтобы ты помогла мне, если приступ будет очень сильным.
– Сколько времени прошло? Давно это началось?
– Уже около часа.
Мария подошла к кровати, обрадованная доброй вестью, и, отойдя на цыпочках, сказала:
– Но он опять уснул.
– Увидишь, это ненадолго.
– Почему же ты меня раньше не разбудил?
– Ты так крепко спала, что жаль было будить.
– И Эмма тоже спит? Из-за нее и я уснула.
Она подошла к Эмме.
– Посмотри, как она прелестна. Бедняжка! Разбудить ее?
– Вот видишь, ты сама поняла, как жалко нарушать такой сладкий сон.
Мария дотронулась до нижней губки моей сестры, потом, обхватив обеими руками ее лицо и коснувшись лбом ее лба, тихонько позвала. Эмма испуганно открыла глаза но тут же улыбнулась и ласково погладила руки Марии.
Вдруг отец поднялся, на этот раз совершенно легко. Несколько минут он молча оглядывал темные углы комнаты. Девочки с ужасе смотрели на него.
– Иду! – сказал он наконец. – Сейчас иду!
Он поискал что-то на постели и, обращаясь к невидимому собеседнику, который, как ему казалось, ждал его, добавил:
– Простите, что заставляю вас ждать.
Потом крикнул мне:
– Где же одежда? Что это значит? Одежду!
Мария и Эмма в страхе застыли.
– Вашей одежды здесь нет, – отвечал я. – За ней пошли.
– Зачем ее унесли?
– Ее нужно было сменить на другую.
– Медлить нельзя, – проговорил он, вытирая пот со лба. – Лошади оседланы?
– Да, сеньор.
– Подите скажите Эфраину, что я жду его. Надо ехать, пока не поздно. Скорей, скорей! Хуан Анхель, кофе! Нет, это невыносимо!
И он сел на край кровати, собираясь встать. Мария подбежала к нему.
– Нет, нет, папа, не вставайте.
– Почему же? – резко спросил он.
– Если вы встанете, доктор будет недоволен: вам станет хуже.
– Какой доктор?
– Доктор, который смотрел вас, ведь вы больны.
– Я здоров, слышишь, здоров! Хватит! – И он снова попытался встать. – Где же этот мальчик? Почему он не идет?
– Надо позвать Майна, – шепнул я Марии.
– Нет, нет, – отвечала она, удержав меня за руку и стараясь скрыть это движение от отца.
– Но это необходимо.
– Ты не должен оставлять нас одних. Скажи Эмме, пусть пошлет за ним Луису.
Я так и сделал, Эмма вышла.
Отец настаивал на своем уже с раздражением. Пришлось дать ему одежду, и, задернув полог, я стал помогать ему одеваться. Он вскочил с постели, едва лишь понял, что уже одет. Смертельная бледность покрывала его лицо, брови мрачно хмурились, губы дрожали, словно от гнева, глаза блестели зловещим блеском и непрерывно бегали по сторонам в поисках невидимого врага. Ранка на ноге кровоточила и мешала ему ходить, хотя он и опирался на мое плечо. Мария стояла уронив руки. Я видел ее тревогу и желание помочь мне, но она боялась подойти ближе.
– Открой дверь, – сказал отец, направляясь в молельню.
Я повиновался. В молельне было темно. Мария, опередив нас, внесла туда свечу и поставила перед прекрасным изображением святой девы, на которую так походила. Она что-то прошептала и вся в слезах устремила умоляющий взор на лицо богоматери. Отец задержался на пороге. Взгляд его стал спокойнее, и он уже не так тяжело опирался на мою руку.
– Не хотите ли присесть? – спросил я.
– Да… хорошо… пойдем… – ответил он почти мягко.
Я успел уложить его в постель, когда вошел доктор. Мы рассказали ему обо всем, он проверил пульс и, очевидно, остался доволен.
Через полчаса Майн еще раз осмотрел больного, который, спал крепким сном. Доктор приготовил питье и, передав его Марии, сказал:
– Дайте ему это лекарство и ласково, как только вы и умеете, заставьте выпить все до капли.
Мария не без страха взяла стакан, и мы подошли к постели. Я поднял свечу. Доктор, скрытый пологом, незаметно наблюдал за больным.
Мария нежно окликнула отца. Он проснулся и сразу застонал, держась рукой за бок. Мария уговаривала его принять лекарство; вглядевшись в нее, отец сказал:
– Ложкой. Я не могу подняться.
Мария стала поить его.
– Сладкое? – спросила она.
– Да, но пока хватит.
– Вам спать хочется?
– Да. Который час?
– Скоро рассветет.
– А где мама?
– Прилегла немного. Выпейте еще несколько ложечек, лотом лучше заснете.
Он отрицательно покачал головой. Мария вопросительно взглянула на доктора, и тот знаком показал, что надо выпить все до конца. Больной отказывался, а она, делая вид, будто пробует питье, говорила:
– Да, очень вкусно. Еще ложечку, еще одну – и все.
Отец попытался улыбнуться и выпил. Мария вытерла ему губы своим платочком, ласково приговаривая, словно прощаясь перед сном с Хуаном:
– Вот и хорошо. А теперь спать, спать.
И опустила полог.
– С такой сиделкой, как вы, – заметил доктор, пока она ставила свечу на стол, – ни один мой больной не умер бы…
– Значит, теперь?… – прервала она его.
– Ручаюсь за благополучный исход.
Глава XXXVIII Я спустился в широкую пойму…
Дней через десять отец уже начал поправляться, и радость вернулась в наш дом. Когда болезнь грозит унести любимого человека, угроза эта как бы обновляет наши горячие чувства к нему, и теперь, после того как опасность миновала, в заботах, которыми мы окружили отца, проявлялась любовь, способная обезоружить самое смерть.
Доктор советовал ничем не нарушать покой больного. Мы старательно избегали всяких разговоров о делах. Когда отец уже встал с постели, мы предложили ему выбрать книгу для чтения вслух, и он избрал «Дневник Наполеона на острове Святой Елены», это книга всегда его глубоко трогала.
Расположившись в рукодельной у мамы, Эмма, Мария и я читали по очереди вслух, а если иной раз замечали, что отец становится печален, Эмма, стараясь развлечь его, играла на гитаре.
Часто отец рассказывал нам о днях своего детства, о своих родителях и братьях или с воодушевлением описывал путешествия, совершенные им в молодые годы. Случалось, он подшучивал над мамой, осуждая нравы провинции Чоко, а потом весело смеялся, слушая, как горячо защищает она родные края.
– Сколько лет было мне, когда мы поженились? – спросил он как-то после воспоминаний о первых днях брачной жизни и пожаре, который совершенно разорил их через два месяца после свадьбы.
– Двадцать один, – сказала мама.
– Нет, дружочек, только двадцать. Я обманул сеньору (так называл он тещу), боясь, что она сочтет меня слишком юным. Когда мужья начинают стареть, жены забывают их возраст, и я незаметно выправил счет.
– Всего двадцать лет? – воскликнула Эмма с удивлением.
– Как слышишь, – отозвалась мама.
– А вам, мама, сколько было? – спросила Мария.
– Мне было шестнадцать, на год больше, чем тебе.
– А ты попроси ее рассказать, какую важность она напускала на себя в пятнадцать лет, когда я решил жениться на ней и принял христианство.
– Расскажите, мама, – сказала Мария.
– Спроси раньше у него, – отвечала мама, – какое решение он принял из-за этой, как он выражается, важности.
Мы все обернулись к отцу, а он повторил:
– Жениться.
Нашу беседу прервал Хуан Анхель, который привез из города почту. Он подал мне несколько газет и два письма, оба от сеньора А., но одно из них довольно давнее.
Как только я увидел подпись, я передал письма отцу.
– А! – сказал он, возвращая их мне, – этих писем я и ждал.
В первом письме сеньор А. писал, что может отправиться в Европу не раньше, чем через четыре месяца, и предупреждал, чтобы не торопились с подготовкой к моему отъезду. Я не решался взглянуть на Марию, боясь вызвать в ней еще большее волнение, чем мое собственное; но на помощь мне пришла мысль, что если даже не удастся совсем отменить мое путешествие, то все же впереди еще больше трех месяцев счастья. Мария была бледна и делала вид, будто ищет что-то в шкатулке для рукоделия, которую держала на коленях. Отец спокойно дождался, пока я прочел до конца первое письмо, и сказал:
– Что поделаешь… Прочти-ка второе.
Я прочел первые строчки и, поняв, что не смогу скрыть свое смятение, отошел к окну, где якобы было лучше видно, и повернулся ко всем спиной. В существенной для меня части письма было сказано буквально следующее:
«Недели две назад я написал вам, что вынужден отложить свою поездку на четыре месяца; однако теперь мне против ожиданий удалось устранить все помехи, и я спешу сообщить вам, что 30 января буду в Кали, где рассчитываю встретить Эфраина, с тем чтобы вместе отправиться 2 февраля в порт.
Я был глубоко огорчен, узнав о тяжкой болезни, которая приковала вас к постели, но вскоре получил приятное известие, что вы уже вне опасности. Поздравляю вас и всю семью с вашим выздоровлением.
Итак, надеюсь, теперь ничто не помешает вам доставить мне удовольствие разделить приятное общество Эфраина, к которому, как вы знаете, я всегда испытывал особое расположение. Будьте любезны, покажите ему эту часть моего письма».
Когда я вернулся на свое место, я встретил устремленный на меня пристальный взгляд отца. Мария с Эммой вышли тем временем в гостиную, и я занял кресло Марии, которое стояло в самом темном углу.
– Какое сегодня число? – спросил отец.
– Двадцать шестое.
– Нам остается всего месяц, спать некогда.
В голосе отца и выражении его лица я уловил спокойствие, свидетельствующее о твердом решении.
Вошел слуга и доложил, что лошадь, которую я час назад велел оседлать, готова.
– Когда вернешься с прогулки, – сказал отец, – мы ответим на это письмо, и ты сам отвезешь его в селение: ведь завтра ты, так или иначе, должен объехать все фермы.
– Я не задержусь, – ответил я, выходя.
Мне необходимо было скрыть свои страдания, проститься в одиночестве с надеждами, которые, поманив меня, рассеялись, примириться с неизбежностью этого ужасного отъезда; я должен был плакать один, чтобы Мария не видела моих слез… Ах, если бы она могла знать, какие муки терзали сейчас мое сердце, она тоже перестала бы надеяться.
Я спустился в широкую пойму, туда, где река, приближаясь к равнине, становится менее бурной; сначала, образуя мощные излучины меж травянистых зеленых холмов, с которых скатываются в нее пенистые потоки, она несется среди прибрежных гуаябо; затем пробегает под горными откосами, где ее лепет звучит, как последнее прощание с одиночеством и безлюдием, и наконец теряется далеко, совсем далеко в голубой пампе, озаренной сейчас багряными и золотистыми отблесками заходящего солнца.
Когда я возвращался, поднимаясь по извилистым тропинкам, летняя ночь царила во всем своем великолепии. Белая пена реки светилась и сияла, волны шептались с ветерком, колыхавшим метелки тростника. В дрожащей глубине заводей отражались звезды, а там, где над стремниной таинственным сводом сплелись ветви деревьев, фосфорическими вспышками мелькали летучие мыши. Лишь стрекотание ночных насекомых нарушало тишину дремотных лесов, да время от времени ночная птица, страж темной чащобы, с зловещим свистом кружила над моей головой.
Когда я подъехал к дому и оставил лошадь Хуану Анхелю, в комнатах еще горел свет, но было тихо.
Отец поджидал меня, прогуливаясь по гостиной, остальные собрались в молельне.
– Ты запоздал, – сказал отец. – Если хочешь, напишем сейчас письма.
– Я хотел бы раньше поговорить с вами о моей поездке.
– Ну что ж, – сказал он, усаживаясь на диван.
Я остался на ногах, стоя спиной к горевшей на столе свече.
– После того как случилась беда, – сказал я, – после ущерба, все значение которого я могу оценить, я считаю необходимым сообщить вам, что вы не должны идти на жертвы, которых потребует завершение моего образования. Еще до того, как интересы семьи пострадали от этой потери, я говорил, что больше всего хотел бы помогать вам в вашей работе. На ваш ответ мне тогда нечего было возразить. Сейчас обстоятельства изменились, и это позволяет мне надеяться, что вы согласитесь со мной. Я охотно отказываюсь от вашего предложения послать меня учиться и считаю своим долгом освободить вас от данного мне обещания.
– Все это до известной степени справедливо, – ответил отец. – Хотя сейчас у тебя есть и особые причины бояться этого путешествия, я не могу не признать, что движут тобой благородные чувства. Но должен предупредить тебя, что решение мое непреклонно. Расходы, которых потребует завершение твоего образования, не могут ухудшить мое положение, а когда карьера твоя будет обеспечена, семья получит обильные плоды от посеянных мною семян. Кроме того, – добавил он, походив некоторое время молча по гостиной, – я полагаю, в тебе заложено слишком много благородного честолюбия, чтобы столь жалким образом прерывать успешно начатый путь.
– Я сделаю все, что в моих силах, – ответил я, окончательно потеряв надежду, – сделаю все, чтобы оправдать ваши ожидания.
– Так и должно быть. Уезжай спокойно. Я уверен, что к твоему возвращению мне удается закончить все дела с выплатой долга. Таким образом, через четыре года твое положение упрочится и Мария станет твоей женой.
Он снова помолчал и, остановившись наконец передо мной, произнес:
– Что ж, давай писать письмо. Принеси сюда все, что нужно, – мне лучше не ходить в кабинет.
Он продиктовал длинное дружеское письмо к сеньору А. и предложил маме, которая в это время заглянула в гостиную, прослушать его. Вот что читал я, когда в комнату вошла Мария вместе с Эстефаной, чтобы подать отцу чай:
– «Тридцатого января Эфраин будет готов отправиться в Кали. Там вы его встретите и сможете, как собирались, второго февраля поехать в Буэнавентуру».
Дальше следовали принятые формы вежливости.
Мария, к которой я сидел спиной, поставила на стол, рядом с отцом, чашку и блюдце. Свет упал ей прямо в лицо: она была смертельно бледна. Взяв у Эстефаны чайник, она ухватилась левой рукой за спинку моего стула и вынуждена была сесть на диван, пока отец не положил в чашку сахар. Он протянул чашку Марии, она поднялась, чтобы налить ему чаю, но руки у нее так дрожали, что чай расплескался, и отец, взглянув на Марию, сказал:
– Хватит, дочка, хватит…
От него не укрылась причина ее волнения. Проводив Марию взглядом до дверей столовой, он посмотрел на маму с безмолвным вопросом: «Видишь?»
Мы все молчали. Вскоре вышел и я – под предлогом что надо отнести в кабинет письменные принадлежности'
Глава XXXIX …Прозрачный небосвод накрыл бесчисленные вершины…
В восемь часов зазвенел колокольчик, призывая к столу, но я чувствовал, что еще не в силах спокойно встретиться с Марией.
Мама постучала ко мне в дверь.
– Неужто тебя так сломила печаль? – спросила она, войдя в комнату. – Разве не можешь ты, как бывало, взять себя в руки? Это необходимо и для того, чтобы не огорчать отца, и потому, что именно ты должен поддержать Марию.
В голосе ее звучала мягкая настойчивость и глубокая нежность. Описав все выгоды, которые сулит мне эта поездка, но не скрыв и ожидающие меня суровые испытания, она закончила такими словами:
– Все эти годы, что я не увижу тебя, Мария будет для меня не только любимой дочерью, но и женщиной, которая сумела заслужить твою любовь и принесет тебе счастье. Я буду постоянно говорить с ней о тебе и помогу ей ждать твоего возвращения как награды за ваше благоразумие.
Тут я поднял опущенную на руки голову, и, взглянув друг на друга сквозь слезы, мы обменялись молчаливым обещанием.
– Теперь иди в столовую, – сказала мама, уходя, – и постарайся скрыть свою грусть. Мы с отцом много говорили о тебе, и, надеюсь, он найдет способ утешить тебя.
В столовой не было никого, кроме Марии и Эммы. Обычно, если отец не выходил к нам, я садился во главе стола. Девушки ожидали меня, сидя по обе стороны. Некоторое время мы молчали. Их лица, каждое по-своему прекрасное, выражали глубокую печаль. Но лицо сестры было не так бледно, глаза не светились томным блеском, как бывает после пролитых слез. Эмма сказала:
– Итак, завтра ты едешь на ферму?
– Да, но пробуду там только два дня.
– Возьми с собой Хуана Анхеля, пусть повидается с матерью; кто знает, может, ей стало хуже.
– Обязательно возьму. Ихинио пишет, что Фелисиана плоха, а доктора Майна, который навещал ее, вчера срочно вызвали в Кали.
– Передай Фелисиане самый нежный привет, – обратилась ко мне Мария, – скажи, что, если она не поправится, мы попросим маму и все вместе навестим ее.
Эмма прервала вновь наступившее молчание:
– Сегодня приходили Трансито, Лусия и Браулио, очень жалели, что не застали тебя, передавали привет. Мы хотим поехать к ним в воскресенье: они были так внимательны, когда папа болел.
– Поедем лучше в понедельник, к тому времени я уже вернусь.
– Видел бы ты, как они огорчились, узнав, что ты уезжаешь в Европу…
Мария отвернулась, будто бы разыскивая что-то на соседнем столике, но я заметил слезы, блеснувшие в ее глазах.
В это время вошла Эстефана и сказала, что мама зовет Марию.
Я прогуливался взад и вперед по столовой в надежде перехватить Марию, раньше чем она уйдет к себе. Эмма то и дело заговаривала со мной, пытаясь отвлечь от мучительных мыслей, она понимала, как мне тяжело.
Стоял тихий вечер, ни один листок на розовых кустах не шевелился, в кронах деревьев не слышно было ни шороха, только неумолчный ропот реки нарушал величавый, безмолвный покой. На синих откосах гор белели легкие тучки, колеблемые ветром, как белоснежный газовый шарф на темно-голубой тунике одалиски; прозрачный небосвод накрыл бесчисленные вершины, подобно опрокинутой урне лазоревого хрусталя, усеянной алмазами.
Мария запаздывала. Вошла мама и попросила меня пойти с ней в гостиную. Я решил, что она снова хочет утешить меня своими ласковыми обещаниями.
В гостиной на диване я увидел отца, рядом с ним сидела, не поднимая глаз, Мария. Отец показал мне на свободное место рядом с ней. Мама устроилась в кресле.
– Ну что ж, дочка, – обратился отец к Марии, которая, все так же опустив глаза, вертела в руках черепаховый гребень, – хочешь, я снова спрошу тебя о том, о чем спрашивал, когда вышла мама, а ты ответишь при Эфраине?
Отец улыбался, но она медленно покачала головой в знак отказа.
– Тогда как же нам быть? – настаивал он.
Мария украдкой взглянула на меня, и этот взгляд открыл мне все: дни нашего счастья не кончились!
– Правда ли, – снова спросил отец, – что ты обещаешь Эфраину стать его женой, когда он вернется из Европы?
Помолчав, она снова подняла на меня черные глаза и, тут же отведя смущенный взгляд, сказала:
– Если он этого хочет…
– А ты не знаешь, хочет ли он? – почти смеясь возразил отец.
Мария, умолкнув, залилась краской, и яркий румянец весь вечер не сходил с ее щек.
Мама смотрела на нее с материнской нежностью. Мне почудилось на мгновение, что это опять лишь один из снов, в которых я слышал полный любви голос Марии, видел ее блестящие от набежавших слез глаза.
– Ты ведь знаешь, что я хочу этого. Правда? – спросил я.
– Да, знаю, – прошептала она.
– Тогда объясни Эфраину, – сказал отец уже без улыбки, – на каких условиях ты и я даем ему это обещание.
– При условии, – проговорила Мария, – что он уедет с радостью… насколько это возможно.
– А еще, дочка?
– И еще – что он будет хорошо учиться, чтобы вернуться поскорее… да?
– Да, – отвечал отец, целуя ее в лоб, – и чтобы быть достойным тебя. Остальные условия будешь ставить ты. Значит, согласен? – обратился он ко мне, поднимаясь с дивана.
Я не мог произнести ни слова и только крепко сжал обеими руками его протянутую руку.
– Итак, до понедельника, – сказал он. – Запомни как следует мои наставления и почаще перечитывай памятную записку.
Мама подошла к нам, обняла обоих сразу, так что губы мои невольно коснулись щеки Марии, и оставила нас вдвоем.
Моя рука нашла на диване руку Марии, и мы долго просидели, не сводя друг с друга глаз, пока она не спросила:
– Какой папа добрый, правда?
В ответ я только кивнул, голос не слушался меня.
– Почему ты молчишь? Тебе по душе его условия?
– Да, Мария. А какие условия поставишь ты в уплату за это счастье?
– Одно-единственное.
– Какое же?
– Ты сам знаешь.
– Да, да. Но сегодня ты должна назвать его.
– Чтобы ты любил меня всю жизнь. – И рука ее еще крепче сжала мою.
Глава XL Най прижалась губами к губам Магмау…
Приехав на следующее утро на ферму, я застал там доктора, который заменял Майна у постели Фелисианы. По своему виду он скорее походил на капитана в отставке, чем на врача. Доктор сообщил мне, что на спасение больной надежды нет: у нее последняя стадия гепатита и никакие средства больше не действуют. В заключение он посоветовал пригласить священника.
Я вошел в комнату, где лежала Фелисиана. Хуан Анхель был уже там и удивлялся, что мать не отвечает на его приветствие. Безнадежное состояние Фелисианы меня глубоко огорчило.
Я распорядился, чтобы за ней ухаживали еще несколько слуг, велел перенести ее в более удобное помещение, чему она робко попыталась воспротивиться, и послал в поселок за священником.
Этой женщине суждено было умереть далеко от своей родины; эта женщина так нежно любила меня с первого своего появления в нашем доме, на ее руках столько раз засыпала малютка Мария… Вот история Фелисианы, которую сама она рассказала своим безыскусным выразительным языком, развлекая меня вечерами в пору моего детства.
Магмау[35] еще в ранней юности стал выдающимся предводителем войск ашанти – могущественного племени Западной Африки. Отвага и ловкость, проявленные им в бесчисленных войнах, которые верховный вождь Сай Туто Куамина вел против племени ашими до самой смерти их вождя Орсуэ, полная победа над прибрежными племенами, восставшими под водительством Мачарти, сраженного на поле боя самим Магмау, принесли ему почести и богатство. Верховный вождь доверил Магмау командование всеми своими войсками, на зависть соперникам непобедимого воителя, которые никогда не могли простить оказанную ему почесть.
Недолог был мир, наступивший после победы над Мачарти. Народу ашанти грозили войска англичан, и все силы страны выступили в поход.
Завязалась битва, и вскоре англичане убедились, что даже их смертоносному оружию нелегко сломить отвагу африканцев. Победа долго не давалась никому. Магмау, весь изукрашенный золотом, грозный в своем неистовстве, объезжал войска, воодушевляя их собственным бесстрашием, и голос его покрывал гром вражеских батарей. Но тщетно посылал он приказы военачальникам резерва, призывая их атаковать ослабленный фланг противника. Ночь прервала сражение. И когда наутро Магмау произвел смотр своим войскам, то увидел, что большая их часть перебита, а многие разбежались. Малодушие военачальников помешало победе. Магмау понял, что его ждет поражение, и приготовился вступить в последний бой и погибнуть. В этот страшный час верховный вождь прибыл в свои войска и, увидев их, запросил у врага мира. Англичане согласились и заключили договор с Сай Туто Куаминой. С этого дня Магмау утратил милость вождя.
Отважный военачальник, возмущенный несправедливостью и не желая доставить радость соперникам своим унижением, вознамерился покинуть родину. Перед отбытием он решил принести жертву богам, подарив водам реки Тандо головы и кровь прекраснейших своих рабов. Самым юным и статным из них был Синар, сын Орсуэ, злополучного вождя племени ашими: он стал пленником в кровопролитный день поражения и гибели своего отца.
Опасаясь беспощадной ярости врага, соплеменники Синара скрыли от победителей благородное происхождение сына Орсуэ.
Тайну эту знала только Най, единственная дочь Магмау. Она была еще ребенком, когда Синар вошел рабом в дом победителя Орсуэ. Сначала ее пленила мягкость и доброта молодого воина, а потом его ум и красота. Он научил ее танцам своего родного края, нежным любовным песням страны Бамбук, рассказывал ей чудесные легенды, которыми развлекала его в детстве мать, и если норой по смуглой щеке раба скользила слеза, Най говорила:
– Я попрошу отца дать тебе свободу. Поедешь к себе домой, раз ты здесь так несчастен.
Синар не отвечал, но слезы на его глазах высыхали, и он смотрел на свою молодую госпожу так, что рабыней казалась она.
Однажды Най в сопровождении челяди отправилась на прогулку по окрестностям Кумаси; Синар вел красивого страуса, на котором, как на мягких подушках, восседала его госпожа; он гнал его таким быстрым шагом, что вскоре они далеко опередили всех остальных. Но вот Синар остановился, глаза его горели, с торжествующей улыбкой он указал Най на простиравшуюся у их ног равнину.
– Най, – сказал он, – вот дорога в мою страну. Я убегу от врагов, но ты уйдешь со мной: ты будешь правительницей племени ашими и единственной моей женой. Я буду любить тебя больше, чем свою несчастную мать, которая оплакивает сейчас мою гибель. Нагни потомки будут непобедимы, ибо в их жилах сольется моя и твоя кровь. Кто посмеет встать на моем пути? Смотри.
С этими словами он откинул плащ из меха пантеры, ниспадавший с его плеч, а под ним блеснули рукояти двух пистолетов и эфес турецкой сабли, заткнутой за алый пояс.
Опустившись на колени, Синар прижался губами к ногам Най, утонувшим в мягком оперении страуса, а страус тихонько подергивал клювом пышное одеяние своей хозяйки.
Пораженная Най молча слушала нежные и путающие речи раба; наконец, очнувшись, она прижала к своим коленям прекрасную голову Синара и сказала:
– Ты не хочешь быть неблагодарным, ты говоришь, что любишь меня, уведешь с собой и сделаешь правительницей своего народа. Но я не должна быть неблагодарной перед отцом, он любил меня раньше, чем ты, а мое бегство сулит ему отчаяние и смерть. Подожди, и мы уйдем с его согласия. Подожди, я люблю тебя, Синар… И Синар вздрогнул, почувствовав на своем лбу горячие губы Най.
Дни бежали за днями, а Синар ждал, потому что был счастлив в своем рабстве.
Когда Магмау пошел войной на восставшего Мачарти, Синар не последовал за своим господином, как другие рабы. Он сказал Най:
– Лучше умереть, чем сражаться против союзников моего отца.
И перед выступлением войска Най, без ведома возлюбленного, дала ему выпить снотворное зелье. Сын Орсуэ оказался не в силах идти в поход: на долгие дни он был сражен непобедимым сном, который Най могла прерывать по своей воле, смочив ему губы оживляющим ароматическим маслом.
Но когда англичане объявили войну Сай Туто Куамине, Синар предстал перед Магмау и объявил:
– Возьми меня с собой в поход, я готов драться вместе с тобой против белых пришельцев. Клянусь, я буду достоин отведать сердце врага, зажаренное жрецами, и повешу на шею ожерелье из зубов белокурых воинов.
Най дала Синару бесценный бальзам для врачевания ран, украсила священными перьями головной убор возлюбленного и, умастив благовониями, осыпав золотым порошком его темную грудь, оросила ее слезами.
В кровавый день, когда военачальники ашанти, завидуя славе Магмау, помешали ему одержать победу над англичанами, ружейная пуля перебила Синару левую руку.
Война закончилась, мир был заключен, и глубоко оскорбленный полководец войска ашанти вернулся к родному очагу. Долгие дни Най утирала слезы, которые только ярость могла исторгнуть из глаз отца, и тайно заботилась о Синаре, врачуя его рану.
Когда Магмау решил покинуть родину и принести кровавую жертву реке Тандо, он обратился к дочери с такими словами:
– Отправимся в путь, Най, поищем другую, не такую неблагодарную, страну для моих внуков. Самые прославленные вожди Гамбии, где бывал я в юности, рады будут дать мне пристанище и предпочтут тебя прекраснейшим женщинам своей родины. Руки мои еще достаточно сильны, чтобы сражаться с врагом, а богатство наше даст нам власть и счастье под любым кровом… Но прежде чем уйти отсюда, мы должны смягчить гнев Тандо, карающий меня за любовь к славе, и принести ей в жертву лучших наших рабов; первым будет Синар…
Услыхав ужасный приговор, Най упала бездыханная, и имя Синара сорвалось с ее уст. Рабыни подняли и унесли ее, а разъяренный Магмау повелел привести к нему Синара. Не помня себя от гнева, он обнажил саблю и крикнул:
– Раб! Ты посмел поднять глаза на мою дочь. В наказание ты закроешь их навеки!
– Это в твоей власти, – спокойно отвечал юноша. – Не впервые окрасится твоя сабля кровью вождей ашими.
Магмау был так ошеломлен этими словами, что рука его дрогнула и кривая сабля зазвенела о каменные плиты пола.
Най вырвалась из рук перепуганных рабынь, вбежала в покои Магмау и, охватив колени отца, обливая его ноги слезами, воскликнула:
– Прости нас, господин, или убей обоих!
Старый воин отбросил грозное оружие, упал на подушки и прошептал, закрыв лицо руками:
– Она любит его!.. Орсуэ, Орсуэ! Ты отомщен…
Най присела на колени к отцу, обняла его и, осыпая поцелуями его седины, со слезами проговорила:
– У тебя будет теперь двое детей: мы будем голубить твою старость, а рука Синара защитит тебя в бою.
Магмау поднял голову, знаком подозвал Синара и мрачно сказал, протянув к нему правую руку:
– Эта рука убила твоего отца, вырвала сердце у него из груди… и глаза мои наслаждались зрелищем его предсмертных мучений…
Най, прижавшись губами к губам Магмау, заставила его умолкнуть, повернулась к Синару и, простирая к нему прекрасные руки, нежно заговорила:
– Эти руки врачевали твои раны, мои глаза проливали слезы о тебе…
Синар упал на колени перед своей возлюбленной и своим господином, и тот после долгого молчания сказал ему, обнимая дочь:
– Вот дар, который я принесу тебе как залог моей дружбы в тот день, когда уверюсь в твоей.
– Клянусь своими богами и твоим богом, – ответил сын Орсуэ, – дружба моя нерушима навеки.
Через два дня, под покровом темной ночи, Най, Синар и Магмау покинули Кумаси, уводя с собой тридцать рабов обоего пола, а также караван верблюдов и страусов; одни из них везли людей, другие были нагружены драгоценностями, посудой, золотым песком, раковинами, служившими в тех краях разменной монетой, водой и запасом продовольствия на долгий путь.
Много дней продолжались полные опасностей странствия. К счастью для путников, стояла хорошая погода и ни разу не повстречались им разбойники. Дорогой влюбленные Синар и Най старались развеять печаль Магмау веселыми песнями, а по вечерам, при свете луны, плясали перед его шатром под звуки лир и рожков из слоновой кости, на которых играли рабы.
Наконец добрались они до страны народа комбуманес на берегах Гамбии; племя устроило торжественные празднества и жертвоприношения в честь знатных гостей.
С незапамятных времен комбуманесы вели ожесточенную войну с камбесами; война эта разгорелась не только из-за племенной вражды, но также из-за низменной алчности. И те и другие продавали европейским работорговцам захваченных в бою пленников в обмен на оружие, порох, соль, железо и спиртное; если же не хватало пленных врагов, то вожди обоих племен продавали собственных подданных, а случалось, все они продавали родных сыновей.
Отвага и опытность Магмау и Синара в военных делах оказались весьма полезны комбуманесам: они одержали победу во всех боях с соседями и достигли успеха, до той поры не виданного. Магмау пришлось сделать выбор: убивать пленных или продавать европейцам. Он решил выменивать их, но зато добился от вождя комбуманесов, чтобы тот под страхом суровой кары запретил своим подданным продавать собственных слуг и детей.
Однажды вечером, когда Най отправилась со своими рабынями искупаться в водах Гамбии, а Синар с нетерпением поджидал ее под сенью огромного баобаба, где в дни мира любили они уединяться вдали от всех, два рыбака причалили на своей пироге к берегу неподалеку от Синара. В пироге, кроме рыбаков, было двое европейцев. Один из них с трудом выбрался на землю и, преклонив колени, погрузился в молитву: бледные лучи заходящего солнца, пробиваясь сквозь листву, озаряли его лицо, сожженное зноем и окаймленное пышной, почти седой бородой. Склонясь в молитве, он положил на песок свою широкополую соломенную шляпу, и речной ветер развевал его длинные спутанные волосы. На нем было черное одеяние до пят, все в грязи и лохмотьях, а на груди блестел медный крест.
И тут его увидала Най, которая пришла на встречу с возлюбленным. Рыбаки в это время вынесли на берег мертвое тело второго европейца, одетого так же, как его спутник.
Рыбаки рассказали Синару, что нашли этих белых в шалаше из пальмовых листьев двумя лигами выше по течению Гамбии; молодой европеец умирал, а старик напутствовал его, произнося молитвенные заклинання на каком-то незнакомом языке.
Старый священник еще некоторое время молился, никого не замечая. Когда он поднялся на ноги, Синар, взяв за руку Най, испуганную видом чужеземца, его странным лицом и одеянием, спросил у старца, кто он, откуда и зачем приехал? И с удивлением услышал, что тот, хотя и с трудом, но отвечает ему на языке ашими:
– Я пришел из твоей страны, я вижу на твоей груди изображение красной змеи – знак вождей ашими, и говоришь ты на их наречии. Я родом из Франции, и проповедую я мир и любовь. Позволяют ли обычаи этой страны хоронить в ее земле чужеземца? Твои соплеменники оплакали двух других моих братьев и поставили кресты на их могилах; многие в твоей стране носят золотые крестики на груди. Разрешишь ли ты мне похоронить чужеземца?
Синар отвечал:
– Сдается, ты говоришь правду. Видно, ты не такой дурной человек, как все белые, хотя и похож на них. Но у меня нет здесь большой власти. Пойдем с нами, я отведу тебя к вождю комбуманесов, мы возьмем с собой тело твоего друга и узнаем, разрешит ли вождь похоронить его в своих владениях.
По пути к городу Синар разговаривал с миссионером, а Най, прислушиваясь, старалась понять их. Рыбаки несли за ними на плаще тело молодого священника.
Из разговора с чужеземцем Синар понял, что тот говорит правду: миссионер рассказал, что в стране ашими правит брат Синара, а самого его считают погибшим. Он объяснил, как удалось ему заслужить доброе отношение племени ашими: он успешно вылечил многих больных я среди них, по воле случая, любимую рабыню вождя. Ашими дали ему провожатых и продовольствие, чтобы он мог отправиться на побережье вместе с единственным своим товарищем, оставшимся в живых. Но в пути на них напал вражеский отряд, часть проводников бежала, остальные были перебиты. Победители бросили священников в пустыне, одних, без продовольствия, возможно, опасаясь, что побежденные вернутся с подкреплением. Долгие дни шли они, держа путь по солнцу и питаясь только плодами в оазисах, и наконец добрались до берегов Гамбии, но жестокая лихорадка подточила силы его молодого друга, в когда рыбаки нашли их, он уже умирал.
Магмау и Синар привели священника к вождю комбуманесов, и Синар сказал:
– Перед тобой чужеземец, который умоляет дозволить ему предать земле тело своего брата, а самому отдохнуть здесь немного, чтобы затем вернуться в свою страну. В благодарность он обещает исцелить твоего сына.
В ту же ночь Синар и два его раба помогли миссионеру похоронить покойного. Преклонив колени на краю вырытой рабами могилы, старец запел песнь, исполненную глубокой печали, и в лунном свете на седой бороде священника блеснули слезы, увлажнившие чужую землю, которая дала приют его бесстрашному другу.
Глава XLІ Знаешь ли ты, кто сотворил горы?
Прошло около двух недель после появления французского миссионера в стране комбуманесов. Потому ли, что один Синар понимал его речь, или же самому Синару нравилось беседовать с европейцем, но они каждый день совершали вместе длинные прогулки, и Най заметила, что всякий раз ее возлюбленный возвращался задумчивый и грустный. Она предположила, что чужестранец сообщил Синару какие-нибудь печальные вести о его родине, но, подумав, решила, что оживленные рассказами священника воспоминания пробудили грусть в душе сына Орсуэ и он стремится снова увидеть родные края. Однако нежная любовь Синара не только не охладела, но становилась все горячей, и Най при первом же удобном случае поведала ему о своей тревоге.
Жаркий день угасал, Синар сидел на берегу, охваченный глубокой печалью, которая, бывало, так трогала сердце Най в дни его рабства. Завидев возлюбленного, девушка тихо подошла к нему. На ней была короткая алая шелковая юбка, затканная серебряными звездами, длинная, скрещенная на груди лазоревая шаль, красный тюрбан, сколотый золотыми булавками, агатовые браслеты и ожерелье; в этом уборе она выглядела еще соблазнительней, чем всегда. Най присела подле Синара, но он не оторвался от своих мыслей. Наконец она сказала:
– Никогда не поверила бы, что с приближением желанного часа, когда отец отдает меня тебе в жены, ты будешь так печален. Разве отец стал меньше любить тебя? Быть может, я не так нежна с тобой или не кажусь тебе такой красивой, как в тот день, когда ты признался мне в своей любви?
Синар не сводил глаз с быстрых вод Гамбии и будто даже не слышал ее. Най молча смотрела на него сквозь слезы и наконец разразилась рыданиями. Тут Синар стремительно повернулся и, увидев ее слезы, нежно поцеловал любимую.
– Ты плачешь? – спросил он. – Так-то встречаешь ты долгожданный час счастья?
– Ах, никогда еще не был ты глух к моему голосу, никогда не случалось, чтобы мой взгляд не встретил ласкового ответа в твоих глазах. Вот почему я плачу.
– Когда же, – сказал он, – бывало, чтобы самый тихий твой зов не пробудил меня среди сна? Когда мог я не почувствовать твоего приближения, даже не видя, не ожидая тебя?
– Вот сейчас, мгновение назад. И то, что ты сам этого не заметил, Синар, лишь подтверждает твое равнодушие и мое несчастье.
– Прости, Най! Прости меня, ибо я думал о тебе.
– Что сказал тебе этот чужестранец? – спросила Най; она вытерла слезы и, играя, перебирала кораллы и зубы в ожерелье воина. – Почему ты все время уединяешься с ним, хотя столько раз говорил, что каждый час, проведенный без меня, для тебя мука. Он рассказал тебе, что женщины в его стране белее слоновой кости, а глаза их сини, как глубокие воды Тандо? Моя мать когда-то говорила мне об этом, но я забыла тебе рассказать… Ей много чего поведал о стране белых людей один чужеземец похожий на этого, к кому ты так привязался; по ее словам она тоже привязалась к тому белому. Но когда он покинул Кумаси, моя мать стала противна Магмау: она стала поклоняться другому богу, и мой отец… мой отец предал ее смерти.
Най умолкла, а Синар снова погрузился в свои невеселые мысли. Но вот, словно очнувшись от забытья, он взял за руку свою любимую и повел ее на вершину утеса – перед ними расстилалась бескрайняя пустыня и несла свои воды могучая река.
– И Гамбия и Таидо, – сказал он, – зародились в лоне гор. Знаешь ли ты, кто сотворил горы?
– Нет.
– Их сотворил бог. Видела ли ты, чтобы Тандо повернула свое течение вспять?
– Нет.
– Тандо, словно слеза, теряется в огромном океане. Рев морских волн заглушает рокот реки, как громовой ураган, ломающий исполинские деревья, точно сухой тростник, заглушил бы твой голос. Знаешь ли ты, кто сотворил море?
– Нет.
– Молния, которая, разодрав тучи, падает на вершину баобаба и обрывает его ветви, как увядшие цветы с тонкого стебелька; звезды, украшающие небо, подобно агатам и жемчугу на твоем платье; луна, на которую ты любишь смотреть, покоясь в моих объятиях; солнце, ласкающее твою кожу, отраженное в твоих глазах, солнце, перед которым огонь наших жертвенников подобен мерцанию светлячка, все это – творение единого бога. Он не хочет, чтобы я любил другую женщину, кроме тебя; он велит мне возлюбить тебя, как самого себя. Он хочет, чтобы я смеялся, если смеешься ты, плакал, если ты плачешь, чтобы в благодарность за твою любовь я защищал тебя, как собственную жизнь; а если ты умрешь, я буду плакать на твоей могиле, пока не соединюсь с тобой на небе, где ты будешь ждать меня до моего часа.
Най, обвив руками плечи Синара, не сводила с него нежного, самозабвенного взгляда – никогда еще ее любимый не был так прекрасен. Прижав Най к груди, Синар горячо поцеловал ее в губы.
– Так сказал мне чужеземец и велел научить тебя. Его бог станет нашим богом.
– Да, да, – обнимая возлюбленного, ответила Най. – А после него твоей единственной любовью буду я.
Глава XLII Где Синар? Почему он не с нами?
В тот день, когда вождь комбуманесов повелел начать торжественные празднества по случаю свадьбы Синара, с первыми лучами солнца миссионер, Синар и Най тайком от всех спустились на берег Гамбии. Отыскав укромное место, миссионер обратился к молодым с такой речью:
– Бог, любить которого я научил вас, бог, которому будут поклоняться ваши дети, превратит в храм сень этих пальм, скрывающую нас от людского взора; в этот миг он взирает на вас. Помолимся ему, да пошлет он вам свое благословение.
Выйдя вместе с нареченными на берег реки, священник медленно и торжественно прочел молитву, а они повторили ее, преклонив колени. Затем, окропив их головы водой, он совершил обряд крещения.
Некоторое время священник горячо молился, потом велел Синару и Най подать друг другу руки и, прежде чем благословить их, произнес слова, которые Най запомнила на всю жизнь.
Последнюю ночь празднества все знатные люди племени пировали и веселились в доме Магмау. Гости надели самые роскошные одежды и драгоценности. Магмау выделялся среди воинов могучим ростом и пышностью наряда, а Най затмила своей красотой и прелестью всех самых прекрасных жен и рабынь комбуманесов. Факелы из ароматической смолы, вставленные в черепа камбесов, убитых в бою рукой Магмау, освещали просторные покои. Едва смолкал гром воинственной музыки, ее сменял томный и нежный перезвон лир. Крепкие одурманивающие напитки лились рекой, и гостей одного за другим одолевал глубокий сон. Сбежав от шумного застолья, Синар прилег отдохнуть в своих покоях, а Най, сидя рядом, обмахивала его опахалом из страусовых перьев.
Внезапно в лесу раздались выстрелы, они все приближались к дому Магмау. Громовым голосом призвал Магмау Синара, и тот, схватив саблю, бросился на зов. Най обняла мужа, Магмау крикнул ему:
– Камбесы!.. Они идут сюда!.. – Тщетно пытался он растолкать и поднять отважных воинов – в беспробудном сне они лежали на подушках и на полу. – Все будут убиты!
Немногим удалось встать на ноги, остальные так и не проснулись.
Звон оружия и воинственные клики приближались. В конце селения, у берегов реки, уже пылали подожженные хижины, и багровое зарево освещало битву, отражаясь в сверкающих клинках.
Магмау и Синар, не внимая воплям женщин и мольбам Най, бросились в самую гущу боя, а беспорядочные толпы воинов бежали к дому вождя ашанти, хриплыми криками призывая его и Синара. Все вместе они пытались обороняться, укрепив входы в жилище Магмау, но тщетно – не помогло и мужество чужеземных вождей, которые отчаянно сражались и воодушевляли воинов комбуманесов.
Пуля пронзила сердце Магмау, и он рухнул наземь. Немногие из его товарищей избежали такой же участи. Синар бился до конца, бесстрашно защищая Най и собственную жизнь, пока полководец камбесов, подняв в правой руке окровавленную голову французского миссионера, не крикнул ему:
– Сдавайся – и я сохраню тебе жизнь!
Тогда Най протянула руки, чтобы этот воин связал их. Она знала, какая судьба ее ждет. Распростершись перед победителем, она сказала:
– Не убивай Синара, я – твоя раба.
Но Синар упал, раненный ударом сабли в голову, и его связали так же, как ее.
Свирепые победители ворвались в дом. Утолив наконец жажду крови, они принялись вязать пленных и грабить.
Отважные комбуманесы заснули во время пира и не проснулись вовсе… или проснулись рабами.
И вот теперь уже не победители и побежденные, а хозяева и рабы вышли на берег Гамбии. В ее водах отражались вспышки догорающего пожара. Камбесы торопились посадить в каноэ множество захваченных пленников. Но лодки еще не успели отчалить, как раздался оглушительный ружейный залп: отряд комбуманесов, хотя я поздно вступив в бой, настиг последние каноэ отплывающих врагов, и тела их всплыли на поверхность вод.
Занимался рассвет, когда пироги победителей причалили к правому берегу. Часть воинов осталась в лодках, другие высадили на землю пленников и повели под охраной в глубь леса, туда же отходили после битвы боевые отряды.
За все долгие часы пути к берегу моря Най ни разу не позволили подойти к Синару, и он видел, как слезы непрестанно струились по ее лицу.
Через два дня, ранним утром, когда солнце еще не прогнало последние ночные тени, Най и других пленников привели на побережье. Накануне ее разлучили с супругом. Несколько вытащенных на берег каноэ поджидали пленников, а далеко в море, вздымавшемся под порывами свежего ветра, белели паруса бригантины.
– Где Синар? Почему он не с нами? – спросила Най у одного из вождей, друзей по несчастью, шагнув вслед за ним в пирогу.
– Его отправили вчера, – отвечал тот, – наверное, он на паруснике.
Попав на бригантину, Най пытается отыскать Синара среди пленников, которыми забит весь трюм. Зовет его, – никто не отвечает. Снова и снова озирается вокруг. Имя возлюбленного с рыданиями вырывается из ее груди, и она замертво падает на голые доски.
Очнулась она от ужасного, подорвавшего последние ее силы забытья на палубе бригантины, а вокруг расстилалась лишь туманная морская даль. Най даже не простилась с родными горами.
Убедившись в своем несчастье, она разразилась воплями отчаяния, но какой-то белый из экипажа грубо прикрикнул на нее, а когда она обратилась к нему с гневной речью, которую можно было понять по выражению ее лица, он замахнулся бичом и… Най снова впала в беспамятство.
Плавание продолжалось много дней. Однажды утром Най вместе с другими рабами сидела на палубе. Капитан разрешая ям дышать свежим воздухом, очевидно, опасаясь, как бы кто-нибудь не умер от начавшейся среди пленников эпидемии. Раздался крик матросов: «Земля!»
Най подняла голову с колен и увидела далеко на горизонте темно-синюю полосу. Через несколько часов бригантина вошла в порт на Кубе, где часть пленников должна была высадиться. Женщины, расставаясь с дочерью Магмау, рыдали в обнимали ее ноги, мужчины прощались, преклонив колени, не пытаясь скрывать слезы. Те немногие, кто оставался вместе с Най, почувствовали себя почти счастливыми.
На другой день, приняв в трюмы новый груз, судно снялось с якоря. Дальнейшее плавание было еще более тяжелым из-за неблагоприятной погоды. Прошла неделя, и однажды вечером капитан при осмотре трюма увидел, что двое из отобранных пм шести самых статных и крепких рабов мертвы. Один из них сам покончил с жизнью и весь был залит хлеставшей из раны кровью: в груди у него торчал морской кинжал, подобранный, должно быть, на палубе. Второй умер от лихорадки. С обоих сняли кандалы, которыми они были прикованы к общей цепи, и вскоре Най увидела, как матросы выволокли трупы и бросили в море.
Одна рабыня да трое вождей из племени комбуманесов – вот все, кто остался рядом с Най; и из этих последних друзей еще один умер в то утро, когда они приближались к берегу. Берег этот, как услышала Най, назывался Дарьей. Гонимая сильным северным ветром по бурному морю, бригантина вошла в залив и, соблюдая осторожность, отдала якорь.
С наступлением ночи капитан велел посадить в шлюпку Най и трех оставшихся рабов, сел сам и дал приказ матросам взять точный курс по какому-то огоньку, мерцавшему на побережье. Вскоре они достигли земли. Перед высадкой рабам связали руки общей веревкой, и один из матросов повел их вверх по крутой тропе. Добравшись до определенного места, капитан дал условный свисток, потом все продолжили путь. Через некоторое время сигнал повторился, ему ответил такой же свист, и тут путники разглядели укрытый среди густых, развесистых деревьев небольшой дом. На галерее стоял белый человек, одной рукой он поднял фонарь, другую держал козырьком над глазами, всматриваясь в пришельцев. Яростный лай огромных псов заставил их остановиться. Хозяин и слуги угомонили собак, и капитан поднялся по установленной на подпорках лестнице. Он обнялся с хозяином и повел с ним разговор; очевидно, речь шла о рабах: капитан то и дело показывал на них рукой. Рабам приказали тоже подняться. В это время на галерею вышла недурная собой молодая белая женщина, с которой моряк дружески поздоровался. Хозяин дома, казалось, был не очень доволен осмотром трех спутников Най, но, взглянув на нее, он сразу повернулся к белой женщине и заговорил с ней на языке более благозвучном, чем тот, на котором беседовал с капитаном. Еще более приятным показался он в устах женщины, и Най с благодарностью прочла в ее взгляде сострадание.
Хозяином дома был ирландец по имени Уильям Сардин, поселившийся два года назад на берегу залива Ураба, неподалеку от Турбо, а жена его, которую, как поняла Най, звали Габриэла, оказалась креолкой родом из Картахены.
Глава XLIII Не оставляй меня здесь, я стану твоей рабой…
В те времена в Чоко было множество золотых приисков. Принимая во внимание примитивные способы эксплуатации, добыча золота считалась весьма значительной. На эти работы хозяева посылали партии рабов. Большая часть заграничных товаров, потреблявшихся в Кауке, а также и те, что предназначались для продажи в Чоко, переправлялась по реке Атрато. Рынки Кингстоуна и Картахены постоянно посещались коммерсантами-импортерами. В Турбо были построены склады.
Таким образом, нетрудно понять, как мудро выбрал Сардик место для своего уединенного пристанища; он совершал комиссионные сделки с негоциантами; скупал золото, выменивал у прибрежных жителей черепаховые панцири, кокосы, меха, какао и каучук на соль, спиртное, порох, оружие и дешевые безделушки. Все эти дела, не говоря уже о его занятиях сельским хозяйством, были достаточно выгодны, чтобы он мог тешить себя надеждой вернуться богачом в родную страну, откуда приехал нищим. Немалую поддержку оказывал ему брат Томас, поселившийся на Кубе, капитан работоргового судна.
Бригантина, выгрузив товары, привезенные из Африки, и те, что взяла на борт в порту Гаваны, приняла в трюм местные продукты, заготовленные Уильямом в течение нескольких месяцев. Слуги контрабандистов, соблюдая величайшую осторожность, проделали все за две ночи, и капитан собрался в обратный путь.
Этот грубый человек, столь безжалостный с товарищами Най, к ней самой стал относиться более почтительно с того дня, когда, замахнувшись на несчастную рабыню бичом, увидел ее без чувств у своих ног. Най поняла, что капитан готовится к отплытию, и не могла сдержать стонов и рыданий при мысли, что человек этот скоро вновь увидит берега Африки, откуда силой увез ее. Она упала перед ним на колени, целовала ему ноги и, в помрачении ума думая, что он может понять ее, молила:
– Не оставляй меня здесь, я стану твоей рабой, мы разыщем Синара, и у тебя будет двое рабов… Ты – белый, ты плаваешь по морям, ты узнаешь, где Синар, и мы сможем найти его… Мы поклоняемся тому же богу, что и ты, и будем верны тебе, только никогда не разлучай нас.
Най была прекрасна в своем скорбном исступлении. Капитан молча смотрел на нее, на губах у него появилась кривая усмешка, которую не могла скрыть даже густая рыжая борода, по лицу пробежала зловещая тень, а глаза засветились, словно глаза шакала, обхаживающего самку. Наконец, взяв ее за руку и прижав к груди, он объяснил знаками, что, если она будет любить его, они уедут вместе. Най гордо, словно королева, выпрямилась и, повернувшись спиной к ирландцу, вышла в соседнюю комнату. Там ее встретила испуганная Габриэла и, знаком приказав молчать, увела с собой. Она объяснила, что Най поступила хорошо, и обещала нежно любить ее, указав на небо и на распятие. Каково же было ее удивление, когда Най упала на колени перед распятием, словно молила бога дать ей то, в чем отказывают люди.
Прошло полгода. Най понемногу начинала понимать испанскую речь благодаря настойчивости Габриэлы, обучавшей ее своему языку. Габриэла узнала, как произошло обращение африканки, и то, что удалось ей понять из рассказов Най, еще больше расположило ее к несчастной женщине. А на глазах дочери Магмау почти никогда не высыхали слезы: стоило ей услышать пение американской птицы, напоминающей птицу ее родины, или увидеть цветок, похожий на те, что растут в лесах Гамбии, как снова раздавались рыдания. Во время кратких отлучек ирландца Габриэла разрешала Най ночевать у себя в комнате и часто слышала, как та звала во сне отца или мужа.
Когда Най прощалась с каждым из товарищей по несчастью, сердце у бедной рабыни разрывалось, и вот наконец настал день прощания с последним. Ее не продавали и обращались с ней не так жестоко, как с другими, но не потому, что ее любила и оберегала хозяйка, а потому, что бедняжка Най ждала ребенка, и хозяин надеялся продать ее выгоднее, после того как она родит. Алчный контрабандист торговал кровью вождей.
Най решила, что никогда дитя Синара не будет рабом.
Однажды, когда Габриэла рассказывала ей о небесах она спросила с откровенностью дикарки:
– А если дети рабов умирают крещеными, они могут. стать ангелами?
Креолка догадалась о страшном замысле Най и решилась рассказать ей, что в этой стране ее сын может стать свободным, когда ему исполнится восемнадцать лет.
Най только жалобно воскликнула:
– Восемнадцать лет!
Через два месяца она родила сына и попросила сразу же крестить его. Едва она впервые поцеловала своего младенца, как поняла, что бог послал ей утешение. Она стала матерью сына Синара: сердце ее исполнилось гордости и на губах снова расцвела улыбка, казалось, сбежавшая с ее лица навсегда.
В это время у Сардика остановился на отдых перед нелегким плаванием по Атрато молодой англичанин, возвращавшийся с Антильских островов в горные края Новой Гранады. Вместе с ним приехала прелестная трехлетняя девчурка, он, по-видимому, очень любил ее. Это были мой отец и Эстер, которая только начинала привыкать к своему новому имени Мария.
Най поняла, что у девочки нет матери, и. почувствовала к ней особенно нежную любовь. Мой отец сначала боялся доверять ребенка негритянке, хотя Мария оживлялась, только сидя на руках у рабыни или играя с ее сыном. Но Габриэла успокоила отца, рассказав все, что знала о дочери Магмау, и рассказ этот тронул сердце чужестранца. Он сразу понял, какую неосторожность совершила жена Сардика, сообщив ему, когда привезли африканку в Новую Гранаду. Дело в том, что с 1821 года законы страны запретили ввоз рабов: значит, и Най, и ее сын были свободными людьми.[36] Однако он и вида не подал, будто заметил ошибку Габриэлы, и решил, выждав удобный случай, попросить Уильяма продать ему Най.
Тем временем в доме Сардика появился некий североамериканец. Он возвращался на родину, продав в Ситара привезенный им груз муки, и для продолжения своего пути поджидал прибытия в порт судов из Картахены, на которых должны были также прийти товары для моего отца. Най сразу понравилась этому янки, и он сказал за обедом Уильяму, что хотел бы увезти с собой хорошую рабыню в подарок жене. Ему предложили Най, и американец, проторговавшись целый час, вручил ирландцу за рабыню сто пятьдесят золотых кастельяно.
Най узнала от Габриэлы, что она продана, а жалкая кучка золота, которую белые взвешивали у нее на глазах, и была назначенной за нее платой. Она лишь горько усмехнулась при мысли, что ее выменяли на горсть золота. Габриэла не скрыла, что в той стране, куда увезут Най, сын ее будет рабом.
Най ничем не выдала себя, но вечером, перед заходом солнца, когда мой отец, держа за ручку Марию, гулял по берегу моря, она подошла к нему, прижимая к груди своего сына. Лицо рабыни выражало такую скорбь и такой неистовый гнев, что отец мой был потрясен. Упав перед ним на колени, она сказала на ломаном испанском языке:
– Я знаю, в той стране, куда меня увозят, мой сын будет рабом. Если ты не хочешь, чтобы я задушила его этой же ночью, купи меня – и я всю жизнь буду служить тебе и любить твою дочь.
Отец все уладил при помощи денег. Подписав с американцем новую купчую на весьма выгодных для того условиях, отец приписал к контракту несколько строк и протянул бумагу Габриэле, чтобы та прочла ее вслух для Най. В добавлении к купчей он отказывался от права собственности на Най и ее сына.
Янки, пораженный поступком англичанина, спросил:
– Не могу понять вашего поведения. Что выиграет эта негритянка, если станет свободной?
– Дело в том, – отвечал отец, – что мне нужна не рабыня, а няня, которая будет любить мою малютку.
И, посадив Марию на стол, за которым только что писал, он помог ей вручить бумагу Най, а сам сказал жене Синара такие слова:
– Храни это всегда. Ты свободна и решай сама, хочешь ли ты остаться здесь или уехать и поселиться вместе с моей женой и детьми в том прекрасном краю, где все мы живем.
Най приняла вольную из рук Марии и, подняв девочку на руки, осыпала ее поцелуями. Потом взяла руку моего отца, прикоснулась к ней губами и, рыдая, поднесла ее к губам своего сына.
Так появились в доме моих родителей Фелисиана и Хуан Анхель.
Через три месяца Фелисиана снова похорошела и, примирившись, насколько возможно, со своей участью, жила уже вместе с нами. Мама ее полюбила и всегда относилась к ней с особой сердечностью и уважением.
Последнее время из-за своей болезни и потому, что она сама об этом попросила, Фелисиана жила в Санта-Р. и присматривала за садом и молочной фермой. Но самым любимым ее занятием было принимать отца и меня, когда мы приезжали с гор на равнину.
Еще детьми мы с Марией, бывало, в благодарность за любовь и доброту Фелисианы, ласкаясь, называли ее Най, но вскоре мы заметили, что звук этого имени вызывает в ней печаль. Однажды, сидя вечером у моей кроватки, она рассказала мне какую-то из своих фантастических сказок, а потом надолго умолкла, и мне показалось, что она плачет.
– О чем ты плачешь? – спросил я.
– Когда ты станешь мужчиной, – ласково и нежно проговорила она, – ты будешь много путешествовать и возьмешь с собой меня и Хуана Анхеля, правда?
– Да, да, – отвечал я с восторгом. – И мы поедем в страну, где живут прекрасные принцессы из твоих сказок… ты мне их покажешь… А как называется эта страна?
– Африка, – сказала Най.
Той ночью мне снились золотые дворцы и звуки волшебной музыки.
Глава XLIV Уже стемнело, когда она испустила последний вздох
Священник причастил умирающую святых даров. Оставив у ее постели врача, я оседлал коня и поехал в селение подготовить все для похорон и отправить злосчастное письмо сеньору А.
Когда я вернулся, Фелисиана выглядела чуть-чуть бодрее, и у врача появилась легкая надежда. Фелисиана расспросила меня о каждом члене семьи и, назвав Марию, сказала:
– Увидеть бы мне ее перед смертью! Я попросила бы ее заботиться о моем сыне!..
И, как бы извиняясь передо мной за предпочтение, оказанное Марии, добавила:
– Если бы не эта девочка, что было бы с ним и со мной…
Ночь прошла для больной тяжело. На следующий день, в три часа, доктор вошел ко мне и сказал:
– Сегодня она умрет. Как звали ее мужа?
– Синар.
– Синар! Так вот в чем дело! Все время в бреду она произносила это имя.
Мне было не до того, чтобы рассказывать доктору трогательную историю Най, и я поспешил в ее комнату.
Доктор был прав: она умирала, и губы ее шептали все то же имя, которое ничего не означало ни для окружавших ее других служанок, ни даже для ее сына.
Я наклонился, чтобы она могла меня услышать.
– Най! Най!..
Она открыла уже угасающие глаза.
– Ты узнаешь меня?
Едва заметно она кивнула головой.
– Хочешь, я помолюсь за тебя?
Снова легкий кивок.
В пять часов я велел увести Хуана Анхеля от смертного одра матери. Ее некогда прекрасные глаза померкли и ввалились; нос заострился; изящно очерченные, хотя и толстоватые губы запеклись от жара; зубы утратили свой блеск. Слабеющими руками Най судорожно прижимала к груди распятие и тщетно пыталась повторить вслед за мной имя Иисуса, единственного, кто, как она верила, мог соединить ее с супругом.
Уже стемнело, когда она испустила последний вздох.
После того как служанки одели ее и, положив в гроб, накрыли белой плащаницей, гроб подняли на завешенный черным покровом стол с четырьмя горящими по углам свечами. Охрипший от рыданий Хуан Анхель, стоя у изголовья гроба, обливал слезами лоб матери.
Я велел старшему слуге привести на ночь всех других читать молитвы. Они пришли в печальном молчании; мужчины и дети расположились на галерее; женщины преклонили колени вокруг гроба; окна комнаты выходили на галерею, и все могли молиться вместе.
Когда молитвы были прочитаны, одна из служанок затянула первую строфу песни, полной скорбной печали, – душераздирающую жалобу молящегося раба. Остальные вторили хором, и звенящие нежные голоса женщин и детей сливались с низкими голосами мужчин.
Я запомнил несколько стихов этой песни:
В беспросветной одиночке ни восхода, ни заката — здесь темнеют за решеткой только стены каземата. И звенят здесь только цепи, а прислушаюсь к затишью — замурованный навечно, даже ветра не услышу… Не увижу скал родимых, и леса отчизны милой, шелестевшие над зыбкой, не склонятся над могилой.[37]Звучала скорбная песнь, при свете погребальных свечей сверкали слезы, струившиеся по лицам, и сам я не мог удержаться от слез.
Почти все слуги разошлись, несколько женщин остались молиться по очереди всю ночь, да двое мужчин сколачивали носилки, на которых гроб понесут в селение.
Стояла глубокая ночь, когда мне наконец удалось уложить измученного горем Хуана Анхеля. Я тоже прилег у себя в комнате, но голоса молившихся женщин и удары мачете, которыми рубили бамбук для носилок, будили меня, едва лишь я закрывал глаза.
В четыре часа Хуан Анхель еще спал. Восемь человек подняли носилки и отправились в путь, я пошел с ними. Управляющему, Ихинио, я наказал держать мальчика дома до моего возвращения, – мне хотелось избавить его от мучительного прощания с матерью.
Никто из провожающих Фелисиану не произносил ни слова. Попадавшиеся по дороге крестьяне, которые везли на рынок продукты, удивлялись этому, молчанию. По местному обычаю, сельские жители устраивают вместо ночного бдения отвратительные попойки в те ночи, когда родственники и соседи собираются в доме скорбящей семьи якобы для молитвы об усопшем.
Когда окончилась заупокойная служба, мы понесли гроб на кладбище. Могила была уже вырыта. У кладбищенских ворот нас нагнал Хуан Анхель – ускользнув из-под надзора Ихинио, он прибежал проводить мать.
Гроб поставили на краю ямы, но мальчик обхватил его руками и не давал опустить в землю. Пришлось мне вмешаться; обняв Хуана Анхеля и утирая ему слезы, я сказал:
– Твоей матери тут уже нет. Она теперь на небе, и бог не простит тебе твое отчаяние.
– Я остался один! Совсем один! – повторял бедняжка.
– Нет, нет, – уговаривал его я, – с тобой остался я, я очень люблю тебя и всегда буду любить. С тобой Мария, моя мама, Эмма… все мы постараемся заменить тебе твою мать.
Гроб был уже в могиле. Один из слуг бросил на него первую лопату земли. Хуан Анхель, вне себя, кинулся на слугу и вырвал из рук лопату; мы все в ужасе оцепенели.
В тот же день, около трех часов, установив крест на могиле Най, мы с ее сыном отправились обратно в горы.
Глава XLV Каждая лилия, которая вырастет здесь, будет жестоким укором…
Прошло некоторое время, и печаль, угнетавшая сердца мамы, Эммы и Марии после смерти Фелисианы, качала смягчаться, хотя мы постоянно о ней вспоминали и говорили. Все мы старались утешить Хуана Анхеля своими заботами и любовью, ведь это было лучшее, что могли мы сделать для его матери. Отец объяснил мальчику, что он свободный человек, и хотя по закону должен оставаться до известного возраста под его опекой, может считать себя просто слугой в нашем доме. Негритенок уже прослышал о моем отъезде, он сказал, что больше всего хотел бы сопровождать меня, и отец пообещал исполнить его просьбу.
Несмотря на беседу накануне моей поездки в Санта-Р., отношения мои с Марией не изменились: призрак тайны по-прежнему овевал нашу любовь. Нам изредка удавалось погулять вдвоем в цветниках и в саду. Тогда, позабыв о предстоящей разлуке, Мария резвилась и бегала вокруг, собирая цветы в свой фартучек, а потом показывала их мне и заставляла выбирать самые красивые для моей комнаты; правда, иной раз она отнимала их, притворяясь, будто они нужны для украшения молельни. Я помогал ей поливать самые любимые ее растения, а она при этом подбирала повыше рукава, открывая свои прекрасные руки и не догадываясь, что я любуюсь ими. Мы усаживались на краю обрыва в зарослях жимолости, и следили за бурным течением реки, вьющейся по каменистому ложу в глубине зеленой долины. Мария любила показывать мне, как в облаках, озаренных отсветами заходящего солнца, возникают спящие львы, исполинские кони, развалины замков из яшмы и бирюзы, и с детским восторгом радовалась, придумывая эти чудеса.
Но если какая-нибудь мелочь напоминала нам о грозящей разлуке, Мария не отнимала у меня своей руки и, остановясь, искала затуманенным взором ответа в моих глазах.
Однажды вечером – этот счастливый вечер навеки сохранится в моей памяти – багряные отблески угасающего светила смешивались на нежно-сиреневом небе с бледными лучами восходящей луны, подобными свету лампы под алебастровым абажуром. Ветерок, играя, спускался с гор в долину; птицы торопились забиться в гнезда среди густой листвы. Мы медленно шли по саду, Мария держала мою руну в своих, а развевающиеся пряди ее волос то и дело нежно касались моего лба. Она склонилась головой ко мне на плечо, мы оба молчали. Вдруг в самом конце аллеи розовых кустов Мария остановилась и, взглянув на окно моей комнаты, сказала:
– Вот здесь это произошло, я была одета… ты помнишь?
– Всегда, Мария, всегда!.. – ответил я, покрывая поцелуями ее руки.
– Знаешь, в ту ночь я проснулась вся дрожа, я увидела во сне, что ты целуешь мне руки, как сейчас… Видишь этот недавно посаженный розовый кустик? Если ты меня забудешь, он не расцветет, а если будешь мне верея всегда, он подарит самые прекрасные розы, и я принесу их святой деве, ведь это она подаст мне знак, что ты по-прежнему меня любишь.
Я улыбнулся, тронутый такой нежностью и невинностью.
– Ты что же, не веришь в это? – серьезно спросила она.
– Думаю, он принесет слишком много роз даже для святой девы.
Мы подошли к моему окну. Тут Мария отняла у меня руку и, обвязав шаль вокруг пояса, нагнулась к протекавшему рядом ручейку. Набрав в пригоршни воды, она опустилась у моих ног на колени и полила из рук крохотный росток.
– Это побег горной лилии.
– И ты посадила ее здесь?
– Да, потому что…
– Знаю, знаю. Но я надеялся, что ты позабыла.
– Забыла? Как будто так легко забыть! – сказала она, не поднимаясь и не глядя на меня.
Ее распущенные волосы падали до самой земли, и несколько прядей, развеваясь на ветру, запутались в белых розах соседнего куста.
– А знаешь, почему ты нашла тогда здесь букет лилий?
– Еще бы не знать! Потому что кто-то подумал, будто я не хочу больше ставить ему цветы на стол.
– Посмотри на меня, Мария.
– Зачем? – спросила она, не отрывая глаз от ростка, словно внимательно изучала его.
– Каждая лилия, которая вырастет здесь, будет жестоким укором за один миг сомнения. Разве я знал, что достоин… Давай сажать лилии подальше от этого места.
Я встал рядом с ней на одно колено.
– Нет, сеньор, нет! – воскликнула она в тревоге и прикрыла росток обеими руками.
Я поднялся с земли и, скрестив руки, стал ждать, пока она делала или притворялась, будто делает свое дело. Мария украдкой взглянула на меня и, рассмеявшись наконец, подняла освещенное радостью лицо в награду за свою мнимую суровость.
– Так, значит, ты очень рассердился, да? Сейчас расскажу вам, сеньор, для чего мне нужны все лилии, которые даст этот росток.
Опершись на мою руку, она хотела встать, но снова упала на колени – ее не пускали волосы, запутавшиеся в розовом кусте; мы освободили их, и когда, поправляя при, ческу, она встряхнула головой, я заметил в ее глазах какое-то новое выражение. Взяв меня об руку, она сказала:
– Пойдем. Сейчас стемнеет.
– Так для чего же эти лилии? – спросил я, пока мы медленно поднимались к галерее.
– Для чего нужны розы с молодого куста, ты уже знаешь, да?
– Да.
– Так вот, и лилии почти для того же.
– Не понимаю.
– Ты хотел бы в каждом моем письме получать лепесток этой лилии?
– О да!
– Они будут заменять слова, которые не всегда можно написать, а порой и слишком трудно придумать, ведь ты так и не научил меня хорошо писать письма… А кроме того, Конечно…
– Что – конечно?
– Мы оба виноваты.
Она отвлеклась, стараясь растоптать своими изящно обутыми ножками сухие листья, занесенные ветром на аллею, потом тихо сказала:
– Я не хочу идти завтра в горы.
– Но Трансито может обидеться на тебя. Вот уже месяц, как она вышла замуж, а мы ни разу не были у нее. И почему ты не хочешь?
– Потому что… просто так. Скажи, что мы очень заняты подготовкой к твоему отъезду… или еще что-нибудь… Пусть она придет вместе с Лусией в воскресенье.
– Что ж, ладно. Постараюсь вернуться пораньше.
– Да, да. Только не нужно никакой охоты.
– А это уже новое условие. И Карлос будет смеяться, когда узнает, что ты мне его поставила.
– Кто же ему об этом скажет?
– Пожалуй, я сам.
– Зачем?
– Чтобы утешить его за неудачный выстрел по олененку.
– И впрямь. С ягуаром наверняка было бы иначе, Карлос бы его просто испугался.
– Ты ведь не знаешь – в ружье Карлоса, когда он стрелял, был патрон без пули. Браулио выбросил ее.
– А почему это Браулио вздумалось?
– Чтобы расквитаться. Карлос и сеньор де М. посмеялись в тот день над собаками Хосе.
– Браулио плохо поступил, правда? Но зато олененок остался жив. Видел бы ты, как он мне радуется. Я даже Майо заставила полюбить его, они теперь часто спят рядышком. Он такой прелестный! Как о нем плачет, наверно, его мать!
– Ну что ж, выпусти его тогда, пусть уходит.
– А она все еще ищет его в лесу?
– Думаю, уже нет.
– Почему?
– Браулио уверяет, что олениха, которую он вскоре убил в том же ущелье, откуда выбежал олененок, и была его мать.
– Ах! Что за человек!.. Никогда больше не убивай оленей.
Мы поднялись на галерею, и Хуан, протянув ручонки, бросился навстречу Марии. Она взяла его на руки и унесла, а он сразу же склонил сонную головку на ее бело-розовое, как перламутр, плечо, чью прелесть порой не смели скрыть ни шаль, ни пышные волосы.
Глава XLVI Ундины всегда купаются в заводях среди лилий
К полудню следующего дня я уже возвращался после прогулки в горы. Солнце, стоя в зените на безоблачном небе, бросало огненные лучи, словно стремясь сжечь все, что не могло укрыться под густой листвой деревьев. Деревья безмолвствовали: ни один листок не зашелестит в ветвях, ни единая птица не взмахнет крылом. И только цикады неустанно славили сияющий день – красу декабря. Прозрачные ручьи стремительно пересекали тропинки в поисках убежища под тамариндами или сливами и скрывались в густых зарослях мяты. Долина и горы, казалось, были озарены слепящим отраженным светом огромного зеркала.
Следом за мной спускались Хуан Анхель и Майо. Еще издали я разглядел Марию, она шла к бассейну вместе с Хуаном и Эстефаной. Собака бросилась к ним и с фырканьем и лаем стала прыгать вокруг, бурно выражая свою радость. Мария в смятении искала меня глазами и наконец увидела, как я перепрыгнул через садовую ограду. Я пошел прямо к ней. Полураспущенные косы падали в беспорядке на ее шаль и белую юбку; левой рукой она подбирала подол, а правой обмахивала лицо веткой альбааки.
Когда я подошел поздороваться, она уже сидела под апельсиновым деревом на разостланном Эстефаной ковре.
– Какое солнце! – сказала Мария. – Пришел бы пораньше…
– Невозможно было.
– Это почти всегда невозможно. Хочешь, искупайся, а я подожду.
– Нет, что ты!
– Если из-за того, что в бассейне кое-чего не хватает, я могу принести.
– Розы?
– Да. Когда ты придешь, они уже будут здесь.
Хуан играл, раскачивая ветку с апельсинами, свесившуюся чуть ли не до самого газона, потом встал перед Марией на колени, чтобы она расстегнула ему блузу.
В этот день я принес целую охапку лилий. Кроме тех, что дали мне Трансито и Лусия, я много еще собрал по пути; самые красивые я выбрал для Марии, а остальные взял из рук Хуана Анхеля и бросил в бассейн. Мария воскликнула:
– Ох! Как жалко! Такие красивые!..
– Ундины, – сказал я, – всегда купаются в заводях среди лилий.
– А кто это ундины?
– Женщины, которые хотели бы походить на тебя.
– На меня? Где же ты их видел?
– Случалось видеть в реке.
Мария рассмеялась и отослала меня, сказав:
– Я очень быстро, не задержусь.
Через полчаса она вошла в гостиную, где я поджидал ее. Как всегда после купания, глаза ее блестели, на щеках играл нежный румянец.
Заметив меня, она остановилась.
– Ты почему здесь?
– Знал, что ты придешь.
– А я – что ты будешь ждать.
Она присела на диван и задумалась, потом, оторвавшись от своих мыслей, спросила:
– Почему так бывает?
– Что?
– Что это случается всегда.
– Но ты же не говоришь что?
– Если я задумаю, чтобы ты что-нибудь сделал, ты это и делаешь.
– А почему я тоже всегда чувствую, когда ты должна прийти или запоздаешь? Это необъяснимо.
– Хотела бы я знать, если так бывает сейчас, то, когда ты уедешь, сможешь ли ты угадать, что я делаю, смогу ли я почувствовать, думаешь ли ты…
– О тебе, да?
– Да. Пойдем в рукодельную к маме, а то я ждала тебя и ничего сегодня не сделала. Мама просила меня закончить шитье к вечеру.
– Мы будем там одни?
– Да почему это мы обязательно должны быть одни?
– Мне все мешают…
– Тс!.. – Она приложила палец к губам. – Слышишь? Они в буфетной. Так они очень хороши, эти женщины? – продолжала она, усаживаясь и принимаясь за шитье. – Как, ты сказал, их зовут?
– А… Да, очень хороши.
– И живут в лесах?
– На берегу реки.
– Всегда в воде и на солнце? Должно быть, не очень уж они беленькие.
– Они прячутся в тени густых деревьев.
– А что же они там делают?
– Не знаю, что они делают, знаю только, что больше я их не встречаю.
– И давно ли случилась с тобой такая беда? Почему же они тебя не поджидают? Если опп такие хорошенькие, ты, наверное, огорчен?
– Они… нет, ты не знаешь, какие они.
– Тогда объясни мне. Какие же?… Нет, сеньор! – живо добавила она, пряча под лежавшим у нее на коленях куском батиста правую руку, которую я хотел взять.
– Дай мне руку.
– Лучше я буду шить, а ты рассказывай, какие они эти… как их зовут?
– Сейчас я открою тебе тайну.
– Послушаем.
– Они ревнуют к тебе.
– Сердятся на меня?
– Да.
– На меня?
– Раньше я думал только о них, а потом…
– Потом?
– Забыл их ради тебя.
– О, тогда я могу гордиться.
Правая рука Марии лежала теперь на ручке кресла, словно подсказывая, что я могу ее взять. Мария продолжала:
– А в Европе есть ундины?… Послушай, милый, есть там ундины?
– Да.
– Тогда… кто знает!
– Но те наверняка румянятся и носят корсеты и ботинки.
Мария старалась шить как следует, но правая рука у нее дрожала. Распутывая нитку, она украдкой взглянула на меня.
– Знаю я кое-кого, кто очень хотел бы посмотреть на красиво обутые ножки и… А цветы из бассейна унесет водой.
– Это значит, что мне пора уходить?
– Это значит – мне будет жаль, если они пропадут зря.
– И еще кое-что…
– Да, правда: мне как-то совестно, что нас часто застают вдвоем… и Эмма и мама сейчас придут.
Глава XLVII Затрепетав, она ухватилась за мою руку
Отец решил отправиться в город раньше меня, чтобы уладить некоторые срочные дела, а также подготовить все для моего путешествия.
Четырнадцатого декабря, накануне его отъезда, в семь вечера, после того как мы с ним поработали несколько часов, он велел принести к нему в комнату часть моего багажа, который собирался прихватить с собой. Мама укладывала чемоданы, стоя на коленях на ковре, Эмма и Мария помогали ей. Оставалось уложить только мою одежду: Мария собрала со стульев несколько костюмов п, посмотрев на них, спросила:
– Эти тоже?
Мама, не отвечая, протянула за ними руку и, пока укладывала, несколько раз поднесла к глазам платок.
Я вышел. Возвращаясь обратно с бумагами, которые надо было положить в чемодан, я увидел на галерее Марию: она стояла, облокотившись о перила.
– Что с тобой? – спросил я. – Почему ты плачешь?
– Я не плачу…
– Вспомни, что ты мне обещала.
– Да, да, я помню: собраться с силами и стойко все перенести. Если бы ты мог поделиться своим мужеством со мной… Но ведь я не обещала ни тебе, ни маме совсем не плакать. Если бы твое лицо не говорило о горе еще больше, чем мои слезы, я бы, пожалуй, сдержалась… а потом, кто их увидит?
Я вытер своим платком ее мокрые щеки и сказал:
– Сейчас я вернусь. Подожди меня.
– Здесь?
– Да.
Она стояла на том же месте. Я оперся рядом с ней на перила.
– Смотри, – сказала она, показывая на темную равнину. – Смотри, вечера становятся все печальнее. А где-то будешь ты августовскими вечерами?
Помолчав, она добавила:
– Если бы ты не приезжал… если бы, как предполагал папа, ты не возвращался сюда до отъезда в Европу…
– Было бы лучше?
– Лучше?… Лучше?… И ты мог так подумать?
– Ты отлично знаешь, что я не мог так думать.
– Признаться, я подумала, когда папа сказал это в бреду во время болезни. А ты – никогда?
– Никогда.
– Даже в те десять дней?
– Я любил тебя так же, как сейчас. Но доктор и отец…
– Да, мама мне все рассказала. Как мне отблагодарить тебя?
– Ты уже дала мне все, что я мог просить в на граду.
– То, что по-настоящему тебе дорого?
– Ты любишь меня так же, как я любил тебя тогда как люблю сейчас. Очень любишь…
– О да! Пусть это неблагодарность, но люблю я тебя не в награду за то, что ты сделал.
И она легонько прикоснулась лбом к нашим переплетенным рукам.
– Раньше, – продолжала она, медленно поднимая голову, – я бы умерла от стыда после таких слов… Может быть, я поступаю дурно…
– Дурно, Мария? Но ведь ты уже почти моя жена.
– Я никак не привыкну к этой мысли. Так долго все это казалось несбыточным…
– А теперь? Теперь?
– Я и вообразить не могла тогда, что мы с тобой будем когда-нибудь так… Что ты ищешь? – спросила она, почувствовав, как я ощупываю ее руку.
– Вот что, – сказал я, снимая с безымянного пальца ее левой руки кольцо, на котором были выгравированы инициалы ее родителей.
– Ты хочешь взять его себе? А я не предлагала только потому, что ты не носишь колец.
– Я верну его тебе в день нашей свадьбы. А пока возьми вот это: мама дала мне его, когда я уезжал в школу. На внутренней стороне написаны наши с тобой имена. Мне оно уже тесно, а тебе придется впору, правда?
– Хорошо, но его уж я тебе не верну никогда. Помню, в день отъезда ты уронил это кольцо в ручей, а я разулась и нашла его. Мама еще так рассердилась: я была вся мокрая.
Вдруг какая-то тень, чернее волос Марии, мелькнула у нас перед глазами. Мария глухо вскрикнула и, закрыв лицо руками, в ужасе проговорила:
– Черная птица!
Затрепетав, она ухватилась за мою руку. Дрожь испуга пробежала и по моему телу. Металлический треск крыльев роковой птицы уже затих. Мария стояла недвижимо. Из кабинета со свечой в руках вышла мама, встревоженная криком Марии: та была бледна как смерть.
– Что случилось? – спросила мама.
– Птица, та птица, что мы видели в комнате у Эфраина!
Свеча задрожала в маминой руке, но она спокойно сказала:
– Что ты, девочка, можно ли так пугаться?
– Вы не знаете… но ничего, все прошло. Пойдем отсюда, – сказала она, призывая меня уже прояснившимся взглядом.
Зазвонил колокольчик к ужину, и все потянулись в столовую. Мария подошла к маме и шепнула:
– Не рассказывайте папе, как я испугалась: он будет смеяться надо мной.
Глава XLVIII …Воды вволю – для сада…
На следующее утро в семь часов багаж отца был уже отправлен, и оба мы сидели за кофе в дорожных костюмах. Я собирался проводить его до имения сеньоров де М., с которыми хотел проститься так же, как и с другими соседями. Когда подвели наших верховых лошадей, вся семья собралась на галерее. Эмма и Мария вышли из моей комнаты, я. невольно обратил на это внимание. Поцеловав в щеку маму, отец перецеловал в лоб Марию, Эмму и всех детей, кончая малышом Хуаном, который напомнил ему об обещании привезти маленькое седло для его любимой игрушечной лошадки.
Прежде чем сойти с лестницы, отец еще раз остановился перед Марией, положил ей руку на голову, тщетно пытаясь заглянуть в глаза, и тихо произнес:
– Так мы уговорились, что ты будешь весела и благоразумна. Не правда ли, любезная сеньора?
Мария утвердительно кивнула, на ее стыдливо опущенных глазах выступили слезы, но она их тут же смахнула.
Я распрощался до вечера. Мария стояла рядом со мной и, пока отец садился в седло, шепнула незаметно для остальных:
– Ни минутой позже пяти.
Из всей семьи дона Херонимо дома был один Карлос, Он принял меня с распростертыми объятиями и сразу же стал уговаривать провести с ним весь день.
Мы осмотрели сахарный завод с дорогим оборудованием, но сооруженный без особого вкуса и искусства; обошли сад – прекрасное творение предков семьи – и закончили конюшнями, где красовались несколько отличных лошадей.
Когда мы курили после завтрака, Карлос сказал:
– Боюсь, теперь мне уже не увидеть прежней радости на твоем лице. А помнишь, как ты веселился в школьные годы, терзая меня и заставляя рассказывать о какой-нибудь новой прихоти Матильды. В конце концов, если тебя так печалит отъезд, значит, ты с радостью остался бы дома… К черту эту поездку!
– Но ты на ней не прогадаешь, – пошутил я. – Когда вернусь, у тебя будет даровой врач.
– Верно, дружище. Думаешь, я на это не рассчитываю? Учись вовсю, чтобы поскорее вернуться. Если к тому времени меня не прикончит подцепленная на этих равнинах лихорадка, пожалуй, будешь лечить меня от водянки. Скука тут убийственная. Все наперебой приглашают меня провести сочельник в Буге. Чтобы отделаться, пришлось выдумать, будто я свернул себе лодыжку; пускай дуется на меня вся бесчисленная орава моих кузин. В конце концов придется изобрести себе какое-нибудь дело в Боготе, хотя бы возить кожи и шерстяные ткани, как Эмигдио… и привезти себе что-нибудь вроде…
– Вроде жены? – прервал я его.
– Гляди-ка! Ты считаешь, что я не думал об этом? Тысячу раз! Каждый вечер строю сотни планов. Представь только: с шести валяюсь на кровати, жду, пока придут слуги на молитву, потом – пока позовут пить шоколад, и тут уж приходится слушать бесконечные разглагольствования о корчевании, расчистке, посадках сахарного тростника… А наутро запах тростникового жмыха ударяет в нос, и все мои воздушные замки разлетаются как дым.
– Но ты можешь читать!
– Что читать? И с кем поговорить о прочитанном? С этим болваном управляющим, который с пяти вечера уже начинает зевать?
– Итак, ясно: тебе необходимо срочно жениться, ты снова подумываешь о Матильде и хочешь привезти ее сюда.
– Именно так. С тех пор как я понял, что совершил величайшую глупость, вознамерившись жениться на твоей кузине (да простят меня бог и она), меня начала искушать эта мысль. Но знаешь, чем это кончилось? С огромным трудом я вообразил, что Матильда стала моей женой и живет в нашем доме. И тут меня просто хохот разобрал, когда я представил себе, что будет с этой бедняжкой.
– Но почему?
– Дружище, Матильда неотделима от Боготы, как купель церкви Сан-Карлос, как памятник Боливару, как наш привратник Эскамилья. Да она погибнет при пересадке в другую почву. И как я смогу помешать этому?
– Постарайся заслужить ее любовь навсегда. Предоставь ей все возможные удобства, все развлечения… в конце концов, ты богат и ради нее захочешь взяться за дело. А потом, разве видела она когда-нибудь такие равнины, леса, реки? Можно ли увидеть их и не полюбить?
– Ну, ты пустился в поэзию. А мой отец и вся эта деревенщина? А мои тетки с их спесью и ханжеством? А безлюдне? А жара?… И еще черт его знает что?…
– Успокойся, – смеясь, прервал я его. – Не принимай все так близко к сердцу.
– Ладно, не будем больше говорить об этом. Лучше поскорее возвращайся лечить меня. А когда ты вернешься, то женишься на сеньорите Марии, да?
– С божьей помощью…
– Хочешь, я буду твоим дружкой?
– С радостью.
– Благодарю. Значит, решено.
– Вели привести мою лошадь, – сказал я после недолгого молчания.
– Ты уже едешь?
– Мне очень жаль, но дома меня ждут. Видишь ли, ведь нам скоро уже разлучаться… А я еще должен проститься сегодня с Эмигдио и с моим кумом Кустодио, все это не так уж близко.
– Ты уезжаешь точно тридцатого?
– Да.
– Осталось всего две недели. Что ж, не буду тебя задерживать. В конце концов, ты посмеялся со мной немного, хотя и хлебнул скуки.
Ни Карлос, ни я не могли скрыть, с каким огорчением мы расстаемся.
Переезжая вброд Амаймито, я услышал, как кто-то меня окликает. Это был мой кум Кустодио. Он выехал из ближнего леса верхом на буланом коне, сидя в седле с высокой лукой. На нем была синяя полосатая рубаха, подвернутые до колен штаны и широкая куртка с разрезами вдоль бедер. Вслед за ним тащился на соловой кляче, согбенной под тяжестью лет и связок бананов, слабое умный парнишка, который выполнял на ферме обязанности и свинопаса, и птичника, и садовника.
– Сам бог свел нас, куманек, – сказал, подъезжая ко мне, старик. – Не окликни я вас, вы бы от меня улизнули.
– К вам-то я и направлялся, кум.
– Вот те на! А я чуть было не забрел в глухую сельву, мула искал. Не пройди я случаем через ложбину и не заметь стервятников, так бы до сих пор и ходил. Я прямо туда, а муленка уж наполовину склевали, даже шкуру не пришлось содрать. А она куда как пригодилась бы на новые штаны, эти уж и вовсе хоть выбрось.
– Не горюйте, кум, мулов у вас хватает, еще успеете погонять их с вьюками. Поехали.
– Забот, сеньор, много, – сказал кум и, повернув коня, поехал впереди. – Времена настали тяжелые. Сами посудите: мед – по реалу; патока – и говорить не о чем; сахарок, если белый получится, – песо; сыры – задаром; а свиньям хоть весь урожай маиса скорми, все равно что в речку выбросил. От торговли вашей кумы, – хотя и надрывается она, бедняга, – даже на свечи не наберется. Варишь мыло, так ни один кусок не окупает того, что на него затратил. А тут еще сторожа, прорвы ненасытные, обирают до нитки. Да что говорить! Вот купил я у хозяина, дона Херонимо, участок молодого бамбука, – это же изверг, а не человек! Четыреста монет да еще десять телят в придачу запросил!
– А откуда взялись эти четыреста? От мыла?
– Уж вы скажете, кум! Пришлось даже копилку Саломе разбить, чтобы расплатиться.
– А Саломе как, все такая же работящая?
– А как же иначе? Крестиком вышивает – просто заглядение и во всем помощница – одно слово, дочка своей мамы. Но, не хочу врать, девчонка немало мне забот доставляет.
– Саломе? Такая умница, такая скромница!..
– Она самая, кум. И такая добрая девушка, как вы знаете.
– Что же случилось?
– Вы настоящий кабальеро и мой друг, лучше уж я вам расскажу, чем идти к приходскому священнику, хоть он человек святой души и не от мира сего. Погодите только, я первый перееду через болото, тут надо хорошо тропу знать, чтобы не перепачкаться.
И, повернувшись к дурачку, который покачивался в полусне, сидя среди связок бананов, крикнул:
– Смотри на дорогу, балда, а то, если увязнет кобыла, я и бананов не пожалею, брошу тебя здесь.
Дурачок бессмысленно захохотал и что-то промычал в ответ. Кум продолжал:
– Знаете вы Тибурсио, мулата, которого воспитал покойник Мурсия?
– А-а, того, что хотел жениться на Саломе?
– Вот, вот, он самый.
– Не помню, кто его воспитал, но его-то я хорошо знаю, встречал и у вас, и у Хосе. Мы даже охотились вместе не раз. Отличный парень.
– При всем том водится у него восемь хороших коров, да и свиней немало, дом есть, две неплохие верховые лошадки. Ведь ньор Мурсия даром что всех отпугивал своей суровостью, а был добрый человек: все это оставил парню. Тибурсио сын той мулатки, из-за которой у старика желчь разлилась: он ее выкупил в Киличао, а она через несколько месяцев померла. Я все это знаю, потому что в те времена, бывало, нанимался на поденную работу к ньору Мурсии.
– Что же случилось с Тибурсио?
– К тому я и веду. Так вот, сеньор, месяцев восемь назад начал я замечать, что парень только и ищет случая забежать к нам. Ну, вскоре я его хитрости разгадал и понял, что ему ничего другого не надо, как повидать Саломе. Сказал я об этом начистоту Канделарии, а она мне в ответ, что у меня, мол, глаза дымом выело и все это уже сказка давняя. Как-то субботним вечером держусь я настороже, знаю – Тибурсио свой час не пропустит, и что бы вы думали, девчонка, едва заслышала его, бежит навстречу. Ну, тут уж у меня никаких сомнений не осталось… Дурного я ничего сказать не могу, что нет, то нет. Только проходит день за днем, а Тибурсио и не заикается о свадьбе. Тут я подумал: столько ходил вокруг Саломе, дурак будет, если не женится; она не какая-нибудь голодранка, такую жену ему еще поискать. Как вдруг Тибурсио перестал ходить, пропал да и только, а Канделария ничего от девочки не добьется. Меня Саломе почитает как должно, мне и вовсе не след допытываться. Вот так с самого сочельника Тибурсио и глаз не кажет. А скажите-ка, вы как будто друг сеньорито Хустиниано, брата дона Карлоса?
– Да я его видел последний раз, когда мы еще мальчишками были.
– Ну, коли сбрить дону Кар л осу бачки, получится дон Хустиниано, они на одно лицо. Красивый парень, ничего не скажешь, только был бы он таким, как его брат а то ведь это сущий черт. Не знаю уж, где он увидел Саломе, может, когда я заключал сделку с его отцом, – парень приходил с ним клеймить бычков. И вот с того самого дня ни один банан мне в горло не лезет.
– Все это никуда не годится.
– Я вам чистую правду говорю, хотя ваша кума, если узнает, скажет, что я сбрендил и чушь мелю. Но на всякую хворь есть лечение. Немало я думал и гадал, пока понял, что надо делать.
– Погодите, кум. Скажите раньше, если не сочтете мой вопрос нескромным, как Саломе относится к Хустиниано?
– То-то и оно, сеньор. Потому я и мучаюсь днем и ночью, будто сплю на крапиве… Кум, девчонка попалась на крючок… Убить ее мало… А этот черт только попадись мне… Она его любит, сынок, вот почему я и решил рассказать вам все, авось поможете выпутаться с честью.
– А почему вы решили, что Саломе влюблена?
– Вот тебе на! Не вижу я, что ли, как у нее глаза разгораются, едва завидит белого сеньорито, как суетится, когда подает ему воду или свечу, – ведь он всегда словно помирает от жажды, а кроме курения, у него и дела другого нет; вот то за водой, то за огоньком он и забегает в дом всякий раз да еще по воскресеньям наведывается вечерами к старой Доминге. Знаете ее?
– Нет.
– Так вот скажу вам, она из тех, кто порчу наводит. У Канделарии никто из головы не выбьет, что эта летучая мышь сглазила нам обезьянку. Помните, какая умница была, как вас веселила? А сейчас бедняжка все трет животик и стонет, словно ребенок.
– Да она, верно, скорпиона проглотила, кум.
– Откуда! Ее бывало не заставишь ничего холодного съесть. Уж поверьте, колдунья на нее порчу напустила. Но не о том речь. Пошел я как-то искать кобылу и встретил эту старуху на плантации гуаябо, вижу – идет она к вам. Ну, а я-то всегда начеку, перехватил ее и говорю: «Вот что, донья Доминга, поворачивайте оглобли, здесь люди делом занимаются, а не разговорами. Отправляйтесь подобру-поздорову, не нужны вы мне в моем доме». Она вся затряслась, а я как увидел, что напугал ее, сразу подумал: это добром не кончится. Старуха начала плести и то, и другое. Но я ее сразу осадил: «Я не дурак, – говорю, – и если опять вас здесь встречу, сдеру с вас шкуру, я не я буду, если не сдеру!»
Возмущение моего кума дошло до предела. Он перекрестился и продолжал:
– Господи Иисусе, прости меня! Эта мерзавка меня до погибели доведет, когда-нибудь не стерплю в сердцах. Подумать только! С таким трудом вырастил добрый человек дочь, что же теперь, краснеть ему за свое любимое дитя!
Разгневанный кум, очевидно, уже готов был растрогаться, и я поспешил ухватиться за последние его слова.
– Расскажите же, какой выход из беды вы придумали? Я вижу, дело и впрямь серьезное.
– А вот слушайте: было время, ваша мама предложила прислать к ней Саломе на несколько недель, пусть, мол, девочка поучится шить и вышивать, а Канделария только того и хотела. Но тогда дело не вышло… Я ведь еще не знал вас так, как сейчас!
– Кум!
– Вот вам крест святой, все говорю начистоту. Теперь дело другое: хотелось бы мне, чтобы ваша мама подержала девочку у себя несколько месяцев. К вам в дом этот вражий сын бегать за ней не будет. Саломе образумится, а его я все равно что ко всем чертям пошлю. Правильно я говорю?
– Конечно. Сегодня же поговорю с мамой. И она и сестры будут очень рады. Обещаю вам, все уладится.
– Да наградит вас бог, кум. Коли так, я уж постараюсь дать вам случай поговорить с Саломе один на один. Предложите ей прийти к вам, передайте, что ваша мама ждет ее. А потом мне расскажете, что вам удалось из нее вытянуть, и тогда уж все у нас пойдет, как по прямой бороздке. Но если девчонка заартачится, клянусь, дня не пройдет, как отвезу ее на самой дрянной кляче в женский монастырь, в Кали, куда и муха не залетит. И если не выйдет замуж, как положено, молиться ей там и учиться читать по книгам до скончания века.
Когда мы проезжали через недавно купленный кумом Кустодио участок, он сказал:
– Вот видите: клад, а не земля, такой кустарник – первый признак хорошей почвы. Одна беда – воды нету.
– Да вы, кум, можете получить воды сколько угодно, – отвечал я.
– Бросьте шутить. Тогда бы я эту землю и за двойную цену не продал.
– Мой отец разрешил вам брать сколько надо воды на нижних лугах. Я рассказал ему о вашей незадаче, и он удивился, как это вы раньше к нему не обратились.
– Ну и память у вас, куманек. И такую новость приберегли напоследок! Скажите хозяину, я ему всей душой признателен, он знает, я не какой-нибудь неблагодарный, он может мной располагать, как только хочет. Канделария будет без памяти рада: воды вволю – для сада, для куба, для скотины… Представьте только, ручеек наш как ниточка, да и то всю воду баламутят свиньи моего соседа Рудесиндо, – сколько от них вреда, не перечесть. Словом сказать, если хочешь, чтобы в доме чисто было, гони кобылу к Амаймито, а то ведь, чем брать воду в Онде, лучше уж жевель привозить, – не вода, а чистый купорос.
– Это медь, кум.
– Может, и так.
Весть о разрешении отца брать у него воду так воодушевила Кустодио, что он заставил своего жеребца блеснуть особой иноходью, которой сам научил его.
– Чей это конь? У него не ваше клеймо.
– Нравится вам? Это конь старого Сомеры.
– А сколько он стоит?
– Что же, если говорить напрямик, признаюсь, что дон Сомера не соглашался и на четыре золотых. Этот конь получше моего пегого, он уже и узды слушается, и ровной рысью ходит, и хвост держит на заглядение. Я его целую неделю объезжал, просто рука отнялась, ведь другого такого злющего не найдешь, да и упрям как черт… Он малость раздобрел, так что сейчас я его придерживаю с кормом.
Мы подъехали к дому Кустодио, он пришпорил жеребца и ловко распахнул ворота во двор. Едва скрипучие створки захлопнулись за нами с грохотом, от которого задрожал конек на соломенной крыше, как кум напомнил мне:
– Заведите-ка поскорей да половчей разговор с Саломе, выведайте все, что можно.
– Не беспокойтесь, – отвечал я, стараясь подвести к галерее лошадь, которая испугалась развешанного там белья. Пока я собирался спешиться, кум уже успел накинуть на голову норовистого жеребца свою куртку и встал рядом со мной, поддерживая стремя и повод. Потом привязал коней и вошел в дом, призывая женщин:
– Канделария! Саломе!
В ответ послышалось лишь бормотание индюков.
– Ни одной собаки, – проворчал кум. – Сквозь землю все провалились, что ли?
– Иду, иду, – донесся из кухни голос кумы.
– Э, тетери! К нам кум Эфраин приехал!
– Подождите малость, кум! Мы тут сладкий пирог поставили, боимся – подгорит!
– А Фермин куда подевался? – спросил Кустодио.
– Пошел с собаками дикого кабана выслеживать, – раздался звонкий голосок Саломе.
Она выглянула из двери кухни, но в это время кум помогал мне стаскивать кожаные штаны для верховой езды.
Хижина у Кустодио – крытая соломой, с земляным полом, но очень чистенькая и недавно побеленная. Вокруг растут папайи, кофейные, аноновые и другие деревья. Не хватало одного: свежей проточной воды; недаром надежда получить ее так улучшила настроение хозяина.
Обстановку столовой составляли несколько табуретов, обтянутых недубленой кожей, деревянная скамья со спинкой, стол, накрытый сейчас накрахмаленной скатертью, и посудный шкаф с блистающими чистотой тарелками, блюдами и мисками разных цветов и размеров. Розовая ситцевая занавеска прикрывала дверь, ведущую в спальню, над карнизом красовалось изображение божьей матери, а по обе стороны от литографии – статуэтки святого Иосифа и святого Антония.
Вскоре из кухни появилась моя веселая круглолицая кума, отдуваясь от жара очага и сжимая в правой руке сбивалку. Посетовав, что я совсем забыл их, она сказала:
– А мы с Саломе так и ждали вас к обеду.
– Это почему?
– К нам приходил Хуан Анхель за яичками, вот сеньора и наказала ему передать, что вы сегодня приедете Послала я за Саломе на речку, она там белье стирала и хоть у нее спросите, она не даст соврать, говорю: «Ну, если и сегодня кум не придет к нам обедать, уж я его отчитаю».
– Значит, меня настоящий пир ждет?
– Вот погляжу, как вам понравится санкочо,[38] которое я своими руками приготовила. Жаль только, еще не поспело.
– Наоборот, отлично! Раз так, у меня есть время искупаться. Ну-ка, Саломе, – сказал я, остановись в дверях кухни, пока мои кум и кума тихонько совещались в столовой, – что ты мне тут наготовила?
– Желе и вот еще одно блюдо делаю, – отвечала она, не переставая что-то молоть. – Если бы вы только знали, как я ждала вас.
– Потому что… приготовила столько вкусных вещей?
– Немного и поэтому. Погодите минутку, я умоюсь, тогда смогу вам руку подать, хотя это зря, ведь вы мне больше не друг…
Она болтала, отводя глаза, не то шутя, не то смущаясь, однако невольно приоткрывала в улыбке свои влажные мягкие губы, сверкая ослепительно белыми зубами; на щеках у нее играл нежный румянец, придающий несравненное очарование цвету лица метисок. Ее обнаженные красивые руки ходили ходуном над каменной ступкой, стройный стан изгибался, распущенные волосы падали на плечи, прикрывая сборки вышитой белой блузки. Встряхнув головой, она закинула волосы за спину, вымыла руки и, вытирая их о бедра, сказала:
– Вам нравится смотреть, как я мелю? Знали бы вы, – добавила она шепотом, – как меня заботы измололи. Говорила я, что очень ждала вас.
Саломе встала так, чтобы из комнаты ее не было видно, и, протянув мне руку, сказала:
– Если бы вы не пропадали целый месяц, могли бы мне оказать большую услугу. Взгляните, где там мои тайта?[39]
– Никого там нету. Но не могу ли я сейчас оказать тебе эту услугу?
– Теперь – кто его знает.
– Да расскажи, в чем дело. Ведь ты знаешь, я все для тебя сделаю с удовольствием.
– Если я скажу «нет», то буду просто лгуньей. С тех пор как вы привели того английского сеньора, который вылечил меня от лихорадки, а потом все время справлялись обо мне, пока я не выздоровела, я поняла, что вы и вправду меня любите.
– Очень рад, что ты это знаешь.
– Мне так много надо рассказать вам, но, боюсь, ничего не выйдет. И то уже чудо, что мамы здесь нет… Слышите, кажется, уже идет.
– Найдем случай поговорить.
– Ах, сеньор! Неужели вы уедете сегодня, а я так и не расскажу вам обо всем!
– Значит, купаться пойдете, куманек? – спросила, входя, Канделария. – Тогда сейчас прпнесу вам душистую простыню, и тут же идите вместе с Саломе и вашим крестником. Они заодно принесут воду, и Саломе вымоет кастрюли; ведь немой ездил за бананами, à после всего, что надо было приготовить для вас да послать священнику, остался один только кувшин.
Услыхав слова доброй женщины, я понял, что муж полностью посвятил ее в свои намерения. Саломе украдкой состроила мне выразительную рожицу, как бы говоря: «Вот теперь удастся».
Я вышел из кухни и, прохаживаясь по столовой, пока женщины готовили все для купанья, раздумывал о том что недаром мой кум так следит за Саломе: любому отцу, даже менее сообразительному, чем он, не могло не прийти в голову, какой соблазн представляет собой ее прелестное личико в родинках, гордая осанка и стройный стан.
Мои размышления прервала Саломе. Стоя в дверях и надевая соломенную шляпу, она сказала:
– Пошли?
И, дав мне понюхать простыню, переброшенную через плечо, спросила:
– Чем пахнет?
– Тобой.
– Мальвой, сеньор!
– Ну, значит, мальвой.
– Просто у меня в сундуке всегда полно мальвы. Так дошли, а не думайте, что это далеко. Мы пересечем понизу плантацию какао, а как выйдем на ту сторону, там уж рукой подать.
Фермин, нагруженный кастрюлями и тыквенными посудинами, шагал впереди. Это и был мой крестник. Мне было тринадцать лет, а ему два года, когда я стал его крестным отцом по просьбе родителей, которые всегда питали ко мне особую привязанность.
Глава XLIX …Мне снилось, что я белая…
Мы уже выходили из расположенного позади кухни дворика, когда кума крикнула нам вдогонку:
– Не задерживайтесь! Обед вот-вот будет готов.
Саломе хотела заложить на засов калитку, выходившую на плантацию какао, но я сделал это сам s тут услыхал ее вопрос:
– Что нам делать с Фермином? Он такой болтунишка.
– Сама подумай.
– Ладно. Вот отойдем подальше, я его как-нибудь обману.
Мы вступили под темную сень плантации, – казалось, ей не будет конца. Прелестные ножки Саломе – голубая юбка открывала их выше щиколоток – мелькали на черной тропинке и палой сухой листве. Мой крестник шагал позади, бросая скорлупки какао и зернышки агвиата птицам, распевающим в густой зелени деревьев. Поравнявшись с высоким букаре, Саломе остановилась и сказала брату:
– А что, если коровы замутят воду? Наверняка они сейчас пошли вверх к водопою. От них одно спасенье – отогнать поскорее. Беги, дружок, распугай их да посмотри, чтобы они не съели тыкву, которую я позабыла в дупле. Только осторожней, не разбей посуду и не потеряй ничего. Ну, беги.
Повторять приказ не пришлось, правда, он был дан хотя и мягко, но решительно.
– Вот видите? – спросила Саломе, замедляя шаг, разглядывая верхушки деревьев и не очень умело изображая рассеянность. Потом она принялась рассматривать свои ноги, словно считая каждый медленный шаг. Я наконец прервал молчание:
– Так что же с тобой приключилось?
– Сами видите, я и не знаю, как рассказать вам…
– Почему?
– Да вы сегодня какой-то печальный… а сейчас очень серьезный.
– Это тебе показалось. Ну, говори же, а то потом не удастся. Мне тоже надо рассказать тебе кое-что интересное.
– Да! Тогда вы первый.
– Нет, ни за что.
– Значит, не хотите? Ну, тогда слушайте. Только обещайте – никому ни словечка…
– Конечно.
– Так вот, Тибурсио оказался ветреником и неверным человеком, он только и выдумывает всякую ерунду, лишь бы досадить мне. Мы уже чуть ли не целый месяц как в ссоре, а я ни в чем не виновата.
– Ни в чем? Ты уверена?
– Да что вы… клянусь вам.
– И как же он сам объясняет, из-за чего переменился, ведь он так любил тебя?
– Тибурсио? Воображает он о себе слишком много. Не любит он меня нисколечко. Сначала я понять не могла, чего это он дуется каждую минуту, а потом догадалась: вбил себе в голову, будто я любезничаю с каждым встречным. Сами скажите, каково это терпеть честной Девушке? Выдумывает всякие глупости, даже вас приплел.
– И меня тоже?
– Да он сам признался!
– Что же он выдумал?
– Сказать вам, так вы не поверите: все потому, что он видел, как я радуюсь, когда вы приходите. Да разве я могу не радоваться?
– Но он понял наконец, что все это глупости?
– А скольких слез и уговоров мне стоило привести его в разум.
– Поверь, я очень жалею, что оказался виной вашей ссоры.
– Вы здесь ни при чем. Не будь вас, придрался бы к кому-нибудь другому. Я вам еще самое важное не рассказала. Тайта объезжал жеребцов для сеньорите Хустиниано, а тому надо было прийти отобрать бычков для покупки. Один раз пришел этот сеньор, а Тибурсио и застал его здесь.
– Здесь?
– Ладно, ладно, не притворяйтесь, дома, конечно. И в наказание за мои грехи застал его еще один раз.
– Как будто уже выходит два раза, Саломе.
– Хорошо бы так; он еще застал его в воскресенье днем, сеньорито зашел воды попросить.
– Значит, три раза.
– И больше ни разочка. Ведь тот хоть и приходил, а Тибурсио его не видел. Но, сдается, кто-то рассказал ему.
– И все это, по-твоему, яйца выеденного не стоит?
– И вы туда же? Ну что же мне делать! Виновата я разве, что этот белый сеньор сюда повадился? А коли это плохо, почему тайта не скажет, чтобы он больше не являлся?
– Иногда самые простые вещи не так-то легко сделать.
– То-то и оно: вот так я и сказала Тибурсио. Правда, есть одно средство все исправить, но об этом я не решилась заговорить.
– Какое? Чтобы Тибурсио поскорее женился на тебе, да?
– Если он в самом деле так меня любит… Но раз он… раз он мог поверить, что я какая-нибудь негодница…
Глаза у Саломе подернулись влагой, и, пройдя несколько шагов, она вытерла слезы.
– Не плачь, – сказал я, – уверяю тебя, он ничего такого не думает. Дело тут только в ревности. Вот увидишь, все будет хорошо.
– Не надейтесь, слишком много он о себе понимает. Ему сказал кто-то, что он сын кабальеро, вот он и задирает нос. Да ну его совсем! Можно подумать, я какая-нибудь неизвестно чья, вроде него. Теперь он пристраивается поближе к другим девушкам, а все затем, чтобы позлить меня, я уж его знаю. То-то хорошо будет, если ньор Хосе выставит его вон!
– Не будь несправедлива. Что особенного в том, что он нанялся на работу к Хосе? Значит, не зря время проводит, хуже, если бы он баклуши бил.
– Уж я-то вижу Тибурсио насквозь. Поменьше бы влюблялся…
– Так что же, если ты этому парню приглянулась, так ему, по-твоему, все подряд будут нравиться?
– Вот именно.
Я расхохотался, а она, отвернувшись, спросила:
– Ну-ну, что это вы так развеселились?
– Да разве ты не видишь, что выдумываешь о Тибурсио то же самое, точь-в-точь то же самое, что он о тебе?
– Господи помилуй! Я-то что выдумываю?
– Просто ревнуешь.
– Вот уж чего нет, того нет.
– Нет?
– А если он сам этого добивается? Никто меня не отговорит, что, согласись только ньор Хосе, этот ветрогон женился бы на Лусии, а дай ему волю, и на обеих, да только Трансито уже замужем.
– Так вот знай, Лусия еще с малых лет любит брата Браулио, и он скоро приедет. Можешь не сомневаться, мне это рассказала Трансито.
Саломе задумалась. Мы дошли до конца плантации, она присела на ствол упавшего дерева, покачивая туфелькой стебельки чудоцвета.
– Так, значит, по-вашему, он хорошо поступает? – спросила она.
– Ты позволишь рассказать Тибурсио о нашем разговоре?
– Нет, нет. Ради всего святого, не надо.
– Но я только спросил, можно ли.
– Обо всем?
– Об одних жалобах, без обидных слов.
– Да ведь я как вспомню, что он обо мне выдумывает, сама не знаю, что и говорю… Знаете, пожалуй, лучше ничего ему не рассказывать, а то если он меня больше не любит, так пойдет болтать, будто я только и делаю, что плачу, и жить без него не могу.
– Ну, тогда, Саломе, твоему горю ничем не поможешь.
– Что же мне делать! – воскликнула она, заливаясь слезами.
– Полно, не горюй, – сказал я, отрывая ее руки от лица, – слишком дороги твои слезы, чтобы проливать их ручьями.
– Если бы и Тибурсио так думал, не плакала бы я по ночам, пока не усну, а теперь из-за пего, неблагодарного, и тайта на меня косо смотрит.
– Хочешь, побьемся об заклад, что завтра днем Тибурсио придет к тебе просить прощения?
– Ах, честно говоря, я была бы вам по гроб жизни благодарна, – отвечала она и, схватив обеими руками мою руку, прижала ее к щеке. – Обещаете?
– Да я последним дураком буду, если не добьюсь этого.
– Смотрите, ловлю вас на слове. Но берегитесь, не вздумайте рассказывать Тибурсио, что мы с вами были тут совсем одни и… Не то он вспомнит еще тот, другой день – и тогда все пропало. А теперь, – добавила она, взбираясь на изгородь, – отвернитесь, не смотрите, как я прыгаю, или давайте прыгнем вместе.
– Что это ты стала стесняться? Раньше такой не была.
– А я с каждым днем все больше вас стесняюсь. Полезайте же!
Но для Саломе перебраться на другую сторону оказалось гораздо труднее, чем для меня, и она осталась сидеть на гребне изгороди.
– Поищите братишку, окликните его, – сказала она. – › Теперь я уже никак не могу спуститься, пока он не вернется.
– Позволь, я помогу тебе, ведь уже поздно, а кума…
– Она же не такая, как тот… И потом, как я спущусь? Видите, я зацепилась…
– Оставь эти глупости и обопрись как следует, – сказал я, подставляя ей плечо.
– Держитесь тогда хорошенько, а то я тяжелая, как… перышко, – рассмеялась она и ловко спрыгнула на землю. – Теперь буду важничать: уж я-то знаю, немало белых барышень хотели бы так прыгать через загородку.
– Пустомеля ты.
– Это все равно что болтушка? Ну, тогда я на вас зло держать буду.
– Что будешь?
– Вот те на!.. Не понимаете? Рассержусь я на вас.
А хотелось бы мне посмотреть, каким вы бываете, когда разозлитесь. Так и разбирает охота.
__ А вдруг рассержусь и ты меня потом не задобришь?
– Аи-аи-аи! Будто я не видела, что у вас сердце так и тает, стоит мне только заплакать.
– Ну, это когда я знаю, что ты плачешь не из кокетства.
– Не из чего? Как вы сказали?
– Ко-кет-ства.
– А что это значит? Скажите, я, по-правде, не знаю… Наверняка что-нибудь плохое… Так вы считаете, оно у меня есть, да?
– Еще бы! Оно просто исходит от тебя.
– Послушаем, послушаем: с места не сдвинусь, пока не скажете.
– Тогда пойду один, – ответил я и сделал несколько шагов.
– Иисусе! Да я готова в воду его столкнуть! А какой простыней вы будете вытираться? Нет, вы скажите, что от меня исходит. Я уж сама догадываюсь.
– Скажи.
– Это… Это любовь?
– Угадала.
– Но что же делать? И зачем я люблю этого бахвала? Будь я белой, только очень белой, и богатой, очень богатой, я любила бы вас, правда?
– Ты так думаешь? А что же тогда делать с Тибурсио?
– С Тибурсио? Чтобы не бегал за всеми, сделаем его управляющим и будем вот так держать. – Она крепко сжала кулак.
– Нет, это не годится.
– Почему? Вам не нравится, что я могла бы полюбить вас.
– Нет, не это, а судьба, которую ты выбрала для Тибурсио.
Саломе от души расхохоталась.
Мы вышли на берег речушки; Саломе, положив простыню на траву, где я мог посидеть в тени, опустилась на колени на большом камне и плеснула водой себе в лицо. Умывшись, она достала из-за пояса платок, чтобы утереться, но я протянул ей простыню и сказал:
– Лучше искупайся.
– Пожалуй… пожалуй, потом искупаюсь, вода совсем теплая. Но вам самому надо освежиться. Скоро придет Фермин, и, пока вы будете одеваться, я тоже окунусь в нижней заводи.
Она встала и поглядела на меня с лукавой улыбкой приглаживая волосы мокрыми руками.
– А знаете, мне снилось, что все оно так и есть.
– Что Тибурсио разлюбил тебя?
– Вот еще! Нет, что я белая… Когда я проснулась, такая обида меня взяла, что на следующий день, в воскресенье, я всю мессу только и вспоминала свой сон. А потом целую неделю, когда стирала вон там, где вы сидите, все о том же раздумывала и…
Невинные признания Саломе были прерваны криком, донесшимся со стороны плантации какао: мой кум собирал в стадо свиней. Саломе слегка напугалась и, озираясь по сторонам, сказала:
– И куда этот Фермин запропастился… Купайтесь скорее, а я пойду вверх по реке, поищу его. Вдруг он уйдет, не дождавшись нас.
– Оставайся здесь, он и сам найдет тебя. Просто ты услыхала голос отца: боишься, ему не понравится, что мы сидим вдвоем и разговариваем?
– Что разговариваем – ничего, но… кто его знает.
Ловко прыгая по большим прибрежным камням, она скрылась среди ветвистых деревьев.
Крики кума не умолкали, и я подумал, что его доверие ко мне тоже небезгранично. Наверняка он издали следовал за нами среди деревцев какао и, только потеряв нас из вида, начал скликать свиней. Кустодио не знал, что его поручение уже весьма искусно выполнено и что, несмотря на все чары его дочери, не было на свете сердца более глухого и слепого, чем мое.
Я направился к дому вслед за Саломе и Фермином, которые тащили тыквенные сосуды с водой. Саломе сделала валик из платка и поверх него поставила на голову грубый кувшин, который несла, не поддерживая руками, изящно изгибая свой тонкий стан.
Когда мы пришли, девушка шепотом поблагодарила меня: «Бог вознаградит вас» – и с озорной улыбкой добавила:
– А я в награду, когда вы купались, бросила в воду выше по течению цветы, вы их видели?
– Да, но подумал, что это стайка обезьян резвится в верховье реки.
– Вот непонятливый! Да я чуть не свалилась, когда карабкалась на верхушку дерева.
– А ты, дурочка, и поверила, будто я не догадался, кто бросал цветы в воду.
– Мне Хуан Анхель рассказал, что в имении бросают розы в бассейн, когда вы купаетесь, вот и я бросила в реку самые красивые лесные цветы.
За обедом у меня был случай убедиться, как искусно Саломе и моя кума запекают бананы и сыр, поджаривают пончики, готовят желе. Пока Саломе выходила на кухню, я успел рассказать куму, что на самом деле хочет его дочь и что собираюсь я сделать для ее примирения с женихом. Старик так и расплылся от удовольствия; он стал подшучивать над моей подругой по прогулке, будто она уж слишком охотно потчует меня, и всячески показывал, что больше на нее не сердится.
К четырем часам жара спала, и дом превратился в перевернутый вверх дном Ноев ковчег: утки целыми выводками зашлепали по столовой; куры с кудахтаньем метались по двору и под сливой, где у корыта, стоявшего на козлах, моя лошадь хрупала маис; индюки надувались и чванились, перекрикивая двух попугайчиков, а те звали какую-то Бениту – должно быть, кухарку; свиньи визжали и хрюкали, пытаясь просунуть рыло между перекладинами захлопнутой дверцы. Сквозь весь этот гам прорывались зычные приказы кума и крики кумы, которая гнала уток и скликала кур.
Началось долгое прощание. Кума обещала помолиться святому чудотворцу, чтобы он благословил меня на дорогу и скорое возвращение. Когда я прощался с Саломе, она сжала мою руку и, глядя на меня, пожалуй, больше, чем Дружески, сказала:
– Помните, я на вас надеюсь. Со мной можете не прощаться надолго… Даже если не успеете заехать по пути, я хоть ползком, а доберусь до дороги повидать вас еще разок. Не забывайте меня… если бы не вы, не знаю, что бы я делала с моим тайтой.
С другого берега бурливого ручья, бегущего вниз по теснине меж извилистых лесных тропинок, до меня донесся звучный мужской голос:
Я время просил повременить, и время повременило, и верную время подало весть, что милая мне изменила.Вскоре из чащи деревьев появился и певец. Это был Тибурсио; через одно плечо он перебросил пончо, на дру, гом держал длинный посох с подвешенным к нему узелком. Тибурсио распевал песню, поверяя свою печаль лесному безлюдью. Завидев меня, он умолк и остановился а когда я подъехал, почтительно поздоровался и с улыбкой сказал:
– Ого! Как поздно и быстро поднимаетесь в горы… Даже караковый ваш взмок… Откуда это вы так скачете?
– Ездил прощаться с друзьями, а под конец, на твое счастье, завернул в дом Саломе.
– И пожалели, что меня не было?
– Очень был этим огорчен. И давно ты туда не ходишь?
Парень, опустив голову, сбивал своим посохом головки цветов, потом взглянул мне прямо в лицо и ответил:
– Она сама виновата. Что она вам наговорила?
– Что ты неблагодарный ревнивец, а она только о тебе и думает, больше ничего.
– И это все? Ну, значит, главное она от вас скрыла.
– Что ты называешь главным?
– Ее шашни с ниньо Хустиниано.
– Послушай, мог бы ты поверить, что я влюблен в Саломе?
– Как я могу этому поверить!
– Так вот, Саломе влюблена в Хустиниано не больше, чем я в нее. Ты должен ценить девушку по заслугам, а их у нее, к твоему сведению, немало. Ты оскорбил ее своей ревностью, но, если ты придешь и повинишься, она тебе все простит и будет любить еще больше.
Тибурсио задумался.
– Знаете, ниньо Эфраин, – печально сказал он наконец, – я так люблю ее, что она даже представить не может, какие муки переносил я из-за нее весь этот месяц. Коли уж бог дал кому такой нрав, как мне, то все можно стерпеть, только бы тебя дураком не считали (простите, ваша милость, за грубое слово). И когда я говорю, что Саломе сама виновата, я знаю, что говорю.
– А вот чего ты не знаешь, это как она плакала и убивалась, рассказывая о своей обиде, – просто всю душу мне перевернула.
– Правда?
– И я понял, что виноват во всем ты. Если ты в самом деле так любишь ее, почему ты не женишься? Ведь в твоем доме уже никто к ней не придет без твоего согласия.
– Скажу вам по совести, я не раз думал о том, чтобы жениться, но все не решался. Во-первых, Саломе всегда надо мной посмеивалась, а во-вторых, я не знаю, захочет ли ньор Кустодио отдать ее за меня.
– Ну, о ней я тебе уже все сказал, а что касается моего кума, за него я отвечаю. Ты должен поступить разумно. Если действительно веришь мне, сегодня же вечером пойди к Саломе и, не подавая вида, что знаешь о ее чувствах, поговори с ней.
– Ладно, с вашей помощью! Так вы ручаетесь за все?
– Знай, Саломе – самая честная, хорошенькая и хозяйственная девушка, какую ты только можешь встретить, и мои кумовья, я уверен, отдадут ее за тебя с радостью.
– Право же, я всей душой хочу пойти к ней.
– Но если будешь откладывать, а Саломе рассердится и ты ее потеряешь, – пеняй на себя.
– Я пойду, хозяин.
– Договорились. Незачем и просить, чтобы ты известил меня, как идут дела, я уверен, ты будешь мне только благодарен. А теперь прощай, уже скоро пять.
– Прощайте, хозяин. Да наградит вас бог. Я все вам расскажу.
– Остерегись только петь свою песенку, как бы не услышала Саломе.
Тибурсио расхохотался.
– А что, она может обидеться? До завтра! И верьте, я все сделаю.
Глава L Никогда не буду огорчать тебя
Часы в гостиной пробили пять. Мама и Эмма поджидали меня, прогуливаясь по галерее; Мария сидела на нижней ступени лестницы, зеленый цвет ее платья прелестно сочетался с темно-каштановым оттенком волос, заплетенных в две толстых косы; полусонный Хуан играл ими, примостившись у нее на коленях. Когда я спешился, Мария уже была на ногах. Малыш взмолился, чтобы я чуточку покатал его на лошадке; Мария подошла, держа его па руках, и помогла усадить между седельными сумками.
– Ровно пять, какая точность! – шепнула она. – Если бы так было всегда…
– Что это ты сделал сегодня со своей Мимией? – спросил я Хуана, когда мы отъехали от дома.
– Это она сама была сегодня дурочкой, – отвечал он.
– Как так?
– Потому что плакала.
– А! Что же, ты ее не утешил?
– Да она все плакала, хоть я и целовал ее, и цветы приносил. Тогда я сказал маме.
– А мама что сделала?
– Мама ее обняла и утешила. Мимия больше любит маму, чем меня. Она была дурочка, только ничего ей не рассказывай.
Я снял Хуана с седла и передал его Марии.
– Ты уже полила лилии? – спросил я.
– Нет, ждала тебя. Поговори немного с мамой и Эммой, – тихонько сказала она, – а потом я выйду в сад.
Мария всегда боялась, как бы моя сестра и мать не были на нее в обиде за то, что я несколько охладел к ним, и старалась возместить своей любовью недостаточное проявление моей.
Полив цветы, мы с Марией уселись на каменной скамье над ручьем, протекавшим у самых наших ног. Пышные кусты жасмина скрывали нас от всех, кроме Хуана, но тот был увлечен своим делом: весело распевая, он пускал по течению сухие листья страстоцвета с сидевшими на них жуками и стрекозами.
Солнце садилось за вершинами гор Мулало, затянутых волотисто-серыми тучами, последние лучи удлиняли темные тени ив, зеленые плюмажи которых развевались под легким ветерком.
Мы поговорили о Карлосе и его причудах, о моем посещении дома Саломе; губы Марии улыбались печально, глаза не улыбались вовсе.
– Посмотри на меня, – сказал я.
В ее взгляде таилась томная печаль, так красившая ее в бессонные ночи, проведенные у изголовья больного отца.
– Хуан не обманул меня, – продолжал я.
– Что он тебе сказал?
– Что ты была сегодня дурочка… Не зови его… Что плакала и он не мог тебя утешить – это правда?
– Да. Когда вы с папой сегодня утром оседлали коней, мне на минуту показалось, что ты больше не вернешься, что меня обманывают. Я побежала к тебе в комнату и поняла, что это не так: там были вещи, которые ты не мог оставить. Но когда ты скрылся в низине, стало так тихо и печально, что меня охватил еще больший: страх, чем всегда, перед этим близким и неизбежным пнем… Что я буду делать? Скажи, скажи мне, как вытерпеть эти годы? Ведь ты не будешь видеть всего этого. Ты будешь учиться, узнаешь новые страны, о многом позабудешь. А я ни о чем не смогу забыть… ты оставляешь меня здесь одну, и я умру, вспоминая и ожидая тебя. Она положила мне на плечо руку и опустила на нее голову.
– Не говори так, Мария, – сказал я сдавленным голосом, гладя дрожащей рукой ее бледный лоб. – Не говори так, ты лишаешь меня последних остатков мужества.
– У тебя еще сохранилось мужество, а я уже совсем его утратила. Я могла смиряться, – продолжала она, закрыв платком лицо, – мне удавалось подавлять снедающую меня тоску и тревогу, потому что рядом с тобой даже мука превращается в счастье… Но ты унесешь это счастье с собой, а я останусь одна… и прошлое больше никогда не вернется… Ах! Зачем, зачем ты приехал?
Последние слова потрясли меня. Опустив голову на руки, я боялся нарушить молчание, подавленный ее скорбью.
– Эфраин, – мягко сказала она наконец, – смотри, я уже не плачу.
– Мария, – отвечал я, подняв голову, и на моем лице, очевидно, появилось необычное и торжественное выражение, потому что она устремила на меня пристальный, напряженный взгляд, – жалуйся не мне на то, что я вернулся. Жалуйся тому, кто сделал тебя подругой моего детства; тому, кто повелел мне любить тебя так, как я люблю; вини его в том, что ты такая, какая есть… жалуйся богу. Просил ли я у тебя, дала ли ты мне что-нибудь, чего нельзя было просить или дать перед его лицом?
– Нет, о нет! Почему ты об этом спрашиваешь?… Я тебя не обвиняю, разве могу я обвинять тебя?… Я уже не жалуюсь.
– И никогда больше жаловаться не будешь?
– Нет, нет… Что я сказала? Я просто глупая и сама не знаю, что говорю. Взгляни на меня, – продолжала она беря меня за руку, – не сердись на этот вздор. Я найду в себе мужество… обещаю тебе. Я ни. на что не жалуюсь.
Она снова склонила голову мне на плечо и добавила:
– Никогда я больше не буду так говорить… Никогда не буду огорчать тебя.
Я вытер ей последние слезинки, и впервые мои губы прикоснулись к обрамлявшим ее лоб волнистым волосам, тяжелые, темные косы лежали у меня на коленях. Она подняла руки, как бы защищая лоб от поцелуя, но напрасно, – на это я все равно не решился бы.
Глава LI Она разрыдалась…
Двадцать восьмого января, за два дня до назначенного срока, я спозаранку отправился в горы. Хосе и девочки прислали за мной Браулио, они хотели принять меня на прощание у себя дома. Всю дорогу горец не нарушал моего молчания. Когда мы пришли, Трансито и Лусия доили корову Бабочку во дворике хижины Браулио. При виде меня они вскочили и с обычной приветливостью и радушием стали приглашать в дом.
– Нет, нет, раньше подоим коровку, – сказал я, пристраивая ружье у частокола. – Но только мы вдвоем с Лусией, тогда она каждое утро будет вспоминать обо мне.
Я взял тыквенный подойник, в котором уже пенилось белоснежное молоко, поставил его под вымя Бабочки и, как ни смущалась Лусия, уговорил ее приняться за дойку. Пока она трудилась, я сказал, глядя на нее из-под брюха коровы:
– А Хосе не обижен племянниками, я знаю, у Браулио есть брат, парень покрасивей его самого, и он любил тебя, еще когда ты была совсем маленькая…
– Как еще кое-кто кое-кого, – прервала она меня…
– Да, точно так же. Вот я и хочу сказать сеньоре Луисе, пусть потолкует с мужем, пора племянничку помогать им. И тогда уж к моему приезду ты не будешь так краснеть от каждого слова.
– Э-е… – протянула она, перестав доить.
– Что же ты не кончаешь дойку?
– Ну, как я могу доить, если вы такой насмешник?… Да больше и нет ничего.
– А вот два полных соска. Ты их не выдоила.
– Эти нельзя. Эти для теленка.
– Так, значит, я скажу Луисе?
Девушка прикусила полную нижнюю губку, что на ее языке означало: «Почему бы и нет?», а на моем: «Делайте что хотите».
Телок дождаться не мог, чтобы с него сняли стягивающий морду ремень, другим концом этого ремня он был привязан к передней ноге коровы; едва Лусия освободила его, он бросился к вымени.
– Этого тебе и нужно было, жадина противный!.. – сказала Лусия.
Она пошла к дому, неся на голове подойник и исподтишка лукаво на меня поглядывая.
Я согнал с берега ручья гусей, дремавших на травке, и стал умываться, беседуя с Трансито и Браулио, а они держали одежду для верховой езды, которую я с себя сбросил.
– Лусия! – крикнула Трансито. – Принеси вышитое полотенце из сундучка.
– И не думай, не придет она сейчас, – подмигнул я своей названой дочке и рассказал обоим, о чем беседовали мы с Лусией.
Они от души веселились, но тут, против наших ожиданий, прибежала Лусия и, сразу догадавшись, о чем шла речь и чему мы смеялись, отвернулась и, не глядя на меня, протянула полотенце.
– Поди лучше присмотри за своим кофе, – сказала она Трансито, – а то еще сгорит. Нечего стоять тут и зубоскалить.
– Уже готово? – спросила Трансито.
– У-у, давно уже!
– Что это вы там делаете с кофе? – спросил я.
– Я попросила сеньориту, когда последний раз была у вас, научить меня готовить кофе, а то, сдается мне, вам не очень нравится гамуса;[40] вот мы и торопились надоить молока к вашему приезду, – ответила Лусия, вешая полотенце на лист папоротника, живописно раскинувшего свою сень в самой середине патио.
В доме все дышало сельской Простотой, опрятностью в порядком; аромат кедра исходил от деревянной мебели; под навесом цвели в горшках гвоздики и нарциссы, которыми сеньора Луиса украсила хижину дочери. На подставках стояли оленьи рога, высушенные оленьи ножки служили крючками в столовой и спальне.
Гордясь и робея, Трансито поднесла мне чашку кофе с молоком – ее первый опыт после обучения у Марии, но опыт весьма удачный: едва я пригубил кофе, как понял, что он может соперничать с тем, что столь искусно готовил Хуан Анхель.
Мы с Браулио пошли пригласить Хосе и сеньору Луису на общий завтрак. Старик укладывал в мешки овощи, которые собрался отвезти завтра на рынок, а жена допекала хлебцы из юкки, приготовленные к завтраку. Выпечка удалась, пышные хлебцы с золотистой корочкой распространяли соблазнительное благоухание.
Завтракали мы в кухне. Трансито ловко и весело исполняла роль хозяйки дома. Лусия бросала мне грозный взгляд всякий раз, как я указывал ей глазами на отца. Славные крестьяне со свойственной им врожденной деликатностью избегали всякого намека на предстоящий мне отъезд, как бы не желая омрачать последние проведенные вместе часы.
Было уже одиннадцать. Хосе, Браулио и я обошли посадки молодых бананов, выкорчеванные участки и зреющее маисовое поло. Потом все снова собрались в маленькой столовой дома Браулио. Мужчины, усевшись на табуретках вокруг большой рыболовной сети; принялись подвешивать к ней грузила, а сеньора Луиса с девочками чистила маис для помола. И хозяева и я чувствовали, что близится печальный час прощания. Все молчали. Наверное, их огорчало выражение моего лица, и они старались не смотреть на меня. Наконец, решившись, я посмотрел на часы и встал. Взяв ружье со всем снаряжением, я повесил его на крючок в столовой и сказал Браулио:
– Вспоминай меня после каждого удачного выстрела.
Горец не нашел слов, чтобы выразить свою благодарность.
Сеньора Луиса продолжала чистить початки, не скрывая слез. Трансито и Лусия уткнулись носом в стенку, встав по обе стороны двери. Браулио был бледен. Хосе притворялся, будто ищет что-то в ящике с инструментами.
– Ладно, сеньора Луиса, – сказал я, наклоняясь, чтобы поцеловать ее, – молитесь за меня почаще.
Она разрыдалась, ничего не ответив.
Встав в проеме двери, я прижал к груди головы обеих девушек, они плакали, а мои слезы скользили по их волосам. Когда я оторвался от них и повернулся к Браулио и Хосе, обоих уже не было в комнате: они поджидали меня на галерее.
– Завтра я приду, – сказал Хосе, протягивая руку.
Оба мы отлично знали, что прийти он не может. Когда Браулио выпустил меня из объятий, Хосе сжал меня в своих и, утирая слезы рукавом рубахи, пошел по дороге к вырубке, а я вместе с Майо поспешил в обратном направлении, махнув рукой Браулио, чтобы не провожал.
Глава LII Завтра!.. Уже завтра!
Медленно спускался я в глубь ущелья. Только шум реки да отдаленные крики диких уток нарушали безмолвие сельвы. Сердце мое прощалось с каждым уголком, с каждым деревом у тропы, с каждым бегущим наперерез ручейком.
Присев на берегу реки, я смотрел, как несет она у моих ног свои воды, думал о славных людях, которые пролили обо мне сейчас столько слез, и сам ронял слезы в быстрые волны, убегавшие от меня вдаль, как счастливые дни последних месяцев.
Через полчаса я был уже дома и вошел в рукодельную к маме, где сидела с ней только Эмма. Даже в те дни, когда детство наше уже далеко, мать не оставляет нас своей нежностью: она больше не целует нас, наш, быть может, прежде времени увядший лоб не склоняется к ее коленям, она не убаюкивает нас своей песней, но душа наша всегда чувствует ее любовь.
Я провел у мамы больше часа и наконец, удивленный отсутствием Маржи, спросил о ней.
– Мы вместе были в молельне, – ответила Эмма. – Ей теперь хочется, чтобы мы молились почаще. Потом она пошла в буфетную, – вероятно, не знает, что ты вернулся.
Никогда еще не случалось, чтобы я приходил домой, а Мария не появлялась через несколько минут. Я испугался, не впала ли она опять в то глубокое уныние, что и меня лишало всяких сил: я видел, как боролась она с ним всю последнюю неделю.
Целый час я просидел у себя в комнате, но вот в дверь постучался Хуан и позвал меня обедать. Я вышел на галерею и увидел Марию у решетки окна рукодельной.
– А мама вовсе и не звала тебя обедать, – со смехом заявил малыш.
– Кто же это научил тебя говорить неправду? – строго сказал я. – Мария рассердится на тебя.
– Да она сама мне велела, – отвечал Хуан, показывая на нее.
Я обернулся к Марии, желая проверить, так ли это, но она сама себя выдала своей улыбкой. В ее блестящих глазах сияла спокойная радость, утраченная было за время волнений нашей любви, на щеках играл яркий румянец, так красивший ее в дни детских игр. Длинные косы, падая вдоль пышного белого платья, колыхались при каждом движении ее гибкого стана или резвых ножек, расправлявших ковер.
– Что это ты грустишь взаперти? – спросила она. – А я сегодня веселая.
– Да, кажется, – отвечал я и как бы затем, чтобы получше рассмотреть ее, подошел вплотную к разделявшей нас решетке.
Мария опустила глаза, делая вид, будто перевязывает наново широкие завязки своего фартучка из голубой тафты; скрестив за спиной руки и опершись о створку окна, она спросила:
– Разве не правда?
– Сомневаюсь, ведь сейчас ты обманула меня…
– Какой это обман! А по-твоему, хорошо сидеть взаперти до самого вечера?
– Вот как расхрабрилась! А по-твоему, хорошо прятаться целых два часа после моего возвращения?
– Кто же мог подумать, что ты вернешься в двенадцать? И потом, я была очень занята. Но я видела, как ты спускался с гор. Если не веришь, могу сказать, что ты был без ружья, а Майо бежал далеко позади.
– Так, значит, ты была очень занята? Что же ты делала?
– Мало ли что: и хорошее и плохое.
– Например?
– Я много молилась.
– Да, Эмма уже сказала мне, что ты поминутно водишь ее с собой в молельню.
– А потому что всегда, когда я рассказываю святой деве о своей печали, она меня слышит.
– Почему ты так думаешь?
– Знаешь, после молитвы мне становится легче и не так страшно думать о твоем отъезде. Ты возьмешь с собой изображение скорбящей богоматери?
– Да.
– Пойдем вечером вместе с нами в молельню, сам увидишь, что все это правда.
– А что же еще ты делала?
– Плохое?
– Да, плохое.
– Если будешь сегодня вечером молиться вместе со мной, расскажу.
– Ладно.
– Только не говори маме, а то она рассердится.
– Обещаю, не скажу.
– Я гладила.
– Ты?
– Да, я.
– Как же ты это делала?
– Тайком от мамы.
– Хорошо же ты поступаешь, скрываясь от нее.
– Я это делаю очень, очень редко.
– Но что за нужда была портить руки, такие…
– Какие – такие?… А, знаю, знаю! Просто мне хотелось, чтобы твои самые красивые рубашки были разглажены моими руками. Тебе это неприятно? И ты не хочешь поблагодарить меня?
– Да кто же научил тебя гладить? И как это тебе в голову пришло?
– Один раз Хуан Анхель вернул твои рубашки служанке, которая их гладила: его хозяин, мол, недоволен. Я взялась помочь Марсе лине, чтобы все было хорошо.
Она, правда, и так не видела никаких изъянов, но под моим присмотром разгладила рубашки совсем безупречно, и потом ты больше никогда не возвращал их, даже если я к ним не прикасалась.
– Я тебе очень благодарен за заботу, но я и вообразить не мог, что у тебя хватит сил и умения орудовать утюгом.
– А у нас есть совсем маленький утюжок, и если обернуть ручку платком, рукам ничего не сделается.
– Ну-ка покажи.
– Да с ними ничего не случилось.
– Показывай, показывай.
– Они такие же, как всегда.
– Как знать…
– Вот смотри.
Я взял ее руки и погладил нежные, как атлас, ладошки.
– Видишь, ничего нет, – сказала она.
– Они могут загрубеть, как мои…
– А я не чувствую, чтобы твои загрубели. Как ты провел время в горах?
– Очень печально. Никогда не думал, что мой отъезд так огорчит их и что так тяжело мне будет прощаться со всеми, особенно с Браулио и девочками.
– А что они тебе сказали?
– Бедняжки! Они так плакали, что ничего не могли сказать, впрочем, слезы говорили больше, чем слова…, Но только не огорчайся! Я плохо сделал, что рассказал тебе… Лучше, если, вспоминая последние проведенные вместе часы, я буду видеть тебя такой, как сейчас, – твердой и почти счастливой.
– Да, – сказала Мария, украдкой утирая глаза, – такой я и буду… Завтра!.. Уже завтра! Но завтра воскресенье, и мы весь день будем вместе, почитаем какую-нибудь книжку, из тех, что ты читал нам сразу после приезда… И ты должен сказать, какое платье тебе больше нравится, как мне одеться…
– Так, как сейчас.
– Хорошо. Вот тебя уже зовут обедать… До вечера! – И она убежала.
Мария всегда прощалась со мной, даже если мы тут же встречались снова. Обоим нам казалось, что в кругу семьи мы уже врозь.
Глава LIII На чистых, синих склонах западных гор…
Двадцать девятого в одиннадцать вечера я простился с семьей и Марией и оставил их в гостиной. Я ждал в своей комнате, пока не пробьет час, первый час страшного дня, который так долго грозил нам и наконец пришел. Я не хотел, чтобы эти первые мгновения застигли меня во время сна.
Когда пробило два, я прилег одетый на постель. Платочек Марии, благоухающий ее духами, смятый ее руками, мокрый от ее слез, лежал у меня на подушке и впитывал теперь мои слезы, которым, казалось, не суждено было иссякнуть.
Если те слезы, что проливаю я сейчас, вспоминая последние предотъездные дни, помогут моему перу описать их, если память моя, хотя бы один раз, пусть даже на единое мгновение исторгнет тайную скорбь из моего сердца, строки эти принесут облегчение тем, кто много страдал, но для меня, быть может, окажутся роковыми. Нам не дано вечно упиваться усладой горя: и часы скорби, в часы утех проходят безвозвратно.
Будь нам дозволено судьбой удержать быстротечное время, Мария замедлила бы часы, оставшиеся до разлуки. Увы, не слыша ее рыданий, не видя ее слез, они пролетели, но, улетая, сулили возвратиться…
Тайная тревога, словно толчком, пробуждала меня, едва лишь сон приглушал мои муки. Я обводил взглядом комнату, уже лишенную уюта, отмеченную беспорядком дорожных сборов, – комнату, где столько раз поджидал рассвета в счастливые дни. Я пытался поскорее заснуть снова, ибо только во сне мог увидеть Марию такой же прелестной и смущенной, как вечерами первых прогулок после моего приезда, или задумчивой и молчаливой, как во время первых моих признаний, когда почти ничего не произносили наши губы, но так много говорили наши улыбки и взгляды. Мне снились тихий дрожащий голос, поверяющий детские тайны ее чистой любви, глаза, уже не избегавшие в смущении моего взгляда, и в них я видел всю ее душу, открывая в ответ свою… Но тут я снова я ужасе просыпался, услышав рыдание, так долго сдерживаемое и всe же вырвавшееся у нее, когда мы прощались вчера вечером!
Еще не было пяти, когда я, постаравшись скрыть следы мучительной бессонницы, вышел на темную галерею. Вскоре я увидел, как засветился сквозь жалюзи огонек в комнате Марии, и услыхал голос Хуана, который звал ее.
Первые лучи солнца тщетно пробивались сквозь плотный туман – он ниспадал клубящейся пеленой с горных хребтов и разливался по дальним равнинам. На чистых, синих склонах западных гор уже золотились храмы Кали, а у подножия – словно сбившиеся овечьи отары, белели деревушки Юмбо и Вихес.
Хуан Анхель подал мне кофе и оседлал вороного. Конь нетерпеливо бил копытами, топча траву под апельсиновым деревом, к которому был привязан. Всхлипывая, мальчик встал в дверях комнаты – с крагами и шпорами в руках; когда он помогал мне обуться, его слезы крупными каплями падали мне на ноги.
– Полно, не плачь, – сказал я, изо всех сил стараясь говорить твердо, – когда я вернусь, ты уже будешь мужчиной, и больше мы не расстанемся. А в нашем доме все тебя очень любят.
Но вот для меня пришло время собрать все силы. Шпоры мои зазвенели в гостиной – она была пуста. Я толкнул дверь в рукодельную, мама встала с кресла и бросилась мне в объятия. Она знала, что ее горе может лишить меня мужества, и, пытаясь сдержать рыдания, заговорила о Марии и обещала беречь ее.
Все обливались слезами. Эмма обняла меня последняя и, зная, кого я ищу глазами, указала на дверь молельни. Я вошел. На алтаре желтым светом горели две свечи. Мария сидела на коврике, ее платье белело в полумраке. Увидев меня, она тихо вскрикнула и снова уронила голову па низенькую скамеечку; распущенные волосы закрывали ее лицо. Она протянула мне правую руку, и я, опустившись на колено, осыпал ее поцелуями. Но едва я встал, как Мария, словно испугавшись, что я уйду, вскочила и, рыдая, бросилась мне на шею. Сердце мое хранило все-слезы до этого часа.
Я прижался губами к ее лбу… Мария задрожала, кудри ее рассыпались по плечам; спрятав лицо у меня на груди, она указала мне рукой на алтарь. Вбежала Эмма и, приняв в свои объятия обессилевшую Марию, взглядом попросила меня уйти. Я повиновался.
Глава LIV Все осталось так же, как было в день твоего отъезда…
Прошли две недели моей жизни в Лондоне, и вот наконец вечером пришли письма из дома. Дрожащей рукой вскрыл я конверт, скрепленный печаткой отца. Там было письмо и от Марии. Прежде чем развернуть его, я вдохнул так хорошо знакомый мне, едва ощутимый аромат писавшей его руки. Внутри сложенного листа лежал лепесток лилии. Мой затуманенный взгляд тщетно пытался прочесть первые строки. Я распахнул дверь на балкон, мне не хватало воздуха… Розы в саду моей любви!.. Горы Америки, родные горы!.. Синие ночи!..
Огромный, никогда не утихающий город, почти сплошь затянутый дымом, казалось, спал под плотной завесой свинцового неба. Северный ветер, ворвавшись в комнату, хлестнул меня по лицу. Я испуганно захлопнул створки балконной двери и, оставшись один со своим горем – хорошо хоть, что я был один, – долго плакал в глубокой темноте.
Вот отрывки из письма Марии:
«Пока все сидят в столовой после ужина, я пошла в твою комнату и пишу тебе. Здесь я могу плакать, и никто не будет утешать меня; здесь я воображаю, будто вижу тебя и говорю с тобой. Все осталось так же, как было в день твоего отъезда, – мы с мамой не хотели ничего трогать: последние цветы, что я поставила тебе на стол, увяли и опустились на дно вазы, не видно ни одного; стулья стоят на тех же местах; книги тоже; та, что ты читал, лежит открытая на столе; твоя охотничья куртка – там, где ты ее повесил, вернувшись последний раз с прогулки в горы; календарь на этажерке показывает все то же тридцатое января, такое грозное, такое страшное и, увы, уже прошедшее! Ветки цветущего розового куста заглядывают в твое окно, как бы разыскивая тебя, и вздрагивают, когда я, целуя их, говорю, что ты вернешься.
Где ты теперь? Что делаешь в этот час? Напрасно я столько' раз просила тебя показать мне на карте твой путь, все равно ничего не могу себе представить. Мне страшно даже подумать об океане, которым все так восторгаются, и, к вящему моему мучению, я только и вижу тебя среди волн. Но когда ты приедешь в Лондон, ты станешь писать мне обо всем: расскажешь, как выглядят улицы вокруг твоего дома; подробно опишешь свою комнату, мебель, убранство; расскажешь, что ты делаешь каждый день, как проводишь вечера, в какие часы учишься, в какие отдыхаешь, где ты гуляешь и когда больше всего думаешь о своей Марии. Напомни мне еще раз соотношение нашего времени с вашим, я все забываю.
Хосе с семьей приходили три раза после твоего отъезда. Трансито и Лусия без слез не могут произнести твое имя; они так нежны, так ласковы, проявляют такую чуткость, говоря со мной о тебе, что трудно даже поверить. Они спросили, доходят ли письма туда, где ты живешь, и, обрадовавшись, что доходят, поручили передать от них тысячи приветов.
Майо тоже не забывает тебя. На следующий день после отъезда он в отчаянии обыскал весь дом и сад. Потом побежал в горы, вернулся во время моей молитвы, сел на ступеньках и завыл. Позже я увидела его у твоей двери-, я открыла ему, и он радостно бросился в комнату; но, не увидев тебя и обнюхав все вокруг, прижался ко мне, как будто спрашивая о тебе жалобным взглядом, только что не плакал; а стоило мне произнести твое имя, как он поднял голову, словно ожидая твоего появления. Бедняжка! Он воображает, будто ты спрятался, как делал иногда, чтобы подразнить его, и бесшумно бродит по всем комнатам, надеясь захватить тебя врасплох.
Вчера вечером я не кончила это письмо: мама и Эмма пришли за мной. Им кажется, будто мне вредно сидеть здесь. Не знаю, что и делать, если мне запретят оставаться в твоей комнате.
Хуан, проснувшись сегодня, спросил, приехал ли ты, – он слышал, как я звала тебя во сне. Наша лилия дала первый цветок, я вложу лепесточек в письмо. Ведь правда, ты уверен, что она всегда будет цвести? Мне так надо в это верить, и еще я верю, что розы с нашего куста будут самыми прекрасными во всем саду».
Глава LV «Приезжай, – писала Мария, – приезжай скорее…»
В течение года два раза в месяц я получал письма от Марии. Последнее время они дышали такой глубокой грустью, что по сравнению с ними первые письма казались написанными еще в дни нашего счастья.
Напрасно пытался я приободрить ее, уговаривая, что печаль губит ее здоровье, даже если сейчас она чувствует себя так хорошо, как уверяет, – все было напрасно.
«Я знаю, что не так уж долго осталось ждать нашей встречи, ты уговорил меня – теперь я больше не буду грустить, я буду всегда с тобой… Нет, нет, никто нас больше не разлучит».
Письмо с этими словами было единственным за два месяца.
В последних числах июня как-то вечером меня посетил Сеньор А., который приехал из Парижа; я не видел его с прошлой зимы.
– Я привез вам письма из дома, – сказал он после сердечных объятий.
– Наверное, сразу три почтовых отправления?
– Нет. Только одно. Но раньше нам надо поговорить, – заметил он, не выпуская пакета из рук.
По выражению его лица я почуял недоброе, и сердце у меня сжалось.
– Я приехал, – продолжал он, походив некоторое время молча по комнате, – помочь вам приготовиться к возвращению в Америку.
– В Кауку! – воскликнул я, мгновенно забыв обо всем, кроме Марии и родной земли.
– Да, – отвечал он, – и вы, очевидно, догадываетесь о причине.
– Моя мать! – встревожился я.
– Она здорова.
– Кто же? – крикнул я, вырывая пакет у него из рук.
– Никто не умер.
– Мария! Мария! – воскликнул я, словно она могла пеня услышать, и, обессиленный, упал в кресло.
– Полно, успокойтесь, – сказал сеньор А., пытаясь образумить меня, – Поэтому я и приехал. Она оправится, если вы вернетесь вовремя. Прочтите письма, тут есть и от нее.
«Приезжай, – писала Мария, – приезжай скорее, не то я умру, не простившись с тобой. Наконец мне разрешили сказать тебе правду: вот уже год, как меня час за часом убивает болезнь, от которой счастье исцелило меня лишь ненадолго. Если бы не прервались эти блаженные дни, я осталась бы жить для тебя.
Когда ты приедешь… Да, ты должен приехать, у меня хватит сил продержаться до нашей встречи, – когда ты приедешь, то найдешь лишь тень твоей Марии, но тень эта должна обнять тебя, прежде чем отлететь. Если же я не дождусь тебя, если сила более могучая, чем моя воля, унесет меня и ты не успеешь ни напутствовать меня, ни закрыть мне глаза, я оставлю Эмме все, что ты сохранишь на память, все, что, я знаю, будет тебе дорого: мои косы, медальон с прядью твоих волос и волос моей матери, кольцо, которое ты надел мне на палец перед отъездом, и все твои письма.
Но зачем я огорчаю тебя такими словами? Если ты приедешь, я поправлюоь, если я снова услышу твой голос, прочту в твоих глазах то, что только они умеют говорить мне, я буду жить, я стану такой, как прежде. Я не хочу умирать, я не могу умереть и оставить тебя одного».
– Прочтите все, – сказал сеньор А., поднимая письмо от отца, выпавшее у меня из рук. – Вы сами поймете, что медлить нельзя.
В письме отца была уже известная мне жестокая правда. У врачей осталась лишь одна надежда спасти Марию: надежда на мой приезд. Теперь отец не колебался: он велел мне возвращаться как можно скорее и винил себя, что не распорядился об этом раньше.
Через два часа я выехал из Лондона.
Глава LVI Весть о твоем приезде сразу вернула мне силы
К вечеру двадцать пятого июля солнце скрывалось в туманной дали Тихого океана, заливая небо потоками золота и рубинов; горизонтальные лучи скользили по синим волнам, стремительно бегущим под сень темной прибрежной сельвы. «Эмилия Лопес», на которой я прибыл из Панамы, покружив по водяному ковру под ласковым приморским ветерком, бросила якорь в бухте Буэнавентура. С берега стройная шхуна, наверно, казалась похожей на хорошенькую принаряженную крестьянку, которая торопливо собирает цветы на лугу, чтобы украсить себя к вечернему празднику.
Опершись на борт шхуны, я озирал родные горы, и сладостные надежды вновь возрождались в моей душе. Семнадцать месяцев назад я проносился у подножия могучих хребтов по бурному течению Дагуа, сердце мое прощалось с каждой горой, и их пустынное безмолвие сливалось с моей скорбью.
В руках моих трепетало на ветру письмо Марии, которое я получил в Панаме и перечитывал при умирающем свете сумерек. Сейчас мои глаза снова пробежали его… Пожелтелые листки словно хранят еще влагу слез, пролитых мною в тот день.
«Весть о твоем приезде сразу вернула мне силы. Теперь я могу считать дни, ведь каждый прожитый день приближает час, когда мы увидимся вновь.
Сегодня было прекрасное утро, такое же прекрасное, как те, о которых ты помнишь. Я попросила Эмму вывести меня в сад, я побывала в самых дорогих мне уголках и почувствовала себя почти здоровой, сидя на каменной скамье у бегущего ручья, под нашими деревьями, среди наших цветов. Если мне было так хорошо сегодня, то неужто я не поправлюсь совсем, когда ты сам приведешь меня сюда?
Сейчас я поставила розы и лилии с наших кустов перед изображением святой девы, и мне показалось, что она смотрит на меня особенно нежно, как будто вот-вот улыбнется.
Все хотят увезти меня в город, уверяют, что там врачи могут мне больше помочь, а мне не надо другого лекарства, только видеть тебя всегда рядом. Я хочу ждать тебя здесь: не хочу покидать все вокруг, что ты так любил; у меня такое чувство, будто ты поручил мне хранить наш приют и во всяком другом месте будешь меньше любить меня. Я упрошу папу отложить поездку, а тем временем ты вернешься. Прощай».
Последние строчки были почти неразборчивы.
Таможенная шлюпка, которая отвалила от берега, едва наша шхуна бросила якорь, была уже совсем близко.
– Лоренсо! – воскликнул я, узнав нашего близкого друга в статном мулате, стоявшем в шлюпке рядом с управляющим портом и таможенным чиновником.
– Сейчас поднимусь! – крикнул Лоренсо.
И, взбежав по трапу, он сжал меня в объятиях.
– Не будем плакать, – сказал он, утирая глаза краем плаща и силясь улыбнуться. – На нас смотрят, а у этих моряков каменные сердца.
В нескольких словах он рассказал мне все, чего я так жадно ждал: Марии было лучше, когда он выехал из дома. Хотя оп уже две недели живет в Буэнавентуре, писем для меня, кроме тех, что он привез с собой, не было, но это, конечно, потому, что семья со дня на день ждет моего приезда.
Лоренсо никогда не был рабом. Верный товарищ моего отца во всех путешествиях, проделанных им за время коммерческой деятельности, он пользовался любовью всей семьи и жил в нашем доме на правах не только помощника, но и друга. Его внешность говорила о сильном и открытом характере: высокая статная фигура, большой лоб с залысинами, красивые глаза под густыми черными бровями, прямой, изящно очерченный нос, ослепительные зубы, приветливая улыбка и энергичный подбородок.
Зная, что я на борту, управляющий быстро закончил официальную встречу судна, матросы выгрузили мой багаж, и, распрощавшись с капитаном и дорожными спутниками, я прыгнул вслед за другими в шлюпку. Когда мы подходили к берегу, стало темнеть. Черные, мягкие, блестящие волны, покачивая шлюпку, бежали одна за другой и терялись во мраке; несчетное множество светлячков загорелось в шумной листве прибрежной сельвы.
Управляющий – человек уже в годах, тучный и краснощекий, был приятелем моего отца. Когда мы сошли на землю, он повел меня к себе и сам помог устроиться в приготовленной для меня комнате. Повесив широкий плетеный гамак, хозяин вышел, сказав напоследок:
– Сейчас велю заняться отправкой твоего багажа, а главное, дам распоряжения повару. Сдается мне, погребец и камбуз «Эмилии» были не так уж обильно загружены, что-то слишком легко она плясала на волнах.
У управляющего была большая и очень милая семья, которая жила во внутренней провинции, но когда он прикупил к выполнению своих обязанностей, то не решился перевезти ее в порт; несмотря на малую мою опытность, я счел его доводы убедительными. Дело в том, что портовое население представлялось ему слишком веселым общительным и беззаботным; однако для самого себя он очевидно, не видел в этом большого вреда, поскольку через несколько месяцев жизни на берегу полностью заразился этой беззаботностью.
Через четверть часа, когда я уже успел сменить дорожный костюм, хозяин пришел звать меня к столу; теперь об был одет по-домашнему: белоснежные брюки и пиджак, жилет и галстук были снова преданы забвению.
– Отдохни здесь несколько дней, – предложил он, наливая в рюмки бренди, который достал из красивой корзинки.
– Но я не хочу и не могу отдыхать, – возразил я.
– Испробуйка бренди, это превосходный «мартель». Хотя ты, быть может, предпочитаешь что-нибудь другое?
– Надеюсь, Лоренсо приготовил каноэ и гребцов, чтобы мы могли двинуться на рассвете?
– Там видно будет. Так что же ты предпочитаешь – джин, абсент?
– То, что пьете вы.
– Тогда – твое здоровье! – И он поднял рюмку. Осушив ее одним глотком, он зажмурился, почмокал губами и спросил:
– Не правда ли великолепный? Ты-то уж, наверное, попробовал в Англии самый отменный!
– Обжигает нёбо во всех странах одинаково. Так, значит, я смогу отправиться завтра с рассветом?
– Конечно, ведь это была просто шутка, – откликнулся он, привольно раскинувшись в гамаке и утирая пот большим шелковым платком, благоухающим, как платочек юной девушки. – Так, значит, обжигает, а? Но дело в том, что вода и бренди – это единственные наши лекарства здесь, не считая змеиного яда.
– Поговорим серьезно. Что вы назвали шуткой?
– Мое предложение отдохнуть, дружок. Сам понимаешь, твой отец настоятельно просил меня все подготовить для твоего отплытия. Вот уже две недели, как приехал Лоренсо, и неделя, как тебя ждут гребцы и каноэ с навесом. Но, по правде сказать, не следовало мне быть столь исполнительным, тогда бы ты поблаженствовал со мной дня два.
– Как я благодарен вам за исполнительность!
Он захохотал и, раскачав гамак, чтобы почувствовать движение воздуха, воскликнул:
– Неблагодарный!
– Это не так: вы ведь сами знаете, что я не могу, не должен задерживаться ни на час, мне необходимо быть дома как можно скорее…
– Да, да, конечно. Это было бы слишком эгоистично с моей стороны, – сказал он уже серьезно.
– Что вам известно?
– Что одна из сеньорит больна… Ты получил письмо которое я переслал тебе в Панаму?
– Да, спасибо. Как раз при отплытии.
– И тебе написали, что ей лучше?
– Да.
– А Лоренсо что сказал?
– То же самое.
Несколько минут мы молчали, потом управляющий привстал с гамака и крикнул:
– Маркое, пора обедать!
Вскоре появился слуга и доложил, что кушать подано.
– Пошли, – сказал, поднимаясь, мой хозяин. – Я проголодался. Когда хлебнешь бренди, сразу появляется аппетит. Эй! – крикнул он слуге, входя в столовую, – если нас будут спрашивать, говори: нет дома. А тебе обязательно надо лечь пораньше, чтобы подняться на заре, – обратился он ко мне, указывая место во главе стола.
Сам он и Лоренсо уселись по обе стороны от меня.
– Черт побери! – воскликнул управляющий, когда свет висячей лампы упал мне на лицо. – Ну и бородку привез ты оттуда! Не будь ты таким смуглым, я бы поклялся, что ты по-испански ни в зуб ногой. Я словно вижу перед собой твоего отца, когда ему было двадцать лет, но ты как будто повыше ростом. Да еще эта серьезность – без сомнения, материнское наследство… А не то-я был бы уверен, что сижу с былым молодым англичанином в первый вечер его высадки в Кибдо! Что скажешь, Лоренсо?
– Сущая правда, – отвечал тот.
– Видел бы ты, – продолжал хозяин, обращаясь к Лоренсо, – возмущение нашего англичанина, когда я предложил ему погостить у меня два дня… Рассвирепел до того, что заявил, будто мой бренди чего-то там у него обжигает. Будь я проклят! Я испугался, как бы не изругал меня! Вот поглядим, понравится ли тебе вино, может, хоть оно заставит тебя улыбнуться. Ну как? – спросил он, когда я пригубил рюмку.
– Прекрасное.
– Я просто дрожал, что ты и его отвергнешь. Это лучшее, что я мог достать тебе на дорогу.
Жизнерадостность моего хозяина не изменила ему ни на миг за все два часа. В девять он отпустил меня, пообещав, что будет на ногах в четыре утра и проводит нас до пристани. Пожелав мне спокойной ночи, он добавил:
– Надеюсь, завтра ты не будешь жаловаться на крыс как в прошлый раз. Твоя бессонная ночь им дорого обошлась: с тех пор я повел с ними войну не на жизнь а на смерть.
Глава LVII Над рекой луна сияет, – и плеск весла…
Славный друг постучался ко мне в дверь ровно в четыре утра, но я уже целый час ждал его, готовый к отъезду. Вместе с ним и Лоренсо мы выпили на завтрак бренди и кофе, гребцы перенесли в каноэ мой багаж, и вскоре все были на берегу.
Большая полная луна уже заходила и, выглядывая из черных туч, заливала дальние леса, прибрежные мангровые заросли и спокойную гладь моря трепетным бледно-желтым светом, подобным сиянию погребальных свечей, озаряющих мраморный пол и стены склепа.
– Когда же увидимся? – спросил управляющий, отвечая на мое объятие и пожимая мне руку.
– Возможно, очень скоро, – отвечал я.
– И опять в Европу?
– Как знать.
Этот весельчак на сей раз показался мне очень печальным.
Когда наше каноэ отчалило, он крикнул:
– Счастливого пути!
И, обращаясь к гребцам, добавил:
– Кортико! Лауреан! Берегите его, берегите как зеницу ока!
– Не беспокойтесь, хозяин, – дружно ответили оба негра.
Мы были уже в двух куадрах от берега, но я все еще различал белый силуэт нашего друга, стоявшего на том же месте, где мы распрощались.
Погребально-мрачные желтоватые отсветы луны из-под. набегающих облаков провожали нас, пока мы не вошли в устье Дагуа.
Я стоял в дверях грубо сработанной «каюты» с полукруглой кровлей, сплетенной из тростника, лиан и платановых листьев, – такое сооружение на реке называют-«ранчо». Лоренсо, устроив для меня в этом плавучем гроте нехитрую койку на бамбуковых козлах, присел рядом и, опустив голову на колени, как будто задремал. Кортико (или Грегорио, как назвали его при крещении) сидел на веслах ближе к ранчо и время от времени мурлыкал какую-то негритянскую песенку. Атлетический торс Лауреана в бледном свете уже почти невидимой луны казался статуей гиганта.
Лишь еле слышное хриплое и однообразное пение лягушек в мрачных мангровых зарослях да приглушенный рокот бегущей воды нарушали торжественное безмолвие, присущее пустыне, погруженной в предутренний сон, столь же глубокий, как сон человека в последние часы ночи.
– Хлебни глоточек, Кортико, и спой еще эту печальную песню, – сказал я низкорослому гребцу.
– Иисусе! Вам она показалась печальной, хозяин?
Лоренсо отлил из рога изрядную долю анисовой в подставленную гребцом тыквенную чашку, и тот продолжал:
– Вот и отлично, а то у меня от ночного тумана голос сел. Хлебни и ты, кум Лауреан, – обратился он к товарищу, – надо прочистить горло, тогда споем веселую песенку!
– Попробуем, – откликнулся низким звучным голосом Лауреан. – Давай другую, ту, что поется в темноте. Знаешь?
– А как же, сеньор!
Лауреан с видом знатока посмаковал анисовую и оценил:
– Неплоха.
– А что это за песня в темноте?
Усевшись, он вместо ответа затянул первую строфу бунде,[41] Кортико ответил ему второй, потом наступила пауза, и так они продолжали по очереди, пока не допели до конца свою простую и трогательную песню:
Над рекой луна сияет, — и плеск весла. Где грустит моя смуглянка, любовь моя? Как черна твоя ночь, Сан-Хуан, Сан-Хуан. Черна, как моя смуглянка, черным-черна. Свет очей ее бездонных — беги, река, — яркой молнии подобен, — греби, рука.Пение гребцов печально перекликалось с окружающей нас природой; дальнее эхо бескрайних лесов повторяло протяжную, проникновенную жалобу.
– Теперь не бунде, а что-нибудь другое, – сказал я, убедившись после паузы, что песня окончена.
– Вашей милости не понравилось, как мы пели? – спросил Грегорио – он был более общителен.
– Нет, друг. Слишком печальна эта песня.
– Тогда хугу?
– Что хотите.
– Ладно! Когда хугу поют хорошо да еще танцуют, как один наш негр, Мариеухениа, – поверьте, ваша милость, даже ангелы на небе готовы в пляс пуститься.
– Открой глаза и заткни глотку, кум, – сказал Лауреан. – Слышишь?
– Глухой я, что ли?
– Тогда ладно.
– Сейчас надо глядеть в оба, сеньор.
Лодка с трудом преодолевала течение. Скрипели весла. Время от времени Грегорио ударял веслом по борту – это был знак, что надо повернуть к другому берегу, тогда мы шли поперек течения. Туман постепенно сгущался. Со стороны моря доносились отдаленные раскаты грома. Гребцы молчали. Но вот до нашего слуха долетел глухой шум, подобный бурному дыханию урагана над сельвой. Вскоре начали падать крупные капли дождя.
Я прилег на приготовленную Лоренсо постель. Лоренсо хотел было зажечь фонарь, но Грегорио, заметив, что он чиркнул спичкой, предупредил:
– Не зажигайте огонь, хозяин, а то ослепит меня свет – и хороши мы будем.
Дождь яростно хлестал по кровле ранчо. Темнота безмолвие были для меня благодеянием после вынужденного общения и притворной любезности с чужими людьми во время морского путешествия. Самые сладостные воспоминания и самые мрачные мысли оспаривали власть над моим сердцем, то оживляя его надеждой, то отравляя печалью. Всего лишь пять дней пути – и я снова буду держать ее в объятиях и верну ей жизнь, которую похитил мой отъезд. Неужто мой голос, мои ласки, мои взгляды что так нежно утешали ее в былые дни, не вырвут ее из когтей болезни и смерти? Любовь, над которой наука не властна, которую наука призвала к себе на помощь, такая любовь всесильна.
Мысленно я повторял слова ее последних писем: «Весть о твоем приезде сразу вернула мне силы… Я не могу умереть и навеки оставить тебя одного».
Отчий дом среди зеленых холмов, под сенью старых ив, в убранстве цветущих розовых кустов, озаренный лучами восходящего солнца, предстал в моем воображении: рядом со мной зашуршало платье Марии; ветерок с тор Сабалетас шевелил мои волосы; я вдыхал ароматы цветов, выращенных Марией… И пустынный простор своими шорохами, шелестом и благоуханием поддерживал сладостное наваждение.
Каноэ причалило к левому берегу.
– Где мы? – спросил я у Лоренсо.
– В Аренале.
– Эй, стражник, контрабанду везут! – крикнул Кортико.
– Стой! – откликнулся какой-то человек, видимо, стражник, сидевший в засаде всего в нескольких шагах от берега.
Оба гребца дружно расхохотались. И Грегорио сквозь смех закричал:
– Святой Павел! Чуть не проткнул меня этот добрый христианин. Капрал Ансермо, будете так сидеть в осоке – доконает вас ревматизм! Кто это вам сказал, сеньор, что я приплыву с низовья?
– Ведьмы наворожили, бездельник, – отвечал капрал. – Ладно, чего ты там везешь?
– Лодку с людьми.
Лоренсо зажег фонарь, и капрал протиснулся в ранчо мимоходом дружески хлопнув по плечу черного контрабандиста. Почтительно и приветливо поздоровавшись, он принялся за проверку путевых документов, а Лауреан и Грегорио, ухмыляясь, заглядывали в ранчо.
Крик Грегорио разбудил на берегу весь отряд. Несколько заспанных стражников, вооруженных карабинами, как и прятавшийся в тростниковых зарослях капрал, подоспели уже к прощальной выпивке. Объемистого рога Лоренсо хватило на всех, а в добавление появились напитки, пригодные для людей менее взыскательных, чем их владелец.
Ливень прекратился. Уже начало светать, когда, обменявшись со стражниками последними солеными шутками вперемежку с крепкими словцами и смехом, гребцы снова сели на весла.
Чем выше мы поднимались по реке, тем величественнее и пышнее становилась прибрежная сельва. Чаще появлялись купы пальм: тянулись вверх окрашенные пурпуром колонны памбилей; густолиственные мильпесосы таили на своих корнях сладкий плод; мелькали чонтадуры и гуатле; тонкие гибкие найди с развевающимися плюмажами кокетливо покачивались, напоминая стройный девичий стан. Другие пальмы, еще не сбросив толстой кожуры с гроздьев плодов, шелестели золотистыми опахалами, как бы приветствуя возвращение любимого друга. Но не видно было здесь ни красных фестонов лиан, ни вьюнков с прелестными нежными цветами, ни бархатистого мха, покрывающего наши утесы. Нагуаре и пьяунде, эти короли сельвы, вздымали свои кроны выше всех, как бы стремясь разглядеть вдали бескрайнюю пустыню океана.
Наша лодка продвигалась все с большим трудом. Было уже почти десять утра, когда мы добрались до Кальеларги. На левом берегу стояла хижина. Подобно всем прибрежным строениям, она держалась на толстых сваях из гуаякана, чья древесина, как известно, в воде твердеет, словно камень. Таким образом, жителям не опасны наводнения и не грозит слишком близкое соседство бесчисленных змей, внушающих ужас всем путешественникам.
Пока Лоренсо вместе с гребцами отправился в дом го товить для всех нас завтрак, я решил окунуться, предвкушая удовольствие от купания в кристально чистой воде. Но я не принял в расчет москитов, хотя их ядовитые укусы должны были бы запомниться мне на всю жизнь. Они вволю истерзали меня, испортив всю экзотическую прелесть купания. Очевидно, цвет и другие особенности кожи негров защищают их от этого упорного и ненасытного врага – я заметил, что гребцы едва обращали на москитов внимание.
Лоренсо принес мне в ранчо завтрак, приготовленный с помощью Грегорио, который оказался отличным поваром и пообещал мне на следующий день изжарить тападо.[42] К вечеру мы должны были попасть в Сан-Сиприано, и гребцы, подкрепившись отменным красным вином управляющего, не заставили просить себя продолжать путь.
Летнее солнце жгло вовсю.
Когда берега были проходимы, мы с Лоренсо, желая немного размяться и облегчить каноэ на опасных, по словам гребцов, перекатах, проделывали небольшие расстояния пешком; однако при этом нас обуревал такой страх наткнуться на притаившуюся гуаскаму[43] или подвергнуться нападению стремительной черной чонты с белым ошейником, что, пожалуй, глаза у нас уставали больше, чем ноги.
Незачем было допытываться, занимались ли Лауреан и Грегорио знахарством, поскольку в этих краях чуть не каждый гребец – знахарь: все они носят с собой зубы самых разнообразных змей и зелья против змеиных укусов, например, гуако, кровоостанавливающие лианы, бессмертник, сарагосу и другие травы, которые хранят в выдолбленных зубах ягуара или каймана. Но это не слишком успокаивает путешественников; всем известно, что подобные средства бессильны: у человека, ужаленного змеей, выступает кровь из всех пор, и через несколько часов он умирает в страшных мучениях.
Мы прибыли в Сан-Сиприано. На правом берегу, в углу, образованном слиянием реки, подарившей название поселку, и реки Дагуа, которая бурлила, словно радуясь встрече, стояла хижина на сваях, окруженная зарослями бананов. Не успели мы спрыгнуть на берег, как Грегорио закричал.
– Нья Руфина! Это я! – и тут же пробормотал: – Где они взяли такое чудище?
– Добрый вечер, ньо Грегорио, – ответила молодая негритянка, выглянув на галерею.
– Пусти нас передохнуть, я привез кое-что.
– Хорошо, сеньор. Заходите.
– А где мой друг?
– В Хунте.
– А дядюшка Бибиано?
– Один он и есть, ньо Грегорио.
Лауреан поздоровался с хозяйкой и, как обычно, снова погрузился в молчание.
Пока Лоренсо вместе с гребцами доставали наши пожитки из каноэ, я разглядывал то, что Грегорио назвал чудищем. Это оказалась змея толщиной с мускулистую руку и почти в три вары длиной: колючая, бугристая спина цвета сухих листьев, вся в черных пятнах; живот словно сложенный из мраморных плиток; широко открытая пасть чуть ли не такой же величины, как вся огромная голова; приплюснутый нос и зубы, похожие на кошачьи когти. Змея была подвешена за шею к свае причала, и прибрежные волны играли ее хвостом.
– Святой Павел! – воскликнул, уставившись на нее, Лоренсо. – Ну и гадина!
Руфина, которая вышла поздороваться со мной, заметила, смеясь, что им случалось убивать змей и покрупнее.
– А эту где поймали? – спросил я.
– На берегу, хозяин. Вон там, на чиперо. – Она показала на развесистое дерево.
– Когда?
– На рассвете, когда брат собирался в дорогу. Он убил ее и притащил, чтобы яд выкачать. Самки там не было, но я сегодня ее видела, завтра он ее тоже убьет.
Негритянка рассказала мне, что эта змея нападает так: зацепившись за лиану или древесную ветку твердым когтем на конце хвоста, она вытягивает половину туловища над свернутой кольцами другой половиной. Пока добыча находится на таком расстоянии, что змея, вытянувшись во всю длину, не может достать до нее, она не движется с места; когда же расстояние достаточное, змея жалит свою жертву и подтаскивает к себе с невероятной силой; если добыче удается ускользнуть, змея повторяет нападение, пока не умертвит ее. Тогда гадина свертывается клубком вокруг трупа и несколько часов спит. Бывала случаи, когда охотники и гребцы спасались от смерти, схватив змею обеими руками за шею и сжимая, пока она не задохнется, или набрасывали ей пончо на голову. Но это удается редко: ее слишком трудно разглядеть в лесу так похожа она на тонкий высохший древесный ствол! Зато если верругосе не за что зацепиться когтем, она совершенно безопасна.
Показав мне дорогу к дому, Руфина с завидной ловкостью взбежала по лестнице, сделанной из ствола гуаякана с зарубками, и даже – полупочтительно, полунасмешливо – подала мне руку, когда я собрался шагнуть на пол хижины, сложенный из обтесанных досок памбиля, отполированных до блеска всеми ступавшими по ним ногами. Курчавые волосы Руфины были аккуратно стянуты на затылке, лицо – не лишено врожденной миловидности; на ней была чистенькая синяя ситцевая юбка и белоснежная блузка, вместо сережек – синие амулеты, на шее – ожерелье из таких же амулетов вперемежку с монетками и целебными семенами кабалонги. Я давно не видел местных женщин, и наряд Руфины показался мне очень милым и своеобразным. Мягкий голос, повышающийся, как у всех негров, на ударном слоге последнего слова фразы, гибкие движения и лукавая улыбка напомнили мне Ремихию в вечер ее свадьбы. Бибиано, отец молодой негритянки, пятидесятилетний гребец, вынужденный оставить свое занятие из-за ревматизма, неизбежно поджидающего всех гребцов, вышел ко мне навстречу с шляпой в руке, опираясь на толстую чонтовую палку. На нем были желтые байковые штаны и синяя полосатая рубаха навыпуск.
Дом Бибиано считался на реке одним из лучших: галерея служила как бы продолжением столовой, по одну сторону от перил, поднимавшихся примерно на полторы вары над землей, открывался вид на реку Дагуа, по другую – на медлительный, темный Сан-Сиприано. За столовой шла спальня, а из нее ход вел в кухню; там стоял очаг из пальмовых досок, обмазанных глиной, а на нем – каменная плита и все, что нужно для приготовления Фуфу.[44] Поверх потолочных балок лежал помост, прикрывающий столовую на одну треть, – нечто вроде кладовой, где, поспевая, желтели бананы. Руфина то и дело карабкалась на помост по лестнице, значительно более удобной, чем та, что вела в дом из патио. С одной балки свешивались верши и сети, поперек других лежали остроги и удочки. На крючке висели плохонький тамбурин и карраска,[45] в углу стоял карангано.
Для меня сразу же повесили гамак. Устроившись в нем, я разглядывал уходящие вдаль девственные леса, освещенные последними вечерними лучами, и воды Дагуа, проносившиеся мимо, переливаясь голубыми, зелеными и золотыми бликами. Бибиано, присев рядом со мной, плел косички из дрока для сомбреро, покуривал трубку и, ободренный моим дружеским обращением и откровенностью, рассказывал о своих путешествиях в дни молодости, о покойнице (его жене), о том, как ловят рыбу в запрудах, о злоключениях своей жизни. До тридцати лет он был рабом на рудниках в Иро; тяжко трудясь и откладывая из каждого заработка, Бибиано выкупил себя и жену, но она недолго прожила после того, как они поселились на берегу Дагуа.
Гребцы уже оделись и болтали с Руфиной, а Лоренсо, достав из своих запасов более изысканные добавления к приготовленному дочкой Бибиано санкочо, тоже прилет отдохнуть в самом темном углу столовой.
Было уже почти темно, когда на реке послышались крики: Лоренсо поспешил выйти. Вскоре он вернулся и сказал, что вверх по течению прошла лодка с почтой и, по словам гребцов, мой багаж прибыл в Мондомо.
Нас объяла величавая американская ночь. С ее торжественной печалью не могли сравниться ни ночи Кауки, ни Лондона, ни те, что провел я в открытом море.
Бибиано, решив, что я уснул, оставил меня одного и вошел поторопить дочь с ужином. Лоренсо зажег свечу и разложил на обеденном столике наши дорожные припасы.
В восемь часов все мы, худо ли, хорошо ли, устроились на ночлег. Лоренсо, уложив меня почти с материнской заботливостью в гамак, улегся и сам.
– Тайта, – окликнула Руфина из своей спальни Бибиано, который лег вместе с нами в столовой. – Послужите, ваша милость, как поет верругоса на реке.
И в самом деле оттуда доносились звуки, похожие на квохтанье гигантской курицы.
– Предупредите ньо Лауреана, – продолжала девушка. – Пусть поостережется завтра утром.
– Слышишь, дружище? – спросил Бибиано.
– Да, сеньор, – отозвался Лауреан, – его, должно быть, разбудил голос Руфины; как я понял позже, она была его невестой.
– Что это здесь летает? – спросил я у Бибиано, додумав, уж не завелись ли у них летающие змеи.
– Летучая мышь, дружок, – отвечал он. – Только не бойтесь: когда спишь в гамаке, она не трогает.
Местные летучие мыши – настоящие вампиры, они могут высосать у человека всю кровь, если вопьются в нос или кончик пальца, но в самом деле их укусы не грозят тем, кто спит в гамаке.
Глава LVIII …Изредка послышится вдали крик фазана…
Лоренсо разбудил меня еще до рассвета, я взглянул на часы: было около трех. Лунная ночь казалась пасмурным днем. В четыре, напутствуемые Бибиано и Руфиной, мы отчалили.
– Вот тут пела верругоса, кум, – предупредил Лауреан товарища, когда мы немного поднялись вверх по течению, – возьми в сторонку, подальше от этой гадины.
Я был защищен кровлей ранчо, и мне могла грозить опасность, только если бы змея проскользнула в каноэ, но набросься она на одного из гребцов, мы, пожалуй, пошли бы ко дну.
Миновали мы это место благополучно, хотя, по правде говоря, не очень спокойно.
Наш завтрак был подобен вчерашнему, но с добавлением обещанного тападо. Чтобы приготовить его, Грегорио вырыл на берегу яму, положил туда завернутое в листья биао мясо с бананами и приправами, засыпал землей и поверх всего разжег костер.
Казалось невероятным, что в дальнейшем наше плавание может быть более тяжелым, чем до сих пор, однако случилось именно так: на реке Дагуа все возможно.
В два часа дня мы остановились в тихой заводи немного перекусить. Лауреан заглянул в лес и принес какие-то листья. Растерев их в тыквенной чашке с водой, пока не получилась зеленая жидкость, он процедил ее сквозь тулью своего сомбреро и выпил. Сок этих дурно пахнущих листьев негры считают единственным верным средством против свирепствующей на морском и речном побережье лихорадки.
Шесты, которые при плаванье вниз по течению постоянно пускают в ход, чтобы не разбить лодку, почти бесполезны, когда поднимаешься вверх. Оставив позади флеко, Грегорио и Лауреан то и дело после условного удара веслом прыгали в воду, и один тащил каноэ за крюк на носу, а другой толкал корму. Так обычно обходят пороги и водовороты; но там, где и это невозможно, существуют узкие обводные каналы, прорытые по берегам и настолько мелкие, что, поднимаясь по ним, каноэ скребет дном о гальку, а порой и застревает на более крупных камнях.
К вечеру перетаскивать каноэ вброд стало еще труднее. По мере нашего приближения к Сальтико течение сносило лодку все с большей силой; для того чтобы достигнуть другого берега, гребцы вместе толкали каноэ, тут же вскакивали на борт и хватались за шесты, а уже перейдя реку, бросали их и гребли, сопротивляясь бурной стремнине, словно ярившейся, что упустила добычу. После каждого такого мастерски проделанного приема приходилось вычерпывать из каноэ воду: гребцы молниеносно наклонялись и выпрямлялись, перескакивая с ноги на ногу среди водяных струй. На эти невероятно ловкие упражнения страшно было смотреть, даже когда ими занимался Лауреан, хотя могучий рост и виноградная лоза вокруг пояса делали его похожим на речного бога; но при взгляде на Грегорио, маленького, с кривыми ногами и повернутыми внутрь ступнями, меня, несмотря на его неизменно смеющуюся физиономию, охватывал ужас.
Переночевали мы в Сальтико, жалкой, невзрачной деревушке, правда, с весьма оживленными кабачками. Здесь Для плавания были непреодолимые препятствия, и обычно путь гребцов, прибывших из низовья, из порта, на этом кончался; те, кто вел лодки выше Сальтико, доходили только до Сальто, а из этого пункта отправлялись другие гребцы – те, кто ежедневно спускался вниз по течению из Хунтаса.
С вечера мои гребцы волоком перетащили каноэ, уже без ранчо, в то место на берегу, откуда я должен был двинуться дальше. Опасность плавания от Сальтико до Сальто трудно вообразить себе.
В Сальто снова пришлось тащить каноэ волоком, чтобы преодолеть последнее препятствие, и, надо сказать, это место вполне заслуживало свое название.
Чем дальше уходили мы от морского берега, тем шире открывались нам величие, красота, разнообразие красок и изобилие ароматов, создающие неописуемую, сказочную картину глубинной сельвы. Растительность царствует здесь почти безраздельно; лишь изредка послышится вдали крик фазана или пролетит парочка попугаев над вершинами отвесных гор, обрамляющих теснину, да мелькнет примавера в темных сводах ветвей гуабо или зарослей тростника, над которыми покачиваются склоненные плюмажи бамбука. Иной раз мартин-рыболов, единственная водяная птица, обитающая на этих берегах, прочертит крылом ровную гладь заводи и, нырнув, снова появится с серебристой рыбешкой в клюве.
Вверх от Сальтико все чаще стали встречаться каноэ, идущие вниз по течению; самые большие из них достигали восьми вар в длину, но едва лишь одной в ширину.
Из двух гребцов, ведущих каноэ, тот, что стоял ближе к носу, непрерывно раскачивался, вычерпывая воду, второй иногда сидел на корме неподвижно. Оба они держались невозмутимо: сначала едва различимые в дальней излучине на середине бурного потока, они исчезали за поворотом, затем стремительно проносились мимо нас и, сразу же оказавшись далеко внизу, мчались, словно бегом, по пенистым волнам.
Слева остались крутые утесы Ла-Вибора-Дельфины, чистый ручеек, что берет начало в горах и, как бы робея, вливает свои воды в мощное течение Дагуа, обрывистые вершины Арраяна. Нам необходимо было сделать остановку и запастись новым шестом, поскольку Лауреан сломал последний из запасных. Вот уже целый час не прекращался проливной дождь, река стала покрываться полосами пены и плывущими водорослями.
– Ревнует девчонка, – сказал Кортико, когда мы пристали к берегу.
Я подумал, что его слова относятся к печальной, приглушенной песне, доносившейся из ближней хижины.
– А что это за девчонка? – спросил я.
– Да конечно Пепита, хозяин.
Тут я понял, что речь идет о прекрасной реке под названием Пепита, которая вливается в Дагуа ниже селения Хунтас.
– Почему же она ревнует?
– Разве не видит ваша милость, какая вода бежит сверху?
– Нет.
– Прозрачная.
– Почему же тогда Дагуа не ревнует? Пепита красивей и чище, чем она.
– Дагуа слишком злющая. А это воды Пепиты, потому-то река и не желтая.
Пока гребцы готовились к дальнейшему пути, я зашел в хижину – мне интересно было взглянуть, на каком там играли инструменте; оказалось, это маримба – ряд постепенно уменьшающихся бамбуковых цилиндров с клавишами из чонты, по которым бьют обтянутыми бычьей кожей палочками.
Получив новый шест и убедившись, что он сделан из подходящего дерева, мы отправились дальше; погода исправилась, и ревность Пепиты нам была не страшна.
Гребцы, подбадриваемые Лоренсо, а также обещанной за хорошую работу наградой, старались изо всех сил, чтобы доставить меня засветло в Хунтас. Вскоре справа, в южной стороне, осталась деревушка Сомбрерилья, зеленеющая на суровых темных горах. В четыре часа мы прошли у подножия скалистых утесов Медиалуны, потом миновали опасный Кредо и наконец счастливо завершили свое невероятное плавание, сойдя на берег в Хунтасе.
Наш друг Д., давнишний служащий моего отца, ждал меня, узнав от почтальона, обогнавшего нас в Сан-Сиприано, что я должен прибыть этим вечером. Он отвел меня к себе домой, где я дождался Лоренсо и гребцов. Оба негра остались весьма довольны «моей особой», как выразился Грегорио. На следующее утро им надо было отправляться в обратный путь. Выпив по стаканчику коньяка и получив от меня письмо для управляющего портом, они сердечно со мной распрощались, пожелав здоровья и благополучия.
Глава LIX …Сверкающая под последними лучами солнца Дагуа…
Когда мы сели за стол, я предупредил Д., что хочу если возможно, сегодня же отправиться дальше, и просил его устроить все, что для этого требуется. Он посоветовался с Лоренсо, тот сразу же сказал, что мулы в поселке найдутся, а ночь стоит лунная. Я велел без промедления готовиться в путь. Увидев, как решительно я настроен, Д. не стал возражать.
Вскоре Лоренсо принес для меня сбрую и шепнул, что и он рад не оставаться на ночь в Хунтасе.
Распорядившись, чтобы Д. оплатил доставку моего багажа до Хунтаса и отправил его дальше, мы распрощались с ним и оседлали крепких мулов. Сопровождающий нас парень сел на третьего мула – с переброшенными через седельную луку переметными сумами, где лежали мои дорожные вещи и припасы, которыми снабдил нас радушный хозяин.
Когда мы одолели половину подъема на Пуэрту, солнце уже начало садиться. Временами мой мул останавливался передохнуть; я любовался оставшейся внизу глубокой тесниной и с наслаждением вдыхал живительный горный воздух. Далеко в лощине можно было разглядеть серые соломенные крыши Хунтаса; сверкающая под последними лучами солнца Дагуа обегала с двух сторон островок с поселком, потом, стремительно бросившись вперед, скрывалась в излучине возле Кредо и снова блистала вдали у берегов Сомбрерильо.
Впервые после отъезда из Лондона я почувствовал, что теперь наконец в моих силах сократить расстояние, отделяющее меня от Марии. Уверенный, что в течение двух дней можно завершить путь, я готов был загнать четырех мулов, но добиться своего. Лоренсо, по опыту знавший, чем кончаются подобные подвиги на подобных дорогах, пытался заставить меня умерить шаг и под предлогом, впрочем, справедливым, что проводником должен быть он, на последних подступах к перевалу поехал впереди.
Когда мы добрались до Ормигеро, только луна освещала нашу тропу. Я натянул поводья, потому что Лоренсо спешился перед ближним домом, растревожив при этом всех соседских собак. Опершись о шею моего мула, он спросил, улыбаясь:
– Хотите, переночуем тут? Хозяева – славные люди, и корм для мулов найдется.
– Не ленись, – отвечал я, – спать мне совершенно не хочется, а мулы еще бодрые.
– А вы не торопитесь, – возразил он, поддерживая мне стремя. – Я хочу только дать им немного освежиться, а не то как бы не задохнулись. Хусто направляется в Хунтас, – продолжал он, снимая подпругу с моего мула, – тот парень, которого мы встретили в Пуэрте, сказал, что этой ночью Хусто сделает привал в Санта-Ане, если не успеет дойти до Охаса. Где встретим его, там и выпьем шоколаду да часок поспим. Согласны?
– Конечно. Только завтра к вечеру мы должны быть в Кали.
– Вряд ли – около семи мы попадем в Сан-Франсиско, но только если будете ехать следом за мной, а не то дай бог добраться до Сан-Антонио.
Разговаривая, он протер хребты мулов анисовой водкой. Затем высек огонь, закурил сигару, разбранил парнишку с вьюками, который отстал от нас якобы из-за того, что его мул «очень тупой», и мы отправились дальше, напутствуемые лаем дворовых шавок.
Хотя дорога была хорошая, вернее, сухая, мы добрались до Охаса только после десяти. На плато, венчающем перевал, белела палатка. Лоренсо, вглядевшись в мулов, что паслись по краям тропы, сказал:
– Вот он, Хусто. А вон бродят Тамбореро и Фронтино, они никогда не убегают.
– А это чьи мулы?
– Да мои.
Глубокое безмолвие царило вокруг стоянки. Свежий ветер пробегал по тростниковым зарослям на склонах и порой раздувал угасающие угли в двух кострах, разложенных рядом с палаткой. У одного костра, свернувшись клубком, спал черный пес; почуяв наше приближение, он зарычал, а признав во мне чужака, громко залаял.
– Слава деве Марии! – произнес Лоренсо приветствие, обычное среди погонщиков при встрече на месте ночлега. – Молчать, Бородач! – крикнул он собаке, слезая с седла.
Высокий стройный мулат вышел к нам, пробравшись между тюков табака, наваленных вдоль скатов палатки, там, где они не доходили до земли. Это и оказался старший погонщик Хусто. На нем была парусиновая рубаха, притязающая на сходство с короткой курткой, и широкие штаны, голова покрыта стянутым на затылке платком.
– Привет, ньор Лоренсо, – сказал он, узнав хозяина. – А это уж не сеньорито ли Эфраин?
Мы ответили на приветствие, Лоренсо – дружеским ударом по плечу и каким-то острым словцом, я, несмотря на усталость, как мог любезнее.
– Слезайте с мулов, – продолжая погонщик. – Они, наверное, устали.
– Это твои мулы устали, – отвечал Лоренсо, – ползают, как муравьи.
– Сами увидите, нисколечко. А что это вы тут делаете в такой поздний час?
– Едем своей дорогой, пока ты храпишь. Хватит болтать, вели-ка раздуть угли, будем шоколад варить.
Вслед за Хусто, который принялся раздувать огонь, проснулись и другие погонщики. Хусто зажег огарок свечи и, пристроив его в дупле дерева, расстелил для меня на земле большую чистую шкуру.
– А вы куда сейчас направляетесь? – спросил он у Лоренсо, который вытаскивал из сумы наши припасы в добавление к шоколаду.
– В Санта-Ану, – отвечал тот. – Как мулицы? Сын Гарсии сказал мне в Хунтасе, что Росилъя у тебя притомилась.
– Она единственная бездельница, но ничего, кое-как доплелась.
– Не наваливай на них слишком тяжелый груз.
– Ну, на это у меня смекалки хватит! А как бодро шли сначала, окаянные. Правда, Мансанилья вздумала дурить в Санта-Росе, – поглядишь, такая тощая, а хитрее всех. Но и та пошла как следует: от Платанареса веду ее с вьюками.
Появился котелок с кипящим шоколадом, и погонщики наперебой стали предлагать нам. тыквенные чашки, отвязывая их от поясных ремней.
– Черт возьми! – воскликнул Хусто, глядя, с каким удовольствием я глотаю этот по-простецки сваренный и поданный, но подоспевший в самое нужное время шоколад. – Кто бы узнал сеньорито Эфраина! Совсем загнал ньора Лоренсо, да?
В обмен на кипяток мы поднесли Хусто и его ребятам отменный бренди и приготовились в путь.
– Уже одиннадцать, – сказал погонщик, подняв глаза на луну, заливающую белым светом величавые хребты Чанкос и Битако.
Я взглянул на часы, в самом деле было ровно одиннадцать. Мы распрощались с погонщиками, но едва мы отъехали на полкуадры от палатки, как Хусто окликнул Лоренсо: тот задержался и нагнал меня через несколько минут.
Глава LX День угасал, когда я обогнул последнюю горную цепь
На следующий день в четыре часа мы достигли вершины Крусеса. Я спешился, чтобы ступить ногой на эту землю: здесь, себе на беду, я сказал прости родному краю. Снова лежала передо мной долина Кауки, столь же прекрасная, сколь несчастен был я… Часто снилось мне, что я вижу ее с вершины этой горы, и теперь, когда она явилась мне во всем своем великолепии, я долго озирался вокруг, сомневаясь, не сновидение ли это. Сердце мое стучало, словно предчувствуя, что скоро прижмется к нему головка Марии, в шуме ветра мне чудились отзвуки ее голоса. Взгляд мой был прикован к залитым светом холмам у подножья далекой горной цепи, где белел родительский дом.
Лоренсо подошел ко мне, ведя в поводу великолепного белого коня, которого он взял в Токота, чтобы а. проделал на нем последние три лиги пути.
– Смотри, – сказал я, когда он принялся седлать коня, и рука моя указала на белую точку, от которой я не мог оторвать глаз. – Завтра в это время мы будем уже там.
– А зачем нам туда? – возразил он.
– Как зачем?
– Вся семья в Кали.
– Ты ничего не говорил об этом. Почему они там?
– Ночью Хусто сказал мне, что сеньорите стало хуже.
Лоренсо говорил не глядя на меня, он был заметно взволнован.
Весь дрожа, я вскочил в седло, и горячий конь стремглав помчался вниз по каменистой тропе.
День угасал, когда я обогнул последнюю горную цепь. Яростный западный ветер свистел среди утесов и тростниковых зарослей, развевая длинную гриву лошади. Слева от меня уже не белел на темных склонах горы исчезнувший за линией горизонта родной дом. Справа – очень далеко, под синим небом – вырисовывалась скалистая громада Уилы, окутанная легким туманом.
«Тот, кто сотворил всю эту красоту, – думал я, – не может убить самое совершенное свое творение, которое сам же повелел мне возлюбить превыше всего». И снова я подавлял душившие меня рыдания.
Уже осталась далеко позади чистая, приветливая лощина среди скал, столь же прекрасная, как бегущая по ней река и мои детские воспоминания.
Город тихо засыпал на своем мягком зеленом ложе; над ним, словно стая огромных птиц, парящих над землей в поисках гнезда, колыхались залитые лунным светом кроны пальм.
Пришлось собрать все остатки мужества, чтобы заставить себя постучаться в ворота дома. Слуга открыл. Спешившись, я бросил ему поводья и стремительно пробежал через прихожую и коридор в гостиную. Там было темно. Но едва я сделал несколько шагов, как услышал крик, и кто-то бросился мне на шею.
– Мария! Моя Мария! – воскликнул я, прижимая к сердцу склонившуюся под моими поцелуями голову.
– Ах, нет! Боже мой, нет! – рыдая, проговорила Эмма и, оторвавшись от меня, упала на диван. То была она, а не Мария. На ней было черное платье, луна осветила ее мертвенно-бледное, залитое слезами лицо.
Распахнулась дверь маминой комнаты. Осыпая меня поцелуями, лепеча какие-то бессвязные слова, мама обняла меня и усадила на диван рядом с неподвижной, безмолвной Эммой.
– Где она? Где же она? – закричал я, вскочив на ноги.
– Сынок, дорогой мой! – проговорила мама с невыразимой нежностью и снова прижала меня к груди. – Она на небе!
Холодное лезвие кинжала пронзило мой мозг, в глазах потемнело, дыхание прервалось. Это ранила меня смерть… Жестокая, безжалостная! Почему не добила она меня до конца!..
Глава LXI …Произнесенное слабым голосом имя…
Той ночью, когда я очнулся в постели, я едва различил словно сквозь туман, окружающих меня людей и знакомую обстановку и долго не мог понять, что со мной произошло. Неверный свет лампы, проникая сквозь плотный полог кровати, озарял комнату. Было тихо. Я попытался встать, но безуспешно; тогда я позвал и почувствовал, как кто-то сжал мою руку; я снова позвал, но в ответ на произнесенное слабым голосом имя раздались рыдания. Я повернул голову и увидел маму, ее глаза, полные слез, были устремлены на меня с тревожным ожиданием. Нежно почти беззвучно она задавала мне какие-то вопросы, желая убедиться, что я действительно пришел в себя.
– Так это правда! – проговорил я, когда смутное воспоминание о недавней нашей встрече возникло в моем мозгу.
Не отвечая, она склонилась лбом на подушку рядом с моей головой.
Прошло несколько минут, у меня хватило жестокости сказать ей:
– И вы обманывали меня!.. Зачем же я приехал?
– А я? – прервала она меня, ее слезы скользили по моей шее.
Но ни ее горе, ни ее нежность не могли вызвать у меня ответные слезы.
Очевидно, все старались оберегать меня от лишних волнений. Подошел отец и молча пожал мне руку, утирая покрасневшие от бессонницы глаза.
Мама, Элоиса и Эмма всю ночь сменяли друг друга у моей постели после ухода доктора, который обещал не скорое, но верное выздоровление. Напрасно расточали они самые нежные заботы, напрасно уговаривали поспать. Когда мама, сраженная усталостью, задремала, я понял, что провел дома уже более суток.
Только Эмма знала единственное, что мне надо было знать: ее последние дни, последние минуты, последние слова… Я чувствовал, у меня не хватит мужества выслушать этот страшный рассказ, однако не мог совладать с жадным стремлением услышать горькие подробности и засыпал сестру вопросами. Но она с материнской нежностью, словно баюкая дитя в колыбели, отвечала;
– Завтра.
И гладила мой лоб или проводила рукой по волосам.
Глава LXII Дочь моя, бог идет к тебе…
Три недели пробежали со времени моего приезда; по совету доктора Эмма и мама не отходили от меня ни на шаг, объясняя свой неусыпный надзор дурным состоянием моего здоровья.
День за днем два месяца пролетели над ее могилой, а губы мои еще не прошептали о ней ни одной молитвы. Я чувствовал себя не в силах посетить покинутый приют нашей любви, взглянуть на гробницу, которая скрыла ее от моих глаз, не пускала в мои объятия. Но там-то она и ждала меня: там хранились прощальные дары для того, кто не примчался принять ее последний вздох, ее первый поцелуй, раньше чем смерть сомкнула ей уста.
Каплю за каплей вливала Эмма в мое сердце горечь последних признаний Марии. Сестре посоветовали прорвать плотину, открыть путь моим слезам, но потом она уже не знала, как остановить их, и долгие скорбные часы мы рыдали вместе.
На следующее утро после того, как Мария написала мне последнее письмо, Эмма, не найдя ее в спальне, увидела, что она сидит на каменной скамье в саду. Заметно было, что она плакала: устремленные на бегущий внизу ручей огромные, обведенные темными кругами глаза были влажны, последние слезинки еще скользили по бледным, впалым щекам, некогда таким нежным и свежим; в затихающих вздохах слышался отзвук рыданий, облегчивших ее скорбь.
– Почему ты вышла сегодня одна? – спросила Эмма, обнимая ее. – Я хотела проводить тебя, как вчера.
– Да, я знаю, – ответила Мария. – Но мне захотелось выйти одной. Я думала, у меня хватит сил. Помоги мне встать.
Она оперлась о руку Эммы, и они подошли к розовому кусту перед моим окном. Мария посмотрела на него почти с улыбкой и, сорвав две свежие розы, сказала:
– Может быть, это уже последние. Взгляни, сколько бутонов. Когда они раскроются, самые красивые отнесешь святой деве.
Прижав к щеке цветущую ветвь, она добавила:
– Прощай, мой розовый куст, бесценный символ его постоянства! Скажешь ему, что я ухаживала за нашими розами до последнего дня, – обратилась она к Эмме, которая не удержалась от слез.
Сестра хотела увести Марию из сада.
– Почему ты так печальна? – говорила она. – Папа согласился отложить наш отъезд. Мы будем приходить сюда каждый день. Ведь ты чувствуешь себя лучше, правда?
– Побудем здесь еще немного, – ответила Мария и подошла к моему окну. Позабыв об Эмме, она долго смотрела на мою комнату, потом наклонилась, сорвала свои любимые лилии и снова обратилась к сестре. – Скажи ему, что лилии будут цвести всегда. Теперь пойдем.
На берегу ручья она опять остановилась, оглянулась вокруг и, склонив голову к Эмме на грудь, прошептала:
– Я не хочу умереть, прежде чем снова увижу его здесь!..
Весь день Мария была более молчалива и печальна, чем обычно. Вечером она пришла ко мне в комнату и поставила в вазу сорванные утром лилии, перевязав их лентой. Тут и нашла ее Эмма, когда уже начало темнеть. Она стояла, облокотившись на подоконник, распущенные волосы почти закрывали ее лицо.
– Мария, – помолчав, сказала Эмма, – не повредит ли тебе вечерний ветер?
Мария оторвалась от своих мыслей и, взяв Эмму за руку, усадила рядом с собой на диван.
– Мне уже ничего не может повредить.
– Хочешь, пойдем в молельню?
– Сейчас нет, я хочу еще побыть здесь. Мне нужно так много сказать тебе…
– Разве мы не можем поговорить в другом месте? Ты всегда подчинялась советам доктора, а теперь не хочешь, и все наши заботы будут бесполезны. Вот уже два дня ты совсем не слушаешься.
– Просто никто не знает, что я скоро умру, – ответила Мария и, прижавшись к Эмминой груди, разрыдалась.
– Умрешь! Умрешь, когда вот-вот приедет Эфраин?…
– Не увидев его, не сказав ему… Умру, не дождавшись… Это страшно, – вздрогнув, проговорила она после минутного молчания, – но это правда: никогда еще мне не было так плохо, как сейчас. Ты должна знать обо всем потом я уже не смогу говорить. Слушай: я хочу оставить ему все, что у меня есть, все, что было ему дорого. Положи в шкатулку, где я храню его письма и сухие цветы, этот медальон, – в нем его волосы и волосы моей матери; и еще это кольцо, он надел его мне на палец в день отъезда; и заверни в мой голубой передник мои косы… Не горюй так, – сказала она, прижимаясь к лицу Эммы холодной щекой. – Я не могла бы стать его женой… Бог пожелал избавить его от горя и страданий: он не увидит меня такой, какой я стала, не увидит моей смерти… Ах, я могла бы умереть покорно, сказав ему последнее прости! Обними его за меня, расскажи, что тщетно боролась я, не желая оставлять его одного… что его одиночество страшило меня больше, чем сама смерть, и…
Мария умолкла и судорожно забилась у Эммы в объятиях. Эмма осыпала поцелуями ее лицо, но оно словно окаменело; звала Марию, но не услышала ответа. Домашние сбежались на ее отчаянный крик.
Все старания врача прекратить приступ были напрасны. На следующее утро он объявил, что бессилен спасти Марию.
В двенадцать часов явился на зов наш старенький приходский священник.
Перед кроватью Марии, на столике, среди самых красивых садовых цветов поставили распятие из молельни и зажгли перед ним две освященные свечи. Преклонив колени перед скромным благоухающим алтарем, священник долго молился. Поднявшись, он вручил одну свечу отцу, другую – доктору и вместе с ними подошел к умирающей. Мама, сестры, Луиса с дочерьми и несколько служанок на коленях ожидали свершения обряда. Священнослужитель, склонившись к Марии, произнес:
– Дочь моя, бог идет к тебе, хочешь ли принять его?
Она лежала молча и неподвижно, словно объятая глубоким сном. Священник вопросительно взглянул на Майна, тот понял и, проверив пульс Марии, прошептал:
– Еще несколько часов.
Священник благословил и причастил ее. Рыдания мамы, моих сестер и дочерей Хосе сливались с молитвой.
Через час к кровати подошел Хуан, он тянулся на цыпочках, пытаясь увидеть Марию, и с плачем просил, чтобы его подняли повыше. Мама взяла его на руки и посадила на кровать.
– Она спит, да? – спросил мальчик и, положив голову на подушку рядом с Марией, обхватил ручонками ее косу, как делал всегда перед сном.
Отец прервал эту тягостную сцену, видя, что мама теряет последние силы и все остальные подавлены горем. В пять вечера Майн, который сидел у изголовья Марии, не отнимая руки от ее пульса, встал, и по его затуманенному слезами взгляду отец понял, что все кончено. Услыхав рыдания отца, мама и Эмма бросились к постели Марии. Она, казалось, уснула, но уснула навеки… умерла! И губы мои не почувствовали ее последнего вздоха, до меня не донеслись слова прощания, слезы, пролитые потом над ее могилой, не упали на ее лоб!
Когда мама поняла, что Мария мертва, увидела это безжизненное тело, освещенное льющимися в открытое окно лучами предвечернего солнца, она, рыдая, прижалась губами к холодной, бесчувственной руке и охрипшим от слез голосом воскликнула:
– Мария!.. Дочь моя! Зачем ты оставила нас?… Ах, никогда больше ты не услышишь меня!.. Что скажу я своему сыну, когда он спросит о тебе? Что буду делать, боже мой!.. Умерла! Умерла без единой жалобы!
Мария, одетая в белый атлас, лежала в гробу на завешенном черным покрывалом столе посреди молельни, и лицо ее выражало бесконечную покорность судьбе. Свет свечей озарял гладкий лоб, бросал на щеки тень от длинных ресниц; бледные, оледеневшие губы словно хотели улыбнуться; чудилось, будто она еще дышит. На плечах темнели косы, прикрытые белым шарфом; в сложенных на груди руках лежало распятие.
Такой увидела ее Эмма в три часа ночи, когда пришла выполнить страшное завещание Марии.
Священник молился, стоя на– коленях у изножья гроба. Ночной ветерок, неся с собой аромат роз и апельсиновых цветов, колебал пламя догорающих свечей.
– Едва я срезала первую косу, – рассказывала Эмма, – мне показалось, Мария вот-вот ласково посмотрит на меня, как, бывало, смотрела, опустив голову ко мне на колени, пока я расчесывала ей волосы. Я положила косы перед изображением святой девы и последний раз поцедовала Марию в щеки. Когда через два часа я пришла в себя… ее уже там не было!..
Браулио, Хосе и четверо пеонов отнесли гроб в селение, пересекая те же равнины, отдыхая в тех же рощах где сияющим утром проезжала вместе со мной любимая и любящая Мария в день свадьбы Трансито. Отец и священник следовали за скромной процессией, увы, такой же скромной и безмолвной, как проводы Най!
Отец вернулся к полудню медленным шагом и в одиночестве. Когда он спешился, ему не удалось сдержать душившие его рыдания. В гостиной, сидя между мамой и Эммой, окруженный младшими детьми, напрасно ожидавшими от него ласки, он дал волю своему горю. Пришлось маме утешать его и призывать к покорности, которой она не могла найти в собственном сердце.
– Я, – говорил он, – я задумал этот несчастный отъезд, я убил ее! Если бы Саломон потребовал от меня ответа за свою дочь, что мог бы я сказать?… А Эфраин… Эфраин!.. Ах! Зачем я вызвал его? Так-то я выполнил свое обещание!
Тем же вечером все покинули горную усадьбу и, переночевав на ферме, утром отправились в город.
Браулио и Трансито остались присматривать за домом во время отсутствия семьи.
Глава LXIII Здесь должна была ждать меня ее душа…
Десятого сентября, два месяца спустя после смерти Марии, я услышал от Эммы конец скорбного рассказа, который она так долго оттягивала. Был поздний вечер, на коленях у меня дремал Хуан, – этот обычай он завел после моего приезда, быть может, чувствуя, как хочу я хоть немного вернуть ему материнскую заботу и любовь Марии.
Эмма дала мне ключ от шкафа в горной усадьбе, где хранились платья Марии и все, что завещала она сохранить для меня.
На следующий же день с восходом солнца я отправился в Санта-Р. Там уже две недели жил отец, после того как подготовил все необходимое для моего возвращения в Европу, назначенного на восемнадцатое число.
Двенадцатого в четыре часа дня я простился с отцом, уверив его, что хочу переночевать в имении у Каряоса, с тем чтобы утром попасть пораньше в Кали. Когда я обнял отца, он передал мне из рук в руки запечатанный пакет и сказал:
– Это в Кингстоун: тут последняя воля Саломона и приданое его дочери. Если из любви к тебе, – добавил он дрожащим от волнения голосом, – я разлучил тебя с ней и, быть может, ускорил ее смерть… ты найдешь в себе силы простить меня… Кто еще может сделать это, если не ты?
Глубоко растроганный, я ответил отцу на его нежную, смиренную просьбу о прощении, и он снова сжал меня в объятиях. До сих пор звучат в моих ушах его прощальные слова!
Переправившись вброд через Амайме, я выехал на равнину, подождал там Хуана Анхеля и велел ему идти по дороге в горы. Он взглянул на меня, словно испугавшись полученного приказа, однако, увидев, что я свернул направо, побежал следом как мог быстрее, но все равно вскоре остался далеко позади.
До меня уже доносился рокот бурливого Сабалетаса, вдали можно было разглядеть кроны прибрежных ив. Я остановился на вершине холма. Два года назад, в такой же вечер – тогда ласково улыбавшийся моему счастью, ныне равнодушный к моему горю – я смотрел отсюда на свет в окнах родного дома, где меня так нетерпеливо ожидали. Там была Мария… Теперь дом заперт, вокруг – безлюдно и тишина… Тогда любовь только зарождалась, теперь у любви отняты все надежды. Неподалеку от уже зарастающей травами тропы я увидел широкий камень, на котором мы столько раз сидели и читали в те счастливые дни. А вот и сад – свидетель моей любви: дрозды и голуби, тихо жалуясь, копошились в кронах апельсиновых деревьев; ветер гнал сухие листья по каменным плитам лестницы.
Я соскочил с коня и, предоставив ему полную свободу, не в силах позвать кого-нибудь, опустился на ступени, где столько раз стояла она, нежным голосом и любящим взглядом посылая мне прощальный привет.
Долгое время спустя, уже почти в темноте, рядом со мной послышались шаги. Это была старая служанка: увидев возле конюшни оседланную лошадь, она пришла посмотреть, кто же это приехал. Следом за ней с трудом плелся Майо. При виде друга моего детства, веселого товарища счастливых дней, я не мог сдержать стона. Майо тянулся ко мне в ожидании ласки, лизал мои сапоги, а потом, прижавшись к моим ногам, жалобно завыл.
Служанка принесла ключи от дома и объяснила, что Браулио и Трансито сейчас в горах. Я вошел в гостиную ничего не различая затуманенным взором, и упал на диван, где мы, бывало, сидели вместе, где я впервые сказал ей о своей любви.
Когда я поднял голову, вокруг стояла глубокая тьма. Я открыл дверь в мамину комнату, шпоры мои зловеще звякали в холодном, овеянном могильным запахом доме. Непонятная сила толкнула меня в молельню. Я вымолю ее у бога… Нет, даже он бессилен вернуть ее на землю! Пойду туда, где я держал ее в объятиях, где мои губы впервые коснулись ее лба… Но тут взошла луна, и луч ее, проникнув сквозь приспущенные жалюзи, показал мне единственное, что мог я найти: погребальное покрывало, свисающее со стола, на котором стоял ее гроб, огарки свечей, озарявших ее мертвое лицо… Глухое молчание было ответом на мой стон, немая вечность выросла перед моим отчаянием!
Я увидел свет в маминой комнате: это Хуан Анхель поставил на стол свечу. Я взял ее, махнул рукой, чтобы мальчик оставил меня одного, и пошел в спальню Марии. Там еще чувствовался слабый запах ее духов… Здесь должна была ждать меня ее душа, оберегая прощальные залоги любви. Распятие стояло на столе, у его подножия – увядшие цветы; кровать, на которой она умерла, была не покрыта; рюмки хранили следы последних принятых ею лекарств. Я открыл шкаф: все ароматы дней нашей любви хлынули на меня. Мои руки и губы касались знакомых платьев. Я выдвинул ящик, о котором говорила Эмма. Драгоценная шкатулка была там. Крик вырвался из моей груди, в глазах потемнело, когда я сжал в руках ее косы, которые, казалось, чувствовали мои поцелуи.
Прошел час… О, боже! Ты знаешь, я метался по саду, призывая ее, я умолял деревья, которые когда-то осеняли нас своей тенью, заклинал окружавшее меня пустынное безмолвие, но только эхо повторяло в ответ ее имя. На краю обрыва, поросшего розовыми кустами, над мрачной глубиной, где лишь белел туман и бурлила река, страшная мысль внезапно остановила мои слезы и ледяным дыханием коснулась моего лба…
И тут рядом со мной, в розовых кустах, чей-то голос произнес мое имя – то была Трансито. Когда она подошла ко мне, мое лицо, вероятно, испугало ее: она застыла от ужаса. Услыхав мой резкий ответ на мольбы уйти отсюда, она поняла, как мало ценил я в эти минуты свою жизнь. Бедная женщина молча разрыдалась, но, пересилив себя, пролепетала скорбным голосом верной служанки:
– Вы даже не хотите видеть Браулио и моего сыночка?
– Не плачь, Трансито, прости меня, – сказал я. – Где они?
Она сжала мою руку и, не утирая слез, повела на галерею, где ждал меня ее муж. Мы с Браулио обнялись, а Трансито положила ко мне на колени прелестного полугодовалого малыша и, присев у моих ног, с улыбкой смотрела, как ласкаю я дитя ее бесхитростной любви.
Глава LXIV Ветвистые апельсиновые деревья, гибкие зеленые ивы…
Незабвенная последняя ночь, проведенная в отчем доме, где протекли годы моего детства и счастливые дни юности! Птица, унесенная ураганом в выжженную зноем пампу, тщетно пытается повернуть обратно к тенистым родным лесам и с уже сломанными перьями возвращается туда после бури в напрасных поисках гнезда, разметанного вокруг разбитого молнией дерева. Так и моя скорбящая душа бродит теперь в сновидениях вокруг былого очага моей семьи. Ветвистые апельсиновые деревья, гибкие зеленые ивы, что росли вместе со мной, как постарели вы! Розы и лилии Марии, кто любуется вами, если вы еще живы? Не вдыхать мне больше благоухания цветущего сада! Не слышать шелеста ветра, журчания реки!..
Полночь застала меня без сна в моей комнате. Все там осталось таким же, как в день отъезда, только видно было, что руки Марии украсили комнату к моему возвращению: увядшие, изъеденные насекомыми, стояли в вазе последние сорванные для меня лилии. Сев за стол, я открыл пакет с письмами, которые вернулись ко мне после ее смерти. Я смотрел на строки, размытые моими слезами, написанные, когда я и думать не мог, что они будут последними обращенными к ней словами; я расправлял и читал один за другим листки, смятые, когда она прятала их у себя на груди, и, отыскивая в письмах Марии ответ на каждое из написанных мною, составлял этот диалог бессмертной любви, продиктованный надеждой и прерванный смертью.
Сжимая в руках косы Марии, я прилег на диван, на котором Эмма выслушала ее последние заветы; часы пробили два. Так же отмеряли время эти старые часы в тягостную ночь накануне моего отъезда; теперь они меряют время последней ночи в родном доме.
Я задремал. Мне снилось, что Мария стала моей, женой: этот упоительный бред и сейчас – единственная услада моей души. На Марии было воздушное белое платье и голубой фартучек, голубой, словно клочок летнего неба; как часто собирали мы в этот фартучек сорванные цветы, как мило и небрежно повязывала она его вокруг гибкой талии; теперь в нем лежали ее волосы… Осторожно, стараясь не шуршать платьем, она приоткрыла мою дверь, опустилась на ковер у дивана и, посмотрев на меня с полуулыбкой, словно сомневаясь, не притворяюсь ли я спящим, тихонько коснулась моего лба нежными, как лепесток лилии, губами. Убедившись, что я не обманываю ее, она помедлила, и я почувствовал тепло и аромат ее дыхания; но напрасно я ждал, что она прижмется губами к моим губам: она присела на ковер и принялась читать разбросанные на нем листки, касаясь щекой моей руки, свесившейся с дивана; почувствовав ласку этой руки, она подняла на меня полный любви взгляд и улыбнулась так, как могла улыбаться только она; я прижал к груди ее голову; она пыталась заглянуть мне в глаза, а я, уткнувшись лбом в ее косы, с наслаждением вдыхал аромат альбааки.
И вдруг крик, мой собственный крик прервал этот сон: жестокая действительность вторглась в него, негодуя, как будто мгновение это было целым веком счастья. Свеча догорела; в окно дул свежий предутренний ветер; руки мои застыли, судорожно сжимая косы Марии, единственный след ее красоты, единственное, что было правдой в моем сновидении.
Глава LXV Я пришпорил коня и… поскакал галопом через безлюдную пампу…
Весь день я ходил по дорогим моему сердцу местам, которые больше не суждено мне было увидеть, а вечером стал готовиться к отъезду в город, выбрав дорогу мимо приходского кладбища, где лежала в могиле Мария. Хуан Анхель и Браулио отправились раньше, чтобы подождать меня там, а Хосе, его жена и дочери были со мной до самого часа прощания. Все вместе мы вошли в молельню и, преклонив колени, со слезами помолились за упокой, души той, кого мы так горячо любили. Наступило глубокое молчание, Хосе прервал его, прочтя молитву святой деве, покровительнице плавающих и путешествующих.
Трансито и Лусия попрощались со мной и, рыдая, присели на каменных ступенях галереи; сеньора Луиса куда-то скрылась; Хосе, отвернувшись, чтобы я не видел его слез, держал мою лошадь под уздцы; Майо, помахивая хвостом, лежал на траве и следил за каждым моим движением, как в те дни, когда он был еще полон силы и мы охотились на куропаток.
Голос изменил мне, и я не смог сказать последние дружеские слова Хосе и его дочерям, да и они были бы не в силах ответить мне.
Проехав несколько куадр, прежде чем спуститься с горы, я остановился и бросил прощальный взгляд на родной дом. От прожитых в нем счастливых часов сохранились одни воспоминания, от Марии – дары, которые оставила она мне, сходя в могилу.
Тут меня нагнал Майо и, задыхаясь, остановился на берегу разделявшего нас потока; дважды пытался он перейти его, но, обессилев, отступил; пес уселся на лужайке и, глядя на меня с человеческой печалью, так жалобно завыл, словно хотел напомнить, как он любил меня, и упрекнуть за то, что я бросил его в старости.
Через полтора часа я сошел с коня у ворот обнесенной – частоколом уединенной рощицы среди равнины – это было сельское кладбище. Браулио принял у меня лошадь, и глубоко сочувствуя моему горю, толкнул створку ворот, но дальше не сделал ни шагу. Я прошел среди зарослей кустарника и выступавших из него деревянных и бамбуковых крестов. Лучи заходящего солнца, пробиваясь сквозь чащу ближней сельвы, золотили листву деревьев, склоненных над могилами. Обогнув купу мощных тамариндов, я остановился перед белым, испещренным пятнами сырости постаментом, на котором высился железный крест. Я подошел ближе. На черной доске, наполовину закрытой маками, я начал читать: «Мария…»
На раздирающий вопль моей души перед лицом смерти, на все обращенные к ней вопросы, проклятия, мольбы, призывы красноречивый ответ дало лишь глухое, холодное надгробие, которое я обнял, орошая слезами.
Раздался шорох шагов по сухой листве, я поднял голову: это был Браулио; он протянул венок из лилий и роз, сплетенный дочерьми Хосе, и встал рядом со мной, как бы напоминая, что пора ехать. Поднявшись, я повесил венок на крест и еще раз склонился к его подножью, прощаясь навеки с Марией и ее могилой…
Я уже сел в седло, а Браулио сжимал обеими руками мою руку, когда шум крыльев и знакомый мрачный клекот над нашими головами прервал слова прощания: черная птица села на перекладину железного креста, взмахнула крылом – и снова раздался зловещий крик.
Я пришпорил коня и в ужасе поскакал галопом через безлюдную пампу, объятую ночной тьмой.
Примечания
1
Цитирую по предисловию Э. Андерсона Имберта к мексиканскому изданию романа: Jorge Isaacs. Maria. Mexico, «Biblioteca Americana», 1951.
(обратно)2
В. Кутейщикова, Л. Основат. Новый латиноамериканский роман. М., «Советский писатель», 1976, с, 13
(обратно)3
Jorge Isaacs. Maria. Edicion del centenario de la obra, Cali, 1967, p. X.
(обратно)4
Гуатин – грызун, водится в Колумбии.
(обратно)5
Корраль – загон для скота.
(обратно)6
Hья – сокращенное от «донья», ньо (яьор) – сокращенное от «сеньор».
(обратно)7
В 1813 г. Новая Гранада (так навивалась в те времена Колумбия) провозгласила Декларацию независимости, но вскоре испанская корона попыталась вновь подчинить себе свою бывшую колонию. В 1819 г. восставший народ под предводительством Симона Боливара разбил королевские войска и утвердил независимость своей страны.
(обратно)8
Гуакамайя – одна из разновидностей попугаев.
(обратно)9
Ниньо (букв.: мальчик, ребенок) – обращение крестьян к молодому помещику, слуг к молодому хозяину.
(обратно)10
«Гений христианства» – произведение французского писателя Франсуа Рене де Шатобриана (1768–1848).
(обратно)11
«Атала, или Любовь двух дикарей» – повесть Шатобриана, первоначально входившая в состав «Гения христианства»; впоследствии издавалась как отдельное произведение.
(обратно)12
Лига – мера длины, равная примерно 5,5 км.
(обратно)13
Вара – мера длины, равная примерно метру.
(обратно)14
Бюффон Жорж Луи Леклерк (1707–1788) – знаменитый французский естествоиспытатель.
(обратно)15
Провинциальная привычка повторять в насмешку окончание последнего слова собеседника (Примеч. автора).
(обратно)16
Телемак – герой романа «Приключения Телемака» французского писателя Фенелона (Франсуа де Салиньяк де Ла Мот; 1651–1715). Очевидно, автор проводит параллель между путешествием Эмигдио для приобретения жизненного опыта и путешествиями Телемака, сына Одиссея.
(обратно)17
Альпаргаты – сандалии на веревочной подошве.
(обратно)18
Маламбо – дерево, настой из коры которого излечивает от лихорадки.
(обратно)19
Карате – кожная болезнь.
(обратно)20
Чокло – каша из недозрелого маиса.
(обратно)21
Панела – конической формы хлебцы с неочищенным сахаром.
(обратно)22
Фрейсину Дени (1765–1841) – французский богослов.
(обратно)23
Блэр Гуго (1710–1800) – шотландский писатель.
(обратно)24
Как доживаете? (англ.)
(обратно)25
Как дела? (фр.)
(обратно)26
Кальдерон дела Барка Педро (1600–1681) – великий испанский драматург.
(обратно)27
Кортес Мануэль Хосе (1811–1865) – боливийский писатель.
(обратно)28
Токвиль Алексис (1805–1859) – французский публицист историк и политический деятель.
(обратно)29
Сегюр Филипп Поль (1780–1873) – французский историк.
(обратно)30
Перевод Б. Дубина.
(обратно)31
Перевод Б. Дубина.
(обратно)32
Флорес Хуан Хосе (1800–1864) – генерал, политический деятель, сподвижник Боливара.
(обратно)33
Куадра – мера длины, равная 100 м.
(обратно)34
Вуэльта – колумбийская народная песня.
(обратно)35
В истории Фелисианы автор упоминает среди немногих достоверных имен собственных (таких, как Гамбия, ашанти, Кумаси) множество искаженных или вымышленных.
(обратно)36
Закон, принятый в 1821 году, не отменял рабства вообще, а только запрещал ввоз новых рабов.
(обратно)37
Перевод Б. Дубина.
(обратно)38
Санкочо – суп из зеленых бананов, кореньев и мяса или рыбы.
(обратно)39
Тайта – почтительное обращение к старшим (букв.; отец.)
(обратно)40
Гамуса – шоколад, приготовленный с маисовой мукой и сахаром
(обратно)41
Бунде – негритянская песня и танец.
(обратно)42
Тападо – мясо, зажаренное в очаге, устроенном под землей.
(обратно)43
Гуаскама, чонта – разновидности южноамериканских змей. Чонта – также одна из разновидностей пальмы.
(обратно)44
Фуфу – блюдо из жареных зеленых бананов.
(обратно)45
Карраска, карангано – негритянские музыкальные инструменты.
(обратно)



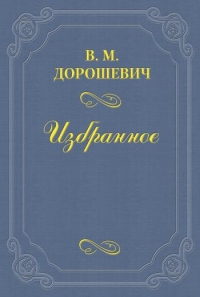

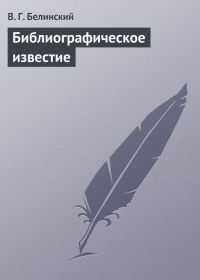
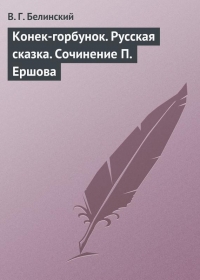
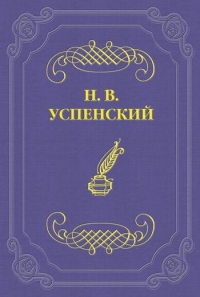



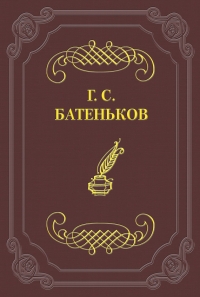
Комментарии к книге «Мария», Хорхе Феррер Исаакс
Всего 0 комментариев