Иероним Ясинский Грёза
Павел Иваныч Гусев сидел в кресле после хорошего домашнего обеда, положив короткие руки на живот и уронив на грудь большую голову, с двойным жирным подбородком.
Было тихо в доме, маленьком, деревянном, каких много за Таврическим садом. Жена Павла Иваныча бесшумно как тень сновала по комнатам, чтобы укротить детей, которые и без того вели себя отменно благонравно, и лицо её, жёлтое и в мелких морщинках, выражало почти ужас, а губы, бескровные и подвижные, шептали угрозы, сопровождаемые соответственными жестами.
Только со стороны Таврического сада доносились звуки плохого оркестра, нарушая благоговейную тишину, которою окружали счастливого отца семейства его трепетные домочадцы.
А он дремал.
Ему грезилась его молодость, и яркие картины пёстрой толпой обступали его, выплывая из сумрака прошлого.
Почти у самого моря раскинулся городок Тихий. Место плоское, ни деревца вокруг, только степь. Пять церковок белеются как фарфоровые игрушки под ясным небом, где горит солнце, обильно проливая лучи свои на землю. В каменных лавках, над дверями которых здесь и там краснеются куски кумача, спят купцы. Греки, с жёлто-смуглыми лицами, играют на улицах в шашки. Плетётся старуха в безобразных лохмотьях и ведёт за руку голую девочку с дикими глазёнками. Везде закрыты ставни. Лень окутала и повила городок, наполнила собою его атмосферу точно незримое облако; нет здесь человека, который не зевал бы и не кис в эти мучительные дни летней истомы благословенного юга.
Но в чистеньком домике, с цветниками, поливаемыми аккуратно утром и вечером и освежительно благоухающими, в особенности когда с моря потянет ветерком, бодрствует живое существо.
Павел Иваныч знает, кто это. Посвистывая, смотрит он в окно на пыльную улицу, где курица вырыла ямку и купается в ней; или вдруг нетерпеливо вскочит, ходит по комнате с низеньким потолком; под ним скрипят половицы, а посуда звенит в высоком жёлтом шкафу; потом он останавливается, задумывается, охорашивается перед зеркалом и поглаживает только что пробившиеся усики, и опять ходит, и опять смотрит на улицу…
Наконец, бьёт желанный час. Солнце уже несколько село, и кресты на церквах искрятся багровым огнём. На синем небе показались облака с золотисто-розовыми краями, и серая сухая земля начинает чуть-чуть алеть…
Павел Иваныч торопливо хватается за шляпу (у него была тогда соломенная шляпа с широкими полями, и он находил, что она очень идёт ему, к его чёрным кудрям). Через пять минут он уже в чистеньком домике с ароматными цветниками, и его ласково встречают там.
Сердце его усиленно бьётся, глаза блестят, горят щёки, дрожит голос…
* * *
Раечка Муханова была простая девушка. На первый взгляд ничего не было в ней особенного. Нарядно она не одевалась и чаще всего носила коричневое шерстяное платье, точно жаль ей было расстаться со своим гимназическим костюмом, хоть гимназию она уж и окончила. Мудрёных слов она не произносила, не увлекалась модными писателями. Обо всём она старалась составлять себе независимые мнения, но мнения эти, когда она их высказывала, не поражали и казались заурядными. Книги читала долго, со стороны можно было подумать, что они ей в тягость, и она над ними скучает. Шекспира она читала целый год. Многое её и совсем не интересовало. Раскроет книгу, прочитает страницу, скажет: «Ну, это что-то не по мне», и уж больше не станет читать. У неё были подруги, и она их любила, но эта любовь никогда не выражалась пламенно. Они поверяли ей свои «тайны», но у неё самой тайн не было, а если б и были, едва ли бы она стала выдавать их. Отец и мать полагали, что у неё холодная натура, и что из неё выйдет чудесная жена и мать семейства. Она улыбалась, когда они заговаривали с нею о замужестве, и отмалчивалась. Вообще, она была молчаливая, и мать рассказывала, что Раечка иногда напролёт просиживает ночи у окна и неподвижно смотрит вдаль широкими глазами. Наружность у неё тоже была не особенная. Обыкновенный глаз, близорукий, ничего не увидел бы выдающегося на этом почти некрасивом лице, с большим лбом, открытыми висками и бледной, загибающейся на концах книзу линией тонкого рта. Но было что-то нежное и хорошее в её глазах. Цвета они были неопределённого, не то серые, не то синие, сегодня кроткие и задумчивые, завтра строгие и проницательные. Ноздри узкого прямого носа были тонко очерчены и придавали что-то сосредоточенное её лицу, обыкновенно немного наклонённому, не бледному и не румяному, обрамлённому густыми русыми волосами.
Павел Иваныч сначала дичился Раечки. Он был застенчивый молодой человек. Он улыбался, встречаясь с нею, шаркал ногой, предлагал вопросы о том, напр., как она поживает, и здоровы ли её родители. Потом привык. Вела она себя ровно, не кокетничала, не робела, и с ней ему скоро стало легко и свободно. Хоть он и не отличался особенным уважением к женщинам и, бывало, оставаясь с какой-нибудь смазливенькой особой наедине, сейчас же сооружал мысленно смелый план во вкусе Золя, – не приводившийся в исполнение, – тем не менее, во время разговоров его с Раечкой ни одна пошлая мысль не приходила ему на ум, и ни одна легкомысленная фраза не срывалась у него с языка.
Он полюбил её незаметно; и когда однажды пришлось ему уехать из Тихого на неделю, он так тосковал, сердце его так рвалось к Раечке, что он удивился, радостный испуг охватил его. Но он не посмел ей сказать об этом. Первая любовь робка.
А Раечка любила его? Может быть. Глаза её нередко с лаской останавливались на нём. Отчего бы и не полюбить его? Ему было всего двадцать два года, плешь ещё не образовалась на голове, он ещё не ожирел, мечтал о деятельности на пользу общую, умел говорить, когда одушевится, красно и благородно, со слезами в голосе. Положительно, она любила его.
Ей было, во всяком случае, не скучно с ним. Неразговорчивая с другими, она толковала с ним по целым часам. С ним она переставала быть одинокой, и он это чувствовал и радовался. К беседам их не то снисходительно, не то с недоумением прислушивались родители Раечки – отец с седой бородой, крючковатым носом и красивыми карими глазами, и мать, пожилая дама, полная, с припухшими веками, с доброй усмешкой несколько искривлённого рта. По выражению их лиц было видно, что они догадываются, какая невысказанная тайна связывает молодых людей и влечёт их друг к другу…
Любимою темою Раечки был разговор о людской неправде. Говорила она, по-видимому, спокойно, но Павлу Иванычу всегда при этом чудилось, что сердце её бьётся шибко, шибко.
– По какому праву вы, господа, судите да рядите обо всём? – вмешивался иногда отец Раечки, улыбаясь и глядя вдаль, по-стариковски чуть прищурив глаза. – Поживите сначала, наберитесь опытности, чтоб вас уважали… Научитесь копейку добывать! Вот хоть этакой домишка постройте! Чтоб он ваш был… Тогда и увидите, каково жить! Эх, вы! Мечтатели!
Он вставал и, посмеиваясь, уходил в садик, понурив красивую голову и ступая неразгибающимися ногами, обутыми в тяжёлые сапоги.
«Да, по какому праву?» – спрашивал себя теперь Павел Иваныч. Тогда он вместе с молодой девушкой считал неуместным этот вопрос. Раечка, эта умная головка, улыбалась только на слова отца, потому что нельзя было, вместо ответа, вынуть из груди сердце и показать, какие чувства согревают его, и нельзя было объяснить, как эти чувства проникли в него и наполнили его собою, и почему просятся наружу. Инстинкт это, что ли? Но как он сложился? Откуда семя его было занесено в далёкий южный городок с ленивым праздным людом, равнодушно влекущим бремя своей незатейливой жизни вплоть до могилы? Каким языком должна была говорить жизнь с её затаёнными неправдами, чтоб быть услышанной, и каким чутким ухом надо было обладать, чтоб услышать её жалобы и откликнуться на них? В семнадцать-то лет?! Ах, Раечка, ты была удивительная девушка!
* * *
Случалось, они вместе гуляли. Мест для гулянья было мало, но иногда они ездили на взморье или в степь. Необъятность и красота природы проникала их поэтической радостью, к которой примешивалась неопределённая тоска, сладкое, щемящее чувство…
Смотри, Раечка, как пенятся волны и плещут в песчаный берег, набегая на него одна за другою с мерным шумом. Под ногами трещат раковины, шуршит крупный песок. Белые гребни волн толпятся и бегут, ширится даль, на горизонте небо почти сливается с бледно-голубым морем, которое кажется там совсем прозрачным как лёгкий дымок. Ветер играет шёлковыми лентами на соломенной шляпке твоей, кидает волна солёные брызги, ударяясь в кремнистый берег…
– Хорошо! Очень хорошо-с! – замечает Павел Иваныч.
Раечка молчит некоторое время и потом спрашивает:
– Павел Иваныч, вы видите – вон корабль? Вон, на самом горизонте? Кажется, греческое судно… Неужто не видите?
Павел Иваныч смотрит, напрягает зрение и никак не может разглядеть корабля. Но, чтобы не отстать от Раечки по части дальнозоркости, вдруг объявляет, что видит.
– А, вижу, вижу! – кричит он радостно. – Действительно, греческое!
– А видите, вон ещё за ним, – продолжает Раечка, – вон, как паутинка голубенькая этакая чёрточка, мачта… Видите?
Павел Иваныч опять напрягает глаза, прикладывает к ним руку, делает шаг вперёд, шаг назад и опять ровно ничего не видит. Но на этот раз у него не хватает храбрости соврать, и он откровенно объявляет, что не различает никакой голубенькой чёрточки.
Раечка с тоской смотрит туда, в туманную даль, и говорит:
– Хотелось бы мне быть вот теперь на том корабле… на самом дальнем… Ах, Павел Иваныч!
– Зачем? – спрашивает он.
– Не смейтесь… Объяснить не могу… Но только хотелось бы… Но, конечно, что за желание! У меня часто бывают такие желания! Сама не знаю… Вырваться хочется отсюда?
– Откуда?
– Молчите, Павел Иваныч! У меня скучная жизнь!
Он с тревогой берёт её за руку, и они продолжают идти по берегу, а море раскидывается перед ними необъятное, таинственное, синее, сверкающее под золотыми лучами, бросаемыми солнцем из-за лиловых туч.
– Пошлая, скучная жизнь! – повторяет Раечка.
Павел Иваныч не соглашается. Напротив, жизнь ему кажется весьма поэтической. Правда, чтобы быть вполне поэтической, ей недостаёт чего-то. Но это «что-то» во власти Раечки…
А вот они в степи.
Везде, Раечка, зеленеет трава. Смотри, как степь отливает бархатом, потом желтеет, и по ней разливается горяче-янтарным блеском закатывающееся солнце. В туманных, светящихся багровым огнём далях исчезают как золотые точки волы и чумаки бесконечного обоза, который тянется точно гигантская змея. Чем ближе, тем яснее и больше звенья этой живой, туго изгибающейся цепи, и, наконец, можно различать людей, освещённых заревом заката – в широких, пропитанных дёгтем штанах и чёботах, в смушковых шапках, – и мерно раскачивающиеся головы круторогих животных. А небо, синее-синее, уже вспыхнуло местами и тешит глаз мягкостью и гармониею розовых и пурпуровых полутонов, прозрачный воздух благоухает…
Глаза Павла Иваныча напрасно искали сочувствия во взоре Раечки.
– Да, хорошо… Но только знаете, Павел Иваныч, человек всё-таки лучше природы!
– Что ж, – спрашивал Павел Иваныч. – Неужели это исключает возможность любоваться природой?..
– Не то, что исключает, – отвечала Раечка, глядя на Павла Иваныча задумчиво, – но дело в том… Природа сделала человека злым… Он убивает, ближнего давит – всё ведь благодаря природе… А сам-то он, нет-нет, да и захочет быть хорошим… Вот и вам хочется быть хорошим, и мне хочется быть хорошей… Станем восхищаться природою, забудем, пожалуй, наш добрый порыв… Я, Павел Иваныч, всегда себя на этом ловлю.
– Ну, уж вы очень строги! – замечал Павел Иваныч со смехом.
– Может быть, на этот раз… Но вообще – это справедливо… Это надо обобщить… Я это обдумала и это моё убеждение.
Павел Иваныч начинал говорить, что чувство красоты – прогрессивное чувство, что где нет этого чувства, там нет цивилизации, нет идеала, нет высокого. Раечка молчала. А он приходил к заключению, что он развитее её, что ему доступны восторги, каких она не понимает.
* * *
С некоторых пор Раечка скучала. Она говорила, что её томит праздность. Она металась и рвалась вперёд, вдаль, а скучная будничность удерживала её в своих ленивых, цепких объятиях. Газеты раздражали её, каждый день принося известия о мире, непохожем на тот, в котором она жила, полном тревоги, деятельности, борьбы, и мало даже имеющем, по внешности, общего с тем спокойным миром неопределённых порываний и грёз, который она сама создала себе…
…Был осенний вечер. На балкончик, погружённый в сумрак ночи, падали из окон полосы света, а сквозь виноградную листву виднелось чёрное небо, где дрожали звёзды. Клумбы ещё были полны цветов, и аромат пропитывал собою влажный воздух. Лето кончалось, можно было ожидать северо-восточных ветров и вообще непогоды, когда побуревшие листья спадут с деревьев и закружатся в аллеях с меланхолическим шорохом.
Раечка и Павел Иваныч сидели рядом на узенькой скамейке и тихо беседовали.
В тоне Раечки на этот раз больше, чем когда-нибудь, звучала суровая нота.
– Вы – мужчина, к счастью, и вам легче устроиться, – говорила Раечка. – Долго вы будете киснуть в нашем городе да ухаживать за барышнями? Говорите же! Я знаю, что вы ничего не делаете и даже ничего не читаете. Не к лицу вам это. А? Как же так, здоровый, сильный, молодой – и сидит сложа руки? А там силы нужны, там изнемогают, может быть, тщетно ожидая поддержки… Нет, Павел Иваныч, прошу вас, ответьте мне прямо!
Сердце его сжалось. Он глянул во мрак сада, как будто в бездну, которую показывали ему в перспективе, и ему жаль стало тихого и мирного уголка, где он привык жить в мечтах – с любимой девушкой, окружённый цветами и согретый теплом женской ласки.
– Чего вы требуете от меня? – сказал он.
– Будьте последовательны, – отвечала она.
– Вы знаете, я хочу быть литератором… – прошептал Павел Иваныч.
– Будьте последовательны, – повторила Раечка.
– Мне кажется, – начал он после молчания, с дрожью в голосе, – что вы немного презираете меня. Но, право, я не заслуживаю этого. Я чувствую себя достаточно бодрым, чтобы… Я всё сделаю, что будет надо! Раиса! Послушайте! Это вы мешаете…
– Я?
– Вы, Раиса! Вы… Я вас люблю, и все помыслы мои – тут, на вас… Оттого и сижу сложа руки и жду…
В окно виднелась внутренность комнаты. Лампа ярко освещала лица стариков, стоявших у преддиванного стола, покрытого красной салфеткой. Старик смотрел на жену с выражением удивления и почти гордости, а старуха радостно качала головой, держа в руке массивное золотое кольцо с крупным брильянтом. Тут же на столе лежали ещё золотые и серебряные вещицы и маленькие весы.
– Вот, что я вам скажу, – начала Раечка, пожав руку Павла Ивановича, – папаша и мамаша тоже очень любят меня. Но я не могу жить в этом воздухе. Мне жаль их, но я их должна бросить. Мне эти заклады спать не дают… Это кольцо жидовка сегодня принесла и плакала, расставаясь с ним… Меня давно тянет отсюда… Я ненавижу всё это… Ах, Павел Иваныч, уезжайте вы поскорее! И как только устроитесь там – в Одессе, или Киеве, или Петербурге – напишите, я приеду к вам…
Голова Павла Иваныча шла кругом; ночь, казалось, дышала ему в лицо, навевая истому. Никуда ему не хочется ехать, никуда! Он всю вечность просидел бы вот так с этой милой девушкой.
Он хотел что-то сказать очень чувствительное и красноречивое; но ничего не сказал, а только вздохнул и крепко, с вспыхнувшим лицом, поцеловал у Раечки руку…
Бывала ли когда-нибудь более блаженная минута в его жизни? Нет, она не повторилась, и никогда больше не загорались для него на небе яркие звёзды, что любовно дрожали в ту ночь…
* * *
Через несколько дней он уехал. Раечка махнула ему платком из окна и крикнула:
– До скорого свидания!
А у него больно сжалось сердце, и всю дорогу мерещилось ему её лицо, освещённое кроткими глазами. Он говорил себе:
«Нет, я не в состоянии… Не могу… Нет, я не погублю её»…
Спустя месяц, он написал ей отрезвляющее письмо, в котором просил её руки.
Ответа не последовало.
Это его обидело. Он написал другое письмо, третье. Наконец, получил две строчки с просьбой не приставать, так как между ними нет ничего общего. Губы его похолодели, сердце чуть не разорвалось от гнева, от чувства оскорблённой любви.
– Ничего общего? – переспросил он вслух и скомкал письмо. – А!!!
Он как шальной выбежал на улицу. На другой день он приехал на квартиру пьяный, измятый. Он развратничал и думал, что мстит Раечке.
А время шло.
Теперь Павлу Иванычу тридцать шесть лет. Одиннадцать лет уж он в Петербурге. Он остепенился и женат на особе, которая старше его лет на десять, но у которой свой домик. Она влюблена в него и считает его знаменитым писателем: Павел Иваныч осуществил мечту своей юности и, действительно, сделался литератором. Сотрудничает он в одной газете, не то либеральной, не то подлой, и по-видимому доволен собою и своею обстановкой. Он потолстел, обзавёлся плешью, судит обо всём авторитетно и имеет притязание обращаться к обществу с поучениями с высоты своей фельетонной трибунки. И весело шутит.
Но по временам что-то начинает грызть его и терзать. Он обманул тогда Раечку, струсил, и ему стыдно делается при воспоминании об этом. Что с нею? Где она?
В эти минуты раскаяния, внезапно овладевающего им, былое выныряет перед ним в ослепительном зареве недостижимого идеала, оно кажется ему потерянным раем, и душа его тоскует, а приличная мещанская проза его настоящего давит его страшным гнётом, мучит, преследует, душит как кошмар, он проклинает её, эту вечную каторгу, на которую сам обрёк себя, позорно убежав с другого пути, узкого, но озарённого радугой великой любви и, может быть, великого, страдания.
Минуты эти стали повторяться чаще с тех нор, как в одной пустынной улице Петербурга, в довольно поздний час, он встретился с женщиной, фигура которой напомнила ему Раечку. Женщина была одета в чёрное. Сердце его сильно забилось, и он бросился за нею. Она подозрительно оглянулась и ускорила шаг. Она, Раечка! Павел Иваныч прибавил шагу. Но она юркнула в ворота проходного дома и исчезла.
Вот и теперь некстати посетили его эта грёза о прошлом и сожаление о том, что благоразумная судьба устроила всё иначе. Ресницы его сомкнутых глаз намокли от слёз. Он поднял голову и, чтоб рассеяться, решил пройтись по Таврическому саду.
Но за дверями его кабинета послышался шорох юбок, осторожный и робкий, точно кто подкрадывался. Павел Иваныч насторожил ухо. Шорох смолк. Павел Иваныч подумал, что слух обманул его и повернулся в кресле. Шорох возобновился, и притом гораздо смелее. Павел Иваныч, прищурившись, стал смотреть на двери. Вдруг в замочной скважине сверкнуло любящее око его жены. Тогда он поспешно сомкнул опять веки и сделал вид, что продолжает спать.
Май 1881 г. Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

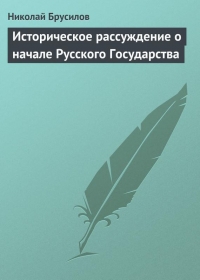
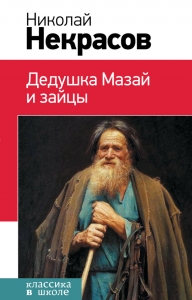
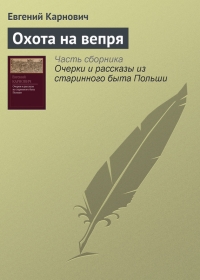
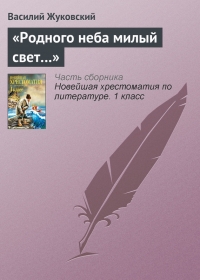

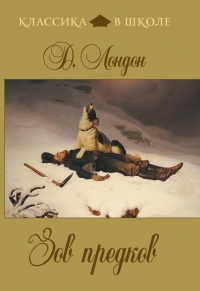





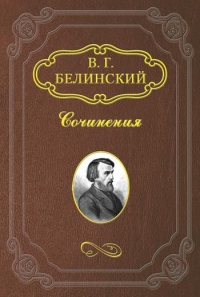
Комментарии к книге «Грёза», Иероним Иеронимович Ясинский
Всего 0 комментариев